Майн РИД Избранные произведения Том I
Об авторе
То'мас Майн Рид родился в бедной ирландской семье 4 апреля 1818 года. В 1840 году в поисках приключений он уезжает в Америку и устремляется на еще не освоенные просторы Запада, охотясь, торгуя с индейцами, даже промышляя трапперством. Какое-то время он был учителем и репортером. В качестве корреспондента газеты «Спирит оф тайм» Майн Рид принял участие в мексиканской войне 1846–1848 гг., не очень задумываясь тогда о характере этой войны, захватнической со стороны Америки. Тяжелое ранение в ногу, полученное им в бою под Чапультепеком, беспокоило его всю жизнь.
В 1848 году в чине капитана Майн Рид выходит в отставку, но тут же спешит уехать в Европу, чтобы принять участие в революционном движении сначала в Баварии, затем в Венгрии. Но прибывает он туда слишком поздно. Майн Рид оседает в Лондоне. Испытав неудачи на коммерческом и журналистском поприще (Рид пытался основать новый журнал), он решает посвятить себя литературе.
Первый роман Майн Рида, «Вольные стрелки», вышедший в 1850 году, описывал события мексиканской войны. В течение последующего десятилетия выходят лучшие романы писателя: «Охотники за скальпами», «Квартеронка», «Оцеола, вождь семинолов» и другие. Им сопутствует бурный успех.
В тридцать три года капитан решает жениться, и брак этот выглядит не менее романтичным, чем приключения его героев: женой Майн Рида становится пятнадцатилетняя девушка из английской аристократической семьи. Однако коммерческая непрактичность молодого писателя, экстравагантность и склонность к романтической экзотике, в конце концов привели его на грань банкротства. Тогда в сорок девять лет Рид решает вторично попытать счастья в Америке, где прошла его юность. Нужно сказать, что писатель сочувственно относился к молодой республике. В 1860-е годы, в разгар гражданской войны между северными и южными штатами Америки, он решительно выступил с осуждением расового угнетения, заявив о своей солидарности с делом северян.
Но успех не дается ему и в Америке, и спустя три года, едва собрав денег на обратный путь, Риды возвращаются в Англию — уже навсегда. В последние годы жизни Рид, переживший свою известность, сочиняет научно-популярные книги для юношества. Все это время он страдает от физического и нервного расстройства и в 1883 году умирает.
Гуманизм и сочувствие силам справедливости, мастерство сюжета и сегодня вызывают интерес к книгам Майн Рида, делают его одним из популярнейших авторов во многих странах.
Интересные факты из жизни
* Первые литературные опыты Майн Рида относятся к осени 1842. Мало кто знает, что начинал он как поэт. Первые его стихотворения были опубликованы в газете «Питтсбург кроникл» под псевдонимом «Poor Scholar» («Бедный школяр»). Кроме стихов, статей и рассказов, он написал свою первую пьесу «Мученик любви», которая была поставлена на сцене одного из местных театров.
* В 1843 году состоялось знакомство Майн Рида с Эдгаром Алланом По
* Выход романов и повестей, предназначенные для детей и юношества, приурочивался к кануну Рождества, что можно охарактеризовать как своеобразный рекламный ход.
* Майн Рид оказал влияние на творчество таких известных писателей, как Роберт Луис Стивенсон и Генри Райдер Хаггард. Его произведениями увлекался Джек Лондон.
* Книги Майн Рида были переведены на французский, немецкий, итальянский, испанский, шведский, русский и даже на один из языков американских индейцев.
* При крещении мальчику было дано имя Томас Майн, в честь отца и прадеда, но чтобы избежать путаницы, первое имя употреблять перестали. По-английски полное имя писателя пишется «Thomas Mayne Reid» и по правилам транскрипции должно передаваться в русском языке как «Томас Мейн Рид». Однако в издании М. Вольфа писали «Майн Рид», что и стало в дальнейшем традиционным.
ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ (роман)
Это первый роман М. Рида, созданный в 1849 и основательно им переработанный в 1850 году, повествует о приключениях отважного и благородного капитана Галлера в период войны между США и Мексикой в 1846–1848 гг.
Обилие армейских зарисовок, начиная от быта до военных баталий, множество критических, а порой и романтичных ситуаций, в которые попадает главный герой, подробное описание природы тех мест, все это наглядно демонстрирует поиски автором своего стиля, который впоследствии принесет ему заслуженную славу.
Глава 1
ЗЕМЛЯ АНАГУАКА
Там, за дикими и мрачными волнами бурного Атлантического океана, за знойными островами Вест-Индии, лежит прекрасная страна. Земля зелена, как изумруд, небо блещет сапфиром, и солнце катится золотым шаром. Это — страна Анагуака.
Путешественники поворачиваются лицом к Востоку, поэты воспевают былую славу Греции, художники тщательно выписывают избитые ландшафты Апеннин и Альп, романисты превращают трусливого итальянского вора в живописного бандита или, подобно Дон Кихоту, углубляются в мрачное средневековье, увлекая романтических девиц и галантерейных приказчиков пышными историями о вороных конях и неправдоподобных героях в страусовых перьях. Все они — художники, поэты, путешественники, романисты — все в своих поисках яркого и прекрасного, поэтического и живописного отворачиваются от этой чудной страны…
Сделаем ли и мы то же самое? Нет! Подобно генуэзцам, мы смело устремимся на Запад, на Запад, по диким и мрачным волнам бурного Атлантического океана, мимо знойных островов Вест-Индии, на Запад к стране Анагуака. Высадимся на ее берегах и проникнем в таинственные глубины ее лесов, поднимемся на ее мощные горы, пересечем ее высокие равнины.
Отправляйся с нами, путешественник! Не бойся! Ты увидишь картины величественные и мрачные, яркие и прекрасные. Поэт! Ты найдешь темы для возвышенных струн твоей поэзии. Художник! Перед тобою раскинутся картины, вышедшие из рук самой природы. Романист! Ты найдешь сюжеты, не пересказанные еще никаким писателем: предания любви и ненависти, благодарности и мести, верности и коварства, благородной доблести и низкого преступления — предания, напитанные романтикой и богатые правдой…
Туда устремимся мы по диким и мрачным волнам бурного Атлантического океана, мимо знойных островов Вест-Индии! Вперед, вперед — к берегам Анагуака!
Разнообразны картины этой живописной страны, сменяющиеся, как оттенки опала. Разнообразна и поверхность, на которой развертываются эти ландшафты. Здесь есть и глубоко уходящие в землю долины и горы, теряющиеся вершинами в небесах, и широкие равнины, убегающие до самого горизонта, так что голубой небосвод сливается с ними, и волнистые ландшафты, где мягкие, округлые холмы напоминают поверхность моря…
Увы, словами не передашь этих красот. Перо бессильно описать жуткое впечатление, которое создается у человека, заглядывающего в глубокие ущелья Мексики или смотрящего на вершины ее высоких гор.
Но как ни безнадежна попытка, я попробую все же сделать по памяти несколько набросков. Это будет как панорама видов, открывающихся перед путешественником за время одного дня пути.
Я стою на берегу Мексиканского залива. Волны тихо ложатся к моим ногам, набегая на серебряный песок. Лазурная вода чиста и прозрачна, и лишь кое-где коралловые рифы вспенивают ее жемчужными гребнями. Я гляжу на восток и вижу тихое светлое море, словно манящее мореплавателя. Но где же белокрылые торговые суда? Одинокий челнок дикого рыбака прокладывает путь сквозь прибой, случайная полакка с контрабандой пристает к берегу, утлая пирога колышется на якоре в соседней бухте — и это все. Больше ни одного паруса не видно — до самого горизонта. Прекрасное море, простирающееся передо мною, почти никогда не бороздится килями купеческих кораблей.
Отсюда я вывожу свои заключения о стране и ее обитателях. Их культурное и материальное развитие, очевидно, очень невысоко. Без торговли, без промышленности нет и довольства. Но что я вижу там, вдали? Быть может, я слишком поспешно осудил страну?.. На горизонте виднеется высокий темный столп. Это — дым пароходной трубы, признак передовой цивилизации, символ энергии и жизни. Пароход приближается к берегу. Ага! На нем реет чужеземный флаг. Иностранный вымпел вьется на его гакаборте, иностранные лица выглядывают из-за его бортов, иностранная команда доносится до моего слуха с капитанского мостика. Пароход принадлежит чужой стране. Мое первое предположение было правильно.
Пароход причаливает к главному порту. Он сдает на берег скудную почту, несколько тюков товаров, высаживает с полдюжины тощих, исхудалых людей, а затем салютует из пушки и снова уходит в море. Вот он и исчез в безбрежных просторах океана, и опять молчаливо катятся волны, и только альбатрос да морской орел изредка разбивают крылом их сверкающую поверхность.
Я поворачиваюсь к северу и вижу длинную полосу белого песка, омываемого синим морем. Та же картина открывается передо мной и при взгляде на юг. Эта полоса простирается на сотни тысяч миль, словно серебряная лента, опоясывающая Мексиканский залив. Своей резкой белизной она отделяет бирюзовую синеву моря от изумрудной зелени лесов. Ее рельеф не напоминает обычной плоской поверхности прибрежных песков. Наоборот, миллионы сверкающих под тропическим солнцем мелких песчинок нагромождаются здесь ветром в огромные дюны и холмы на сотни футов в высоту, и эти холмы расползаются во все стороны подобно снеговым сугробам. Я с трудом поднимаюсь по голому песчаному склону: скупая почва не производит здесь никакой растительности. Еле-еле подвигаюсь я вперед, ноги мои при каждом шаге вязнут в песке. Одни из них напоминают конусы, другие — полушария, третьи — пирамиды. Кажется, будто веселый ветер играет здесь песком, словно ребенок. Попадаются огромные воронки, оставшиеся от смерчей и похожие на кратеры вулканов; глубокие овраги и долины с крутыми, иногда совершенно вертикальными, а нередко и нависающими краями.
Стоит подуть северному ветру — и вся картина может измениться в одну ночь! Где сегодня холмы, там завтра окажется овраг, и высокий откос нередко уступает место пологому склону.
На вершинах песчаных гор меня обдувает прохладный ветер с залива. Я спускаюсь в замкнутую котловину — и там меня палит тропическое солнце. Лучи его, отражаясь от бесчисленных кристаллов песка, мучительно режут глаза. Здесь пешеходы нередко гибнут от солнечных ударов.
Но вот и норте, ветер с севера. Небо неожиданно меняет свой ярко-голубой цвет на темно-свинцовый. Время от времени сверкают молнии и глухой гром предвещает бурю, но даже, если этой бури пока не видно и не слышно, все равно скоро придется ее почувствовать. Раскаленный воздух, только что душивший меня своими знойными объятиями, внезапно прорывается холодным ветром, от которого дрожь пробегает по телу. В этом ледяном ветре кроются болезнь и смерть, ибо он несет с собою страшную желтую лихорадку — «вомито». Ветер усиливается и переходит в ураган. Песок поднимается с земли и густыми тучами носится в воздухе, то оседая вниз, то снова взвиваясь к небу. Я не смею повернуться к ветру лицом, как не осмелился бы я подставить грудь самуму. Туча острых песчинок сейчас же ослепила бы меня и до крови ободрала лицо…
Северный ветер дует по нескольку часов, а иногда и по нескольку дней кряду. Утихает он так же внезапно, как и начинается. Он улетает на юг, унося с собою свою заразу…
Вот он прошел, и вся поверхность песков изменилась. По-другому расположились холмы. Иные из них совсем исчезли, и на их местах зияют глубокие овраги… Таковы берега Анагуака, берега Мексиканского залива. Нет там торговли, почти нет и гаваней. Кругом только массы песка, но массы эти поражают своеобразной и живописной красотой.
На коня — и вперед, в глубь страны! Прощайте, широкие синие воды Мексиканского залива!
Мы пересекли песчаное побережье и едем тенистой лесной тропинкой. Нас окружает настоящий тропический лес. Это видно и по форме листьев, и по их размерам, и по их яркой окраске. Взгляд с наслаждением блуждает по буйной листве, наполовину зеленой, наполовину золотисто-желтой. Он упивается красотою листьев воскового дерева, магнолии, смоковницы, банана. Он скользит вверх по крупным пальмовым стволам, которые, словно колонны, поддерживают многолиственный свод своих крон. Он разглядывает кружева вьющихся растений или следит за косыми линиями гигантских лиан, словно чудовищные змеи перекидывающихся с дерева на дерево. Он изумляется высоким бамбуковым кустам и древовидным папоротникам. Со всех сторон навстречу восхищенному взгляду открываются венчики цветов, растущих на деревьях. Тут и красные цветы и трубообразные бегонии.
Я оглядываюсь кругом, удивляясь странной и новой для меня растительности. Я вижу стройный ствол пальмы, поднимающийся без единой ветки или листка почти на тридцать метров и поддерживающий целый парашют перистых листьев, колышущихся при легчайшем дуновении ветерка. Рядом я вижу постоянного соседа этого дерева — индийский тростник. Эта миниатюрная пальма, резко контрастирующая тонким и низким стволом с колоссальными пропорциями своего величественного покровителя. Я вижу коросо (оно относится к тому же виду, что и palma real). Его яркие перистые листья простираются в стороны и склоняются вниз, как бы прикрывая от знойного солнца шарообразные орехи, висящие гроздьями, словно виноград… Я вижу абанико, с его огромными веерными листьями, восковую пальму, источающую вязкую смолу, акрокомию с усаженным колючками стволом и огромными кистями золотистых плодов. Идя берегом реки, мой конь пробирается между прямыми, как колонны, стволами благородной coeva, которую туземцы поэтически, но точно называют «хлебом жизни».
С изумлением разглядываю я колоссальный папоротник — это странное создание растительного мира, которое на моем родном острове достигает человеку едва до колена. Здесь папоротник растет не кустом, а деревом, соперничая в росте со своей родственницей — пальмой — и, подобно ей, украшая ландшафт. Я удивляюсь прекрасным абрикосовым деревьям с крупными овальными плодами и шафранной древесиной. Я проезжаю под широкими ветвями красного дерева, с которых свисают овальные перистые листья и яйцевидные шишки (семенные сумки), и думаю о твердой, блестящей древесине, скрывающейся под его темной и узловатой корой. Я еду вперед и вперед, среди мощной листвы и пестрых цветов, играющих под лучами тропического солнца всеми цветами радуги…
Ветра нет, в воздухе почти совсем тихо, но листья и ветки то там, то сям приходят в движение. Пестрые, яркие птицы машут крыльями, перелетая с ветки на ветку. На залитых солнцем прогалинах сверкают оперением пышные кардиналы, которых невозможно приручить, крикливые райские попугаи, яркие трогонис, крохотные трочили и колибри, хищные перцеяды с огромными неуклюжими клювами.
Птица-плотник — огромный дятел — прицепилась к сухой ветви мертвого дерева и долбит дупло, время от времени испуская трубный звук, разносящийся чуть ли не на километр кругом. Currasson с петушиным гребешком вылетает из кустов; на прогалине, распустив отсвечивающие металлическим блеском крылья, греется под солнцем величественный гондурасский индюк.
Грациозная косуля, спугнутая топотом коня, скачет в сторону. Кайман лениво ползет по берегу или ныряет на дно ленивой реки. Безобразная игуана, которую легко узнать по зубчатому гребню, взбирается по стволу дерева или лежит, вытянувшись вдоль лианы. Зеленая ящерица юрко извивается по тропинке, василиск выглядывает горящими глазами из темной чащи вьющихся стеблей, хамелеон медленно крадется по ветвям, меняя цвет кожи, чтобы вдруг подобраться к намеченной жертве…
Здесь водятся самые разнообразные змеи. Вокруг толстых ветвей обвиваются огромные боа и macaurals. Тигровая змея ползет под деревьями, подняв голову на полметра от земли; cascabel лежит, свернувшись бантом как морской канат; красная коралловая змея, вся в поперечных полосках, вытянулась по земле во всю длину. Две последние змеи по размерам меньше боа, но на деле гораздо опаснее его, и, видя cascabel или слыша угрожающие «скир-р-р» коралловой змеи, мой конь резко осаживает назад…
Мелькают четвероногие и четверорукие. Красная обезьяна бежит от путешественника и, перескакивая с ветки на ветку, скрывается на высокой верхушке дерева между стеблями вьющихся растений и Tillandsia. Крохотные уистити с милыми детскими ужимками выглядывают из-за пышной листвы, свирепые самбо оглашают лес противными, но до странности напоминающими человеческие криками.
Невдалеке бродит и ягуар. Он скрывается в таинственных глубинах непроходимой чащи. Охотится он по ночам, и человеку удается заметить его прекрасное пятнистое тело только под серебряным лунным светом. Но случайно спугнутый, например лаем охотничьих свор, он может и днем попасться на моем пути. Это относится и к другим представителям кошачьей породы. Тихо пробираясь по лесу, я могу заметить и длинное темное тело мексиканского льва, который, распростершись на горизонтальном суку, подстерегает робкого оленя, чтобы прыгнуть на него сверху. Но я благоразумно сверну в сторону и не мешаю голодному зверю поджидать свою жертву…
Ночью картина меняется. Все яркие птицы — попугаи, перцеяды и трогоны — с вечера засыпают, и вместо них воздухом завладевают другие крылатые существа. Некоторые из них вовсе не боятся тьмы, ибо самое существо их — свет. Таковы, например, кокуйо; зеленоватыми, золотыми и огненными пятнами выделяются они на фоне темной листвы, и так, что кажется, будто воздух дышит пламенем. Таковы же и гусанито, чьи самки, бескрылые, как наши светляки, лежат на широких листьях, а самцы летают вокруг них, прельщая подруг своим блеском. Но этот блеск часто приносит смерть своим носителям. Он привлекает врагов — ночного ястреба, козодоя, летучую мышь, сову. Безобразные нетопыри, хлопая широкими и темными крыльями, носятся во тьме порывистыми неправильными кругами; крупная лечуса вылетает из темного дупла и оглашает воздух страшным криком, похожим на вопль убиваемого человека. Ночью можно слышать вой кугуара и хриплый рев мексиканского тигра. Раздаются дикие пронзительные крики «воющих обезьян» и лай собако-волка. С этими звуками сливается кваканье древесных лягушек и звонкий рокот «звенящих жаб». И аромат бесчисленных цветов часто заглушается отвратительным запахом вонючки: ночью это странное животное выходит из убежища и, столкнувшись с кем-либо из обитателей леса, заставляет все окружающее чувствовать силу своего гнева…
Таков тропический лес, покрывающий местность между морем и мексиканскими горами. Но область эта не повсюду дика. В ней есть и культурные островки, хотя они и очень разбросаны.
Я выезжаю на опушку, и картина опять резко меняется. Передо мной — плантации, гасиенда местного рико. Его обширные поля вспаханы и засеяны рабами-пеонами. Работая, они всегда поют, но песни их полны грусти. Это песни угнетенного народа.
А между тем окружающая природа полна веселья и жизни. Все ликует здесь, кроме человека. Богатая растительность развертывает самые пышные формы, цветы и плоды играют радугой. И только одни люди низкорослы и убоги.
По широким полям извивается тихая река. Воды ее, текущие со снежных высот Орисавы, чисты и холодны. По берегам простираются рощи кокосовых пальм и величественных смоковниц. Здесь есть и сады, в которых культивируются тропические фруктовые деревья. Я замечаю апельсинные деревья с круглыми оранжевыми плодами, сладкие лимоны, шеддоки и гуавы. Я еду в тени агвакате и срываю приторные плоды черимоллы. Ветер доносит до меня запах кофейного дерева, индиго, ванильных бобов и чистого какао, а вокруг меня до самого горизонта колышутся зеленые стебли и золотые кисти сахарного тростника.
Любопытна область тропических лесов. Но не менее любопытны и тропические луга.
Я еду все вперед, в глубь страны. Путь мой постепенно поднимается все выше над уровнем моря. Конь ступает уже не по ровным горизонтальным тропинкам, а по холмам и крутым откосам, время от времени спускаясь в глубокие овраги и долины. Его копыта уже не вязнут в белых песках или темном черноземе, а скользят по камню. Изменилась почва, изменился пейзаж, изменилась и сама атмосфера. Воздух стал прохладнее, но холода еще не чувствуется. Я нахожусь в предгорьях, в области жаркого климата — tierres calientes. Но templadas — земля умеренного климата — лежит гораздо выше. Пока что я поднялся над уровнем моря всего на тысячу футов или около того. Меня окружают отроги северных Анд.
Какая перемена! Не прошло и часа с тех пор, как я покинул низменные долины, а между тем кажется, будто я попал в совсем другую страну. Остановившись в диком лесу, я с любопытством разглядываю его. Листья стали меньше и реже; чаща далеко не так густа, как внизу. Попадаются и почти совершенно безлесные холмы. Пальмы исчезли, хотя растущие здесь деревья очень напоминают их. В самом деле это — горные пальмы. Передо мною высокие пальметто с веерными листьями на длинных черешках и живописные, хотя и не изящные, юкки со штыковидными листьями и тяжелыми гроздьями зеленых мясистых шишек. Вот пита с высоким цветочным стеблем и опаленными солнцем колючими листьями, а там причудливые кактусы со знаменитыми восковидными цветами, туну, индейская смоковница, огромные кактусы фоконостле и высокие, с ровными, прямыми стволами и совершенно горизонтальными ветвями петахайя, похожие на колоссальные канделябры. Здесь растут и эхино, эти огромные молочаи, чьи шаровидные формы лежат прямо на земле, без всякого ствола или стебля…
Попадаются гигантские чертополохи, кустовые и древовидные мимозы: мимозовое дерево и чувствительный куст, чьи чуткие листочки сжимаются при приближении человека. Но особенно много растет здесь акаций: их бесчисленные разновидности покрывают обширные пространства, составляя густые заросли, или чапаррали. В этих чапарралях растут кроме акаций и рожковые деревья, со своими длинными пурпурными плодами, и альгаробо, и колючие мескито, а поднявшись на самую вершину холма, я вижу высокий, гибкий ствол Fougmera splendens с метелками красных цветов, похожих на кубики.
Животный мир тут беднее, чем в низменном лесу, но и эти дикие холмы имеют своих обитателей. По листьям кактусов ползают червецы, на ветвях акаций строят муравейники большие крылатые муравьи. Муравьед ползает по земле и, высунув клейкий язык, обшаривает тропинки, по которым трудолюбивые насекомые волокут пахучие листья мимозы. Броненосец, покрытый ромбовидной чешуей, прячется в сухих расщелинах между камнями или, убегая от преследователя, взбирается на холм и перекатывается через его вершину. Стада полудикого скота бродят по холмам и долинам, с мычаньем ища воды; в безоблачном небе парят черные ястребы; они зорко оглядывают землю и, заметив падаль, кидаются на нее с поднебесья…
В этой области путешественник также проезжает мимо обработанных полей. Вот хижины пеонов и ранчо мелких собственников; но эти постройки основательнее тех, что стоят в тропических низинах.
Они сложены из камня. Попадаются здесь и гасиенды с длинными белыми стенами и тюремными окошками, а также пуэблиты — туземные крепости с церквами и ярко раскрашенными колокольнями. Вместо сахарного тростника тут произрастает маис и расстилаются обширные плантации широколиственного табака. Здесь растут ялапа, бакаут, благоуханный сассафрас и лечебная копайва.
Я еду вперед и вперед, поднимаясь по крутым откосам и спускаясь в глубокие мрачные ущелья. Глубина этих пропастей часто достигает нескольких тысяч метров, а спускаться приходится по узенькой тропинке — по краю обрывистого гребня, нависающего балконом над клокочущим горным потоком.
Но я все еду вперед. И вот отроги остались позади. Я вступаю в настоящее горное ущелье — перевал через мексиканские Анды.
Конь бежит под сенью мрачных лесов и синих порфировых скал. Я попадаю на открытое место уже по другую сторону горной цепи. И тут перед моими глазами открывается новая картина — картина такой мягкой прелести, что я невольно натягиваю поводья и оглядываюсь с изумлением и восторгом. Передо мной одна из мексиканских валле — этих огромных плато, лежащих на несколько тысяч метров над уровнем моря, между отрогами Анд. Перемежая горы, эти плато тянутся вместе с ними до самых берегов Ледовитого океана.
Огромный луг гладок и ровен, как стоячий пруд. Со всех сторон он стиснут горами, но между этими горами есть проходы, ведущие на другие плато или валле. Горы эти отрогов не имеют. Они поднимаются прямо от равнины — поднимаются то откосно, то крутыми обрывами.
Я пробираюсь по равнине, озираясь кругом. Она ничем не напоминает те места, которые я только что оставил, — область, где царит жара.
Теперь я попал на землю умеренных погод. Другие виды возникают передо мной, другой воздух охватывает меня. Стало гораздо прохладнее — температура напоминает нашу весну. Но я так недавно оставил за собою полосу тропического зноя, что зябну и плотнее закутываюсь в плащ.
Открытая равнина почти совсем безлесна. Картина уже не производит дикого впечатления. Земля возделана, все кругом имеет культурный вид. Ведь как раз на этих горных плато, в этой области умеренного климата и развилась мексиканская цивилизация. Здесь находятся крупные города с богатыми церквами и монастырями; здесь живет большинство населения. Ранчо сооружают тут из необыкновенных кирпичей (адобе), и часто они окружаются живой изгородью колоннообразных кактусов. Попадаются целые деревни из таких хижин, населенные темнокожими потомками древних ацтеков.
Меня окружают плодородные поля. Высится колоссальная культурная агава. Копьевидные листья маиса, разрастающегося здесь с исключительной пышностью, сухо шелестят под ветром. Пшеница, стручковый перец и испанские бобы покрывают огромные пространства. Глаз с удовольствием останавливается на розах, поднимающихся по стенам и обвивающих входы.
Здесь родина картофеля; в плодовых садах растут груши, гранаты, айва, яблоки; бок о бок с тропическими cucurbitaccae произрастают злаки стран умеренного пояса.
Пересекши невысокую горную цепь, я попадаю с одного валле на другое. Опять перемена! Передо мной широкое, ровное зеленое пространство, со всех сторон ограниченное подножиями гор. Это — альпийский луг, по которому верховые вакеро пасут бесчисленные стада.
Я миную еще одну горную цепь, и новое валле открывается передо мной. Еще одна перемена! Я вижу песчаную пустыню, по которой, подобно гигантским призракам, движутся высокие темные столбы смерчей. А заглянув в следующее валле, я наталкиваюсь на ровные голубые воды озер. Берега их покрыты осокой и окружены зелеными саваннами и обширными болотами, на которых растет камыш и тростник.
И еще одно плато проезжаю я. Оно все черно от лавы и шлака погасших вулканов. Ни травинки, ни кустика не растет на нем, никакой жизни нет в этой пустыне…
Такова полоса горных плато — полоса обширная, разнообразная и бесконечно любопытная.
Я покидаю ее и еду дальше. По крутым откосам Кордильер я продвигаюсь к tierra fria — холодным землям Мексики.
Я стою на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, в густой тени горного леса. Огромные стволы окружают меня, заслоняя горизонт. Где я? Уж, конечно, не в тропиках, ибо лес этот — северный. Я узнаю узловатые ветви и дольчатые листья дубов, серебристые сучья рябины, сосновые шишки и иглы. Холодный ветер, шелестящий палым листом, прохватывает меня дрожью и совсем по-зимнему завывает в верхушках деревьев. Но ведь я нахожусь в области тропиков, и то самое солнце, которое сейчас так холодно освещает меня сквозь просветы дубовой листвы, всего несколько часов назад опаляло меня, прорываясь сквозь огромные пальмы!..
Вот и опушка. За ней открываются обработанные поля. Здесь растут лен, конопля и выносливые злаки холодной полосы. Ранчо здешних земледельцев — это бревенчатые избы с далеко выступающими тесовыми кровлями. Я миную дымящиеся ямы карбонеро, угольщиков, и встречаюсь с арриеро, погонщиком мулов; он ведет вниз караван, или атахо, груженный льдом с высоких горных ледников. Внизу, в больших городах, этим льдом будут замораживать вино.
Вперед и выше! Дубы остались позади, и кругом — только хилые, низкорослые сосны. Ветер все холоднее и холоднее. Вокруг меня — зима.
Еще выше! Сосны исчезли. Из всей растительности остались только мхи и лишаи, облепляющие голые скалы. Кажется, что я попал за полярный круг. Вот и граница вечных снегов.
Я поднимаюсь по ледникам и далеко под собою вижу зелень лишайников.
Холодно и мрачно кругом. Я продрог до мозга костей…
Вперед, вперед! Я еще не достиг вершины. По сугробам и ледяным полям, по крутым откосам и скользким обрывам, нависающим над головокружительными пропастями, я лезу и лезу все выше. Колени мои дрожат, дыхание прерывается, пальцы окоченели. Ага! Я достиг цели. Я поднялся на самую вершину…
Я стою на кумбре Орисавы, или горы Горящей Звезды, — на высоте пяти километров над уровнем моря. Повернувшись лицом к востоку, я гляжу вниз. Полоса снега, полоса мхов и голых скал, темный пояс сосен, более светлая листва дубов, ячменные поля, шелестящий маис, заросли юкки и акаций, тропический пальмовый лес, песчаный берег, самое море с его лазурными волнами — все это я охватываю одним взглядом. Глядя с вершин Орисавы на берега Мексиканского залива, я сразу вижу все климатические пояса, какие только существуют в природе. Я смотрю с полюса на экватор!..
Я один. Голова у меня кружится. Пульс работает с перебоями, и сердце бьется так сильно, что я слышу его удары. Чувство собственного ничтожества подавляет меня, я чувствую себя крохотным, почти невидимым атомом на груди огромного мира.
Я оглядываюсь и вслушиваюсь. Я вижу, но не слышу. Вокруг меня стоит страшная тишина — величественная тишина природы…
Но что это? Тишина нарушена. Или это гремит гром? Нет! Это грохот лавины. Я трепещу, заслышав ее голос. Это — голос самой земли…
Читатель, если бы вам довелось стоять на вершине Орисавы и глядеть на берег Мексиканского залива, то перед вашими глазами, как на карте, развернулись бы места наших приключений.
Глава 2
ПРИКЛЮЧЕНИЕ С НЬЮ-ОРЛЕАНСКИМИ КРЕОЛАМИ
Осенью 1846 года я находился в Нью-Орлеане и кое-как заполнял один из промежутков, разделяющих эпизоды богатой событиями жизни, то есть, попросту говоря, бездельничал. Богатой событиями жизни — сказал я только что. Да, за десять лет я не прожил на одном месте и десяти недель. Я исколесил американский материк с крайнего севера до крайнего юга, пересек его от океана до океана. Нога моя попирала вершины Анд и взбиралась на Кордильеры Сьерра-Мадре. Я спускался на пароходе по Миссисипи и поднимался на веслах по Ориноко. Я охотился за буйволами с индейцами племени пауни в степях Платтэ и за страусами в пампасах Ла-Платы. Сегодня я дрожал от холода в эскимосской юрте, а через месяц нежился в гамаке под тонкой, как паутина, листвою пальмы коросо.
Вместе с охотниками за пушниной — трапперами Скалистых гор — я питался вяленым мясом, а у индейцев племени москито угощали меня жареной обезьяниной. Немало испытал я в своей жизни, но благоразумнее от этого не стал. Жажда приключений, очевидно, не знала границ. В то время я только что выпутался из небольшой переделки с команчами западнее Техаса, но ничуть не собирался осесть на месте.
— Что же дальше? Что же дальше? — думал я. — Ага! Война с Мексикой. Война между этой страной и Соединенными Штатами только-только начиналась. Моя шпага — прекрасный толедский клинок, снятый при Сан-Хасинто с испанского офицера, — бесславно ржавела, висела над камином. Тут же в мрачном молчании целились друг в друга мои пистолеты — новомодные револьверы системы Кольта. Воинственный пыл одолел меня, и, схватившись не за шпагу, а за перо, я написал заявление в военное министерство, прося назначить меня в действующую армию. Затем, собравшись с терпением, стал ждать ответа.
Однако я ждал напрасно. Во всех бюллетенях из Вашингтона красовались целые списки новоиспеченных офицеров, но моего имени в них не было. Новый Орлеан — самый патриотический из всех американских городов — был переполнен золотыми эполетами, а я вынужден был праздно смотреть на них и завидовать. Каждый день с театра военных действий приходили новые сообщения, пестревшие именами отличившихся в боях; пароходы пачками привозили оттуда свежеиспеченных героев: тот был без ноги, этот без руки, у того была пробита пулей щека и, быть может, не хватало во рту дюжины зубов, но все были увенчаны лаврами…
Наступил ноябрь, а я все еще не получил назначения. Скука и нетерпение совершенно замучили меня, и свободное время давило.
Как бы мне получше убить время? Пойти, что ли, во французскую оперу послушать Кальве?..
Так рассуждал я однажды вечером, сидя в своей одинокой комнате. Задумано
— сделано, и я пошел в театр; но воинственные звуки оперы не только не утушили моего боевого жара, но еще больше разогрели его, так что по дороге домой я ни на минуту не переставал ругать президента, военного министра и вообще всю власть — законодательную, судебную и исполнительную.
— Республика неблагодарна, — злобно говорил я вслух. — Разве я мало сделал для этого правительства? Мои политические связи… Кроме того, правительство обязано мне…
— Дорогу, прохвосты! Вам чего надо?
Такие слова услышал я, проходя по одному из темных закоулков предместья Треме. Последовало несколько восклицаний на французском языке. Затем послышался шум свалки, раздался пистолетный выстрел, и я снова услышал первый голос:
— Четверо на одного! Мерзавцы, убийцы! На помощь!
Я побежал на шум. Было очень темно, но далекий уличный фонарь все же дал мне возможность разглядеть человека, защищавшегося посреди мостовой от четырех противников. Человек этот был гигантского роста и размахивал каким-то блестящим оружием, которое я принял за охотничий нож. Враги напирали на беднягу со всех сторон с палками и кинжалами. В стороне, на тротуаре, метался, призывая на помощь, неизвестный мальчик…
Я, думая, что наткнулся на обычную уличную ссору, попробовал разнять и уговорить дерущихся. Я бросился к ним, выставив вперед свою трость. Но тут один из нападавших хватил меня по пальцам ножом. Было очевидно, что он намерен продолжать в том же духе, и я сразу потерял миролюбие. Не сводя глаз с человека, который ударил меня, я вытащил из кармана револьвер (иначе защититься я не мог) и выстрелил. Человек, не пикнув, свалился замертво, а его товарищи, видя, что я снова взвожу курок, поспешно скрылись в соседнем переулке.
Вся эта история отняла гораздо меньше времени, чем сколько нужно, чтобы прочесть ее описание. Только что я спокойно шел домой, а сейчас уже стоял посреди улицы рядом с незнакомым гигантом, а у моих ног лежал в грязи скрюченный труп. На тротуаре был смутно виден худенький, дрожащий мальчик, и со всех сторон меня окружали мрак и тишина.
Происшедшее начинало казаться мне сном. Но голос человека, стоявшего рядом со мной, разрушил иллюзию.
— Сударь, — сказал он, упершись руками в бока и глядя мне прямо в лицо. — Если вы скажете мне ваше имя, то я его не забуду. Нет, Боб Линкольн — не такого сорта человек!..
— Как! Боб Линкольн? Боб Линкольн с гор?
Я узнал знаменитого горного охотника, моего старого приятеля, с которым не встречался уже несколько лет.
— Как, черт меня побери, неужели это вы капитан Галлер? Провались я на месте, это вы! Ура!.. Впрочем, я сразу понял, что это стрелял не приказчик… Алло, Джек! Где ты там?
— Я здесь, — отвечал мальчик.
— Ну так поди сюда. Ты не ранен?
— Нет, — твердо сказал мальчик, подходя к нам.
— Я отнял этого мальчишку у одного прохвоста, которого поймал в Иеллоустоне. Он наплел целую историю. Мальчишку он будто бы взял у команчей, а те, дескать, привели его с юга, с Рио-Гранде. Но все это, конечно, вранье. Мальчик — белый, белый американец. Кто видал желтокожего мексиканца с такими глазами и волосами?.. Джек, вот это капитан Галлер. Если когда-нибудь ты сможешь спасти его, пожертвовав жизнью, то ты это сделай! Слышишь?
— Хорошо, — решительно ответил мальчик.
— Бросьте, Линкольн! — сказал я. — Это совершенно лишнее. Вы ведь помните: я у вас в долгу…
— Об этом и говорить не стоит, капитан: что прошло, то прошло.
— Но как вы попали в Нью-Орлеан? И, в частности, как вы ввязались в такую историю?
— Я сначала отвечу на второй вопрос, капитан! У меня в кармане было ровно двенадцать долларов, так вот я и подумал, что можно заработать еще столько же. Тогда я зашел в один тут дом, где и играют в крапе. Мне повезло, и я выиграл около сотни. Потом мне все это надоело, я взял с собой Джека и ушел. Ну, так вот, когда я загибал за этот угол, выскочило четверо парней — вы их видели — и бросились на меня, как дикие кошки. Я видел их там, за игрой, и думал, что они просто шутят, пока один из них не хватил меня по голове и не выпалил из пистолета. Тогда я вытащил нож — и началась свалка, а дальше вы сами все знаете…
— Ну-ка посмотрим, что с этим малым, — продолжал охотник, нагибаясь. — Так и есть, не дышит!.. Черт возьми, вы угостили его как раз между глаз. Да, да, не будь я Боб Линкольн, я видал его за игорным столом. По этим усам я узнал бы его из тысячи…
В этот момент подошел полицейский патруль, совершавший ночной обход, и мы с Линкольном и Джеком были взяты в участок, где и провели остаток ночи. Утром нас представили судебному следователю. Но я имел предусмотрительность заранее послать за несколькими друзьями, которые и рекомендовали меня этому чиновнику надлежащим образом. Показания мои, Линкольна и Джека вполне совпали; товарищи убитого креола к следователю не явились, а в нем самом полиция опознала известного грабителя. Принимая все это в соображение, следователь подвел убийство под самозащиту — и мы с охотником были отпущены на все четыре стороны.
Глава 3
СБОРНЫЙ ПУНКТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
— Теперь, капитан, — сказал Линкольн, усевшись со мной за столиком в кафе, — я отвечу вам на другой ваш вопрос. Я был в Арканзасе, услыхал, что здесь формируются добровольческие отряды, и приехал записываться. Я, правда, не часто бываю в городах, но уж очень меня тянет помериться с мексиканцами. Я не забыл, какую штуку они сыграли со мной года два назад, около Санта-Фе.
— Итак, вы записались добровольцем?
— Понятно. А вы почему не отправляетесь в Мексику? Удивляюсь я вам, капитан! Приключений там, говорят, не оберешься, со всех сторон идет чертовская драка, — и вы как раз из тех молодцов, которые там нужны. Чего же вы здесь сидите?!
— Я уже давно написал в Вашингтон, чтобы мне дали назначение. Но правительство, кажется, совсем забыло обо мне.
— К черту правительство! Назначьте себя сами.
— То есть? — удивился я.
— Да так. Запишитесь к нам в партизанский отряд, и мы выберем вас начальником…
Я и сам уже думал об этом, но боялся очутиться в положении чужака в хорошо спевшейся компании и потому оставил эту мысль. Записавшемуся уйти было нельзя, и если бы меня не выбрали в офицеры, то пришлось бы идти на войну рядовым. Однако, поговорив с Линкольном, я увидел вещи в новом свете. По его словам, партизаны все были друг другу чужие, так что я имел такие же шансы быть избранным в офицеры, как и всякий другой.
— Послушайтесь меня, — говорил Линкольн. — Пойдемте со мной на сборный пункт, там вы сами можете осмотреться. Запишитесь только да выпейте как следует с ребятами — и ставлю связку бобров против шкуры монаха, что вас выберут капитаном всей роты!..
— Хотя бы лейтенантом, — заметил я.
— Ни в коем случае, капитан! Брать так брать, а то не стоит рук марать. Лучше вас там капитана нет. Я могу потолковать о вас с нашими партизанами… Но там есть поганая компания — настоящее стадо буйволов! — и, между прочим, один малый из креолов. Он с утра до ночи буянит и фехтует какими-то кухонными вертелами. Я был бы чертовски рад, если бы вы посбавили этому молодцу спеси.
Я принял решение. Через полчаса мы уже стояли в огромном арсенальном зале. Это и был сборный пункт добровольцев; почти все они толпились здесь. Быть может, более разношерстной компании никогда не бывало на свете. Казалось, здесь встретились представители всех национальностей, а что до обилия языков, то в этом смысле наше общество могло бы поспорить со строителями вавилонской башни.
У дверей стоял стол, и на нем лежал большой лист пергамента, сплошь покрытый подписями. Я взял перо и тоже расписался на листе. Тем самым я потерял свободу: то был лист присяги.
«Вот они — мои соперники, кандидаты на капитанское место», — думал я, поглядывая на группу людей, стоявших у стола.
Люди эти отличались от прочих сравнительно приличным видом; некоторые из них уже щеголяли в полувоенных костюмах, и у большинства были фуражки с пуговками армейского образца по бокам и лакированными козырьками.
— А, Клейли! — воскликнул я, узнав знакомого. То был молодой хлопковод, веселый и расточительный юноша, промотавший все свое состояние.
— Галлер, старый приятель! Очень рад вас видеть. Как поживаете? Собираетесь с нами?
— Да, я уже подписал. А кто этот человек?
— Один креол. Его фамилия Дюброск.
Лицо человека, о котором я спрашивал, обратило бы на себя внимание наблюдателя в любой толпе. Красивый правильный овал, обрамленный шапкой волнистых черных волос, круглые черные глаза, черные дуги бровей. Бакенбарды, покрывая щеки, оставляли свободными крупный, энергичный подбородок. Тонкий, мужественный рот, изящные усы, прекрасные ровные зубы ослепительной белизны. Лицо это можно было назвать прекрасным, но красота была особенная — та красота, которая восхищает нас в змее или тигре. Улыбка Дюброска была цинична, глаза — холодны и ясны; в этой ясности было что-то животное — то был блеск не разума, а инстинкта. В выражении лица чувствовалась странная смесь приятного и отвратительного, физической красоты с нравственным уродством.
С первого же взгляда я почувствовал к этому человеку необъяснимую антипатию. Это был тот самый креол, о котором говорил Линкольн и с которым мне, очевидно, предстояло бороться за капитанскую должность.
— Этот малый собирается стать нашим капитаном, — прошептал Клейли, заметив, что я приглядываюсь к Дюброску с особым вниманием. — Между прочим,
— продолжал он, — он мне страшно не нравится. По-моему, это какой-то прохвост.
— Да, похоже на то. Но если это так, то как же его могут выбрать?
— Ну, здесь никто друг друга не знает, а он превосходный фехтовальщик, как, впрочем, и все креолы. Он продемонстрировал уже здесь свое искусство и произвел большое впечатление. Кстати, ведь вы, кажется, тоже не промах по части рапир? Кем вы собираетесь быть у нас?
— Капитаном, — ответил я.
— Отлично! Я кандидат в старшие лейтенанты, так что мы с вами не соперники. Давайте заключим союз.
— От всего сердца.
— Вы пришли сюда вон с тем бородатым охотником… Он вам друг?
— Друг.
— Ну, так могу сообщить вам, что он здесь всё. Глядите, он уже начал!
В самом деле, Линкольн разговаривал с несколькими молодцами в кожаных штанах. В них нетрудно было узнать охотников. Вдруг все они рассыпались по зале и вступили в разговоры с людьми, которых за минуту до этого не удостаивали вниманием.
— Собирают голоса, — пояснил Клейли.
В это время Линкольн, проходя мимо, шепнул мне на ухо:
— Капитан, намотайте на ус: все эти ребята очень славные малые. Вам надо подружиться с ними, а кстати и выпить. Это — самое главное.
— Хорошо сказано, — усмехнулся Клейли. — Но если бы вам удалось победить вашего соперника в фехтовании, то дело было бы в шляпе. Черт возьми! Я думаю, Галлер, вы способны на такой подвиг.
— Я и сам решил попробовать.
— Но только не сейчас, а за несколько часов до выборов.
— Вы совершенно правы. Действительно, лучше повременить. Принимаю ваш совет, а пока что последуем совету Линкольна: «сойдемся и выпьем».
— Ха-ха-ха, — разразился веселым смехом Клейли. — Сюда, ребята! — крикнул он, обращаясь к группе добровольцев, очевидно томившихся жаждой… — Пойдем опрокинем по рюмочке. Вот, позвольте представить вам капитана Галлера…
В следующий момент я уже пожимал руки довольно потрепанным джентльменам, а еще через минуту все мы чокались и болтали с фамильярностью, словно были друзьями с самого детства.
В следующие три дня запись добровольцев продолжалась, а одновременно развертывалась и предвыборная кампания. На четвертый день вечером были назначены выборы.
Между тем моя антипатия к сопернику все возрастала по мере того, как я ближе знакомился с ним, и, как часто бывает в подобных случаях, антипатия эта оказалась взаимной.
За несколько часов до голосования мы стояли друг против друга с рапирами в руках, с трудом подавляя обоюдную неприязнь. Враждебность эта была замечена и зрителями, которые окружили нас тесным кольцом и с нетерпением ждали схватки: исход ее, как понимали все, предрешал исход выборов.
В арсенальном зале имелось много оружия. Мы сами выбрали себе по рапире. Одна из лежавших здесь рапир была без наконечника и достаточно остра, чтобы в руках раздраженного человека представлять собою опасное оружие. Я заметил, что мой противник взял именно эту рапиру.
— Ваша рапира не в порядке, — сказал я ему. — У нее нет наконечника.
— Ах, простите! — ответил он по-французски. — Я не заметил.
— Странный недосмотр, — с многозначительным взглядом шепнул Клейли.
Француз отбросил рапиру и взял другую.
— Не угодно ли вам выбрать, сэр? — спросил я.
— Нет, благодарю. Эта вполне хороша.
В это время к нам подошли все бывшие в зале. Добровольцы, затаив дыхание, ждали схватки. Мы стояли лицом к лицу и были похожи не на любителей, задумавших посостязаться в фехтовальном искусстве, а на двух врагов, сошедшихся на смертный бой. Противник мой был опытным фехтовальщиком: это выяснилось, как только он принял исходную позицию. Что касается меня, то в студенческие годы фехтование было моим коньком. На протяжении нескольких лет я не знал себе соперников в этом искусстве. Но с тех пор прошло много времени, и я успел потерять технические навыки.
Мы начали схватку очень неуверенно. Оба были возбуждены, и первые удары наносились и отражались не слишком ловко. Но вскоре обоих нас охватил гнев, и искры посыпались от клинков. В течение нескольких минут исход был сомнителен, но я с каждой секундой становился все спокойнее, а мой противник все больше раздражался при каждом моем удачном выпаде. Наконец мне удалось коснуться его щеки. Громкие крики приветствовали мою удачу, и я расслышал голос Линкольна:
— Хорошо, капитан! Да здравствуют горцы!
Француз окончательно вышел из себя и стал драться еще отчаяннее прежнего, так что мне было нетрудно повторить свой выпад. На этот раз удар был неплохой, а после еще нескольких выпадов я попал в противника в третий раз, причем оцарапал его до крови. Зрители кричали от восторга. Француз не скрывал бешенства. Схватив рапиру обеими руками, он с бранью сломал ее о колено, а затем, пробормотав что-то невнятное насчет «другого случая» и «более серьезного оружия», смешался с толпой и выскользнул из залы.
Через два часа после этого я стал капитаном. Клейли был избран старшим лейтенантом. Спустя неделю вся рота была официально принята в состав армии Соединенных Штатов, как особый отряд «вольных стрелков». Тогда же нам выдали вооружение и обмундирование. 26 января 1847 года корабль понес нас по синим водам к берегам Мексики.
Глава 4
НА ОСТРОВЕ ЛОБОС
Нам было приказано плыть на остров Лобос (в ста километрах от Вера-Круц) с заходом в Брасос — Сант-Яго. Вскоре мы уже были на месте. Здесь мы должны были устроить учебный лагерь. На остров одновременно высадились другие отряды; солдаты были немедленно посланы на рубку леса, и через несколько часов зеленая чаща исчезла с лица земли, а на ее месте появились белые пирамиды палаток под развевающимися флагами. На восходе солнца Лобос представлял собой остров, густо заросший изумрудно-зеленым тропическим лесом. Как изменился он в один-единственный день! Когда взошла луна, лучи ее осветили не зеленый остров, а целый военный городок, как бы вынырнувший из моря. А в море стоял на якоре военный флот…
Через несколько дней на необитаемый до того островок высадились шесть полков, и военный шум заглушил на нем все звуки.
Все эти полки состояли из совершенно необученных новобранцев, и мне, наравне с прочими офицерами, пришлось прежде всего «обтесать» своих людей. Бесконечная муштра шла с утра до ночи, и тотчас же после ранней вечерней поверки я с радостью забирался в палатку и ложился спать, насколько можно спать среди бесчисленных скорпионов, ящериц и крабов. Казалось, что на этом маленьком острове назначили друг другу свидание все пресмыкающиеся земного шара.
22 февраля, в день рождения Вашингтона, мне не удалось лечь спать рано: неудобно было отказаться от приглашения майора Твинга, переданного мне Клейли. Как выражался мой лейтенант, в палатке майора нам предстояла «недурная ночка».
После вечерней зари мы с Клейли отправились в палатку Твинга, которая была разбита в самом центре островка, в роще каучуковых деревьев. Мы нашли ее без труда: из нее далеко разносился звон бокалов, шум голосов и отчаянный хохот.
Подойдя поближе, мы увидели, что палатка была расширена: передние полотнища вытянуты вперед и накрыты сверху еще одним полотном, державшимся на дополнительном шесте. Несколько нестроганых досок, стащенных с кораблей и уложенных на пустые бочки, изображали собою стол. На этом столе стояло множество всевозможных бутылок, стаканов и бокалов. Между ними стояли банки с консервами, лежали стопки морских сухарей и куски сыра. Кругом валялись пробки и куски фольги, а под столом виднелась целая груда темных предметов конической формы: здесь легло костьми немало бутылок шампанского.
По обе стороны стола сидели полковники, капитаны, поручики, военные врачи. Вся эта компания сидела без чинов — всякий усаживался там, где находил свободное место. Было и несколько морских офицеров, а также шкиперов с торговых кораблей.
На верхнем конце стола восседал сам майор Твинг, которого никто никогда не видал без походной фляжки на зеленом шнуре. За эту фляжку майор держался крепче, чем за свои эполеты. Во время долгих и трудных переходов мне не раз приходилось слышать, как какой-нибудь усталый офицер бормотал: «Вот бы хорошо хлебнуть сейчас из Твинговой фляжки!» «Не хуже Твинговой фляжки» — так говорили мы все, когда хотели особенно похвалить понравившуюся водку. Такова была одна из причуд майора, но причуда далеко не единственная.
Когда мы с моим приятелем появились в палатке, компания была уже на значительном «взводе» и все наслаждались свободными нравами американской армии. Клейли был любимцем майора, и тот сразу заметил его.
— А, Клейли! — закричал он. — Это вы? Тащите сюда вашего друга! Стулья, джентльмены, ищите себе сами.
— Капитан Галлер, майор Твинг, — сказал Клейли, представляя меня.
— Очень рад познакомиться с вами, капитан! Вы не можете найти себе стул? Ничего, сейчас мы это устроим. Куджо, сбегай в палатку полковника Маршалла и стащи там один-два стула! Эдж, сверни шею этой бутылке! Где штопор? Куда он подевался? Да где же штопор?
— Никаких штопоров, майор! — закричал адъютант. — У меня есть патентованный инструмент.
С этими словами он схватил бутылку шампанского левой рукой, а правой ударил по ней сверху вниз. Головка отскочила в сторону, и срез получился совершенно ровный, словно снятый пилой.
— Здорово! — воскликнул ирландец Геннесси, сидевший недалеко от хозяина. Такой способ откупорки бутылок пришелся ему по вкусу.
— У нас это называется «кентуккский штопор», — спокойно заметил адъютант.
— Два преимущества: экономится время и вино остается чистым от…
— За ваше здоровье, джентльмены! Капитан Галлер! Мистер Клейли!
— Благодарю вас, майор! За ваше здоровье, сэр!
— А вот и стулья! Как, только один? Ну, что ж, джентльмены, придется устраиваться. Клейли, старый приятель, вон там лежит патронный ящик! Эдж! Переверни-ка этот ящик кверху дном. Лапу, приятель, как поживаешь? Садитесь, капитан, садитесь, пожалуйста! Эй, подать сигары!
В этот момент на дворе раздался ружейный выстрел, и в палатку влетела пуля. Она сбила фуражку с капитана Геннесси и, ударив в графин, разбила его вдребезги.
— Недурной выстрел, — сказал Геннесси, спокойно подбирая фуражку. — Промахнуться на вершок — все равно что на километр, — добавил он, просовывая палец в дырку от пули.
Но все офицеры были уже на ногах. Многие кинулись к выходу.
— Кто стрелял? — кричали они.
Ответа не было, и несколько человек побежало в чащу, надеясь нагнать виновника. В чапаррале было темно и тихо, и преследователи вернулись с пустыми руками.
— Должно быть, — предположил полковник Гардинг, — какой-нибудь солдат нечаянно выстрелил и убежал, чтобы не попасть под арест.
— Ну, джентльмены, идем обратно в палатку, — сказал Геннесси. — Садитесь по местам, пусть уж бедняга удирает. Будем радоваться, что это была не граната.
— Вам, капитан, это должно быть особенно приятно.
— Право, не знаю, граната ли, бомба ли — мне бы одинаково разнесло голову. Но артиллерийский снаряд был бы чрезвычайно нежелателен и для головы нашего друга Галлера.
Геннесси был совершенно прав. Моя голова находилась почти на линии выстрела, и, будь он не ружейным, а пушечным, друзья уже оплакивали бы меня. Впрочем, пуля и так пролетела над моим ухом.
— Очень любопытно, в кого из нас метил этот малый? — сказал мне Геннесси.
— Ну, надеюсь, ни в кого. Я согласен с полковником Гардингом: это, должно быть, простая случайность…
— Скверная случайность, клянусь честью! Эта случайность испортила шикарнейшую фуражку ценою в пять долларов и загубила полпинты самой лучшей водки, какая когда-либо смешивалась с горячей водой и лимонным соком.
— Ничего, капитан, в запасе еще много! — закричал майор. — Ну, джентльмены, не задерживайтесь по пустякам! Наливайте, наливайте! Эдж, долой все пробки! Куджо, где штопор?
— Никаких штопоров, майор! — воскликнул адъютант и тут же расправился по-свойски с новой бутылкой. Отбитая головка полетала в кучу пробок, валявшихся на полу.
Снова зашипело и запенилось вино, заходили стаканы, загремело шумное веселье. Вскоре все забыли о выстреле. Офицеры пели песни, рассказывали забавные истории, провозглашали тосты. Так под звуки песен и звон стаканов, под веселые разговоры и заздравные восклицания, в бесшабашном разливе вина и шуток промелькнула ночь. Многие из юных сердец, бившихся надеждой и пылавших честолюбием, праздновали в ту ночь последнее 22 февраля в своей жизни. Половина присутствовавших не дожила до следующего года.
Глава 5
ВСТРЕЧА СО СКЕЛЕТОМ
После полночи я покинул пирушку. Кровь моя была разгорячена, и я пошел на берег, чтобы освежиться прохладным ветром, дувшим с Мексиканского моря.
Живописная и величественная картина открылась передо мной, и я невольно задержался, любуясь. Винные пары еще усиливали мой восторг.
Яркая тропическая луна стояла в безоблачном темно-синем небе. Под ее светом звезды бледнели и были еле видны. Отчетливо выделялись лишь пояс Ориона, Венера да лучистый Южный Крест.
От моих ног и до самого горизонта по морю тянулась к луне широкая, прямая серебряная дорога; ее прерывала линия кораллового рифа, над которым кипел и искрился фосфористым блеском прибой. Риф простирался во все стороны, как бы опоясывая островок огненным кругом. Только над ним и двигались волны, словно гонимые невидимой и подводной силой: дальше море было тихо и подернуто лишь легкой рябью.
С южной стороны в глубокой гавани стояла на якорях сотня кораблей на кабельтов друг от друга; кузова, мачты и снасти разрастались под трепетным и обманчивым светом луны до гигантских размеров. Все корабли были неподвижны, словно море превратилось в твердый лед.
Флаги безжизненно обвисли вниз, прилипая к мачтам или обвиваясь вокруг фалов. А выше, на пологом склоне, раскинулись длинные ряды белых палаток, сиявших под серебряным светом луны, как снежные пирамиды. Из одной палатки просвечивал сквозь полотно желтый свет; должно быть, какой-то солдат сидел там, устало чистя ружье или до блеска натирая медную пряжку пояса.
Изредка между палатками мелькали неясные человеческие силуэты: то возвращались от полковых товарищей запоздалые солдаты и офицеры. Другие силуэты прямо и неподвижно стояли вокруг всего лагеря, на ровном расстоянии друг от друга, и луна поблескивала на их сторожевых штыках.
Отдаленный плеск весла, долетавший с какой-нибудь шлюпки, тихий рокот прибоя, время от времени — оклик часового «Кто идет?» и затем тихий разговор, стрекот цикад в темной чаще, вскрик морской птицы, спугнутой подводным врагом со своей влажной постели, — вот и все звуки, нарушавшие глубокое молчание ночи.
Я тихо шел по берегу, пока не добрался до той стороны острова, которая обращена прямо к Мексике. Здесь густо разросся запутанный лианами чапарраль; он спускался до самой воды, где и кончался купой мангифер. В этом месте палаток не было, и нетронутая чаща оставалась пустынной и темной…
Луна уже заходила, и блуждающие тени спускались на морские воды.
Да, кто-то скользнул в кусты! Прошуршали листья… Конечно, это какой-то солдат пробрался за линию часовых и теперь боится вернуться в лагерь… Ага, челнок! Рыбачий, конечно. Клянусь жизнью, этот челнок — мексиканский!.. Но кто же мог пригнать его сюда? Какой-нибудь рыбак с Туспанского побережья? Нет, он попал сюда не случайно; должно быть, это…
Подозрение охватило меня, и я бросился в заросли мангифер, куда только что скользнул солдат. Но, не пройдя и пятидесяти шагов, я понял все безумие своего поступка. Я попал в темный, непроходимый лабиринт; со всех сторон меня окружали стены листьев и шипов. Ветви мангифер, склоненные до земли и ушедшие в нее корнями, перепутанные и связанные крепкими лианами, преграждали мне путь.
«Если это в самом деле шпионы, — подумал я, — то таким путем их не поймаешь! Впрочем, я могу как-нибудь пробраться через лес. Тыл лагеря должен быть тут недалеко. Ух, какой мрак!..»
И я двинулся вперед, перелезая через поваленные стволы, путаясь в цепких лианах. Вьющиеся стебли хватали меня за шею, шипы царапали меня, ветви мескито до крови хлестали в лицо. Я схватился рукой за свисавшую ветвь; липкое тело испуганно и злобно забилось под моим прикосновением, высвободилось и перебросилось через мое плечо и, убегая, зашуршало палым листом. Я услышал зловонное дыхание, холодная чешуя задела мне щеку. То была отвратительная игуана…
Огромная летучая мышь хлопала мне в лицо своими похожими на паруса крыльями. Она ежесекундно возвращалась ко мне; дух захватывало от ее зловония. Два раза пытался я ударить ее шпагой, но промахивался и протыкал пустой воздух. На третий раз шпага запуталась в лианах. Это было ужасно. Борьба с такими врагами пугала меня…
Наконец, после долгих усилий, я увидел просвет. За деревьями открывалась лужайка, и я радостно бросился к ней.
— Как хорошо! — воскликнул я, выбравшись из лесного мрака. И вдруг я с криком ужаса отскочил назад. Руки и ноги отказались повиноваться мне. Шпага выпала из моих пальцев. Я стоял бледный и оцепенелый, словно пораженный молнией.
Прямо передо мной, не более как в трех шагах, стоял, простирая ко мне костлявые руки, образ самой смерти. Я ясно увидел белый обнаженный череп с пустыми глазницами, длинные голые кости ног, неприкрытые иззубренные ребра, костлявые пальцы скелета…
Немного справившись со своим страхом, я услыхал в кустах шум. Казалось, двое человек отчаянно боролись там.
— Эмиль, Эмиль! — кричал женский голос. — Не убивай его, не надо!
— Прочь! Не мешай мне, Мари! — отвечал низкий голос мужчины.
— О нет, — продолжала женщина, — не надо, не надо, нет, нет.
— Проклятие всем женщинам! Говорят тебе, пусти!
Послышался звук яростного удара… вскрик… и в ту же секунду из кустов вынырнул человек.
— А, капитан! Удар за удар! — закричал он по-французски. Больше я ничего не слышал. Страшный удар обрушился на меня, и я упал замертво…
Первое, что я увидел, придя в сознание, была длинная рыжая борода Линкольна, потом сам Линкольн, потом бледное лицо маленького Джека и, наконец, кучка солдат из моей роты. Оглянувшись, я увидел, что лежу в своей палатке, на своей походной кровати.
— Как? Что?.. В чем дело?.. Что такое? — заговорил я, нащупывая рукой мокрую повязку на голове.
— Лежите смирно, капитан, — сказал Боб, отнимая мою руку от повязки и укладывая ее вдоль тела.
— Ожил, ожил! Вот и хорошо! — воскликнул ирландец Чэйн.
— Ожил? Да, что же со мною было? — спросил я.
— Ох, капитан, ведь вас чуть не убили. Всё они — эти мерзавцы французы, чтоб им всем провалиться!..
— Убили? Мерзавцы французы? В чем дело, Боб?
— Понимаете, капитан, вы ранены в голову. И мы думаем, что это те французы…
— Ах, теперь вспоминаю! Удар, да… но смерть?.. Смерть?
Я приподнялся на постели, словно ко мне вернулся мой ночной призрак.
— Смерть, капитан? Какая смерть? — спрашивал Линкольн, поддерживая меня своими крепкими руками.
— Капитан, верно, вспомнил скелет, — сказал Чэйн.
— Какой скелет? — спросил я.
— Ну, да, старый скелет, что наши ребята нашли в лесу, капитан! Он висел на дереве, под которым вы лежали, и качался над вами, словно знамя. Вот подлые французы!
Больше я о «смерти» не расспрашивал.
— Но где же французы? — спросил я, помолчав.
— Удрали, капитан! — отвечал Чэйн.
— Удрали?
— Удрали, капитан! Как он говорит, так и есть, — подтвердил Линкольн.
— Удрали? Что вы хотите этим сказать?
— Дезертировали, капитан…
— Почем вы знаете?
— Да ведь здесь их нет.
— На всем острове?
— Мы обыскали все кусты.
— Но о каких французах вы говорите? Что за французы?
— Дюброск и тот малый, что всегда был с ним.
— Вы уверены, что они пропали совсем?
— Мы обыскали все закоулки, капитан! Гравениц видел, как Дюброск пробирался со своим ружьем в лес. Потом мы скоро услышали выстрел, но думали, что это пустяки. Утром же один солдат нашел на земле испанское сомбреро, а Чэйн узнал, что пуля пробила палатку майора Твинга. А там, где вы лежали, мы нашли вот эту штуку.
И Линкольн показал мне мексиканскую саблю — мачете.
— Ах, вот как!..
— Вот и всё, капитан! Только я думаю, на острове были мексиканцы, и эти французы удрали с ними…
Когда Линкольн ушел, я принялся обдумывать всю эту таинственную историю. Память моя понемногу прояснялась, и вскоре все события прошедшей ночи связались у меня в общую цепь. Пуля, которая чуть не убила меня в палатке у Твинга; челнок; французские слова, которые я услышал перед тем, как удар поразил меня; самое восклицание «удар за удар» — все говорило за предположение Линкольна.
Это Дюброск стрелял в палатку, это он ударил меня по голове!
Но кто же была женщина, умолявшая его пощадить меня? Мысли мои вернулись к юноше, убежавшему вместе с Дюброском. Этого юношу я часто видел в его обществе. Между ними чувствовалась какая-то связь; юноша казался преданным рабом сильного и гордого креола. Неужели же он был женщиной?..
Я вспомнил, что меня всегда удивляли его тонкие черты, нежный голос, маленькие руки. В его повадке были и другие особенности, всегда казавшиеся мне странными. Когда Дюброска не было, юноша часто взглядывал на меня с каким-то непонятным выражением. Мне вспомнилось и многое другое, прежде казавшееся неважным. Все, что я мог припомнить, убеждало меня, что юный друг Дюброска и женщина, чей голос я слышал в лесу, — одно лицо. И я невольно улыбнулся своему ночному приключению…
Через несколько дней мои силы вполне восстановились. Рана оказалась неглубокой: фуражка ослабила удар, а оружие француза было очень тупо…
Глава 6
ДЕСАНТ
В начале марта полки, обучавшиеся на Лобосе, были вновь посажены на суда и отвезены в гавань Антон-Лисардо. Там уже стоял на якоре американский флот, а через несколько дней к нему присоединилось свыше ста транспортных судов.
На этом почти необитаемом побережье нет ни городов, ни деревень. Кругом расстилается бесконечная пустыня песчаных холмов, косматых от перистой листвы пальм.
Мы не решались высадиться на берег, хотя гладкий белый песок очень соблазнял нас. За прибрежными холмами скрывался сильный неприятельский корпус, и время от времени на берегу показывались конные патрули.
Я не мог не воображать себе тех чувств, которые должны были испытывать местные жители, глядя на наш флот. Для этого заброшенного побережья зрелище маневрирующего флота было непривычно и вряд ли особенно приятно. Ведь за темными досками корабельных кузовов скрывались вооруженные враги. Крестьяне должны были смотреть на наши «дубовые чудовища» с таким же ужасом, с каким мы созерцали змею.
Десант был назначен на 9 марта. Нам предстояло высадиться против острова Сакрифисиос, в пункте, недосягаемом для пушек Вера-Круца.
Настало утро 9 марта, яркое, веселое и прекрасное, какое бывает во сне. Легкий тропический бриз чуть колыхал море, но, как ни слаб был этот ветерок, для нас он был попутным.
С самого раннего утра на боевых судах началось необычайное движение.
Еще до восхода солнца большие гребные баркасы были сняты с якорей и привязаны крепкими канатами к кораблям и пароходам.
Приближался момент десанта. Грозовая туча, нависшая над берегами Мексики, готова была разразиться над обреченной страной, но куда ударит первый гром? Этого мексиканцы не знали. Они готовились встретить нас в соседней бухте.
Черный цилиндр трубы задымился, и густое, темное облако поползло по воде. Только что распущенные паруса свисали с рей. Полотнища, уже освобожденные от линьков, еще не были повернуты к ветру, и он не наполнял их, округляя поверхность.
На палубах стояли солдаты; одни из них были уже совершенно готовы и прочищали шомполами ружейные дула, другие еще застегивали свои белые пояса или наполняли лядунки.
Офицеры, при шпагах, прохаживались по начищенным шканцам, собирались в группы, о чем-то переговаривались или жадно следили за маневрами кораблей.
Шум все возрастал. Глубокие голоса матросов, скрип кабестанов, щелканье железных зубцов, крики у брашпилей, лязг тяжелых якорных цепей, звено за звеном продиравшихся сквозь ржавое кольцо, — все эти звуки говорили о том, что предстоят какие-то события.
И вот раздался резкий треск барабана. Другой барабан ответил ему, третий, четвертый, — и вскоре барабанный бой слился в общий оглушительный грохот. Потом со всех сторон понеслись командные возгласы, на палубах началась беготня, и потоки людей, одетых в синее, спустились по темным корабельным бортам и влились в баркасы. В одно мгновение баркасы нагрузились, и вновь наступила тишина. В напряженном ожидании все взгляды устремились к небольшому черному пароходу, над которым развевался штандарт главнокомандующего.
Вдруг от его кормы отделился клуб дыма; рванулась горизонтальная струя пламени; и пушечный выстрел потряс всю окрестность. Не успело еще умолкнуть эхо, как по всему флоту пронеслось оглушительное «ура», и все корабли одновременно сорвались с якорей и полетели по волнам. Они мчались на северо-запад, к острову Сакрифисиос!
Вперед и вперед стремились корабли, разрезая прозрачные воды твердыми килями; впереди шли пароходы, взбивая синие волны в молочную пену и таща по своим клокочущим следам нагруженные людьми баркасы. Трещали барабаны, завывали трубы, и эхо на берегу подхватывало громовые клики матросов и солдат.
Неприятель был готов к бою. Его легкая кавалерия мчалась по берегу во весь опор. Пикинеры в пестрых мундирах, с флажками на длинных древках, выезжали из-за холмов. Легкая артиллерия неслась по голым откосам на взмыленных крупных конях, бешено скатываясь в глубокие овраги, давя и ломая кактусы крутящимися колесами. «Скорей, скорей!» — кричали офицеры. Но напрасно погоняли мексиканцы коней, напрасно они до крови всаживали шпоры в их дымящиеся бока! Силы природы были против них и помогали их врагам…
Земля и вода затрудняли движение мексиканцев, вода и воздух были нашими союзниками. Мексиканцы увязали в горячем и рыхлом песке или в болотах, простирающихся по берегам Мандинги и Меделлина, а между тем пар и ветер стрелою несли нас по волнам. На берегу били тревогу. По улицам Вера-Круца скакали всадники. Барабан гремел на главной площади, и его бесконечная дробь разносилась по всем кварталам.
С Сан-Хуана, с Сант-Яго, с Консепсиона взлетали сигнальные ракеты.
Тысячи темных силуэтов толпились на городских крышах и крепостных валах; тысячи побледневших губ с ужасом шептали: «Идут! Идут!»
Но никто еще не знал, куда мы ударим, в каком пункте ждать нашего десанта.
Мексиканцы думали, что мы собираемся бомбардировать мощную крепость Сан-Хуана, и рассчитывали, что скоро все эти быстроходные вражеские корабли будут разнесены в щепы и потоплены ее грозными пушками.
Флот уже почти приблизился к берегу на пушечный выстрел; черные плавучие дома бесстрашно неслись по волнам к крепости. Любопытная толпа сгущалась на валах. Артиллеристы Сант-Яго молча стояли у пушек, ожидая сигнала. Уже пахло серой от горящих фитилей, и сухой порох на полках подстрекал к веселому буйству бомбардировки, как вдруг по всем стенам и батареям разнесся короткий громкий крик, крик бешенства, разочарования и отчаяния.
Передовой корабль неожиданно свернул с пути; опытный рулевой резко взял влево, и паруса понеслись под прикрытие Сакрифисиоса.
Туда же свернул и второй корабль, и третий, и четвертый. Не успел еще неприятель оправиться от изумления, как весь флот уже подплыл к этому островку на пушечный выстрел.
Лишь теперь поняли мексиканцы наш маневр. Каковы же будут его результаты? Огромные корабли, только что мчавшиеся навстречу гибели, недосягаемы теперь для пушек и уже собирались со всей быстротой военной дисциплины высадить армию на беззащитный берег. Напрасно боевые рожки торопили кавалеристов; напрасно с громом мчались по улицам тяжелые орудия. И кавалерия, и артиллерия не могли не опоздать.
А между тем флот с плеском, скрипом и стуком стал на якоря. Паруса повисли на реях, матросы кинулись по баркасам и, смешавшись с солдатами, схватились за весла.
В каждом баркасе гребцами управлял морской офицер. Момент — и весла сразу ударили по воде.
Баркасы сомкнулись и, двигаясь эшелонами, выстроились в линию.
Легкие военные корабли встали по бокам этой линии, чтобы прикрыть десант перекрестным огнем. Неприятель еще не появлялся, и все взоры с напряженным ожиданием обращались к берегу. Бьющиеся сердца нетерпеливо ждали сигнала…
Наконец с корабля главнокомандующего грянул пушечный выстрел, и в ту же секунду тысячи весел ударили по воде и вновь поднялись, взбивая широкими лопастями кипящую пену. Сотня баркасов кинулась вперед. Мощный удар весел повторился, и флотилия развила новую скорость. Началась бешеная военная гонка.
Вперед, вперед, с быстротою ветра неслись мы по синим волнам, по белоснежному прибою.
Берег был уже близок. Офицеры вскочили на ноги и обнажили шпаги; солдаты
— кто сидя, кто согнувшись — сжимали в руках ружья. И вот заскрипели кили по каменистому дну, и по данному знаку тысячи людей одним скоком кинулись в воду и бешено устремились к берегу сквозь прибой. Тысячи солдат бежали, высоко поднимая над водой пороховницы. Сверкали шпаги, блестели штыки, развевались знамена — и под сверкающими шпагами, под блестящими штыками, под развевающимися знаменами темная масса людей выкатилась на берег.
Тогда раздалось громкое, долгое «ура». Оно гремело по всей линии, вырываясь из пяти тысяч глоток, и десять тысяч голосов отвечали ему с кораблей. Оно разносилось по берегу и отражалось от далеких бастионов.
Знаменосец бросился вперед, взбежал на крутой песчаный холм и водрузил знамя па его серебристой вершине.
И когда забилось на ветру это боевое знамя, новое оглушительное «ура» пронеслось по всему фронту. Сотни ответных флагов взвились на мачтах флота. Боевые корабли салютовали из всех пушек, и орудия Сан-Хуана, впервые пробудившись от своей летаргии, грянули во всю силу.
Когда наша колонна двинулась в глубь страны, солнце уже заходило.
Пройдя немного по оврагам, разделявшим холмы, мы стали на ночь привалом. Наш левый фланг оставался на берегу.
Мы ночевали без палаток и спали при оружии. Лежали мы на мягком песке, а под голову подкладывали свои патронные сумки…
Глава 7
ВЕРА-КРУЦ
Вера-Круц — укрепленный город. Крепостная стена с батареями окружает его со всех сторон. С суши в город входят через трое ворот, а с моря — мимо великолепного мола, далеко вдающегося в воды залива. Мол этот выстроен недавно, по последнему слову техники. Когда солнце садится за мексиканскими Кордильерами, а с залива дует мягкий ветерок, на нем постоянно прогуливаются черноглазые жительницы Вера-Круца и их бледные, смуглые поклонники. Коммерческая жизнь на молу очень слаба.
Город стоит на самом берегу моря. Во время прилива оно омывает его укрепления, и многие из домов выходят прямо на воду. От стен почти со всех сторон начинаются песчаные равнины, которые на расстоянии нескольких километров превращаются в характерные для всего Мексиканского побережья серебристые песчаные холмы. Во время приливов, как и во время северного ветра, море заливает равнину, и Вера-Круц становится почти полным островом. Но с одной его стороны, именно с южной, представляется совсем иная картина. Здесь мы находим кое-какую растительность — редкие и низкие деревья и кусты,
— вдали виднеется лес, за городской стеной есть несколько зданий, железнодорожная станция, водопровод, кладбище. Тут же лениво протекает речка, окруженная болотами и стоячими прудами.
Прямо напротив города стоит на коралловом рифе знаменитая крепость — замок Сан-Хуан де Уллоа. Она отстоит от мола примерно на тысячу метров, и на одном из ее углов возвышается маяк. Стены ее, вместе с рифом, на котором они построены (Гальега), защищают от северного ветра порт Вера-Круц, который, в сущности говоря, следовало бы назвать гаванью. Под прикрытием Сан-Хуана покоятся на якоре коммерческие суда. Но здесь их всегда бывает немного.
Второй сильный форт, Консепсион, стоит на берегу у северного угла города, а третий, Сант-Яго, защищает его с юга. С тыла город прикрыт круговым бастионом с тяжелыми орудиями, держащими под обстрелом всю равнину до самых холмов.
Будем ли мы смотреть на Вера-Круц с моря или с уходящих в глубь страны песчаных холмов, он представляет собою очень красивое зрелище. Массивные соборы, высокие колокольни, крыши с башенками, полумавританская, полусовременная архитектура, отсутствие разбросанных предместий, разбивающих впечатление, — все это придает Вера-Круцу своеобразную и резкую красоту. В самом деле, когда смотришь на всю эту массу разнообразных архитектурных стилей, стиснутых темной стеной из лавы в плотное единство, то невольно кажется, будто все это нарочно расположено даровитым строителем для художественного эффекта.
С рассветом 10-го числа наша армия двинулась вперед по песчаным холмам и оврагам. Полк за полком, дивизия за дивизией разворачивались мы, охватывая город кольцом с неправильными уступами. Стрелковые части и легкая пехота теснили неприятеля по всему фронту и гнали его сквозь темные чащи чапарралей. Колонна упорно продолжала свой сложный путь, извиваясь в глубоких оврагах и перекидываясь через белые холмы, словно блестящая змея. Она уже давно подошла к городу на полет ядра, но скрывалась за высотами. Как только какой-нибудь полк попадал в промежуток между холмами или взбирался на гребень, батареи Сант-Яго открывали по нему пальбу. Беспрерывный треск ружей и карабинов показывал, что в авангарде было весьма жарко. Арсенал был взят приступом, и на развалинах монастыря Малибран взвился американский флаг. 11-го числа мы перешли Орисавскую дорогу и сбили с соседних холмов легкие части неприятеля. Они мрачно отступили под прикрытие своих тяжелых орудий и скрылись за стенами города.
К утру 12-го числа окружение города закончилось. Мы охватили Вера-Круц полным полукругом. Правое крыло нашей линии разбило палатки напротив острова Сакрифисиос, левое же упиралось в поселок Вергара, в пяти милях к северу. Круг завершался морем, где против Вера-Круца стояли темные вражеские суда.
С каждым часом диаметр круга уменьшался. Кольцо осады все стягивалось и стягивалось вокруг обреченного города, пока, наконец, американские пикеты не появились на самых ближних холмах, находившихся под обстрелом пушек Сант-Яго, Консепсиона и Уллоа.
Между крепостными стенами и осаждавшими лежала совершенно ровная песчаная равнина, всего в два километра шириной.
12-го числа, после вечерней зари, я с компанией других офицеров, поднялся на высокий холм, вокруг которого извивалась дорога на Орисаву.
С этого холма был виден весь Вера-Круц.
Мы с трудом взобрались по мягкому, вязкому песку на вершину и остановились на нависающем краю холма.
В первый момент никто из нас не мог произнести ни слова. Мы только ахали, любуясь изумительной картиной. Ночь была лунная и достаточно светлая, чтобы мы могли во всех подробностях разглядеть вид, расстилавшийся перед нами, как на карте. Под нами, так близко, что до него, казалось, можно было достать рукой, поднимался над белой равниной город Вера-Круц, резко ограниченный темно-синим фоном моря.
Синие башни и ярко раскрашенные соборы, готические шпили и мавританские минареты производили впечатление глубокой древности; на зубчатых брустверах кое-где росли, питаясь случайной землей, одинокие пальмы и тамаринды, и их бахромчатая листва придавала городу живописный южный характер.
Над старинными серыми стенами поднимались шпили и купола, увенчанные развевающимися полотнищами: рядом с орлами ацтеков плескались консульские флаги Франции, Испании и Англии.
А дальше синие воды залива тихонько бились об укрепления Сан-Хуана, и сверкающие огни крепости играли на гребнях прибоя.
С юга был виден остров Сакрифисиос и наши темные корабли, мирно спавшие под прикрытием его кораллового рифа.
От крепостных стен, опоясывавших город полосой серого камня, и до нашего холма простирались ровные пески, а направо и налево, от Пуенте-Хорнос до Вергары, сплошной темной линией тянулась цепь холмов, на которых, по колено увязая в песках, стояли американские передовые пикеты.
То была захватывающая картина! Мы все еще молча любовались ею, когда луна вдруг зашла за тучу, и городские огни, до тех пор бледневшие при ее лучах, сразу ярко засверкали по стенам.
На улицах раздавались звуки военных рожков… Время от времени мы слышали крик часового: «Cenlilnela alerte!» (Слушай!) или грозное: «Quien viva?» (Кто идет?) А потом до нас вдруг донеслись звуки музыки и женские голоса. Нам казалось, что мы слышим шелест шелковых платьев и легкий шорох ног, вальсирующих по зеркальному полу…
Мы с завистью глядели на осажденный город. Многим из нас в эту минуту хотелось сейчас же броситься на приступ…
Но вот с бруствера Пуэрто-Нуэво сверкнула горизонтальная полоса огня.
— Берегись! — крикнул Твинг и сейчас же бросился за гребень холма, лег ничком и прижался к земле всем своим маленьким жилистым телом.
Многие из нас последовали его примеру, но не успели еще мы все лечь, как ядро с воем пролетело мимо нас. То был выстрел двадцатичетырехфунтовой пушки!..
Ядро ударилось в вершину в нескольких ядрах от нашей группы и рикошетом отскочило на соседний холм…
— Попробуй еще раз! — закричал кто-то.
— Проиграл малый бутылку шампанского, — сказал Твинг.
— Скорее он выпил ее заранее, а то бы он прицелился вернее, — возразил другой офицер.
— Шампанское! — сказал Клейли. — И устрицы! Подумать только.
— Придержите язык, Клейли, или, клянусь честью, я сейчас же пойду на город приступом!..
Это произнес Геннесси, чье воображение не выдержало контраста между шампанским с устрицами и свининой с песочной пылью, которую мы глотали уже несколько дней, заедая сухарями.
— Опять! — крикнул Твинг, завидев новую вспышку огня.
— Честное слово, граната! — воскликнул Геннесси. — Дайте ей сперва упасть, а то как бы она не попала в вас, — продолжал он, видя, что некоторые офицеры уже ложатся.
Провизжал снаряд. Искорка оторвалась от него и прочертила черное небо изящными изгибами красной линии.
Гром выстрела донесся до нас со стен, и в ту же секунду мы услышали глухой шум гранаты, зарывшейся в песок.
Она упала рядом с часовым, стоявшим в нескольких шагах от нас. Но он остался совершенно неподвижным, словно заснул или оцепенел. Быть может, он принял гранату за рикошет ядра…
— А они ловко расстреливают холмы! — произнес один молодой офицер.
Но не успели еще отзвучать эти слова, как под нашими ногами раздался громовой взрыв, напоминавший пушечный выстрел. Земля разверзлась, как при землетрясении, засвистели осколки, песок полетел нам в лицо.
На секунду все заволоклось тучей пыли. В это время луна выкатилась из-за туч, и, когда пыль улеглась, мы увидели в двадцати шагах от себя изуродованное тело солдата…
Громкое «ура» донеслось до нас с Консепсиона, откуда стреляла пушка.
Опечаленные смертью солдата и пристыженные тем, что причиной ее была наша неосторожность, мы отвернулись от города и хотели уже спуститься с холма, когда наше внимание привлек свист ракеты.
Эта ракета взвилась из чапарраля, росшего в четверти мили за нашим лагерем. Не успела еще она достигнуть высшей точки, как с Пуэрто-Нуэво пустили ответную ракету.
В ту же секунду какой-то всадник выскочил из чащи и погнал коня на крутой холм. После трех-четырех отчаянных попыток великолепный мустанг, проваливаясь в песок, добрался до вершины, где лежал труп часового.
Тут всадник увидел нас, рванул поводья и с секунду простоял на месте, поднявшись на стременах и как бы сомневаясь, вперед ли ему скакать, или вернуться назад…
Мы приняли его за американского офицера и, не понимая, кто из нас мог бы скакать на коне в такой час, молча глядели и ждали, что будет.
— Клянусь честью, это мексиканец, — проговорил Твинг, когда яркий луч луны ясно осветил ранчеро.
Не успели мы пошевелиться, как странный наездник резко повернул влево и, выхватив пистолет, выстрелил прямо в нашу группу, а затем дал коню шпоры и поскакал в глубокий овраг.
— Болваны американские! — бросил он нам через плечо, спустившись с холма.
В ответ раздалось несколько выстрелов; но прежде чем мы успели опомниться от вызванного этой невероятной дерзостью изумления, всадник уже успел удрать.
Через несколько минут мы увидели его у стен города. Черное пятно лошади отчетливо выделялось на белой песчаной равнине. До нас донесся скрип тяжелых ворот Пуэрто-Нуэво, открывшихся перед смельчаком и снова закрывшихся за ним… Его выстрелом никто из нас ранен не был. Спускаясь с холма, многие из нас скрипели зубами от злости.
— Вы узнали этот голос, капитан? — прошептал мне Клейли, когда мы вернулись в лагерь.
— Да.
— Значит, по-вашему, это…
— Дюброск!..
Глава 8
МАЙОР БЛОССОМ
У входа в свою палатку я застал верхового ординарца.
— От генерала, — сказал он, беря под козырек и протягивая мне запечатанный пакет. Затем он, не дожидаясь, ответа, вскочил в седло и ускакал. Я с радостью взломал печать:
«Командиру роты вольных стрелков, капитану Галлеру.
Сэр, предлагаю вам завтра в четыре часа утра явиться с пятьюдесятью стрелками к майору Блоссому».
— А, старый Блос! — сказал Клейли, заглядывая в приказ. — Наверно, фуражировка какая-нибудь…
— Все-таки лучше позиций. Надоели они мне до смерти.
— Если бы еще был не Блоссом, а кто-нибудь другой, — ну, хотя бы Даниэльс, — то мы бы могли рассчитывать на любопытную работу. Но ведь этот старый кит еле взбирается в седло… Нет, скверно!..
— Ну, в неизвестности я останусь недолго. Велите, пожалуйста, сержанту собрать людей к четырем часам утра.
И я поспешил разыскать палатку Блоссома, которую и нашел в каучуковой роще, недосягаемой даже для самых крупных орудий Вера-Круца. Сам майор восседал в широком кресле красного дерева, «позаимствованном» с одного из соседних ранчо. Быть может, кресло это никогда не заполнялось так плотно, как заполнил его своим обширным туловищем теперешний владелец.
Попытка дать подробное описание майора Блоссома была бы совершенно безнадежна. На это потребовалась бы целая глава.
Чтобы дать читателю некоторое представление о майоре, лучше всего будет просто сказать, что это был крупный, толстый и красный человек, известный среди офицеров под кличкой «ругателя». Никто во всей армии так крепко не любил удобства, как майор Блоссом, и никто в армии так крепко не ненавидел всяческие неудобства, как тот же майор Джордж Блоссом. Он ненавидел мексиканцев, москитов, простых и крупных, скорпионов, змей и всех прочих нарушителей своего покоя и комфорта, а «высокий стиль», в каком он выражался обо всех этих своих врагах, обеспечил бы ему завидное положение в любой разбойничьей шайке.
Майор Блоссом был квартирмейстером во всех смыслах этого слова, ибо ни одному человеку во всей армии, не исключая и самого главнокомандующего, не требовалось такой обширной квартиры, как толстому майору. И если многие более храбрые и опытные офицеры были ограничены уставными двадцатью пятью фунтами багажа, то личный багаж майора Блоссома, включая и его собственную особу, занимал целый обоз…
Когда я вошел в палатку майора, он сидел как раз за ужином. Накрытый перед ним стол резко контрастировал со всей той пищей, которой жила остальная армия.
Здесь не было ни пайковой свинины, скрипящей на зубах песком, ни заплесневелых сухарей. На дне майорской чашки кофе не оставалось ни песка, ни камешков. Нет, дело обстояло как раз наоборот.
Блюдо семги, половина холодной индейки, нарезанный тонкими ломтиками язык и нежная ветчина — таков был ужин майора. Изящный французский кофейник с чистейшим мокка сверкал на столе, и майор время от времени наполнял из него свою чашку. Тут же, с правой руки, стояла бутылка водки, тоже помогавшая квартирмейстеру справляться со своей порцией.
— Майор Блоссом, если не ошибаюсь? — сказал я.
— Это я, — произнес майор между двумя глотками. Ответ был так отрывист, что показался мне одним слогом.
— Я получил приказ явиться в ваше распоряжение, сэр!
— Ах, плохо дело! Плохо дело! — воскликнул майор и, конечно, прибавил крепкое словцо.
— Почему же, сэр?
— Скверное дело, опасная работа! Не могу понять, почему это посылают именно меня.
— Я пришел, майор, узнать, какая работа нам предстоит, чтобы отдать соответствующие распоряжения своим людям.
— Работа очень опасная.
— В самом деле?
— В каждом кусте — тысячи отчаянных головорезов. Им придушить человека все равно, что плюнуть. Эти желтые черти хуже, чем… — и майор-ругатель снова пробормотал нечто неудобопроизносимое.
— Не могу понять, почему они выбрали именно меня! Ведь есть и Майерс, и Вэйн, и Вуд, и все они по объему вдвое меньше меня. Есть, наконец, это воронье пугало Аллен… Но нет, генерал непременно хочет, чтобы убит был я! И к чему посылать меня на расстрел в чапарраль, когда я и так скоро издохну от этих поганых сороконожек? Чтоб этому чапарралю… — И майор еще раз разразился совершенно непередаваемым букетом.
Я видел, что прерывать его, пока не пройдет первый взрыв негодования, было бесполезно. Главная часть майорских проклятий обрушивалась на кусты и чапарраль — я и заключил, что нам придется отойти от лагеря на некоторое расстояние. Но больше мне так ничего и не удалось понять, пока брань майора не приняла характер упорядоченной композиции, которая через несколько минут и была доведена им до благополучного конца. После этого я возобновил свои расспросы.
— Нас посылают в глубь страны за мулами, — отвечал майор. — Хороши мулы, нечего сказать! Богу известно, что на десять миль кругом никаких мулов нет, кроме тех, на которых уже сидят желторожие мексиканцы, а таких мулов нам не надо. Добровольцы, черт бы их побрал, распугали все население. Ни пучка сельдерея, ни одной луковицы не достанешь ни за какие деньги!
— А как вы думаете, долго может протянуться наша командировка?
— Долго?! Не больше дня! Пусть меня волки съедят, если я соглашусь ночевать в чапаррале! Слуга покорный! Если мулы не явятся ко мне в первый же день, то посылайте за ними кого-нибудь другого. Вот и всё!
— Значит, приказать солдатам взять провианту на один день? — спросил я.
— На два, на два! Ребята проголодаются, Роберте из стрелкового полка уже побывал в тех краях. Он говорит, что там и кошку нечем накормить. Лучше взять сухарей дня на два. Полагаю, что мы все-таки встретим быков, хотя, по правде сказать, я предпочел бы всем быкам Мексики один — бифштекс в филадельфийском ресторане. Чтоб они провалились, эти быки! Жесткие, как подошва…
— Итак, майор в четыре часа утра я явлюсь к вам, — сказал я, собираясь уходить.
— Нельзя ли немного попозже, капитан? Все эти проклятые мошенники не дают мне спать. Но погодите: сколько у вас людей?
— В роте восемьдесят, но мне приказано взять с собой только пятьдесят.
— Так и есть! Что я вам говорил? Они хотят, чтоб меня убили, они хотят, чтобы старого Блоса не стало! Пятьдесят человек! Боже великий, пятьдесят человек!.. Нечего сказать, хорош будет такой отряд в чапаррале!
— Но уверяю вас, пятьдесят моих молодцов стоят сотни…
— Берите всех! Всех, способных носить оружие! Берите трубача, берите всех!..
— Но ведь это значит нарушить приказ генерала, майор!
— Наплевать мне на ваш приказ! Если бы в нашей армии слушались генеральских приказов, вы бы увидели, что бы из этого вышло. Послушайте меня, возьмите всех! Говорю вам, мы можем поплатиться жизнью. Пятьдесят человек!
Я совсем собрался уходить, когда майор остановил меня громким «алло!».
— Помилуйте, — кричал он, — я совсем с ума сошел! Простите, пожалуйста, капитан! Это несчастье совсем сбило меня с толку. И надо же им было назначить именно меня!.. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Вот отличная водка. Очень жаль, что не могу сказать того же о воде…
Я до половины налил стакан водкой и добавил воды; майор сделал то же самое. Мы чокнулись и пожелали друг другу спокойной ночи.
Глава 9
РАЗВЕДКА В ЧАПАРРАЛЕ
Между берегом Мексиканского залива и отрогами Анд лежит низменная полоса. Ширина этой полосы в среднем не больше пятидесяти миль, хотя кое-где достигает и ста. Характер местности — тропический, поэтому вся она и называется tierra caliente. Она почти сплошь покрыта джунглями, где растут пальмы, древовидные папоротники, красное, каучуковое и красильное дерево, тростники и гигантские лианы. Из кустарников встречаются колючие алоэ, пита и дикий мескаль, всевозможные виды кактусов и, кроме того, много любопытных растений, почти не известных ботанике. Есть здесь и черные, вязкие болота, осененные высокими кипарисами, с которых как бы знаменами свисает серебристый мох. От этих болот распространяется ужасное зловоние, несущее в себе заразу страшного «вомито» — желтой лихорадки.
Нездоровая эта полоса населена очень слабо. Однако она представляет собою единственную во всей Мексике местность, где мы встречаемся с жителями африканского происхождения. В городах — а городов здесь очень мало — можно, правда, встретить желтокожих мулатов; в разбросанных же поселениях живет своеобразный народ, происшедший от смешения негров с исконными обитателями страны. Люди этого племени называются «самбо».
Самбо живут по побережью залива и за Вера-Круцем, в местностях, населенных черными. Они занимаются скотоводством, рыболовством, охотой, очень немного — земледелием и, в общем, ведут беспечный, полудикий образ жизни, Проезжая лесом, путешественник нередко наталкивается на такую картину.
В лесу на прогалине чернеет небрежно обработанный участок. Здесь просто вырублено несколько десятков деревьев. На лужайке растут ямс, сладкий картофель, индийский перец, дыни и тыквы. На краю помещается хижина — нечто вроде шалаша: в землю воткнуто несколько жердей; на эти жерди положены другие, горизонтальные. Сверху все сооружение покрыто пальмовыми листьями, защищающими внутренность жилища от солнечных лучей. Вот и все. В тени этого шалаша мы находим людей — мужчин, женщин, детей. На них надеты набедренники из белой бумажной материи, но торс — голый. Кожа у этих людей очень темная, почти черная, волосы жесткие и курчавые, как шерсть. Это и есть самбо, произошедшие от скрещения негров с индейцами. Сложение и черты лица у них грубые, одежда тоже. Отличить мужчину от женщины было бы нелегко даже на близком расстоянии, если бы мы не знали, что те туземцы, которые лениво валяются в гамаках или на пальмовых циновках (петате), — мужчины, а те, которые движутся и работают, — женщины. Время от времени кто-нибудь из мужчин подбодряет свою подругу ударом куарто (бич для мулов)…
В шалаше мы находим грубую и скудную утварь: метате, на котором размалывается вареный маис для хлебцев (тортилий), несколько олла (горшков) красной глины, тыквенные сосуды, грубый топор, мачете, банджо, сделанное из тыквы, седло с высокой лукой, уздечку, лассо. С горизонтальных жердей свисают связки красного стручкового перца. Вот и всё. У входа лежит тощая собака, не менее тощий мустанг привязан к дереву; в соседней загородке мы видим пару ослов, да иногда шелудивого мула.
Мужчины у самбо всегда бездельничают, а всю работу выполняют за них женщины. Впрочем, работы здесь немного. Все указывает на величайшую небрежность и беспечность туземцев. Ямс, дыни, тыквы и перец настолько зарастают сорной травой, что кажется, будто они выросли без всякого ухода, а солнце греет так жарко, что ни одежды, ни топлива почти не требуется.
Но вот мы выезжаем на другую лужайку — и перед нами открывается новая, более привлекательная картина. Видно, что здесь в землю вложено больше труда, хотя впечатление некоторой беспечности и небрежности все же остается. Перед нами ранчо — хутор мелкого фермера, или вакеро. Жилище его напоминает обыкновенный дом с остроконечной крышей, но стены производят очень оригинальное впечатление. Они сложены из огромных бамбуковых стеблей или из стволов Fougmera splendens. Стволы связаны веревками из пита, но между ними оставлены довольно широкие промежутки, свободно продуваемые ветром. Хижины строятся здесь не для тепла, а для прохлады. Кроются они пальмовыми листьями, причем кровля со всех сторон далеко выступает за стены, чтобы дать сток тропическим ливням. Общий вид хижин весьма причудлив; они даже живописнее швейцарских шале.
Внутри дома обстановка и утварь очень скудны. Столов нет вовсе, стульев мало, да и те состоят из грубых самодельных рам, на которые натягивается сиденье из невыделанной кожи. Имеются бамбуковые кровати; в каждом доме чернеет камень, на котором размалывается маис; на полу разложены пальмовые циновки и стоят корзины. Посреди единственной комнаты стоит маленький очажок, похожий на алтарь; на стене висят бандолина, богато разукрашенное серебряными гвоздиками и пластинками седло тисненой кожи, волосяная уздечка с тяжелыми железными удилами, мушкет, сабля. Наконец, мы находим в доме множество ярко раскрашенных кубков, чаш и блюд, но ни ножей, ни вилок, ни ложек не имеется. Такова обстановка ранчо в области.
Сам хозяин (ранчеро) либо сидит дома, либо чистит своего низкорослого, жилистого и бойкого мустанга. Ранчеро обычно либо испанец, либо метис. Чистых индейцев среди ранчеро мало: они большей частью являются пеонами или работниками.
У ранчеро чрезвычайно живописная одежда и наружность. У всех, без исключения, смуглая кожа, черные волосы, ослепительно белые зубы. Усов они почти никогда не подстригают. Костюм ранчеро стоит описать поподробнее. Они носят бархатные штаны (кальсонеро) зеленого или другого темного цвета, разрезанные по внешнему шву и обшитые снизу черной тисненой кожей, защищающей голени при езде по тернистым чапарралям. В холодную погоду разрез застегивается на пуговицы-бубенчики, нередко серебряные. Под штаны надевается широкое и тонкое бумажное белье (кальсонильо), видное сквозь разрез и очень красиво контрастирующее с темным бархатом. Талия ранчеро задрапирована широким шелковым поясом, чаще всего ярко-красным; бахромчатые концы его свисают вдоль бедер. За пояс затыкается охотничий нож. Поверх белой плиссированной батистовой рубашки надевается короткая вельветиновая куртка с красивой вышивкой и блестящими пуговицами. На голове ранчеро носят широкополую шляпу (сомбреро) с золотой или серебряной лентой. Ноги обуты в сапоги красной кожи с огромными звенящими шпорами. Наконец, вы никогда не увидите ранчеро без серапе — плаща, который служит ему постелью, одеялом, плащом и зонтом.
Жена его прибирает или, стоя на коленях перед метате, замешивает на нем тесто для тортилий, сдабривает его красным стручковым перцем. На нее надета яркая, очень короткая юбка, открывающая красивые ноги без чулок, в маленьких туфельках.
Руки и грудь открыты, серовато-голубой головной платок (рекосо) прикрывает их лишь наполовину. Ранчеро ведет легкую, свободную и беззаботную жизнь. Все мужчины — прекрасные наездники: они с детства приучаются к верховой езде, так как пасут стада верхом и вообще пешком никогда не ходят. Они играют на бандолине, поют андалузские песенки, с жаром пляшут фанданго и очень склонны к чингарито (водка из мескаля).
Таковы ранчеро в окрестностях Вера-Круца, таковы они и по всей Мексике, от северных ее границ и до самого перешейка.
На tierra caliente живут и крупные плантаторы, разводящие хлопок, сахарный тростник, какао, ваниль. Дома таких плантаторов называют гасиендами. Посетив гасиенду, мы увидим гораздо более оживленную картину, чем на ранчо. Она окружена огороженными и тщательно возделанными полями. Поля орошаются водою из соседней речки, по берегами которой растет какао. Богато увлажненная почва перерезана рядами величественных индейских смоковниц. Огромные желто-зеленые листья, охватывающие черешок и затем грациозно склоняющиеся вниз, делают это дерево одним из самых живописных, а тяжелые кисти мучнистых плодов — одним из самых полезных тропических растений. Среди полей мы видим белые или ярко выкрашенные низкие стены дома, над которыми возвышается красивый шпиль. Это и есть гасиенда богача-плантатора, со службами, домашней церковью и колокольней. Кругом кипит работа. Пеоны, одетые в белые бумажные ткани, трудятся на полях. На головах у них широкополые плетеные шляпы из листьев пальмы — сомбреро. На ногах — грубые сандалии (гвараче) с ременными завязками. У пеонов темная, но не черная кожа, блестящие глаза, серьезное и важное выражение лица, длинные, жесткие, черные, как смоль, волосы. На ходу они выворачивают ноги носками внутрь. По потупленным глазам, по всем манерам и повадкам видно, что это — угнетенные люди, на которых лежит вся тяжелая и черная работа. Это — Indies mansos (усмиренные индейцы), попросту — рабы, хотя официально, по букве закона они и считаются свободными. Это — пеоны, земледельцы, потомки побежденных сынов Анагуака.
Таковы люди и племена, с которыми путешественник встречается в тропической полосе Мексики, в окрестностях Вера-Круца. Впрочем, они ни по костюму, ни по обычаям, ни по образу жизни почти ничем не отличаются от обитателей горных плато. Да и вообще если учесть огромное разнообразие природных условии испанской Америки, то надо сказать, что население ее необычайно однородно.
Солнце еще не взошло, когда в мою палатку просунулась голова. Ранний гость оказался сержантом Бобом Линкольном.
— Люди уже под ружьями, капитан!
— Отлично! — воскликнул я, соскакивая с кровати и поспешно натягивая свой костюм.
Я выглянул наружу. Луна еще сияла в небе, и при ее свете я увидал роту, выстроившуюся на плацу в две шеренги. Как раз против моей палатки худощавый мальчик седлал низкорослую лошаденку. То был Маленький Джек, как прозвали его солдаты, на своем мустанге Твидгете.
На Джеке была зеленая куртка в обтяжку, расшитая желтыми шнурами, и узкие светло-зеленые штаны с лампасами. Форменная фуражка лихо сидела на светлых кудрях; сбоку висела сабля в восемнадцать дюймов длиною, на ногах звенели мексиканские шпоры. Кроме всего этого у Джека был самый маленький карабин, какой только можно себе представить. В таком обмундировании и вооружении он представлял собою настоящего вольного стрелка в миниатюре.
Твидгет отличался незаурядными качествами. То была коренастая и жилистая лошадка, обладавшая способностью на протяжении долгого времени существовать одними почками мескито да листьями агавы. Выносливость ее была не раз проверена на опыте. В одном сражении случилось так, что Джек и Твидгет каким-то образом потеряли друг друга, и мустанг четверо суток провел в сарае разоренного монастыря, где не было никакой пищи, кроме камней и известки!
Когда я выглянул из палатки, Джек как раз кончал седлать коня. Увидев меня, он побежал подавать завтрак. С едой я покончил в одну минуту, и наш отряд в молчании двинулся по спящему лагерю. Вскоре к нам присоединился и майор, сидевший на высоком поджаром коне, за ним следовал негр на спокойном, жирном жеребце, с большой корзиной, в которой заключался майорский провиант. Этого негра майор называл «доктором» или просто «доком».
Скоро мы выбрались на дорогу, ведущую к Орисаве. Майор и Джек поскакали во главе кавалькады. Контраст между этими двумя всадниками невольно вызывал у меня улыбку; в сером утреннем свете огромный, толстый майор казался на своем длинноногом жеребце гигантским кентавром, тогда как Джек и Твидгет были похожи на выходцев из царства лилипутов.
Какой-то всадник выехал из леса на дорогу и двинулся нам навстречу. Майор сразу придержал коня и пустил его шагом, так что вскоре оказался в тылу отряда.
Маневр этот был выполнен очень осторожно, но я не мог не заметить, что верховой мексиканец порядком встревожил моего начальника…
Всадник оказался пастухом-самбо, разыскивавшим скот, убежавший из соседнего кораля. Я стал расспрашивать его, где можно найти мулов. Самбо показал рукой на юг и сказал по-испански, что там сколько угодно мулов.
— Hay muchos, muchissimos! (Там много, много!) — говорил он, показывая на дорогу, уводившую влево, через лес.
Следуя его указаниям, мы свернули на новую дорогу, но она вскоре сузилась. Солдаты пошли гуськом по-индейски. Тропинка терялась под густолиственными деревьями, ветки которых сплетались у нас над головами.
Майору все время приходилось склоняться всем своим крупным телом к луке седла. Раз или два он даже спешивался: колючие акации не давали возможности ехать верхом.
Мы бесшумно продвигались вперед. Тишина нарушалась лишь невольно вырывавшимися у майора ругательствами. Впрочем, здесь, в диком лесу, трусоватый майор бранился лишь вполголоса. Наконец тропинка вывела нас на прогалинку, у края которой возвышался холм, поросший чапарралем.
Оставив отряд под прикрытием деревьев, я поднялся на холм, чтобы оглядеть местность. Было еще очень рано, и солнце медленно восходило над синими водами залива.
Лучи его плясали и играли на блестящих волнах, и, только закрыв глаза рукой, я мог различить вдали стройные мачты кораблей и сверкающие колокольни города.
К югу и к западу простиралась обширная зеленая страна, цветущая всей роскошью тропической растительности. Светло-зеленые луга и темно-зеленые леса, прорезанные там и сям желтыми пятнами полей, редкие полосы оливковой листвы, изредка серебряная полоса тихой речки или гладкого озера — вот картина, расстилавшаяся под моими ногами.
Широкая лесная полоса, блистающая яркой зеленью пальм, тянулась до самого подножия холма. За нею открывалась прерия, на которой паслось многотысячное стадо. Оно было слишком далеко от меня, чтобы я мог различить породы животных, но, во всяком случае, некоторые из них казались довольно тонкими и стройными. Вот где следует искать мулов.
Итак, мы отправляемся на это пастбище.
Предстояло пересечь лес, и я направился по тропинке, которая, как казалось, вела именно в нужном направлении.
Чем гуще становился лес, тем больше расширялась тропа. Через некоторое время она вывела нас к реке и оборвалась на ее берегу. На противоположной стороне никаких признаков дороги или тропинки мы не нашли, Там берег был покрыт густым кустарником. Перевитые лианами с широкими зелеными листьями и тяжелыми кистями красных цветов кусты преграждали путь сплошной стеной.
Я отрядил несколько человек на ту сторону реки и приказал им искать тропинку. Через десять минут до нас донесся зов Линкольна. Я перешел речку и нашел охотника на самом берегу. Он отодвигал загородку из сучьев и лиан, за которой открывалась узкая, но тонкая дорожка, уходившая от берега в лес. Плетеная загородка вращалась на воткнутом в землю шесте, как дверь, и, очевидно, была устроена для того, чтобы скрывать дорогу.
Отряд гуськом вступил на тропинку. Майор Блоссом не без труда протискался через проход на своем коне.
Пройдя несколько миль, переправившись через ряд речек и ручьев, пробившись сквозь густые заросли смоковниц и диких агав, мы вдруг заметили впереди просвет. Когда мы вышли из чапарраля, перед нами открылась прекраснейшая картина. Мы увидели широкий луг, который явно когда-то обрабатывался, но теперь был заброшен. Всевозможные цветы — целые заросли цветущих розовых кустов и желтых подсолнечников, купы кокосовых пальм и полудиких смоковниц — представляли редкое и очаровательное зрелище.
По ту сторону луга, из-за деревьев была видна крыша дома. Мы двинулись к нему.
Началась аллея, с обеих сторон обсаженная апельсинными деревьями, ветви которых сплетались над нашими головами.
Густая листва защищала нас от солнца; благоухали цветы; воздух звенел птичьим гомоном.
Приблизившись к дому, мы остановились. Я приказал людям соблюдать тишину и один пошел вперед — на разведку.
Глава 10
ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КАЙМАНОМ
Аллея неожиданно вывела меня на лужайку. В центре лужайки высилась круговая живая изгородь из жасминных кустов.
За изгородью стоял дом, но с того места, где находился я, из-за жасминов виднелась только крыша.
Не находя в изгороди ни прохода, ни тропинки, я осторожно раздвинул кусты руками и заглянул внутрь. Зрелище, открывшееся передо мной, было так неожиданно, что я не сразу поверил глазам своим.
На невысоком холмике стоял дом причудливой и странной архитектуры. Стены его были выложены из бамбуковых жердей, крепко связанных между собою волокнами питы. Кровля из пальмовой листвы далеко выступала за стену и кончалась наверху деревянным куполом с крестом. Окон не было, дом и так весь просвечивал. Сквозь промежутки между жердями просвечивала внутренняя обстановка.
Дверью служила зеленая барежевая занавеска на пруте с кольцами. Она как раз была отдернута, и у входа я заметил диван и изящную арфу.
Вся постройка была похожа на огромную золотую клетку.
Вокруг дома расстилался сад. Здесь никакой запущенности уже не было, все дышало порядком.
Сзади, как темный фон картины, росла густая роща сучковатых широковетвенных олив; справа и слева — купы апельсиновых и лимонных деревьев. Золотистые плоды и яркие цветы резко выделялись на фоне серовато-желтых листьев. На каждой ветке одновременно хозяйничала весна и осень.
В больших вазах глазированного фаянса росли редкие экзотические растения, своей роскошной расцветкой увеличивавшие общую красоту вида.
Кристальный фонтан бил почти на десять метров в высоту и, опадая дождем радужных брызг, стекал ручейком по заросшему кувшинками и другими водяными растениями ложу, затем терялся в рощице величественных смоковниц. Питаясь обильно орошенной землей, эти смоковницы далеко и широко простирали свои ветви…
Людей не было. Казалось, этот роскошный тропический уголок был населен одними птицами. Павлин и пава торжественно выступали по траве, гордясь своим великолепным радужным оперением. У фонтана торчал высокий фламинго, чей красный цвет резко выделялся на фоне крупных зеленых листьев кувшинок. Певчие птицы щебетали на всех деревьях и в кустах. Пересмешник, взобравшись на самую высокую ветку, подражал монотонному крику попугая. Перцеяды перелетали с дерева на дерево или купались под брызгами фонтана, а колибри сидели на листьях ароматных цветов или, подобно играющим солнечным лучам, носились над газоном.
Напрасно обшаривал я глазами весь сад — людей не было… Но вдруг из рощи смоковниц до меня донесся серебристый женский голос. Взрыв веселого и звонкого хохота. Потом — ответный смех, несколько коротких восклицаний, плеск воды, разбрызгиваемой легкою рукой…
Сердце мое забилось. Первым моим движением было броситься вперед, и я, не теряя ни минуты, перескочил жасминную изгородь. Но в следующий момент я резко остановился, боясь наткнуться на то, чего не полагалось видеть…
Я собирался вернуться назад и уже занес было ногу, чтобы перешагнуть изгородь, когда к серебристому смеху присоединился низкий, мужской голос:
— Anda! Anda! hace mucho caloo! Vamos a volver. (Скорей, скорей! Становится жарко! Пора вернуться.)
— Ah, nо, Рере! Un ratito neas. (Ах, нет, Пепе! Еще немножко!)
— Vayo, carambo! (Ну, скорей, каррамба!) И снова — звонкий смех, хлопанье в ладоши, радостные вскрики.
«Ну, что ж, — подумал я, возвращаясь на газон. — Раз там и без меня есть мужчина, было б глупо отступать…»
И я подошел к роще смоковниц, заслонявшей от меня людей, чьи голоса я слышал.
— Lupe! Lupe! Mira, que bonito! (Люпе, Люпе, погляди, какая прелесть!)
— Ah, pobrecito! Echalo, Luz! Echalo! (Ах, бедняжка! Пусти ее, Люс! Пусти!)
— Voy luego. (Сейчас.) Я нагнулся и осторожно раздвинул крупные шелковистые листья. Очаровательное зрелище представилось моим глазам.
Я увидел круглый бассейн, диаметром в несколько сажен, со всех сторон окруженный высокими смоковницами, чьи гигантские горизонтальные листья прикрывали его от солнечных лучей.
Вокруг бассейна шел невысокий фарфоровый барьер с желто-зеленым орнаментом.
Посредине била и пенилась сильная струя воды. Преломляясь в ней, золотые рыбки, плававшие в бассейне, казались бесчисленными.
Несколько дальше из бассейна вытекал ручей, весь в водяных лилиях. Высокая, гибкая шея лебедя белела на фоне плавучих листьев.
Другой лебедь, самец, стоял на берегу, чистя клювом свои белоснежные перья.
А в бассейне плескались две прелестные девушки в зеленых туниках без рукавов, с поясками. Вода доходила им до талии и была так прозрачна, что я ясно различал на дне маленькие ножки купальщиц.
Их пышные волосы свободно ниспадали на плечи. Девушки были очень похожи друг на друга — обе высокие, грациозные и стройные.
Черты лица были тоже очень сходны. Всякий сразу понял бы, что это сестры, хотя по цвету кожи они и отличались друг от друга. Словно более темная кровь струилась в жилах одной из них, просвечивая сквозь нежную кожу и придавая ей оливковый оттенок. Волосы были черны, как смоль, а еле заметный темный пушок над верхней губой подчеркивал ослепительную белизну зубов. Большие черные миндалевидные глаза, казалось, глядели не на вещи, а сквозь них. Весь облик этой девушки невольно напоминал мавританскую Испанию. Она явно была старшей из двух купальщиц.
Вторая представляла совсем иной тип. То была блондинка с золотыми волосами. Большие, широко открытые голубые глаза, длинные и пышные волосы, кожа не такая шелковистая, как у сестры, но нежная, с очаровательным румянцем. Под лучами солнца руки этой девушки казались такими же бескровными и прозрачными, как и крохотная золотая рыбка, судорожно бившаяся в ее пальцах.
— Ah! que barbara! Pobrecito-ito-ito! (Ах какая ты жестокая! Бедная рыбка!)
— Со meremos. (Мы ее съедим.)
— Ah!.. no, echalo, Luz, о tirare la agua en suos о jos! (Ах!.. Нет, пусти ее, Люс, или я тебе забрызгаю глаза.) — И девушка нагнулась к воде, как бы собираясь исполнить угрозу.
— Ya! No! (Ах так! Ну нет!) — решительно отвечала Люс.
— Guanda te! (Берегись!) И темноволосая девушка, зачерпнув ладонями воду, обрызгала сестру. Та сейчас же выронила рыбку и ответила тем же.
Разгорелась веселая и оживленная потасовка. Радужные брызги летали над головами девушек, скатываясь по прядям блестящих волос, и обдавали лебедя…
Но тут мое внимание было отвлечено хриплым голосом. Оглянувшись, я увидел толстую негритянку, которая лежала под деревом и, опершись на руку, со смехом глядела на сражавшихся…
Ее-то голос я и принял за мужской…
Внезапно осознав всю нелепость своего положения, я хотел уйти. Но внезапный и резкий крик заставил меня снова повернуться к бассейну.
Лебеди отчаянно хлопали крыльями по воде, рыбки метались из стороны в сторону и в ужасе выскакивали из воды, птицы испуганно кричали.
Я бросился вперед, чтобы посмотреть, чем вызывалась суматоха, и увидел негритянку, которая, вскочив на ноги и указывая рукой на барьер, вопила не своим голосом:
— Ninas, ninas! El cayman! El cayman! (Дети, дети! Кайман! Кайман!) Я взглянул на противоположную сторону бассейна. Ужасное зрелище представилось мне. Безобразный мексиканский кайман медленно переползал барьер. Его длинное тело извивалось на водяных растениях.
Короткие передние лапы, покрытые чешуей и складками, уже находились на барьере, мощное тело напрягалось перед прыжком. Чешуйчатая спина с длинным зубчатым гребнем блестела от влаги; глаза, обычно тупые, яростно блистали в своих выдающихся глазницах.
У меня был с собой карабин. Вскинуть его к плечу и прицелиться было делом одной секунды. Грянул выстрел, и пуля угодила кайману между глаз, но скользнула по твердому черепу, словно по стальной броне. Выстрел мой оказался бесполезным, если даже не вредным: раздраженное животное бросилось в воду и понеслось прямо к девушкам.
Сестры уже давно бросили свою веселую игру. Они совершенно растерялись и вместо того, чтобы выскочить на берег, неподвижно стояли, дрожа от страха и сжимая друг друга в объятиях.
Одним прыжком перескочил я барьер и, выхватив саблю, побежал по бассейну.
Девушки стояли почти посредине водоема, но кайман попал в него раньше меня, а вода мешала мне двигаться. К тому же дно было скользкое, и я два или три раза падал. Но я тотчас вскакивал и с отчаянной энергией бросался вперед, громко крича девушкам, чтобы они бежали на берег.
Несмотря на мои крики, перепуганные девушки даже не пытались спастись. Страх приковал их к месту…
Кайман несся к ним со страшной быстротой. Он уже находился шагах в шести от купальщиц; его длинная морда торчала под водой, в мощных челюстях сверкали четыре ряда острых зубов.
Я застонал от отчаяния. Глубокая вода сковывала мои движения. Чтобы встать между кайманом и его жертвами, я должен был пробежать почти вдвое больше, чем уже пробежал.
— Опоздаю!..
И вдруг кайман свернул в сторону: он наткнулся на подводную трубу.
Это задержало его всего на несколько секунд, но я успел добежать до девушек и встать так, чтобы принять на себя его нападение.
— A la orilla! A la orilla! (На берег! На берег!) — кричал я, подталкивая девушек левой рукой и в то же время вытягивая правую, вооруженную шпагой, к приближающемуся кайману.
Только теперь девушки стряхнули с себя оцепенение и бросились из воды.
Чудовище приближалось, щелкая зубами…
Я размахнулся и ударил каймана по голове. Но сабля скользнула по твердому черепу, и сталь жалобно зазвенела.
Тем не менее удар заставил крокодила свернуть с пути, и он пролетел мимо меня, как стрела. Я с отчаянием оглянулся назад… Какое счастье: девушки в безопасности!
Липкая чешуя задела мое бедро; я отскочил в сторону, чтобы кайман не ударил меня хвостом, которым он бил по воде.
Кайман повернулся и снова бросился на меня.
На этот раз я уже не пытался рубить, а вонзил ему саблю в пасть в расчете проткнуть глотку. Но клинок сломался, как ледяная сосулька. У меня в руках остался обломок не длиннее фута — и этим обломком я колол и резал с энергией отчаяния.
Положение мое поистине было критическим. Девушки уже выбрались из бассейна и, отчаянно крича, стояли на парапете.
Вдруг старшая, схватив с земли жердь, кинулась мне на помощь. Но не успела она соскочить в бассейн, как из-за смоковниц блеснул огонь, и я услышал выстрел. Просвистела пуля, и несколько человек выскочило из рощи. Перескочив парапет, все они побежали к бассейну.
Громкий плеск, людские голоса, звон оружия — и кайман, пронзенный двенадцатью штыками, погрузился на дно.
Глава 11
ДОН КОСМЕ РОЗАЛЕС
— Вы не ранены, капитан?
То был голос Линкольна. Вокруг меня по пояс в воде стояла дюжина солдат. Тут же был и Маленький Джек: только голова в фуражке торчала над водой… Его игрушечная сабля в полтора фута длиной тоже была всажена в мертвого крокодила.
Я улыбнулся.
— Цел и невредим, — отвечал я. — Но вы поспели как раз вовремя…
— Мы прибежали на ваш выстрел, капитан, — объяснил Линкольн. — Раз вы стреляете, значит, что-то случилось. Взяв нескольких ребят, я поспешил на помощь…
— И хорошо сделали, сержант!.. Но где же…
И я взглянул в ту сторону, где были девушки. Но они исчезли.
— Если вы про женщин, — вмешался Чэйн, — то они скрылись за деревьями.
С этими словами он вдруг повернулся и стал яростно колоть мертвого каймана штыком, восклицая:
— У, черт! Чтоб ты провалился со всем своим железным костяком! Мерзкая тварь, туда же — лезет к девушкам!.. До чего крепок, проклятый! Ах, черт возьми, да на нем не осталось ни одного живого места!
Мы вылезли на берег, и солдаты вытирали свои мокрые ружья.
В это время появился Клейли во главе всего отряда. Когда я рассказал ему все приключение, он расхохотался:
— Клянусь жизнью, — сказал он, — тут не о чем будет и докладывать! Со стороны неприятеля один убитый, а у нас даже раненых нет. Впрочем, можно будет упомянуть об одном пропавшем без вести.
— Кто же пропал? — насторожился я.
— Кто же, как не доблестный Блоссом!
— Но куда он девался?
— А кто его знает. В последний раз, когда я его видел, он прятался за какую-то развалину. Я не удивился бы, если бы он ускакал обратно в лагерь. Несомненно, он так поступил бы, если б запомнил дорогу.
И Клейли снова громко рассмеялся.
Мне и самому было трудно удержаться от смеха, ибо, взглянув в направлении, указанном лейтенантом, я разглядел нечто лунообразное, оказавшееся лицом майора.
Спрятавшись за смоковницами, он осторожно выглядывал оттуда, а в глазах застыл страх. Я видел только его лицо, круглое и блестящее, как луна, и, подобно лику луны, испещренное светом и тенью: от страха по щекам поползли красные и белые пятна.
Разобравшись в положении, майор начал с шумом и треском пробиваться сквозь кусты, ломая их, словно слон. В руках его была обнаженная сабля.
— Скверное дело, — сказал он, геройскими шагами обойдя бассейн. — И это всё? — Продолжал он, показывая на труп каймана. — А я-то надеялся, что у нас будет стычка с мексиканцами!..
— Нет, майор, — отозвался я, стараясь сохранять серьезность. — Нам, к сожалению, не так повезло.
— Не сомневаюсь, однако, — лукаво заметил Клейли, — что они недолго заставят себя ждать. Ведь до врагов донеслась наша стрельба!
Весь облик майора сразу резко изменился. Сабля медленно опустилась, и толстые красные щеки снова покрылись белыми и синими пятнами.
— Как вы думаете, капитан, не слишком ли мы углубились в эту подлую страну? Никаких мулов здесь нет. Могу вас заверить, здесь нет ни одного мула! Не лучше ли нам вернуться в лагерь?
Не успел я ответить, как наше внимание привлек внезапно появившийся человек. Майор едва не упал в обморок. Человек бежал по откосу прямо на нас.
— Клянусь честью, это гверильяс — мексиканский партизан! — с притворным ужасом воскликнул Клейли, показывая на красный пояс, стягивающий талию незнакомца.
Майор оглянулся кругом, ища, куда бы ему спрятаться в случае стычки. Он уже пробирался бочком к тому месту, где барьер был повыше, когда незнакомец бросился к нему и, обняв его обеими руками, разразился целым потоком испанских фраз, в которых чаще всего слышалось слово gracias (благодарю).
— Что он хочет сказать всей этой «грацией»? — вскричал майор, вырываясь из рук мексиканца.
Но тот не слушал его. Увидев мою мокрую одежду, он бросил майора и обрушил все свои восторги и gracias на меня.
— Сеньор капитан, — говорил он по-испански, тиская меня, как медведь, — примите мою благодарность! Ах, сеньор! Вы спасли моих детей. Как могу я выразить вам свою признательность?!
Дальше последовал настоящий букет пышных и патетических фраз, свойственных испанскому языку. В заключение незнакомец предложил мне свой дом со всем, что в нем заключалось.
В ответ на это любезное предложение я с поклоном извинился, ибо с моей мокрой одежды вода ручьями стекала на мексиканца.
Только теперь я разглядел его. Он оказался высоким, худощавым и бледным стариком с умным, типично испанским лицом. Волосы у него были коротко подстрижены и совершенно белые, а усы — черные, с еле заметной проседью. Под черными, как агат, бровями блестели живые глаза. Одет он был в короткий белый жакет тончайшего полотна, с таким же жилетом и брюками, затянутыми по талии ярко-красным шелковым поясом. На ногах — зеленые сафьяновые ботинки, а на голове — широкополая соломенная шляпа.
Хотя такой костюм характерен для Латинской Америки, но всем своим видом и манерами старик напоминал настоящего европейского испанца.
В ответ на излияния старика я на лучшем своем испанском языке выразил сожаление по поводу страха, пережитого его дочерьми.
Мексиканец поглядел на меня с изумлением.
— Как, сеньор капитан? Судя по вашему выговору, вы иностранец?..
— Иностранец? То есть вы хотите сказать — в Мексике?
— Да, сеньор. Разве это не так?
— Ну, конечно, — ответил я с улыбкой, в свою очередь недоумевая.
— А давно вы служите в армии, сеньор капитан?
— Нет, совсем недавно.
— Как вам понравилась Мексика, сеньор?
— О, я ведь ее пока что почти совсем не видел.
— Да? Но сколько же времени вы находитесь здесь?
— Три дня. Мы высадились девятого…
— Неужели!.. Всего три дня — и уже служите в нашей армии? — проговорил испанец, и на лице его отразилось самое неподдельное удивление.
Похоже было, что со мной говорит сумасшедший.
— Вы позволите спросить вас, какова ваша национальность? — продолжал старый джентльмен.
— Национальность? Разумеется, американец…
— Американец?!
— Un Americano! (Американец!) — подтвердил я. (Мы ведь говорили по-испански.)
— Y son esos Americanos? (И они тоже американцы?) — залопотал мой новый знакомый.
— Si, senor! (Да, сеньор!)
— Каррамба! — вскричал старик, подскочив на месте. Глаза его чуть не вылезли из орбит…
— То есть, строго говоря, не вполне американцы, — добавил я. — Среди нас есть ирландцы, французы, немцы, шведы, швейцарцы. Однако вы можете считать нас всех американцами…
Но старик не слушал моих объяснений. Опомнившись от первого изумления, он повернулся и, махнув рукой, скрылся за деревьями, прокричав мне «Esperate!» (Погодите!) Солдаты, толпившиеся у бассейна, громко расхохотались. Я не пытался унять их. Испуг старика рассмешил и меня, а разговор, завязавшийся между солдатами, показался мне очень забавным. Я ясно различал слова, хотя стоял поодаль.
— Не слишком-то гостеприимен этот мексиканец, — презрительно проворчал Линкольн.
— Капитан спас ему таких славных девчонок, — поддержал Чэйн. — Следовало предложить хоть стакан вина.
— Наверно, у него в доме нет ни капли. Похоже, что место «сухое», — заметил другой ирландец.
— Во всяком случае, клетка славная, — возразил Чэйн, — и птички в ней недурные. Я даже вспомнил Типперари… Но там у нас было чего выпить! Целые реки настоящего рома.
— Боюсь, что этот малый — грили, — прошептал другой солдат, чистокровный янки из Южных Штатов.
— Что такое? — спросил ирландец.
— Как что? Грили — мексиканец, черт бы его побрал!
— Ну, еще бы! Ведь ты видел его красный пояс?
— Уж не капитанский ли это пояс? — продолжал янки. — Бьюсь об заклад, он капитан, а, возможно, и полковник…
— А что такое он прокричал, убегая?
— Не разобрал я. Что-то насчет пиратов…
— Какие мы пираты? Сам он пират! Вот возьмем да поставим его к этой самой размалеванной стенке…
— Сначала этот старик так и лез целоваться. Какая муха его укусила?
— Рауль говорит, будто он обещал подарить капитану свой дом со всей обстановкой.
— Ух, мать честная! И с девчонками в придачу?
— Понятное дело!
— Черт возьми! Будь я на месте капитана, я поймал бы его на слове.
— Это фарфор, — заметил один из солдат, указывая на барьер.
— Нет, не фарфор…
— Ну, так глазурь.
— Нет, и не глазурь!
— Так что же это такое?
— Просто крашеный камень, дурак ты этакий!
— Хорош камень! Говорю тебе, это — фарфор!
— А ты попробуй штыком…
— Трах, трах, трах, — услыхал я и, повернувшись, увидел, что солдат колотит прикладом по фарфоровому барьеру.
— Перестань! — закричал я на него.
Остряк Чэйн не преминул по этому поводу пошутить. Хоть он и говорил вполголоса, но я услыхал его замечание:
— Капитан тебе тут ничего не позволит ломать и портить: ведь он завладеет всем этим добром, когда женится на одной из этих красоток… А вот и старик! Смотри, он тащит какую-то бумагу! Так и есть, хочет расписаться, что все дарит капитану!..
Я захохотал и, оглянувшись, заметил старика, торопливо возвращавшегося к нам. В руках он держал большой лист пергамента.
— В чем дело, сеньор? — спросил я.
— No soy Mexicano — soy Espanol! (Я не мексиканец, а испанец!) — неожиданно заявил старик.
Взглянув вскользь на документ, я увидел, что это подписанный испанским консулом в Вера-Круце паспорт на имя испанского подданного дона Косме Розалес, родившегося в Испании.
— Это совершенно лишнее, сеньор Розалес! — сказал я, возвращая бумагу. — Те обстоятельства, при которых произошла наша встреча, обеспечили бы вам самое лучшее отношение с нашей стороны, будь вы даже мексиканцем. Ведь мы воюем не с мирными жителями, а с солдатами.
— Es verdad! (Конечно!) Но вы совсем вымокли, сеньор! Не голодны ли вы?
Я не мог отрицать ни того, ни другого.
— Вам следует отдохнуть, сеньоры! Не зайдете ли вы в мой дом?..
— Позвольте, сеньор, представить вам майора Блоссома, лейтенанта Клейли и лейтенанта Окса. Дон Косме Розалес, джентльмены!
Офицеры раскланялись со стариком. Майор сразу воспрянул духом.
— Vamonos, caballeros! (Пожалуйте, кабальеро!) — и мы последовали за стариком, который обещал накормить обедом и солдат.
Через несколько минут мы приблизились к дому, оказавшемуся той бамбуковой клеткой, о которой я уже упоминал.
Глава 12
МЕКСИКАНСКИЙ ОБЕД
— Прошу вас, сеньоры, — сказал дон Косме, отдергивая занавеску.
— Ого! — воскликнул майор, пораженный видом комнаты.
— Садитесь, джентльмены! Ja vuelvo… (Я сию минуту.) И с этими словами дом Косме исчез за дверкой в задней стене. Дверка эта была совершенно скрыта плетеным тростниковым экраном.
— Честное слово, здесь очень мило! — шепнул Клейли.
— Очень мило, — подтвердил майор.
— Правильнее было бы сказать — великолепно…
— Великолепно! — снова, как эхо, откликнулся майор.
— Столы и стулья розового дерева, — перечислял Клейли, — арфа, гитара, рояль, диваны, оттоманки, ковры по колено… Фью!
Я, не обращая внимания на мебель, беспокойно оглядывал комнату.
— Ха-ха, капитан, чем вы так встревожены? — спросил Клейли.
— Ничем.
— А, понимаю! Вы говорили о девицах — о нимфах бассейна. Но куда же они запропастились?
— Вот именно — куда?
— Девицы? Что за девицы? — удивился майор, еще не знавший всех подробностей моего приключения в бассейне.
Но тут послышался голос дона Косме:
— Пепе, Рамон, Франсиско! Подавайте обед! Anda! Anda! (Живо!)
— Где кричит этот старик? — не без тревоги в голосе спросил майор. — Я ничего не вижу…
Мы тоже ничего не видели. Встав со стульев, мы подошли к задней стене.
В доме, по-видимому, была всего одна комната — та самая, в которой мы находились. Единственным пунктом, недоступным отсюда для наблюдения, была маленькая веранда, куда вышел дон Косме. Но она была слишком мала, чтобы на ней помещалось столько народу, сколько созывал наш хозяин.
За домом, под оливами, стояли две небольшие постройки, но они просвечивались насквозь, а мы в них ничего не заметили. За оливами открывался лужок метров в сто шириной, а дальше шли мескито и краснели листья алоэ — начинался лес.
Мы не понимали, куда девались девушки и откуда к нам доносились крики: «Пепе, Рамон, Франсиско!»
Но тут послышались колокольчики и голос дона Косме:
— Не желаете ли каких-нибудь любимых блюд, сеньоры?
— Нет, спасибо, — ответил кто-то из нас.
— Черт меня побери! — воскликнул майор. — Похоже, что, стоит ему топнуть ногой или позвонить в звонок, и прямо из-под земли появится все что угодно… Ага, что я вам говорил?
Последние слова были вызваны появлением пяти или шести отлично одетых слуг, которые внесли в комнату подносы с тарелками и графинами. Они вошли с переднего входа, но откуда же они взялись? Несомненно, что не из рощи, а иначе мы видели бы их по пути к дому.
Майор произнес нечто совершенно непечатное и шепотом прибавил:
— Это какой-то мексиканский Аладдин!
Признаюсь, я был удивлен не меньше его. А между тем слуги всё входили и выходили. Не прошло и получаса, как стол положительно затрещал под тяжестью роскошного обеда. Это — не фигуральное выражение. На столе красовались литые серебряные блюда, большие серебряные кувшины, графины и даже золотые кубки.
— Senores, vamos a coner! (Пожалуйте обедать, сеньоры!) — пригласил дон Косме, любезно указывая нам на стулья. — Боюсь только, что вам не слишком понравится мое угощение. Кухня моя чисто мексиканская.
Назвать обед плохим значило бы противоречить истине и квартирмейстеру американской армии майору Джорджу Блоссому, который впоследствии утверждал, что такого великолепного обеда он в жизни своей не едал.
Обед начался с черепахового супа.
— Может быть, джентльмены предпочли бы суп жюльен или вермишель? — спрашивал хозяин.
— Нет, благодарю вас, суп очень хорош, — ответил я за всех, так как мне поневоле пришлось стать переводчиком.
— Попробуйте взять к нему немного агвакате — он придает особый вкус.
Слуга поднес продолговатый темно-оливковый плод величиною с большую грушу.
— Спросите его капитан, как это едят? — попросил майор.
— Ах, простите, сеньоры! Я забыл, что вы не знаете наших кушаний… Надо просто снять кожицу и нарезать — вот так!
Мы попробовали, но суп от этого не улучшился. Для нашего северного нёба агвакате оказалось почти нестерпимым.
На второе подали отличную рыбу.
Затем последовало множество других яств. Из них многие были для нас новинкой, но все оказались весьма вкусными и острыми.
Майор пробовал решительно все, желая узнать, какое из этих удивительных мексиканских кушаний окажется самым вкусным. Он утверждал, что впоследствии извлечет пользу из своего опыта.
Хозяин с особым удовольствием потчевал майора, все время величая его «сеньором полковником».
— Не хотите ли пучеро, сеньор полковник?
— Благодарю вас, сэр, — бурчал майор и отведывал пучеро.
— Позвольте положить вам ложку моле!
— С удовольствием, дон Косме!
И моле исчезало в широкой майорской глотке.
— Попробуйте немножко чиле-реллено…
— Очень благодарен, — отвечал майор. — Ах, черт возьми, жжется, как огонь! Ой, ой!
— Pica! Pica! (Жжет!) — бормотал дон Косме, показывая на горло и улыбаясь гримасам майора. — Запейте, сеньор, стаканом красного… Или, еще лучше… Пепе! «Иоганисбергер» уже остыл? Подай его сюда! Быть может, сеньоры, вы предпочитаете шампанское?
— Благодарю вас, дон Косме, не беспокойтесь, пожалуйста!
— Какое же это беспокойство, капитан? Рамон, подайте шампанское. Вот, сеньор полковник, отведайте guisado de pato (рагу из утки).
— Спасибо, — заявил майор. — Вы очень любезны. Черт бы побрал эту штуку! Так и жжется…
— Как вы думаете, понимает он по-английски? — на ухо спросил меня Клейли.
— Думаю, что нет, — отвечал я.
— Ну так мне хочется сказать во весь голос, что этот старик — чудеснейший джентльмен. А вы что скажете, майор? Ведь правда, хорошо бы, если б он жил поближе к нашему лагерю!..
— Хорошо бы, чтоб поближе к лагерю находилась его кухня, — ответил, подмигнув, майор.
— Сеньор полковник, позвольте…
— Что прикажете, сеньор?
— Pasteles de Moctezuma.
— Конечно, конечно!.. По правде сказать, ребята, я и сам не понимаю, что за штуковину ем, но на вкус это неплохо.
— Сеньор полковник, позвольте положить вам кусочек гуаны.
— Гуаны? — изумился майор.
— Si, senor! (Да, сеньор!) — отвечал дон Косме, держа кусок на вилке.
— Гуана? Как, по-вашему, ребята, неужели это та самая мерзость, которую мы видели на Лобосе? — Всё на свете возможно. — Ну, так мне довольно, черт возьми! Не могу я есть всякую дрянь! Благодарю вас, дорогой дон Косме: кажется я уже кончил свой обед.
— Советую вам попробовать, уверяю вас, это очень нежно, — настаивал дон Косме.
— Попробуйте, майор, и скажите нам, каково на вкус! — закричал Клейли.
— Вы как тот аптекарь, который отравил собаку, пробуя снадобья. Впрочем… — и майор ругнулся. — Ладно! Судя по тому, как сам хозяин смакует эту штуку, она должна быть неплоха… Честное слово, это великолепно! Нежно, как цыпленок!.. Отлично, отлично!
И майор съел впервые в своей жизни кусок гуаны.
— Паштет из дроздов, сеньоры! Могу рекомендовать: эти птички теперь в самом сезоне.
— Дрозды, клянусь честью! — воскликнул майор, узнав свое любимое блюдо.
И в одно мгновение исчезло невероятное количество паштета.
Наконец слуги убрали блюда, и на столе появился десерт: всевозможные торты, кремы, желе, бланманже и невиданное количество самых разнообразных фруктов. В больших серебряных вазах лежали и золотые апельсины, и спелые ананасы, и бледно-зеленые сладкие лимоны, и сочный виноград, и черимолла, и сапоте, и гранадилья, и петахайя, и туна. Тут же стояли финики, винные ягоды, миндаль, смоквы, бананы и еще какие-то неведомые ягоды. Мы не могли надивиться всему этому, неведомо откуда явившемуся изобилию.
— Попробуйте кюрассо, джентльмены! Сеньор полковник, позвольте налить вам!
— За ваше здоровье, сэр!
— Сеньор полковник, может быть, вы хотите стакан Майорки?
— Благодарю вас.
— Или, может быть, вы предпочитаете «Педро-Хименес»? У меня есть очень старый «Педро-Хименес».
— Все равно, дорогой дон Косме, совершенно все равно!
— Принеси то и другое, Рамон, да захвати бутылки две мадеры (зеленая печать)!
— Клянусь жизнью, этот старик — настоящий колдун! — пробормотал майор, пришедший в самое безоблачное настроение.
«Хотел бы я, чтобы он наколдовал нам что-нибудь, кроме этих проклятых бутылок», — подумал я, окончательно теряя терпение: девушки всё не выходили.
— Кофе, сеньоры?
Слуга внес кофе в чашках севрского фарфора.
— Вы курите, сеньоры? Не угодно ли гавану? Мне прислал с Кубы один друг. Кажется, они очень хороши. Но если вы предпочитаете сигареты, то вот — настоящие кампешские. Вот и наши местные сигары, как мы их называем. Но их я бы вам не рекомендовал.
— Мне гавану, — заявил майор и тут же взял великолепную «регалию».
Я впал в задумчивость.
Меня вдруг охватил страх, что мексиканец, при всем своем гостеприимстве, отпустит нас, не познакомив со своим семейством, а мне очень хотелось поговорить с очаровательными девушками. Особенно не терпелось мне увидеть брюнетку, чьи манеры произвели на меня глубокое впечатление.
Мои размышления были прерваны доном Косме, который встал и пригласил нас пройти в гостиную к дамам.
Я вскочил так резко, что чуть не перевернул стол.
— Что с вами, капитан? — усмехнулся Клейли. — Дон Косме собирается только представить нас дамам. Вы, надеюсь, не собираетесь убежать?
— Конечно, нет, — пробормотал я, несколько смущенный своей неловкостью.
— Он говорит, что дамы у него в гостиной, — встревоженным голосом прошептал майор, — а где эта гостиная, сам черт не знает. Держитесь, ребята! Пистолеты у вас в порядке?
— Бросьте, майор! Как вам не стыдно!
Глава 13
ПОДЗЕМНЫЙ САЛОН
Тайна гостиной и неизвестно откуда являющихся кушаний разрешилась очень быстро. Лестница, ведущая вниз, сразу объяснила нам все.
— Позвольте мне проводить вас в мой «погреб», сеньоры! — сказал испанец.
— Я ведь наполовину подземный житель. В сильную жару и при северном ветре мы предпочитаем скрываться под землей. Следуйте за мной, пожалуйста!
И мы спустились вниз, оставив наверху только Окса, который пошел взглянуть на солдат.
Лестница привела нас в большую залу. Пол, не покрытый ковром, был мраморный, прекрасной мозаичной работы. Небесно-голубые стены украшены копиями картин Мурильо в дорогих и изящных рамах. Комната освещалась белоснежными восковыми свечами.
На блестящих мраморных столиках стояли вазы с цветами. Прекрасная мебель, канделябры, жирандоли, позолоченные колокольчики дополняли обстановку. Большие зеркала отражали ее со всех сторон, так что зала казалась целой анфиладой великолепно убранных комнат. Но даже при самых внимательных поисках мы не могли бы найти в этой комнате, которую дон Косме называл «аванзалой», ни одной двери.
Хозяин подошел к одному из зеркал и слегка нажал пружинку. За стеной послышался звон колокольчика, и в тот же момент зеркало повернулось и отступило назад, отражая в своем движении множество блестящих вещей, быстро пронесшихся у нас перед глазами.
— Войдите, сеньоры! — пригласил дон Косме, отступая в сторону и указывая нам рукою на вход.
Мы прошли в гостиную. Вкус и изящество убранства превосходили все виденное нами в первых комнатах.
Пока мы стояли, озираясь по сторонам, дон Косме открыл боковую дверь и громко позвал: «Дети, дети, подите сюда!»
И мы услышали женские голоса, подобные щебетанию певчих птиц.
Голоса эти приближались. Послышались шуршание юбок, легкие шаги — и в комнату вошли три дамы; супруга дона Косме в сопровождении своих прелестных дочерей, героинь моего приключения в бассейне.
Девушки задержались на момент, разглядывая наши лица, а затем обе с криком «Наш спаситель!» подбежали ко мне и, почти опустившись на колени в глубоком реверансе, схватили меня за руки. Они были прелестны в этом порыве детской благодарности.
Между тем дон Косме представил Клейли и майора своей супруге, сеньоре Хоакине, а затем познакомил нас и с детьми, которых звали Гвадалупе и Мария де Ля-Люс (Мария Светлая).
— Мама, — сказал он после этого жене, — сеньоры еще не докурили своих сигар.
— О, пусть они кончат здесь, — отвечала она.
— А это не будет неприятно сеньорам? — осведомился я.
— А может быть, и вы присоединитесь к нам? Мы слыхали, что все испанские женщины курят.
— Нет, этот дурной обычай вымирает, — заявил дон Косме.
— Мы не курить, мама, да, — добавила старшая дочь, брюнетка, та, которую звали Гвадалупе.
— А, вы говорите по-английски!
— Немного… плохо английски, — был ответ.
— Кто же учил вас английскому языку? — спросил я, побуждаемый каким-то непонятным любопытством.
— Американец учил — дон Эмилио.
— Ах, американец!
— Да, сеньор, — сказал дон Косме, — американец, джентльмен из Вера-Круца, наш частый гость.
Хозяину как будто не хотелось распространяться об этом предмете, а между тем меня охватило внезапное и, как это ни странно, какое-то болезненное желание узнать побольше об американце дон Эмилио и его отношениях с нашими новыми знакомыми. Чтобы оправдать свое любопытство, могу только спросить читателя, не случалось ли ему самому испытывать такой же внезапный интерес к прошлому девушки, произведшей на него большое впечатление.
В том, что «мама» курила, нам пришлось убедиться на деле, потому что пожилая леди медленно развернула маленькую папироску, похожую по форме на патрон, и снова закрутила ее пальцами, взяла за кончик крохотными золотыми щипчиками. После этого она поднесла папироску к угольку и, закурив, выпустила синий клуб ароматного дыма.
После нескольких затяжек донья Хоакина предложила свой бисерный кисет майору.
Так как это была особая любезность, то отказаться было невежливо. Майор принял дар, но оказался в самом затруднительном положении, не зная, что делать с папироской.
Подражая сеньоре, он развернул бумажку, но попытка снова завернуть ее кончилась неудачно.
Дамы, наблюдавшие за действиями майора, очень забавлялись. Младшая девушка даже засмеялась.
— Позвольте мне, сеньор полковник! — сказала донья Хоакина.
С этими словами она взяла у майора папироску и быстро свернула ее своими ловкими пальцами.
— Так! Ну, теперь… Пальцы держите вот так… Не нажимайте, легче, легче! Вот этот конец слишком слаб, вот так! Отлично!
Майор зажег папиросу и потянул широкими, толстыми губами дым.
Но он не сделал и десяти затяжек, как огонь дошел до пальцев и жестоко обжег их, так что несчастный тут же отдернул руку. Тут бумажка развернулась, и мелкий табак рассыпался, а майор на свое горе нечаянно вдохнул воздух, и часть табачных крошек попала ему в рот. Бедняга закашлялся и засопел.
Это было уж слишком, и дамы, ободренные хохотом Клейли, громко рассмеялись. Слезы выступили у майора на глазах, и его отчаянный кашель прервался самыми отборными ругательствами, к счастью, непонятными для хозяев.
Кончилось тем, что одна из девушек, сжалившись над майором, подала ему стакан воды.
— Не хотите ли попробовать еще одну, сеньор полковник? — с улыбкой спросила донья Хоакина.
— Нет, благодарю вас, сударыня, — отвечал майор, и я расслышал подавленное, как бы подземное ругательство…
В дальнейшем разговор продолжался по-английски. Ошибки сеньор, пробовавших изъясняться на нашем языке, немало забавляли нас.
После нескольких неудачных попыток объясняться по-английски Гвадалупе не без некоторой досады заявила:
— Хотелось бы, чтоб брат поскорей вернулся домой: он лучше владеет английским.
— А где он? — спросил я.
— В город — Вера-Круц.
— Когда же вы его ждете?
— Сегодня ночью.
— Да, — прибавила сеньора Хоакина. — Он отправился в город на несколько дней к своему другу, но сегодня к вечеру мы ждем его.
— Но как же он выберется из города? — с обычной своей резкостью буркнул майор.
— Что такое, сеньор? В чем дело?.. — взволновались сеньоры. Все они сразу побледнели.
— Но ведь он не сможет миновать пикеты, миледи, — развел руками майор.
— Объясните нам, в чем дело, капитан? — беспокойно попросили хозяева.
Всякие отговорки были бы бесполезны. Майор сжег корабли.
— Мне очень больно, сеньоры, разочаровывать вас, — сказал он, — но боюсь, что сегодня ваш брат вернуться не сможет.
— Но почему же, капитан? Почему?
— Потому что Вера-Круц со всех сторон окружен нашими войсками, и ни в город, ни из города никого не пропускают.
Если бы в гостиной дона Косме разорвался снаряд, то и он не произвел бы такого действия, как эти слова. Не зная ничего о ходе войны, семья понятия не имела о том, что наше появление отделяло ее от любимого сына и брата непроходимой преградой. В своем почти полном уединении дон Косме и его близкие знали только то, что Мексика воюет с Соединенными Штатами, но им казалось, что война идет где-то очень далеко, за Рио-Гранде. Они даже подозревали, что наш флот подошел к Вера-Круцу; отдаленный гром орудий, конечно, доносился до них. И все же им в голову не приходило, чтобы город был обложен нами с суши. Отчаяние матери и сестер было ужасно и стало еще невыносимее, когда они узнали то, чего мы не могли скрыть от них: что американское командование намеревалось бомбардировать город.
В самый разгар горестной сцены неожиданно открылась дверь, и в гостиную вбежал взволнованный слуга.
— El norte! El norte! (Северный ветер!) — кричал он.
Глава 14
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Ничего не понимая, мы бросились за доном Косме в аванзалу. Когда мы поднялись наверх, нас поразило странное и величественное зрелище. Все кругом резко изменилось. День, только что веселый и солнечный, стал мрачен и грозен. Небо потемнело и, казалось, было готово разразиться бурей.
На северо-западе, на Сьерра-Мадре, дымилась огромная свинцовая туча, осевшая шапкой на вершине гор. От нее отрывались причудливые клочья туч и носились по небу, как если бы целое полчище демонов бури гневно гоняло бы их во все стороны.
Одна из туч нависла над снежной вершиной Орисавы, словно огромный нетопырь над своей жертвой. Огромную тучу над Сьерра-Мадре прорезали молнии. Они раскалывали небо во всех направлениях, попадая в носившиеся кругом клочья, словно могучий властелин бури рассылал стремительных огневых гонцов.
На востоке, подобно винтовым лестницам, ведущим на небо, двигались по горизонту желтые песчаные смерчи.
Ураган еще не достиг нашего ранчо. Деревья застыли в мрачном и зловещем спокойствии, но отчаянный крик всех птиц — лебедей, попугаев, павлинов, искавших убежище в густых зарослях олив, — предвещал надвигавшуюся катастрофу.
Крупный дождь забил по широким листьям; время от времени налетали внезапные и короткие порывы ветра, сотрясавшие перистую листву пальм.
Длинные зеленые полосы листьев, резко рванувшись под ветром, снова тихо обвисали прежним изящным изгибом.
С севера приближался глухой шум, подобный отдаленному прибою, из леса то и дело доносился прерывистый хриплый лай волков и визг перепуганных обезьян.
— Tara la casa! Tara la casa! (Прикрыть дом!) — закричал дон Косме.
— Anda! Anda con los maeates! (Скорей там с веревками!) В мгновение ока со всех сторон за стенами развернулись длинные пальмовые циновки, скатанные под крышей в трубку. Теперь они упали и одели дом плотной стеной, непроницаемой для дождя и ветра. Затем их крепко связали по углам, а концы веревок прикрутили к стволам деревьев.
— Теперь, сеньоры, все готово, — сказал дон Косме. — Вернемтесь в гостиную.
— Мне хотелось бы видеть, как разразится ураган, — ответил я, желая предоставить хозяевам возможность наедине обсудить неприятное известие, принесенное нами.
— Как вам угодно, капитан! Но только оставайтесь под прикрытием.
— Черт знает, какая жара! — проворчал майор, отирая пот со своих толстых красных щек.
— Через пять минут, сеньор полковник, вы озябнете. Теперь здесь сгустился горячий воздух, но терпение: скоро ветер разгонит его.
— А сколько времени продолжается норте? — спросил я.
— Право, сеньор, сказать, сколько времени будет свирепствовать норте, невозможно: иногда он бушует по нескольку дней, а иногда проносится в два-три часа. Похоже, что сейчас будет ураган. В таком случае это будет не долго, но ужасно. Каррамба!..
Резкий порыв холодного ветра пролетел, как стрела. За ним последовали второй и третий: так по бурному океану прокатываются три могучих вала. И наконец с долгим, яростным ревом разразился настоящий ураган — могучий, черный и пыльный, несущий на своих крыльях оборванные листья и испуганно кричащих птиц.
Оливы скрипели и трещали. Высокие пальмы склонялись и вновь выпрямлялись, размахивая своими длинными листьями, словно вымпелами. Широкие листья платанов хлопали и шумели, а потом снова обвисали, пропустив мимо себя бешеный порыв ветра.
Грозовая туча заволокла небо; казалось, все пространство заполнилось густым туманом. Резкий запах серы захватывал дух, и яркий день сменился ночью.
И вдруг поток огня прорезал тьму. Деревья засверкали, словно объятые пламенем, и снова погрузились во мрак.
Еще раз вспыхнула молния, и грянул оглушительный гром, в котором потонули все прочие звуки.
Раскаты грома следовали друг за другом, черная туча раскалывалась огненными стрелами, и яростный тропический ливень подобно лавине обрушивался на землю.
Он струился потоками и водопадами, но вся сила бури исчерпалась в первом порыве.
Черная туча унеслась к югу, и сейчас же исчез пронзительный холод.
— Vamos a bajar, senores! (Спуститесь вниз, сеньоры!) — предложил дон Косме и проводил нас к лестнице.
Клейли и майор взглянули на меня, словно спрашивая, стоит ли идти. Возвращаться в гостиную нам было неприятно по целому ряду причин. Сцены семейного горя всегда тягостны для посторонних. Но каково было видеть это горе нам — офицерам той самой армии, которая принесла с собою несчастье. В нерешительности мы задержались на площадке.
— Нет, сеньоры, надо зайти на минутку. Мы принесли тяжелую новость, мы и должны придумать какое-нибудь утешение. Идемте!
Глава 15
ОПЯТЬ ХОРОШАЯ ПОГОДА
Вернувшись в гостиную к опечаленным дамам, мы подробно рассказали дону Косме о нашем десанте и осаде, подчеркивая полную невозможность пробраться сквозь расположение американских войск.
— И все-таки, дон Косме, — сказал я, — надежда есть. Кажется, вы можете найти выход из положения.
Мне пришло в голову, что такой богатый и почтенный испанец, как дон Косме, мог бы связаться с городом через испанский военный корабль, который, как я видел, стоял близ Сан-Хуана.
— О, скажите, капитан, скажите, какое средство вы придумали! — воскликнул дон Косме.
Дамы, услышав слово «надежда», тотчас подбежали ко мне.
— В гавани Вера-Круц стоит испанский военный корабль.
— Знаю, знаю! — оживленно отвечал дон Косме.
— Ах, вы знаете!
— О, да, — вмешалась Гвадалупе. — На борту этого корабля — дон Сант-Яго.
— Дон Сант-Яго? — спросил я. — Кто это такой?
— Наш родственник, капитан! — отвечал дон Косме. — Офицер испанского флота.
Сам не знаю почему, но мне неприятно было слышать эти слова.
— Итак, у вас есть друг на испанском корабле, — сказал я старшей сестре.
— Отлично! Он сможет вернуть вам брата.
Все кругом просияли. Дон Косме схватил меня за руку и умолял продолжать поскорее.
— Этому испанскому кораблю, — заговорил я, — конечно, разрешено общаться с городом. Вы должны немедленно отправиться на корабль и с помощью вашего друга еще до начала бомбардировки вызвать туда же сына. По-моему, это совсем нетрудно: наши батареи еще не сформированы.
— Сейчас же еду! — воскликнул дон Косме, вскакивая со стула. Дона Хоакина и ее дочери побежали собирать вещи к отъезду. Сладкая надежда окрыляла их…
— Но как же, сеньор, — сказал мне дон Косме, как только дамы вышли, — как же мне пройти через ваши линии? Вы думаете, мне позволят ехать на корабль?
— Мне придется проводить вас, дон Косме, — ответил я. — Очень жаль, что долг не позволяет мне поехать с вами сейчас же.
— О, сеньор! — горестно воскликнул испанец.
— Я имею поручение достать для американской армии стадо мулов…
— Мулов?!
— Да. Как раз за ними мы и направлялись на луг, что по ту сторону леса.
— Правильно, капитан: там не меньше сотни мулов. Все они мои. Берите их, пожалуйста.
— Но мы хотим заплатить за них, дон Косме! Майор Блоссом уполномочен заключить с вами договор.
— Как вам угодно, джентльмены. Но ведь вы будете возвращаться в лагерь по старому пути и заедете за мной?
— Конечно, — отвечал я, — и притом как можно скорее. А далеко до этого луга?
— Не больше трех-четырех километров. Я поехал бы с вами, но… — Тут дон Косме словно бы заколебался, а затем подошел ко мне ближе и тихо сказал: — Дело в том, сеньор капитан, что я был бы очень рад, если б взяли у меня мулов без моего согласия. Я несколько замешан в здешние политические дела; Санта-Анна — мой враг, и, если я войду с вами в соглашение, он погубит меня.
— Понимаю, — сказал я. — В таком случае, дон Косме, мы возьмем ваших мулов насильно, а вас самих приведем в американский лагерь пленником. Так мы, грубые янки, расплачиваемся за гостеприимство!
— И отлично! — улыбнулся испанец. — Но вы остались без шпаги, сеньор капитан, — продолжал он. — Окажите мне честь принять вот эту.
И он протянул мне рапиру толедской стали в золотых ножнах богатой чеканки и с мексиканским гербом на рукоятке.
— Это семейная реликвия; когда-то эта шпага принадлежала храброму Гвадалупе Викториа.
— О! — воскликнул я, принимая шпагу. — Поверьте, я сумею оценить ваш дар. Благодарю вас, сеньор, благодарю вас!.. Ну, майор, можно отправляться?
— Я вам дам проводника, сеньор капитан, а при стаде вы найдете моих пастухов. Пожалуйста, заставьте их насильно поймать мулов. Прощайте, сеньоры!
— Да свиданья, дон Косме!
— Adios, capitan! Adios, adios! (Прощайте, капитан!) К этому времени дамы уже вернулись в комнату. Я протянул руку младшей девушке. Она схватила ее и, как ребенок, прижала к сердцу. Гвадалупе же была спокойна и даже сурова. Чем была вызвана разница в их поведении?
В следующий момент мы уже поднимались по лестнице.
— Экий счастливчик, черт! — ворчал майор. — Ради этого я бы и сам, пожалуй, согласился искупаться…
— Обе, черт возьми, хороши, — сказал Клейли, — но я выбрал бы Марию де Ля-Люс…
Глава 16
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ И РАЗНООБРАЗНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Немало можно рассказать о том, как любовь овладевает сердцем, но стоит ли? Ведь каждый человек на собственном опыте познал ее могущество.
Скажу коротко: я влюбился. Любовь поразила меня внезапно и подчинила меня чарам красоты. Девушка была прекрасна. Но черты лица и весь ее облик свидетельствовали не только о физической, но и нравственной красоте.
Как забыть миндалевидные глаза — полуиндейские, полумавританские — и темный пушок над губой, нежный овал и тонкие губы? Внешность ее свидетельствовала о незаурядном характере.
Я почуял в Гвадалупе сильную натуру. То была одна из девушек, с виду женственных, но в моменты опасности или отчаяния проявляющих высокое мужество. Когда ее сестра поймала рыбку, она проявила жалостливость, доброту, попытка же выручить меня, когда я остался один на один с кайманом, служила доказательством смелости. Такие женщины, как Гвадалупе, готовы на самопожертвование и не отступят перед опасностью. Чего бы я не дал, на что бы я не пошел, чтобы завоевать ее!
С такими мыслями покинул я дом дона Косме.
Я припоминал каждое слово, каждый взгляд, каждый жест, который мог окрылить меня надеждой.
Как холодно вела она себя при прощании! Совсем иначе, чем сестра… В ее движениях было меньше девичьей порывистости, но именно это-то и обнадеживало меня!..
Вас удивляют мои выводы? Но опыт давно научил меня, что в одном в том же сердце нередко уживается любовь и враждебность к одному и тому же человеку…
Явная суровость девушки, холодность, которая другого привела бы в отчаяние, для меня была даже добрым знаком.
Но тут на моем горизонте появилась туча: я вспомнил о доне Сант-Яго, и тяжелое предчувствие омрачило мои мысли.
— Дон Сант-Яго — морской офицер, очевидно, молодой, изящный!.. Нет, нет! Гвадалупе не соблазнишь одной красотой…
Возраст и внешность дона Сант-Яго были созданием моей ревнивой фантазии. Ведь я успел узнать о нем только то, что он служил офицером на испанском военном корабле и приходился сродни дону Косме.
— Да, дон Сант-Яго на корабле… О, она, безусловно, интересуется им! Как она говорила о нем! Как вздрогнуло сердце… Проклятие! Ведь он — родственник, кузен… Терпеть не могу кузенов!
Должно быть, эти последние слова я произнес вслух, так как Линкольн, шедший позади меня, приблизился и спросил:
— Что вы говорите, капитан?
— Нет, сержант, ничего, — с некоторым смущением ответил я, а когда Линкольн снова отстал, я услышал, как он шепнул соседу:
— Какая муха укусила нашего Гарри?
Сержант, очевидно, намекал на мою рассеянность — я был сам не свой, двигался, как во сне, и несколько раз натыкался на колючие кусты, так что шаровары мои были в самом неприглядном состоянии.
Тропинка вела нас по густому чапарралю, то поднимаясь на заросший мескито и акациями песчаный холм, то сбегая в пересохшее русло, осененное пробковыми дубами, чьи толстые узловатые стволы были увиты тысячами лиан. В двух милях от ранчо мы вышли на берег речки. По нашему предположению, то был один из притоков Хамэпы.
Густой лес рос по берегам, деревья простирали ветви над водой, и речка таинственно журчала в глубокой тени…
Крупные, гладкие листья водяных лилий тихо колыхались на стеклянных струях.
Голубели пруды, окаймленные плакучими ивами и зарослями зеленых кустарников, водяные растения высоко поднимались над поверхностью вод; я видел прекрасный ирис с высоким, прямым, как стрела, стеблем, который кончался коричневым цилиндром, похожим на гренадерский султан…
Мы подошли к берегу. Пеликан, спугнутый со своего уединенного убежища, взмыл на тяжелых крыльях и с резким криком скрылся в темном лесу. Кайман мрачно погрузился в заросшую осокой воду. Обезьяны, свисая с сучьев на цепких хвостах, раскачивались и оглашали воздух дикими, почти человеческими криками…
Задержавшись на минуту, чтобы наполнить манерки водою, мы перешли реку в брод. Еще сотня шагов — и проводник, шедший впереди, закричал нам с холмика:
— Mira la caballada! (Вон стадо!)
Глава 17
КАК ЛОВЯТ БЫКОВ
Продираясь сквозь заросли, мы поднялись на холм. Чудесная картина предстала перед нами. Ураган давно прошел, и тропическое солнце сияло над покрытой цветами землей. До захода оставалось еще несколько часов, но сверкающий диск уже начинал спускаться к снежной вершине Орисавы и лучи его приобретали тот золотисто-красный оттенок, который так характерен для раннего вечера в тропиках. Стремительная буря как бы омыла небо, и на голубом своде не было ни облачка. Только на юго-востоке по горизонту еще шли темные тучи, грозно нависшие над лесами Гондураса и Табаско…
Под нашими ногами, словно зеленый ковер, расстилался широкий луг, окаймленный густой стеной леса. Несколько рощиц, рассыпанных по открытому пространству, делали картину еще более привлекательной.
Почти в центре луга стояло небольшое ранчо, окруженное высоким частоколом. Это и был тот самый кораль, о котором говорил нам дон Косме.
Неподалеку от частокола по пышной траве паслось многотысячное стадо скота. По пегой масти и высоким прямым рогам нетрудно было узнать знаменитую породу испанских быков. Некоторые животные, отделившись от стада, бродили по холмам или валялись на траве в тени одиноких пальм. Бубенчики оглашали воздух веселым, но однообразным звоном. Тут же, вперемежку с быками и коровами, паслись сотни лошадей и мулов; оглядев равнину, мы увидели двух вакеро, носившихся галопом на быстрых мустангах.
В тот момент, когда мы взошли на холм, они гонялись за диким быком, убежавшим из кораля.
Все пятеро — бык, два пастуха и два мустанга — неслись по лугу с быстротою ветра. Бык ревел от ярости и страха, а вакеро громко гикали, раскручивая над головой длинные лассо. Развевающиеся по ветру черные прямые волосы, смуглые лица арабского типа, высокие испанские шляпы, красные кожаные штаны, застегнутые по внешним швам бубенчиками, огромные звенящие шпоры, пышно украшенные глубокие седла — все это, вместе с великолепными конями, безукоризненным искусством езды и диким возбуждением погони, придавало зрелищу необычайный интерес. Мы задержались на момент, чтобы посмотреть, чем кончится дело.
Яростно фыркая от злобы и высоко вскидывая рога, бык подбежал к нам не дальше, как на пятьдесят шагов; пастухи преследовали его по пятам. В этот момент один из них раскрутил и бросил лассо, которое, описав в воздухе кривую, упало быку на один рог. Видя это, вакеро не стал поворачивать коня, но дал веревке замотаться. Вскоре она натянулась, однако соскользнула с гладкого рога и, почти не задержав быка, высоко взвилась в воздух. Пастух потерпел неудачу…
Его товарищу повезло больше. Ловко брошенная тяжелая веревка просвистела, как стрела, и охватила тугой петлей оба рога. С быстротой мысли всадник повернул коня назад, всадил ему в бока шпоры и, отчаянно сжимая седло ногами, во весь опор помчался от быка. Тот, ничего не замечая, бежал вперед. Через секунду веревка размоталась до конца и, натянувшись, рванула быка за голову, зазвенев, как тетива. Бык свалился на траву. Мустанг тоже чуть не упал.
Некоторое время бык неподвижно лежал на месте, а затем с усилием вскочил и дико оглянулся вокруг себя. Он еще не смирился. Глаза его, горевшие яростью, бессмысленно блуждали из стороны в сторону, пока он не разглядел веревку, тянувшуюся от его рогов к седлу. Тут он вдруг опустил голову и с отчаянным ревом кинулся на пастуха.
Всадник, заранее ждавший этого нападения, пришпорил мустанга и во весь опор пустился по лугу наутек. Бык наседал изо всех сил; время от времени расстояние сокращалось, а потом лассо снова натягивалось.
Проскакав около ста метров, пастух вдруг повернул коня под прямым углом. Бык не успел еще повернуться, как веревка опять со страшной силой рванула его за рога, так что он упал на бок. Но на этот раз он лежал всего одно мгновение и, сразу вскочив на ноги, опять бросился в погоню.
Но тут подлетел второй пастух и, когда бык пробежал мимо него, пустил ему вслед свое лассо, которое и обмоталось вокруг ноги животного.
Теперь бык упал уже не на бок, а на спину. Сотрясение было так сильно, что он долго лежал, как труп. Тогда один из пастухов осторожно подъехал к нему, нагнулся с седла, размотал обе веревки и отпустил его на свободу.
Бык встал на ноги с самым жалким и сконфуженным видом и беспрепятственно позволил загнать себя в кораль…
Тут мы спустились с холма. Увидев наши мундиры, пастухи сейчас же пришпорили мустангов. Нетрудно было заметить, что приближение отряда сильно напугало их. Это и не удивительно, так как фигура майора на долговязом жеребце вырисовывалась на фоне синего неба невероятным колоссом. Мексиканцы никогда в своей жизни не видывали таких высоких коней, а длинная вереница солдат в мундирах лишь увеличивала их страх.
— Как бы эти ребята совсем не сбежали, капитан, — сказал Линкольн, беря под козырек.
— Вы правы, сержант, — отвечал я, — а без них нам не поймать ни одного мула. Скорее поймаешь ветер.
— Позвольте мне ссадить одного молодца: я подстрелю только мустанга, а его не трону.
— Нет, сержант, жалко коня, — ответил я и продолжал, обращаясь не столько к Линкольну, сколько к самому себе:
— Конечно, я бы мог выслать вперед проводника, чтобы он предупредил… Но нет, это не годится. Я ведь должен действовать силой. Ничего не поделаешь, я обещал… Майор, не будете ли вы добры нагнать этих пастухов и сказать им, чтобы они не удирали?
— Что вы, капитан! — с ужасом возразил майор. — Неужели вы думаете, что я могу угнаться за арабскими жеребцами? В сравнении с ними мой Геркулес — улитка!
Но я отлично знал, что это ложь. Долговязый майорский жеребец Геркулес летал, когда приходилось удирать, быстрее ветра.
— В таком случае, вы, может, позволите попробовать вашего коня мистеру Клейли? Ведь мистер Клейли очень легок. Уверяю вас, что, если эти мексиканцы не помогут нам, мы не поймаем ни одного мула.
Видя, что все смотрят на него, майор вдруг выпрямился в стременах и, весь надувшись храбростью и чувством собственного достоинства, заявил, что в таком случае он поедет сам. Затем, приказав «доку» следовать за собою, дал Геркулесу шпоры и пустился галопом.
Хуже этого ничего нельзя было придумать. Никто в отряде не внушал пастухам такого ужаса, как майор, и, видя, что это пугало приближается, они снова пустились наутек. Я изо всех сил закричал:
— Alto! Somos arnigos! (Стой! Свои!) Но не успели отзвучать эти слова, как мексиканцы отчаянно пришпорили своих мустангов и помчались к коралю с такой быстротой, словно я угрожал их жизни. Майор гнался за ними во весь опор, а «док» кое-как поспевал сзади; из корзинки, которую он вез на руке, посыпались бутылки и закуски… К счастью, гостеприимство дона Косме заранее вознаградило майора за эту потерю.
Проскакав около полумили, Геркулес стал заметно настигать мустанга, между тем как «док» столь же заметно отставал от него. Но в тот момент, когда мексиканцы находились в каких-нибудь двухстах ярдах от ранчо, а майор — в ста ярдах от мексиканцев, он вдруг резко натянул поводья и, повернув Геркулеса, во весь опор помчался назад, ежесекундно оглядываясь через плечо на частокол.
А пастухи, вместо того чтобы въехать в кораль и остановиться там, пересекли весь луг и скрылись в лесу.
— Что это случилось с Блоссомом? — сказал Клейли. — Ведь он совсем уже нагонял их! Должно быть, старый трус опять чего-нибудь испугался…
Глава 18
СТЫЧКА С ГВЕРИЛЬЯСАМИ
— Что такое, майор? В чем дело? — спросил я, когда майор подскакал к нам, фыркая словно дельфин.
— В чем дело? — повторил он, энергично выругавшись. — Хорошее дело, нечего сказать! Вы что же, хотели, чтобы я прямо так и поскакал в крепость?
— Крепость? — в изумлении откликнулся я. — Что вы хотите сказать, майор?
— Хочу сказать — крепость, и больше ничего. Там у них эстакада в три метра вышиной, и имейте в виду, что она набита битком.
— Да чем набита?
— Тем и набита — неприятелями, этими самыми ранчеро. Я видел, как они глядели на меня из-за частокола, не меньше двенадцати медных рож! Подскачи я еще на десять шагов, они бы продырявили меня, как решето.
— Помилуйте, майор, ведь это просто мирные ранчеро! Обыкновенные пастухи, и больше ничего!
— Пастухи! Говорю вам, капитан, эти двое, что удирали, — оба с саблями. Пари держу, они нарочно заманивали нас к эстакаде!
— Ну, что ж, майор, — отвечал я, — теперь они отъехали от эстакады достаточно далеко, а раз их нет, то самое лучшее, что мы можем сделать, — это осмотреть вашу крепость. Надо выяснить, не удастся ли нам загнать в нее мулов, потому что иначе придется возвращаться в лагерь с пустыми руками.
С этими словами я повел отряд вперед. Майор, конечно, замыкал колонну.
Вскоре мы достигли грозной эстакады, которая оказалась самым обыкновенным коралем, какие имеются в испанской Америке при всех крупных гасиендах. На углу частокола находился сарай из жердей, крытый пальмовыми листьями. В нем хранились лассо, седла и прочее добро пастухов; в дверях стоял единственный человек, которого мы нашли на месте, дряхлый старик — самбо. Это его курчавая голова, выглядывавшая из-за частокола, показалась испуганному воображению майора целой дюжиной врагов!..
Осмотрев кораль, я нашел его вполне подходящим для наших целей. Вся трудность заключалась в том, чтобы загнать в него мулов. Широко открыв ворота, мы приступили к этому делу. Мулы спокойно паслись на расстоянии примерно километра от кораля.
Отведя роту за стадо, я развернул ее полукругом, и по моему знаку солдаты стали постепенно стягиваться к загородке, гоня перед собою скот.
Сначала мы приступили к этому новому для нас занятию не совсем ловко, но в конце концов все наладилось. Подгоняя мулов камнями, кусками сухого навоза и гиканьем, мы заставили их двинуться, куда следовало.
Майор, его «док» и Маленький Джек — единственные наши верховые — очень помогли нам в этой работе. Особенно полезен был Джек, страшно обрадовавшийся новому занятию и все время носившийся на своем Твидгете из конца в конец.
По мере того как стадо приближалось к загородке, крайние пункты нашей цепи постепенно сближались, замыкаясь у кораля.
Мулы были всего шагах в пятидесяти от входа, а солдаты следовали за ними в двухстах метрах, когда наше внимание отвлек конский топот.
Резкий, короткий звук кавалерийского рожка пронесся по долине, а за ним раздался дикий боевой клич. Казалось, отряд индейских воинов мчался по тропе войны.
Мы оглянулись и с изумлением увидели целую лавину всадников, вылетевшую из леса и несшуюся на нас во весь опор…
Мне довольно было одного взгляда, чтобы узнать в них гверильясов. Живописный костюм, своеобразное оружие, цветные флажки на пиках — ошибка была невозможна.
Мы остановились. Громкий крик пронесся по нашей растянутой линии.
Я дал знак трубачу, и он протрубил сигнал «смыкайся на середину».
Полукруг солдат кинулся вперед и сплотился у частокола. Мулы, перепуганные таким внезапным напором, тоже побежали и, сгрудившись в воротах, загородили вход.
Гверильясы неслись на нас, наклонив пики и дико крича:
— Andela! Andela! Mueran los Jankee! (Вперед! Вперед! Смерть янки!) Передовые солдаты уже настигли мулов и стали погонять их штыками. Тогда животные принялись отчаянно брыкаться, создавая новую опасность с фронта.
— Кругом! — скомандовал я. — Пли!
Нестройный, но меткий залп выбил из седла пять-шесть всадников и на секунду разбил фронт атакующих, но прежде, чем мой отряд успел вновь зарядить ружья, гверильясы, перескакивая через трупы товарищей, снова кинулись на нас с криками мести. Десяток самых храбрых уже подскакал к нам на мушкетный выстрел.
Эти передовые на скаку стреляли в нас из мушкетов и пистолетов.
Положение было критическое. Мулы все еще загораживали вход, не давая солдатам скрыться за частоколом. Заряжать ружья было некогда, и через несколько секунд все отставшие солдаты должны были попасть на пики гверильясов.
Я схватил слугу майора за руку, стащил его с коня и, вскочив в седло, бросился к нашему тылу, навстречу гверильясам. Вокруг моего коня сплотилось пять-шесть храбрейших наших солдат, в том числе Линкольн, Чэйн и француз Рауль. Они решились первыми принять на свои короткие штыки кавалерийскую атаку. Ружья у всех нас были не заряжены.
В этот момент я увидел одного из наших солдат, храброго, но неповоротливого немца, отставшего от товарищей шагов на двадцать. Напрасно силился он догнать своих. Двое гверильясов кинулись на него, наклонив пики. Я поскакал к нему на выручку, но пика мексиканца уже ударила его в голову и расколола ее, как орех. Наконечник и кровавый флажок прошли череп насквозь и высунулись с другой стороны. Пика подняла тело солдата на воздух.
Гверильяс не удержал в руках пику и выронил ее; не успел он схватить другую, как шпага Гвадалупе Виктории пронзила ему сердце.
Его товарищ с яростным криком бросился на меня. Я еще не успел вытащить оружие из тела убитого врага и был беззащитен. Конец копья отстоял всего на три фута от моей груди, когда позади меня раздался выстрел. Руки всадника дрогнули, его длинное копье завертелось в воздухе, и сам он свалился на седло.
— Отлично, Джек! Молодец мальчишка! Кто научил тебя этой штуке? Хуррей, Хуп! — и Линкольн, заглушая шум битвы, прокричал индейский боевой клич.
В этот момент ко мне галопом подскакал новый гверильяс на великолепном черном мустанге. В отличие от своих товарищей, этот человек был вооружен не пикой, а саблей, которой он, очевидно, владел очень ловко. Во весь опор несся он на меня, и злобная улыбка обнажала его белые зубы.
— А, капитан! — закричал он по-французски. — Вы все еще живы? Я думал, что покончил с вами еще на Лобосе. Ну, что ж, к счастью, еще не поздно!..
И я узнал дезертира Дюброска.
— Негодяй! — закричал я. Бешенство душило меня, и другого слова я бы не мог произнести.
Мы сшиблись на всем скаку, но конь мой, не приученный к боям, не выстоял, и мне удалось лишь отбить саблю врага, который проскакал мимо меня. Тогда мы повернули коней и, пылая яростью, снова помчались друг на друга, но мой конь опять испугался сверкающей сабли Дюброска и взял в сторону. Прежде чем я успел повернуть его, он унес меня к самому частоколу, а когда я наконец повернулся и увидел Дюброска, — нас уже разделяло несколько мулов…
Эти мулы убежали от ворот кораля и выскочили в открытое поле. Мы пробирались друг к другу, горя местью, но пули моих солдат уже засвистели из-за частокола, и Дюброск с угрожающим жестом повернул коня и поскакал за своими товарищами. Скрежеща зубами от ярости и сознания неудачи, они выехали из-под обстрела и сгруппировались на лугу.
Глава 19
В КОРАЛЕ
Вся стычка не заняла и двух минут. Таковы обычно и бывают атаки мексиканской кавалерии: налет, дикий крик, с полдюжины пустых седел — и поспешное отступление.
Как только мы заняли надежную позицию за частоколом и пули наших вновь заряженных ружей засвистали вокруг всадников, они сейчас же отступили. Один Дюброск с обычной своей дерзкой смелостью галопировал почти у самого частокола и, только убедившись, что он совершенно один и зря подставляется под выстрелы, повернул наконец вслед за мексиканцами. Теперь вся кавалькада уже выехала из полосы обстрела. Мексиканцы собирались кучками вокруг раненых товарищей или с яростными криками носились взад и вперед по лугу.
Я въехал в кораль, где уже укрылись за частоколом почти все наши солдаты. Маленький Джек, сидя на своем Твидгете, заряжал карабин и притворялся, что не обращает никакого внимания на сыпавшиеся со всех сторон похвалы. Однако, когда ему сделал комплимент сам Линкольн, мальчик не выдержал, и на лице его появилась гордая улыбка.
— Спасибо, Джек! — сказал я, проезжая мимо него. — Я вижу, ты не напрасно носишь карабин…
Джек молчал и, казалось, погрузился в изучение ружейного затвора.
Линкольн получил в схватке царапину копьем и теперь отчаянно ругался, обещаясь отомстить за нее. Он мог, пожалуй, считать это уже сделанным, так как успел проткнуть своему противнику руку штыком, и мексиканец уехал с поля битвы одноруким. Но Линкольн не удовлетворился: войдя в кораль, он злобно оглянулся назад и, грозя кулаком, проговорил:
— У, вонючка поганая! Я тебя не забыл. Погоди, мы еще рассчитаемся!..
Несколько человек, в том числе и пруссак Гравениц, тоже были ранены. Убит был лишь один немец. Он все еще лежал на лугу, и длинное древко копья торчало из его черепа… Не далее, как в десяти шагах покоился в своем пестром и живописном костюме его убийца.
Один из гверильясов, падая на землю, запутался ногой в лассо, висевшем у него на седле, и теперь обезумевший мустанг волочил его по прерии. При каждом повороте коня мягкое, словно бескостное тело далеко отскакивало в сторону и валялось там неподвижно, пока лассо, вновь натянувшись, не швыряло его на другое место…
Несколько гверильясов бросились в погоню за конем, а другая группка, пришпоривая своих мустангов, неслась за наш кораль. Взглянув в том направлении, мы увидели высокого рыжего жеребца под пустым седлом, который во весь опор мчался по лугу. С первого же взгляда мы узнали в этом жеребце Геркулеса.
— Ах, черт возьми! Майор…
— Сидит где-нибудь, — отвечал Клейли. — Уж, верно, целехонек. Но куда же, к черту, он запропастился? Конечно, он не выведен из строя и не лежит на лугу, а то мы бы разглядели его тело и за десять километров… Ха-ха-ха! Вон, взгляните!..
И Клейли, держась за бока от хохота, взглядом показал на угол частокола.
Как ни ужасно было все, что мы только что пережили, мне еле удалось удержаться от смеха. Зацепившись поясом за высокий кол, майор висел в воздухе, отчаянно барахтаясь руками и ногами. Туго натянутый его тяжестью пояс впился в тело, разделив его на два больших шара. Лицо майора налилось кровью и было искажено страхом. Он громко звал на помощь, и солдаты уже бежали к нему, но он выворачивал шею, пытаясь заглянуть за частокол, ибо больше всего на свете боялся тех, кто находился «по ту сторону баррикады».
Дело в том, что майор при первом же приближении неприятеля поскакал за кораль и, не находя там входа, встал Геркулесу на спину, чтобы осторожно перелезть через частокол, но, увидев нескольких гверильясов, он бросил поводья и попытался перескочить в кораль.
Зацепившись поясом за острый кол, он беспомощно повис на заборе, причем у него осталось впечатление, что в тылу у него мексиканцы. Но вот его наконец сняли с кола, и он пошел по коралю, изрыгая потоки самой отборной ругани…
Мы все напряженно следили за Геркулесом. Всадники были всего метрах в пятидесяти от него и продолжали наседать, раскручивая над собою лассо. По всей видимости, майору не придется красоваться на своем коне.
Подскакав к опушке. Геркулес вдруг остановился, задрал голову кверху и громко заржал. Преследователи бросили лассо. Два из них, скользнув по голове коня, охватили его за шею.
Тогда могучий конь, как бы понимая необходимость отчаянного усилия, опустил голову к самой земле и помчался во весь опор.
Арканы натянулись струной и лопнули, как нитки; мустанги чуть не упали, а Геркулес несся по прерии, далеко оставив за собой преследователей, и длинные обрывки лассо неслись за ним по воздуху, как вымпела…
Теперь он скакал прямо на кораль. Несколько солдат подбежало к частоколу, чтобы схватить его за узду, когда он прибежит, но Геркулес, завидев в ограде старого друга — коня «дока», громко заржал и, напрягши в отчаянном усилии все свои мускулы, перескочил к нам через забор.
Крик торжества пронесся по коралю.
— Двухмесячное жалованье за вашего коня, майор! — воскликнул Клейли.
— Вот конь — так конь: на вес золота стоит заплатить! — кричал Чэйн.
Со всех сторон на Геркулеса сыпались похвалы.
А его преследователи, не смея приблизиться к частоколу, с сердитыми жестами отъехали обратно к своим товарищам.
Глава 20
ЗА ПОМОЩЬЮ
Я размышлял о нашем положении, которое казалось чрезвычайно серьезным. Мы сидели за частоколом в открытом поле, в десяти милях от лагеря, и не имели ни малейшей возможности пробиться. Я знал, что противники наши не осмелятся подскакать на выстрел, так что обороняться было не трудно. Но как же выбраться из кораля? Как миновать открытое место? Пятьдесят пехотинцев против двухсот вооруженных пиками кавалеристов — и ни одного кустика, за которым солдат мог бы хоть как-нибудь прикрыться от длинного копья и подкованных железных копыт!..
От ближайшего холма нас отделяли километра два, а от него до опушки леса
— столько же. Если бы нам удалось отчаянным напором пробиться на это возвышение, то дойти до леса мы, безусловно, могли, на холме же неприятель имел полную возможность окружить нас со всех сторон и окончательно отрезать. Сейчас гверильясы стояли примерно в четырехстах метрах от кораля. Они были, видимо, уверены, что поймали нас в западню; многие из них спешились и стреножили своих мустангов арканами. Было ясно, что они решились взять нас измором.
В довершение несчастья оказалось, что в корале не было ни капли воды. День стоял жаркий, и после боя всем так захотелось пить, что манерки наши немедленно опустели.
Взвешивая в уме всю опасность положения, я увидел Линкольна, который приблизился ко мне.
— В чем дело, сержант? — спросил я.
— Разрешите, капитан, взять двух-трех ребят и сходить за немцем. Мы доберемся до него раньше этих разбойников.
— Конечно. Но ведь это очень опасно. Труп лежит довольно далеко от частокола.
— Ну, не думаю, чтобы эти молодцы сунулись, — они и так довольно получили. Мы побежим быстро, а ребята могут прикрыть нас огнем.
— Что же, отлично. Ступайте!
Линкольн вернулся к роте и, выбрав четырех самых энергичных и смелых солдат, пошел вместе с ними к выходу.
Я приказал всем прочим собраться у частокола и в случае нападения прикрыть своих огнем. Однако нападения не последовало, Когда Линкольн с товарищами побежал к трупу, мексиканцы зашевелились, но, видя, что помешать смельчакам они все равно не могут, благоразумно предпочли не соваться под наши пули.
Тело немца было принесено в кораль и погребено со всеми воинскими почестями, хотя все мы понимали, что не пройдет и нескольких часов, как его выроют из могилы и бросят на растерзание коршунам. Но с кем из нас не могло через час-другой случиться то же самое?..
— Джентльмены! — сказал я, собрав офицеров. — Кто из вас может предложить какой-нибудь способ, чтобы вырваться отсюда?
— Наш единственный шанс — принять их здесь, — отвечал Клейли. — Четверо на одного…
— Других возможностей нет, капитан! — поддержал его Окс и покачал головой.
— Но они вовсе не собираются драться с нами. Они хотят взять нас измором. Поглядите, они треножат коней. Ведь если мы попробуем вылезть из-за частокола, они с легкостью перехватят нас.
— А не могли бы мы построиться в каре и таким образом перейти поле?
— Что за каре из пятидесяти человек? Да еще против двухсот кавалеристов с пиками и лассо! Они сметут нас первым же натиском. Единственная наша надежда
— продержаться, пока в лагере не обеспокоятся и не пошлют отряд на выручку.
— А почему бы нам не послать за этим отрядом? — спросил майор. У него никто, в сущности, не спрашивал совета, но опасность удвоила его умственные способности. — Почему бы не послать за двумя-тремя полками?
— Кого же вы пошлете, майор? — возразил Клейли, которому это предложение показалось просто смешным. — Разве у вас в кармане спрятан почтовый голубь?
— Как кого?! Да мой Геркулес зайца обгоняет на бегу! Посадите на него кого-нибудь из ребят, и я вам ручаюсь, что он через час будет в лагере.
— Вы совершенно правы, майор! — сказал я. — Благодарю вас за совет. Только бы он добрался до лесу!.. Ужасно противно, но это наш единственный шанс!
Последнюю фразу я пробормотал про себя.
— Что ж здесь противного, капитан? — осведомился майор, который подслушал мою воркотню.
— Вы все равно не поймете моих соображений, майор…
Я думал о том, как стыдно попасться в ловушку, да еще при первой же самостоятельной вылазке из лагеря.
— Кто согласен отвезти письмо в лагерь? — крикнул я солдатам.
Человек двадцать сразу выскочило вперед.
— А кто из вас хорошо запомнил дорогу? Ведь придется скакать галопом.
Француз Рауль выступил еще на один шаг и взял под козырек.
— Я, капитан, знаю дорогу короче — на Мата-Кордера.
— Ах, так! Вы знаете местность? Ну, вы и поедете.
Я вспомнил, что этот человек поступил в наш отряд на Сакрифисиосе, сейчас же после десанта. Он жил в этих местах еще до нашей высадки и отлично знал их.
— А верхом вы хорошо ездите? — спросил я.
— Я пять лет служил в кавалерии…
— Отлично! Но надеетесь ли вы проскочить мимо них? Ведь они стоят почти на вашем пути.
— Да ведь я, капитан, поеду не в ту сторону, откуда мы вышли на луг. Мне надо будет взять влево от этого холмика…
— Это, конечно, дает вам лишний козырь. Но смотрите, не останавливайтесь ни на секунду, а то они непременно перехватят вас!..
— Ну, с этим рыжим жеребцом я их не боюсь, капитан!
— Ружье оставьте здесь. Возьмите мои пистолеты. Ах, нет, в кобурах на седле уже есть пистолеты. Посмотрите, заряжены ли они. Шпоры… так! Эту тяжелую штуку снимите с седла. Плащ тоже бросьте: никакого лишнего груза вам не надо. Когда подъедете к лагерю, оставьте коня в чапаррале. А вот это передайте полковнику К.
И я написал на клочке бумаги:
«Дорогой полковник! Двухсот человек будет довольно. Нельзя ли собрать их незаметно? Если можно, то все будет хорошо, а если кто-нибудь узнает…
Ваш Г. Г.»
Передавая бумажку Раулю, я прошептал ему на ухо:
— Полковнику К. в собственные руки. Частным образом, Рауль. Понимаете? Частным образом…
Полковник К. был мой друг, и я знал, что он не откажется послать отряд на выручку, не разглашая подробностей.
— Понимаю, капитан!
— Ну, так живо! Садитесь и гоните.
Француз ловко вскочил в седло и, пришпорив коня, вылетел стрелою из ворот.
Первые метров триста он летел прямо на гверильясов, которые стояли, опершись на седла, или валялись на травке. Видя, что к ним приближается одинокий всадник, лишь немногие из них сдвинулись с места. Они думали, что это наш парламентер едет договариваться об условиях сдачи.
И вдруг француз резко свернул с пути и помчался по кривой, огибая врага.
Только теперь мексиканцы поняли хитрость и с криком вскочили в седла. Некоторые стали стрелять из мушкетов, другие, раскручивая лассо, бросились в погоню. А в это время Рауль уже повернул Геркулеса к высокой роще, где начиналась тропинка. Все дело было в том, чтобы добраться до леса: среди деревьев лассо преследователей были безопасны.
Мы, затаив дыхание, следили за скачкой. От ее исхода зависела наша жизнь. Нас отделяла от Рауля целая толпа гверильясов, так что мы видели лишь его зеленую куртку да рыжий круп Геркулеса. Потом мы заметили, как над головой Рауля завертелись лассо, услышали выстрелы… Один раз нам даже показалось, что товарищ наш вылетел из седла. Но в следующую секунду мы вновь увидели его живым и здоровым — он огибал рощицу, стоявшую среди луга. Потом он опять исчез из глаз… Наступила минута ужасного, напряженного ожидания: холм заслонял от нас и преследователей и преследуемого. Все взгляды устремлялись к той точке, где исчез наш всадник. Но вот Линкольн, взобравшийся на крышу ранчо, закричал:
— Он цел, капитан! Мексиканцы возвращаются без него!
Линкольн был прав. Не прошло и минуты, как гверильясы с самым разочарованным видом медленно вернулись из-за холма.
Глава 21
ДАЛЬНОБОЙНОЕ РУЖЬЕ
Бегство Рауля и Геркулеса произвело на неприятеля почти магическое действие. Его неподвижность исчезла бесследно. Лагерь гверильясов зашевелился и зажужжал, как осиное гнездо. Всадники скакали по равнине во все стороны и завывали, как индейцы на тропе войны.
Я думал, что они окружат кораль, но они этого не сделали. Они знали, что убежать мы не можем, но теперь поняли и то, что продержать нас в осаде три дня и заморить голодом и жаждой не удастся. Вместо трех дней у неприятеля было теперь не больше трех часов. Чтобы доскакать до лагеря, Раулю требовалось не больше часа, а еще через два часа нам на выручку подоспеет пехотный или кавалерийский отряд.
В ту сторону, куда скрылся Рауль, поскакал патруль разведчиков, а все прочие бросились в лес по другую сторону луга. Все это было проделано с огромной быстротой…
Мы с Клейли взлезли на крышу ранчо, чтобы оттуда проследить движения врага и, если возможно, проникнуть в его намерения. Несколько времени мы стояли молча и вглядывались в маневры гверильясов. Возбужденные бегством Рауля, они скакали взад и вперед по лугу.
— Великолепно! — воскликнул лейтенант, восхищенный прекрасной посадкой и кавалерийскими достоинствами врагов. — Все эти молодцы, капитан, так и просятся…
— А? Что там такое?.. — вдруг закричал он, поворачиваясь и показывая на лес.
Я оглянулся. В том месте, где из-за деревьев выходила дорога на Меделлин, стояло облако пыли, Казалось, что его поднимал небольшой отряд. Солнце как раз садилось, а облачко пыли было от нас на западе, и сквозь его золотистый туман я смутно различал неизвестный блестящий предмет. Гверильясы натянули поводья и, оставив коней, жадно глядели в ту же сторону, что и мы.
Ветерок отнес пыль в сторону, и я заметил десять — двенадцать силуэтов вокруг какого-то крупного предмета, сверкавшего под солнечными лучами, как золото. В то же время гверильясы разразились угрожающими криками.
— Cenobio! Cenobio! Los canones! (Сенобио, Сенобио! Пушки!) — расслышал я.
Клейли вопросительно взглянул на меня.
— Совершенно верно, Клейли! Честное слово, придется понюхать и это…
— Что они там кричат?
— Глядите сами… Ну?
— Медное орудие, черт меня побери!.. Шестифунтовая каронада!
— Мы имеем дело с гверильей, Сенобио, а это настоящая маленькая армия. Теперь нам не поможет ни частокол, ни холм.
— Что же нам делать? — спросил лейтенант.
— Умереть с оружием в руках. Без боя мы не сдадимся, чем скорее наступит развязка, тем лучше.
Я соскочил с крыши и велел трубачу играть сбор.
Звонкие ноты рожка прорезали воздух, и солдаты собрались передо мной.
— Храбрые товарищи! — закричал я. — У врагов есть крупное преимущество. Они привезли пушку, и боюсь, что этот частокол окажется довольно слабым прикрытием. Если нас будут выбивать отсюда, давайте отстаивать наш кораль до последнего дыхания. А если нас разобьют то помните: каждый должен драться, пока его не убьют!..
Решительное «ура» было ответом на эту краткую речь.
— Но сначала мы еще посмотрим, каково они стреляют, — продолжал я. — Пушка у них легкая, и всех нас сразу не перебьет. При выстрелах сейчас же ложитесь! Кто лежит на земле ничком, того труднее ранить. Может быть, мы и продержимся, пока наши придут на выручку. Во всяком случае, попытаться надо…
Новое «ура» прокатилось по фронту.
— Это ужасно, капитан! — прошептал майор.
— Что тут ужасного? — спросил я. Этот трус внушал мне величайшее презрение.
— Ах, это… эта история… это такая…
— Майор! Вспомните, что вы солдат!..
— Помню! Дурак я, что не подал в отставку перед тем, как началась эта проклятая война! Ведь собирался…
— Ну, не бойтесь, — сказал я, невольно улыбаясь откровенности майора. — Через месяц вы будете пить вино в Хьюлетте. Вот, спрячьтесь за это бревно. Это единственное безопасное место во всем корале.
— Вы думаете, капитан, оно действительно выдержит снаряд?
— Хоть из тяжелого орудия. Ну, ребята, держитесь! Готовьтесь к бою!
Мексиканцы подвезли свою шестифунтовую пушку на пятьсот ярдов от частокола, и группа артиллеристов неторопливо устанавливала ее на лафет.
В это время я снова услышал голос майора.
— Боже мой, капитан! Зачем вы подпускаете их так близко?
— А как мне их не пустить? — удивился я.
— Да мое ружье бьет гораздо дальше. Я думаю, их можно бы отогнать.
— Вы бредите, майор, — отвечал я. — Пуля не долетит до них на двести метров. Вот если бы они действительно подошли на выстрел, мы бы им показали!..
— Да уверяю вас, капитан, мое ружье бьет вдвое дальше!
Я взглянул на майора. Мне казалось, что он совсем сошел с ума.
— Говорю вам, у меня игольчатое ружье, оно бьет на восемьдесят шагов.
— Быть не может! — воскликнул я, срываясь с места. Теперь я вспомнил о странной штуке, которую велел Раулю снять с седла Геркулеса. — Да почему же вы не сказали мне раньше?!
И, оглянувшись кругом, я закричал солдатам:
— Где ружье майора Блоссома?
— Вот она, майорская флинта! — отозвался сержант Линкольн. — Но такой винтовки я никогда не видывал. Она скорее похожа на пушку-недомерок!
В самом деле, в руках у Линкольна было прусское игольчатое ружье, новое по тому времени изобретение, о котором я все же кое-что уже слыхал.
— Оно заряжено, майор? — спросил я, беря у Линкольна ружье.
— Заряжено.
— Можете вы попасть вон в того молодца? — спросил я, возвращая оружие охотнику.
— Если эта штука бьет так далеко, то могу.
— Оно бьет без промаха на тысячу метров! — завопил майор.
— А вы уверены в этом, майор? — спросил я.
— Безусловно, капитан! Я купил это ружье у самого изобретателя. Мы пробовали его в Вашингтоне. Оно заряжено конической пулей… Она доску пробивает в тысяче метрах.
— Отлично! Ну, сержант, цельтесь повернее: вы можете спасти нас всех.
Линкольн, расставив ноги для упора, выбрал в заборе кол, достигавший ему как раз по плечо. Затем он тщательно обтер приклад и, поместив тяжелое дуло на кол, медленно приложился.
— Вон того, со снарядом, сержант! — сказал я.
В это время один из артиллеристов нагибался к дулу орудия, держа в руках ядро. Линкольн спустил курок. Раздался выстрел. Артиллерист вскинул руками и полетел вверх тормашками…
Гром выстрела разнесся по всему лугу. Крик изумления вырвался у гверильясов, и в ту же секунду наш кораль загремел радостным «ура».
— Ловко! — кричали солдаты.
Линкольн в одну минуту обтер и снова зарядил ружье.
— Теперь, сержант, вон того — с пальником!
Пока охотник заряжал ружье, артиллеристы несколько оправились от изумления и вкатили в пушку заряд картечи.
У казенной части орудия стоял высокий артиллерист с пальником и трубкой. Он только ждал команды: «Огонь!»
Но этой команды он не дождался… Линкольн спустил курок. Руки артиллериста резко дернулись, и дымящийся фитиль, выскользнув из его пальцев, отлетел в сторону.
Сам артиллерист повернулся кругом и, пройдя два-три шага, свалился на руки товарищей.
— А теперь, капитан, разрешите снять вон ту вонючку!
— Какую вонючку, сержант?
— А вон того поганца на вороном коньке…
Я взглянул и узнал коня и фигуру Дюброска.
— Конечно! — сказал я, и тут же мне стало как-то неловко на сердце.
Но не успел еще Линкольн зарядить ружье, как один из мексиканцев, по-видимому, начальник, схватил лежавший на земле фитиль и, подбежав к орудию, приложил его к затравке.
— Ложись! — закричал я.
Ядро с треском пробило тонкий частокол и, просвистел мимо нас, ударило в бок одного мула. Несчастное животное с вырванным бедром отчаянно задергалось и упало…
Другие мулы забегали по загородке, а потом сбились в один угол и остановились там, дрожа и припадая на задние ноги. Гверильясы разразились восторженным криком.
Дюброск, сидя на своем великолепном мустанге, глядел прямо на кораль, стараясь угадать результат выстрела.
— Эх, если б я мог достать его из своего ружья! — пробормотал Линкольн, наводя непривычное ружье майора.
Раздался выстрел; вороной конь прянул назад, встал на дыбы и свалился на спину, придавив седока…
— Промазал по вонючке! — заскрипел зубами Линкольн, увидя, что всадник выкарабкивается из-под раненого коня.
Поднявшись на ноги, Дюброск выскочил вперед и вызывающе погрозил нам кулаком…
Гверильясы поскакали назад; артиллеристы поставили пушку на передки, отвезли еще метров на триста и там принялись снова устанавливать на лафет.
Второй снаряд пробил частокол и, ударив в солдата, уложил его на месте.
— Бейте только по артиллеристам, сержант! Прочих нам бояться нечего.
Линкольн снова спустил курок. Пуля ударилась в землю перед самым жерлом орудия, но рикошетом попала в одного из канониров и, очевидно, тяжело ранила его, так как товарищи унесли его на руках.
Мексиканцы, перепуганные невиданной дальнобойностью нашей стрельбы, отвезли пушку еще метров на двести.
Третье ядро рикошетом попало в толстое бревно, за которым прятался майор, но только перепугало его своим ударом в дерево. Линкольн выстрелил еще раз.
На этот раз он не задел никого, и радостный крик гверильясов показал нам, что они почувствовали себя в безопасности.
И еще раз выстрелило игольчатое ружье, но опять безрезультатно.
— Не доносит, капитан! — сказал Линкольн, неохотно опуская приклад на землю.
— Попробуйте еще разок! Если опять не удастся, то побережем патроны к приступу. Цельтесь выше!
Но и третий выстрел пропал даром.
— Jankees bobos! Mal adelante! (Дураки янки! Немного подальше!) — донесся до нас голос какого-то мексиканца.
Новый снаряд вышиб ружье из рук одного солдата и разнес вдребезги сухой кол.
— Дайте-ка мне ружье, сержант! — сказал я. — Тут целый километр, но эта дрянь лупит нас, словно в десяти шагах. Я хочу попробовать.
И я выстрелил. Но пуля опять не долетела до неприятеля, по крайней мере, шагов на пятьдесят…
— Да, мы слишком много ждали. Это вам не двадцатичетырехфунтовое орудие… Майор, завидую двум вашим вещам — ружью и коню.
— Это Геркулесу?
— Конечно.
— Боже мой, капитан! С ружьем можете делать все, что вам угодно, а если только нам удастся улизнуть от этих чертей, то Геркулес будет…
В этот момент гверильясы опять разразились криками.
— La metralla! La metralla! (Гаубица!) — расслышал я.
Я бросился на крышу и оглядел равнину. Так и есть!.. Несколько мулов галопом вывозили из леса гаубицу. Орудие было достаточно тяжелое, чтобы разнести наш частокол в щепы.
Я с отчаянием оглянулся на товарищей. На секунду мой взгляд задержался на стаде мулов, сбившихся в углу кораля. Внезапная мысль поразила меня. Почему бы нам не сесть на них и не ускакать? Мулов нам вполне хватило бы, а уздечек и веревок в ранчо было сколько угодно. Я сейчас же соскочил с крыши и стал раздавать приказания.
— Скорее скорее! Да не шуметь! — кричал я. Солдаты поспешно уздали мулов.
Через пять минут все солдаты уже держали в поводу по мулу. Ружья они перекинули на ремнях через плечо.
Майор в полной боевой готовности стоял при коне.
— Ну, храбрые товарищи, — закричал я во весь голос, — теперь нам придется превратиться в кавалеристов на мексиканский манер. — Солдаты засмеялись. — Надо только попасть в лес, а дальше мы отступать не будем. По команде: «Садись!» — вскакивайте на мулов и скачите за лейтенантом Клейли! Я поеду сзади, не останавливайтесь для стрельбы! Гоните вовсю! Если кто упадет, пусть его подхватит сосед. Га! Ранило кого-нибудь?
В этот момент просвистело ядро.
— Пустяки, царапина, — ответили мне.
— Ну, все готовы? Лейтенант Клейли! Видите вон ту высокую рощу? Скачите прямо на нее. Открывай ворота! Садись!
В ту же минуту солдаты вскочили на мулов, и Клейли, сидевший на муле-вожаке, вылетел из кораля, а за ним кинулось и все стадо. Многие мулы брыкались и лягались, но все как один бежали за бубенчиком, звеневшим на шее у вожака.
Когда наша странная кавалькада выскочила из ворот, гверильясы подняли дикий крик. Было ясно, что они и не подозревали возможности такого маневра. С воем и гиканьем кинулись они к седлам и помчались в погоню. Гаубицу сейчас же повернули и пустили нам вслед ядро, но артиллерист второпях взял слишком высоко и снаряд просвистал над нашими головами, не причинив никому вреда.
Мустанги гверильясов были не чета нашим мулам, и расстояние между нами быстро сокращалось.
Я с десятью — двенадцатью храбрейшими и лучшими солдатами прикрывал тыл. Мы собирались встретить погоню залпом, а если кто из передовых свалится, то подобрать его. В самом деле, ни одно животное не может биться и поддавать крупом так отчаянно, как мексиканский мул. Мы еще не подъехали к роще и на пятьсот ярдов, как один из наших ирландцев свалился на траву.
Наш арьергард задержался, чтоб подобрать его. Чэйн посадил упавшего перед собою. Однако эта задержка едва не оказалась для нас роковой. Преследователи были в каких-нибудь ста метрах от нас и на скаку стреляли из мушкетов и пистолетов, хотя, впрочем, ни в кого не попадали. Многие из наших солдат поворачивались в седлах и оглядывались назад. Другие хватались за ружья и кое-как отстреливались, не целясь. Я видел, как два или три гверильяса вылетели из седел. Но их товарищи с криком наседали ближе и ближе. Длинные лассо уже начинали свистеть вокруг нас. Скользкая петля охватила мои плечи. Я быстро вытянул руки в стороны, чтобы она соскочила, но лассо резким рывком стянуло мне шею. Я вцепился обеими руками в жесткий ремень и изо всей силы стал растягивать его. Напрасно!..
Почувствовав, что я выпустил поводья, мой мул присел с коварным намерением сбросить меня со спины. Попытка его увенчалась полным успехом: через мгновение я взлетел на воздух и со всего маху треснулся оземь…
Я чувствовал, что меня волочат по земле. Напрасно цеплялся я за траву: она вырывалась с корнем и оставалась у меня в руках. Кругом шла отчаянная свалка. Раздавались дикие крики и ружейные выстрелы. Я задыхался.
Что-то светлое блеснуло у меня перед глазами. Крепкая, грубая рука схватила меня, подняла на воздух и жестоко встряхнула. Казалось, я попал в руки к великану….
Что-то больно оцарапало мне щеку. Я услышал шорох деревьев. Сучья ломались с треском, листья хлестали меня. Потом сверкнул огонь, еще раз сверкнул огонь, затрещали ружья, и при вспышках выстрелов меня снова с силой швырнули на землю.
Глава 22
ВЫРУЧКА
— Простите за грубое обращение, капитан! Надо было торопиться.
То был голос Линкольна.
— Ага, мы в лесу! Значит, все в порядке? — воскликнул я.
— Двое-трое раненых, но все легко. Чэйну проткнули бедро, но он ссадил этого молодца наповал. Дайте-ка я сниму у вас с шеи эту мерзкую штуку. Она вас чуть не задушила, капитан…
И Боб принялся распутывать петлю лассо: грубый ремень сыромятной кожи, длиною метра в два, все еще стягивал мне шею.
— А кто перерезал лассо? — спросил я.
— Да я же и перерезал этой самой вашей зубочисткой. Видите ли, капитан, вешать вас еще рано.
Благодаря охотника за свое спасение, я не мог не улыбнуться.
— А где же гверильясы? — спросил я, оглядываясь: в голове у меня было еще не совсем ясно.
— А вон они, держатся подальше, чтобы их нельзя было достать из майорского ружья. Вы только послушайте, как галдят!
Мексиканцы скакали по лугу взад и вперед, и оружие их сверкало под луной.
— За деревья, друзья! — закричал я, видя, что неприятель опять поставил гаубицу на лафет и собирается стрелять.
Через секунду железный дождь ударил по ветвям. Но солдаты уже успели попрятаться за деревья, и никто не пострадал.
Картечь убила лишь нескольких мулов.
Новый снаряд картечи обдал рощу, но опять безрезультатно.
Я уже собирался отступить глубже в лес и пошел было вперед на разведку, когда взгляд мой задержался на чем-то до крайности странном: то было тело очень крупного человека, лежавшее ничком. Голова его пряталась в корнях толстого дерева, руки напряженно вытягивались по швам, ноги тоже были вытянуты во всю длину. Впечатление было такое, словно человек стоял на вытяжку да так и свалился носом в землю. В этом теле я сразу узнал майора и принял его за убитого.
— Ах, черт возьми! Поглядите, Клейли! — закричал я. — Беднягу Блоссома убили.
— Повесьте меня, если меня убили! — пробурчал Блоссом, словно ящерица, поднимая одну голову и не двигаясь ни одним членом. Клейли прыснул и расхохотался. Майор снова уткнулся лицом в землю: он знал, что каждую минуту можно было ожидать нового выстрела из гаубицы.
— Майор! — закричал Клейли. — У вас правое плечо выдается по меньшей мере на десять сантиметров.
— Знаю, — дрожащим голосом отвечал майор. — Провались это дерево! За ним и белку как следует не спрячешь! — И с этими словами он еще крепче прижался к земле, еще отчаяннее притиснул руки к бокам. Вся его поза была так забавна, что Клейли так и покатился. Но в этот момент мы снова услыхали вопль гверильясов.
— Что там еще? — закричал я, выбегая вперед и оглядывая луг.
— Эти дикие кошки собираются удирать, капитан! — сказал Линкольн, подходя. — Вон они уже поворачивают!
— Совершенно верно. Но в чем дело?
Непонятное возбуждение охватило мексиканцев. Патрули скакали к выступу леса, находившемуся примерно в полумиле, артиллеристы поставили гаубицу на передки и уже запрягали в нее мулов. И вдруг рожок заиграл отбой, и все гверильясы, пришпоривая коней, поскакали к дороге на Меделлин…
Громкий боевой клич донесся до меня с противоположной стороны луга, и, взглянув в том направлении, я увидел длинный фронт всадников, галопом выезжавших из леса. Клинки их сабель сверкали, как лента светляков, и я узнал тяжелый топот американской кавалерии. Радостное «ура» моих солдат привлекло внимание всадников, и предводитель драгун, видя, что гверильясов все равно не догонишь, повернул всю колонну направо и галопом поскакал к нам.
— Неужели это полковник Роули? — воскликнул я, узнав драгунского офицера.
— Но как же, черт меня побери, — кричал он, — как вы выбрались оттуда? Нам говорили, что вы попались в ловушку! Все ли вы живы?
— У нас двое убитых, — отвечал я.
— Я думал, что вас чуть ли не всех придется хоронить. А, вот и Клейли! С нами ваш приятель Твинг. Он там в тылу.
— А, Клейли, старый друг! — закричал, подъезжая, Твинг. — Ну что, все кости целы? Выпейте-ка глоточек, это вам полезно! Только не выпивайте все, оставьте глотнуть и Галлеру. Ну, как вам нравится?
— Великолепно, клянусь честью! — отвечал Клейли, отрываясь от майорской фляжки.
— А ну, капитан, попробуйте и вы!
— Благодарю вас, — отвечал я, жадно приникая к горлышку.
— А где же старый Блос? Убит? Ранен? Пропал без вести?
— Нет, майор, должно быть, где-нибудь близко и совершенно невредим.
И я послал за майором, который вскоре явился, пыхтя и ругаясь, как целая шайка разбойников.
— Здорово, Блос! — кричал Твинг, тряся ему руку.
— Ах, черт! Как я рад видеть вас, Твинг! — отвечал Блоссом, обеими руками охватывая крохотного майора. — Но куда же, к черту, запропастилась ваша фляжка?
Оказалось, что он уже успел обшарить приятеля.
— Куджо! Давай сюда фляжку! — закричал Твинг.
— Честное слово, Твинг, я чуть не задохнулся. Мы дрались целый день. Чертовская драка! Я гнался на своем Геркулесе за эскадроном этих прохвостов и чуть не разлетелся прямо в их осиное гнездо. Мы перебили кучу народа… Но Галлер расскажет вам все. Хороший малый этот Галлер, только очень уж он скор! Это просто огонь… Здорово, Геркулес! Очень рад видеть тебя, приятель! Попал-таки ты в переделку!
— Вспомните ваше обещание, майор! — сказал я.
— Я сделаю лучше, капитан! — отвечал майор, трепля Геркулеса по шее. — Я дам вам выбрать между Геркулесом и моим чудесным вороным. Право, Герк, мне было бы жаль расставаться с тобой, но я знаю, что вороной понравится капитану больше. Это самый красивый конь во всей армии. Я купил его у бедняги Риджли, которого убили при Монтере.
— Отлично, майор! — сказал я. — Я беру вороного. Мистер Клейли! Велите роте садиться на мулов и примите ее под команду. Вы вернетесь с полковником Роули в лагерь, а я заеду к старику испанцу!..
Последнюю фразу я произнес шепотом.
— Мы вернемся не раньше, как завтра в полдень, — продолжал я. — Смотрите же, никому не говорите, куда я поехал. Завтра в полдень я явлюсь на место.
— Но, капитан… — сказал Клейли.
— Что, Клейли?
— Вы свезете мой привет прелестной…
— Кому же? Говорите скорей!
— Конечно, Марии Светлой!
— О, с удовольствием!
— И передайте его самым лучшим вашим испанским языком.
— Можете быть покойны, — отвечал я, улыбаясь откровенности лейтенанта.
Уже собираясь уезжать, я вдруг подумал, что никто не мешает отправить мне роту под командой Окса, а Клейли взять с собой.
— Между прочим, Клейли, — сказал я, отведя молодого офицера в сторону, — я не знаю, почему бы вам не передать свой привет лично? Окс отлично может отвести роту обратно. Я возьму у Роули с полдюжины драгун.
— С величайшим удовольствием! — отвечал Клейли.
— Ну, так доставайте коня и едем.
Взяв с собой Линкольна, Рауля и шесть драгун, я попрощался с друзьями.
Они отправились в лагерь по дороге на Мата-Кордера, а я со своим маленьким отрядом двинулся по краю луга, а затем поднялся на холм, от которого начиналась тропинка к дому дона Косме.
Въехав на вершину, я обернулся и взглянул на поле недавней битвы.
Холодная полная луна освещала луг Ля-Вирхен. Трупов на траве не было.
Гверильясы захватили с собой своих раненых и убитых, а наши мертвецы спали под землей в уединенном корале; но я не мог не вообразить тощих волков, крадущихся к ограде, и койотов, разрывающих когтями свежие могилы.
Глава 23
КОКУЙО
Ночная поездка по пышному тропическому лесу, когда луна заливает светом крупную, блестящую листву, когда ветер затихает и длинные листья безжизненно склоняются долу, когда из темных зарослей, переплетенных лианами, тропинки выводят нас на светлые цветочные лужайки, — такая поездка настолько прекрасна, что мне хотелось бы, чтобы ради нее не надо было ездить в Южную Америку.
Да, романтика наших северных лесов, романтика, осеняющая узловатые сучья дуба, клена и ясеня, вздыхающая ветром в ветвях сикоморы, ползущая по толстым сваленным стволам, гнездящаяся в темной листве, парящая над крутыми обрывами и дремлющая на серых скалах, сверкающая алмазными сталактитами льда или скользящая по белым снегам, — эта романтика навевает далеко не те грезы, которые охватывают путника в тропическом лесу…
Все эти предметы, все эти эмблемы суровой природы скал и снега напоминают о мрачных страстях, заставляют думать о диких и кровавых сценах боя, о сражениях между дикарями, о рукопашных схватках, где противники не уступают в ярости диким лесным зверям. Невольно видишь перед собой ружье, томагавк и нож, в ушах отдаются вопли и страшное гиканье. Невольно грезишь о войне…
Но не такие мысли лезут в голову, когда едешь под благоуханными ветвями южноамериканского леса и, раздвигая шелковистую листву, топчешь тень великолепных пальм.
Яркие кокуйо, жуки-светляки, освещают путь сквозь темные заросли, соловьи приветствуют путника чудесным рокотом, нега разлита по тропическому лесу и навевает тихий сон — сон любви…
Таковы были наши чувства, когда мы с Клейли молча пробирались по лесной тропинке.
Мы вступили в темный лес, где протекала речка, и переехали ее в брод. Рауль двигался впереди, служа нам проводником. После долгого молчания Клейли вдруг обернулся.
— Который час, капитан? — сказал он.
— Десять, начало одиннадцатого, — отвечал я, взглянув при лунном свете на циферблат.
— Боюсь, что наш сеньор уже спит.
— Не думаю. Он, вероятно, беспокоится: ведь он ждал нас час назад.
— Совершенно верно: пока мы не приедем, он не ляжет. Ну, тогда все отлично…
— Почему же тогда все отлично?
— А потому, что тогда ужин от нас не уйдет. Холодный паштет и стаканчик красного — как вам это понравится?
— Я не голоден.
— Ну, а я голоден, как волк. Я просто мечтаю о кладовой сеньора.
— А разве вам не больше хочется видеть…
— Только после ужина. Всему свое время и свое место. Когда у человека желудок пуст, то ни к чему, кроме еды, у него аппетита не бывает. Даю вам слово, Галлер, в настоящий момент мне было бы приятнее видеть старую, толстую повариху Пепе, чем самую очаровательную девушку в Мексике, то есть Марию Светлую.
— Безобразие!..
— То есть, это только до ужина. А затем мои чувства, конечно, переменятся…
— Ах, Клейли, вы не знаете любви!
— Почему же так, капитан?
— У вас любовь не умеряет аппетита. На любимую вы глядите так же, как на картину или на редкое украшение.
— Вы хотите сказать, что у меня «с глаз долой — из сердца вон»?
— Вот именно, слово в слово. Я думаю, что сердце ваше совершенно не затронуто, а то вы не стали бы тосковать об ужине. Вот я могу теперь жить без пищи целыми днями, могу терпеть всяческие лишения… Но нет, вы этого не поймете.
— Признаюсь, не пойму. Я слишком голоден.
— Вы можете забыть — да я не удивлюсь, если вы уже и забыли, — решительно все о вашей любимой, кроме того, что она блондинка с золотистыми волосами. Разве не так?
— Признаюсь, капитан, по памяти я бы мог набросать только очень слабый портрет…
— А вот я, будь я художником, мог бы запечатлеть на полотне ее черты так же точно, как с натуры. Эти крупные листья складываются для меня в овал ее лица, в блеске кокуйо мне горят ее темные глаза, перистые листья пальм ниспадают ее черными волосами.
— Стоп! Вы бредите, капитан! Глаза у нее вовсе не темные, волосы у нее вовсе не черные…
— Что вы говорите?! У нее глаза не темные? Как воронье крыло, как глухая ночь!
— У нее глаза голубые, как лазурь.
— Нет, черные! Да вы о ком говорите?
— О Марии Светлой…
— Ах, это совсем другое дело! — И мы от всего сердца расхохотались.
Снова воцарилось молчание. Тишина ночи нарушалась лишь топотом коней по твердой земле, позвякиванием шпор и бряцанием железных ножен, бившихся по седлам.
Мы пересекли заросшую кактусами песчаную полосу и подъезжали к опушке высокого леса, когда привычный взгляд Линкольна различил во мраке человеческий силуэт. Охотник сейчас же сказал об этом мне.
— Стой, — крикнул я вполголоса.
Отряд натянул поводья. Впереди, в кустах, был слышен шорох.
— Quien viva? (Кто идет?) — крикнул Рауль, ехавший впереди.
— Un amigo! (Друг!) — был ответ.
Я поравнялся с Раулем и закричал:
— Acercate! Acercate! (Подойдите поближе!) Человеческая фигура вынырнула из кустов и приблизилась ко мне.
— Esta el capitan? (Капитан?) Я узнал проводника, которого дал нам дон Косме…
Подойдя вплотную, мексиканец подал мне клочок бумаги. Я отъехал на открытое место и попытался прочесть записку при лунном свете. Но карандашные строки расплывались перед глазами, и я не мог разобрать ни буквы.
— Попробуйте вы, Клейли! Может быть, у вас глаза лучше моих.
— Нет, — отвечал Клейли, разглядев бумажку. — Я еле вижу строки.
— Esperate, mi amo! (Погодите!) — сказал мне проводник. Мы застыли на месте.
Мексиканец снял с головы тяжелое сомбреро и шагнул в темную глубину леса. Через секунду с кроны palma redonda слетело что-то блестящее. То был огромный тропический светляк — кокуйо. Он с тихим жужжанием закружился на высоте двух-трех метров над землей. Проводник подпрыгнул и шляпой смахнул его на траву, а потом накрыл его той же шляпой и, засунув туда руку, вытащил блестящее насекомое и подал мне.
— La! (Ну, вот!)
— No muerde! (Не кусается!) — добавил он, видя, что я колеблюсь взять в руки странное насекомое, похожее по форме на жука.
Я взял кокуйо в руку. Его большие круглые глаза сверкали зеленовато-золотым светом. Я поднес жука к бумаге, но его слабый свет еле отразился на ней.
— Да ведь, чтобы что-нибудь прочесть, нужно набрать дюжину таких светляков! — сказал я проводнику.
— No, senor, uno basti: asi! (Нет, сеньор, довольно и одного: вот так!) — И мексиканец, взяв кокуйо пальцами, легонько прижал его к поверхности бумаги. Насекомое сразу вспыхнуло ярким блеском и осветило на бумаге круг в несколько сантиметров диаметром.
Буквы сразу резко выделились на белом фоне.
— Поглядите, Клейли! — воскликнул я, удивляясь этой лампаде, вышедшей из рук самой природы. — Никогда не верьте россказням путешественников. Я слыхал, что если посадить дюжину таких насекомых в стеклянный сосуд, то при их свете можно будет читать самую мелкую печать.
И, повторив эти слова по-испански, я спросил у проводника, верно ли это.
— No, senor, ni cincuenta! (Нет, сеньор, и пятидесяти не хватит!) — отвечал мексиканец.
— А вот так хватает и одного! Но я совсем забыл о деле: надо прочесть записку.
И, наклонившись к бумажке, я прочел по-испански:
— «Я сообщил о вашем положении американскому командованию».
Никакой подписи не было.
— От дона Косме? — шепотом спросил я мексиканца.
— Да, сеньор! — был ответ.
— А как же вы надеялись пробраться в кораль?
— Asi! (Вот так!) — отвечал проводник, показывая волосатую бычью шкуру, висевшую у него на руке.
— У нас есть здесь друзья, Клейли! Возьмите, добрый человек! — и я дал проводнику золотой.
— Вперед!
И вновь забряцали манерки, зазвенели сабли и послышался топот копыт. Мы двинулись по лесу, проникая в тенистые заросли.
Глава 24
ЛЮПЕ И ЛЮС
Вскоре мы выехали на опушку, и потянулись владения дона Косме. Пышная, невиданная красота окружала нас, привыкших к суровым картинам северного пояса. Тропическая луна окутала все предметы газовой вуалью, смягчая их очертания. Кругом все спало, и только песня соловья нарушала тишину…
Когда-то здесь была ванильная плантация; там и сям попадались ароматные бобы, но на участке уже разрослись пита, акации и колючий кактус. Высохший резервуар и разрушенная acequia свидетельствовали о заботливости, с какою в прежнее время производилось орошение. Пальмовые и апельсинные живые изгороди, заглушаемые лианами и жасмином, разграничивали старые поля. Со склоненных ветвей свисали кисти цветов и плодов, и ночной воздух дышал ароматом душистого кустарника. Аромат этот дурманил, кружил нам голову. Гелианты склоняли свои золотистые головки, как бы оплакивая запущенность поля; колокольчики, цветы cereus наслаждались прозрачным лунным светом.
Проводник указал нам на обсаженную живыми изгородями аллею, ведшую к дому. Мы свернули на нее. Лунные лучи, прорываясь сквозь листву, заливали нашу дорогу. Дикая лань скакала перед нами, цепляясь гладкими боками за колючие шипы мескито…
Мы выехали на лужайку и, остановив коней за жасминами, спешились. Клейли и я прошли загородку.
Пробираясь между деревьями рощицы, мы услышали хриплый лай огромных дворовых собак и увидели перед ранчо несколько силуэтов. Тогда мы на секунду остановились и стали вглядываться.
— Quitate, Cario! Pompo! (Пошел вон, Карло! Помпо!) — Лай перешел в яростное рычание.
— Papa, mandalos! (Папа, прогони их!) Мы узнали голоса и кинулись вперед.
— Afuera malditos perros! Abajo! (Вон, проклятые собаки! Куш!) — кричал дон Косме, отгоняя разъяренных псов.
Слуги оттащили собак, и мы подошли поближе.
— Quien es? (Кто там?) — спросил дон Косме.
— Amigos! (Свои!) — отвечал я.
— Papa, papa, es el capitan! (Папа, это капитан!) — кричала, выбежав вперед, девушка. Я узнал в ней Гвадалупе.
— Не беспокойтесь, сеньорита, — сказал я, приближаясь.
— Ах, вы целы, вы невредимы! Папа, это он! — кричали обе девушки. Дон Косме выражал свою радость тем, что тискал в объятиях то меня, то моего друга.
И вдруг он отступил и с ужасом простер руки к небу.
— Yel senor gordo? (А толстый сеньор?)
— О, целехонек! — со смехом отвечал Клейли. — Он благополучно унес свою тушу, дон Косме, хотя, я думаю, сейчас он не отказался бы от тех туш, что жарятся у вас на кухне.
Я перевел ответ лейтенанта. Последнюю фразу дон Косме, по-видимому, понял как намек: нас немедленно повели в столовую, где донья Хоакина уже хлопотала над ужином.
За едой я изложил главнейшие события дня. Дон Косме ничего не знал об этих гверильясах, хотя и слыхал, что банды в окрестностях были. Узнав от проводника, что на нас напали, он сейчас же послал слугу в американский лагерь, и Рауль встретился с отрядом полковника Роули по дороге.
После ужина дон Косме вышел распорядиться насчет завтрашнего отъезда. Супруга его ушла приготовить нам комнату для ночлега, и мы с Клейли на некоторое время остались в прелестном обществе Люпе и Люс.
Обе они были превосходные музыкантши и одинаково хорошо играли на арфе и гитаре. Много испанских мелодий услыхали мы с другом в тот вечер. Не мудрено, что нас охватили соответствующие мысли и чувства. Но как разнообразны человеческие сердца в любви! Веселый, открытый характер моего товарища сразу нашел себе отклик. Его собеседница то смеялась, то болтала, то пела вместе с ним. Увлекшись веселой беседой, эта легкомысленная девушка совсем забыла про брата, хотя через секунду она могла бы расплакаться о нем. В ней билось нежное сердце — сердце легких радостей и легких печалей, сердце вечно сменяющихся чувств, приходящих и уходящих, как прозрачные тени облаков пробегают над залитой солнцем рекой…
Не таков был наш разговор с Люпе — он был более серьезен. Мы не смеялись: смех оскорбил бы охватившее нас чувство. В любви нет веселья. В ней есть радость, наслаждение, счастье, но смех не находит отклика в любящем сердце. Любовь есть чувство беспокойства, чувство ожидания. Арфа отложена в сторону, гитара лежит неподвижно: мы слушаем более сладкую музыку — музыку струн сердца. Разве взоры наши не прикованы друг к другу? Разве наши души не общаются в безмолвии? Да, они общаются без языка, по крайней мере без языка слов, ибо говорим мы не о любви. Нарсиссо, Нарсиссо! Мы говорим о брате девушки. Опасности, которые он переживает, омрачают нашу радость…
— О, если бы он был здесь! Как мы бы были счастливы!
— Он вернется! Не беспокойтесь, не огорчайтесь. Завтра ваш отец без труда найдет его. Я сделаю все, что можно, чтобы вернуть его сестрам!
— Благодарю вас, благодарю вас! О, мы и без того так бесконечно обязаны вам!
Чем сияют эти глаза? Любовью ли? Благодарностью ли? Тем ли и другим вместе? Нет, одна благодарность не может говорить так выразительно. О, зачем эта минута не может продлиться вечно?!
— Спокойной ночи, спокойной ночи!
— Senores, paean usted buena hoche!
— Senores, paean usted buena hoche! (Сеньоры, спите спокойно!) Они ушли.
Нас проводили по комнатам. Солдаты привязали коней под оливами и расположились на ночлег в бамбуковом ранчо. Только одинокий часовой всю ночь ходил вокруг гасиенды…
Глава 25
ДУШНАЯ НОЧЬ
Я вошел в свою комнату. Смогу ли я уснуть? Едва ли. Передо мной было ложе, убранное дамасскими тканями. Я раздвинул занавес — белоснежные подушки словно ожидали прикосновения щеки прекрасной новобрачной. Ведь я не спал целых два месяца в настоящей постели. Тесный ящик в каюте торгового судна, гамак, открытый паукам и скорпионам Лобосак, одно-единственное одеяло в песчаных холмах, где я часто просыпался полупогребенный песками.
Таковы были мои воспоминания, но совсем иные перспективы радовали меня. Обстановка располагала к отдыху; и все же мне казалось, что я не засну. Невольно перебирал я в памяти происшествия истекшего дня. Нервы были напряжены. Мысли неслись молниеносно, одна за другой…
Сердце билось тревожно — были затронуты долго молчавшие струны: я любил!..
То было не первое увлечение в моей жизни, и мне скоро стала ясной причина моего необычного состояния: ад ревности начинает проникать в мои жилы!.. «Дон Сант-Яго», — произнес я уже ненавистное мне имя…
Я подошел к большому зеркалу; по обеим его сторонам висели на стене миниатюры.
Я наклонился, чтобы рассмотреть правую из них. С волнением узнал я ее черты. «Однако художник не польстил ей, — подумал я, — такой она будет лет через десять. Но сходство все же есть. Что за нелепый художник!..»
Я обратился к другой миниатюре. «Вероятно, ее сестра? Милосердное небо! Неужели мои глаза не обманывают меня? Нет, я узнаю эти черные вьющиеся волосы, дуги бровей, сжатые губы — Дюброск!..»
Острая боль пронзила мое сердце. Пристально, все еще недоверчиво рассматривал я портрет. И предположения перешли в уверенность. «Ошибки быть не может: это его черты!» Словно парализованный, упал я в кресло…
Что это значит? Неужели я повсюду, всегда буду встречать это лицо? Неужели это мой злой гений, созданный единственно для того, чтобы преследовать меня?..
Мне припомнились все наши встречи, начиная с первой в Новом Орлеане…
Я встал, схватил лампу и снова подошел к портрету… О, да, я не ошибаюсь: там — она, а здесь — он! И они висят рядом!.. Других портретов нет в этой комнате… Что же это? Может быть, они жених и невеста? Его зовут дон Эмилио… Тот женский голос на острове Лобосе называл его Эмилем… А она сегодня говорила об американце доне Эмилио, который учил ее и сестру английскому языку… Да, дон Эмилио и Дюброск несомненно одно и то же лицо… И он попал сюда раньше меня, он — этот красавец с демоническим характером. Это ужасно, невыносимо!..
Я снова поставил лампу на стол и бросился в кресло…
Где-то пробили часы…
За боем последовали тихие, приятные звуки. Серебристо-нежные звуки переливались стройными аккордами, успокаивая мои возбужденные нервы.
Я торопливо разделся и лег…
Я твердо решил не думать больше о ней, забыть ее — забыть во что бы то ни стало.
«Встану как можно раньше, — говорил я себе, — и отправлюсь в лагерь, ни с кем не прощаясь… Когда я снова буду в своей палатке, обязанности солдата изгладят из моей памяти встречу с… невестою Дюброска. Барабан и флейта, грохот пушек и треск ружейных выстрелов заглушат голос сердца…
Я старался направить мысли на что-нибудь другое. Напрасные усилия!
Наконец я все-таки заснул, заснул крепко, без снов…
Глава 26
СВЕТ ВО МРАКЕ
Когда я проснулся, вокруг меня стоял непроницаемый мрак. Я протянул руки и раздвинул занавес алькова. Ни один луч света не проникал в комнату. Я чувствовал себя свежим и бодрым, — вероятно, я спал долго.
Я пошарил на столике, ища часы. В это время кто-то постучал в дверь.
— Войдите! — крикнул я.
Вошел слуга-негр с лампой.
— Который час? — спросил я.
— Девять часов, сеньор!
Он поставил лампу и вышел. За ним появился другой, неся на подносе золотую чашку.
— Что это такое?
— Chocolate, сеньор! От доньи Хоакины.
Я выпил шоколад и поспешил одеться. Меня беспокоил вопрос, следует ли мне уехать, не простившись. Но все же на сердце стало легче. Утро всегда приносит облегчение страданию как физическому, так и нравственному. Я часто испытывал на себе этот закон природы. Утренний воздух успокаивает тревогу. Восходит солнце, и возникают новые планы, появляется новая надежда…
Я избегал зеркала, не смел подойти к нему.
«Нет, не буду смотреть на того, кого я ненавидел всей душой, на ту, которую любил всем сердцем! Скорее в лагерь!..»
— Мой друг уже встал? — спросил я негра.
— Да, сеньор, он давно встал.
— А! Где же он?
— В саду, сеньор!
— Один?
— Нет, сеньор, ninas (девушки) тоже там.
«Счастливый, беззаботный Клейли: его не мучают ревнивые мысли», — думал я, заканчивая свой туалет.
Я уже говорил, что Клейли и Мария де Люс вполне подходили друг к другу. Оба были веселы, беззаботны. Встретившись, они сразу почувствовали взаимную симпатию, поняли, что вместе они могут хохотать, танцевать и дурачиться, сколько им вздумается. Они способны дать друг другу слово и затем спокойно расстаться на целый год. Поженятся и заживут беззаботно; встретятся неодолимые препятствия — простятся и расстанутся, не разбивая друг другу сердца. Для таких людей любовь — легкая забава: они обмениваются записочками, смеются над прошедшим, не заботятся о будущем. Такова их любовь.
— Скажи моему другу, когда он возвратится из сада, что я хочу говорить с ним.
— Слушаю, сеньор!
Слуга поклонился и вышел.
Вскоре явился Клейли, веселый и беззаботный, как кузнечик.
— Однако вы, мой храбрый лейтенант, как я слышал, недурно проводите время, — сказал я.
— Я чудесно прогулялся. Этот сад — настоящий рай.
— Что же вы делали?
— Кормил лебедей, — засмеялся Клейли. — Между прочим, ваша красотка что-то не в духе сегодня. Вероятно, потому, что не было вас. Она то и дело оглядывалась на веранду…
— Клейли, потрудитесь приказать людям седлать лошадей…
— Как! Ехать так скоро? И без завтрака?..
— Через пять минут мы выступаем…
— Что случилось, капитан? — забеспокоился лейтенант. — Как же ехать без завтрака? Нет, дон Косме не захочет и слышать об этом!..
— Дон Косме…
Появление самого дона Косме помешало мне договорить фразу. И все же, по его настоянию, я решился остаться.
В столовой я раскланялся с дамами со всевозможной вежливостью, но холодно и сдержанно. Я заметил, что это не ускользнуло от Гвадалупе. Мы сели за стол. Горечь, отравляющая мое сердце, отнимала у меня аппетит, я едва притронулся к кушаньям.
— Вы ничего не едите, капитан? Надеюсь, вы здоровы? — спросил дон Косме, видимо, обеспокоенный странностью моего поведения.
— Благодарю, сеньор, я чувствую себя отлично…
Я избегал смотреть на Гвадалупе, притворяясь, что очень заинтересован сестрою, — обычная уловка обиженных влюбленных. Раза два я, впрочем, взглянул на нее украдкой и каждый раз встречал ее тревожный, вопросительный взгляд. Глаза у нее были заплаканные… Не мудрено — она беспокоилась о брате…
Но, кажется, на ее лице выражается упрек? Ведь вечером я относился к ней совсем иначе, — быть может, ей непонятна причина внезапной перемены в обращении… Неужели и она страдает, как страдаю я?
Встав из-за стола, я вызвал Линкольна и приказал готовиться в дорогу. Вслед за мной в сад вышли сестры в сопровождении Клейли. Дон Косме и его супруга остались в столовой.
Как бы повинуясь инстинкту, Гваделупе и я незаметно приблизились друг к другу. Клейли и Люс оставили нас одних.
Мне очень хотелось заговорить с Люпе, но я не решался начать, приготовившись к самому худшему. Мной овладело такое чувство, точно я стоял на краю бездонной пропасти и заглядывал в нее.
Что может быть хуже неизвестности, которая томит и гложет?
Я обернулся к Люпе. Голова ее склонилась на плечо: в руках она держала цветок апельсинного дерева, обрывая лепестки.
Как прекрасна была она в эту минуту!
— Художник не польстил вам! — заговорил наконец я.
Она с изумлением взглянула на меня.
О, эти слезы на чудных затуманенных глазах!
— Сеньор капитан, что вы хотите сказать? — тихо спросила она.
— Я говорю, что художник отнесся к вам несправедливо. Он верно передал ваши черты, но изобразил вас много старше…
— Художник? Какой художник? Я не понимаю вас!
— Я говорю о вашем портрете, который висит в моей комнате.
— А, о том, что висит у зеркала?
— Да, у зеркала, — нетерпеливо ответил я.
— Но это вовсе не мой портрет, сеньор капитан!
— Как, не ваш?!
— Это — портрет моей кузины Марии де Мерсед. Говорят, мы очень похожи друг на друга.
Мое сердце забилось от радости.
— А что это за джентльмен, портрет которого висит рядом?
— Это дон Эмилио… жених моей кузины… Они… они… huyron… (убежали).
Последние слова она проговорила, отвернувшись. Очевидно, ей было трудно говорить об этом.
— Это — комната кузины. Мы ничего не трогаем в ней, — заговорила она снова.
— А где же теперь ваша кузина?
— Никто не знает…
«Тут кроется какая-то тайна», — подумал я и не стал допытываться. Мне было довольно того, что я узнал. Я снова повеселел.
— Пройдемся дальше, Люпита, — предложил я.
Она опять взглянула на меня с выражением глубокого удивления. Ей трудно было понять такие внезапные перемены в моем обращении с нею.
Мне хотелось встать перед ней на колени, рассказать ей все, что было у меня на душе. Я снова верил и любил…
Мы шли вдоль guardaraya. Вся природа, казалось нам, говорила лишь о нашей любви. О ней пели птицы, о ней жужжали пчелы. Солнце выглянуло из-за облачка, стало еще светлей и кругом, и в наших сердцах. Все дальше шли мы по аллее. Ее рука сжимала мою руку. Мы были счастливы…
Мы подошли к группе деревьев какао. Одно из них, сломанное бурей, лежало на земле. Мы сели в тени на его толстом стволе. Я не задумывался о будущем. Расчет и колебание не вмешивались в нашу любовь. «Теперь я задам решительный вопрос, — подумал я, — пусть сейчас же решится моя судьба»!
В жизни солдата, полной перемен, нет времени для скучных формальностей, для сложных тонкостей «ухаживания», флирта…
И не задумываясь, не колеблясь, я склонился к моей спутнице и прошептал на ее языке, словно созданном быть языком любви:
— Guadalupe, tu me annas? (Гвадалупе, любишь ли ты меня?)
— Yo te amo! (Я люблю тебя!) — ответила она просто.
Разве нужно описывать то, что я испытывал в этот момент. Мое сердце было переполнено счастьем!
Мы сидели молча: тот, кто любил чистой любовью, поймет нас…
Послышался топот копыт. Это подъезжал Клейли в сопровождении нашего маленького отряда и дона Косме, сидевшего на белом муле. Последний нетерпеливо махал мне рукой, приглашая присоединиться к нему. Я понимал причину его нетерпения и вполне сочувствовал ему.
— Поезжайте вперед! Я догоню вас! — крикнул я.
— Ты скоро вернешься, Энрике?
— Я не упущу случая увидать тебя, моя дорогая! Разлука невыносимее для меня, чем для тебя!
— О, нет, нет!
— Ну, повтори мне еще раз, что ты не перестанешь любить меня, Люпита!
— Никогда, никогда! Tuya, tuya hasta la muerte! (Твоя, твоя до самой смерти!)
Глава 27
РАЗОЧАРОВАНИЕ И НОВЫЙ ПЛАН
Я догнал моих спутников на опушке леса.
— Грустно уезжать из такого прекрасного дома, капитан! — заговорил Клейли. — Клянусь Юпитером, я охотно поселился бы в нем навсегда!
— Послушайте, Клейли, ведь вы влюблены!
— Да! Я и не скрываю этого… О, если бы я владел испанским языком так, как вы!
Я невольно улыбнулся, вспомнив, как лейтенант пытался извлечь наибольшую пользу из тех обрывков английского языка, которые имелись в запасе у Марии. Мне хотелось узнать, произошло ли у них решительное объяснение. Любопытство мое вскоре было удовлетворено.
— Знай я испанский язык, — продолжал Клейли, — я поставил бы вопрос ребром. Я старался из всех сил добиться ясного «да» или «нет», но меня не могли или не хотели понять, и я должен был уехать ни с чем…
— Почему же она не понимала вас? Ведь она знает немного по-английски!
— Я тоже так думал, но каждый раз, как я заговаривал о любви, она начинала хохотать и бить меня веером по лицу… Нет, ясное дело, я должен объясниться по-испански. Я решил серьезно приняться за дело. Вот она дала мне…
Он вытащил из седельной сумки два небольших томика, оказавшиеся испанской грамматикой и лексиконом. Я не мог удержаться от смеха.
— Дорогой друг, — сказал я, — вы скоро убедитесь, что лучший лексикон для вас — сама Мария де Ля-Люс.
— Это верно, — вздохнул Клейли. — Но что же делать? Разве скоро опять увидишься с нею! Не каждый же день будут давать нам командировки для реквизиции мулов.
Надежды на скорое свидание действительно было немного. Я сам уже думал об этом. Вырваться из лагеря нелегко.
Ранчо дона Косме находилось в десяти милях от наших аванпостов, и дорога была небезопасна для одинокого путника. Да, шансов на частые свидания было мало.
— Нельзя ли нам будет как-нибудь улизнуть из лагеря ночью? — продолжал Клейли. — Захватим полдюжины наших молодцов и отправимся. Что вы на это скажете, капитан?
— Я обещал им привезти брата, и без него ни за что не покажусь на глаза.
— Не думаю, чтоб вам скоро удалось вытащить этого молодца из осажденного города…
Предсказание оправдалось. При въезде в лагерь нас встретил адъютант главнокомандующего; от него мы узнали, что с прошлого утра прекращено всякое сообщение между городом и иностранными кораблями.
Поездка дона Косме оказалась совершенно бесполезной. Я передал ему грустную новость и предложил возвратиться домой.
— Не говорите домашним правды. Скажите им, что я все взял на себя. Будьте уверены, что я постараюсь попасть в город первым, немедленно разыщу вашего мальчика и доставлю его целым и невредимым, — утешал я старика.
— Благодарю вас, капитан! — сказал он. — Вы очень великодушны, но боюсь, что едва ли можно теперь что-нибудь сделать. Нам остается лишь ждать и надеяться, — он склонил голову в глубоком отчаянии.
Мы с Раулем проводили его назад, за наши линии; пожали ему руку и расстались. Некоторое время я следил за ним глазами. Он ехал, сгорбившись и не глядя по сторонам. Сердце мое обливалось кровью при виде несчастного отца: с тяжестью на душе вернулся я в лагерь…
Бомбардировка города еще не начиналась, но батареи были в боевой готовности. Не было ни одного дюйма стены, не находившегося под обстрелом. В городе всем угрожала гибель; не был гарантирован от нее и сын дона Косме. Неужели мне придется быть вестником его смерти? И так уж судьба вынудила меня лишить отца почти всякой надежды!
— Как нам спасти сына дона Косме? — обратился я к Раулю.
— Что прикажете, капитан? — спросил он, не расслышав моих слов.
— Ты хорошо знаешь Вера-Круц? — спросил я.
— Как свои пять пальцев, капитан!
— Куда ведут арки, выходящие к морю?.. Те, что расположены по обеим сторонам мола…
— Это галереи, капитан, для стока воды после наводнений. Они проходят под всем городом. В разных местах в них есть отверстия. В свое время я обежал их все, с начала до конца…
— Каким образом?!
— Видите ли, капитан, приходилось мне когда-то промышлять контрабандой…
— Ага! Значит, есть возможность пробраться через одну из этих галерей в город?
— Нет ничего легче, если только не расставлено там часовых; впрочем, едва ли. Никому и в голову не придет, что кто-нибудь захочет воспользоваться этим путем…
— А ты бы решился?
— Если сеньору капитану будет угодно, я возьмусь принести сюда бутылку виски из кафе Санта-Анны.
— Я сам хочу отправиться с тобой…
— Вы?! Простите, капитан, но мне кажется, что вам не следовало бы так рисковать собой. Я-то могу отправиться без всякой боязни. Вероятно, еще никто не знает, что я перешел к вам, но если попадетесь вы, то…
— Да, да, я знаю, какие могут быть последствия…
— Впрочем, — прибавил Рауль, подумав немного, — едва ли попадетесь и вы. Переоденемся мексиканцами… Вы говорите по-испански не хуже меня… Если вам угодно, капитан, я готов сопровождать вас…
— Да, это мне необходимо.
— Я готов, капитан!
Я хорошо знал Рауля. Это был один из тех дерзких смельчаков, которые больше всего на свете любят приключения. Он был баловень судьбы, она помогала ему во всех его предприятиях. Он не был богат книжными знаниями, зато приобрел большой опыт. Он напоминал мне романтических героев прежних времен. Я невольно испытывал к нему уважение и любил потолковать с ним.
Задуманное мной предприятие было рискованным и могло кончиться очень плохо. Я знал это, но как же иначе спасти молодого испанца? А спасти его было необходимо. Моя судьба была тесно связана с его судьбою.
Кроме того, и меня, как и самого Рауля, привлекала самая опасность. Я чувствовал, что прибавится еще одна глава к роману моей жизни — роману, который я имел право озаглавить «авантюрным».
Глава 28
РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В тот же вечер Рауль и я, переодетые ранчеро, незаметно ускользнули из лагеря и добрались до Пуенте-Хорнос.
Мы вошли в воду по пояс. Было около десяти часов — время отлива; на наше счастье ночь была черной, как деготь. Местами вода доходила до шеи. Тогда мы пробирались дальше вплавь.
У форта Сант-Яго мы различили темные силуэты часовых и услышали их перекличку; стало немного не по себе. Но мрак скрывал нас, и мы двигались осторожно и бесшумно.
Наконец мы благополучно добрались до противоположной стороны города; укрепление вдавалось там в самое море. Из воды выделялась гряда черных камней, покрытых водорослями. Мы потихоньку вскарабкались на камни и, осторожно переступая по их скользким верхушкам, добрались до одного из отверстий водостоков. Мы сильно устали и присели на камень отдохнуть. В этом месте мы уже не подвергались опасности, хотя всего в двадцати шагах от нас были люди, которые кинулись бы на нас как ищейки, если бы только узнали о нашем присутствии. Однако настоящий риск сопряжен не с началом нашей экспедиции.
Отдохнув немного, мы вошли в галерею. Мой спутник шел по ней совершенно свободно, словно она была ярко освещена.
Через несколько времени мы увидели свет, проникавший через решетку сверху,
— Выйдем тут? — спросил я.
— Нет, капитан, — шепнул Рауль, — пойдем дальше.
Мы миновали еще два отверстия и затем остановились у четвертого, пропускавшего едва заметный луч света.
Мой спутник внимательно прислушивался. Потом, просунув руку между прутьями, он осторожно отомкнул закрывавшую выход железную решетку. Высунув голову, он осмотрелся.
Убедившись, что поблизости нет никого, Рауль вскарабкался наверх и исчез. Через минуту он возвратился и шепнул:
— Пожалуйте, капитан!
Я поднялся вслед за ним; Рауль осторожно запер решетку.
— Запомните хорошенько это место, капитан, — прошептал он, — ведь может случиться, что мы будем разлучены…
Мы находились в грязном предместье. Кругом не было ни души, за исключением своры ободранных, одичавших собак; такими всегда бывают собаки в осажденных городах. В нише противоположной стены стояла статуя, перед которой горела лампада: под ней находилась кружка для сбора на бедных. В вышине рисовался силуэт старинной колокольни.
— Что эта за церковь? — спросил я Рауля.
— Магдалины…
— Запомню… Теперь — вперед.
— Buenos noches, senor! (Доброй ночи, сеньор!) — сказал Рауль завернутому в плащ солдату, проходившему мимо нас.
— Buenos noches! — грубым голосом ответил воин.
Мы шли по самым темным и пустынным улицам, по возможности избегая встреч. Жители спали, но патрули попадались на каждом перекрестке.
Наконец пришлось вступить и на людную, ярко освещенную улицу. Едва сделали мы несколько шагов, как один из прохожих, пораженный нашим странным видом, остановился и внимательно осмотрел нас с головы до ног. Мы были одеты в кожаное платье обыкновенных ранчеро, но с нас ручьями стекала вода.
— Carajo! Caballeros!.. Почему вы не раздеваетесь перед тем, как войти в bano (ванна)? — воскликнул он, загородив нам дорогу.
— Что случилось? — осведомился проходивший мимо солдат.
Собралось еще несколько человек, нас потащили ближе к свету.
— Mil diablos! (Тысячу чертей!) — крикнул один из солдат, узнав Рауля. — Да это наш старый приятель француз! Parlez-vous francais, monsieur? (Вы говорите по-французски, сударь?)
— Это шпионы! — закричал другой.
— Арестовать их! — приказал сержант, приблизившийся во главе патруля.
Солдаты окружили нас.
Тщетно уверял Рауль, что мы только бедные рыбаки, вымокшие во время ловли.
— Вы одеты не по-рыбачьи, — заметил кто-то.
— Притом рыбаки не имеют обыкновения носить алмазы, — добавил другой, срывая у меня с пальца перстень. Внутри были выгравированы фамилия и чин!
Явилось еще несколько человек, знавших Рауля; все подтвердили, что не видели его вот уже несколько дней.
Ясное дело, он перебежал к янки…
Нас потащили в тюрьму, где подвергли самому тщательному обыску.
У Рауля не нашлось ничего, у меня же в кошельке оказалось несколько золотых монет с американскими орлами. Этого было вполне достаточно, чтобы погубить нас. Нас крепко сковали вместе и втолкнули в темную конуру; мы остались наедине с нашими горькими мыслями…
Глава 29
ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ
— Helas, helas! — вздохнул француз, когда тяжелая дверь захлопнулась за нами. Он опустился на каменную скамью, увлекая и меня за собой.
Утешить его мне было нечем. Ясно, что нас будут судить как шпионов; следовательно, оставалось жить всего несколько часов…
Меня мучила мысль, что я вовлек в беду своего товарища. Да и самому мне не хотелось умирать так бесславно. Дня три назад я вовсе не дорожил жизнью, но теперь она стала мне вдруг так мила! Подумать только, что я никогда больше… «Я, кажется, становлюсь трусом», — прервал я самого себя.
Мы провели ночь, утешая и подбадривая друг друга. Было очень холодно, и мы дрожали в наших мокрых одеждах. Кое-как растянувшись на скамье, — насколько позволяла цепь, которой нас сковали, — мы лежали, тесно прижавшись друг к другу; это помогало нам хоть немного согреться. Так прошла эта ужасная ночь. Рано утром нас повели на допрос, после обеда — в военный суд. Мы чистосердечно рассказали все, что побудило нас пробраться в город, назвали имя мальчика и его адрес. Наши показания были проверены, но нам все-таки не поверили, думая, что Нарсиссо служил лишь предлогом. А допрошенные единодушно показали, что Рауль исчез из города как раз во время высадки американских войск. Это заставляло предполагать, что он, пользуясь своим знанием города, поступил к неприятелю в качестве шпиона. Меня же уличали перстень и американские монеты. Нас осудили как шпионов и приговорили к смертной казни через повешение. Исполнение приговора было назначено на следующее утро…
Раулю предлагали помилование, если он даст некоторые сведения о неприятельских войсках; он с негодованием отверг эту сделку. Обращались и ко мне с тем же предложением…
Нас уже собирались вывести из зала суда, когда в публике произошло движение. Граждане и солдаты с испуганными лицами бросились к выходам. Члены суда поспешно прочитали приговор и приказали увести нас обратно в тюрьму. Конвоиры тоже торопились. По дороге нам попадались толпы беспорядочно бежавших людей. Дети и женщины кричали и плакали. Некоторые из них падали на колени, колотя себя в грудь… Другие стояли неподвижно, точно окаменев от ужаса.
— Так бывает во время землетрясения, — произнес Рауль, — но землетрясения как будто нет. Что бы это могло значить, капитан?
В это время над нами со свистом пролетела граната, избавив меня от необходимости ответить моему спутнику.
— Наши стреляют! Ура! — крикнул Рауль.
Я тоже едва удержался от приветственного крика.
Сопровождавшие нас солдаты мгновенно исчезли куда-то, бросив нас одних посреди улицы. Снаряд разорвался где-то поблизости, ударившись о мостовую. Осколки прошибли окна соседнего дома; доносившиеся оттуда крики свидетельствовали, что смерть уже начала там свое дело. То был второй американский снаряд. Первый был причиной смятения, охватившего горожан и солдат. Конвоиры появились снова и грубо толкнули нас вперед. Их раздражал наш радостный вид, и они осыпали нас ругательствами. Один из наиболее озлобленных солдат даже кольнул Рауля штыком в ногу. Мы были довольны, когда опять очутились в темнице.
Мы не ели и не пили ничего с раннего утра и теперь положительно умирали с голода и жажды. Рауль бесился от полученных оскорблений и боли, причиняемой раной. Но внезапно он просиял: оказалось, что железные наручники на Рауле были плохо завинчены, и он без труда от них освободился. Через мгновение с его помощью и я снял оковы.
— Проведем хоть последние минуты нескованными и не на цепи! — воскликнул француз.
Я восхищался своим храбрым товарищем.
Мы встали возле двери и приложили к ней ухо. Слышался грохот городских батарей и отдаленные выстрелы американских пушек. Когда раздавался глухой треск рушившихся стен, Рауль подпрыгивал и орал что-то дикое, наполовину по-французски, наполовину по-индейски.
— Вот что, Рауль, — сказал я, вдохновленный новой идеей, — теперь у нас есть оружие — эта самая цепь… Берешься ты пройти прямо к подземной галерее, не сбившись с пути?
— О, конечно, капитан, берусь!.. Вероятно, к нам заглянут еще до вечера. Я понимаю вас, капитан… Лучше иметь хоть какие-нибудь шансы на спасение…
Мы взяли по обрывку тяжелой цепи и сели у самой двери, дожидаясь, когда сторож откроет ее.
Снаряды сыпались теперь настоящим градом, неся с собою смерть и разрушение. Со всех сторон доносились крики, треск, шум, плач и стоны. Над всем этим хаосом стоял, однако, грохот пушек. Мы ясно различали топот бегущих, их отчаянные вопли…
— Sacre! — вскричал Рауль. — Если бы они подарили нам еще несколько дней жизни, эти двери нам открыли бы наши товарищи! Sacr-r-re!
В этот момент снаряд с визгом пробил крышу и потолок над нами. Сверху обрушилась масса раздробленных кирпичей и штукатурки… Последовал страшный взрыв, пол ходуном заходил под нами, тысячи осколков брызнули во все стороны. Облако пыли, песку и дыма с запахом серы окутало все сверху донизу.
Я задыхался, хотел крикнуть и не мог.
— Рауль, Рауль! — прохрипел я наконец.
Голос товарища донесся до меня точно откуда-то издалека, а между тем я чувствовал прикосновение его руки. Он тоже задыхался и хрипел.
— Peste! Вы ранены, капитан?
— Нет… а ты?
— Ни одной царапины! Счастье на нашей стороне… Наверное, всю эту конуру перевернуло вверх дном.
— А лучше бы нас убило. По крайней мере мы избавились бы от виселицы…
— Ну, может быть, дело обойдется и без нее. Где вошел снаряд, там можно выйти человеку. Он, кажется, ухнул сквозь крышу?
— Да, должно быть.
Взявшись за руки, мы ощупью двинулись на середину камеры.
— Sacre! — бормотал Рауль. — Я ничего не вижу на шаг перед собой…
Со мной было то же самое. Мы стали ждать, когда уляжется пыль. Сверху забрезжил свет, и наконец мы увидели отверстие в крыше, достаточное для того, чтобы человек мог проникнуть через него. Но от пола до потолка было метров пять, а у нас ни клочка веревки, ни куска дерева.
— Как же мы туда взберемся? — воскликнул я. — Ведь мы не кошки.
Рауль поднял меня обеими руками и предложил встать на его плечи. Кое-как я вскарабкался на него и забалансировал у него на плечах, точно канатный плясун. Однако, как я ни тянулся, я не мог достать до потолка. Вдруг блестящая мысль пришла мне в голову.
— Спусти меня, — проговорил я, — я придумал. Лишь бы только нам не помешали.
— Об этом не беспокойтесь, — утешал меня Рауль. — Им теперь не до нас.
Я заметил выдававшееся в середине бреши бревно. Оно держалось как будто крепко, и я надеялся закинуть на него надежную петлю и подняться наверх.
Я сделал петлю из цепи, а Рауль разорвал на полоски свои кожаные панталоны и свил толстую веревку, которую мы прикрепили к цепи. Затем я снова взобрался к моему товарищу на плечо и попытался закинуть цепь. Я промахнулся, потерял равновесие и принужден был соскочить на пол. Вторичная моя попытка имела тот же результат.
— Sacre! — зарычал Рауль сквозь стиснутые зубы; цепь со всего размаха ударила его по голове.
— Попробуем еще раз: ведь от этого зависит наше спасение, — говорил я.
— По народной поговорке, третья попытка всегда бывает удачной.
Так оно и вышло: петля обвилась вокруг бревна; мы потянули за привязанный ремень и плотно затянули ее. Убедившись, что ремень может держать человека, я поднялся на руках до бреши и ухватился за бревно.
Уже темнело. Я дополз до края плоской крыши и заглянул вниз. Улицы были пусты. Только на бастионах возились вокруг пушек люди, выстрелы освещали спускавшийся мрак…
Я пополз назад, чтобы помочь Раулю, но он уже без меня выбрался на крышу и теперь вытягивал на всякий случай наш ремень.
Мы осторожно пробирались, перепрыгивая с одной крыши на другую, отыскивая место, удобное для спуска. Наконец мы доползли до какого-то узкого переулка, где и спустились на землю. Ужасные сцены развернулись перед нашими глазами, когда мы вышли на большую улицу. Люди бегали взад и вперед, бомбы разрывались, плач женщин смешивался со стонами раненых и грохотом бомбардировки. Мы были в нескольких шагах от старинной церкви, когда граната пробила ее купол и, разорвавшись, засыпала обломками наш путь. Но мы перебрались через них и шли все дальше. Не было нужды скрываться, держаться в тени: никто не обращал на нас внимания.
— Мы недалеко от дома, где живет мальчик. Не зайти ли? — сказал Рауль.
— Непременно, — ответил я. Мне стало стыдно, что я чуть было не забыл о главной цели нашего предприятия.
Мой спутник указал на большое здание с красивым подъездом.
— Вот этот дом, капитан…
— Отлично!.. Ты дожидайся тут… стань где-нибудь в тени, я войду один.
Я подошел к подъезду и решительно постучался.
— Quien? (Кто?) — раздался голос.
— Yo! (Я!) — ответил я.
Дверь открылась медленно и нерешительно.
— Дома ли сеньорито Нарсиссо? — спросил я привратника.
Ответ был утвердительным.
— Скажите ему, что друг желает его видеть.
Привратник не без колебания пошел исполнять мое поручение. Через минуту выбежал юноша, которого я видел в зале военного суда во время нашего допроса. Увидав меня, он задрожал от испуга.
— Шшш! — произнес я, приложив палец к губам. — Через десять минут будьте у церкви Магдалины…
— Но каким образом, сеньор, вы вышли из тюрьмы? — воскликнул он, не обращая внимания на мои слова. — Меня вызывали из-за вас к губернатору…
— Это не важно, — прервал я его. — Делайте то, что я вам говорю… Помните, что ваши родители и сестры ждут вас с нетерпением.
— Иду, сеньор! — решительно ответил мальчик.
— Hasta luego! Adios!
Я отыскал Рауля, и мы поспешили к церкви Магдалины. Нам пришлось идти той самой улицей, на которой нас арестовали накануне, однако ее едва можно было узнать: почти все дома были повреждены, вся она была завалена обломками и щебнем.
Ни часовых, ни патрулей не было.
Наконец мы дошли до церкви. Рауль тотчас же спустился в галерею, я же остался ждать мальчика. Он явился вовремя. Схватив его за руку, я спустился вслед за Раулем. Было время прилива, в водостоке стояла вода, и нам пришлось выждать отлива… Когда вода спала, мы выбрались из города тем же путем, которым вошли в него.
У Пуенте-Хорнос я окликнул наших часовых. Они беспрепятственно пропустили нас. Мы были в безопасности!..
Я возвратился в свою палатку после двадцатичетырехчасовой отлучки, и, за исключением Клейли, никто ничего не узнал о моем приключении.
Вечером на следующий день нам с Клейли удалось доставить мальчика в дом его родителей.
Трудно передать радость, с какой мы были встречены, описать сияющие взгляды и ласковые улыбки девушек…
Нам хотелось бы каждый вечер повторять наш визит, но повсюду шныряли отряды гверильясов, чуть ли не ежедневно вырезавших наши патрули. Пришлось вооружиться терпением и ждать падения Вера-Круца.
Глава 30
ВЫСТРЕЛ ВО ТЬМЕ
Вера-Круц пал 20 марта 1847 года, и американский флаг взвился на замке Сан-Хуан-де-Уллоа. Неприятельские войска были освобождены под честное слово. Большинство солдат возвратилось домой, в далекие Анды.
Город был занят американским гарнизоном, но главные части нашей армии остались в лагере на зеленой равнине, перед городом.
Несколько дней мы ждали приказа двинуться в глубь страны. Нам было сообщено, что мексиканские силы сосредоточены в Puente Nacional, под командой знаменитого Санта-Анны, но через несколько времени донесли, что неприятель стягивает войска в проход Cerro Gordo, на полпути между Вера-Круцем и горами.
После взятия города офицерам опять стало свободнее, и мы с Клейли решились снова навестить наших друзей.
Путь был свободен, и мы смело могли ехать в гасиенду. Взяв с собой Линкольна, Чэйна и Рауля, мы поздно вечером отправились в путь. Прихватили и Маленького Джека. Всякими правдами и неправдами раздобыли лошадей. Так как майор Блоссом сдержал свое обещание, я имел удовольствие скакать на кровном арабском вороном коне.
Вышла полная луна. По мере того как мы подвигались вперед, нас все более и более поражала перемена, происшедшая в хорошо знакомой местности.
Война повсюду оставила свои ужасные следы. Ранчо были заброшены; часть из них была разрушена, часть сожжена, и на их месте виднелись только груды золы и обгорелых головешек. Некоторые развалины еще дымились…
Повсюду валялась разбитая мебель и утварь. Кое-какие предметы уцелели: очевидно, они были брошены бежавшими поджигателями и грабителями. Чего только не попадалось нам на глаза: petate, шляпы из пальмовых листьев, разбитая посуда, остатки сломанной гитары, женские украшения, платки и платья, втоптанные в пыль, и множество других предметов…
Мной овладело мрачное предчувствие. Вспомнились рассказы о сомнительных подвигах наших солдат в окрестностях Вера-Круца. По-видимому, слухи о героях из мародеров нисколько не преувеличены.
Раньше я был уверен, что мародеры не забирались так далеко, но встречавшиеся на каждом шагу картины разрушения заставили меня призадуматься.
За несколько километров от ранчо дона Косме мы наткнулись на изуродованный труп солдата. Он лежал на спине, открытые глаза смотрели прямо на луну. У него были вырваны язык и сердце и отрезана по локоть левая рука. В десяти шагах от него лежал в таком же виде другой солдат…
Мы въехали в лес; беспокойство стало невыносимым. Я видел, что Клейли тревожился не менее моего.
— Трудно допустить, чтобы мародеры проникли сюда, — сказал он. — Нужно бояться другого, — добавил он немного спустя, — негодяя Дюброска с его шайкой…
— Вперед, вперед! — крикнул я, дал шпоры коню и понесся вперед галопом.
Больше я не мог говорить. Клейли выразил мои самые тайные опасения, и сердце мое сжалось от сильной боли.
Остальные тоже пришпорили коней. Вдруг Рауль остановился и сделал нам знак тоже остановиться.
— В чем дело? — спросил я шепотом.
— В лесу кто-то есть, капитан!
— Где?
— Там, налево… Я не мог различить, кто это…
— Я видел, это мустанг, — заметил Линкольн.
— С седоком?
— Не могу вам наверное сказать, капитан! Он был слишком далеко отсюда, трудно было рассмотреть. Но что это мустанг — ручаюсь головой…
— Позвольте мне проследить его, тогда я скажу вам, с седоком он или нет,
— продолжал он.
— Пожалуй, это будет лучше… Рауль, Чэйн… сойдите с лошадей и пойдите с сержантом, а ты, Джек, держи лошадей…
— Если позволите, капитан, я лучше пойду один, — шепотом произнес Линкольн. — Рауль и Чэйн, правда, прекрасные товарищи и выручат из всякой беды, но я привык выпутываться один…
— Хорошо, сержант, делайте, как хотите. Мы будем ждать здесь вашего возвращения.
Охотник соскочил с лошади, тщательно осмотрел свой карабин и пошел в сторону, как раз противоположную той, где, по его указаниям, пробежал мустанг.
Мы ждали его с полчаса, сгорая от нетерпения. Я уже начал опасаться за Линкольна, когда до нас донесся звук выстрела со стороны как раз противоположной той, куда скрылся охотник.
— Это выстрелил сержант, — заметил Чэйн.
— Вперед! — скомандовал я.
И мы поспешили к тому месту, откуда послышался выстрел. Метров через сто мы встретили Линкольна, который шел назад с ружьем на плече.
— Ну? — произнес я.
— На мустанге в самом деле был седок, капитан, но теперь его больше нет.
— Что это значит, сержант?
— То, что на мустанге сейчас уже никто не сидит. Один из них удрал, то есть это мустанг, а седок остался на месте.
— Как! Сержант, вы убили…
— Да, капитан, и убил не зря.
— А именно?
— Во-первых, это был гверильяс, а во-вторых, конный разведчик.
— Как вы узнали это?
— Как не узнать, капитан! Я все время шел по его следам. На поляне, которую, мы перед тем пересекли, не было следов: значит, он ехал не отсюда. В одном месте, у густой заросли, была стоянка… много разных следов осталось…
— Хорошо. Дальше что?
— Я все шел по следам, пока не увидел его самого. Он почти лежал на лошади, а не сидел, как сидят обыкновенно добрые люди. Это показалось мне очень подозрительным. Вгляделся — оказывается, и ружье есть у него. «Плохо дело!» — думаю. Ну, взял и выстрелил… Проклятый мустанг удрал, но седока я обшарил и нашел вот что… С этой штучкой не выйдешь на гризли…
— Что вы сделали! — крикнул я, схватив блестящий предмет, который мне подал охотник.
Это был стилет с серебряной ручкой, который я в прошлое свое посещение подарил молодому Нарсиссо.
— Я полагаю, ничего дурного, капитан…
— А каков собой этот мексиканец… какое у него лицо? — спрашивал я тревожно.
— Каков собой? Да не особенно красив. Похож на индейца. Не угодно ли, впрочем, вам самим посмотреть: он валяется недалеко отсюда…
Я соскочил с коня и бросился вслед за Линкольном в чащу. Шагов через двадцать я чуть-чуть не споткнулся о тело, лежавшее в тени. Оно лежало на спине, а лицо его было ярко освещено лунным светом. Я наклонился над ним. Одного взгляда было достаточно, чтобы удостовериться, что я никогда не видел его прежде. Это был самбо с длинными волосами, похожими на шерсть. По полувоенной одежде можно было узнать в нем гверильяса. Линкольн был прав.
— Не правда ли, капитан, хорош? — сказал Линкольн, когда я кончил осмотр.
— Вы думаете, он выслеживал нас?
— Нас или еще кого, но что он выслеживал — это верно.
— Никто не знал, что мы поедем сюда. Едва ли он гнался за нами, — заметил я.
— Нет, это очень может быть, — проговорил подъехавший Клейли, — кому-то, наверно, хорошо известно все, что мы делаем. Этот «кто-то» знает, конечно, и об уводе из города Нарсиссо, и о наших визитах на гасиенду…
— Да, это верно… А мы все еще медлим… Рауль, вперед, только осторожнее, тише, как можно тише…
Мы поехали гуськом по узкой тропинке.
Глава 31
В ПЛЕНУ У ГВЕРИЛЬЯСОВ
В полях, окружавших ранчо, все было тихо. Дом стоял цел и невредим. Я начал успокаиваться.
— Вперед! — скомандовал я громко.
— Капитан! — окликнул меня шепотом француз, придерживая лошадь у живой изгороди,
— Ну, что такое?
— В том конце аллеи, по которой нам нужно ехать, идет кто-то, — вполголоса сообщил Рауль.
— Наверно, кто-нибудь из слуг… Бояться нечего… Вперед…
Доехав до конца аллеи, Клейли и я спешились, приказав людям дожидаться нас, и пошли к дому. В нем было тихо, и все казалось по-старому.
— Уж не легли ли они спать? — заметил Клейли.
— Нет, слишком рано… Может быть, они внизу, ужинают?..
— Вот это было бы очень кстати: я страшно голоден…
Мы подошли к веранде. По-прежнему стояла тишина.
— Где же собаки? — недоумевал я.
Мы вошли в дом.
— Странно! — бормотал я. — Никто не показывается… Но куда же девалась мебель?
Мы подошли к лестнице. Я взглянул вниз — ни света, ни звука…
Я обернулся и вопросительно взглянул на своего спутника. В это время мое внимание привлек странный шорох в тени оливковых деревьев у входа в ранчо. А в следующий момент нас окружила целая гурьба людей, и не успели мы опомниться, как уже лежали на спине со связанными руками и ногами.
В то же время послышался шум борьбы в аллее, где мы оставили наших людей. Раздались выстрелы… Через минуту толпа мексиканцев повалила оттуда, ведя в середине связанных Линкольна, Чэйна и Рауля. Нас всех уложили рядом. Лошадей привязали к деревьям.
Человек двенадцать остались караулить, остальные отправились в сад, откуда вскоре послышались смех и веселые голоса. Мы не видели, что там делалось. Нам казалось, что все происходящее — какой-то тяжелый кошмар…
Линкольн был весь опутан веревками. Он сопротивлялся ожесточенно и убил одного из мексиканцев. Спеленатый точно мумия, он скрипел зубами, на губах его от ярости выступила пена. Рауль и ирландец Чэйн относились спокойно к своему положению.
— Хотелось бы мне знать, сегодня прикончат нас или подождут до утра? Как ты думаешь, Чэйн? — посмеивался Рауль.
— Вероятно, времени терять даром не будут, — отозвался Чэйн. — Того и гляди, вздернут всех на воздух…
— А разве ты не надеешься на помощь Патрика, образок которого носишь на груди?
— Патрик вряд ли прибежит спасать меня, но мексиканцы, узнав, что я католик, быть может, смягчатся. Хорошо бы достать образок, но я и пальцем не могу пошевельнуть.
— О, это сейчас можно устроить… Hola, senor! — крикнул француз, обращаясь к одному из гверильясов.
— Quien? (Кого зовешь?) — спросил тот, приближаясь.
— Usted su mismo! (Тебя самого!)
— Que cosa? (В чем дело?)
— У этого вот джентльмена, — продолжал Рауль по-испански, указывая на Чэйна, — карманы полны серебром…
Этих слов было достаточно. Гверильясы, почему-то забывшие обыскать нас, в один миг обшарили наши карманы, К сожалению, во всех наших кошельках, вместе взятых, оказалось не больше двадцати долларов. У Чэйна же, как нарочно не было ни цента. Пострадал за это Рауль, которому обманутый им гверильяс отплатил проклятьями и пинками. При обыске разорвали ворот куртки ирландца, и мексиканцы заметили католический образок.
Гверильясы пошептались о чем-то и слегка ослабили веревки ирландца.
— Благодарю вас за любезность, сеньоры! — сказал Чэйн. — Чувствую себя теперь гораздо лучше.
— Muy bueno! (Очень хорошо!) — ухмыляясь, проговорил один из мексиканцев.
— Да, muy bueno, клянусь честью, но я вовсе не обиделся бы, если бы мне было еще лучше… Не можете ли вы ослабить еще чуть-чуть веревку на этой руке? Она режет, как бритва.
Все невольно рассмеялись. Лишь один Линкольн лежал безмолвно.
Маленький Джек был положен рядом с охотником. Считая его слабосильным ребенком, мексиканцы связали его очень небрежно. Наблюдая за ним исподтишка, я заметил, что он украдкой выделывал разные фокусы, стараясь освободиться от уз. Но, должно быть, ему не удавалось это, потому что он вдруг застыл в неподвижности.
Однако, когда гверильясы занялись Чэйном и его образками, мальчик подкатился совсем близко к Линкольну. Один из мексиканцев заметил это и, схватив его за пояс, поднял на воздух и воскликнул:
— Mira camarados, qui briboncito! (Смотрите, товарищи, вот маленький негодяй!) И при дружном хохоте гверильясов он швырнул Джека точно котенка в кусты, где он и скрылся из наших глаз.
— Ох, чтоб мне провалиться на этом месте, если это не французишка Дюброск! — заорал вдруг Чэйн.
Я поднял глаза: передо мной действительно стоял Дюброск!
— А! Капитан! — насмешливо сказал он. — Comment vous porte-vous? Вы пожаловали сюда на охоту за птичками? К сожалению, они улетели из гнездышка…
Будь я связан только ниточкой, я и то бы не пошевельнулся, до такой степени меня поразило появление Дюброска и его злорадное сообщение. Мысль о том, что Гвадалупе несчастна, парализовала меня.
«Неужели, — подумал я, — она во власти злого духа?»
— А! Какая чудная лошадь! — воскликнул креол, подходя к моей лошади. — Это — чистокровный араб. Посмотри, Яньес! Если вы ничего не имеете против, я оставлю ее себе.
— Берите, — процедил сквозь зубы гверильяс.
Это был, очевидно, начальник отряда.
— Благодарю вас… Позвольте, капитан, — обратился он ко мне, — принести и вам благодарность за прекрасный подарок. Вы возмещаете мне потерю моего доброго мустанга, которого ты, негодяй, загнал неизвестно куда, sacre!
Последние слова относились уже к Линкольну и сопровождались сильным пинком в грудь.
Этот удар вызвал эффект, которого никто не мог ожидать. Линкольн разом вскочил на ноги, а веревки упали… Схватив лежавший возле карабин, он ударил им Дюброска по голове; француз тяжело рухнул на землю…
В тот же миг охотник был окружен мексиканцами, замахивавшимися ножами и саблями.
Однако, размахивая ружьем, он проложил себе таким образом дорогу и исчез в темноте, испуская вой, как раненый зверь.
Некоторые из гверильясов с криками ярости кинулись за ним.
Послышались выстрелы и новые крики…
Дюброска отнесли в ранчо. Он был без чувств…
Мы все еще не могли понять, каким образом освободился наш товарищ, когда один из гверильясов, подняв обрывок веревки воскликнул:
— Carajo! ha cortado el briboncito! (Этот маленький негодяй перерезал веревки!) — Он побежал в кусты, куда был брошен Джек. Мы затаили дыхание, ожидая услышать вопли безжалостно убиваемого мальчика. Сердца наши замерли.
— Рог todos santos! Se fue! (Клянусь всеми святыми! Он убежал!) — донесся голос гверильяса.
— Ура! — рявкнул Чэйн. — Вот так молодчина наш Джек!
Гверильясы бросились в погоню за мальчиком, но скоро возвратились ни с чем…
Нас разъединили, так что мы не могли говорить друг с другом. К каждому был приставлен отдельный часовой.
Возвратились и те, которые гнались за Линкольном. Из их разговоров можно было заключить, что им не удалось поймать ни охотника, ни Джека.
Гверильясы совещались о чем-то около ранчо — мы чувствовали, что там решалась наша судьба. Наконец совещание окончилось. Мексиканцы начали готовиться к отъезду. Наших лошадей увели куда-то, вместо них вывели оседланных мулов. Нас посадили на них и крепко привязали к седлу. Сверху на каждого накинули серапе, глаза завязали. Труба подала сигнал к походу, послышался стук копыт, и мы почувствовали, что наши мулы тронулись в путь…
Глава 32
СКАЧКА ВО МРАКЕ
Ехали всю ночь. Не будь глаза наши завязаны, нам непременно выхлестало бы их ветвями, то и дело ударявшими нас по лицу. Шуршание листьев и треск сучьев, стегавших нас со всех сторон, доказывали, что мы едем посреди густого леса. Веревки глубоко врезались в тело. Руки и ноги затекли.
Под утро мы, судя по движению мулов, очутились в горах. Мы то поднимались, то опускались. Затем все поехали гуськом, — значит, попали в ущелье.
Рауль ехал впереди меня, и от времени до времени мы перекидывались несколькими фразами.
— Как ты думаешь, Рауль, куда это нас везут? — спросил я его по-французски.
— В гасиенду Сенобио. По крайней мере, я надеюсь на это…
— На что же тут надеяться?
— Потому что если мы попадем к нему, то, может статься, и не будем повешены: Сенобио — человек благородный.
— Ты знаешь его?
— Знаю, капитан! Я оказывал ему кое-какие услуги насчет контрабанды.
— Как, он контрабандист?
— Да… В этой стране контрабанда не считается особенно бесчестным делом. Ею живут сами чиновники. Надо же чем-нибудь вознаградить себя за плохое жалованье!.. А Сенобио, можно прямо сказать, — контрабандист первой руки.
— Так ты думаешь, что мы попали в руки именно отряда Сенобио?
— О, да! Попадись мы Харауте, то давно бы уже наши тела болтались в воздухе перед гасиендой дона Косме. Этот поп-разбойник не дает спуску своим врагам. А если бы ваш покорный слуга попал к нему в руки, то, смею вас уверить, что он был бы повешен вдвое скорее, чем любой другой пленник…
— А почему же ты думаешь, что нас захватила гверилья, Сенобио?
— Я знаю Яньеса. Это один из офицеров Сенобио, он командует этим отрядом. Удивляюсь только, что он увез нас, несмотря на то что с ним находился Дюброск. Быть может, кто-нибудь сумел расположить его в нашу пользу.
Это замечание заставило меня задуматься.
— Да, я не ошибаюсь, — заговорил снова Рауль, проехав несколько времени молча. — Мы едем по горе, которая находится на берегу реки Сан-Хуан.
Действительно, через несколько минут мулы вступили в воду.
Рауль заговорил снова:
— Да, это Сан-Хуан; я узнаю каменистое дно. И вода должна быть в это время года как раз такой глубины…
Брызги летели выше головы. Вода доходила до наших седел. Хотя мы находились под тропиками и солнце пекло — вода была холодна, как лед. Это происходит оттого, что река питается снегами Орисавы.
— Ну, теперь я знаю наверное, куда нас везут, — продолжал Рауль. — Сейчас мы выедем на берег. Тут очень скользко. Берегитесь, капитан!..
— Чего же беречься, Рауль? — спросил я с недоумением.
— Ох, я совсем потерял голову, капитан! — со смехом ответил он. — Говорю так, как будто вы свободны…
— Да что же может случиться?
— Можете упасть. Мы подъезжаем к пропасти. Если вашему мулу угодно будет оступиться, вы полетите в глубину по меньшей мере полутораста метров.
— Неужели?!
— Ничего, капитан, успокойтесь. Мулы идут твердо, да и тюки привязаны к ним прочно.
Рауль смеялся, но мне было вовсе не до смеха. Мысль, что я нахожусь во власти глупого мула, который может полететь кувырком вместе со мною, приводила меня в ярость. А я знал, что в горах часто бывают подобные случаи…
«Зачем он сказал мне об этом?» — думал я.
Я налег всем телом на мула, стараясь приспособиться ко всем его движениям. Внизу ревел поток, но шум его ослабевал все более по мере того, как мы поднимались вверх…
Мы поднимались все выше. Под ногами наших мулов обрывались камни и с грохотом падали вниз. Но вот мулы приняли опять горизонтальное положение, нас охватило теплым ветром — мы начали оживать. Опасное место было пройдено благополучно… Да, но что ожидало нас впереди? Не та же ли смерть?
Глава 33
ВЫПИВКА A LA CHEVAL
Гверильясы остановились и спешились. Нас оставили на мулах, которых привязали к кольям длинными лассо. Животные начали щипать траву, бродя под колючими ветвями дикой локусты.
Наши мундиры превратились в лохмотья. Мы чувствовали себя совершенно разбитыми, вдобавок в наши ноги впивались ядовитые колючки кактусов. Всего хуже было то, что мы сидели на деревянных седлах. Ко всему этому присоединялась еще страшная боль от ремней и веревок, которыми мы были связаны. Вокруг нас зажгли костры. Гверильясы жарили на завтрак мясо и варили шоколад. Нам не предлагали ни пить, ни есть, а мы были голодны и томились жаждой. Стоянка продолжалась около часу.
— Тут стоит другой отряд с вьючными мулами, — шепнул мне Рауль.
— А это ты откуда узнал?
— По крикам погонщиков. Прислушайтесь-ка…
Действительно, в некотором отдалении от нас слышались громкие крики на испанском языке, оправдывавшие предположение Рауля:
— Mula! anda! vaya! levantate! cartai! rnula! mulita! anda! st! st!
Вдруг мне послышался знакомый женский голос… Неужели Гвадалупе тоже очутилась тут?!
Эта мысль была слишком мучительна, и я не мог долго останавливаться на ней…
Прозвучал рожок — и мы отправились дальше. Должно быть, мы ехали по самой вершине горы. Растительности больше не было, а жара делалась нестерпимой. Серапе, которые служили нам ночью прекрасной защитой от холода, теперь становились лишней тяжестью, неудобством. Но до этого нашим мучителям, конечно, не было дела. Лишь после я узнал, что завернули нас в них вовсе не с целью уберечь от холода…
Мы умирали от жажды, и Рауль попросил воды у одного из гверильясов.
— Carajo! — произнес тот. — Стоит ли заботиться? Скоро вас так успокоят, что вы никогда больше не захотите ни пить, ни есть…
Эта грубая шутка вызвала взрыв смеха со стороны товарищей говорившего.
Около полудня мы опять стали спускаться и различили шум воды.
— Где мы теперь, Рауль? — спросил я чуть слышно.
— Подъезжаем к реке. Это рукав Антигвы.
— Опять придется пробираться вдоль пропасти?
Увеличивавшийся рев бурливого потока и острый холодок, поднимавшийся снизу, бросали меня в дрожь.
— Да, капитан, но дорога будет широкая и удобная, — ответил Рауль. — Там даже вымощено…
— Вымощено? Значит, мы поедем не по какой-нибудь необитаемой пустыне?
— Именно по пустыне, но дорога была проложена монахами…
— Монахами?! — воскликнул я удивленно.
— Да, в долине есть монастырь… впрочем, он был там когда-то, теперь же от него остались одни развалины…
Мы все спускались. Временами казалось, что мулы идут на головах, ногами кверху. Шум потока становился оглушительным.
Рауль крикнул мне что-то, чего я не мог разобрать, но мне показалось, что это было какое-то предупреждение. Вслед за тем он точно пропал куда-то, как будто его унесло в пропасть.
Я ожидал, что кувыркнусь за ним вдогонку, когда вдруг мой мул заржал и заметался во все стороны… Падаем… падаем! Нет, мул сделал легкий прыжок
— и поскакал по ровной горизонтальной местности… Я спасен!..
Однако при каждом шаге мула веревки и ремни все глубже и глубже врезались в тело… Мул снова прыгнул, и я очутился в воде по колено.
Вдруг мул круто остановился.
Придя немного в себя, я собрал последние силы и окликнул француза.
— Я здесь, капитан! — ответил Рауль таким странным голосом, как будто набрал в рот воды.
— Ты ранен?
— Ранен? Нет капитан!
— Так в чем же дело?
— А… Я хотел предупредить вас, но было уже поздно. Потом сообразил, что животные непременно сами остановятся. Ведь они, думаю, чувствуют себя не лучше нашего. Слышите, как они громко пьют?
— Ах, я умираю от жажды! — вскрикнул я, услыхав, как мулы втягивали воду сквозь сжатые зубы.
— Капитан, следуйте моему примеру, — продолжал говорить Рауль точно из глубины колодца.
— Что же я должен делать?
— Нагнитесь и пейте прямо из реки…
Наконец-то я понял, отчего у него был такой странный голос.
— Они не хотят дать нам ни одной капли воды, — значит, надо самим добывать ее, капитан!
— Но я не могу, Рауль!
— Почему же?
— Не могу, вот и всё…
— До каких пор вы находитесь в воде?
— До седла…
— Поверните сюда, капитан, у меня глубже.
— Как же я поверну? Мул делает, что ему угодно, и я не могу заставить его двинуться, куда мне нужно….
— Parbleu! Об этом я и не подумал…
Пожелал ли мул оказать мне услугу или ему захотелось получше выкупаться — неизвестно, но он направился в более глубокое место реки.
Я нагнулся, и мне удалось окунуть голову в воду. Я ухитрился сделать несколько глотков в этом неудобном положении, но вода заливала мне нос и уши…
Клейли и Чэйн последовали моему примеру; ирландец ворчал и ругался. По его мнению, стыдно было заставлять честного католика пить прямо из реки, как лошадь…
Наконец наши мулы вышли из воды. Вдруг кто-то осторожно дотронулся до моей руки. В тот же момент чей-то голос шепнул мне на ухо:
— Мужайтесь, капитан!
Я вздрогнул: неужели женский голос! Я хотел ответить что-нибудь, но в это время маленькая, мягкая и нежная рука зажала мне рот и что-то всунула мне между зубами. Затем послышался стук копыт — таинственный всадник отъезжал от меня галопом.
Кто бы это мог быть? Джек? У Джека тоже маленькие мягкие руки, но он никак не мог попасть сюда… Но что в моих губах? Кусок бумаги, — вероятно, записка. Как же мне прочесть ее?
Наши мулы опять остановились.
— Это развалины, капитан! — проговорил Рауль. — Древний монастырь Санта-Бернардино.
— А как ты думаешь, зачем мы остановились тут?
— Вероятно, на обед. Ведь утром был лишь легкий завтрак. Мексиканцы с tierra caliente никогда не путешествуют после обеда… Очевидно, здесь мы останемся до вечера.
— Не мешало бы и нам отдохнуть, — проговорил Клейли. — Я бы отдал свое трехмесячное жалованье за то, чтобы хоть потянуться как следует…
— Они, наверное, снимут нас с мулов, заботясь, конечно, об отдыхе животных, а не о нашем.
Это последнее предположение Рауля оправдалось. Нас сняли с седел, крепко скрутили нам руки и бросили на какой-то сырой каменный пол. Захлопнулась тяжелая дверь, послышался мерный шаг часового… Мы остались одни. В сущности, положение наше не изменилось, но мы могли разговаривать свободно, и это казалось нам чуть ли не счастьем…
Глава 34
КАК ПРОЧЕСТЬ ПИСЬМО?
— Ну, что вы слышали по дороге о Дюброске? — обратился я к товарищам. С момента бегства Линкольна никто ничего о нем не слышал.
— Я думаю, капитан, — заговорил ирландец, — что он больше не доставит нам никаких неприятностей. Сержант здорово угостил его…
— Ну, не так-то просто убить человека одним ударом приклада! — заметил Клейли. — Меня интересует вот что: каким образом добился он так скоро положения среди мексиканцев?
— Мне кажется, лейтенант, — ответил Рауль, — что Дюброск бывал здесь и раньше. В Вера-Круце я слышал о каком-то креоле, похитившем девушку из богатой семьи и женившемся на ней. И я почти уверен, что фамилия этого креола была именно Дюброск. Кроме того, я припоминаю, что этот парень был шулером или чем-то в этом роде. Разговоров об этом тогда было достаточно.
Я с беспокойством вслушивался в слова француза. Его рассказ вполне соответствовал тому, что я знал раньше. Меня мучила мысль, что это чудовище может иметь какое-нибудь отношение к Гвадалупе!.. Я не стал дальше расспрашивать Рауля: мне было слишком тяжело слушать его рассказы.
Наш разговор был прерван скрипом двери. С наших глаз сняли повязку. Свет проникал в нашу камеру лишь через маленькое окошечко, но и этот слабый луч света показался нам сиянием полуденного солнца! Два мексиканца внесли глиняные тарелки, наполненные бобами, и поставили на пол, рядом с нами.
— Очень любезные джентльмены! — сказал Чэйн. — Но скажите на милость, как мы будем поглощать наш обед?
— Черт возьми! — воскликнул Клейли. — Они не принесли нам ни ножей, ни вилок. И, кажется, не собираются развязать нам руки…
— Вы позволите есть нам хотя бы руками? — спросил Рауль одного из гверильясов.
— Нет! — ответил грубо мексиканец.
— Что же нам делать?
— Жрите как собаки!..
— Благодарю вас, сэр, вы очень любезны.
— А если не нравится, не ешьте совсем! — заключил мексиканец, выходя со своим товарищем.
Тяжелая дверь закрылась за ними.
— Благодарю вас, джентльмены! — закричал им вслед Рауль. — Как-нибудь обойдемся… Все же мы должны быть благодарны и за это, — обратился он к нам. — Признаться, я не ожидал от Яньеса и такой милости.
С этими словами Рауль подкатился к тарелке с бобами и принялся за них с аппетитом.
— Ах, проклятые! Заставить порядочных людей лакать, как животных! — воскликнул Чэйн.
Тем не менее и он последовал примеру француза.
— А как вы, капитан? — спросил Клейли. — Надо питаться.
— Начинайте без меня, — ответил я.
Я решил попробовать прочитать записку. Подкатившись к двери, я после некоторых усилий встал на ноги. Окошечко приходилось как раз против моего подбородка. Оно было пробито в толстой двери и, таким образом, имело довольно широкий подоконник. На этом подоконнике мне и удалось наконец расстелить мою бумажку.
— Какого черта вы там толчетесь, капитан? — спросил Клейли, удивленно наблюдавший за моими маневрами.
Рауль и ирландец оторвались от своих бобов.
— Тише, продолжайте ваш обед и не мешайте мне.
Я прочел следующее:
«Сегодня ночью ваши веревки будут перерезаны, и вы получите возможность бежать. Не бегите назад — именно в этом направлении вас будут преследовать. Кроме того, там вы подвергнетесь риску встретиться с другими отрядами гверильясов. Берите направление на Сан-Хуан или Манга-де-Клаво. Ваши передовые посты уже достигли этой линии. Проводником будет француз, он хорошо знает эти места. Мужайтесь, капитан! Прощайте!
P.S. Они ждали вас. Был послан человек предупредить вас, но он оказался предателем или сбился с дороги. Прощайте, прощайте!»
— Это тот самый человек, — воскликнул я невольно, — которого убил Линкольн!
Из предосторожности я снова схватил бумагу губами, сжевал и проглотил ее.
«Кто же был моим спасителем? Терпение! Ночь раскроет мне эту тайну…»
Глава 35
КОБРА ДИ-КАПЕЛЛО
До этого момента все мое внимание было поглощено запиской — я и не думал о том, что творилось за стенами нашей темницы. Но теперь, когда записка была прочтена и уничтожена, мне захотелось выглянуть наружу. Я встал на цыпочки и просунул голову в амбразуру окна.
Солнечные лучи проникали сквозь широкие листья пальмы. Их обвивал дикий виноград. Дальше сверкали белоснежные цветы магнолии, ветви померанцевых деревьев склонялись под тяжестью золотых плодов. Ближе стояла купа пальм коросо. Их голые стволы были обвиты лианами. Под пальмами я заметил три гамака. Один из них был пуст, в двух остальных лежали две женщины. Я не видел их лиц. Они лежали неподвижно, — вероятно, спали…
Вдруг одна из женщин оглянулась, приподнялась в гамаке, что-то прошептала и заснула снова. Теперь ее лицо было обращено ко мне. Я вздрогнул. Мое сердце забилось. Я узнал черты Гвадалупе Розалес.
Во сне она спустила ножку с гамака. Маленькая шелковая туфля упала и лежала на траве… Ее головка покоилась на шелковой подушке. Черные волосы распустились…
Мое сердце было полно самыми противоположными чувствами. В нем смешивались удивление, радость, любовь и горечь.
Да, горечь! Как могла она спать так спокойно и сладко, в то время как я в нескольких шагах от нее, связанный, измученный, лежал в темнице!..
Вдруг мое внимание привлек неизвестный странный предмет. Я заметил среди лиан какую-то длинную черную ленту. Сначала я принял ее за разновидность ползучего растения, но, присмотревшись внимательно, я обнаружил, к своему ужасу, что лента шевелится. Это была змея! Она спускалась вниз по лианам в гамак… Я всматривался все пристальнее и заметил на ее голове выступы вроде рогов. Сомнений быть не могло: это была ужасная рептилия Америки — макаурель, или кобра ди-капелло!
Змея осторожно вытягивала шею. Теперь она была всего в каком-нибудь полуметре от спящей девушки…
Вот она начала раскачивать головой с пронзительным свистом, ее челюсти раскрылись, раздвоенный язык сверкал на солнце, как рубин!..
Она пристально смотрела на свою жертву, будто хотела зачаровать ее. И мне показалось, что губы девушки зашевелились, и голова ее начала раскачиваться взад и вперед, следуя движениям головы кобры.
Я следил за происходящим, не будучи в состоянии шелохнуться. Я никак не мог помочь девушке!.. Единственное спасение было в спокойствии. Если она не пошевелится, то змея может уползти, не укусив ее…
— Неужели она просыпается?.. — шептал я. — Нет, нет, она еще спит… Она проснулась! Она встает!..
В это время раздался выстрел. Змея свернулась кольцами и упала на землю, извиваясь от боли.
Девушки вскрикнули, вскочили с гамаков и исчезли.
Прибежало несколько мексиканцев. Они добили змею саблями. Один из них нагнулся, рассматривая мертвую гадину.
Вдруг он воскликнул:
— Carajo! Голова прострелена.
Минуту спустя полдюжины гверильясов ворвались в нашу дверь с криками:
— Quien tira? (Кто стрелял?)
— В чем дело? — сердито спросил Рауль. Он был в дурном настроении и не подозревал о происходившем снаружи.
— Я спрашиваю, кто стрелял? — повторил мексиканец.
— Кто стрелял? — спросил Рауль. — Разве мы похожи на стрелков? Если бы я только имел возможность, мой милый друг, стрельнуть хоть один раз, то поверь мне, что моя пуля была бы предназначена для твоего дурацкого черепа…
— Это не они, — воскликнул мексиканец, — ведь они связаны!
И мексиканцы снова оставили нас одних.
Глава 36
ШТАБ ГВЕРИЛЬЯСОВ
Мои мысли были не из приятных.
«Одна ли она здесь или со своей сестрой? Как они попали в руки бандитов? Где их родители?»
Я не получал ответа на эти вопросы.
— Уверяю вас, это было ружье сержанта, — говорил Чэйн.
Я прислушался к разговору товарищей.
— У него совсем особый звук, — продолжал ирландец, — совсем не похожий на мексиканские ружья…
— Странно! — пробормотал я.
— А я видел мальчика, капитан, — обратился ко мне Рауль, — когда они открывали дверь, он как раз проходил мимо.
— Мальчика, какого мальчика?!
— Да того самого, которого мы выудили из города.
— А, Нарсиссо! Вы его видели?
— Да, его самого, а кроме того, белого мула, на котором старый джентльмен ездил в лагерь. Я уверен, что вся семья здесь. Может быть, только благодаря этому мы до сих пор и живы…
За последние двадцать часов я ни разу не подумал о Нарсиссо. Теперь мне все стало ясно. Самбо, которого убил Линкольн, был послан предупредить нас об опасности. Кинжал был передан ему Нарсиссо для того, чтобы мы поверили посланцу. Женский голос, маленькие мягкие руки — и то, и другое принадлежали Нарсиссо. Значит, она знает, что я здесь, и она спит спокойно в двух шагах от меня, а я страдаю, со мной обращаются, как со зверем…
Мои горькие размышления были прерваны несколькими гверильясами, вошедшими в нашу темницу. Нам завязали глаза, вывели и посадили на мулов.
Заиграл рожок. Мы снова тронулись в путь.
— Я хорошо знаю эту дорогу, — проговорил Рауль, — мы приближаемся к гасиенде Сенобио. Когда-то я возил этим путем контрабандный табак. Все это проделывалось по ночам…
— А я думал, что контрабандистам не приходится прибегать к таким предосторожностям…
— Как когда. Иногда правительство вдруг проявляет бдительность, и тогда контрабанда становится опасным занятием. Я никогда не забуду этих холмов. Однажды в здешних местах я чуть не отправился на тот свет.
— Каким образом? — заинтересовался я.
— Сенобио закупил большую партию товара у одного купца в Оахаке. В устье Меделлина стоял корабль, на борт которого мы должны были доставить эту партию. Сенобио отобрал самых надежных ребят: товар был ценный. Мы были вооружены до зубов и получили от патрона приказ защищаться до последней капли крови. Правительство как-то пронюхало об этом деле, из Вера-Круц был послан отряд нам наперерез. И вот на этом самом холме мы повстречались.
— Ну, и что же дальше?
— Сражение продолжалось около часу. Мы потеряли троих лучших людей, зато и мы перебили пол-отряда, а вторую половину заставили бежать обратно в Вера-Круц.
— А что же сталось с вами?
— Благополучно сдали товар. Трое из нас остались лежать у подножия холма, едва не лег и я рядом с ними. У меня насквозь было пробито бедро. Шрам виден до сих пор. По временам болит невыносимо.
Нашу беседу прервал лай собак. Лошади заржали, им ответили мустанги, пасшиеся где-то поблизости.
— Мне думается, Рауль, дело близится к вечеру, — заметил я.
— Да, как будто стало посвежее, — ответил он.
Собаки умолкли. Кто-то здоровался с нашими провожатыми. Копыта лошадей и мулов гулко застучали по каменным плитам. По звукам мы догадались, что едем под каменными сводами. Остановились. Нас сняли с седел и бросили на плиты, точно тюки с товарами…
Мы прислушались к раздававшимся вокруг нас звукам. Ржали лошади, выли и лаяли собаки, мычали быки и коровы, бряцали сабли и шпоры, визжали женщины, кричали и ругались мужчины.
Кто-то возле нас говорил:
— Они из того самого отряда, который ускользнул от нас в Ля-Вирхене. Между ними — два офицера…
— Каррамба! У них были какие-то заколдованные пули! Надо надеяться, что патрон повесит всех этих янки.
— Quien sabe! (Кто знает!) — произнес другой голос. — Пинсон захвачен сегодня утром в Пуенте-Морено. Наскочили драгуны. Наши ничего не могли поделать. Вы знаете, как старик любит Пинсона: он скорее лишится жены, чем его….
— Так вы думаете, что он предложит обмен?
— Очень может быть…
— О нас с вами он не стал бы беспокоиться. Изруби нас в куски на его глазах, он и пальцем бы не пошевельнул…
— Всегда так бывает. Чем больше стараешься, тем меньше тобой дорожат…
— Верно! Мне порядком надоело возиться со стариком. Право, Хозе, я, того и гляди, удеру к падре.
— К Харауте?
— Ну да. Он сейчас со своим харочо где-то у Puente National. Между ними — несколько человек моих товарищей с Рио-Гранде. Живут они в палатках и ведут превеселую жизнь, как я слышал. Если бы эти молодчики попались вчера падре Харауте, их сегодня не было бы уже на свете…
— Это верно. Однако надо развязать их и дать им поесть, — может быть, они и ужинают-то в последний раз…
С этими утешительными для нас словами тот, которого звали Хозе, снял с нас повязку. Вечерний свет так ослепил нас, что мы не сразу могли различить, что творилось вокруг нас.
Мы лежали в углу patio — широкого двора, окруженного домами с плоскими крышами и толстыми стенами. За исключением первого дома, все здания были одноэтажные.
Украшенный балюстрадами портик главного дома был уставлен громадными вазами с растениями и цветами и защищен от солнца пестрой шелковой драпировкой.
Посредине патио помещался обширный каменный бассейн с фонтаном, окруженный померанцевыми деревьями, ветви которых свешивались над водою. На самом видном месте стояли две небольшие пушки. С одной стороны двора тянулись большие ясли, насыпанные маисом. К ним подводили проголодавшихся дорогой лошадей и мулов.
Громадные собаки, лежавшие на раскаленных плитах мостовой, ожесточенно лаяли, когда появлялся какой-нибудь новый всадник. Это были знаменитые испанские ищейки из породы тех, которыми Кортес травил когда-то ацтеков.
Гверильясы расположились вокруг разведенных огней, поджаривая на кончиках сабель куски вяленого мяса.
Некоторые чинили сбрую или чистили оружие, другие прогуливались взад и вперед, гордо драпируясь в роскошные manga или живописные серапе. Тут же ходили женщины в цветных рубашках.
Служанки приносили большие кувшины с водой или, стоя на коленях перед каменными очагами, скатывали тесто для тортилий и жарили бобы.
Все весело смеялись, шутили и болтали. Никому не было грустно, кроме нас, злополучных пленников, которых, быть может, ожидала в ближайшем будущем ужасная смерть…
Из вестибюля главного дома выходили офицеры, отдавали распоряжения и снова скрывались.
В одном углу двора лежали нагроможденные друг на друга тюки товара. Вблизи них расположились арриеро — погонщики мулов в живописных кожаных костюмах. Через крыши низких зданий — мы находились на возвышении — мы могли видеть зелень лугов и лесов. Вдали обрисовывались снежные вершины Анд. Выше всех вздымался к небу, как снежная пирамида, пик Орисавы.
Солнце уже скрылось за горами; последние лучи озарили конус Орисавы, заливая его расплавленным золотом. Облака, отливавшие пурпуром, окутывали вершины более низких Кордильер. Только самый высокий пик — Сверкающая Звезда
— одиноко вздымался из тумана…
Это была живописная, величественная картина — на один момент я забыл, где я и что со мной… Но грубый голос Хозе вернул меня к действительности. Он вошел с двумя пеонами, несшими наш ужин на большом глиняном блюде.
Ужин состоял из черных бобов и полдюжины тортилий. Так как мы успели изрядно проголодаться, то не подвергли его сильной критике. Нам развязали руки — в первый раз за все время нашего пленения блюдо поставили перед нами. Но опять у нас не было ни ножей, ни ложек, ни вилок. Рауль показал нам мексиканский способ есть бобы, зачерпывая их куском тортильи, и мы принялись за ужин…
Глава 37
ЧЭЙН УХАЖИВАЕТ
Поставленное посреди нас громадное блюдо с бобами было опорожнено в один миг.
— Превкусная штука, хотя и неказистая, — со вздохом говорил Чэйн, грустно смотря на пустое блюдо. — Милый сеньор, не можете ли вы дать нам еще немного бобов или тортилий? — обратился он к стоявшему возле нас Хозе.
— No entiende (не понимаю), — ответил тот, отрицательно качая головою.
— No in ten days! (Не раньше десяти дней!) — воскликнул Чэйн, принимая испанское «nо entiende» за дурно произнесенное английское «no in ten days».
— Ох, как жестоко вы изволите шутить! Через десять дней Муртааг Чэйн будет ужинать на том свете, где дадут чего-нибудь получше ваших бобов!
— No entiende, — повторил мексиканец.
— No in ten days, да мы до тех пор успеем умереть с голоду! Мы сейчас хотим бобов!..
— Que guiere? (Чего он хочет?) — обратился мексиканец к Раулю, хохотавшему до слез.
— Что он там лопочет? — горячился Чэйн.
— Говорит, что не понимает тебя…
— Так скажи ты ему, что мы просим дать нам еще бобов и лепешек.
Рауль перевел слова Чэйна.
— No hay (нету), — сказал Хозе, водя перед носом взад и вперед пальцем.
— No I (не я), — повторил по-своему Чэйн. — Вы не желаете постараться для нас сами?.. Так сделайте милость, пошлите кого-нибудь! Мы на это нисколько не обидимся, только бы прибавили нам порцию…
— No entiende, — еще раз проговорил мексиканец, продолжая мотать головою.
— Да что ты все толкуешь мне о десяти днях! — кричал Чэйн, окончательно выходя из себя. — Ты ведь отлично понимаешь, о чем я тебя прошу, только делаешь вид, что не понимаешь!.. Жаль горсточки дрянных бобов!..
— Да он все время толкует тебе, что нет больше, — сказал Рауль.
— Нет больше? Врет, прохвост. На пятьсот человек приготовлен ужин, и вдруг — нет больше… Не может быть!..
— Frijoles — no hay (бобов нет), — сказал Хозе, догадавшись, о чем говорит Чэйн.
— Fray hobys (от святых), — продолжал коверкать Чэйн испанские слова. — Что ты тут еще толкуешь о святых, когда у вас дьявольские порядки!
Все мы так и покатывались от смеха, слушая эту интересную беседу.
— Рауль, попроси ты у него хоть воды! — злился Чэйн. — Уж в ней-то он отказать не может, раз под носом чуть не целое море…
Рауль исполнил его желание. Кстати сказать, и всем нам очень хотелось пить. Хозе сделал знак одной из служанок; девушка принесла нам полный кувшин воды.
— Потрудитесь, моя красавица, сперва напоить нашего капитана, — сказал Чэйн, указывая на меня. — Надо давать не только поровну, но и по чину.
Служанка поняла его и поднесла мне кувшин. Напившись, я передал воду Клейли, который в свою очередь передал ее Раулю.
Наконец, кувшин дошел до неугомонного ирландца. Однако, вместо того чтобы напиться, этот чудак поставил кувшин между колен, прищурил глаз и вкрадчиво прошептал:
— Скажи-ка, моя милая мучача… ведь так их зовут, Рауль, а?
— Muchacha, да, да…
— Так вот, красавица-мучача, не можешь ли ты достать нам одну капельку… ты уж знаешь, что нам нужно… Рауль растолкуйте!
— No entiende, — проговорила женщина, улыбаясь.
— Черт возьми! И эта тоже твердит о каких-то десяти днях! Да что они, сговорились, что ли!.. Рауль, внуши ты ей, пожалуйста, чего я прошу… Скажи ей, что денег у меня нет, потому что ее милые земляки обобрали меня, но есть два серебряных образка и крестик. Пусть она достанет мне хоть каплю водки, а я за то дам ей на выбор любой образок или крестик…
С этими словами он достал из-за пазухи ремень с реликвиями. Увидав их, женщина вскрикнула от восторга и наклонилась, чтобы рассмотреть лучше. Потом она опустилась на колени и пробормотала молитву — половину по-испански, половину по-ацтекски.
Поднявшись снова на ноги, она ласково взглянула на Чэйна и, сказав: «Bueno catolico!» (Добрый католик!), — торопливо убежала.
— Как ты думаешь, Рауль, принесет она мне водки? — спрашивал Чэйн.
— Наверное принесет. Я уверен, в этом…
Действительно, минут через пять служанка возвратилась и сунула Чэйну маленькую бутылочку с какой-то жидкостью.
Ирландец начал развязывать ремень, висевший у него на шее.
— Что вам больше нравится, миссис? Впрочем, можете взять и то и другое — Чэйну не жалко.
— No, senor! Suproteccion necesita usted! (Нет, сеньор, вам самим нужна эта защита!) — произнесла служанка, отводя руку Чэйна.
— Что такое она говорит, Рауль?
Француз перевел.
— Да, она права! — воскликнул ирландец. — Защита мне нужна, ох, как нужна… Но вот уже десять лет, как я ношу эти образки, и, кроме этой бутылочки, они мне ничего не дали… Капитан, отведайте-ка глоточек!..
Я взял бутылку и отпил из нее глотка два. Это был жгучий, как огонь, chingarito, самый плохой сорт aguardiente, алкогольного напитка, выделываемого из дикого алоэ.
Клейли выпил больше моего. Рауль тоже отхлебнул и возвратил бутылку ирландцу.
— За твое здоровье, дорогая! — крикнул Чэйн, кивая служанке. — Желаю вам прожить до самой смерти!
— No entiende, — повторила она со смехом.
— Ну, ладно, десять дней, так десять… Не будем спорить из-за этого… Ты добрая и милая женщина, право! Жаль только, что одета неказисто. Юбка чересчур коротка и чулки худые… Но зато ноги у тебя — красота!
— Que dice? (Что он говорит?) — обратилась мексиканка к Раулю.
— Он говорит, что у тебя очень маленькие ножки, — сказал Рауль.
Этот комплимент доставил видимое удовольствие служанке. Ноги у нее действительно были маленькие и очень милая походка, несмотря на сбитые задки туфель.
— Скажи-ка мне, ты замужняя? — продолжал Чэйн.
— Que dice? — снова спросила женщина.
— Он спрашивает, замужем ли вы?
Она улыбнулась и помахала пальцем перед носом.
Рауль объяснил, что это движение означает у мексиканцев отрицание.
— А! В таком случае я охотно женюсь на тебе, моя прелесть, если только меня не повесят… Рауль, переведи ей это слово в слово.
Рауль перевел с буквальной точностью. Служанка засмеялась, но ничего не ответила.
— Молчание — знак согласия… А теперь, Рауль скажи ей, что я не намерен покупать поросенка в мешке… Пусть дадут мне удостоверение, что я не буду повешен, и я сейчас же женюсь на ней.
— Fl senor esta muy alegre! (Это очень веселый сеньор!) — сказала женщина, смеясь, когда Рауль перевел и последние слова ирландца. Она схватила кувшин и убежала.
— Что же, Рауль, согласна она? — спросил Чэйн, делая донельзя комическую мину.
— Она еще не решилась ни на отказ, ни на согласие.
— Гм! Плохо дело! Значит, песенка Чэйна спета. Выпьем, Рауль, по этому случаю…
Глава 38
ТАНЕЦ ТАГАРОТА
Наступила ночь. Костры бросали красноватые отблески на стены зданий. Вокруг расположились живописными группами гверильясы в своих широких, украшенных перьями шляпах, с длинными развевающимися волосами, острыми бородами, черными блестящими глазами, белыми сверкающими зубами.
Мулы, мустанги, собаки, пеоны, девушки с распущенными косами, низкие крыши домов, окна, защищенные железными решетками, померанцевые деревья у фонтана, пальмы, простирающие из-за стены широкие ветви, летающие вокруг огненные мухи (cocuyos) — все это составляло странную и чудесную картину.
Раздававшаяся вокруг нас грубая гортанная речь — смесь испанского языка с ацтекским — была нам непонятна. Эта речь, прерываемая взрывами смеха, вой и визг ищеек, ржание мустангов и мулов, стук сабель, бряцание громадных шпор, полуиндейские песни poblanas (крестьянских девушек), аккомпанировавших себе на бандолинах, — все эти звуки сливались в нестройный хор.
Перед одним из костров несколько мексиканцев танцевали род фанданго, называемый здесь tagarota.
К двум игравшим на бандолинах присоединился третий, с гитарой, выкрикивая нечто донельзя дикое…
Танцующие были расположены рядами, образуя квадрат, так что каждый стоял, или, вернее сказать, двигался, глядя в лицо своей партнерше. Они ни одной секунды не оставались в покое, отбивая такт ногами, руками и головой, ударяя себя по щекам и по бедрам, по временам хлопая в ладоши.
Один из гверильясов выскочил на середину и, изображая горбатого, принялся выделывать всевозможные шутки перед своей подружкой. Та присоединилась к нему и начала вместе с ним ломаться и кривляться. Затем эта пара уступила место другой, имитировавшей безруких. За этими появились двое, двигавшиеся на коленях, а затем еще двое, скользившие прямо на спинах, точно у них не было ног… Один танцевал, запрятав голову под мышку; другой выплясывал на одной ноге, закинув другую за шею. Эти двое вызвали всего более смеха и одобрений…
Перед нашими глазами прошел целый ряд всевозможных калек, в подражании которым в сущности и состоит tagarota.
Неприятно было глядеть на это кривлянье. Один танцор бросился во всю свою длину на каменные плиты и начал перекатываться с боку на бок, во всех направлениях, не двигая ни руками, ни ногами. Его осыпали шумными овациями, нахохотавшись предварительно над ним до слез.
Глядя на него, мы невольно вспомнили, что сами накануне проделывали нечто подобное, очутившись в монастырской тюрьме.
— Ну, в этой игре мы, кажется, перещеголяли вчера нашего артиста! — воскликнул Чэйн, с видимым удовольствием следивший за танцами, комментируя насмешливыми замечаниями каждую фигуру.
Мне же надоело смотреть на это отвратительное кривлянье. Я отвернулся и с напряженным вниманием стал всматриваться в полускрытый за шелковой драпировкой вестибюль.
«Почему ни одна из них не показывается? — думал я. — Может, они поехали другою дорогою?.. Нет, они должны быть здесь. Недаром же Нарсиссо обещал освободить нас… Он-то, наверное, находится здесь… А где же она? Сидит там, в гостиной этого дома, веселится, смеется, позабыв обо мне!»
Сердце мое опять сжалось безотчетной тоской.
Вдруг шелковая драпировка раздвинулась…
За вестибюлем виднелась роскошно убранная, ярко освещенная зала. Среди множества офицеров в блестящих мундирах был и Дюброск, элегантный, как всегда. А между богато одетыми дамами я заметил донью Хоакину с обеими дочерьми. Дамы шуршали шелками, сверкали бриллиантами. Несколько молодых людей были в живописных костюмах гверильясов.
Начинались танцы.
— Посмотрите-ка, капитан, ведь это дон Косме с женою и дочерьми! — воскликнул Клейли. — Что это значит, как вы думаете?
— Отстаньте! Не трогайте меня. Клейли! — прошептал я раздраженно.
Мне казалось, что мое сердце перестало биться. В горле пересохло, на лбу выступил холодный пот.
Он приближается к ней… предлагает ей танцевать… Она отказалась! Она вышла в вестибюль, опирается на балюстраду… Неужели она вздохнула? А! Он опять приближается к ней, говорит ей что-то… она улыбается… Он берет ее за руку!
— Дьявол! Коварная женщина! — крикнул я изо всех сил, поднимаясь на связанные ноги.
Я хочу броситься туда, хочу вырвать ее из рук злодея… делаю несколько шагов и тяжело падаю ничком на каменные плиты!
Подбежавшие сторожа схватили меня и снова скрутили мне руки. Моих товарищей тоже связали… Потом нас снесли в подвал и заперли за нами дверь…
Мы снова остались одни..
Глава 39
ПОЦЕЛУЙ ВО МРАКЕ
Я не берусь описывать всех чувств, волновавших меня в новом месте моего заключения. Было холодно, сыро, грязно, но не на это я обращал внимание. Я терзался горем, отчаянием и ревностью и почти не чувствовал физических страданий. Ведь она могла спать, улыбаться, танцевать, танцевать над моей темницей, с моим палачом!..
Мне хотелось умереть, чтобы разом покончить свои мучения, но и не менее страстно я желал жить, чтобы отомстить за себя!
А вдруг это новое заключение в темницу помешает Нарсиссо сдержать свое обещание? Как он проникнет к нам? Дверь заперта двойным замком, к ней приставлен часовой…
После долгих и тщетных усилий я кое-как поднялся опять на ноги и оперся спиною о стену. Я увидел маленькое узкое окно, вроде бойницы. Двигаясь вдоль стены, я добрался до окна и прислушался. Откуда-то доносился волчий вой. Сначала я не обратил на него внимания, но он все усиливался и приближался и казался таким странным, что я, наконец, подозвал Рауля.
Он подполз ко мне.
— В чем дело, капитан?
— Ты слышишь вой? Разве здесь водятся степные волки?
— Но откуда же им взяться?
— Я тоже не понимаю, и мне кажется, что за этим воем что-нибудь скрывается… Знаешь что, ведь это — Линкольн!..
Вой прекратился на время, но затем возобновился в другом месте.
— Что делать, Рауль? — спрашиваю я. — Если ответить ему, обратит внимание часовой… Подождем, когда он подойдет поближе…
Но Линкольн вдруг замолк.
Мои товарищи тоже поднялись и стояли, прислонившись к стене. Надежда на близость спасения оживила и ободрила их…
Прошло около получаса. Мы не произнесли ни слова и не шевелились. Вдруг послышался легкий стук. Приятный, точно женский, голос прошептал под окном:
— Hola, capitan!
Я приложил ухо к отверстию. Возглас повторился. Мне было ясно, что говорил не Линкольн. Вероятно, это Нарсиссо.
— Quien? — спросил я.
— Jo, capitan!
Да, это был голос, который я слышал утром. Значит, под окном был Нарсиссо.
— Можете вы просунуть руку в отверстие? — продолжал голос.
— Нет, у меня руки связаны за спиной…
— А не можете ли вы поднести их к окну, повернувшись спиною?
— И этого не могу.
— Ваши товарищи тоже связаны?
— Да, все до одного.
— Ну так вот что: станьте на плечи двух из них.
Я попросил Чэйна и Рауля поддержать меня, удивляясь смелости молодого испанца.
Взобравшись на плечи товарищей, я повернулся спиною к окну.
Маленькая нежная рука прикоснулась к моим связанным рукам и мгновенно перерезала чем-то острым веревки.
— Держите! — шепнул голос, когда я обернулся.
Вслед за тем у меня в руке очутился кинжал.
— Держите и это.
Протянув другую руку, я почувствовал в ней какую-то бумагу, которая казалась светящейся.
— А теперь, капитан, прошу вас о милости, — продолжал голос.
— Какую милость могу я вам оказать?
— Позвольте мне на прощание поцеловать вас.
— О, милый юноша! — воскликнул я.
— Юноша?! Я не юноша, я — женщина, женщина, любящая вас всею силою своего сердца!..
— Так неужели ты… ты, моя дорогая Гвадалупе?
— А… Я так и думала… Я больше не хочу… Но нет, я все-таки сдержу слово!
Я был в таком волнении, что не придал особого значения этим загадочным словам. Лишь впоследствии я вспомнил о них и понял их смысл.
— Вашу руку, вашу руку! — воскликнул я в свою очередь.
— Вы хотите мою руку? Извольте!
В узкое окно просунулась маленькая ручка, на которой в лучах луны сверкали драгоценные камни. Я схватил ее и покрыл поцелуями. Мне казалось, что рука сама прижимается к моим губам…
— О, зачем, нам разлучаться? — бормотал я в порыве горячей любви. — Бежим вместе… И я мог подозревать тебя, дорогая Гвадалупе!..
Послышалось легкое, как бы болезненное восклицание, рука живо отдернулась, а один из перстней случайно соскользнул на мою ладонь.
— Прощайте, капитан, прощайте! — произнес голос. — В этом мире люди не знают; кто действительно любит их…
Пораженный, изумленный донельзя, я стал звать говорившую.
Ответа не последовало. Я прислушивался до тех пор, пока мои товарищи не устали наконец держать меня. Я спустился на пол, разрезал ремни на ногах, освободил Рауля от уз и передал ему кинжал, чтобы он мог освободить Клейли и Чэйна, а сам занялся чтением записки, в которой был завернут светляк. Слегка сдавив светящуюся муху пальцами, я стал держать ее над бумагою, которая таким образом совершенно осветилась, и прочитал следующее:
«Стены из adobe. У вас есть кинжал. Окно выходит в поле, за которым начинается лес. Остальное зависит от вас. Другим способом помочь вам не могу. Carissirno cabale adios! (Прощайте, дорогой кавалер!)»
«Какой сжатый, деловой слог», — невольно подумал я.
Но задумываться над этим было некогда. Я бросил муху, спрятал записку у себя на груди и принялся расшатывать кинжалом кирпичи, которые легко поддавались.
Однако вскоре снаружи раздались голоса мужчины и женщины.
Я бросил работу и начал прислушиваться. Мужской голос принадлежал, несомненно, Линкольну.
— А, проклятая баба! — рычал он. — Ты хотела видеть капитана повешенным? Ну, нет, этому не бывать… Если ты не укажешь мне, в которой из этих голубятен он сидит и не поможешь вытащить его оттуда, то я вмиг раздавлю тебя!
— Я вам говорю, сеньор Линкольн, что я предоставила капитану возможность вырваться из его заточения, — протестовал знакомый женский голос.
— Какое средство?
— Кинжал.
— А… Ну, вот, погоди, мы это сейчас узнаем… Иди со мною… Я не выпущу тебя до тех пор, пока не удостоверюсь, что ты не лжешь…
Тяжелые шаги охотника приближались. Он подошел к окну и прошептал:
— Вы тут, капитан?
— Тише! — шепнул я в ответ. — Всё в порядке.
Часовой у двери подозрительно зашевелился.
— Ага! Хорошо… Ну, теперь ты можешь убираться отсюда, — обратился он к женщине, которой мне так хотелось бы сказать еще несколько слов. — Впрочем,
— добавил он мягче, — можешь и не уходить. Ты все-таки славная бабенка. Беги с нами: капитан охотно возьмет тебя под свое покровительство.
— Сеньор Линкольн, я не могу бежать с вами. Пустите меня!..
— Как хочешь. Но если тебе когда-нибудь понадобится услуга, то смело можешь рассчитывать на Боба Линкольна. Помни это!
— Благодарю, благодарю вас!
Прежде чем я мог сказать хоть слово, она ушла, и лишь издали донеслось до меня ее прощальное печальное:
— Adios!
Мне некогда было вдумываться во все происходившее. Нужно было действовать.
— Капитан! — снова осторожно позвал Линкольн.
— Как же вы выйдете отсюда?
— Разберем кирпичи и выйдем.
— А… Укажите мне место, я помогу вам.
Я смерил обрывком веревки расстояние от нашего подкопа до отверстия и передал веревку Линкольну. И мы с обеих сторон принялись молча работать, пока через стену не проник луч света, и старый охотник не пробормотал:
— Тише, Рауль, ты отхватишь мне пальцы.
Через несколько минут мы могли свободно пролезть через проделанную нами брешь.
Мы снова очутились на свободе!..
Глава 40
МАРИЯ ДЕ МЕРСЕД
Под стеной находился ров, наполненный кактусами и высокой травою. Мы легли в него, чтобы перевести дух и расправить затекшие члены.
— Этот ров тянется довольно далеко, — прошептал Линкольн. — Мы им и проберемся.
— Конечно, — подтвердил Рауль, — это самый безопасный путь.
— Вперед! — скомандовал я шепотом.
И мы поползли на четвереньках. На краю рва возвышалось здание. Во всех окнах было темно, и из дому не доносилось ни малейшего звука. Только последнее по счету окно было ярко освещено. Несмотря на опасность нашего положения, мне во что бы то ни стало захотелось заглянуть в окно. Оно было довольно высоко и забрано железной решеткой. Я ухватился за нее и подтянулся на руках. Мои товарищи притаились в кактусах.
Моим глазам представилась комната, убранная с комфортом и даже с некоторою роскошью. Но не на обстановку было обращено мое внимание — я заметил ее только мельком, — взор мой приковался к человеку, сидевшему в этой комнате перед столом. Этот человек был Дюброск!
Я вздрогнул столько же от неожиданности, сколько и от ненависти. Будь у меня в руках огнестрельное оружие, я убил бы его тут же, на месте. Не будь железной решетки, я пробрался бы в окно и задушил его голыми руками! В ту минуту я не владел собой…
В комнату вошел молодой человек, одетый не то воином, не то ранчеро. Грацией его фигуры и осанки невольно можно было залюбоваться. Грусть омрачала красивое лицо юноши.
Он подошел к столу и положил на него руку, на которой сверкало несколько дорогих колец. Он был бледен, его рука дрожала.
Лицо показалось мне знакомым. Это был не Нарсиссо, которого я узнал бы сразу, но он был похож на него, а также и на Гвадалупе. Я вгляделся пристальнее, пораженный этим открытием. Да, сходство было разительное.
«Неужели это она? В этом костюме? Нет, нет! Но эти глаза! А, теперь понял! Это она, Мария де Мерсед!»
Я видел ее только на портрете, но сейчас узнал в ней того юношу, который постоянно сопровождал Дюброска и поражал всех нас странностью своего поведения.
Вместе с тем я вдруг понял, что это именно она утром сунула мне записку и шепнула: «Мужайтесь!» Она же перерезала веревки, дала мне кинжал и… говорила о любви. Все, что казалось мне таинственным и загадочным, теперь сразу сделалось ясным как день. Значит, Гвадалупе и не подозревает о моем присутствии здесь!
Эта мысль обрадовала и успокоила меня…
Происходило какое-то объяснение… Я укрепился ногами на большом камне, прижался к железной решетке и заглянул в самое окно. Дюброск в сильном возбуждении шагал из угла в угол.
— Ты, должно быть, вздумала возбудить во мне ревность? — кричал он, окидывая ее злым взглядом. — Напрасно! Ревновать не в моих привычках!.. Я давно знаю, что ты любишь этого проклятого янки, давно заметил все твои проделки. Можешь сопутствовать ему в предстоящем ему воздушном путешествии, я тебе не препятствую! Ревновать же мне нечего… Твои прелестные кузины сильно подросли с тех пор, как я видел их в последний раз…
Кровь бросилась мне в лицо.
Мария де Мерсед вскочила с своего места, подошла к Дюброску и проговорила вне себя:
— О, если ты осмелишься приблизиться к ним с дурным намерением, я сумею защитить их!.. Довольно одной твоей жертвы… довольно того, что ты погубил меня… Хотя сейчас и нет законов, но я знаю, как наказать такого негодяя, как ты!..
— Жертва! — насмешливо произнес Дюброск. — В чем же состоит твоя жертва, Мария? Ведь ты, конечно, говоришь о себе? Ты — супруга первого красавца во всей Мексике. Разве это — жертва?
Слово «супруга» он проговорил особенно едко.
— Да, хорошую комедию ты разыграл с этим фальшивым священником! — воскликнула молодая женщина. — До чего он довел меня! Опозорил, втоптал в грязь, лишил всякого человеческого достоинства… Неужели я могла полюбить такого низкого негодяя?.. Нет, это была не любовь, это было лишь ослепление, безумие!
Последние фразы она говорила как будто самой себе.
— Мне совершенно безразлично, любила ты меня или нет, — ответил Дюброск, очевидно, задетый ее словами. — Речь не о том. Любовь твоя никому не нужна; мне нужно, чтобы ты заставила своего богатого дядюшку признать тебя и выдать тебе то, что старик противозаконно захватил в свои цепкие руки. Это ты сделаешь завтра же!
— Я никогда этого не сделаю!
— Сделаешь, а не то…
Мария круто повернулась на каблуках и пошла к двери.
— Ну, да это мы еще успеем! — сказал Дюброск, грубо схватив ее за руку. — Сегодня я тебя отсюда не выпущу. Я видел, что ты утром подъезжала к этому проклятому янки и что-то шептала ему. Ты, чего доброго, еще вздумаешь помочь убежать. Нет, оставайся-ка здесь, моя милая! Утром я выпущу тебя, чтобы ты могла полюбоваться, как он будет болтаться в воздухе! Ха, ха, ха!
С этими словами креол вышел из комнаты и запер за собой дверь.
Лицо молодой женщины выражало странную смесь торжества и беспокойства. Она подбежала к окну и прижалась к нему, стараясь проникнуть сквозь стоявший снаружи мрак.
Я снял с пальца ее алмазное кольцо и нацарапал на стене слово «Gracias! (Благодарю!)».
Увидав меня, она задрожала и отступила назад…
Нельзя было более медлить: товарищи давно уже ворчали на задержку. Я спустился вниз, и мы поспешили дальше…
С опушки леса еще было видно то окно, за которым стояла женщина. Она теперь держала в руке лампу и читала то, что я вырезал на стекле. Я никогда не забуду выражения ее лица!..
Еще минуту — и мы были в чаще леса…
Глава 41
ПРЕДИСЛОВИЕ
Некоторое время я колебался, не зная, на что решиться. Быть может, Гвадалупе находилась во власти Дюброска, взятая им в плен под каким-нибудь предлогом. Нам следовало попытаться спасти ее, но как это сделать? Нас было всего пятеро безоружных, едва живых людей — не нам было спасать других.
Меня утешала мысль, что Мария де Мерсед сумеет защитить своих родственников лучше нас. Остаться было бы безумием, и я решился на бегство. Мы мало опасались неудачи. Рауль знал окрестности, как свои пять пальцев, и мы смело могли на него положиться. Мы приостановились, чтобы окончательно выбрать направление. В этот самый момент раздался протяжный звук сигнального рожка. Вслед за тем грянул пушечный выстрел, повторенный тысячью отголосков.
— Ого! — воскликнул Рауль. — Это означает, что наше бегство замечено.
— Почему ты так думаешь? — спросил Линкольн.
— Да ведь это сигнальный выстрел, которым призываются ко вниманию все их аванпосты, расположенные тут, в горах… Теперь нам надо держаться настороже!
— Этот лес слишком редок, сквозь него все видно. Надо выбраться отсюда как можно скорее, — пробормотал Линкольн.
— Да, — подтвердил Рауль, — в лесу не укрыться, но километрах в пятнадцати отсюда есть кустарник, который настолько густ, что в нем едва можно двигаться. Если мы доберемся туда до наступления утра, то будем спасены.
— Идем!
Мы шли как можно осторожнее. Треск сухих ветвей, шорох раздвигаемых нами кустов могли выдать нас. Со всех сторон раздавались сигналы; слышно было, как с гасиенды отправились несколько отрядов в погоню за нами. Наконец мы достигли неглубокого ручья, о котором упоминал Линкольн. Мы вошли в воду и пошли прямо по дну, чтобы скрыть свои следы…
Приближался топот лошадей. Ясно слышалось бряцание оружия, и даже можно было различить голоса людей, говоривших между собой.
— Как они могли удрать? — недоумевал один. — Кто им помог проломить стену? Ведь сами они не могли этого сделать…
— Это невозможно. Кто-то помог им…
— Это, верно, Хозе! — заговорил другой голос. — И я уверен, что их выручил великан, который удрал из ранчо. Он же убил и змею. Мы обыскали все норки вокруг гасиенды, но не нашли его… Наверное, он все время шел по нашим следам, чтоб ему провалиться!
— А хорошо стреляет, — сказал третий. — Говорят, его винтовка бьет на целый километр. Змее он угодил прямо между глаз. Клянусь, у этой змеи был недурной вкус, она облюбовала самую красивую дочку старого испанца. Да, если бы не пуля этого янки…
Больше нельзя было ничего расслышать: гул голосов постепенно замер в отдалении.
— Да, если бы этот янки не вздумал стрельнуть в змею, не было бы теперь в живых одного из вас, — пробормотал Линкольн.
— Так это действительно вы убили змею, Линкольн? — спросил я.
— Да, капитан, я. Не будь этой отвратительной гадины, я покончил бы с изменником Дюброском. Только я наметился в него, как вдруг увидел змею. Делать нечего, пришлось потратить заряд для спасения испанки…
— А не знаете, что сталось с Джеком? Жив он?
— Жив и здоров. Что ему сделается! Я послал его с поручением к полковнику.
— А! Значит, мы можем ожидать помощи из лагеря?
— Да… но нас будут искать на ранчо, так что надо больше рассчитывать не на эту помощь, а на Рауля.
— Это верно. Вперед, Рауль!
Мы двинулись дальше, соблюдая величайшую осторожность.
Вскоре после полуночи мы достигли густого кустарника. С трудом продолжая подвигаться вперед, мы дошли наконец до маленькой прогалины, покрытой высокой травою; там мы легли отдохнуть. Разбитые, измученные, все мы вскоре уснули так, что нас не мог бы разбудить даже грохот пушек…
Глава 42
НОВАЯ ОПАСНОСТЬ
Солнце стояло высоко, когда я проснулся. Мои спутники возились вокруг небольшого костра, для которого Рауль выбрал какое-то особое, известное только ему дерево, почти не дававшее дыма. Клейли еще спал. На сучке ближайшего дерева висела убитая игуана, напоминавшая труп повешенного человека. Рауль точил нож, готовясь снять с нее шкуру. Чэйн поджаривал бананы. Линкольн чистил свою винтовку.
Игуану поджарили и разделили на пять равных частей. Голод мучил нас, и мы ели с аппетитом.
— Фу, какая гадость! — воскликнул Чэйн, доев последний кусок. — Не думал я, когда гулял в родных лесах, что мне когда-нибудь придется стать каннибалом!
— Не понравилось? — засмеялся Рауль.
— Что-то не очень. Я предпочел бы кусочек ветчины всему этому зеленому мылу. Но все же лучше и это, чем пустое брюхо.
— Шшшш! — остановил его Линкольн и прислушался.
— Что такое? — спросил я.
— Погодите, капитан, сейчас скажу…
Он махнул нам рукой и пополз на четвереньках к краю прогалины. Там он приложил ухо к земле, прислушался минуты с две и затем разом вскочил на ноги.
— На нас выпущены ищейки!
На его лице выражался такой испуг и такое отчаяние, что мы и без слов догадались бы о приближении новой беды.
Мы отошли от костра, треск которого мешал слушать, и приложились ухом к земле. До нас донесся смешанный гул, который все приближался и рос. Потом стали прорываться какие-то резкие, пронзительные крики и завывания. Действительно, приближалась целая свора кровожадных испанских ищеек!
Мы поднялись и растерянно взглянули друг на друга. Все наше оружие состояло из одной винтовки и двух ножей.
— Что делать? — спросил я.
Глаза всех обратились на Линкольна.
Охотник стоял неподвижно, опираясь на ружье.
— Далеко отсюда до воды, Рауль? — осведомился он наконец.
— Метров двести, если идти вот по этой тропинке…
— Ну, так надо идти по ней. Мы перейдем ручей вброд, и тогда собаки потеряют след, — уверенно заявил Линкольн.
— Да, это, по-видимому, самое лучшее, — подтвердил я.
— Будь у каждого из нас по хорошему ружью, — заметил Чэйн, — мы сладили бы с собаками…
— Здесь, во всяком случае, оставаться не следует. Веди нас, Рауль! — И мы углубились в чащу, предводительствуемые французом.
Вскоре мы очутились на берегу ручья или, вернее, горного потока, образовавшего местами небольшие водопады. Мы перешли его вброд и направились по противоположному берегу.
Лай, слышавшийся очень близко, внезапно умолк.
— Вероятно, они добежали до воды, — заметил Клейли.
— Нет, они нашли наш бивуак и доедают игуану, — пояснил охотник.
Через минуту поднялся опять лай и вой.
— Потеряли след! — проговорил Линкольн.
Мы прошли километра три совершенно спокойно, думая, что погоня за нами прекратилась, когда Линкольн, шедший сзади, вдруг бросился на траву и приложил ухо к земле. Мы все остановились как вкопанные, тревожно наблюдая за охотником.
Поднявшись опять на ноги, он крикнул, стукнув ружьем о землю:
— Напали-таки на наш след.
Не дожидаясь дальнейших пояснений, мы дружно кинулись снова к потоку. Перекарабкавшись через скалу, преграждавшую нам путь, мы вошли в воду.
Рауль, который был впереди, испустил проклятие.
Мы скоро поняли причину его недовольства. Мы подходили к каньону. С обеих сторон ручья поднялись отвесными стенами скалы. Сжатый ими поток несся так стремительно, что при всякой попытке пуститься вплавь мы неминуемо разбились бы о камни. Идти в обход до того места, где поток снова выходил из каньона, было слишком далеко. Это значило неминуемо попасться собакам.
Мы смотрели друг на друга, как загнанные звери.
— Попались наконец! — пробормотал Линкольн, стиснув зубы.
— Нет еще! — воскликнул я, вглядевшись в окружающую нас местность. — Нет, еще не совсем попались… За мной, товарищи! Мы дадим тут собакам такой отпор, что они долго не забудут!
Я указал на высившуюся над нами площадку скалы.
Линкольн одобрительно зарычал.
— Ура! — закричал он, бросаясь вперед. — Блестящая идея, капитан! Ура! За мной, ребята!
Мы взобрались по уступам скалы на площадку, покрытую короткой травой, и, заняв позицию, приготовились к борьбе.
Глава 43
БИТВА С ИЩЕЙКАМИ
Я взглянул вниз. Поток шумел и бурлил на глубине семидесяти метров, кое-где образуя воронки, в которых крутилась снежно-белая пена. Если сорваться, ничто не задержит падения. На гладкой стене не было ни деревца, ни выступа — только острые камни и белая пена внизу.
Лай раздавался совсем близко. Собаки напали на свежий след. Затрещали кусты, сквозь листву сверкнули белые пятна. Вскоре из-за кустов выскочило штук двенадцать псов. Передняя, очевидно самая опытная, сразу нашла место, где мы перебирались через поток. С воем бросилась она по каменным глыбам по нашему следу. Остальные летели за нею, свирепо щелкая зубами и сверкая налитыми кровью глазами.
Линкольн прицелился в вожака и выстрелил: собака взвыла и стремглав слетела в поток, который унес ее по течению.
— Одной гадиной меньше! — воскликнул охотник.
Однако, пока он заряжал свой тяжелый карабин, собаки уже очутились под скалою, на которой мы стояли, и начали взбираться. Второй выстрел Линкольна уложил еще одну собаку, но остальные в один миг взобрались наверх и окружили нас со всех сторон.
Началась отчаянная битва между собаками и людьми — битва не на живот, а на смерть.
Не знаю, сколько времени продолжалось это сражение; помню только, что оно было ужасно. Одна из собак вцепилась мне зубами в горло. Напрягая все свои силы, я, в свою очередь, сдавил ей горло руками, задушил ее и швырнул в пропасть. Очевидно, отчаяние удесятеряет силы. Другая ищейка чуть было не столкнула меня самого в пропасть, куда я толкал ее. Наконец, окровавленный, обессиленный, я упал без чувств на траву.
Очнувшись, я огляделся вокруг, стараясь понять, что со мною было. Клейли и Рауль лежали в таком же положении, покрытые ранами, из которых струилась кровь. Чэйн и Линкольн вдвоем душили собаку, которая хрипела и отбивалась.
— Ну-ка, голубчик Чэйн, — кричал охотник, — поднимем-ка ее… Вот так!.. Раз, два, три. Гоп-ля!..
Описав в воздухе дугу, собака грузно шлепнулась в поток.
Это была последняя из ищеек осадившей нас своры…
Глава 44
ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ
Со стороны покинутого нами леса послышались дикие крики. Обернувшись, мы увидели выезжавших из-за деревьев мексиканцев. На берегу потока они остановились и разом испустили какой-то особенно громкий крик.
— Рауль, не знаешь ли ты, что означает этот крик? — спросил я.
— Он означает досаду, капитан! Они видят, что на лошадях нельзя перебраться через воду: мешают камни…
— А жаль, что нет у каждого из нас по винтовке!..
Гверильясы сошли с лошадей, привязали их к деревьям и стали пешком перебираться через поток. Один из них, судя по мундиру и плюмажу на шляпе, начальник отряда, выхватил саблю и начал ловко перепрыгивать с камня на камень.
— А что, сержант, — сказал я, — нельзя ли остановить его на полпути?
Охотник только что зарядил ружье и измерял глазами расстояние между нами и мексиканцем.
— Далеконек он еще, капитан! Я дал бы свое полугодовое жалованье, если бы мог в эту минуту заполучить в руки немецкое ружье майора Блоссома! Мой карабин не бьет так далеко… Эй, ты, Чэйн, встань-ка впереди меня, чтобы он не видал, что я делаю, а не то он нырнет в воду, как утка!
Чэйн загородил собою Линкольна, который прицелился через его плечо. Тем не менее мексиканец хорошо уловил маневр сержанта и прыгнул в воду. Но было поздно; выстрел уже раздался… Мексиканец раскинул руки, и поток завертел его между острыми камнями. Шляпа свалилась с головы убитого и поплыла за ним…
Его товарищи с воплями ужаса и отчаяния кинулись назад на берег.
— Carajo! quardaos! esta el rifle del diablo! (Берегитесь! Это карабин дьявола!) — кричал один, вообразивший, что выстрел был сделан из знаменитого карабина майора Блоссома.
Оказалось, что на этот раз старому охотнику удалось уложить Яньеса. Ошеломленные гибелью своего предводителя, мексиканцы попрятались за камнями. Ближайшие к нам выстрелили. Но пули либо ударялись о скалу, либо пролетали над нашими головами. Клейли, Чэйн, Рауль и я, не имея огнестрельного оружия, тоже спрятались за уступ скалы. Один Линкольн смело оставался все время на виду, подзадоривая неприятеля.
Не только мы, но и наши враги были поражены хладнокровием и отвагою гиганта. Это было заметно по их восклицаниям.
Выпустив заряд, он преспокойно вложил новый и прицелился, но через секунду опустил карабин. Затем он снова прицелился — и снова опустил ружье.
— Трусливые гадины! — проворчал охотник. — Прячутся так, что и целиться не во что…
Действительно, как только он вскидывал ружье, все мексиканцы разом исчезали, точно проваливались сквозь землю.
— Видно, только собаки их храбры, — продолжал он, подходя к нам.
Среди мексиканцев началось движение. Половина из них снова села на лошадей и галопом понеслась вдоль потока,
— Ага! — сказал Рауль. — Они хотят объехать кругом… Через полчаса они будут здесь.
«Что делать? — подумал я. — Спрятаться некуда, защиты никакой. Поблизости нет ни леса, ни кустарника, который мог бы служить нам хотя бы слабым прикрытием… За нами тянулась широкая равнина, на которой лишь кое-где возвышалась одинокая пальма или жиденькая группа так называемых «испанских штыков». Милях в пяти начинался лес. Добраться до него, не будучи настигнутым конной погоней, было немыслимо!..»
Если бы все гверильясы отправились в обход, мы бы, конечно, переправились снова через реку, но так как половина их осталась, то и этого сделать было нельзя. Представлялся лишь один исход — постараться попасть в лес.
Но для этого нужно было, прежде всего, обмануть оставшихся: в противном случае они все равно догнали бы нас; мы знали, что мексиканцы бегают, как зайцы. Мы вспомнили маневр, заимствованный нами у индейцев и уже не раз применявшийся с успехом. Техасца мы не поймали бы на эту удочку, но мексиканцев обмануть было легко.
Мы легли на землю так, что неприятелю, продолжавшему в нас стрелять, были видны одни наши фуражки. Затем мы стали потихоньку подвигаться ползком, высвободив головы из фуражек, которые остались на виду.
Проползши таким образом некоторое расстояние на четвереньках, мы вскочили и бросились бежать изо всех сил по направлению к лесу.
Хитрость наша удалась вполне: мексиканцы еще долго стреляли по нашим фуражкам.
Глава 45
УДАР МОЛНИИ
На бегу мы не раз оборачивались с беспокойством, ожидая погони. Мы напрягали последние силы, а их оставалось очень немного — так нас измучила борьба с собаками, истощила потеря крови.
К довершению беды разразилась тропическая гроза с бурей и страшным ливнем. Крупный, тяжелый дождь хлестал нам в лицо, ноги скользили, молнии слепили глаза, буря валила с ног, не давала дышать. Задыхаясь, кашляя, захлебываясь, шатаясь из стороны в сторону, мы шли вперед, поддерживаемые энергией отчаяния, помня, что сзади нас — смерть…
Я и теперь не забыл этой ужасной гонки. Мне казалось, что мы никогда не достигнем цели. Я могу сравнить мое состояние в те минуты лишь с кошмаром, когда во сне стараешься уйти от ужасного чудовища и чувствуешь какую-то странную беспомощность и слабость. Я до сих пор помню все до самых мельчайших подробностей. Мне часто снится это бегство, и я просыпаюсь, охваченный ужасом…
До леса оставалось всего метров пятьсот. Такое расстояние ничего не значит для людей со свежими силами. Но для нас — разбитых, измученных, еле двигавшихся — оно казалось неодолимым. От леса нас отделяла прерия, перерезанная небольшою рекою и покрытая лишь густою травою, без малейшего признака другой растительности…
Рауль был впереди. Линкольн — позади. Восклицание охотника заставило нас обернуться. Мы так устали, нас охватила такая апатия, что никакая новая опасность не в состоянии была испугать нас, и потому вид догонявшей нас кавалерии уже не мог произвести прежнего впечатления.
— Ну, товарищи, еще последнее усилие! — крикнул Линкольн, больше других сохранивший бодрость. — Не падайте духом. Я всажу пулю в первого, который приблизится к нам. Бегите!..
На минуту мы действительно ободрились было и попробовали бежать, но силы изменяли… Рауль кое-как успел добраться до опушки леса, но, увидев, что мы отстали, опять пошел к нам навстречу, чтобы разделить нашу участь.
Пули свистали вокруг, срезая траву под ногами.
Неприятель догонял нас…
— Спасайся хоть ты, Рауль! — крикнул я французу.
Но он продолжал подвигаться нам навстречу. Я слышал за собою восклицания, свист пуль, топот лошадей, звуки выхватываемых из ножен сабель…
Слышал я и выстрелы Линкольна, и его дикие завывания.
Вдруг страшный удар грома покрыл весь этот шум. Небо точно загорелось — с одного конца до другого. Затем наступил мрак… Я задыхался от серного смрада и чувствовал, как что-то обожгло меня, кто-то ударил в грудь…
Я упал на землю…
Ощущение холода привело меня в сознание. Это была вода.
Я открыл глаза и увидел Рауля, наклонившегося надо мною и брызгавшего мне в лицо.
— Что такое? — едва слышно пробормотал я.
— Невдалеке ударила молния, капитан! — сказал он.
— Молния?!
— Да, капитан! Вас оглушило. Да и не вас одного; только я остался невредимым.
Клейли, Линкольн и Чэйн лежали недалеко от меня. Они казались мертвыми… На синевато-бледных лицах выступили темные пятна…
— Они умерли? — спросил я.
— Надеюсь, что нет… Сейчас узнаем, — сказал Рауль.
Он влил несколько капель из находившейся у него в руках бутылки в рот Клейли. Лейтенант глубоко вздохнул и зашевелился.
Рауль перешел к Линкольну. Наш гигант при первом прикосновении воды вскочил на ноги, схватил Рауля за горло и, тряся его изо всех сил, заорал:
— А, мерзавец! Ты что же это задумал, а? Повесить меня хочешь?
Разглядев, однако, с кем имеет дело, он выпустил француза из рук и обвел вокруг себя изумленным взглядом. Увидав валявшуюся на земле винтовку, он быстро поднял ее и начал заряжать.
Пока Рауль возился с Клейли и Чэйном, я занялся осмотром местности.
Ливень все еще продолжался; молнии бороздили небо во всех направлениях. Шагах в пятидесяти от нас чернела неподвижная масса рухнувших друг на друга лошадей и людей: все были убиты наповал ударом молнии. Немного дальше человек тридцать всадников тщетно старались успокоить испуганных лошадей и направить их на нас. Это были товарищи убитых, пощаженные молнией, подобно Раулю.
— Вставайте, вставайте! — кричал Рауль, тряся за плечи то Клейли, то Чэйна. — Нельзя терять ни минуты! Мустанги не вечно будут брыкаться, и, если мы не попадем раньше их в лес, мы погибли!..
Предостережение подействовало. Прежде чем гверильясы справились со своими лошадьми, мы достигли леса и уже пробирались по чаще, среди мокрых кустов и веток…
Глава 46
ОБЕЗЬЯНИЙ МОСТ
Рауль надеялся, что испуганные мексиканцы не решатся преследовать нас дальше. Но мы не очень доверяли этому предположению и потому продолжали подвигаться вперед по густой заросли, стараясь запутать наши следы, чтобы неприятель не нашел нас.
Положение было ужасное: голодные, промокшие до костей, истерзанные собаками, еле живые от усталости, мы едва брели. Даже Линкольн, этот железный человек, поддерживавший нас до сих пор своей энергией, и тот ослаб и приуныл. Он все оглядывался с растерянным видом и бормотал что-то сквозь зубы.
— Да что же это такое?! — воскликнул он наконец, потрясая крепко сжатым кулаком. — От этой молнии, чуть не отправившей нас на тот свет, мне все кажется желтым.
— Успокойся, Линкольн, это пройдет, — говорил Рауль, — а пока уж я буду смотреть за тебя. Если встретится что подозрительное, возьму у тебя ружье да и…
— Так я тебе и дал его! — проворчал Линкольн, крепко сжимая карабин обеими руками. — Нет, милейший, пока я жив, никому стрелять из моего ружья не дам!
Километров семь протащились мы по лесу, пока не встретили небольшую реку, на берегу которой решили разбить лагерь.
Рауль развел костер и набрал орехов с пальмы corozo, под тенью которой мы укрылись. Мы сняли с себя промокшие лохмотья, и Линкольн принял на себя обязанности санитара. Он обмыл и перевязал наши раны; при этом сильно пострадали наши рубашки, послужившие перевязочными средствами, но зато боль утихла, и после обильного ужина, состоявшего из пальмовых орехов, мы растянулись на траве и быстро заснули…
Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг был разбужен шумом детских голосов… Подняв голову, я увидал, что и Линкольн не спал; он прислушивался, вытянув шею.
— Что случилось, Боб? — спросил я. — Кто это кричит?
— Сам не пойму, капитан! Надо спросить Рауля… Рауль, на каком это языке там болтают?
— Это araguatoes, — пробормотал сонный француз.
— Что такое?! Говори толком, Рауль, что это за племя? — кричал Линкольн, тряся Рауля за плечо.
— Ну, чего ты пристал ко мне? Я спать хочу… Это такая порода обезьян, понял?
— А! Ну, обезьяны — народ неопасный, можно опять заснуть, — сказал успокоенный охотник, собираясь повернуться на другой бок.
— Они хотят перебраться через реку, — продолжал совсем проснувшийся Рауль.
— Вплавь? — спросил я. — При таком быстром течении?
— Да, как же! Обезьяны скорее бросятся в огонь, чем в воду. Они устроят мост.
— Мост? Как так!
— А вот подождите немного, капитан, — увидите сами.
На противоположном берегу показалось стадо обезьян под предводительством седобородого самца, которому все повиновались, как солдаты — начальнику.
Это были araguatoes (Simia ursina) из породы обезьян-ревунов. Они принадлежат к виду, известному под названием monos colorados (красных обезьян). Величиной они с гончую собаку, какими пользуются для травли лисиц. Самки немного меньше самцов. Они несли детенышей у себя на плечах или же нежно прижимали их к груди. Но и самки и самцы были темно-красного цвета, имели длинные бороды и огромные, в метр длиною, хвосты. Их голые, с толстой загрубевшей кожей концы служили, по-видимому, очень удобным орудием для цепляния. Даже детеныши цеплялись за своих матерей не руками и ногами, а хвостами.
Когда все стадо остановилось на берегу, один из самцов — нечто вроде адъютанта или главного разведчика — подбежал к самому краю скалы, выдававшейся над рекой, измерил взглядом расстояние до другого берега, внимательно вгляделся в склоненные над водой деревья и возвратился с докладом к начальнику. Последний выслушал его и что-то крикнул. Из середины стада выделились несколько обезьян, ответили таким же криком и дали остальным знак следовать за собой. Поднялся шум и гвалт. Штук двадцать или тридцать ловко вскарабкались на вершину дерева и выбрали крепкий сучок. Затем одна из них обмотала вокруг него конец хвоста и повисла головою вниз. Другая зацепилась хвостом за голову и плечи первой и тоже повисла. Третья зацепилась хвостом за вторую, четвертая — за третью, и таким образом в конце концов составилась длинная цепь, последнее звено которой касалось земли.
Эта живая цепь начала раскачиваться взад и вперед с регулярностью маятника, постепенно все усиливая и ускоряя движение, причем обезьяна, висевшая ниже всех, каждый раз отталкивалась руками от земли. Дерево, выбранное для этих маневров, был виргинский тополь, у которого мало выдающихся сучков, и потому оно не стесняло свободы движений.
Раскачивание продолжалось до тех пор, пока последняя в цепи обезьяна не перекинулась через реку и не уцепилась за стоявшее там дерево. Маневр этот должен был быть исполнен так искусно, чтобы средние звенья цепи не пострадали от сильного толчка. Для этого передняя обезьяна должна стараться уцепиться за противоположное дерево на наивысшей точке кривой, описываемой животными в воздухе. Таким образом над водой повис мост, по которому с завидной быстротой перешло все стадо, состоявшее, по крайней мере, из четырехсот голов…
Это было одно из самых любопытных зрелищ, какие мне приходилось видеть в жизни. Трудно описать уморительные гримасы обезьян, бежавших через мост, более крупных самцов, самок с детенышами, вцепившимися в спины матерей. Обезьяны, изображавшие собой мост, что-то беспрерывно болтали и кусали за ноги перебиравшихся по ним товарищей, словно подгоняя их…
Наконец все стадо очутилось на противоположном берегу. Но как теперь переправится сам «мост»? Этот вопрос очень занимал меня. Очевидно, придется отделиться от тополя той обезьяне, которая является номером первым, но тогда переместится сразу точка опоры: ведь конец «моста» на том берегу был подвешен ниже, а от толчка номер первый с полдюжиной товарищей может шлепнуться в воду…
Мы с нетерпением ожидали решения этой интересной задачи.
Но вот одна из переправившихся на ту сторону обезьян зацепилась хвостом за последнее звено моста. За нее уцепилась другая, за ту третья, и мост удлинился, таким образом, на дюжину здоровых обезьян. Последняя взбежала на высокую ветку и подтянула за собой весь мост, принявший горизонтальное положение.
Затем последовал крик, вероятно, обозначавший, что все в порядке, обезьяны, составлявшие конец моста на нашем берегу, отцепились от ветки и разом перемахнули на ту сторону…
Это совершилось так быстро, что мы не в состоянии были проследить всех подробностей процедуры. После этого все обезьяны исчезли в чаще леса…
— Ну, ну! — воскликнул Чэйн, разводя руками. — В этой стране животные куда умнее людей, честное слово! Как они ловко все это проделали, бестии, просто завидно делается!..
Все громко рассмеялись…
Однако нам пора было в путь. Сон освежил нас. Гроза ушла, и длинные лучи солнца, близкого к закату, проникали сквозь широкие листья пальм; пели птицы. Над нашими головами мелькали пестрые попугаи, кардиналы и трогоны. На ветках сидели с глупым видом туканы с огромными горбатыми носами.
Мы перешли реку — вода уже спала после дождя, — и углубились в чащу леса.
Глава 47
СНОВА В ПЛЕНУ
Мы направились к Пуенте-Насиональ. На полдороге жил приятель Рауля, на которого, по его словам, можно было рассчитывать, как на него самого. Ранчо этого человека расположено в уединенном месте, невдалеке от дороги, ведущей в монастырь Сан-Мартина.
— Там поужинаем и переночуем, — говорил француз. — Надоело уже валяться в лесу на мокрой траве…
Мы достигли ранчо около полуночи, но ни сам Хозе Антонио, ни его семья, состоявшая из жены и дочери, еще не спали. Они сидели за столом при свете толстой восковой свечи.
Сначала хозяин очень неласково встретил пятерых оборванцев, но, узнав Рауля, превратился в любезнейшего человека.
Хозе Антонио был уже старик, седой и худощавый, с проницательными глазами, в кожаной куртке и брюках. Он сразу понял, кто мы такие.
Но, несмотря на радушный прием, Рауль был чем-то обеспокоен; я заметил, как внимательно осматривал он единственную комнату ранчо.
— No han cenado, caballеros? (Вы не ужинали, сеньоры?) — спросил Хозе Антонио, оглядывая нас.
— Ni comido, ni almorzado (не завтракали и не обедали), — сказал Рауль.
— Carambo! Рафаэла! Хесусита! — воскликнул хозяин, делая один из тех знаков, которые у мексиканцев заменяют целую речь.
Эффект этого знака был просто волшебный. Хесусита, восемнадцатилетняя дочь хозяина, побежала к очагу, а Рафаэла, жена его, схватила связку хвороста и бросила в очаг. Раздуваемый пальмовою ветвью, огонь весело затрещал, вода начала закипать, мясо поджаривалось, черные бобы весело плясали в горшке, пенился шоколад, и мы уже предвкушали вкусный ужин.
Между тем Рауль все что-то поеживался и косился.
В темном углу хижины сидел маленький, худенький человечек в одежде католического монаха. Я знал, что Рауль терпеть не может мексиканских монахов, и потому приписывал его смущение присутствию одного из них и не ошибся.
— Откуда он? — тихо осведомился Рауль у хозяина.
— Это священник из Сан-Мартина.
— Новый, должно быть?..
— Hombre de bien! (Хороший человек!) — сказал Хозе Антонио, утвердительно кивнув головой.
Рауль замолчал.
Я стал наблюдать за этим hombre de bien и вскоре заметил, что он явился сюда вовсе не с целью поучения и спасения душ, но единственно ради черных глазок прелестной Хесуситы.
Было что-то плотоядное в его улыбке, когда он следил за движениями молодой девушки, но взгляд его сделался положительно страшен, когда ирландец Чэйн с галантностью принялся вертеться вокруг Хесуситы, оказывая ей разные мелкие услуги.
— Откуда явился padre? — шепотом спросил Рауль Хозе Антонио, сообразив что-то.
— Сегодня утром был в ringonada.
— В ringonada? — повторил Рауль, привскакивая со своего места.
— Да. Они направились к мосту. Эта шайка имела стычку с вашими и потеряла несколько человек.
— И он утром был в ringonada? Ого! В таком случае нам надо быть настороже, — бормотал француз как бы про себя.
— Пойдете от нас, держитесь стороной, авось, не встретитесь. Ваши уже дошли до Эль-Плана и готовятся атаковать Cerro Gordo; там сам Санта-Анна во главе двадцати тысяч человек…
Во время этой беседы монах беспокойно ерзал на стуле.
Вдруг он встал, пробормотав «buenas noches» и направился к выходу. В то же мгновение Линкольн, исподтишка наблюдавший за ним, вскочил и загородил дверь.
— Не угодно ли вам остаться? — спокойно, но решительно сказал он.
— Que cosa? (В чем дело?) — с видимой тревогой спросил священник.
— Вы не выйдете отсюда, пока мы здесь… Рауль, попроси у своего приятеля хорошей веревки, слышишь?
Падре лишь молча взглянул на хозяина не то с упреком, не то с угрозою. Бедный мексиканец растерялся. С одной стороны, он не хотел оскорбить священника, а с другой, боялся противоречить охотнику.
— Боб Линкольн никогда не нарушает обычаев гостеприимства, — снова заговорил охотник. — Но это случай исключительный. Глаза этого попа мне что-то не нравятся.
Рауль старался убедить охотника, что это мирный священник из соседнего села и друг Хозе Антонино. Боб все еще стоял в дверях в нерешительности. Только заметив, что я отношусь совершенно безучастно к происходившему в эту минуту вокруг меня (я задумался о чем-то), Линкольн выпустил священника.
— Смотри, Рауль, как бы худа не было! — проговорил он, снова садясь на свое место. — Советую не оставаться здесь ночевать. Как вы думаете, капитан?
— В чем дело, сержант?
— Да вот Рауль заставил меня выпустить этого монаха, а я уверен, что он натравит на нас своих. По-моему, надо скорее убраться отсюда.
Мы поужинали, выпили по чашке шоколада и уже хотели было проститься с нашими добрыми хозяевами, когда Хозе Антонио предложил нам выкурить по сигаре.
Это был большой соблазн, так как мы давно не курили.
Но не успели мы усесться вокруг огня и закурить наши puros, как Хесусита, выходившая за дверь, вбежала с криком:
— Papa, papa, hay gente fuera! (Папа, на дворе люди!) Действительно, за сквозными стенами хижины обрисовывались чьи-то фигуры.
Линкольн схватил ружье и подбежал к двери, крича:
— Говорил я вам, что быть беде!
Не давая себе труда отворить дверь, он всей своей тяжестью налег на легкую бамбуковую стену, которая с треском проломилась.
Мы хотели последовать за ним, когда вся хижина рухнула, засыпая нас досками, пальмовыми листьями и тростником… Мы слышали выстрел Линкольна, стон умирающего, залп из пистолетов и ружей, какие-то выкрики… Затем нас вытащили из-под развалин ранчо, поволокли в лес, привязали к деревьям и принялись осыпать пинками ног и ударами кулаков. Нас окружала толпа озверевших людей. Они кричали и дико хохотали, издеваясь над нашей беспомощностью. Среди них был и знакомый нам падре. Не подлежало никакому сомнению, что это он натравил на нас эту дикую шайку. Негодяй внимательно рассматривал каждого из нас; очевидно, он искал Линкольна, но охотника не было: он исчез к великому разочарованию падре.
Глава 48
ПАДРЕ ХАРАУТА
Из разговора разбойников можно было заключить, что мы попали в руки jarochos, шайки знаменитого бандита-священника Харауты.
— Черт возьми! — стонал Рауль. — Зачем я помешал Линкольну удержать этого монаха? Теперь не миновать нам петли. Должно быть, еще нет самого — только ждут его…
В это время послышался топот скачущей лошади. Вскоре показался мчавшийся во всю прыть всадник, направлявшийся прямо к нам.
— Вот и сам Хараута! — шепнул Рауль. — Если он меня узнает… Впрочем, не все ли равно теперь! Повесят нас всех, хуже ничего не будет…
— Где янки? — крикнул подъехавший, соскакивая на землю.
— Вот они, капитан! — ответил один из харочо, отвратительный старик в красном мундире, по-видимому, помощник начальника шайки.
— Сколько их?
— Четверо, капитан!
— Хорошо. А чего вы тут ждете?
— Приказа повесить их или расстрелять.
— Расстрелять, расстрелять. Carambo! Некогда нам заниматься петлями…
— Тут прекрасные деревья, капитан! — заметил другой, обводя вокруг рукой.
Очевидно, ему очень хотелось насладиться зрелищем повешения.
— Madre de Dios! Я говорю, что нам некогда забавляться… Санчо! Габриэль! Карлос! Прошибите скорее черепа этим тупоголовым!..
Трое названных сошли с седел, взяли винтовки, осмотрели их и выступили вперед.
— Отлично! — философствовал вслух Рауль. — Хуже смерти ничего не будет. Давай-ка потолкую на прощание с достопочтенным padre. Я скажу ему такое словечко, от которого он проворочается всю ночь без сна. Эй, padre! — крикнул он с иронией. — Нашли вы, наконец, прекрасную Маргариту?
При слабом свете луны было видно, как Хараута побледнел и пошатнулся, точно получил сильный удар.
— Стойте! — обратился он к прицеливавшимся людям. — Ведите этих оборванцев сюда. Огня! Зажгите этот хлам! Vaya! — добавил он, указывая на развалины хижины.
Сухой тростник, доски и листья мгновенно вспыхнули ярким пламенем, освещая красноватым светом всю сцену.
«О! Они хотят поджарить нас!» — подумал я, когда нас отвязали и потащили к костру, перед которым стоял наш судья и палач.
Вокруг нас сгруппировались все харочо. Я никогда не видал — ни раньше, ни после — людей, до такой степени походивших на сумасшедших. Большая часть их состояла из самбо и метисов, но было немало и чистокровных, совершенно черных негров с Антильских островов и острова Кубы. У многих выражение свирепости усиливалось татуировкой, покрывавшей их лица. Среди них были пинтосы: пятнистые люди из лесов Акапулько. Я впервые видел людей из этого племени. Во мне вызывали отвращение их лица, покрытые красными, черными и белыми пятнами…
Одного взгляда на это нелепое сборище было бы достаточно, чтобы понять предстоявшую нам участь. Все глядели на нас с кровожадностью зверей, схвативших добычу; ни в одном взгляде не мелькало и луча сострадания или жалости…
Появление вождя этой шайки не могло изменить нашего убеждения, что мы доживаем последние минуты своей жизни. Его отталкивающая физиономия дышала ненавистью и злобой; тонкие губы подергивались отвратительной улыбкой; маленькие черные глаза отливали металлическим блеском, а кривой, как у попугая, нос с рубцом посередине придавал ему еще более мрачный вид…
На нем была пурпурного цвета manga, покрывавшая его с головы до пят; ноги были обуты в грубые сапоги из красной кожи, на которых бряцали громадные серебряные шпоры, а на голове красовалась большая черная шляпа-сомбреро с золотыми галунами. У него не было ни бороды, ни усов; длинные волосы ниспадали на бархатный воротник его манги…
Таков был падре Хараута.
Перед ним лежал связанный Рауль; оба молча измеряли друг друга взглядами. Все лицо достопочтенного padre подергивалось точно под влиянием электрического тока, а пальцы судорожно шевелились.
И все же Рауль сумел потрясти железные нервы этого человека, казавшегося недоступным никаким влияниям и воздействиям. На губах француза играла торжествующая усмешка.
Мы ожидали, что первым словом отца Харауты будет приказ швырнуть нас в огонь. Но, к счастью, он думал не об этом.
— A, monsieur! — воскликнул он, подходя к Раулю. — Я так и знал, что мы когда-нибудь встретимся еще раз. Я даже мечтал об этом… Ха-ха-ха! И мечта эта была удивительно приятная, но действительность оказывается еще более приятной. Ха-ха-ха!.. Не правда ли? А? Разве вы не находите? — продолжал он, хлеща нашего товарища бичом по лицу. — Разве вы не находите?!
— А о встрече с Маргаритой вы тоже мечтали? — спросил Рауль с резким хохотом, казавшимся положительно неуместным при данных условиях.
Трудно описать, что сделалось в это мгновение с Хараутой. Его желтое лицо почернело, губы побелели, глаза засверкали. Стиснув зубы, он с криком бешенства ткнул Рауля в лицо носком сапога. На ушибленном месте показалась кровь…
Эта выходка была так груба и мерзка, что я вышел из себя, глядя на нее. С силою отчаяния я порвал связывавшие меня узы, отчего у меня образовались глубокие рубцы на руках, одним прыжком очутился возле чудовищного падре и схватил его за горло.
Он отскочил назад, и я, не будучи в состоянии удержаться на опутанных веревкою ногах, упал перед ним как пласт.
— Это что еще за птица? — воскликнул он. — Ба! Да это, кажется, офицер?.. Да будет вам кланяться мне в землю!.. Дайте мне разглядеть вас получше… Да, это капитан!.. А там, кажется, лейтенант? Верно!.. Ну, сеньоры, вы в таких чинах, что неудобно убивать вас, как собак, и оставлять на добычу волкам… Нет, нет! Этого мы не сделаем… Ха-ха-ха! Мы понимаем тонкое обращение… А это кто такой? — продолжал он, обернувшись к Чэйну. — Soldado raso-lrlandes, carajo! (Простой солдат, ирландец!) Кто заставил тебя сражаться против твоей собственной религии, а? Подлый предатель!
И он нанес Чэйну несколько сильных ударов ногами в грудь.
— Благодарю вашу честь за расположение и милость! — зарычал Чэйн. — Вы очень добры!!
— Эй, Лопес, сюда! — крикнул разбойник.
«Сейчас нас, конечно, расстреляют», — мелькнуло в моем мозгу.
— Эй, Лопес, Лопес! — продолжал Хараута.
— Аса, аса (здесь)! — ответил чей-то голос.
Из толпы выступил вперед один из харочо, размахивая на ходу длинными складками своей красной manga.
— Лопес, эти сеньоры, насколько я вижу, джентльмены высшего ранга, и потому мы обязаны поступать с ними сообразно их положению, — сказал Хараута.
— Да, капитан! — хладнокровно ответил Лопес.
— Нужно отвести им место на краю пропасти, Лопес! Ты знаешь, что это значит?
— Да, капитан, — проговорил снова Лопес, шевеля одними губами.
— Отведи их в шесть часов утра в Орлиное Гнездо. В шесть часов утра!
— Да, капитан!
— Если ускользнет хоть один, то… Тебе известно, что тогда будет с тобою?
— Да, капитан!
— Тогда его место в балете займешь ты… В балете! Ха-ха-ха! Понимаешь это, Лопес? А?
— Да, капитан!
— То-то. Молодец, Лопес! Умник, Лопес! Люблю тебя за сообразительность… Пока, покойной ночи, Лопес!..
Хараута хлестнул Рауля еще несколько раз по окровавленному лицу, вскочил на своего мустанга и с быстротой вихря скрылся из глаз…
Очевидно, Лопес вовсе не имел желания заместить кого-нибудь из нас в таинственном «балете», который нам предстояло изобразить в каком-то Орлином Гнезде. Это было заметно по его обращению с нами.
Тщательно осмотрев ремни, которыми мы были связаны, он потащил нас в лесную чащу. Там он положил каждого поодиночке между четырьмя деревьями, составлявшими параллелограмм. Вытянув наши руки и ноги, он крепко привязал их к деревьям. В этом виде мы напоминали растянутые для просушки шкуры. Пошевельнуться было немыслимо. Вдобавок к каждому из нас приставили по часовому. В таком положении мы и провели всю ночь.
Глава 49
КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Эта ночь показалась нам бесконечной. Трудно описать наше состояние! Наши часовые забавлялись тем, что садились на распростертые затекшие тела своих пленников и, спокойно покуривая, издевались над нашими стонами.
Наши лица были обращены к луне, то прятавшейся за облаками, то появлявшейся вновь. Ветер шелестел листьями, и этот унылый шум казался нам заупокойным пением. Несколько раз где-то вдали начинал выть степной волк. Я знал, что это был Линкольн, но охотник не смел подойти к нам ближе и только давал знать о своем присутствии.
Наконец наступило утро. Нас привязали к спинам мулов и повезли куда-то лесом. Мы долго поднимались вверх по крутой тропинке, пока не очутились на вершине скалы, над бездонной пропастью…
Там нас сняли с мулов и бросили на траву. Нас окружили человек тридцать харочо, и мы теперь свободно могли рассмотреть их при свете дня. Впрочем, они не выглядели красивее, чем накануне, когда их освещало пламя горевшего ранчо.
Командовал этим отрядом Лопес, изо всех сил старавшийся угодить своему начальнику. Очевидно, энергичный падре был тверд в своем слове. Лопес ежеминутно осматривал нас, желая удостовериться, целы ли наши узы.
Прошло около получаса, когда мы услыхали топот лошадей. Из-за выступа скалы показался Хараута. Его сопровождали человек пятьдесят харочо.
— Buenos dias, caballeros! (Добрый день!) — крикнул Хараута, подъехав к нам и соскакивая на землю. — Хорошо ли провели ночь? Надеюсь, что Лопес устроил вам прекрасные, удобные постели.
— Да, капитан! — лаконически подтвердил Лопес.
— Так эти сеньоры хорошо спали, Лопес?
— Да, капитан!
— Никто их не тревожил?
— Нет, капитан!
— Ну, значит, выспались как следует. Так и нужно; ведь им предстоит очень длинный путь. Так ведь, Лопес?
— Да, капитан!
— В таком случае они могут отправляться… Вы готовы, сеньоры? — обратился он к нам.
Конечно, никто из нас ему не ответил. Да он и не ожидал ответа, а продолжал сыпать вопросами и замечаниями, на которые неизменно следовали односложные ответы Лопеса.
Мы все еще не знали, что именно хотят с нами сделать. Что нам предстоит смерть, в этом не было никакого сомнения, но какая — этого мы никак не могли понять. Я думал, что достопочтенному падре угодно будет приказать столкнуть нас в пропасть.
Оказалось, что Хараута придумал другое…
На краю росло несколько крупных сосен; харочо прикрепили к ним четыре лассо…
Мы поняли, что нас хотят повесить над пропастью…
— Отлично, — сказал он, когда все нужные приготовления были кончены. — Ставь их теперь на позицию, Лопес, только, смотри, по чинам! Начинай с капитана…
— Да, капитан! — ответил невозмутимый разбойник, наблюдавший за операцией.
— Вас, сударь, оставляю напоследок, — объявил падре Раулю. — Вы будете в арьергарде при вашем шествии на тот свет. Ха-ха-ха! А хорошо они прогуляются, не правда ли, Лопес, а?
— Да, капитан!
— Не угодно ли кому-нибудь из вас исповедаться, сеньоры? Я к вашим услугам. Пожалуйста, не стесняйтесь, сеньоры! — продолжал он. — Я не раз имел случай выслушивать исповеди, не так ли, Лопес?
— Да, капитан!
Разбойники разразились хохотом…
— Так что же, Лопес? Никто не желает воспользоваться моими услугами?
— Нет, капитан!
— Спроси-ка ирландца. Он, должно быть, добрый католик…
— Не желаете ли исповедаться? — спросил Лопес у Чэйна. Тот ответил одним взглядом, но таким выразительным, что он заменил целую речь.
Хохот раздался еще сильнее.
— Что же, Лопес? Да или нет?
— Нет, капитан!
Новый взрыв оглушительного хохота…
Лопес подошел ко мне и накинул на мою шею петлю лассо, другой конец которого был прикреплен к дереву.
— Готово, Лопес? — спросил вождь.
— Да, капитан!..
— Ну, так вздерни его… Нет, погоди… пусть капитан сначала полюбуется на паркет, приготовленный для его танцевальных упражнений. Ха-ха-ха!
Один из разбойников повлек меня к самому краю бездны и заставил заглянуть вниз. Странное дело! В другое время вид пропасти внушил бы мне, вероятно, ужас, но в эту минуту я, доведенный испытанными мною мучениями почти до полного отупения, глядел в нее совершенно спокойно.
Бездна, в которую уже свешивались мои ноги, принадлежала к числу тех бездонных пропастей, которые так часто встречаются в испанской Америке и называются барранкос. Скала казалась в этом месте разрезанною пополам и раздвинутою метров на двести в ширину. Внизу, на глубине шестисот метров, шумел поток…
Это место походило на каньон, где мы сражались с собаками, но было еще более мрачно.
Когда я смотрел вниз, вылетел и задел меня своими громадными распростертыми крыльями большой орел. Стая мелких птиц, сидевших на одном из выступов скалы, с испугом шарахнулась в сторону…
— Ну, что, капитан? — насмешливо проговорил Хараута, обращаясь ко мне. — Нравится вам этот паркет, а?.. Как ты думаешь, Лопес, нравится он ему?
— Да, капитан!
— Ха-ха-ха… Я думаю! Все готово?.. Нет, еще не все… У нас нет музыки, а без нее танцевать неудобно… Эй, Санчо, где твой рог?
— Здесь, капитан!
— Сыграй что-нибудь повеселее… Или вот что: дуди громче «Янки Дудль»! Ха-ха-ха! Валяй «Янки Дудль…»
— Слушаю, капитан!
Через секунду раздались звуки американской национальной песни. Можно представить себе, какое они произвели на нас впечатление!..
— Ну, Лопес, действуй, — крикнул падре.
Я ждал что вот-вот повисну в воздухе, но в это мгновение падре снова крикнул:
— Стой!
Музыка прекратилась.
— Ах, Лопес, я забыл одну вещь… Жаль, что не вспомнил раньше… Ну, да время еще не ушло… Ха-ха-ха! Не лучше ли заставить их плясать на голове? Это будет оригинально! Верно, Лопес?
— Да, капитан!
Разбойники захлопали в ладоши от восторга.
Падре подозвал к себе Лопеса и шепнул ему что-то на ухо. Тот в свою очередь сказал несколько слов стоявшему рядом с ним бандиту, который подошел ко мне, снял петлю лассо с моей шеи и стянул мне ею ноги…
Мне предстояло быть повешенным вниз головою!
— Это будет гораздо интереснее, Лопес, а? — говорил Хараута, злорадно улыбаясь.
— Да, капитан!
— Джентльмен будет иметь достаточно времени для покаяния. Верно, Лопес?
— Да, капитан!
— Развяжи ему руки, Лопес! — продолжал командовать Хараута. — Надо же дать ему возможность отгонять надоедливых птиц, а?
— Да, капитан!
Лопес перерезал ремни, скручивавшие мне руки, и повернул меня так, чтобы по данному знаку можно было сразу вздернуть меня на воздух, то есть опустить головою в бездну.
— А теперь давайте музыку! — закричал своим пронзительным голосом Хараута. — Не пропусти, Лопес, знака, который я подам тебе!..
Я закрыл глаза, ожидая рокового момента. Наступила страшная, томительная тишина, та тишина, которая всегда предшествует катастрофам.
Но вот Санчо заиграл… В то же мгновение грянул выстрел.
Кто-то застонал и полетел через мою голову в бездну… Я почувствовал на своем лице брызги теплой крови…
Вслед за тем меня схватили за ноги и столкнули в пропасть… Конец!.. А!.. Я зацепился за что-то и повис… Меня удержали толстые сучья какого-то дерева… Я обхватил ствол дерева руками, осторожно перевернулся и взглянул вниз.
Подо мною висел на другом конце лассо Лопес. Я узнал его по красной manga. Он висел лицом вниз, и из его головы ручьем лилась кровь. Очевидно, он был мертв…
Ремень врезался в мои ноги. Под нашей двойной тяжестью дерево трещало…
Промелькнула мысль: вдруг оно обломится!..
Держась одной рукой, я вынул другой из кармана перочинный нож: к счастью, мне его оставили. Я открыл его зубами и с трудом перерезал ремень лассо. Внизу послышался плеск воды, и красное пятно — тело харочо исчезло в волнах.
Глава 50
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Наверху между тем шла отчаянная пальба. Раздавались крики ярости, перемежавшиеся с возгласами жертв. Слышались ржание и фырканье лошадей, бряцание сабель, предсмертные вопли и хрипение умирающих. Очевидно, к нам подоспела помощь.
К сожалению, я не мог видеть, что делалось наверху скалы, так как находился ниже ее уровня. Напряженно прислушиваясь, я висел неподвижно. Одно резкое движение — ствол спасительного дерева обломится и увлечет меня за собой в пропасть… Я притаился, как раненая белка.
Выстрелы раздавались все реже и реже, топот лошадей замирал в отдалении… Вдруг надо мной раздался хорошо знакомый голос Линкольна:
— Да вот же он!.. Мужайтесь, капитан! А вы держите меня за ноги… крепче… вот так! Ура!
Сильная рука схватила меня за шиворот, и в следующий момент я уже сидел на краю пропасти. Я оглянулся, чтобы рассмотреть своих спасителей.
Линкольн прыгал вокруг меня, как сумасшедший. Человек двенадцать кавалеристов в зеленых мундирах от души смеялись, глядя на него. Немного в стороне стоял другой отряд нашей кавалерии, охраняя пленных разбойников. Дальше на равнине, под скалою, мчалось около сотни стрелков, преследуя бегущих гверильясов…
В ближайших к нам всадниках я узнал Твинга, Геннесси Гилиса и других наших офицеров. Они подъехали ко мне и осыпали меня поздравлениями по случаю моего спасения…
Тут же был и Маленький Джек, их проводник.
Я заметил, что, пока я рассказывал майору о нашем последнем приключении, Линкольн внимательно рассматривал обрывок лассо, который держал в руках. Он уже пришел в себя, и к нему вернулось обычное спокойствие.
— В чем дело, Боб? — подошел я к нему.
— Ничего не понимаю, капитан! Я представляю себе, что они хотели один конец привязать к дереву, а вас повесить над пропастью на другом конце; я видел, как вы зацепились над самой бездной… Но кто же перерезал лассо?
Я рассеял недоумение охотника и, кажется, с этого дня сильно вырос в его глазах.
Он подошел к краю пропасти, посмотрел на дерево и на обрывок лассо, снова на дерево, бросил вниз несколько камешков, прислушиваясь к плеску воды внизу, и, покачав головой, отошел, по-видимому, удовлетворенный.
— Пейте скорее, капитан, это вас подкрепит, — говорил майор Твинг, протягивая мне свою знаменитую фляжку.
Я отпил два-три глотка и действительно почувствовал себя сразу окрепшим.
— Ну? Теперь очередь Клейли! — сказал майор, передавая фляжку моему товарищу.
— Но как вы нашли нас, майор? — спрашивал я.
— Да вот этот маленький солдатик, мистер Джек, провел нас туда, где вас забрали в плен… Оттуда мы проследили вас до большой гасиенды…
— До большой гасиенды? Значит, у вас там была стычка?..
— С кем?
— С гверильясами.
— Никаких гверильясов мы там не видали. Кроме работниц и пеонов, никого там не было… Ах, впрочем, у нас там действительно произошла схватка, но с неприятелем особого рода. Торнли и Гиллис были тяжело ранены…
Я взглянул на названных офицеров, которые улыбались, перемигиваясь друг с другом.
— И даже Геннесси, — продолжал майор, — получил рану в грудь.
— Правда, правда! — воскликнул Геннесси.
— Да в чем же, наконец, дело? — нетерпеливо спросил я, раздраженный этими намеками, таинственный смысл которых был отчасти мне непонятен.
— А в том, — сказал Геннесси, — что мы откопали в гасиенде двух таких красоток, каких вам никогда и во сне не снилось!.. А если бы вы видели, капитан, как они встретили вашего Маленького Джека! Они чуть не замучили его расспросами!..
Я решил, что не услышу ничего путного и что лучше будет выведать подробности у Джека.
— Ну, ладно, — вымолвил я, меняя тему. — Расскажите-ка мне, куда вы направились, когда вышли из гасиенды?
— Поскакали опять по вашим следам, — ответил майор. — Добравшись до каньона, мы увидели там следы крови и сбились с дороги. Там нам встретился красивый, изящный мальчик, который откуда-то знал нашего Джека. Он указал нам путь и таинственно исчез. По следам подков мы прошли через голую равнину, к опушке леса. Почва была там странно изрыта. Следы копыт поворачивали обратно. Мы опять сбились с толку…
— Так как же вы попали сюда?
— Случайно, капитан! Мы продолжали путь по направлению к Пуенте-Насиональ, как вдруг наш громадный сержант свалился нам, как снег на голову!..
Поговорив еще немного со своими сослуживцами, я обратился к Джеку.
— Кого ты видел, Джек? — шепотом спросил я мальчика.
— Видел всех, капитан!
— Ну?..
— Они спрашивали меня, где вы, и когда я сказал им…
— Ну, ну?..
— Удивлялись и…
— Ну?..
— Барышни…
— Что барышни?
— Плакали, ломали руки, кричали…
Джек был для меня вестником мира.
— Они не говорили тебе, куда едут? — продолжал я нетерпеливо.
— Говорили, что переселяются в… Я забыл название города, такое странное…
— Орисава? Кордова? Пуэбла? Мексике? Халайа!..
— Да, кажется, что-то в этом роде…
— Капитан Галлер, взгляните, пожалуйста! — крикнул в эту минуту майор. — Не узнаете ли вы среди этих людей тех, которые собирались вас повесить?
Я взглянул на пятерых пленных харочо.
— Да, кажется, но наверное сказать не могу…
— Ну, а я могу, — вмешался Чэйн. — Всех их узнаю, потому что хорошо всматривался в них, когда они награждали меня пинками и ударами… Ах, вы, канальи! Попробуйте теперь поиздеваться надо мною!.. Что? Присмирели!..
— Так ты можешь подтвердить, что эти люди именно из тех, которые мучили вас? — спрашивал майор. — Подведите их поближе.
Чэйн клятвенно подтвердил свои слова.
— Отлично! — сказал Твинг. — Лейтенант Клейборн, — обратился он к младшему по чину офицеру, — что следует, по вашему мнению, сделать с этими негодяями?
— Повесить их.
— Лейтенант Гиллис?
— Повесить.
— Лейтенант Клейли?
— Повесить.
— Капитан Геннесси?
— Повесить.
— Капитан Галлер?
— Вы решили непременно казнить их? — спросил я, желая смягчить страшный приговор.
— Решил, — сказал майор. — Нам некогда возиться с ними. Наша армия находится в настоящую минуту на Рио-дель-План, чтобы атаковать проход. Если мы опоздаем хоть на час, мы не поспеем к сражению. Полагаю, что вам, как и мне, хотелось бы участвовать в нем…
Зная характер Твинга, я не возражал больше. Харочо были приговорены к смертной казни через повешение…
Вот отрывок из рапорта майора:
«Пять человек убито, столько же взято в плен. Главарю удалось ускользнуть. Пленные были допрошены и приговорены к смертной казни. Приговор был немедленно приведен в исполнение…»
Глава 51
ВЗГЛЯД НА БИТВУ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
Час спустя мы отъезжали от Орлиного Гнезда. Проехав немного, я повернулся на седле и взглянул назад. Пять повешенных резко выделялись на фоне неба…
Они висели неподвижно в своих живописных костюмах. Стая хищных птиц вилась над ними, спускаясь все ниже и ниже…
Прежде чем мы совсем потеряли из виду Орлиное Гнездо, я обернулся еще раз. Скала казалась черной от покрывших ее птиц; хищные птицы уже набросились на свою, еще теплую, добычу…
Мы ехали несколько часов, держа направление на запад.
Около полудня мы подъехали к arrvyo — светлому, холодному ручью, журчавшему в тени пальмы redonda. Это место мы выбрали для привала и с удовольствием растянулись на густой зеленой траве.
Вечером мы вступили в деревню, где остались на ночлег. Поужинав, мы расположились вокруг костров и заснули как убитые…
С рассветом мы снова двинулись в путь по тропинке, которая вела к реке План. Когда мы наконец въехали на возвышенность, километрах в семи от моста, нашим глазам представилось зрелище, от которого дрогнули наши сердца.
Прямо перед нами, на расстоянии каких-нибудь двух километров, находилась совершенно круглая гора, на вершине которой стояла маленькая башня. На этой башне развевался мексиканский флаг, а вокруг расположились тройным рядом войска. Всадники в блестящих мундирах мчались вверх и вниз по горе. Жерла мортир сверкали на солнце. Трещали барабаны и гудели трубы…
— Да ведь это сигнал к атаке! — вскрикнул майор Твинг, осаживая назад лошадь. — Куда мы попали? Ведь это неприятельские войска. Эй, проводник! Что это значит? — грозно продолжал он, обнажив до половины саблю, когда к нему подъехал Рауль.
— Это «El Telegrafo» («Телеграфный холм»), майор, — спокойно доложил Рауль. — Тут сосредоточен главный штаб мексиканцев.
— Зачем же ты привел нас сюда? Ведь мы чуть-чуть не наскочили на них.
— О нет, майор! Мы от них ровно в двадцати километрах.
— В двадцати километрах! Какие тут к черту двадцать километров, когда я различаю даже орла на флаге? Тут нет и двух километров.
— С птичьего полета, действительно, не более двух километров, майор, но по земле — ровно двадцать километров. Расстояние кажется таким оттого, что мы находимся очень высоко.
Это было верно. До неприятеля было не менее двадцати километров. Между ними и нами была широкая пропасть, и мы поскакали направо так быстро, как это позволяла каменистая почва.
— Скорее, скорее! — кричал майор. — Мы опоздаем!
Мы помчались во всю прыть. Наконец мы увидали наш лагерь.
— Да там нет никого! Что же это значит? — кричал майор, вглядываясь в бесчисленные ряды белых палаток. — Смотрите, Галлер, ведь лагерь пуст!
Действительно, посреди палаток двигалось лишь несколько фигур; очевидно, это были больные и раненые.
— А, вот где наши! Взгляните-ка налево, Галлер!
Я посмотрел налево и увидал всю нашу армию, выстроенную в ряды и готовую к бою. Сверкание десятков тысяч штыков ослепляло глаза.
Вдруг вся эта масса дрогнула при звуках труб и барабанов, колыхнулась и двинулась в направлении «Телеграфного холма».
Грянул пушечный выстрел… другой… третий. Затрещали ружья, все загудело, застонало…
— Сражение начинается. Мы опоздали! — воскликнул майор. — Сколько еще осталось километров, Рауль?
— Восемь, майор!
— Ну, конечно, мы не поспеем!
И мы замерли на месте, проклиная нашу неудачу,
— Вот это работают мушкеты, а это — наши карабины, — говорил Рауль, отличавшийся тонкостью слуха. — Вот палят из мексиканских мортир… наши пушки отвечают…
В течение некоторого времени нельзя было различить ничего сквозь густое облако дыма, нависшее над местом сражения. Но вот грянул оглушительный крик торжества…
— Смотрите, смотрите, — закричал кто-то, — мексиканский флаг исчез! Поднимается наше знамя.
Дым медленно рассеивался, открывая взору звездное знамя, заменившее на башне мексиканского орла. Сражение было выиграно американцами. Неприятель бежал в полном беспорядке…
Глава 52
СВОЕОБРАЗНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Мы сидели на лошадях, любуясь американским флагом, весело развевавшимся на неприятельской крепости, так быстро взятой.
— Взгляните, что такое там, внизу! — воскликнул один из офицеров, нагнувшись вперед.
Мы взглянули по указанному направлению. По ту сторону реки двигалась какая-то белая линия.
— Назад, назад! — крикнул майор Твинг, вглядевшись в эту линию. — Прячьтесь под гору! Скорее, скорее!..
Мы припустили коней и галопом помчались вниз, в густо заросший овраг. Там Твинг, я и несколько других офицеров спешились, легли в траву и стали наблюдать, что делается на противоположной стороне реки. Прямо перед нами, на расстоянии двух километров, возвышалась крутая базальтовая гора, по уступам которой росли чахлые пальмы, кедры, безобразные кактусы и агавы.
Сверху этой стены, следуя по всем ее изгибам, что-то сползало широкой лентой, точно гигантская змея. Это было бежавшее мексиканское войско. Наверху появлялись все новые и новые массы, постепенно приступавшие к спуску. Очевидно, они уже скрылись с глаз преследовавших и находились теперь в безопасности.
Майор Твинг совершенно спокойно и хладнокровно смотрел на мексиканцев… У нас же чесались руки от страстного желания схватиться с ними.
— Что нам делать, майор? — спросили мы.
— Ничего.
— Как… ничего?!
— Что же делать, по-вашему?
— Забрать всех этих трусов в плен…
— Как же мы их заберем? Их несколько тысяч человек, а нас не наберется и двухсот…
— Это пустяки, майор! — заметил я. — Половина войска безоружна. Уверяю вас, что мы переловили бы их всех!..
— Нет, нет, это вам только так кажется, капитан! Умерьте ваш пыл. Ваши силы нам еще понадобятся. А теперь пора в путь…
Нам было очень досадно на майора, но ослушаться было нельзя.
Клейли и мне в особенности хотелось совершить какой-нибудь подвиг, чтобы загладить свою вину перед штабом. Ведь мы тогда улизнули из лагеря без спроса. Это не могло пройти нам даром.
— Дайте мне, пожалуйста, пятьдесят человек, майор! — просил я. — Вы знаете, что мне надо еще свести кое-какие счеты с мексиканцами…
— Не могу, капитан, положительно не могу… Вперед, сеньоры!
Я повесил голову и печально поплелся рысью вслед за товарищами по направлению к Эль-План, в первый раз в жизни злясь на майора Твинга. Как я жалел, что со мною не было отряда моих славных вольных стрелков!..
Мечты мои были прерваны звуком выстрела, свистом пули и криком майора: «Стой!»
Приподнявшись на седле, я заметил что-то зеленое, мгновенно скрывшееся за выступом горы. Это был часовой, поспешивший спрятаться после выстрела.
— Линкольн, да это, кажется, наши? — спросил я.
— Наши, капитан! Я отлично разглядел его…
Твинг послал небольшой отряд на разведку. Я присоединился к этому отряду и полетел впереди всех. Метров через сто я увидел направленную на нас с холма мортиру, окруженную ротой артиллеристов и легкой пехоты. Эта картина была бы не очень приятна для нас, если бы над мортирою не развевалось наше знамя. Мы поднялись на холм и приветствовали его громким «ура».
Артиллеристы остановились в недоумении, все еще не узнавая нас. Я дал знак рукою, приказывая нашему знаменосцу выехать вперед и развернуть знамя…
Через мгновение нас окружили со всех сторон, пожимая руки и осыпая вопросами. Оказалось, что весь мой отряд находился тут же под командой лейтенанта. Нас встречали как выходцев с того света. Никто уже не надеялся увидеть нас живыми. Я с удовольствием смотрел на бравых стрелков, столпившихся с расспросами вокруг Линкольна и его товарищей…
Глава 53
ПЛЕННЫЕ ОПТОМ
Соединившись снова со своим отрядом, я решил идти напролом. Никто не имел права удержать меня: майор Твинг поехал дальше со своим эскадроном. Клейли также был на моей стороне.
— Вам не нужны больше мои люди? — осведомился я у капитана Риппли, молодого офицера, командовавшего батареей.
— Могу обойтись и без них, капитан! — ответил он. — У меня есть еще тридцать человек своих. Этого более чем достаточно для того, чтобы охранять пушки от мексиканцев…
Он указал рукой на видневшихся в отдалении беглецов…
— А мне хотелось бы переловить сотню-другую этих «героев». Может быть, вы не откажетесь отправиться со мною?
— Я бы с величайшим удовольствием сопутствовал вам, Галлер, да вы ведь знаете, что значит нарушение приказа… Я должен стоять здесь, пока меня не отведут.
— Это правда… До свидания же, товарищ! Терять времени нельзя!
— До свидания! В случае беды смело рассчитывайте на меня. Я буду издали следить за вами и помогу, когда понадобится.
Скомандовав: «Беглым шагом марш», я во главе роты отправился вдогонку за беглецами; так как половина мексиканцев еще не успела даже спуститься в барранкос, я решился пойти наперерез именно этим отставшим…
Риппли дал мне маленькую подзорную трубу, благодаря которой я издалека мог обозреть всю местность, где двигалась отступавшая армия. Большая часть мексиканцев была безоружна, но зато несла большие свертки, должно быть, какое-то имущество…
Я обратил внимание на темный предмет, выделявшийся на фоне группы пальмовых деревьев. В свою трубу я рассмотрел оседланного мула, стоявшего в тени пальм под охраной нескольких солдат…
«Вероятно, ждут кого-нибудь из начальства», — подумал я, обводя трубой вереницу беглецов. В глаза бросилась блестящая офицерская форма. Один из офицеров нес на спине раненого человека, который не мог быть никем иным, как Санта-Анной…
Трудно описать мои чувства в этот момент. Их можно сравнить лишь с переживаниями молодого охотника, впервые встретившего крупную дичь — медведя, буйвола или пантеру. Я ненавидел Санта-Анну; каждый человек должен был ненавидеть этого деспота. Я достаточно наслышался рассказов об его низости и жестокости; как хотел бы я захватить его! В подзорную трубу я мог рассмотреть черты его преступного лица. В том, что это был он, не могло быть никаких сомнений…
Пора было действовать. Рауль объяснил, что темная полоса, тянувшаяся вдали, была каньоном, заросшим густым лесом. Через узкий проход, образованный каньоном, вел единственный путь к Рио-дель-План. В моей голове мгновенно созрел план действий. Я объяснил его в двух словах товарищам, и быстрым шагом мы отправились в путь. До прохода было около десяти километров, но расстояние не смущало нас, и спустя полчаса мы уже подходили к каньону. Моих стрелков, увлеченных, как и я, заманчивой дичью, не нужно было подбадривать. Ведь многие из них потеряли кто товарища, кто брата в Голиадской долине, в лесах Аламо…
Мы шли наперерез, а отступавшие мексиканцы еще не достигли каньона. Тщательный осмотр местности убедил нас в том, что другого пути для отступающих нет, — лучшее место для засады выбрать было трудно.
Каньон шел зигзагообразно, так что шедшие впереди скоро скрывались за поворотом из глаз идущих сзади.
Мексиканцы отступали группами, и я представлял себе, что передняя группа, скрывшаяся за поворотом, может дать о себе знать следующей за ней задней только выстрелом или тревожным сигналом. Именно это и было нужно. Мы не собирались вступать в открытый бой с неприятелем, нашим намерением было забрать как можно больше мексиканцев в плен без единого выстрела.
Я быстро разместил людей в устье прохода, в зарослях густого кустарника чапарраля. Мы с Оксом заняли позицию, откуда могли отдавать команду всему отряду; впереди всех были Рауль и Клейли — лейтенант с белым флагом должен был вести переговоры о капитуляции, француз служить ему переводчиком.
Передовые группы мексиканцев еще не дошли до каньона. Тишина нарушалась только журчанием ручья; лишь изредка ветер доносил издалека одиночные выстрелы, сигналы горниста, — очевидно, еще не все кончилось на дороге, ведущей к Энсерро и Халапе. Никто из нас не произносил ни слова. Стояло напряженное молчание. Мне уже казалось, что враг нашел иной путь, когда раздался странный звук, напоминавший жужжание пчел. Он становился все громче, и я уже различал голоса людей. Мы слышали, как осыпались камешки и песок под ногами, разбирали отдельные слова.
— Guardaos, hombres! (Осторожнее, товарищи!) — кричал кто-то.
— Carrajo! — воскликнул другой. — После того как мы удрали от пуль янки, здесь нам не страшно.
— Эй, Антонио! Ты уверен, что эта дорога ведет к Орисаве?
— Вполне уверен, camarado. Derecho, derecho (прямо, прямо)!
— Скорее бы дойти. Я так голоден!..
— Vaya! Койоты долго не будут голодать в этих местах.
— Интересно, убили они нашего el Cojo (Хромого)?
— Ну да! Ручаюсь, что удрал вовремя.
El que mate un ladron Tiene cien anos de pardon.
(«Кто убьет разбойника, получит отпущение грехов на сто лет!») Послышался грубый хохот. Это смеялись люди, еще недавно кричавшие: «Viva el general! Viva Santa Anna!»
В этот момент раздался голос Рауля:
— Alto! Abajo las armas! (Стой! Бросай оружие!) К пораженным мексиканцам приближался Клейли с белым флагом, за ним поблескивали из чащи темные стволы ружей. Выбора не было, и через минуту весь отряд исчез в густом кустарнике…
Послышались голоса следующего отряда. Так же мирно, не подозревая ничего, мексиканцы рассуждали о том, что надо подумать о новом президенте на тот случай, если янки заберут в плен Хромого…
Повторилась та же самая сцена; за второй группой была взята в плен без единого выстрела третья, четвертая, пятая… Наконец, я стал уже опасаться, что пленных наберется так много, что они сами, в свою очередь, попытаются забрать нас в плен… Но главная добыча все еще не появлялась, и я решил выждать…
Из-за поворота появилась группа офицеров, человек в десять-пятнадцать. Мы еще раз услышали «Alto!» Рауля. Но эта более смелая группа, вместо того чтобы швырнуть оружие по примеру товарищей, выхватила пистолеты и сабли и бросилась вперед. Из чащи раздался залп, остановивший мексиканцев; одни из них упали, другие повернули обратно. Преследовать их было небезопасно — нужно было подумать о своих пленных. Оставаться же на месте было бесполезно
— следующие партии мексиканцев слышали выстрелы, бежавшие офицеры предупредят о засаде. Так Санта-Анна избежал нашего плена…
Мы связали попарно наших пленных — получился батальон в сто пятнадцать пар, двести тридцать человек, и с триумфом отвели их в американский лагерь.
Глава 54
НЕУДАВШАЯСЯ ДУЭЛЬ
После битвы при Сьерро-Гордо наши войска преследовали врага до самой Халапы. После взятия города движение армии было приостановлено для подготовки окончательного наступления на столицу Мексики.
На второй же день нашего пребывания в Халапе мы были положительно засыпаны приглашениями на обеды, балы и dias de campo (пикники).
Женщинами я не увлекался, предоставляя это своим товарищам. Ведь я не знал, где она, моя невеста. Передавали, будто она со своими родителями направилась к Кордове или Орисаве, но ничего положительного никто сказать не мог…
Клейли тоже грустил. Жгучие взгляды, серебристый смех красавиц Халапы не производили на него никакого впечатления…
Портили настроение и дурные отношения, установившиеся между кадровыми и вновь сформированными полками. Начались раздоры, обычные в тылу и забывающиеся на фронте.
Между кичившимися старшинством по службе был молодой пехотный капитан Рансом, сам по себе хороший малый, прекрасный солдат, отчаянный рубака, но спесивый донельзя. Он любил бахвалиться как тем, что недавно находится в полку, так и своим происхождением… Однако, разбирая как-то свои бумаги, я случайно наткнулся среди них на старый счет на кожаные брюки, адресованный моему дедушке. Счет был от дедушки Рансома и неопровержимо доказывал, что дед заносчивого капитана-аристократа служил когда-то у моего деда…
Раздраженный хвастовством Рансома, я показал этот документ кое-кому из товарищей. Со счета было снято несколько копий, и одна из них дошла в конце концов до капитана Рансома…
Дело должно было увенчаться дуэлью, назначенной на следующее утро на берегу реки Сцедены, по дороге к Пероте.
На рассвете я и Рансом с секундантами выехали за город. По дороге нас нагнал экипаж с приглашенными нами врачами. На козлах восседал, рядом с кучером, наш Маленький Джек, без которого не могло обойтись ни одно важное событие в моей жизни.
На опушке небольшой рощи мы остановились, сошли с лошадей и направились в самую рощу. Там нашлась прекрасная полянка, как раз пригодная для нашей цели…
Секунданты, отмерив десять шагов, поставили нас с Рансомом спиной друг к другу. Мы должны были обернуться при слове «готово» и стрелять, когда отсчитают: «раз, два, три…»
В томительном молчании ожидали мы условленного сигнала, вдруг подбежал Джек, остававшийся у экипажей, и крикнул:
— Капитан, капитан!.. Мексиканцы едут!.. Мексиканцы!..
Действительно, к лесу мчалось верхом человек двадцать гверильясов. Очевидно, они ехали вслед за нами с целью захватить нас врасплох.
Рансом, стоявший впереди, выстрелил в того, который находился во главе кавалькады, но промахнулся. Тот привскочил на седле, выхватил саблю и налетел на капитана.
В свою очередь, выстрелил и я. Всадник слетел на землю…
— Благодарю, Галлер! — крикнул мой противник.
Секунданты, хирурги и дуэлянты встали в ряд, наведя дула пистолетов на всадников. Из их середины выехал вперед один на чудесной черной лошади. Я задрожал, узнав во всаднике Дюброска. Он тоже узнал меня. Дав шпоры коню, он подлетел ко мне, оглашая окрестность воплем ярости. Глаза его сверкали, как молнии, красивое лицо передергивалось судорогами. Нагнувшись с седла, он размахнулся саблей, описав ею блестящую дугу по воздуху… Я выстрелил, но в тот же миг упал от толчка навалившегося на меня тела и лишился чувств…
Очнулся я очень быстро. Открыв глаза, я увидел темную линию всадников, скакавших обратно по той дороге, по которой они выехали к нам. Их преследовал отряд американских драгун…
Я был весь в крови, поперек меня лежало чье-то тяжелое тело. Джек употреблял все силы, чтобы высвободить меня из-под него, но это ему не удавалось.
Приподнявшись, я сбросил с себя труп, затем перевернул его и заглянул в лицо мертвеца: это был Дюброск!..
— Убит! — воскликнул я. — Дюброск убит?..
Да, Дюброск был мертв. Красивое лицо его посинело, рот болезненно искривился, черные глаза потускнели…
Драгуны, преследовавшие гверильясов, возвращались обратно. Я нашел среди них Рансома, секундантов и врачей.
Клейли был ранен в руку и морщился от боли, пока хирург перевязывал ему рану.
Заметив полковника Гардинга, начальника отряда, я подошел к нему.
— Здравствуйте, капитан Галлер! — произнес он, отвечая на мое приветствие. — Не явись на сцену гверильясы, мне пришлось бы выполнить крайне неприятное поручение, возложенное на меня главнокомандующим, а именно: арестовать вас и капитана Рансома. Но теперь, — продолжал он с улыбкой, — надеюсь, что пыл ваш поостыл, и вы не прочь помириться. Я позволю себе, в первый раз в моей жизни, ослушаться приказания начальства и оставить вас на свободе…
— Я готов помириться! — воскликнул я, взглянув на Рансома, который дружелюбно улыбался.
— Я тоже, — сказал он, подходя с протянутой рукою. — Простите, дорогой Галлер, мое глупое поведение. Я признаю, что вполне заслужил… быть проученным! Будем друзьями!..
Я от души пожал ему руку и сказал:
— Хорошо, предадим забвению то, о чем не стоит помнить. Закурим, как делают индейцы, трубку мира… вернее говоря, по сигаретке и сожжем совместно ту… ту бумажку, которая совершенно напрасно попала в мои руки…
Дружеский союз, заключенный мною таким образом с Рансомом, остался до сих пор ненарушенным.
При обыске тела Дюброска нашли документ, доказывавший, что Дюброск состоял шпионом на службе у Санта-Анны. Он вступил в Нью-Орлеане в ряды нашего войска только для того, чтобы выведать все, что было интересно знать мексиканскому правительству. Сделайся он начальником отряда вольных стрелков, как того добивался, он, наверное предал бы его неприятелю…
Глава 55
СВИДАНИЕ
Клейли скоро выздоровел, и мы опять стали неразлучными.
Оба мы изнывали от тоски, не имея никаких сведений о судьбе дона Косме и его семейства.
Однажды, когда мы сидели в Fonda de Diligenciac, главном ресторане города, вошел Джек и шепнул мне на ухо:
— Капитан, вас желает видеть какой-то молодой мексиканец.
— Мексиканец? — с недоумением повторил я. — Что ему нужно? Ты не знаешь его?
— Это, кажется, брат…
— Чей брат?
— А тех молодых девушек, капитан…
Я вскочил со стула с такой стремительностью, что повалил его и опрокинул стоявшие на столе бутылки и стаканы.
— Галлер, что с вами? — воскликнули товарищи, с удивлением глядя на меня.
— Меня вызывают на минутку… Я сейчас возвращусь к вам! — закричал я на ходу, спеша в приемную.
Там я увидел Нарсиссо. Мы бросились друг к другу, крепко обнялись и расцеловались.
— Как вы попали сюда, мой милый Нарсиссо? Давно ли вы в городе? Один вы или с вашими родными? — сыпал я вопросами.
— Мы еще вчера приехали в город. Ведь у нас тут свой дом… Узнав, что вы здесь, папа послал меня разыскать вас. Он просит вас прийти к нам сегодня вечером вместе с сеньором Клейли и тем толстым сеньором, с которым вы были у нас на гасиенде…
— Это майор Блоссом… Хорошо, приведем и его. Но скажите, пожалуйста, где же вы были со времени нашей последней встречи?
— В Орисаве. У папы там большая табачная плантация…
— А каким же образом вы попали в общество гверильясов? Мы видели вас в монастыре и в гасиенде Сенобио…
— А мы и не подозревали, что те пленники, которых везли с нами, были именно вы… Это нам стало известно только позднее… О, если бы я знал, что это вы! Мы сами ехали просто под охраною того отряда. Ведь одним ехать было очень опасно в то время…
— Ну, теперь я понял все. А где же ваш дом? — осведомился я.
— Близ церкви Спасителя. Вам укажут… Белый дом, с большим садом…
— Хорошо. Кланяйтесь, пожалуйста, всем вашим, милый Нарсиссо, и скажите, что вечером мы непременно придем и захватим с собой el senor gordo (толстого сеньора).
Простившись с молодым человеком, я возвратился к компании.
— Кто это был? — шепотом спросил Клейли.
— Нарсиссо Розалес…
— Неужели! — воскликнул он, весь так и просияв. — Значит, они здесь? Мы их увидим?..
— Да, и не позже сегодняшнего вечера…
Я передал ему все, что узнал от Нарсиссо, и этим привел его в такой же восторг, в каком находился и сам.
Мы уже садились вечером на лошадей, когда я вспомнил об обещании привести с собой майора. Клейли не хотелось заезжать за ним, но, когда я указал ему, что толстяк может быть нам весьма полезен, «отвлекая» дона Косме и донью Хоакину, мой лейтенант первым вскочил в седло и понесся к квартире майора.
Майор не заставил себя упрашивать — он не мог забыть про ужин у дона Косме, — и вот мы уже втроем подъезжали к дому наших друзей.
Мы опять попали как раз к ужину — майор не прогадал, поехав с нами. Он уже научился кое-как объясняться по-испански и после ужина вступил с доном Косме в длинный разговор за бутылкой вина. Мы были от всей души признательны товарищу: он дал нам возможность удалиться с Люпе и Люс сначала на веранду — полюбоваться светом луны, а потом незаметно углубиться и в самые темные аллеи сада.
Мы гуляли dos у dos (двое и двое) в тени апельсинных деревьев, любовались луной, слушали пение тропических птиц…
Все прошлые невзгоды были позабыты, а будущие заботы… о них мы не думали…
Было поздно, когда мы наконец пожелали «buenas noches» друг другу и разошлись со словами «hasta la manana» (до завтра)…
Стоит ли говорить о том, что наши свидания повторялись ежедневно до того дня, когда горнист еще раз затрубил «поход».
Подробности этих дней не интересны для читателя. Но для нас же это были самые счастливые дни в нашей жизни. Они были похожи один на другой, но нам с Клейли хотелось, чтобы это однообразие длилось всю жизнь…
Накануне дня, назначенного для выступления в поход, Клейли и я формально посватались за дочерей дона Косме.
Старик сначала слегка поморщился. Ему не хотелось, чтобы его дочери слишком быстро превратились во вдов… Но, видя, с каким страхом мы ожидаем его решения, старик сказал:
— Подождем до окончания войны…
И нам снова пришлось расстаться с дорогим для нас семейством, снова подвергнуться всем опасностям и случайностям войны…
Мы пересекали залитые солнцем равнины Пэротэ, карабкались на вершины Анд, переплывали холодные струи Rio Frio, ползали по снежным шпицам Попокатепетля, и, наконец, после продолжительного и утомительного перехода наши штыки заблестели на берегу озера Тезкоко…
Там мы дрались как львы, зная, что мы должны или победить, или умереть…
И мы победили… Над древним городом ацтеков взвилось наше знамя!
Мы оба — Клейли и я — были ранены, но не опасно. Искусство хирургов скоро поставило нас снова на ноги…
И наконец наступил день, когда мы бодро подъехали к воротам так хорошо знакомого нам дома. Мы передали свои визитные карточки и были приняты сейчас же. Это был незабываемый день!..
Глава 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Монастырь Екатерины — самый богатый во всей Мексике и чуть ли не во всем мире… В эту обитель и вступила прекрасная Мария де Марсед, так жестоко испытанная судьбою. Я видел ее там в белом одеянии монахини; она показалась мне еще прекраснее…
В Новый Орлеан я вернулся в конце 1848 года. Как-то раз я прогуливался с женой по Леве, как вдруг услыхал возле себя хорошо знакомый голос:
— Съешь меня волк, Рауль, если это не капитан Галлер!
Обернувшись, я увидел гигантскую фигуру Линкольна в сопровождении Рауля.
Они бросили службу и теперь отправлялись вместе промышлять охотой в Скалистые горы. От них я узнал, что Чэйн вступил в регулярные войска и уже получил чин сержанта.
Жена моя сняла на прощание два кольца со своей руки и предложила их Раулю и Линкольну — «на память». Рауль, поблагодарив, тотчас же надел подарок на палец, Линкольн попробовал сделать то же самое, но безуспешно: его огромные лапы были слишком велики для женского кольца. Сконфуженному охотнику пришлось спрятать подарок в патронташ…
Старые друзья проводили меня до дома, где я нашел для них более подходящие подарки. Раулю я подарил мой револьвер, надеясь, что мне не придется больше им пользоваться. Охотник получил то, о чем он мечтал давно: немецкое ружье майора…
Вероятно, не один гризли убит в глухих уголках Скалистых гор из страшной «флинты» майора…
Любезный читатель! Я уже собирался сказать тебе «прощай», когда Маленький Джек подал мне только что полученное письмо. На почтовом штемпеле стоит «Вера-Круц». Датировано письмо первым ноября 1849 года, а кончается оно так:
«Вы очень глупо сделали, что уехали из Мексики. Я никогда и нигде не был так счастлив, как здесь. Вы не узнаете ранчо и полей вокруг него. Я вычистил все сорные травы и думаю, что мой хлопок превзойдет по качеству луизианский. Есть у меня и маленькая ванильная плантация. Мне бы хотелось, чтобы вы оценили все мои нововведения. Моя маленькая Люс очень интересуется хозяйством. Галлер, я — счастливейший человек на свете!..
Вчера у нас обедал наш старый приятель Сенобио. Он — хороший малый, несмотря на большую склонность к контрабанде. Между прочим, вы, вероятно, уже слышали, что другой наш приятель — падре — расстрелян? Он устроил восстание против правительства. У Керетаро его схватили со всей его бандой…
А теперь, дорогой Галлер, самое главное. Нам очень хочется, чтобы вы приехали к нам. Дом в Халапе готов для вас, и донья Хоакина просит передать, что она весьма надеется, что вы вернетесь. Дону Косме тоже очень хочется, чтобы вы вернулись: ведь Люпе — его любимица. Старому Сенобио тоже очень хочется, чтобы вы вернулись.
Люс скучает по сестре, и она также мечтает, что вы вернетесь. И наконец, мне тоже очень хочется, чтобы вы вернулись. Одним словом, приезжайте как можно скорее!
Ваш навсегда Эдуард Клейли».
…А тебе, читатель, хочется, чтобы я вернулся?..
ОХОТНИКИ ЗА СКАЛЬПАМИ (роман)
Герой романа прослышав о выгодности торговых экспедиций в Северную Мексику, знакомится со «степными торговцами» и инвестирует свой капитал в предприятие. Караван отправляется из Сент-Луиса и вскоре оказывается на пути в Мексику…
По ходу повествования герои преодолевают отчаянные ситуации, а читатель оказывается в атмосфере быта и нравов давно ушедшей эпохи.
Глава 1
ДИКИЙ ЗАПАД
Развернем карту обоих полушарий и взглянем на огромный материк Северной Америки. Посмотрим на далекий Дикий Запад — туда, за крайние границы Соединенных Штатов, где перед нашими глазами развернется страна, землю которой никогда еще не вспахивали человеческие руки, очертания которой как бы отражают во всей величавой неприкосновенности первый день творения, — страна, в которой каждый предмет еще носит первобытный отиечаток, образ Творца.
Всемогущий дух его витает в великом безмолвии гор, в рокоте волн могучих рек. Он глядит на нас сквозь чащу необозримых лесов, в которой под нашими ногами шуршит толстый ковер опавшей листвы тысячелетних исполинов-деревьев; он чарует нас дивной прелестью многообразных цветов, великолепием их пестрой окраски и упоительным ароматом, пропитывающим весь воздух окрестности.
Перед нашим духовным взором развертывается изменчивая панорама роскошных картин. Вот перед нами обширная равнина, огромное пространство, покрытое живою зеленью. От севера до юга и от востока до запада на пространстве, какое только может охватить глаз, тянется пелена прерии, зеленой, как изумруд, и гладкой, как поверхность дремлющего озера. Но минуло затишье, заволновались от ветра шелковистые травы — и она стала напоминать мощные волны океана.
Это — черноземная прерия, огромное, безграничное пастбище бизонов, диких коней и их прирученных братьев, обузданных коричневой рукой индейцев прерий.
* * *
Картина изменилась. Исчезла степная трава, и перед нами и вокруг нас одни яркие блестящие цветы, в которых мы, пораженные, не знаем, чем раньше восхищаться: изумительным художественным изяществом их, или дивным сладостным ароматом, или великолепием их богатой окраски. Вот золотисто-желтые массы крупноцветных подсолнечников поворачивают к дневному светилу свои корзинки, похожие на часовой циферблат; там колышутся красные чашечки мальв; дальше горит ярким пурпуром целая грядка монард, а за нею сверкают серебристые листья молочая, — и надо всем этим морем цветов носятся мириады насекомых, между которыми, словно солнечные лучи, там и сям прорезывают, как молнии, воздух маленькие колибри.
Это — цветочная равнина, степь в брачном уборе, «сад Господень», как ее называют простодушные охотники, бродящие по ней со своими силками.
* * *
Картина снова меняется. Исчезла прерия, сменившаяся широкой тенистой дубравой; маленькие островки, покрытые деревьями, вынырнули из-за краевых полос цветочного моря; вот они встречаются все чаще и чаще, все меньше становятся промежутки между ними, пока они совсем не сливаются в огромную, плотную массу; это — девственный лес.
Мощные деревья обступают нас на каждом шагу тесным кольцом, простирая над нами исполинские серые ветви. Белый испанский мох гирляндами обвивает обрушившиеся полуистлевшие стволы, дупла которых служат жилищем диким кошкам и дикобразам. Святая тишина царит днем в этом лиственном храме, но зато полна звуков и шумов ночь. Дикие звери, выходящие по ночам на добычу пищи, покидают свои убежища и наполняют лес чудовищным хором своих голодных голосов, так что притаившийся охотник, заслышав совсем близко около себя зловещий рев, невольно крепче сжимает рукою ружье.
* * *
Но вот декорация снова переменилась. Нет больше ни трав, ни цветов, ни лесов, — они уступили место темному, голому пространству земли. Перед нашими глазами — унылая мертвая пустыня с ее горячими песками, скалистыми развалинами и бесплодными крутыми оврагами. Здесь могут произрастать только различные разновидности кактусов с их причудливыми, то шаровидными, то колоннообразными стволами, да редкие виды животного царства находят еще здесь кой-какую пищу для себя.
И с каждым шагом вперед по этой выжженной солнцем поверхности мы увидали бы все более и более безотрадную и дикую природу, все больше трещин, ущелий и скал…
* * *
Но вот мы наконец минули пустыню — и перед глазами нашими высится громада горной цепи. Взбираясь с холма на холм и с горы на гору, мы увидали высоко над собой ряд горных вершин, увенчанных вечным, никогда не тающим снегом. Вот мы очутились на крутой отвесной скале; под нами зияют бездонные пропасти, дремлющие в безмолвии вечного запустения, — и, почувствовав обморочную слабость и головокружение, мы торопливо отступаем от края утеса, чтобы не поддаться чарующей власти духов бездны, влекущей нас вниз. Это — Скалистые горы, ньюмексиканские Кордильеры.
Здесь живет страшное чудовище — серый медведь; здесь на выступе скал притаился могучий барс и ждет антилопу, которая должна пробежать мимо него, отправляясь на обычный водопой, и дикий баран скачет с утеса на утес, отыскивая свою пугливую самку. Вон на сосновой ветви точит коршун свой изогнутый клюв — и надо всем и всеми парит благородный орел, царь воздуха, резко вырисовываясь на голубом просторе неба.
Такова панорама Дикого Запада; такова та страна, в которой разыгрывались описываемые нами события.
Глава 2
СТЕПНЫЕ КУПЦЫ
«Нью-Орлеан, 3 апреля 18… г.
Дорогой Сен-Врэн!
Рекомендую Вам моего молодого друга, Генри Галлера, отправляющегося в Сен-Луи, чтобы повидать живописные местности. Позаботьтесь о том, чтобы он хорошо устроился, и окажите ему содействие в его предприятиях.
Ваш Луи Уальтон.
Чарльзу Сен-Врэну, эсквайру, отель Плантера, Сен-Луи».
С этим лаконическим рекомендательным письмом в кармане Генри Галлер высадился в городе Сен-Луи и, не теряя времени, отправился в отель Плантера, сдал свой багаж, переоделся и тотчас зашел в контору, чтобы повидать Сен-Врэна.
Но его не оказалось, он уехал за несколько дней до прибытия Галлера по Миссури.
Это было для Галлера неприятной неожиданностью, но утешительно было и то, что он узнал: Сен-Врэн должен вернуться не позже как через неделю. Галлер решил дожидаться его возвращения и постараться провести как можно незаметнее предстоявшие скучные дни ожидания в прогулках пешком по городу или верхом за город по степям и холмам.
Одновременно с Галлером приехало в Сен-Луи и остановилось в той же гостинице небольшое общество джентльменов, — по-видимому, хорошо знакомых друг с другом и находившихся в приятельских отношениях. Они вместе бродили по улицам города, сидели рядом за табльдотом и, как заметил Галлер, требовали самых тонких вин и самых дорогих сигар, какие только можно было достать в гостинице.
Маленькое общество приковало к себе внимание Галлера. Ему бросились в глаза и своеобразное поведение их, и их непринужденные, свободные манеры, и юношеская веселость, столь характерно отличающая уроженцев Западной Америки.
Обращало на себя внимание еще и то, что все они были почти одинаково одеты; в изящных черных костюмах, в белоснежном белье и с бриллиантовыми булавками в галстуках, они казались почти похожими друг на друга. Все они носили длинные волнистые волосы до плеч, а на некоторых были отложные воротники, обнажавшие здоровые загорелые шеи.
— Кто эти господа? — спросил наконец Галлер через несколько дней своего соседа по табльдоту, указывая глазами на приятельскую компанию.
— Это степные купцы.
— Степные купцы?
— Да, торговцы из Санта-Фе.
— Торговцы? — повторил с некоторым недоумением Галлер, так как в его уме плохо вязалась изящная наружность с представлением о торговцах и о степях.
— Да, — сказал его собеседник, — вон тот сильный, красивый мужчина, который сидит посредине, это Бент, Билл Бент, как его называют; по правую руку от него — молодой Сюблет; по левую — один из братьев Шото, а рядом с ним — известный Джерри Фольгэр.
— Так это и есть та знаменитая компания степных торговцев?
— Да, они пользуются большой известностью.
Узнав это, Галлер начал рассматривать еще с большим любопытством незнакомцев, товарищем которых ему, быть может, суждено было стать. Он заметил, что и они оглядываются на него, так что можно было догадаться, что они говорят о нем. Через некоторое время от их общества отделился изящный молодой человек и подошел к Галлеру.
— Не вы ли спрашивали Сен-Врэна?
— Да, я.
— Чарльза?
— Да, его так зовут.
— Я Чарльз Сен-Врэн.
Галлер вынул свое рекомендательное письмо и протянул его незнакомцу, который быстро пробежал письмо и, протянув Галлеру руку, сказал:
— Дорогой друг, мне глубоко жаль, что вы меня не застали. Я ездил по Миссури и только сегодня утром вернулся. Давно ли вы приехали?
— Сегодня седьмой день, как я здесь.
— Мне, ей-Богу, вас жаль! Как вы должны были скучать! Пойдемте, я вас познакомлю с моими друзьями. Бент, Билл, Джерри! — И, назвав фамилии остальных, он прибавил: — Знакомый нашего общего друга Уальтона из Нью-Орлеана.
Галлер пожал руки новым знакомым, его пригласили посидеть с ними, и вскоре завязался оживленный разговор.
Галлер жадно прислушивался к рассказам об опасных приключениях, о подробностях последнего путешествия, и эти необычайные переживания людей, странствовавших и охотившихся по прериям, разумеется, еще усиливали его давнишнее влечение к такой жизни. Наконец он открыто высказал желание принять участие в проектировавшемся караване и был искренне тронут тем взрывом радости, каким было встречено предложение со стороны его новых друзей.
Сен-Врэн отозвал его в сторону и спросил:
— Так я действительно должен понять письмо Уальтона в том смысле, что вы расположены совершить вместе с нами задуманное путешествие? Нет сомнения, что это вполне удовлетворило бы ваше стремление к живописным местам. Мы выезжаем через неделю.
— Мое желание очень серьезно, — ответил Галлер. — Я решил отправиться с вами, если вы только будете так добры и укажете мне, что следует сделать для этого.
— Нет ничего легче! Купите себе лошадь.
— Я уже купил.
— Затем кое-что из платья, погрубее и попрочнее, ружье, пару пистолетов…
— Позвольте! Все это у меня есть. Я вот что еще хотел сказать вам, господа, — сказал Галлер, обращаясь ко всей компании, группировавшейся тем временем вокруг них по окончании обеда. — Вы возите товары в Санта-Фе и продажей их удваиваете и учетверяете свой капитал. У меня с собой 10000 долларов; отчего бы и мне не соединить выгоду с удовольствием и сделать такое же употребление из своих денег, как делаете вы?
— Отлично, отлично! Это удачная мысль! — воскликнули некоторые.
— В таком случае, если бы кто-нибудь из вас был так любезен, пошел бы со мной и помог бы мне указанием; какого рода товары мне следует приобрести для рынка Санта-Фе, я был бы глубоко признателен за эту услугу.
Степняки засмеялись, заявили, что все пойдут с ним для закупки товаров, и тотчас же превратили слово в дело, выйдя на улицу вслед за ним и Сен-Врэном, взявшим его под руку.
Ко времени ужина Галлер успел уже превратить почти все свое состояние в ситец и миткаль, в ножи, зеркала, ножницы и прочие ходкие на рынке Санта-Фе товары, оставив только небольшую сумму, чтобы купить себе в Индепенденсе, откуда караван намеревался отправиться в прерии, мула и телегу и нанять погонщика.
Через несколько дней он отплыл вместе со своими спутниками на судне вверх по Миссури; но прошла еще почти целая неделя, прежде чем караван сделал последние необходимые приготовления к путешествию в маленьком городке Индепенденсе. Когда он был совсем готов, то имел такой внушительный вид, что некоторым воинственным индейским племенам могла, пожалуй, прийти охота напасть на него.
Караван состоял из ста с лишком телег и почти двухсот погонщиков и слуг. Две телеги были нагружены товарами Галлера, и для сопровождения их он нанял в штате Миссури двух дюжих парней. Кроме того, при нем состоял в качестве слуги или помощника канадец Годэ, проведший полжизни в пустыне и находившийся временно в Индепенденсе для возобновления снаряжения.
Глава 3
«СТЕПНАЯ ГОРЯЧКА»
Куда девались изящные джентльмены в черных сюртуках, сверкавшие бриллиантами, какими мы их видели в отеле Плантера? Можно было подумать, что они там и остались, так как среди путешественников были только мужчины в охотничьих куртках и широкополых шляпах — в полном костюме жителя прерий.
Все, не исключая Галлера, были одеты в охотничьи куртки из дубленой оленьей кожи светло-желтого цвета; на ногах у них были надеты темные рейтузы и тяжелые сапоги с массивными медными шпорами. Пестрая полотняная рубашка, шелковый галстук и непромокаемая шляпа довершали костюм, при котором каждому обязательно было иметь еще по два шерстяных одеяла под седлом.
Вооружение было также почти одинаковое у всех. У Галлера было два больших револьвера, прикрепленных к недоуздку лошади, за кушаком еще два меньшего калибра, а через плечо висело превосходное ружье, из которого можно было сделать двадцать три выстрела. Кроме того, у него был еще широкий, американской системы нож, который мог служить и оружием, и в то же время для еды, охотничья сумка и пороховница; последние две принадлежности висели у него на правом боку.
Что же касается верховых животных — в этом отношении участники путешествия отличались друг от друга. Некоторые ехали на мулах, другие на мустангах, у третьих были арабские лошади на высоких ногах. К числу последних принадлежал и Галлер. У него была приобретенная у одного плантатора в Сен-Луи кровная лошадь, темной масти жеребец на черных ногах и с черной мордой, носивший кличку Моро («мавр, араб»).
Красивое и гордое животное так понравилось дорогой спутникам Галлера, что некоторые предлагали ему крупные суммы за коня, но деньги не привлекали его, а конем он сам был очень доволен и день ото дня все сильнее привязывался к нему. Свиту Галлера довершала прекрасная сенбернарская собака, носившая кличку Альп, которую он купил в последний день перед своим отъездом у одного швейцарского эмигранта в Сен-Луи.
Прошло уже почти две недели пути, а с караваном не случилось ничего необыкновенного; но для Генри Галлера была достаточно интересна одна новая, своеобразная обстановка. Длинный ряд повозок тянулся и извивался, немного похожий на колоссальную змею, то взбираясь на небольшие возвышенности и красиво выделяясь на матовом фоне зелени, то подвигаясь по роскошным речным долинам и делая крюки, чтобы отыскать брод и переправиться с помощью впряженных спереди быков на другой берег.
Своеобразно красивую картину представлял караваи и ночью, когда располагался лагерем, тесно сдвинув телеги и окружив их кольцом стреноженных лошадей.
По пути путешественникам попадались олени и антилопы; нескольких они застрелили, но до пастбища бизонов они еще не добрались. Время от времени им приходилось делать остановки, длившиеся по нескольку часов, для починки поломавшегося дышла или для извлечения увязшей телеги из глубокого ила в приречной низменности.
Но караванный отряд Галлера без труда справлялся с подобными мелкими или более крупными неприятностями. Его миссурийцы-слуги оказались здоровыми ребятами, отлично помогавшими друг другу, не приходившими в отчаяние от маленьких невзгод и умевшими найтись при всякой случайности.
Трава была превосходная, и мулы и быки не только не худели в пути, а еще с каждым днем тучнели. Моро же получал, сверх того, ежедневные порции маиса, который Галлер вез в одной из своих телег, и эта питательная примесь к корму поддерживала благородное животное в превосходном состоянии.
Когда они приблизились к Арканзасу, они заметили индейцев верхами, скрывшихся в прибрежные кустарники. Это было индейское племя поуни; в продолжение нескольких дней затем то и дело вблизи каравана показывались большие или маленькие кучки этих темнокожих воинов. Но длинные ружья бледнолицых все же заставляли их держаться предусмотрительно на некотором расстоянии от них.
Таким образом, хотя ничего необычайного и не случалось, каждый день все-таки приносил кое-что новое как в событиях самого путешествия, так и в смысле разнообразия ландшафтов.
Канадец Годэ, бывший поочередно путешественником, охотником, звероловом и лесным бродягою, оказался за время пути истинным кладом для Галлера. Кроме того, что он был услужлив, предан и всегда в превосходном расположении духа, что помогало коротать вечера, — он был неоценим для своего господина главным образом тем, что сообщал ему множество необходимых сведений и сделал его в короткое время довольно сведущим путешественником по прериям. Это особенно ценил Галлер, так как знания возвышали его в глазах новых товарищей.
Кроме того, Сен-Врэк, завоевавший с самого начала доверие Галлера своим сердечным, теплым отношением к нему, прилагал всевозможные усилия, чтобы сделать молодому человеку путешествие приятным. Стремительная езда в течение дня и необычайные, почти неимоверные рассказы, которые он выслушивал на ночных привалах у костра, ошеломляли Галлера и восхищали его романтизмом новой жизни: он уже успел заразиться «степной горячкой».
Его спутники, смеясь, сказали ему это, но тогда ему не было понятно выражение; только впоследствии он понял, что оно значило. Да, тогда он был весь во власти этой душевной болезни, и она все резче обнаруживалась с каждым днем. В душе начали тускнеть воспоминания прошлого, исчезали прежние желания и стремления. Сердце остывало к соблазнам и приманкам больших городов, охладевало к старым привязанностям, как будто их никогда и не бывало.
Силы его росли; он испытывал особый душевный подъем, особую телесную бодрость и жажду деятельности, которых никогда еще в такой степени не чувствовал; всякая деятельность была ему радостна. Как будто быстрее и горячее струилась в его жилах кровь, как будто обострились все внешние чувства: он мог, не мигая, смотреть на солнце.
Степная горячка!
Воспоминание о ней сохранится еще на долгие годы в душе путешественника. Долго-долго после того, как перед глазами его перестанет расстилаться бесконечная равнина, пальцы его все еще будут сжиматься, как бы порываясь натянуть повода, колени все еще будут стремиться сжать благородное тело коня, и все еще сохранится жажда скакать без цели по зеленым волнам степного моря…
Глава 4
ВЕРХОМ НА БИЗОНЕ
После двухнедельного путешествия караван очутился в долине вблизи Арканзаса, расположенной примерно на шесть миль ниже Плум-Бутта, недлинной горной цепи; здесь было решено сделать привал на 24 часа. Телеги были сдвинуты так, что составили огороженное помещение, внутрь которого были загнаны вьючные животные, и всадники уже готовились расседлать коней и мулов, как вдруг раздался взволнованный голос Сен-Врэна:
— Посмотрите-ка, вон там, у группы хлопчатников, — клянусь, нам попалась богатая пожива!
Все повернулись по указанному направлению и, действительно, разглядели у небольшого возвышения пять каких-то фигур… Несомненно, это были бизоны — первые, попавшиеся охотникам… Тотчас раздались веселые клики и звуки охотничьих рогов. Все были рады предстоявшей добыче, жаркому на ужин из мяса и языков бизонов.
Вмиг были оседланы верховые животные, и 10 или 12 всадников поскакали с места стоянки; между ними были Галлер и Сен-Врэн.
Караван сделал в этот день небольшой переход, лошади еще были свежи, и охотники быстро проскакали галопом две мили из трех, отделявших их от дичи. Но тут Галлер и еще некоторые новички сделали промах: мчались на бизонов прямо по ветру, и, когда они были уже на расстоянии меньше мили от места, один из бизонов, потянув воздух, почуял их приближение, обернулся, ударил копытами об землю и бросился бежать, увлекая за собой своих четверых товарищей.
Что было делать? Отказаться от охоты или пришпорить коней и ринуться в погоню за бежавшими зверями? Охотники решились на последнее и помчались галопом, но вдруг очутились перед глиняным валом вышиною в шесть футов, составлявшим границу расположенной выше равнины и поднимавшимся к ней в виде террасы.
Это непредвиденное препятствие вынудило охотников остановиться. Некоторые, раздосадованные неудачей, повернули лошадей и направились обратно, а Галлер, Сен-Врэн, канадец Годэ и еще трое, у которых лошади были лучше, не пожелали отказаться так дешево от добычи, пришпорили коней и решили взобраться по ступеням террасы.
Когда они были наверху, им пришлось проскакать сильным галопом еще пять миль, пока один из зверей оказался от них на расстоянии ружейного выстрела. Это была молодая самка. Галлер, порядочно опередивший остальных, опустил поводья на шею своего Моро, поднял ружье, прицелился, выстрелил, и когда рассеялся дым, на земле лежал мертвый зверь, которому пуля попала в голову за ухом.
Так как добытого мяса должно было хватить на всех, охотники решили не преследовать остальных зверей и принялись сдирать шкуру с добычи.
Эта работа, так же как и разделка мяса на части, потребовала в искусных руках немного времени; охотники, покончив с нею, оглянулись на свой лагерь и попытались определить расстояние, отделявшее их от него.
— Добрых восемь миль, — сказал Сен-Врэн, — а завтра снова сюда, так как мы здесь как раз у самой дороги (он указал на старые следы, свидетельствовавшие о проезде телег купцов из Санта-Фе) — это значит шестнадцать миль. А что, если бы мы совсем не возвращались, а сразу же остались здесь? Воды и травы вокруг довольно, там вон сочное буйволиное мясо, а у ручья достаточно хвороста для разведения костра. На ночь у нас есть одеяла, чего же нам больше?
— Я высказываюсь за остановку здесь, — сказал Галлер.
— Мы тоже! — воскликнули остальные.
И охотники сняли с себя лишний груз, расседлали коней и пустили их пастись стреноженными по сочной зелени прерий. Упомянутый ручей хрустально-чистой воды протекал к югу от Арканзаса, и на берегу его, под защитой холма, был разбит лагерь.
Вскоре сочное мясо буйволицы зашипело на вертелах, протянутых над костром. Охотники поели, запили мясо глотками из походных фляг и закурили свои трубки, расположившись поуютнее, и, обволакиваемые волнами табачного дыма, принялись рассказывать друг другу разные приключения.
Огонь потухал под слоем пепла, и все нашли, что пора на покой. Было условлено, кому оставаться на ночное дежурство, и жребий пал на одного из охотников, Гиббетса, славившегося своей сонливостью; но на первую часть ночи это не представляло опасности, так как индейцы имели обыкновение совершать свои нападения незадолго до рассвета. Остальные завернулись в свои одеяла и вскоре уснули.
Один только Галлер не сразу уснул. Перед наступлением ночи он заметил на берегу ручья очень красивое место, шагах в пятидесяти от того, где улеглись товарищи, и теперь у него вдруг явилось желание лечь спать там. Он захватил свое ружье и одеяло, крикнул Гиббетсу, взобравшемуся на свой пост на береговой обрыв, чтобы он его разбудил, если случится что-нибудь, и устроился в избранном местечке.
Через несколько минут, погрузившись в мягкую траву и убаюканный чудесным светом лунной ночи, он задремал. Но не прошло и четверти часа, как чуткую дремоту его прервал какой-то странный шум, похожий на отдаленные раскаты грома или гул водопада, глухо донесшийся до его слуха. Казалось, земля задрожала под ним.
«Будет гроза, — пробормотал он про себя, не вполне проснувшись, — и отлично, это освежит немного воздух и дальнейший путь завтра будет еще приятней…» Он тихо зевнул, и мерное дыхание его свидетельствовало, что он снова спокойно уснул.
Но покой был опять недолог. Раздался такой громкий шум, который поднял бы полумертвого. Галлер быстро вскочил и растерянно начал думать, что мог бы значить этот шум; похожий на гром, но не небесный, а такой, который мог бы произвести топот сотни тысяч копыт и рев сотни тысяч быков и от которого земля содрогалась.
В эту минуту до него донеслись крики его товарищей, и вслед за ними он различил голоса Сен-Врэна и Годэ, кричавших в смертельном испуге:
— Эй, где вы, Галлер? Берегитесь бизонов!
Галлер увидел, что они собирают лошадей и торопливо уводят их под береговой навес; затем провели их еще шагов сто бродом по воде, — вероятно, с целью отыскать еще более спокойное убежище; он вмиг схватил ружье и одеяло, намереваясь присоединиться к друзьям. Но он все еще не вполне уяснил себе степень опасности.
Но вот что-то огромное, черное, страшное стало между ним и его товарищами.
Глазам его представилось ужасное зрелище. Вдали, на западе, так далеко, как только достигал глаз, вся прерия как бы зашевелилась. Там перекатывались темные волны, как будто всю равнину засыпало изверженной вулканом лавой. А на волнующейся поверхности сверкали тысячи блестящих световых точек, точно огненные искры.
На мгновение Галлеру пришло в голову, что он видит сон. Но зрелище было слишком реальным, чтобы его можно было счесть за призрак. К тому же до него продолжали доноситься крики его товарищей, находившихся так близко, но разлученных с ним такой непреодолимой преградой. За массой черной волны видел он вздымавшихся на дыбы коней, слышал лай и рев испуганной собаки, слышал отчаянное ржание; когда расстояние между ним и надвигавшейся волной не превышало 50 шагов, он разглядел мохнатые гривы, пылающие глаза бизонов.
— Боже, они несутся прямо на меня! — воскликнул он в ужасе. — Они растопчут меня насмерть!
Пытаться бежать было поздно, да и ввиду широкой и плотной стены, какой двигались бизоны, некуда было бежать. Галлер полуинстинктивным движением приложил ружье к плечу и выстрелил в передового бизона. Удачен ли был выстрел — нельзя было рассмотреть. Он почувствовал только, что лицо его было забрызгано водой ручья, заметил, что один огромный бык, несколько отделявшийся от стада, яростно ринулся прямо на холм, у которого он стоял… Одно мгновение — и он взлетел на воздух, подброшенный рогами зверя.
Толчок опрокинул Галлера назад. Он упал на какую-то волнующуюся массу, почувствовав в первую минуту только острую боль между ребер. К счастью, однако, падение не оглушило его, и он вскоре сообразил, что лежит поперек спин нескольких бизонов, стремившихся вперед сплоченной массой, испуганных странной ношей и с громким ревом толпившихся плотнее к первому ряду.
Несмотря на весь ужас своего положения, Галлер не потерял присутствия духа. Лежа грудью вниз и вцепившись пальцами в длинную шерсть чудовища, между тем как ноги его болтались по горбу соседнего быка, он в ту же секунду почувствовал, что зверь прорвался сквозь ряды наружу; сильным движением он подтянул ноги и очутился верхом на спине быка, шею которого с самого начала крепко обхватил руками.
Бизон, еще больше испуганный теперь своей ношей, когда она очутилась на нем одном, и думая, вероятно, что на него взобралась пантера, ринулся со всей силой отчаяния вперед и вскоре далеко опередил стадо. В интересах Галлера было поддерживать зверя в заблуждении насчет своей опасности для него, иначе он мог остановиться, и тогда стадо догнало бы и растерзало его.
Поэтому он постарался выхватить левой рукой нож и начал наносить концом его уколы зверю каждый раз, когда замечал, что тот готов остановиться от утомления. При каждом прикосновении этих оригинальных шпор чудовище громко выло от ярости и ужаса и неслось вперед с удвоенной быстротой.
Но опасность была все еще необычайно велика. Стадо двигалось за ним на расстоянии почти целой мили. Если бы бизон остановился, спасения не было бы. Но именно в эту минуту наметился спасительный путь.
Бык бежал как раз по тому направлению, где находилась упомянутая горная цепь Плум-Бутт; от того места, где расположились лагерем охотники, до нее было менее трех миль, но в положении Галлера они стоили десяти.
На расстоянии нескольких сот шагов от главной вершины цепи возвышался небольшой холм, и счастливой судьбе Галлера было угодно, чтобы разъяренный зверь направил свой бег по линии у подошвы этого холма, шагах в пятидесяти от него. Этого случая нельзя было упускать. На минуту Галлер подумал было о том, чтобы убить зверя, что было бы нетрудно, так как нож его лежал как раз на самой уязвимой части огромного тела, но, подумав, он наскоро принял другое решение; освободив свои пальцы из густой волнистой шерсти бизона, соскользнул по спине и хвосту на землю и бросился изо всех сил к ближайшему холму. Собрав все силы, он вскарабкался на его вершину, уселся там на скалистый выступ и посмотрел вниз, на прерии.
Луна светила все так же ярко. Верховой «конь» Галлера продолжал бежать галопом вперед, как будто за ним гналась стая волков, но направление изменил, едва почувствовал себя свободным от ноши, и побежал сторонкой обратно к своему стаду, до которого оставалось с четверть часа пути. Галлеру было видно, как он, добежав, присоединился к своим и вместе с ними помчался вперед.
Вначале Галлер не мог уяснить себе эту странную тактику и только впоследствии понял, какую смышленость обнаружил зверь. Если бы он остался там, где соскочил с него неожиданный всадник, то передние бизоны подошедшего к этому месту стада приняли бы его за чужака и, наверное, забодали и задавили бы его.
Добрых два часа просидел Галлер на скале, безмолвно наблюдая проносившийся мимо него черный поток, который перед лицом представившегося препятствия — холма — разделился на два крыла и понесся по правую и левую сторону его. Галлеру почудилось, что по левой стороне что-то быстро и ярко сверкнуло несколько раз и послышался как будто звук выстрелов; но он в этом не был уверен.
Он чувствовал себя так, как будто очутился на острове среди темного и сверкающего моря. Раз его охватило ощущение, как будто остров подался вперед, а бизоны остановились, — голова у него закружилась, и он быстро вскочил на ноги, чтобы отделаться от странной иллюзии. Но в ту же минуту с тихим стоном схватился рукой за правый бок и тотчас снова опустился на скалу. Только теперь, когда прошло страшное возбуждение, напрягавшее его нервы до того, что они готовы были, казалось, порваться, он вспомнил о чувстве острой боли, которое испытал, упав на спины бизонов: когда он вскочил, боль вернулась и ощущалась еще сильнее. Нервно принялся он расстегивать свою куртку, торопясь исследовать рану, но сколько он ни ощупывал больное место, крови нигде не оказывалось. Зато в области нижних ребер нащупывалась сильная опухоль, болезненная при самом легком прикосновении. По-видимому, он сломал себе ребро при падении или, по крайней мере, получил тяжкий ушиб.
Он вторично попытался встать на ноги, уже осторожнее на этот раз, и, к счастью, это ему удалось; попробовал пройтись на маленьком пространстве выступа — удалось и это. Тем временем уже промчалось почти все стадо, прошли наконец и последние быки. Галлер решил спуститься ползком с холма и, очутившись на земле, пошел по направлению к югу, где должны были находиться его товарищи. Случай благоприятствовал ему; ему недолго пришлось тащиться.
Он переждал, пока мимо него прошли гурьбой какие-то белые животные, похожие на стадо баранов (но это были волки, спешившие по следам бизоньего стада), двинулся дальше — и наконец услышал, к своей радости, голоса, а вскоре при ярком свете луны разглядел нескольких всадников, скакавших по долине.
Он закричал: «Holla!» — на крик отозвались, и один из всадников подскакал к нему.
Это был Сен-Врэн.
— Да это Галлер! — воскликнул он с невыразимым изумлением, наклоняясь с седла, чтобы лучше разглядеть пришельца. — Это действительно вы, Галлер, или призрак ваш? Клянусь Богом, это Галлер, и живехонек, здоровехонек!
— Да, почти, если не считать повреждения ребра.
— Вы ранены? Дайте взглянуть.
Одним прыжком соскочил Сен-Врэн с седла, расстегнул одежду Галлера и начал осматривать его.
— Ничего серьезного, — сказал он наконец, тщательно ощупав каждое ребро. — Ни одна кость не повреждена. Только ушиб, который пройдет от компресса и двух-трехдневного отдыха в телеге. Вы еще счастливо отделались, Галлер, — дружески сказал он затем, развязывая свой шарф и обвязывая его вокруг тела Галлера по опухоли. — Скажите, однако, что с вами было? Откуда вы — с облаков, с неба? Откуда?
Эти вопросы повторили и все остальные, успевшие подъехать и так горячо пожимавшие руку Галлеру, словно не видели его целый год.
Больше всех казался огорченным канадец Годэ.
— Монсиньор перенес нападение! — бормотал он как будто про себя, покачивая головой, — нападение миллионов бизонов — и остался жив! Чудо, черт возьми!
— Мы отправились на поиски вашего тела, или, вернее, ваших останков, — сказал Сен-Врэн, — так как мы видели, как вздернули вас звери на воздух и вы упали в самую гущу, в середину стада. Разумеется, мы уже и не ждали увидеть вас живым. Да расскажите же, ради Бога, как вы спаслись?
Галлер рассказал изумленным слушателям свои приключения.
— Непостижимо, клянусь Богом! — воскликнул Годэ. — Ну, счастлив этот соня, что вы уцелели! — прибавил он током угрозы.
Последнее восклицание экспансивного канадца относилось к Гиббетсу, не известившему товарищей Галлера о месте его нахождения и поставившего таким образом Галлера в опасное положение.
С этого момента Галлера перестали считать новичком в кругу охотников, а приобщили его к «посвященным».
Впрочем, охотники поработали недурно, об этом свидетельствовала дюжина распростертых на земле быков. Удалось им также найти втоптанные в землю ружье и одеяло Галлера. Когда Галлер выпил для подкрепления несколько капель из фляги Сен-Врэна, все вернулись снова в свой прежний лагерь, назначили новую, на этот раз более надежную стражу и проспали остаток ночи без помехи.
Когда утро посеребрило жемчужным сиянием беспредельный простор равнины, небо начало розоветь и затем из-за горизонта величаво поднялось солнце, наши охотники были уже в сборе за завтраком в ожидании каравана, который и прибыл через час.
Прохладная ночь ухудшила самочувствие Галлера. Он был бледен, и его слегка лихорадило; товарищи заботливо уложили его на одну из телег, устроив ему мягкую постель; но предсказание Сен-Врэна оправдалось: ушиб не повлек за собой ничего серьезного. После нескольких дней покоя и прикладывания некоторых трав, известных жителям прерий, опухоль почти бесследно прошла, и Галлер мог бы вспоминать без всякого неудовольствия о своем приключении, если бы нетерпеливый пациент не томился настояниями Годэ и Сен-Врэна провести на покое в лагере, по крайней мере, неделю.
Уже на четвертый день Галлеру показалась нестерпимой эта вынужденная неподвижность; он уверял, что чувствует себя совсем здоровым, совсем отделался от лихорадки и утром следующего дня сел на коня. Все это так и прошло бы, вероятно, бесследно для его здоровой натуры, если бы судьбе не угодно было послать ему в этот день новое приключение.
В это утро было решено, что маленький отряд купцов отправится вперед, чтобы прибыть в Санта-Фе дня на два раньше каравана и приготовить все к его прибытию, то есть поговорить с губернатором той провинции, человеком, пользовавшимся дурной репутацией, без разрешения которого иностранцы не могли перейти границу.
Несмотря на все увещания и просьбы друзей, Галлер пожелал присоединиться к передовому отряду, и они отправились до Симмаронской дороги.
Глава 5
ЗЛОПОЛУЧНАЯ ОХОТА НА АНТИЛОП
Путь их лежал через голую пустыню, лишенную зверей и почти безводную, тянувшуюся на пространстве почти ста миль. Бизонов совсем не было видно, и только изредка попадались олени; отряду пришлось поэтому довольствоваться захваченным с собою вяленым мясом. Это была так называемая «полынная пустыня». Время от времени пробегала антилопа, но это чрезвычайно пугливый зверь, и он держится всегда на расстоянии, недосягаемом для выстрела.
На третий день их отъезда Галлеру показалось, что совсем близко промелькнула рогатая голова антилопы. Спутники не были уверены, что он не ошибся, и не пожелали отправиться с ним на поиски, и он один свернул с дороги. Годэ оставил при себе собаку Галлера, которую тот не хотел взять с собой, чтобы не спугнуть дичь. Моро проявлял бодрость и был полон свежих сил, и Галлер счел, что даже в случае неудачного исхода охоты ему удастся присоединиться к своим товарищам.
Холмистый хребет Симмарона имел странное строение: тянулся с востока на запад, поперек долины; вершина его была частью покрыта чащей из кактусов, к которой и подъехал Галлер.
У подошвы холмов он сошел с коня, повел его тихонько под уздцы вверх и слегка привязал к ветвям кактуса; в большей предосторожности надобности не представлялось ввиду послушного нрава Моро. Затем он тихонько пробрался сквозь колючки к тому месту, где скрылась, как ему показалось, антилопа.
К удовольствию Галлера, там оказалась даже не одна, а две красавицы антилопы, но, к сожалению, они были слишком далеко, чтобы можно было рассчитывать на удачный выстрел: на расстоянии не менее трехсот шагов. К тому же они стояли на голом и гладком обрыве, и нигде поблизости не было даже засохшего кустарника, за которым мог бы укрыться Галлер.
Что оставалось предпринять? Несколько минут Галлер простоял неподвижно, стараясь припомнить, какие приемы, употребляемые охотниками за антилопами, о которых слышал от своих спутников, он должен был бы применить в этом случае. Попробовать подражать крикам животных? Помахать носовым платком? Или лучше попробовать привлечь их, растянув свое красное подседельное одеяло?
Наконец он остановился на последнем и повернул назад, чтобы захватить свое одеяло, как вдруг внимание его привлекла какая-то линия цвета глины, тянувшаяся поперек степи по ту сторону убежища антилоп. Она перерезала поверхность долины и могла быть либо буйволовой тропой, либо руслом какого-то потока, — но так или иначе, это было как раз таким прикрытием, какое ему нужно было, тем более что животные были от него шагах в ста и даже все больше приближались к нему.
Галлер выбрался из чащи и побежал по краю обрыва к тому месту, где хребет спускался, как он заметил, все ниже, до уровня долины. К его изумлению, здесь оказался широкий ручей, чистая, прозрачная вода которого протекала по песчаному и известковому руслу.
Берега были низкие, приблизительно до трех футов выше поверхности воды, за исключением того места, в которое упирался хребет холма. Тут берег был повыше; с него-то и спустился Галлер и пошел по руслу вброд вверх по течению. Подвигаться таким образом вперед было трудной задачей. Дно ручья было очень мягко и податливо; вдобавок двигаться надо было очень осторожно, чтобы не спугнуть дичь. Но Галлера так соблазняла перспектива добычи на ужин, что это побуждало его напрягать все силы. Правда, начинал побаливать поврежденный бок, — но что за беда! Путь не очень долог.
Галлер очутился наконец перед полынными кустами, покрывавшими часть берега; здесь, по его расчету, и должно было быть самое удобное место. Выпрямившись тихонько настолько, что мог заглянуть сквозь листву, он убедился, что не ошибся: дичь находилась как раз на таком расстоянии, что можно было сделать меткий выстрел.
Взявшись за ружье и прицелившись, он выстрелил и, взглянув затем, увидел, что самец успел отчаянно метнуться единственный раз и упал мертвый наземь, а самка бросилась бежать.
Галлер хотел побежать к тому месту, где ждала его добыче, как вдруг с изумлением почувствовал, что не может высвободить ноги, как будто они увязли или что-то крепко держало их. Он еще раз попытался шагнуть, еще и еще раз рванулся, но так же безуспешно, а при третьей попытке он потерял равновесие и упал навзничь в воду.
Задыхаясь от усилий, он добился наконец того, что снова встал на ноги, но тотчас же снова почувствовал, что ноги его как бы вросли в землю. Напрасны были все усилия — ног невозможно было подвинуть ни назад, ни вперед, ни вправо, ни влево, — и в довершение он почувствовал, что вязнет все глубже… Тогда только ему стала ясна страшная правда: он увяз в зыбучем песке!
Мягкий песок доходил уже до самого верха его кожаных сапог, так тяжко сжимая в них ноги, что нечего было и думать высвободить их из сапог, — и он чувствовал, что погружается все глубже и глубже, медленно, но неумолимо, как будто бы какая-то подземная нечистая сила властно увлекала к себе свою жертву.
Весь охваченный невыразимым ужасом, он стал громко кричать, призывая на помощь, — но откуда он мог ожидать ее? На несколько миль вокруг в этой пустыне не было ни души, — быть может, ни одного живого существа, кроме его привязанного коня, ответное ржание которого звучало как насмешка над отчаянием его господина.
Галлер изгибался вперед, насколько только позволяла его прикованность к земле, и, словно обезумев, начал исступленно взрывать песок у ног, но он только царапал его с поверхности, и небольшая ямка, которую ему удавалось сделать, почти тотчас же снова наполнялась песком.
Вдруг у него мелькнула мысль. Если бы удалось уложить горизонтально ружье, оно, быть может, могло бы ему послужить некоторой опорой. Он оглянулся, отыскивая его глазами, но ружья нигде не было видно. Зыбучий песок почти совсем засосал его!
Последняя его надежда рухнула почти в ту же минуту, как вспыхнула, — и с крушением ее пришлось отказаться от всякой мечты о спасении: по крайней мере, Галлеру больше ничего не приходило в голову. Им начинало овладевать какое-то странное отупение; надо было собрать всю силу воли для борьбы с этим душевным оцепенением, чтобы мужественно встретить смерть лицом к лицу.
Стоя совершенно прямо, он то обводил глазами необозримую поверхность прерий, то подымал их вверх, к безоблачной синеве неба, и в душе его рождались то покаянные, то молитвенно благоговейные чувства.
Солнце лило свои яркие, радостные лучи на несчастного обреченного, словно желая пролить утешение в скорбное сердце его, словно вдыхая в него мужество… Так, безнадежно и безропотно ожидая конца, погрузившись уже почти до пояса, он вдруг расслышал знакомый звук, вмиг прояснивший его мысли и наполнивший душу новой надеждой. Это снова заржала лошадь… Его конь!.. Боже всемогущий! Быть может, через коня Он пошлет ему в самую последнюю минуту спасение…
Не теряя ни секунды Галлер начал, как только мог громко, звать лошадь по имени. Он знал, что она непременно прибежит на его зов, если только услышит его, потому что привязана она была слабо и, если рванется, ветка кактуса должна будет уступить лошадиной силе. После короткой паузы Галлер снова принялся звать словами, знакомыми и привычными его верному Моро, затем снова умолк, прислушиваясь с сильно бьющимся сердцем. Несколько секунд все было тихо; потом послышался шум, как будто лошадь рвалась, освобождаясь; наконец отчетливо раздался ее быстрый и мерный галоп.
Все ближе и явственнее звучал ее бег, пока красавец конь не вскочил на береговой край, под которым стоял, погибая, его господин. Тут он остановился, встряхнул гривой и пронзительно заржал, по-видимому, смущенный тем, что не находил своего господина, нервно поводя мордой во все стороны. Галлер, отлично знавший все привычки несравненного создания, протянул руки, продолжая обращаться к нему с магическими ласкательными словами.
Конь взглянул наконец вниз, увидел своего господина и одним скачком прыгнул в ручей. Через мгновение повода были в руках Галлера.
Ни одного мгновения медлить было нельзя — уже он ушел в песок по грудь, уже касался подмышками воды. Быстро ухватившись за спускавшийся с седла ремень и потянув его, чтобы убедиться, прочно ли он висит, он сделал, как мог быстро в своем неудобном положении, петлю и продел в нее голову и плечи, так что она поддерживала его под мышки.
Пока он все это делал, животное хорошо понимало, казалось, чего от него ждали. Оно, по-видимому, понимало и особенность почвы, потому что все время, пока Галлер связывал ремень, оно беспрестанно переминалось с ноги на ногу, не позволяя себе увязнуть.
Приготовления были кончены, и Галлер, с тоской и ужасом в душе, сделал сигнал своему коню бежать вперед. Но умное животное, как бы вполне ясно понимая положение своего господина, не помчалось сразу — что могло бы вывихнуть руки Галлеру, — а тихо тронуло и медленно двинулось вперед. Ремень туго натянулся, Галлер почувствовал, что тело его шевельнулось, еще минута — и он с невыразимым восторгом убедился, что извлечен из песка.
К сожалению, радостное чувство Галлера было омрачено ощущением острой, колющей боли. Правда, он дотащился до лошади, собрался еще с силами и крепко обнял шею верного животного в благодарность за спасение, с неимоверным усилием взобрался даже на седло, — но тут его силы совершенно иссякли. Оставив ружье и сапоги на произвол судьбы, пожертвовав даже охотничьей добычей, он желал только одного теперь — бежать с места своего страшного приключения.
И, судорожно ухватившись руками за луку седла, собравшись еще с последними силами, чтобы направить, куда следовало, коня, он медленно поплелся к условленному месту стоянки, куда и приехал наконец, измученный страшными болями в боку и в бедре.
Глава 6
ОДИНОЧЕСТВО
Последствия последнего приключения были очень серьезны для Галлера. На следующее утро он проснулся в сильном жару; боли в боку, причиненные ушибом, очень усилились вследствие напряжения, с которым он освобождался из своей песчаной могилы, и опухоль приняла такой злокачественный вид, что друзья его серьезно испугались; главное же, было очевидно, что о возможности для него сесть в седло нечего было и думать еще, вероятно, несколько недель.
Сен-Врэн делал для своего больного друга все, что только было в его силах: обмывал ему раны, делал перевязки, говорил ему слова утешения. Но поездку в Санта-Фе откладывать было все же невозможно, необходимо было обеспечить свободный въезд каравана, а Галлер был совершенно неспособен к верховой езде. Ничего другого не оставалось, как покинуть в этом временном лагере больного под надзором и уходом двух спутников, пока не прибудут с караваном его собственные телеги.
Дня через два прибыл караван, больного устроили с возможными удобствами, и после недельного пути по долине Рио-дель-Нортэ он был сердечно встречен своими прежними спутниками в знаменитом Санта-Фе, столице Нью-Мексико. Там он был передан попечениям искусного хирурга, который предписал ему полный покой и уверил всех, что через две недели Галлер будет совершенно здоров.
Но судьбе Галлера было угодно, чтобы этим не кончилась его злополучная охота на антилоп, а повлекла за собой, наоборот, целую цепь страданий и злоключений.
Первой прискорбной вестью было для него тяжкое испытание, которому его подверг врач своим требованием полного покоя. Караван вез слишком значительный транспорт товаров, чтобы мог удовольствоваться сбытом их в одном только Санта-Фе, и вынужден был поэтому отправиться на третий день в Чихуахуа, дальше по Рио-дель-Нортэ.
Ослушание врача грозило ему верной смертью, так что в сопровождении каравана Галлер и думать не мог. Не было другого выхода, как оставить его в Санта-Фе с одним только верным канадцем Годэ, как ни искренне сожалели об этом все. Галлеру же было особенно грустно расставаться с вечно бодрым и веселым Сен-Врэном, который так умел развлекать и успокаивать его в дни страданий. Как истинный друг, Сен-Врэн предложил взять на себя заботу о товарах Галлера и об их сбыте в Чихуахуа.
— Не сокрушайтесь, любезный друг, — говорил, прощаясь, Сен-Врэн, — мы мигом справимся там и снова прикатим к вам. А с товарами вашими положитесь на меня. Я навьючу вам мула мексиканскими долларами. Будьте же здоровы, храни вас Всевышний!
Через полчаса Галлер, которому разрешалось садиться, опершись на подушки кровати, увидел из окна белое полотно навесов телег, купцов, своих недавних спутников, садившихся на коней; ему слышны были щелканье бичей погонщиков и их громкие возгласы. С тяжелым чувством одиночества и покинутости печально опустился он на постель.
Потянулись долгие, томительные дни, которые не могла скоротать и скрасить даже сердечная заботливость Годэ, тем более что и его неунывающий юмор не вполне уцелел в обстановке этого варварского города.
Минула, однако, и эта тяжелая пора. Врач разрешал ему понемногу вставать, потом гулять по улицам, что доставляло ему очень мало удовольствия, так грязны были жители и даже самые улицы. Наконец ему было разрешено привыкать понемногу и к седлу, и он ездил каждый день на своем Моро, делая с каждым днем все более длинные концы.
Так прошло две недели. Однажды утром, проснувшись и почувствовав себя совсем здоровым, Галлер сказал Годэ:
— Я больше не вынесу такой жизни, Годэ!
— Ах, монсиньор, скука действительно нестерпима! — с живостью воскликнул Годэ.
— Я решился положить этому конец!
— Но как же быть, сударь? Что же вы можете сделать?
— Уеду из этого проклятого места — и завтра же!
— Достаточно ли вы окрепли для такого долгого пути?
— Я хочу попытаться, во всяком случае. Ведь и доктор не предвидит ничего дурного при известной осторожности. Ну, а если бы мне и сделается хуже дорогой, — есть ведь и другие города по пути, где можно остановиться. Где угодно будет лучше, чем здесь!
— Это правда, сударь, вдоль реки много красивых деревень. Я тоже нахожу, что всюду лучше, чем в этой грязной дыре.
— Итак, решено, Годэ! Приготовьтесь сегодня же, совсем, так как мы завтра уедем ранним утром.
— Слава Богу! Я с удовольствием сейчас же начну собираться!
Галлер решил во что бы то ни стало выехать из Санта-Фе и последовать за караваном; быть может, ему удастся нагнать его где-нибудь. Это могло удасться, потому что по глубокому песчаному приречному пути караван мог успевать пройти в день немного. Но если бы это не удалось, он всюду мог бы остановиться с таким же успехом и с не меньшим удовольствием, чем в Санта-Фе.
Хозяин гостиницы, в которой он жил, всячески старался отговорить его от этого предприятия.
— О, не ездите, сеньор! Не рискуйте, если вам жизнь дорога!
— Почему же, добрый мой Хосе? — спросил удивленный Галлер.
— О, сеньор, индейские разбойники, браво… Это злые люди, эти навахо! — карамба!
— Да ведь я еду не к индейцам, а вниз по реке, через новомексиканские города.
— Ах, сеньор, и эти города не застрахованы от разбойничьих нападений навахов! Кто же этого не знает!
Но, как и следовало ожидать, все эти страхи не отпугнули Галлера. Чуть забрезжил рассвет, он был уже в седле и в сопровождении Годэ и двух тяжело навьюченных мулов выехал из опостылевшего ему города по дороге на Рио-Абахо.
Глава 7
«ПУТИНА СМЕРТИ»
В первые дни путешественники не имели интересных впечатлений. Канадец давно и хорошо знал уже эти места, а Галлер был весь поглощен желанием догнать своих товарищей и мало интересовался впечатлениями пути. Довольно долго путь шел вдоль Рио-дель-Нортэ, и большинство встречных селений ничем не отличалось от Санта-Фе. Встречались искусственные каналы для орошения, маисовые поля, виноградники; вообще по мере приближения к Рио-Абахо — южной области — земля становилась все богаче и плодороднее.
Местность обновилась красивее и живописнее от окружавших ее на востоке и на западе высоких темных гор, как будто упиравшихся вершинами в небо. Живописны были и костюмы встречавшихся по дороге и в деревнях жителей: мужчины в своих «serape» — полосатых шерстяных плащах, в круглых широкополых шляпах «sombrero», в широких полотняных или бархатных «calzonero» — шароварах с отделкой из рядов блестящих металлических пуговиц и опоясанных шарфами ярких цветов. Пурпурно-красные «makdos», плащи на мужчинах, грациозные «reboso» — покрывала на женщинах — все было необычно и художественно красиво.
Галлеру не могли не бросаться в глаза также грубые земледельческие орудия. Эти грохочущие «carret'ы» с их широкими, необитыми деревянными колесами, первобытный плуг, вилообразно выструганный из дерева и едва взрывающий землю, быки, запряженные попарно в одном ярме на рогах, — все это было для него ново; но остановиться он не мог ни на чем, движимый одним желанием: вперед, вперед!
На пятый день пути путешественники въехали в жалкую деревеньку Парида, которая обещала, как оказалось, так мало комфорта, что на другое же утро они были снова на пути в городок Сокорро, последнее населенное место Нью-Мексико вплоть до самой ужасной пустыни — Jornade del muerte, то есть «Путина смерти».
По этому пути, в «Путину смерти», Годэ еще никогда не случалось ездить, но в Париде им представился случай нанять проводника по пустыне. Этот человек сам предложил свои услуги, а так как Галлер узнал, что в Сокорро нелегко будет найти проводника, то он согласился взять этого, хотя наружность грубого малого ему и не понравилась.
Прибыв в Сокорро, он убедился, что проводника здесь действительно не достать ни за какие деньги, и постарался примириться с нанятым парнем ввиду серьезных опасностей, предвидевшихся в «Путине смерти» и среди ее случайных гостей, диких апачей.
В Сокорро только и было толков, что об индейцах. Рассказывали, что дикари напали на крупный караван неподалеку от Фра-Кристоваля, увели всех мулов и перебили всех до одного «arrieros» — погонщиков. Все местечко было в большом волнении по поводу этой вести, в страхе от ожидания нападения, и здесь на Галлера посмотрели, как на сумасшедшего, когда узнали об его намерении проехать через «Путину смерти».
Но Галлеру чужда была нерешительность. Он узнал, что караван проходил через Сокорро всего три дня назад; таким образом, у него была надежда догнать своих прежних спутников и присоединиться к каравану еще раньше, чем он успеет выехать из Эль-Пасо. Ввиду этого он приказал обоим слугам собираться и рано утром выехать.
Галлер и Годэ проснулись еще до рассвета. Годэ вышел, чтобы разбудить проводника и вместе с ним оседлать животных, но через минуту вбежал с криком:
— Сударь, он убежал! Мошенник сбежал!
— О ком вы говорите? Кто сбежал? — воскликнул Галлер.
— Этот гнусный мексиканец! И мула увел… Украл мула, сел на него и ускакал! Да взгляните сами!
С тревожным чувством пошел за ним Галлер. Что, если… конь… его конь?.. Но нет, слава Богу, конь здесь! Но один из мулов вместе с навьюченным грузом исчез.
«Быть может, негодяй еще не успел скрыться, — подумал Галлер, — быть может, он еще в городе».
Во все стороны разослали гонцов, пошли и сами на поиски; все было напрасно. Наконец они узнали от одного новоприбывшего, что он встретил человека, похожего по виду на проводника, скакавшего галопом на муле вверх по течению. Сомнений не оставалось.
Что было предпринять? Погнаться за вором в Париду? Это был бы напрасный труд, так как тот не будет, конечно, так глуп, чтобы ехать по большой проезжей дороге. Галлер решил волей-неволей примириться с этим, пока не получит возможность с возвращением купцов поймать мошенника и предать его в руки властей.
Надо было, однако, позаботиться найти другого проводника. Галлер обратился к хозяину гостиницы, но безуспешно: никто теперь не согласится отправиться через «Путину смерти». Он обращался и к торговцам, и к разным зевакам на рыночной площади — один и тот же ответ отовсюду: невозможно, страшно, апачи, — один и тот же отрицательный жест, общий во всей Мексике: помахивание указательным пальцем перед носом.
— Ну, Годэ, как быть? Ясно, что проводника нам не достать. Остается попытаться самим отправиться. Что вы об этом скажете, товарищ?
— Я готов, сударь! Едем без проводника!
И Галлер отправился в путь в сопровождении своего преданного спутника и единственного уцелевшего вьючного мула. На ночлег они остановились в так называемых «Бельведерских развалинах» и утром выехали навстречу опасности, быть может, гибели.
Через два часа они подъехали к ущелью Фра-Кристоваль. Тут дорога прерывалась речкой и, изгибаясь, вела в безводную пустыню. Путешественники переправились вброд на восточный берег и, прежде чем двинуться дальше, наполнили драгоценной влагой кожаный мех мула и свои походные фляги и напоили вволю животных.
Со свежими силами и в довольно бодром настроении поехали они дальше. Галлер уже перестал жалеть о потере другого мула и весело думал о скором свидании с Сен-Врэном и остальными друзьями; но обстановка очень мало благоприятствовала сохранению этого бодрого настроения. Пустыня начинала оправдывать свое ужасное прозвище «Путины смерти». Тропинка была вся усеяна костями животных, порой среди костей виднелись и человеческие; вместе, в одних кучах лежали они, и волки одновременно обгладывали их. Тут погибали они, в ужасе и отчаянии, на этом безводном пути — а между тем стоило сделать еще немного усилий — и воду можно было достать; если бы они только знали об этом!..
Попадались путешественникам на дальнейшем пути и другие предметы, изделия рук человеческих: погнутая жестяная бутыль, старая шляпа, обрывок седла, ремня… все это рассказывало печальную повесть погибших жизней.
А они добрались только до начала пустыни. Пока еще они бодры. Как-то они доедут до противоположного края ее? Не оставят ли и они подобных знаков на память?..
Тягостные предчувствия овладевали душами Галлера и Годэ при взгляде на голую, бесконечную равнину. Они не боялись апачей, но сама природа внушала эти тоскливые и тревожные мысли и чувства. Приближается полдень. Солнце подымается все выше, и с каждым мгновением его лучи становятся все нестерпимее знойными. Дует сильный ветер, но он не обвевает путников прохладой, а, наоборот, обдает их духотой и больно царапает лицо взметаемым колючим песком.
Вот солнце достигло зенита. С трудом подвигаются они по зыбкому песку. На целые мили вокруг ни кустика, ни былинки. Нет больше путеводной нити в следах тележных колес: их занесло зыбким песком. Голое песчаное однообразное пространство, желтоватая безводная и бесплодная пустыня…
И вдруг — словно чьей-то волшебной силой рожденная картина: взметенные могучим вихрем массы песка подымаются, растут, вытягиваются огромными колоннами к самому небу, кружатся, колышутся над голой равниной. Желтые и светящиеся, они отражают в своих кристаллах блестящие солнечные лучи. С безумной быстротой движутся они вокруг самих себя и медленно подвигаются вперед, все ближе и ближе к путникам.
С испугом и страхом смотрит Галлер на эти песчаные колонны. Он слышал, что такие бури обладают чудовищной силой, что они могут подхватить даже тяжелые предметы, подбросить их на ужасающую высоту и снова швырнуть наземь — и не без основания боялся такой участи для себя и своего спутника.
Вдруг, испуганный этим жутким явлением, мул рванул аркан и, сорвавшись, бросился бежать за холмы. Годэ погнался галопом за ним. Галлер остался один.
Вот снова закружились десять, двенадцать колоссальных колонн, движутся, обступая одинокого всадника со всех сторон, замыкая его в свой круг. Есть в них что-то призрачное, словно они существа из таинственного мира духов, одаренные демонической жизнью.
Вот две из них движутся навстречу друг другу, сошлись, вступили в бой, уничтожили друг друга. Песок рухнул на равнину, а пыль желтой бесформенной массой насыщает воздух, разносится ветром.
Несколько колонн приблизились друг к другу и, не сливаясь, обступили Галлера тесным кольцом. Сенбернар Альп лает и воет, Моро дрожит всеми членами.
Галлер сидит в нерешительности в седле и ждет исхода. В ушах у него шумит и звенит, глаза перестают различать действительные цвета, все кажется окрашенным огнем, мозг словно застывает…
Вот закружился насыщенный песком воздушный поток в дикой пляске. Мгновение — Галлера завертело и выбило из седла. Глаза, рот, уши полны песка; песок и камни яростно хлещут в его лицо… Вот его со страшной силой швырнуло наземь.
* * *
С минуту Галлер пролежал там, куда упал, полуослепший, полузасыпанный, как в могиле. Все, что он еще мог разглядеть, это что над ним все еще носятся густые тучи пыли. К счастью, он не ушибся. Открыть глаза и свободно смотреть он не мог: глаза были полны песка и страшно болели. Но он мог протянуть руки — и принялся шарить и щупать вокруг себя.
Пощупав и не найдя коня, он позвал его по имени; в ответ послышался слабый стон; он ползком добрался до того места, откуда послышался голос, и провел рукою по телу верного животного — оно лежало на боку; но как только Галлер взялся за повод, конь тотчас вскочил, хотя он весь дрожал, подымаясь.
Долго стоял Галлер, опершись о шею коня, очищая глаза от песка и выжидая, пока уляжется вихрь. Наконец воздух очистился, проглянуло опять голубое небо, и Галлер, быстро вскочив в седло, начал прежде всего озираться, отыскивая Годэ. Но его и следа не было видно, и на долгие, громкие крики Галлера только ветер гудел в ответ.
Тогда Галлер поехал по равнине на поиски товарища. Долго скакал он от холма к холму, беспрестанно окликая Годэ по имени, но отклика не было, и не было следов на земле — все было заметено вихрем.
В отчаянии Галлер остановился. Он докричался до хрипоты, до потери сил. Больше он не в силах был искать, до тех пор, по крайней мере, пока не подкрепится глотком воды. Он опустил руку, чтобы достать флягу… Боже милосердный, обе фляги разбились, а большой мех с водой остался на муле!..
А ближе пятидесяти миль нельзя было найти ни капли воды!
Насколько он мог сообразить, он проехал около половины проклятой «Путины смерти»; он чувствовал, что без воды не доедет до конца. В нормальных условиях здоровый человек может вынести жажду в течение нескольких дней, но обессиленному болезнью и долгим жаром Галлеру, истомленному зноем пути, измученному вихрем, не вынести смертельной жажды среди той же знойной пустыни.
От потрясения, волнений и слабости Галлер потерял всякое представление о дороге. После нескольких минут колебания он почти бессознательно направил лошадь на запад. Он смутно сознавал, что уклоняется от дороги на Чихуахуа, но лучше было добыть воды и спасти свою жизнь, чем найти среди пустыни верную смерть.
Так проехал он много миль, держась того же направления на запад — солнце одно указывало одинокому всаднику путь. До вечера Галлер храбро боролся с невыразимой мукой жажды, но к вечеру лихорадка со страшным жаром сделали свое дело. Он потерял сознание, и с этого момента он долго-долго не мог припомнить ничего из того, что было с ним.
Смутно припоминался ему какой-то крутой обрыв на высоком берегу… Долго он ехал к нему, должно быть, потому, что, когда он очутился на нем, солнце высоко стояло на небе… Под ним была пропасть… Дивная река протекала там в изумрудной зелени берегов… Деревья трепетали листвой, воздух благоухал, звучала упоительная музыка птичьих голосов…
Но его сжигала мучительная жажда — воды, воды! Туда полететь, в эту пропасть, где шумит река! И он летит, летит долго, бесконечно, а вода все так же недосягаемо далека!
* * *
Он впал в полное беспамятство и уже не сознавал, не помнил, не чувствовал ничего.
Глава 8
СПАСЕНИЕ
В большой и светлой комнате, обставленной изящной резной мебелью, лежал на удобной кровати бледный и исхудавший Галлер. Через открытую высокую дверь из соседней комнаты тихо доносится музыка… Галлер растерянно и с недоумением оглядывается вокруг… Не бред ли это? Где он?
Нет, это не бред, живая действительность. Но как все это страшно противоположно той обстановке и тем ужасным переживаниям, воспоминания о которых вдруг затолпились в его душе!
Тихо и нежно доносится песня… Прекрасный женский голос поет под аккомпанемент музыки… Галлер слегка приподнимается в постели и вглядывается в сидящих в соседней комнате: двое мужчин и две дамы. Кто они?
Поближе к двери сидит на низкой оттоманке дама средних лет; она проводит пальцами по струнам арфы, звуки которой он слышал. Благородные черты ее все еще красивого лица носят печать глубоких душевных страданий, и даже игра ее носит характер скорби и боли.
Глаза Галлера переносятся на пожилого мужчину и стоящую совсем близко около него молодую девушку. Мужчина стоит посреди комнаты перед столом, усыпанным множеством листьев, растений и трав, которые он внимательно сортирует и бережно раскладывает между листами книги-гербария. Это, по-видимому, ученый, ботаник. У него цветущее лицо, высокий и широкий лоб мыслителя, голубые глаза за очками в серебряной оправе.
Молодая девушка, помогавшая, по-видимому, ученому в его работе, с милой улыбкой подавая ему падавшие со стола растения, была очаровательное существо. Очевидно, это была дочь старшей дамы, но, в противоположность серьезному и печальному выражению глаз матери, синие глаза девушки смотрели весело и лукаво на Божий мир. По плечам ее вились золотистые локоны пышных волос, которые она то и дело откидывала со лба грациозным движением головы.
Четвертый был высокий мужчина с мрачным выражением лица; в черных как смоль волосах и бороде его сквозила проседь. Одетый в короткую мексиканскую куртку при темных «кальзонеро» с желтыми пуговицами и высокие желтые сапоги с массивными стальными шпорами, он неутомимо шагал взад и вперед по комнате, производя внушительное впечатление, которое не портили ни изборожденный складками лоб, ни мрачные глаза.
Обведя внимательными глазами окружающую его обстановку и людей, Галлер вдруг заметил совсем близко от себя спящую собаку.
— Альп, Альп! — сорвалось невольно громкое восклицание с губ Галлера.
— Мама, слышишь? Больной заговорил! — прозвучал тотчас голос девушки.
Собака вскочила, встала передними лапами на край кровати и, радостно визжа, ткнулась мордой в грудь больного. Галлер гладил ее руками, обрадованно приговаривая ласкательные слова.
— О, папа… мама… он его знает!
Все четверо подошли к постели. Ученый взял руку Галлера, оттолкнув намеревавшегося прыгнуть на подушку Альпа.
— Он положительно выздоравливает! — воскликнул шагавший господин, обращаясь к другому в очках. — Взгляните только на его глаза, доктор, как он весь изменился!
— Да, да, гораздо лучше, значительно лучше, — ответил тот, пощупав пульс больного. — Температура нормальна, лихорадки нет, в глазах сознательное выражение. В моих скромных познаниях больше нет нужды. Цыц, пес! — обратился он тотчас к Альпу. — Ступай прочь, мой добрый пес!
— Кто?.. Где?.. Скажите же мне, где я? Кто вы, скажите мне?! — волнуясь, спросил Галлер.
— Успокойтесь, все друзья, — ответил дружелюбно высокий черноволосый господин. — Вы потеряли сознание в жару, доведенный до безумия жаждой; но теперь все уже прошло, к счастью. Вот это — наш добрый доктор, друг нашей семьи. Это — моя жена, это — дочь моя, Зоя; а меня зовут Сегэн.
Галлер поблагодарил поклоном. Он знал теперь, что приковало его к ложу, но все же не знал, каким счастливым случаем попал он в этот дом. Нетерпеливым вопросом светился взгляд его, обращенный на хозяина дома, и тот понял этот немой вопрос.
— Если позволят ваши силы и доктор, я охотно объясню вам все, — сказал он и остановился, точно ожидая подтверждения ученого.
— Ничего решительно не имею против, — ответил, улыбаясь, доктор. — Я уже больше, повторяю, не врач, а только сочувствующий друг. Завтра наш больной будет в состоянии встать. Удовлетворим же его понятное нетерпение.
— Вам я обязан жизнью, не правда ли? — спросил Галлер, прежде чем начал Сегэн, и протянул ему руку.
— Да, — сказал просто Сегэн, крепко пожимая протянутую руку.
— Как попал я в этот дом? Дом ваш, сколько я могу понять? Как я попал сюда? Где вы нашли меня?
— Нашел я вас в не совсем надежном положении, — ответил Сегэн, улыбаясь. — В сущности, я едва ли могу приписывать себе заслугу вашего спасения, вы им обязаны своему благородному коню.
— О, мой верный конь, мой Моро! Я лишился его!
— Ваш конь пасется шагах в пятидесяти от вас, и, я думаю, вы найдете его в несколько лучшем состоянии, чем видели в последний раз. Оба ваши мула тоже во дворе, и весь ваш груз цел, вы все найдете в полном порядке.
— А что с…
— Вы хотите спросить о Годэ? — перебил его Сегэн. — Не беспокойтесь, и он в полной безопасности. Он проезжает теперь одного моего коня и скоро вернется.
— О, какие все добрые вести! Как мне вас благодарить! Вы сказали, что меня спас мой конь? Как же это произошло?
— А вот как. Мы нашли вас на расстоянии нескольких миль от этого дома на высоком утесе, на который взбираются, чтоб смотреть сверху на Рио-дель-Нортэ. Вы упали с края в самую бездну и повисли на аркане, счастливым случаем обвившемся вокруг вашего тела. Одним своим концом аркан был прикреплен к седлу, и благородное животное, перегнувшись на задние ноги, удерживало вас всей тяжестью на весу.
— Мой дивный Моро! Какое ужасное положение!
— О да, поистине ужасное. Если бы вы сорвались, вам пришлось бы пролететь пятьсот футов, прежде чем вы разбились бы о скалы внизу. Положение истинно страшное.
— Вероятно, я попал туда в поисках воды?
— В лихорадочном бреду вы шагнули с края обрыва и сделали бы это еще раз, если бы мы вас не удержали. Когда мы втащили вас на утес, вы боролись с нами, порываясь снова кинуться. В смертельной истоме жажды вы видели под собой одну только воду, не замечая и не осознавая пропасти. Такая степень жажды — страшная вещь, похожая на помешательство.
— Кое-что мне припоминается, но я думал, что все это был сон. Давно ли я в вашем доме?
— Пятый день. Первые три дня вы метались в жару и в бреду, так что мы едва могли удержать вас в постели; вчера вы успокоились, а сегодня у вас прояснилось в голове. Ну, и довольно с вас на первый раз, — прибавил он весело и решительно. — Я ответил на все ваши вопросы, а теперь отдохните хорошенько, поспите несколько часов, чтобы вполне собраться с силами к завтрашнему дню. К тому же я и сам тороплюсь, — прибавил он, взглянув на часы, — у меня есть серьезное дело, и чтобы попасть вовремя, я должен поспешить. Но через несколько дней я возвращусь. Доктор позаботится в мое отсутствие обо всем необходимом для вас. Моя жена и дочь будут ходить за вами.
— Благодарю, благодарю вас!
— Вам было бы всего лучше остаться здесь у нас до тех пор, пока ваши друзья, о которых я знаю от Годэ, вернутся из Чихуахуа. Путешественникам придется проезжать неподалеку отсюда, и я извещу вас, когда они будут подъезжать. Но мы еще успеем поговорить обо всем этом, когда я возвращусь. Вы найдете тут у нас много книг на различных языках; мои дамы будут развлекать вас музыкой. Не скучайте. До свидания!
— Одну минуту, сударь! — взволнованно воскликнул Галлер, приподымаясь и протягивая обе руки Сегэну. — Гостеприимство — одна из благороднейших черт жителей этих южных стран, — заговорил он, глубоко тронутый и горячо пожимая протянутую ему Сегэном руку, — но в отношении меня, человека совершенно вам чужого, вы обнаруживаете его в такой степени, что я совсем теряюсь… Поверьте мне, по крайней мере, что для меня не будет такой тяжелой жертвы, самой тяжелой, которой я с радостью не принес бы, чтобы доказать вам свою благодарность.
Несколько секунд молча смотрел мрачный господин на своего гостя, потом легкая улыбка скользнула по его лицу и еще не сошла с губ, когда он ответил:
— Я верю вашей искренности, за нее ручаются ваши глаза. Но… не обещайте слишком много. Быть может, скоро наступит момент, когда мне придется напомнить вам о ваших словах.
И раньше, чем Галлер успел вникнуть хорошенько в смысл этих слов, он крепко пожал в последний раз его руку, доктор и дамы пожелали ему крепкого сна, и дверь соседней комнаты закрылась.
Оставшись один, Галлер некоторое время думал обо всем необычайном, пережитом в последнее время, но вскоре веки его отяжелели, и смутные сновидения заволокли в уме всю действительность.
Глава 9
АВТОБИОГРАФИЯ СЕГЭНА
Дом Сегэна был обнесен обширной четырехугольной оградой, тянувшейся до самого берега реки Рио-дель-Нортэ. Ограда состояла из высоких и толстых глиняных стен, обсаженных вверху колючей изгородью из кактусов; дом был окружен внутри ограды великолепным садом, в конце которого, близ самой реки, была построена небольшая деревянная башня, откуда открывался чудесный вид на местность, окружавшую ограду.
Местность вокруг казалась дикой и необитаемой. На огромном пространстве, какое только мог охватить глаз, тянулась красивая листва хлопчатника, бросавшая мягкую тень на реку. На юге, почти на самом краю горизонта, высился единственный церковный купол. Это была церковь Эль-Пасо, окруженная поросшими виноградниками холмами. На востоке синели Скалистые горы, на западе тянулась двойная горная цепь, по пустынным ущельям которой редко ступала человеческая нога. Даже безумно смелые звероловы с большими предосторожностями решаются забираться в эту почти неведомую область, простирающуюся на север от страны апачей и навахо.
Галлер, уже десять дней пользовавшийся гостеприимством в этом доме, очень мало успел познакомиться с окрестностями, довольствуясь прогулками по саду в обществе Зои и ее матери, к которым искренно привязался, и в обществе милого доктора, жившего уже несколько месяцев в доме Сегэна, дружески предоставившего в распоряжение ученого ботаника свой богатейший сад.
В таком милом обществе время летело незаметно для выздоровевшего Галлера. Чтение, музыка вместе с Зоей, рисование, прогулки и дружеские беседы наполняли весь день, так что, когда однажды перед ним очутился вернувшийся из своей таинственной поездки хозяин дома, он был изумлен, что тот провел в отсутствии целых десять дней.
Сегэну очень польстило это удивление гостя, свидетельствовавшее о том, что тот хорошо чувствовал себя в его доме, и он дружески выражал свое удовольствие по этому поводу; но все время на лице его было выражение рассеянности и беспокойства; которое не могло не броситься в глаза Галлеру, как тот ни старался владеть собой.
Прошел еще день, а настроение Сегэна не изменялось: он был очень любезен и внимателен в обращении, но по-прежнему лицо и движения его говорили о скрытом волнении и беспокойстве, и Галлер тщетно ломал себе голову, что бы могли быть за причины такого состояния.
Только на третий день Галлеру все объяснили. После обеда Сегэн пригласил Галлера в свой кабинет, объявив ему, что хочет поговорить с ним наедине. Введя гостя, он тщательно запер дверь на задвижку и, едва оба уселись, начал без обиняков:
— Вы произвели на меня впечатление человека, заслуживающего глубокого доверия, и я намереваюсь довериться вам так, как еще никогда не доверялся никому. Я расскажу вам поэтому кое-что о своей жизни. Я вижу, вам хочется спросить, почему и зачем я это делаю?.. Это вы узнаете, когда я кончу свой рассказ. Скажу пока только, что в последнюю мою поездку обнаружились обстоятельства, вынуждающие меня напомнить вам ваше обещание и заявить притязания на благородные чувства, которые вы ко мне питаете. Угодно ли вам выслушать биографию несчастного человека и его последующую просьбу?
Пораженный и недоумевающий Галлер молча утвердительно кивнул головой.
— Меня считают французом; это неверно, я креол из Нью-Орлеана. Мои родители жили на французском острове Санто-Доминго, но во время восстания негров вынуждены были бежать, и имущество их было конфисковано. Захватив, что только удалось спасти, семья моя бежала в Нью-Орлеан.
Окончив курс горным инженером, я был приглашен на службу одним мексиканским владельцем копей, знакомым моего отца. Я был еще молод и, прожив несколько лет в горных рудниках Сан-Луи Потоси, успел скопить из своего жалованья небольшое состояние; я начал подумывать о том, чтобы создать себе собственное дело.
Давно уже носились слухи, что у притоков Джилы существуют богатые золотоносные жилы. Я явился сюда с несколькими рабочими и, посвятив несколько недель исследованию местности, нашел в горах неподалеку от Джилы драгоценную руду.
Пять лет я проработал во главе созданного мной предприятия и приобрел значительное состояние. Тогда я счел своевременным позаботиться об устройстве своего семейного счастья. Передав дело управляющему, я уехал в Hью-Орлеан, где жила подруга моей юности красавица кузина Адель. Она также осталась мне верна; мы поженились, и я привез ее сюда.
Я выстроил себе дом в Вальвердэ, ближайшем к моим рудникам населенном пункте. В то время это была цветущая местность, а теперь она превращена в развалины набегами апачей.
Несколько лет мы прожили там в богатстве и счастье… Я оглядываюсь на эти годы как на пору величайшего безоблачного счастья.
Бог благословил наш союз двумя детьми, девочками. Младшая похожа на свою мать, как вы, вероятно, заметили. Старшая была больше похожа на меня. Как мы любили наших крошек! Как мы были счастливы!
В Санта-Фе был назначен новый губернатор. Это был жестокий тиран, нагнавший ужас на всю область. Не было такого позорного поступка и такого гнусного преступления, на которое это чудовище не было способно.
Вначале он держался довольно прилично, в лучших местных домах ему устраивали торжественные приемы; так как и мой дом принадлежал к лучшим, то он и мне часто оказывал честь своим посещением. С течением времени он начал бывать у нас все чаще и чаще; через несколько месяцев я понял причину этого.
Жил он слишком расточительно, чтобы его жалованья могло хватать, и его заискивания передо мною имели чисто корыстные побуждения: он вечно просил денег, и я был так слабохарактерен, что выдавал ему раз за разом значительные суммы. Правда, я мог это делать тогда без риска поставить себя в затруднение. Но моя любезность только поощряла его жадность, суммы, которые он требовал, оказывались все крупнее и крупнее, и когда я наконец объявил ему, что больше не могу уделять ему крупных сумм, он прибег к угрозам.
Сумей я тогда ответить ему спокойно и презрительно, мы просто разошлись бы, недовольные друг другом, и дело не имело бы дальнейших последствий. Но у нас, южан, горячая кровь, а тогда моя кровь была еще горячее, я был молод. Я начал упрекать его в неблагодарности, он тоже вышел из себя — слово за слово, он бросил мне в лицо тяжкое оскорбление, а я… Ну, я позвал своих людей, приказал насильно выставить оскорбителя за дверь моего дома и избить его среди площади на глазах толпы.
Меня схватили и заключили в Альбукеркскую тюрьму, где я протомился несколько месяцев. Когда я был выпущен на волю и вернулся на родину, она оказалась разгромленной и опустошенной! На эту местность напали дикие навахо, мое имущество было разграблено, разбито, разрушено… а мое дитя… Боже мой, Боже! — моя старшая девочка, крошка Адель, была уведена пленницей в горы!..
— Что же сталось с вашей женой и… Зоей, вашей второй девочкой? — спросил взволнованный рассказом Галлер.
— Им удалось бежать. Преданные слуги мои храбро боролись с разбойниками, и в пылу борьбы одному удалось укрыть мою жену с крошкой Зоей на руках в овраге в саду, а потом спрятать их в хижине пастуха в лесу, где я и нашел их по возвращении.
— А старшая? Узнали вы о ней что-нибудь?
— Да, да… сейчас расскажу…
Помолчав, Сегэн продолжал:
— Рудник мой также был весь разрушен, многие рабочие были убиты; погибло и все предприятие, и все мое состояние.
Некоторые из рабочих, которым удалось спастись, согласились отправиться со мной на поиски врага, за моей дочерью. Но все наше преследование было тщетно; мы вернулись с расстроенным здоровьем, я — с разбитым сердцем.
О, сударь, вам трудно понять муку и горе отца, лишившегося ребенка при таких страшных обстоятельствах!
Он стиснул голову руками и так сидел несколько минут неподвижно и безмолвно. Лицо его выражало жестокую скорбь.
— Я сейчас подхожу к концу своей истории. Разумеется, только до настоящей минуты. А конец… кто его знает, каков он будет.
Целые годы скитался я у границ индейских областей и искал свое дитя. Ко мне примкнула кучка таких же несчастных, лишившихся жен, дочерей. Но время шло, иссякли силы и средства, отчаяние приводило к унынию. Один за другим отстали от меня все мои спутники.
Правительство не оказывало нам никакой помощи; наоборот, тогда поговаривали — теперь это уже доказано, — что сам губернатор вошел в тайные сношения с предводителями шаек навахо, обещав им полную безнаказанность при условии, что они будут нападать только на его врагов.
Узнав эту ужасную тайну, я понял, чья рука направила удар на меня. С тех пор было два случая, когда жизнь его была в моих руках. Но за его гнусную жизнь мне, вероятно, пришлось бы заплатить своей, а у меня были обязанности, ради которых я должен был жить. Быть может, мне еще представится случай посчитаться с ним.
Дальнейшее пребывание в Новой Мексике было небезопасно, поиски пришлось прервать; я решил покинуть эту местность и, переехав «Путину смерти», поселился на некоторое время в Эль-Пасо, весь отдавшись скорби о погибшей дочери.
Но я недолго оставался бездеятельным. Участившиеся набеги апачей и навахо на Сокоро и Чихуахуа побудили правительство приняться энергичнее за защиту провинций. Вновь были возведены маленькие укрепления, в них размещены были войска, и из охотников различных народностей был сформирован отряд, не ограничивавшийся только защитой открытых и укрепленных мест, а совершавший, в свою очередь, по примеру индейцев набеги и нападения на страну апачей и навахо.
По условию, добыча от таких набегов оставалась собственностью отряда и поровну делилась ими между собой, и, кроме того, участники получали от правительства премию за представленные ими скальпы. Мне было предложено командование отрядом, и, в надежде найти этим путем мое дитя, я согласился… Так я стал начальником охотников за скальпами.
Вы содрогаетесь?.. О да, это ужасное, отвратительное дело! И если бы моей целью было только мщение, я был бы давно удовлетворен. Мне отвратительна бесчеловечная бойня, и своим положением я пользуюсь, чтобы по мере сил ослаблять ее. Одно единственное желание одушевляет меня — вырвать мою дочь из рук навахо!
Иногда мне случалось узнавать о местопребывании моей Адели от пленников, которых я освобождал, но у меня не хватало людей и средств, чтобы пробраться к навахо через пустыни северной Джилы.
— А вы полагаете?..
— Минуту терпения, я сейчас кончаю. Мой отряд теперь сильнее, чем был когда-либо. От одного бежавшего из плена у навахо я получил недавно известие, что вожди обоих племен намереваются переселиться на юг. Они стягивают все свои силы для грандиозного набега — до самых ворот Дуранго. Я намерен воспользоваться их отсутствием, чтоб пробраться в их гнездо и отыскать мою дочь.
— А вы полагаете, что она еще жива?
— Я знаю это наверное. Беглец, принесший мне эту весть и поплатившийся, бедняга, своим скальпом, снятым с него вместе с ушами, часто видел ее. Она занимает там особое положение, вроде королевы, и пользуется особою властью и привилегиями. Да, она жива! И если мне удастся освободить, вернуть ее — для меня начнется новая жизнь.
Галлер слушал с глубоким волнением необыкновенную повесть. Сердце его было полно сострадания к ужасной судьбе этого человека, не поколебавшегося пожертвовать всем — состоянием и добрым именем — и с поразительной энергией и настойчивостью шедшего к одной цели: найти, вернуть свое дитя. Он готов был преклониться перед ним. Но, как бы предчувствуя, что самое серьезное для него еще впереди, не отозвался ни словом.
Он не ошибся.
После короткого раздумья Сегэн доверчиво взглянул на собеседника и сказал:
— Теперь, когда вы немножко узнали меня, вы не истолкуете дурно мою просьбу, которой я хочу закончить свой рассказ. Дайте мне на время вашего коня, вашего дивного Моро! Только на время моей поездки!.. И дождитесь нашего возвращения в моем доме. Это лучший конь, какого я когда-либо видел в здешних краях, — с ним мне посчастливится, быть может, спасти мое дитя. Что же до второй части моей просьбы, — я хотел бы, чтоб мои дамы остались в отсутствии меня и доктора (он хочет отправиться со мной) под надежной защитой. Согласитесь ли вы принести мне эти две жертвы?
Наступило короткое молчание, которое нарушил Галлер.
— Нет! — твердо и решительно ответил он. — Если правда, как вы сказали, — продолжал он, не дав ошеломленному Сегэну ответить ни слова, — что навахо собираются сделать набег на Дуранго, то ваши дамы здесь будут в безопасности и в моей скромной защите не нуждаются. Что же касается Моро, то я после недавних событий дал себе клятву, пока я жив, никогда с ним не расставаться. Как видите, я не могу исполнить ваших просьб.
— Да, я вижу, сударь, — ответил Сегэн вежливо, но с ледяной холодностью. — В таком случае, ни слова больше об этом, — прибавил он, вставая.
— Нет, пожалуйста, еще одно слово, — возразил, улыбаясь, Галлер, сам вскочив и с дружеским насилием усаживая Сегэна на место, с которого он поднялся. — Быть может, я нашел бы способ соединить мои благородные чувства к вам и вашей семье с моей клятвой; не знаю только, будет ли это вам по душе.
— Какой же это способ? — спросил заинтересованный Сегэн.
— Я поеду с вами на своем Моро.
Несколько секунд Сегэн молча смотрел на него, потом пробормотал:
— Вы хотите мне помочь вернуть мою дочь?
— От всего сердца!
— Вы хотите сопровождать меня в пустыню?
— Да, хочу.
— Ну, — сказал Сегэн, тяжело переводя дух, — да вознаградит вас Бог за ваш благородный порыв! — И, быстрым шагом подойдя к Галлеру, он бурно обнял его.
— Не думайте обо мне лучше, чем я этого заслуживаю, — заговорил снова Галлер. — Ведь вы не знаете, не действую ли я из эгоистических побуждений и не обращусь ли я к вам, по нашем возвращении, с просьбой в свою очередь.
Сегэн внимательно посмотрел в глаза новому другу и, как бы прочтя в них его сердечную тайну, просто ответил:
— Довольно! Когда мы вернемся — мой дом… моя жизнь… все, все будет вашим… А теперь надо действовать, — прибавил он с прежней энергией. — Ваше предложение придало мне сил и бодрости, — я чувствую, что, сопровождая меня, вы принесете мне счастье. Завтра мы отправимся.
— Рано утром?
— С рассветом.
— В таком случае я должен осмотреть своего коня и свое оружие.
— Все в полном порядке. Годэ вернулся! — воскликнул с радостным волнением Сегэн, и в ту же минуту, распахнув дверь в соседнюю комнату, откуда ему слышны были, вероятно, голоса своих, он обратился к ним:
— Адель! Зоя! Ах, и вы тут, доктор, с вашими неизменными травами? Вот и отлично. Мы завтра уезжаем. Адель, дай нам кофе и потом поиграй нам: твой гость завтра покидает тебя.
Глава 10
СЛЕДЫ НАБЕГОВ
Звезды еще не вполне померкли, когда трое мужчин, в сопровождении одного только канадца Годэ, выехали по песчаной дороге вдоль по течению реки. Время от времени им приходилось проезжать по невысоким холмам, а в промежутке путь лежал по низменностям, густо поросшим лесами. Из-за частого кустарника дорога была очень трудная, и хотя деревья и были срублены когда-то по сторонам, чтобы проложить дорогу, но на самом пути не видно было никаких следов того, что по ней ездят. Вся местность казалась дикой и необитаемой. Это подтверждалось и тем, что олени и антилопы часто перебегали путь всадников или выскакивали из-за кустов совсем близко от них.
Путешественникам попадались места, бывшие когда-то заселенными, а однажды им встретились даже развалины церкви, старая башня которой частями обрушилась. Всюду вокруг валялись кучи кирпичей, которыми было усеяно большое пространство. По-видимому, здесь было когда-то большое цветущее селение.
Что же сталось с трудолюбивым населением его? Вот из-за развалин стен, поросших колючками, прыгнула дикая кошка и убежала в лес. Медленно взметнулась откуда-то сова и пронеслась над головами всадников, издавая свое жалобное уканье… Еще глубже почувствовалось унылое и дикое запустение всей картины.
Куда же, куда девались все те, чьи голоса оглашали когда-то эти печальные развалины? Где те, кто благоговейно склонял когда-то свои колени в тени этого священного здания? Исчезли… Куда? Почему?
На целый ряд вопросов Галлера Сегэн отвечал одним коротким и выразительным словом:
— Индейцы! Дикари со своими копьями, ножами и отравленными стрелами…
— Навахо? — спросил Галлер.
— Навахо и апачи.
— Они еще могут вернуться снова в эти места?
— Нет, никогда!
— Почему вы так уверены?
— Теперь это наша область, — выразительно и с ударением пояснил Сегэн. — Они находятся теперь в такой местности, где живут необыкновенные ребята, вы это скоро увидите, друг мой. Горе тем навахо или апачам, которые забрели бы в эти леса!
Чем дальше они ехали, тем пустыннее становилась местность. Вдали путникам бросились в глаза две огромных отвесных скалы, нависших по обоим берегам реки друг против друга и высившихся, словно стражи, над шумливым, пенящимся течением.
— Видите тот утес? — спросил Сегэн Галлера, указав на южный скалистый берег, над отвесной стеной которого выдавалась мощная каменная глыба.
Галлер кивнул головой.
— Это тот самый, с которого вам так хотелось прыгнуть. Вон там мы нашли вас висящим, на самом высоком выступе…
— Боже милостивый! — вырвался крик у Галлера при взгляде на эту головокружительную высоту. Все завертелось перед ним при одном представлении об этом ужасе.
— Если бы не ваш дивный Моро, наш доктор остановился бы теперь, вероятно, в раздумье над вашими костями и строил бы вволю догадки. Правда, доктор?
Доктор не ответил ни слова, измеряя в немом ужасе глазами высоту утеса и глубину пропасти.
Глава 11
ЛАГЕРЬ ОХОТНИКОВ ЗА СКАЛЬПАМИ
Подъехав около полудня к тенистой группе хлопчатников, путники сделали часовой привал, отдохнули и позавтракали и снова отправились в путь, чтобы скорее добраться до лагеря охотников за скальпами.
Появление Сегэна и его спутников приветствовалось всеми группами, мимо которых они проезжали, громким «ура!», но больше на них не обращали внимания. Никто не поднялся с места, не прервал своего занятия; прибывшим спокойно предоставили самим расседлывать коней и позаботиться о себе. Галлера, отвыкшего от седла, сильно утомила езда; он бросил на землю свое одеяло, опустился на него, прислонившись к пню, и с большим любопытством принялся рассматривать окружающее.
Лагерь был разбит в извилине Рио-дель-Нортэ, обсаженной высоким хлопчатником. Он состоял из нескольких разорванных палаток и нескольких шалашей, обтянутых шкурами по индейскому образцу. Большинство же охотников устроило себе убежище из четырех воткнутых в землю кольев, обтянутых сверху бизоньей шкурой, и, казалось, вполне довольствовалось таким приютом.
Сквозь редкие деревья виднелся неподалеку сочный зеленый луг, где паслись на длинных арканах мулы и мустанги. В лагере всюду были развешаны на пнях и ветвях деревьев седла, поводья и тюки; к деревьям прислонены ружья; всюду на земле валялась посуда — чашки, котелки. Перед кострами сидели группы охотников; некоторые курили, другие жарили оленину. Три такие группы обратили на себя особое внимание Галлера.
Сидевшая ближе других к Галлеру группа говорила по-испански. Это были мексиканцы, одетые совершенно так, как был одет Сегэн, только ткани были грубее и у многих рваные. Лица у этих были черные и одичалые, волосы длинные, жесткие и черные, беспорядочные и запущенные бороды; из-под широких полей шляп остро сверкали глаза. Большинство было невысокого роста, но гибкость тела свидетельствовала об огромной выносливости. Все они были с мексиканской границы и часто мерились силами с врагами-индейцами в смертельных битвах.
Неподалеку от этой группы сидела другая, состоявшая из звероловов, степных охотников, горцев. Эти — высокого роста и необычайно крепкого телосложения. Руки похожи на молодые дубки, кисти рук — на медвежьи лапы. Лица, обрамленные белокурыми волосами, довольно симпатичны, светло-серые глаза выражали добродушие. Вся наружность свидетельствует об англосаксонском происхождении.
Свои костюмы они делают собственными руками: охотничья куртка и панталоны из дубленой мягкой оленьей кожи, сапоги — мокасины с подошвами из буйволовой кожи; на голове енотовая шапка с мордой зверька впереди, с хвостом его, свисающим, как перо, на плечо. Оружие состоит из длинного американского ножа, из тяжелого пистолета на поясе и совершенно прямого, длиною почти в пять футов, ружья.
Третья заинтересовавшая Галлера группа расположилась подальше от того места, где он сидел. Это были индейцы.
«Как попали они сюда? — думал Галлер. — Вероятно, это пленники. Но могут ли они принадлежать к этому отряду и выступать против своих краснокожих братьев?»
Не находя ответа на свое недоумение, Галлер обратился с вопросом к проходившему мимо охотнику:
— Что это за индейцы?
— Частью делавары, частью шауни.
— В качестве кого же они здесь? Пленники?
— Нет, они наши союзники, — с некоторым недоумением ответил охотник.
— Что? Они дерутся с собственными единоплеменниками?
— Что вы! Они душат друг друга, как тигры. Между делаварами и шауни, с одной стороны, апачами и навахо, с другой, царит с незапамятных времен смертельная вражда.
И, не дожидаясь новых вопросов, охотник равнодушно прошел своей дорогой.
Так это знаменитые делавары, о которых столько слышал Галлер… Вымирающее племя. С еще большим вниманием и участием оглянулся на них Галлер и подошел к ним поближе.
Кучка индейцев сидела вокруг огня и курила из оригинальной формы красно-глиняных трубок. Другие прогуливались той величавой походкой, которой так славятся лесные индейцы. В этой группе царило молчание, поражавшее странным контрастом с шумом и трескотней их мексиканских союзников. Время от времени раздавался чей-нибудь вопрос глубоким и звучным голосом, за ним следовал короткий, но выразительный ответ, полный достоинства кивок головы, движение руки… Так шла между ними беседа, и дымящиеся трубки передавались из рук в руки.
Одеты они были почти так же, как вторая группа, только куртки были украшены красивой вышивкой да края панталон были отделаны ужасной бахромой из человеческих волос.
Кроме описанных трех групп, там и сям мелькали представители различных племен и народов: французы, канадцы, выброшенные на берег во время кораблекрушений моряки, мулаты, даже чернокожие, негры с луизианских плантаций, променявшие кнут смотрителя на эту вольную, бродячую жизнь… Лагерь охотников за скальпами представлял самую пеструю смесь представителей всех цветов кожи, всех климатов, всех языков и наречий, кого только свели случай и жажда приключений.
Глава 12
МЕТКИЙ ВЫСТРЕЛ
Галлер вернулся на свое место и уже хотел растянуться на одеяле, как вдруг внимание его привлек крик журавля. Подняв голову, он увидел пролетавшую сквозь листву серебристую птицу, взмахивающую крыльями так медленно и плавно, как будто сама напрашивалась на выстрел.
Откуда-то и прозвучал выстрел, но такой неудачный, что птица только усилила взмахи крыльев и унеслась.
В группе звероловов раздался смех, и чей-то голос сказал:
— Этакий дурак! Вообразил, что попадет в птицу из своего толстенного ружьища!
Галлер обернулся, желая узнать, кто это сказал, и увидел двух мужчин, взбросивших на руке ружья и прицелившихся в птицу. Один из них был молодой человек, обративший на себя особое внимание Галлера во второй группе — красивый белокурый силач, другой — индеец, которого раньше Галлер не заметил.
Выстрелы раздались одновременно. Через секунду отлетевшая уже довольно далеко птица поникла головой и, затрепыхавшись, упала, повиснув на ветке, о которую зацепилась, падая.
С того места, на котором стояли стрелки, им не могло быть видно друг друга: их разделяла палатка, а звуки выстрелов слились в один.
— Ловко, Билл Гарей! — воскликнул кто-то. — Храни Бог всякое живое создание от твоего прицела!
Индеец, шагавший вокруг палатки, услышал это восклицание и, заметив еще дымившееся в руках Гарея ружье, подошел к нему.
— Вы стреляли, сударь?
Слова эти были произнесены на таком безукоризненном английском языке, что одним этим он обратил бы на себя внимание Галлера, если бы даже наружность его и не была так представительна.
— Кто это? — спросил Галлер своего соседа.
— Не знаю, сам его в первый раз вижу.
— Вы хотите сказать, что он новичок?
— Да, он только что прибыл, едва ли его кто-нибудь знает, кроме начальника — Сегэна; я видел, как они пожимали друг другу руки.
С возрастающим любопытством вглядывался Галлер в индейца. Это был человек лет тридцати с небольшим и почти полных шести футов ростом. Умное и благородное выражение его лица резко отличало его от находившихся здесь его соплеменников, а одежда отличалась богатством, изяществом материала и отделки. Головной убор с богатым набором из перьев, драгоценные камни, украшавшие его одежду и оружие, и ценная белая бизонья шкура, надетая на плечи, изобличали вождя-военачальника.
Вопрос, с которым он обратился по-английски к зверолову, звучал безукоризненной верностью тона; тем более удивил Галлера угрюмый и резкий тон ответа Гарея:
— Стрелял ли я! Разве вы не слышали выстрела? Не видели, что птица упала? Что за вопрос? Вон, посмотрите! — и он указал на повисшую на ветке птицу.
— Значит, мы одновременно выстрелили, — сказал индеец и хладнокровно указал на свое ружье, также еще дымившееся.
— Что вы там рассказываете! — еще грубее прежнего отозвался Гарей. — Стреляли ли вы одновременно или нет — это мне безразлично. Я знаю, что я стрелял, и моя пуля попала в цель.
— Я думаю, что и моя попала, — скромно заметил индеец.
— Вот из этой-то игрушки? — насмешливо спросил охотник, презрительно взглянув на его изящное оружие с серебряной насечкой и переведя гордый взгляд на свое темное и массивное ружье.
— Да, из этой игрушки, — ответил индеец, не изменяя своему спокойному достоинству. — Это оружие не уступает в меткости и силе никакому другому из известных мне. Я ручаюсь, что оно прострелило тело журавля.
— Вот что, сударь мой, — сердито проворчал раздраженный противоречием охотник, — нетрудно ведь проверить, кто убил птицу. Пуля вашей штучки должна быть по калибру почти вдвое меньше моей. Вот это мы сейчас и увидим.
И Гарей зашагал к дереву, на котором высоко повисла птица.
— Да как ее достанешь с такой высоты? — воскликнул один из охотников, заинтересованный исходом этого спора.
Но в ответе не было надобности. Все заметили, что Гарей, наскоро зарядив ружье, прицелился; раздался выстрел, расщепивший ветку, и она согнулась под тяжестью птицы. Но на землю птица не свалилась, задев другой вилкообразный сук.
Послышался сдержанный гул одобрения меткому выстрелу, под шум которого индеец также успел зарядить ружье и прицелился.
Словно ножом резанула его пуля по надломленному месту, и ветка с птицей грохнула наземь.
При новом взрыве восторга окружающих птица была поднята и осмотрена: в ней оказались следы двух пуль, из которых каждая могла убить птицу.
По лицу молодого охотника пробежала тень неудовольствия. Его превзошли в присутствии множества горцев в искусстве обращения с его излюбленным оружием — и кто же превзошел? Индеец! И — что всего хуже — каким-то игрушечным инструментом! Звероловы и горцы относятся крайне недоверчиво к нарядному оружию и к оружию малого калибра. Между тем было очевидно, что и ружьецо индейца кой на что годится.
Охотнику понадобилось много самообладания, чтобы не дать заметить, как он был раздосадован, и безмолвно приняться за чистку ружья. Галлер, возбужденно следивший за всей сценой, заметил, что он заряжал ружье тщательнее обыкновенного. Ясно было, что он не желал удовольствоваться сделанным опытом, а решил продолжать состязание.
Зарядив ружье, он обратился ко всем окружающим, — а к этому времени тут собралась большая толпа со всех концов лагеря:
— Срезать ветку пулей — дело нехитрое; это всякий может, у кого глаз верный. Бывает другого рода прицел, потруднее и требующий твердости.
Охотник обернулся к индейцу, который тоже зарядил ружье, и сказал:
— Послушайте-ка, незнакомец! Нет ли у вас здесь поблизости товарища, могущего положиться на меткость вашего выстрела?
— Есть, — после легкого раздумья ответил индеец, — для чего это вам?
— Для чего? А я хочу показать вам особый род выстрела, которым мы иногда забавляемся среди своих. Не Бог весть что, правда, но нервы надо иметь крепкие. Эй, Рубэ! Сюда!
— Здесь! Что тебе надо?
Все обернулись в ту сторону, откуда раздался грубо-ворчливый отклик, но в первую минуту никого не было видно; только вглядываясь между древесных стволов, можно было заметить какой-то закопченный дымом костров серый клубок.
Трудно было поверить, что этот предмет представляет человеческое тело. Но вот он взмахнул руками, и тогда стало видно, что человек сидит спиной к толпе, а голову просунул поверх огня. Наконец он встал на ноги и глазам подошедшего из любопытства поближе Галлера представилось диковинное существо, подобного которому он в жизни не видел.
По лицу ему можно было дать лет шестьдесят; резкие черты лица напоминали что-то орлиное, и на нем сверкали маленькие, темные, быстрые и пронизывающие глазки. Цвета кожи нельзя было различить из-за толстого слоя грязи.
Одежда была так же неряшлива, как и все его тело. Сильно изорванные панталоны и куртка едва ли чистились когда-нибудь: они буквально блестели от грязи и жира. Не считая старых и грубых мокасин, на нем была еще низко надвинутая шапка, сделанная когда-то из шкуры кошки; но от времени шерсть совершенно повылезла, и осталась только засаленная материя, имевшая сверху некоторое подобие кожи. Весь он — телом и платьем — имел такой вид, точно провисел несколько недель в дымовой трубе.
Ко всему этому необычному впечатлению Галлер заметил еще одну ужасную подробность: у этого человека не было ушей! А когда он снял шапку, чтобы сделать из нее щиток от солнца и лучше разглядеть Гарея, Галлер сделал еще более ужасное открытие: у несчастного был только узкий венок седовато-черных волос вокруг головы, середина черепа была совершенно лысая и представляла огромный сплошной шрам… По-видимому, он потерял в каком-то страшном приключении не только свои уши, но и кожу на голове.
Галлер догадался, что это, должно быть, тот самый пленник, который бежал от навахо и принес Сегэну недавно известие о похищенной дочери. Но он не мог знать, что этот невзрачный закоптелый человек без скальпа и ушей был знаменитейшим звероловом, быть может, первым на всем американском материке.
— Поди же сюда, Рубэ, ты мне нужен! — позвал снова Билл Гарей уже в полупросительном тоне.
— Ну, погоди, приду! — крикнул тот и, подойдя к товарищу, спросил: — Чего ты хочешь, Билл?
— Я хотел бы, чтоб ты подержал вот это, — ответил Гарей, протягивая ему круглую белую раковину, величиной приблизительно с карманные часы, одну из многих, валявшихся на земле.
— Это пари, юноша?
— Нет, не пари.
— Что же зря порох тратить?
— Меня тот индеец превзошел в стрельбе, — ответил тихо Гарей.
Старик оглянулся на индейского вождя, стоявшего опершись на ружье, с выражением спокойного достоинства, без тени торжества только что одержанной победы.
По тому, как оглядывал его старый Рубэ, было видно, что он уже встречал его когда-то, если и не в этом лагере. Оглядев его внимательно и долго, он что-то тихо пробормотал, из чего товарищ его расслышал только слово «коко».
— Ты думаешь, он коко? — спросил Гарей также тихо.
— Да ты что, слеп? Не видишь его мокасины?
— Его не было там. Где же он был?
— Когда по воле своего племени и праву рождения он был избран вождем, он счел себя слишком молодым для такого сана и поехал поэтому путешествовать в страну белых; говорили, что он нашел там богатое месторождение золота у Джилы. Берегись, Билл: он должен быть хороший стрелок; по крайней мере, он это однажды уже доказал.
— Но как же он сюда попал?
— Начальники отряда говорили мне, что он хочет отправиться с нами в набег.
— Один? Без своего племени? После всего, что случилось? Это удивительно!
— Интересы его племени теперь сосредоточены на Калифорнийском побережье, он не хочет навязывать им далекое и, быть может, бесплодное предприятие, тем более что явился он сюда из личных соображений. Во-первых, он обязан благодарностью нашему начальнику, который освободил его однажды из рук навахо; во-вторых, он хочет отомстить одному из этих злодеев, — в чем дело, мне Сегэн не рассказал, да я и не любопытствовал.
— Как зовут его?
— Эль Соль, кажется… Довольно шептаться, однако, — перебил сам себя старик. — Что нам за дело до него? Нам интересно только, как он стреляет. Посмотри, ребята уже выражают нетерпение. На какое расстояние мне отойти?
— На шестьдесят шагов.
— Побереги же мои когти — слышишь? Индейцы порастрясли мне их, много мне нельзя пожертвовать.
При этих словах старик помахал правой рукой, и Галлер, следивший за каждым его движением и слышавший почти весь разговор товарищей, заметил, что мизинец у него был отрезан.
— Не бойся! — сказал Гарей, и старик начал удаляться медленным и равномерным шагом, доказывавшим, что он отмеряет расстояние.
Отмерив, он повернулся, выпрямился и протянул правую руку на уровень плеча, держа раковину между пальцами плоской стороной вперед.
— Готово!
Нервы Галлера дрогнули при виде этого приготовления. Многие тоже заволновались. Среди присутствующих охотников нашлись бы, вероятно, некоторые, которые дерзнули бы попытаться произвести подобный выстрел, но очень немногие, конечно, согласились бы держать раковину. Однако вмешаться и помешать опыту никто не решился.
Гарей глубоко перевел дух, стал в позу, поднял ружье и крикнул товарищу:
— Держись, старина!
Все глаза были устремлены на цель, все затаили дыхание; воцарилась мертвая тишина. Раздался выстрел — и раковина отскочила, разбитая вдребезги.
В толпе раздались крики одобрения. Старый Рубэ нагнулся, чтобы поднять один из осколков, и, посмотрев на него, громко воскликнул:
— В самую середину! Клянусь Богом!
Охотник попал действительно в центр, как свидетельствовало пятно от пули.
Тогда вся толпа оглянулась на индейца; во время этой сцены он тихо стоял на прежнем месте и смотрел. Теперь он начал разглядывать землю, как будто что-то отыскивая.
Невдалеке он заметил кактусовую шишку величиною с апельсин; она показалась ему подходящей; он подошел, поднял ее, очистил от игл… Что он хотел сделать? Подбросить ее вверх и выстрелить в нее на лету?
Безмолвно следили за всеми его движениями столпившиеся вокруг охотники, человек шестьдесят или семьдесят. Вдали был виден Сегэн, занятый вместе с доктором и несколькими охотниками сооружением палатки. Гарей стоял рядом с Галлером, довольный своим успехом, но и обеспокоенный предстоящим, быть может, поражением.
Один только старый Рубэ оставался равнодушен и вернулся к своему костру, занявшись жаркой оленины.
Предводитель племени коко (или марикопов) вынул из кармана куртки длинную кость — бедренную кость орла, — продырявленную во многих местах, и поднес ее к губам, закрывая дырочки пальцами. Раздался троекратный странный пронзительный свист. Затем индеец спрятал кость и начал вглядываться в восточном направлении в лес.
Заинтересованные охотники нетерпеливо ожидали разгадки, шепотом делясь друг с другом своим недоумением. Словно эхо, прозвучали в ответ три таких же сигнала. По-видимому, индеец имел товарища, но никто не знал здесь ни его самого, ни его товарища — за исключением, впрочем, одного Рубэ.
— Глядите, ребята, — сказал он стоявшим поближе к нему, — вы сейчас увидите одну из красивейших краснокожих девушек. Он зовет свою сестру Луну.
Раздался шорох, как от раздвигаемых кустов, послышались легкие шаги, треск ломавшихся веток. Что-то светлое мелькнуло в листве, из-за кустов показалась девушка-индианка в своеобразном живописном костюме. Свободной, непринужденной походкой подошла она к толпе, обратив на себя изумленные и восторженные взоры всех.
Одежда ее походила на одежду брата. На ней была яркая туника, украшенная изящным и богатым шитьем и отделанная у нижнего края раковинами, позвякивающими при каждом движении. На ногах у нее были ярко-пурпурные шаровары, а на распущенных черных и длинных волосах сидела изящная корона из перьев. Дикая красота ее лица смягчалась благородным его выражением.
Когда девушка подошла к брату, он протянул ей очищенную им шишку и что-то тихо сказал ей на непонятном языке. Не произнеся ни слова в ответ, она взяла шарик и отошла к тому месту, где стоял прежде Рубэ. Дойдя до дерева, она остановилась и повернулась так же, как сделал это прежде старик.
Тогда присутствующие догадались, что должно произойти, и заговорили между собой.
— Он хочет выбить шишку из рук девушки, — сказал один.
— Теперь в этом не будет ничего особенного, — прибавил другой, выразив этим, по-видимому, мнение большинства.
— Если он и удачно сделает это, тут не будет никакой победы над Гареем, — сказал третий.
Но каково же было изумление всех, когда они увидели, что девушка сняла с головы свою корону из перьев, положила себе на голову шишку и, скрестив руки на груди, остановилась у дерева спокойная и неподвижная, словно изваяние.
В толпе поднялся тревожный ропот. Галлер почувствовал такое волнение, что решил выразить свой протест по поводу отчаянности индейца, но его опередил Билл Гарей.
— Нет, этого не делайте! — воскликнул взволнованный Гарей, ухватившись за уже поднятое индейцем ружье. — По крайней мере, я не могу согласиться пассивно присутствовать при этом.
— Что такое? — прогремел индеец. — Кто осмелится удержать меня?
— Я осмелюсь, — решительно заявил Гарей. — О, прошу вас, не надо! — заговорил он тотчас умоляюще, заметив выражение мрачной решимости в лице противника. — Я слышал от Рубэ, что девушка эта — ваша сестра… Вас никто не может лишить ваших прав, но я прошу вас… не надо! Я признаю, что вы можете победить меня, только не делайте этого, не рискуйте!
— Тут нет никакого риска, вы увидите, — сказал уже спокойнее индеец.
— Эй, Билл, что за шум? — воскликнул, подходя Рубэ. — Посмотрим этот выстрел, черт возьми! Не беспокойся, этот не промахнется, собьет, как ветром!
Отодвинутый на шаг товарищем, Гарей тотчас опять подвинулся, чтобы помешать безумной попытке, но было уже поздно. Индеец прицеливался, и малейшее движение могло быть гибельно.
Воцарилась гробовая тишина. Толпа, как один человек, затаив дыхание, напряженно приковалась глазами к цели, светящейся вдали зеленой точкой плода на голове девушки. Казалось, выстрела придется ждать вечность!
Выстрел раздался. Треск, яркая молния, неистовый крик «ура»! — и вмиг все заторопились к дереву. Простреленный плод отскочил, девушка стояла по-прежнему спокойная, невредимая. Вместе со всеми подбежал и Галлер. На секунду перед ним все заволокло дымом. Он услышал пронзительный свист индейца, посмотрел вперед… Девушка-индианка исчезла.
Когда охотники подбежали к месту, на котором она стояла, то услышали только шорох кустов и быстро удаляющиеся шаги.
Кусочки плода валялись кругом на земле, а сама пуля глубоко засела в дереве.
Все устремились к индейцу, чтобы отдать ему дань восхищения, но и его уже не оказалось на месте. Видно было, как он доверчиво и непринужденно болтал вдали с Сегэном.
Глава 13
ВОЕННЫЙ ПЛАН
Весь еще под впечатлением происшедшего состязания, Галлер вышел на луг, чтобы посмотреть на своего Моро и приласкать Альпа, как вдруг услышал раздавшийся призывный звук рога — сигнал к сбору.
Быстро вернувшись в лагерь, он пробрался к Сегэну, стоявшему с рогом в руках у своей палатки. Вокруг него сгруппировались охотники так, чтобы всем была слышна ожидаемая речь предводителя.
— Товарищи! — начал Сегэн. — Завтра мы выступаем из лагеря в поход на врага. Я созвал вас, чтобы сообщить вам свой план и посоветоваться с вами.
Людям, для которых война — профессия, всегда приятна весть о выступлении. Слова Сегэна были встречены гулом одобрения. Сегэн продолжал:
— На этот раз нам едва ли скоро предстоит бой. Опасность грозит нам во время перехода через пустыню. Ее-то нам и нужно предотвратить как можно обдуманнее.
— Я имею сведения, — продолжал он после паузы, — что враги наши готовятся в настоящее время к набегу на Сонору и Чихуахуа, а если не будут встречены правительственными войсками, то произведут свои опустошения до самого Дуранго. Оба племени — апачи и навахо — заключили для этого союз; таким образом, все воины отправляются на юг, оставляя свою страну беззащитной. Ввиду этого я предлагаю план — проникнуть в их отсутствие в их страну, чтобы затем пробраться к самим навахо.
— Браво! Браво! Превосходно! Ура! — раздались одобрительные восклицания в толпе со всех сторон и на разных языках.
— Добыча, которой вам удастся овладеть, составляет, по нашим законам, вашу собственность; но людей нужно щадить: вспомним, там остались почти одни женщины и дети. Кровь не должна быть проливаема, ее и так много на наших руках. Все ли вы обязуетесь этому повиноваться?
— Да, да, все, все! — раздался снова многочисленный хор.
— Я рад, что вы с этим согласны. Теперь я подробнее изложу вам свои намерения, вам надо знать их теперь же. Мы идем на поиски наших родных и друзей, которых уже несколько лет держат в плену дикие враги. Среди нас здесь немало потерявших своих близких — жен, сестер, дочерей…
Гул одобрения, особенно среди групп охотников, одетых в мексиканские костюмы, подтверждал справедливость этого.
— Я сам принадлежу к числу таких пострадавших, — продолжал дрожащим голосом Сегэн. — Много лет тому назад навахо похитили мое дитя. Недавно я узнал, что дочь моя жива и находится вместе с другими пленными белыми в столице навахо. Мы освободим несчастных и вернем их своей родине и своим родным.
— Браво! Да здравствует капитан! Мы их вернем! Ура! — раздались ответные крики.
— Обсудим же маршрут, — начал снова Сегэн, когда все стихло. — У нас есть три дороги, способные привести нас отсюда во владения индейцев. Первая — на западную часть Пуэрко. Это самая прямая дорога, но в селениях Пуэрко мы не можем остаться незамеченными навахскими шпионами, которых там всегда много. Если же навахо будут оповещены о нашем приближении, даже если воины уже будут в пути на юг, наш поход, вы понимаете, будет бесплоден.
— Верно, верно! Правда! — воскликнула толпа.
— По той же причине было бы неосторожно избрать вторую дорогу, на Польвидеру. Третий же путь, через старые рудники, неудобен тем, что в это время года мы не найдем в горах достаточно зверей в пищу. А что запас нам необходим, раз мы собираемся в пустыню, это вы также хорошо понимаете, как и я.
— Какой же нам дорогой пойти, в таком случае? — спросил один из охотников.
— Есть еще одна дорога, и, по-моему, более других подходящая. Мы отправимся прежде всего на юг и потом перережем в западном направлении льяносы. Оттуда нам будет удобно подняться на север, в сторону апачей. Это будет дальше, но эта дорога представляет другие преимущества. В льяносах мы найдем бизонов, а потом мы можем укрыться в окрестной холмистой местности, откуда нам видно будет, когда пройдут отряды апачей; там мы и останемся, пока не пропустим мимо наших врагов. Тогда мы совершенно безопасно пройдем через Джилу, а добившись счастливо своей цели, вернемся на родину кратчайшим путем.
— Браво, капитан! Верно! Это наилучший план!
— Так в добрый час! Завтра выступаем. Займитесь же приготовлениями и сборами. Будьте готовы к восходу солнца.
Охотники разошлись и тотчас занялись укладкой, осмотром и чисткой оружия и лошадей.
С наступлением ночи охотники прибавили дров в костры, так что они ярко запылали; люди улеглись вокруг них, варили и жарили ужин, ели, курили и болтали, пока то один, то другой, почувствовав усталость, не начали укладываться. Еще не наступила полночь, как весь лагерь покоился глубоким сном, за исключением немногочисленной стражи, которой поручен был надзор за лошадьми.
Глава 14
НЕОЖИДАННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ
С рассветом охотники были уже на лошадях; при первом звуке рога лошади побрели по реке и переправились на противоположный берег. Вскоре они выбрались из лесистой низменности на песчаную равнину, тянувшуюся к западу от горного хребта Мисибр, и поехали по южной части ее, покрытой глубоким зыбучим песком, на котором ноги коней оставляли глубокие следы. Это была западная часть «Путины смерти».
Ехали не все в ряд, а друг за другом по одному человеку, принимая таким образом обычный прием индейцев, чтобы спутать следы на случай, если враг захочет их исследовать; вьючные мулы шли позади таким же цугом и под надзором следовавшего за ними арьергарда.
В первый день пути в полдень привал не был сделан, так как ни травы, ни воды нигде по дороге не было, а остановка под палящим солнцем не восстановила бы силы.
Когда стало смеркаться, путники заметили вдали поперечную темную линию; когда они подъехали ближе, перед ними оказалась зеленая стена, в которой вскоре можно было различить хлопчатниковый лес. Им было известно, что это должна быть граница реки Паломы; объятые вскоре тенистой прохладой леса, они действительно выехали на берег прозрачной реки и здесь остановились на ночлег.
Лагерь разбили под открытым небом, без палаток; их даже не захватили с собой, так как в предпринятом походе невозможно было обременять себя подобной кладью; их припрятали в укромном месте в долине Рио-дель-Нортэ. Каждому его одеяло служило домом, постелью и плащом.
Были разведены костры, изжарено мясо, и, едва поужинав, утомленные ездой — как утомляются обыкновенно в первый день похода, — все тотчас завернулись в свои одеяла и крепко уснули.
На следующее утро всех разбудили звуки рога. Наскоро был приготовлен и съеден завтрак, лошади были оседланы, и при звуке нового сигнала все, совершенно готовые, снова тронулись в путь.
Три следующих дня пути прошли почти без всяких изменений, так же, как и первый. Дорога шла все такой же пустынной местностью, и только на четвертый день они подъехали к берегу ручья, известного под названием «Oio di Vaca» — «Коровье око», расположенного на восточной стороне льяносов.
По западной части этой огромной степи должны были пройти апачи во время своего похода к югу Соноры. Вблизи самой дороги тянулся через равнину высокий Пиннонский горный хребет.
Охотники намеревались достигнуть этих гор и укрыться за скалами, неподалеку от ручья, который был там, как им было известно, пока враг не пройдет мимо. Но чтобы добраться до этого убежища, надо было пройти той же дорогой, которой должны будут направиться апачи, — и следы шествия могли их выдать.
Затруднение это являлось непредвиденным; об этом Сегэн не подумал, набрасывая план. Между тем, кроме Пиннона, не было ни одного такого пункта, с которого можно было бы проследить за врагом, не будучи самим замеченными. Горы этой надо было достигнуть во что бы то ни стало, тут и вопроса быть не могло; но как же сделать, чтобы миновать предательскую тропу?
Прибыв к «Коровьему оку», Сегэн созвал для совещания весь отряд.
— Мы можем рассыпаться по прерии на то время, которого потребует эта часть пути, — сказал один из охотников. — На разрозненные шаги апачи не обратят внимания.
— Ошибаешься! — возразил другой. — Заметив след лошадиного копыта, индеец никогда не пройдет мимо, не проследив его до конца. Нет, этот совет не годится.
— Можно ведь обмотать коням копыта, — попробовал отстоять свое мнение первый.
— Да это дела не изменит. Я однажды прибег к такому ухищрению и едва не поплатился своим скальпом. Только разве слепой индеец даст себя провести такой проделкой. Почва мягкая… Нет, это ни к чему не приведет.
— Да с чего им глядеть так внимательно и подозрительно! — отозвался снова первый, по-видимому, обиженный пренебрежением к его мнению. — Я решительно не вижу, чем мы тут рискуем.
Но большинство охотников оказалось на стороне второго. «Столько замаскированных следов не могут остаться незамеченными и должны навести на мысль, что тут что-то кроется», — таково было мнение большинства.
От мысли обмотать копыта пришлось отказаться; но что же можно предпринять?
Старый Рубэ, не произнесший за все время ни слова, вдруг привлек к себе внимание одним загадочным звуком «тк-с!»
— Что ты хочешь сказать, старик? — спросил его один из товарищей.
— Что все вы дураки. Я берусь провести по дороге апачей бесчисленное множество лошадей, не оставив никакого следа, который заметил бы и стал по нему следовать индеец и особенно в момент похода.
— Каким же образом? — спросил Сегэн.
— Я объясню это, капитан; а вот вы мне раньше скажите, зачем вам идти по этой дороге?
— Как зачем? Чтобы укрыться в Пиннонских горах. О чем тут спрашивать?
— А как же вы намереваетесь сидеть в горах без единой капли воды?
— С одной стороны у подошвы горы бьет ключ.
— Это-то правда, я знаю. Но у этого же ключа и индейцы захотят, как и мы, утолить жажду и наполнить свои походные фляги по дороге на юг. Как же это вы там устроитесь со всей кучей лошадей, чтобы не оставить следов? Это мне не совсем ясно.
— Вы правы, Рубэ. Подойти к Пиннонскому ключу, не оставив следов, действительно невозможно, и действительно очень вероятно, что индейцы устроят там привал.
— Оттого-то я не вижу никакой выгоды в том, чтобы переходить всем через прерию. Пока индейцы не пройдут, мы все равно не сможем настрелять бизонов. Потому-то я думаю, что укрыться в горах и выследить отправляющихся на юг краснокожих могла бы какая-нибудь дюжина наших. Дюжины достаточно, и дюжине возможно укрыться, а всему отряду никак невозможно.
— А остальным остаться здесь?
— Зачем здесь! Они могут податься на север, а потом на запад к Мескитским горам. Там в милях двадцати в сторону от дороги протекает ручей и трава есть богатая, вот и выждут там, тоже укрывшись, пока мы за ними пошлем.
— Почему же не остаться здесь, где также вдоволь воды и травы?
— Именно потому, капитан, что кой-кому из индейцев может также прийти в голову мысль сделать здесь привал. По-моему, лучше замести всякий след, прежде чем двинемся отсюда.
Всем была ясна убедительность доводов Рубэ, и Сегэну больше всех. Было решено немедленно последовать его совету. Отделили небольшой отряд, который тотчас же и тронулся в путь вместе с вьючными мулами в северо-западном направлении, затем следы были заметены, совершенно заглажены.
Отряд должен был отправиться к Мескитским горам, находившимся приблизительно в двенадцати милях к северо-западу от источника. Там они должны были укрыться в засаде у известного некоторым из них ручья и ожидать, пока их не позовут обратно.
Отряд, в котором находился и Галлер, двинулся через прерию прямо на запад.
Составился отряд под предводительством самого Сегэна из Галлера, Рубэ, Гарея, Эль Соля и его сестры, бывшего
охотника на диких быков Санчеса, веселого рыжеволосого ирландца Барнея и еще некоторых.
Прежде чем отправиться с «Коровьего ока», они сняли по совету и указанию Рубэ подковы с лошадей и тщательно залепили глиной отверстия, оставшиеся от гвоздей, для того чтобы следы от коней походили на следы диких мустангов.
Приблизившись к тропинке, прорезавшей прерию, по которой должны будут проходить индейцы, они разъехались так, что между каждой парой всадников оставалось промежуточное пространство в полмили. Так они ехали до самой Пиннонской дороги и, съехавшись здесь, повернули у подошвы горы на север.
Глава 15
ТОМИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ
Целый день ехали они по долине и достигли ключа, когда солнце уже зашло. Прохладный ручей был окружен небольшой рощей из верб и хлопчатников и протекал у самой подошвы горы. Из предосторожности они решили, однако, в этот вечер еще не устраиваться здесь; лошадей они отвели в ближайшее горное ущелье и оставили скрытыми в чаще пиний. Там же предпочли переночевать и всадники.
Едва стало рассветать, охотники занялись подробным исследованием места своей засады.
Перед ними был невысокий скалистый, местами негусто покрытый соснами горный хребет, отделявший лощину от долины; с вершины его, под защитой чащи сосен, они свободно могли обозревать и воду, и дорогу в льяносы в северном, южном и восточном направлениях. Место было, безусловно, удачно.
Когда взошло солнце, безотлагательно необходимо было позаботиться о воде для людей и животных, для чего пришлось спуститься с вершины. Несколько человек взяли это на себя; захватили мех, бывший на муле, тыквенные фляги и наполнили все водой из ручья, приняв все меры предосторожности, чтобы на песке не оставалось ни малейших следов ног.
Весь первый день они неукоснительно оставались на страже, но индейцев не было видно.
Подходили к ручью олени и антилопы, подошло также маленькое стадо бизонов, которые, утолив жажду, тотчас убегали прочь через луг. Вид их чрезвычайно соблазнял охотников: расстояние было так заманчиво близко, что пострелять можно было бы несомненно удачно; но охотники никак не могли решиться; это было бы крайне неосторожно, так как собаки индейцев могли почуять кровь.
На другой день они продолжали всматриваться жадными глазами в горизонт. У Сегэна была маленькая карманная подзорная труба, в которую можно было обозреть прерию на несколько миль вокруг. Но врага ниоткуда не было видно.
Третий день прошел также безрезультатно, и охотники уже начинали опасаться, не избрал ли индейский отряд другого пути.
Тревожило их еще одно обстоятельство: почти все запасы провизии были уже уничтожены, люди питались почти одними сырыми кедровыми орехами, так как огня, чтобы изжарить их, не разрешалось разводить. Индейцы обладают очень острым обонянием и чуют запах дыма на весьма большом расстоянии.
Наступил и четвертый день, а на северном горизонте все это время никто не появлялся. Было уже съедено до последнего куска и вяленое мясо, и охотники начинали голодать, так как одни орехи не питали и не насыщали.
Один из охотников предложил подстеречь за вербами антилопу или оленя — по утрам и по вечерам они сбегались сюда целыми стадами — и застрелить, но предводитель отказывал в своем согласии.
— Мы не можем решиться на это, — говорил он. — Собаки индейцев могут учуять кровь, и мы себя этим выдадим, если еще раньше нас не выдаст самый звук выстрела: ведь дикари могут быть и невдалеке отсюда.
— Я могу убить зверя, не пролив ни одной капли крови, — заметил один охотник-мексиканец, указав на аркан.
— А следы ваших ног? При ловле арканом вы оставите глубокие следы на месте.
— Мы можем их затоптать, капитан, — ответил охотник.
— Ну, попробуйте! — сдался Сегэн.
Мексиканец снял аркан и в сопровождении товарища отправился к ручью. Там они юркнули под вербы и улеглись ничком. Оставшиеся наблюдали за ними с горы. Не прошло и четверти часа, как с долины примчалось стадо антилоп. Эти животные бегают с быстротой ветра — и через несколько минут после того, как их заметили, они уже очутились у самых верб, где притаились охотники.
Но, подойдя вплотную, они остановились, подняли вверх головы и стали обнюхивать воздух. Очевидно, они почуяли опасность, но было уже поздно.
— Вон взлетел аркан! — воскликнул один из наблюдавших.
Им было видно, как взвился на воздух ремень и охватил петлей тело передового зверя; он хотел ускользнуть, рванулся раз, другой, насколько это допускала длина аркана, но ремень с силой дернулся, и животное свалилось недвижимо.
Охотник вышел из-за вербы, поднял полузадохшееся животное и понес его на спине ко входу в ущелье. Спутник последовал за ним, тщательно затаптывая и заделывая следы.
Через несколько минут они вернулись к своим товарищам. С антилопы была содрана шкура, и, так как разложить костер все же было нельзя, добыча была съедена в сыром виде.
Ночь с четвертого на пятый день была лунная и очень свежая, а так как индейцы обыкновенно выходят лунными ночами, то осторожность требовала не снимать сторожевых постов и на ночь.
Ожидания их не обманули.
Около полуночи дежурившие разбудили товарищей. Вмиг все были на ногах и увидели толпу темных фигур, вырисовывавшихся на севере на фоне неба.
Напряженно разглядывали все неясные очертания… Быть может, это стадо бизонов? Но нет, вот блеснули лунные лучи на оружии, а там уже явственно различались и лошади, всадники… Сомнения нет, это индейцы!
— Товарищи! — закричал вдруг в ужасе Сегэн. — Мы с ума сошли! Ведь лошади… наши лошади могут заржать — и это выдаст нас!
В то же мгновение он бросился вниз с холма, за ним спрыгнули все остальные и побежали в чащу, где были привязаны лошади.
Вбежав в лощину, каждый выхватил из-под седла свое одеяло, не проронив ни слова, — все без слов сами сообразили, что им надо было делать, — и они быстро закутали головы лошадей.
Глава 16
В ЗАПАДНЕ
Почувствовав себя в сравнительной безопасности, охотники успокоились и вернулись на свой наблюдательный пункт как раз в ту минуту, когда уже довольно явственно послышался клич индейцев и топот копыт. Через некоторое время они приблизились к ручью, остановились и начали поить лошадей. После этого один за другим, выскочив из воды, все проехали небольшое пространство по долине, соскочили с лошадей и начали расседлывать их.
Было очевидно, что индейцы намереваются отдохнуть здесь до утра. Они разместились, разбившись на два отдельных отряда. При бледном свете луны Рубэ удалось разглядеть по украшениям на копьях, что индейцы разделились поплеменно: апачи отдельно от навахо. Навахо были в заметном меньшинстве, и место их отдыха было дальше от засады белых, чем место апачей.
Охотникам со своего места было слышно, как индейцы рубили своими томагавками деревья в чаще у подошвы горы, и было видно, как они стаскивали дрова к своему лагерю, сгребали их в кучу и затем зажгли костер.
Вскоре в нескольких местах запылали огни, и при свете их отчетливо можно было видеть татуировку на лицах и обнаженной груди индейцев. Узоры и краски были очень разнообразны: то красные рисунки, как бы нарисованные кровью, то глубоко-черные. У некоторых дикарей одна часть лица была черная, другая разрисована красным или белым. Другие были раскрашены пятнами, как легавые собаки, у третьих были наведены правильные цветные полосы то вдоль, то поперек тела или лица. У многих щеки и грудь были татуированы изображениями разных животных — волков, пантер, медведей, бизонов — и другими подобными фигурами. Некоторые носили на груди изображение красной руки или черепа с накрест сложенными костями под ним.
Эти уродливые и ужасные украшения не возбудили любопытства наблюдавших охотников, для большинства которых это зрелище и не представляло новизны. Но тем большее изумление вызвала с их стороны другая подробность: у большинства индейцев были блестящие, обитые медью, седла и военные каски со страусовыми перьями. Откуда они могли их добыть?
Один Сегэн знал это: они отобрали их у убитых ими кирасиров в Чихуахуа. За несколько лет до того те потерпели тяжкое поражение от индейцев.
Целых два часа наблюдали охотники каждое движение индейцев, пока совершенно не умолкли какие бы то ни было звуки в их лагере. Потухли огни, но при свете луны можно было различить распростертые тела дикарей. Между ними двигались белые фигуры. Это были их собаки, отыскивавшие всюду остатки пищи и начинавшие ворчать и оскаливать друг на друга зубы, когда одна хотела вырвать у другой лакомый кусок.
Но не одни собаки составляли стражу спящего лагеря: вдали в степи виднелись темные фигуры людей, расставленных на правильных промежутках друг от друга; это были сторожевые посты, надзиравшие за лошадьми.
Очень долго еще лежали охотники, не смыкая глаз, обдумывая на все лады свое собственное положение, начинавшее мало-помалу проясняться в голове каждого со всеми осложнениями, трудностями и опасностями, какими оно могло грозить.
Ведь вполне возможно, что индейцы вздумают остаться здесь, чтобы поохотиться; как быть тогда?.. Эта мысль как будто в одну минуту пришла всем в голову, и они озабоченно и тревожно переглянулись между собой.
— В этом нет ничего невероятного, — тихо и раздумчиво проговорил Сегэн. — По-видимому, у них нет запасов мяса при себе, — и не могут же они отправиться на юг без запасов. Тут ли или в каком-либо ином месте, но поохотиться и сделать запас им необходимо; отчего же и не здесь?
— Ну, тогда мы очутимся в славной западне, — проговорил один из охотников, обведя рукой вокруг и указав сначала на лощину, а потом на гору. — Как мы тогда выберемся, вот что я хотел бы знать!
Все невольно проследили за рукой говорившего, также мысленно охватывая свое положение.
Перед ущельем, в котором они находились, тянулась линия индейского лагеря на расстоянии не более ста шагов от скалы, высившейся вокруг входа в их засаду.
Стража индейцев расположилась еще ближе, но если бы даже она уснула, выбраться мимо нее было бы все равно невозможно без того, чтобы не встретить собак, бродивших во множестве вокруг лагеря.
Позади их отвесной громадой высилась гора — пытаться переходить через нее было явно и несомненно немыслимо. Да, они очутились в западне.
— Проклятие! — воскликнул один из охотников. — Мы погибнем от голода и жажды, если эта медно-красная шайка решит остановиться здесь для охоты.
— Мы можем погибнуть еще раньше, — заметил другой. — Достаточно, чтобы им пришло в голову взобраться сюда.
В этом не было ничего невозможного, хотя не было и большой вероятности. Ущелье представляло род глухого переулка, тупика, косо изгибавшегося в направлении горы и кончавшегося у подошвы утеса. Ничего в нем не было такого, что могло бы привлечь индейцев.
Да, но собаки! Возможность этой опасности была очевидна, но не было никакого способа предотвратить ее. Достаточно простой случайности, которая привела бы в ущелье одну или несколько собак, — например, в поисках пищи, — и охотники почти несомненно погибли.
— Если только они нас не откроют, — сказал, приободрясь, Сегэн, стараясь своим настроением повлиять на людей, — то два-три дня мы все же как-нибудь можем прожить орехами. Когда они выйдут, придется заколоть одну из наших лошадей. Много ли у нас воды?
— К счастью, вся посуда почти полна, — сказал ловец антилопы.
— Но наши бедные животные как исстрадаются! — заметил озабоченный судьбой своего Моро Галлер.
— Жажда не угрожает ни нам, ни животным, — ответил ему успокоительно Эль Соль, взглянув на землю, — до тех пор, пока у нас есть вот это.
И он ткнул ногой в проросшую в скале круглую массу; это была съедобная разновидность кактуса.
— А их тут сотни, смотрите!
Все они знали, как этот плод спасает жизнь в затруднительных случаях, но раньше их не заметили; теперь же смотрели на них с чувством успокоения и удовлетворения.
— Товарищи, — сказал Сегэн, — нам неблагоразумно утомлять себя. Кто может уснуть, пусть спит; достаточно бодрствовать двоим — один останется у входа в ущелье, а другой здесь наверху. Подите вы вниз, Санчес.
Бывший охотник на диких быков молча ушел и расположился на указанном посту. Спустились вниз и другие, но только затем, чтобы посмотреть, хорошо ли запутаны лошади; потом они вернулись на гору, завернулись в одеяла и проспали весь остаток ночи.
Когда чуть забрезжил рассвет и над прерией на востоке обозначились первые светлые полосы, все три лагеря проснулись и зашевелились. Но голоса дикарей раздавались громко и свободно, и высокие, рослые фигуры сынов пустыни бодро и непринужденно двигались по равнине, — тогда как в лагере белых все шепотом коротко поздоровались между собой и поспешили, с мучительной тревогой в душе, занять снова свои наблюдательные посты.
Уже через несколько минут у них не оставалось сомнений насчет ожидавшей их участи. Индейцы снова тащили нарубленные дрова и разводили костры… Было ясно, что они намереваются остаться на своем месте.
— Да, мы очутились в западне, это несомненно. Интересно было бы только знать, надолго ли мы тут застрянем?
— По крайней мере, на три дня, а может быть, и на четыре, и на пять.
— Почему вы думаете, что так долго? Весь запас мяса, какой им нужен, они отлично могут сделать и в один день. Бизонов там много, вот посмотрите, — продолжал оптимистически настроенный охотник, указывая на темную массу, очертания которой прояснялись на светлеющем небе. — Это стадо бизонов.
— Это-то верно, настрелять они могут, конечно, успеть и в день, сколько нужно. Но как же они могут успеть провялить или высушить мясо скорее, чем в три дня, вот что вы мне скажите?
— Это правда, — отозвался один мексиканец, — по крайней мере, три дня нужно для этого, и то, если солнце будет сиять непрерывно; а иначе это может отнять и четыре, и пять дней.
Разговор этот шел между тремя охотниками шепотом, но довольно явственно, так что его могли слышать все.
Об этом еще до сих пор никто не подумал. А между тем, если индейцы действительно останутся на столько времени, чтобы успеть провялить мясо, то охотникам угрожает величайшая опасность — изнемочь от жажды и быть замеченными в своей засаде.
Перспектива ужасная. Надо было быть готовым и к смерти, и к страшным мучениям жажды.
Голода можно было и не бояться, так как лошадей у них было много и ножей за поясами довольно. В крайнем случае конина могла бы их прокормить даже в течение нескольких недель. Но хватит ли плодов кактуса для утоления жажды людей и животных в течение трех, четырех дней?
Тем временем совсем рассвело; индейцы вскочили, и большая часть их тотчас выдернула колья, к которым были привязаны лошади, чтобы повести их на водопой. Затем они принялись седлать лошадей, вскочили в седла, схватили оружие и приготовились умчаться на бодрых конях.
Раздалась команда предводителя, и дикари бросились галопом, описывая круг в восточном и западном направлениях. По истечении приблизительно двух часов они загнали буйволов и, действуя только луком и копьями среди метавшегося в испуге стада, овладели достаточной добычей.
Тогда они медленным шагом вернулись в лагерь небольшими разрозненными отрядами, причем нагрузили каждый свою лошадь добытым мясом; приехав, они сбросили наземь свою кладь и предоставили дальнейшую работу оставшимся и отдохнувшим товарищам, сами же занялись жаркой для себя больших кусков великолепного мяса.
В лагере поднялись веселая суета, оживленный шум и говор.
Довольно многочисленная часть индейского отряда, не участвовавшая в охоте, также не оставалась тем временем праздной. К ужасу охотников, следивших за всеми приготовлениями, насчет их намерений не оставалось никаких сомнений: индейцы рубили молодые деревья, обтесывали их и врывали в землю, протягивая между кольями веревки для развешивания мяса. Ко времени возвращения товарищей у них уже все было готово.
Когда была принесена добыча, они тотчас же живо принялись за дело, разрезали мясо на длинные, узкие полосы и развесили их по протянутым веревкам, где они должны были сушиться на солнце.
Можно представить себе чувство, с которым смотрели на это белые охотники. Враг пользовался обильной, даже роскошной пищей, тогда как у них и видов не было на достаточную пищу, разве только если пожертвовать своими верховыми лошадьми, совершенно необходимыми в пустыне. Положение было нестерпимое. Но такие люди, как те, что составляли отряд Сегэна, отчаянию не предаются, пока еще существует хоть тень надежды.
— Пойдем, друзья, — сказал оживленным тоном Гарей, — отыщем себе орешков и успокоим наши желудки.
Большинство последовало за ним и отправилось разыскивать орехи; но, к ужасу своему, им пришлось убедиться, что драгоценных плодов было очень немного; и на земле, и на деревьях их невозможно было собрать столько, чтобы их хватило на двухдневное пропитание.
— Ничего не поделаешь, — воскликнул один, — нам придется приняться за своих коней!
— Может быть, и придется, — хмуро ответил ему другой, — но для этого еще время впереди. Пока-то еще каждый из нас может затянуть потуже свой пояс.
Воду поделили, налив каждому по маленькому кубку. В посуде еще оставалось немного воды, но бедные лошади томились жаждой.
— Позаботимся о лошадях, — сказал Сегэн, вытащив свой нож и начав срезать один из плодов кактуса. Все остальные тотчас последовали его примеру.
Когда плоды были очищены от кожуры и колючек и взрезаны, из них потекла прохладная клейкая жидкость, и истомленные животные стали жадно перемалывать зубами протянутый им сочный корм. Он был для них одновременно и пищей, и питьем.
В таких занятиях и заботах прошел первый, за ним второй и третий день. К вечеру второго дня мясо, заготовлявшееся индейцами, уже сильно потемнело и покоробилось, а теперь, после полудня третьего дня, оно уже было почти черно и, следовательно, благодаря палящему солнцу, было совсем готово для укладки.
Отправятся ли наконец индейцы?
Затуманенными глазами наблюдали изголодавшиеся охотники — они все еще не могли решиться заколоть какую-нибудь лошадь — за каждым движением своего врага. Если индейцы останутся в лагере еще и на эту ночь, судьба одной из лошадей должна будет решиться: голод слишком ужасно терзал внутренности, и дальше не было сил терпеть…
Но нет! Спустя немного времени они увидели отрадный признак. Индейцы уселись вокруг костров и занялись возобновлением рисунков на теле и лице. Охотники знали, что это значит. Прошел еще час, в лагере началось необычайное движение; было ясно, что последовал приказ собираться в путь.
— Чудо, чудо! Смотрите, смотрите! — взволнованно и радостно зашептали охотники друг другу, едва заметили сборы. — Снимаются! Слава Богу! Уходят!
Они не ошиблись. Им было видно, как индейцы снимали с веревок мясо и увязывали его. Затем каждый побежал к своей лошади, выдернул кол, привел коня, потом набрал воды, оседлал и повесил над седлом тюк с мясом. Потом собрали оружие и вскочили в седла.
Еще минута — все стали в известном порядке и потянулись длинным рядом на юг.
Прежде тронулся большой отряд, потом, тем же путем, за ним последовал меньший… Но нет! Что это? Он сворачивает?.. Навахо вдруг подались влево и направились на восток, через прерию — прямо на «Коровье око».
Глава 17
ДАКОМА, ВОЖДЬ НАВАХО
Первым побуждением охотников, почувствовавших себя наконец свободными, было побежать вниз к ручью и утолить жажду, а затем и голод. Они собирались наброситься на полуобглоданные кости буйволового мяса, валявшиеся во множестве по степи. Но более опытные из них удержали остальных от такой неосторожности.
— Подождите, пока они совсем уйдут, — сказал старый Рубэ, — через несколько минут они скроются из наших глаз.
Как ни велико было всеобщее нетерпение, охотники последовали этому совету. Чтобы время прошло незаметно, они спустились в чащу и там занялись приготовлениями к отъезду: сняли с лошадей одеяла, в которых они чуть не ослепли и не задохнулись, и оседлали их.
Бедные животные как будто понимали, что их освобождение близко. Пока некоторые были заняты лошадьми, стража оставалась на вершине холма для наблюдения за обоими отрядами и для оповещения своих товарищей, когда головы индейцев скроются за горизонтом степи.
— Хотелось бы мне знать, зачем навахо отправились по пути на «Коровье око»? — заметил несколько озабоченно Сегэн. — Хорошо, что наши товарищи не остались там.
— Да, они могут благодарить Пресвятую Деву еще и за то, что не были с нами, — отозвался Санчес. — Посмотрите, до чего я исхудал, черт возьми! Совсем скелетом стал!
В эту минуту стража подала сверху условный сигнал, и в одно мгновение все опрометью бросились к ручью, с такой стремительностью, которая лучше всего свидетельствовала о том, какие ужасные, мучительные лишения испытали бедняги. Но, утолив вдоволь жажду, они еще сильнее почувствовали острый голод и почти все бросились к месту покинутого лагеря, чтобы найти что-нибудь для еды.
Их уже опередили, как оказалось, другие претенденты на эти остатки богатого пиршества: по степи бродили, подбирая кости, голодные степные волки. Но голод охотников был слишком чувствителен, чтобы это их остановило; криками они разогнали волков, а когда один огромный хищник не пожелал отдать добровольно большой кусок, который заметил еще издали своим острым взглядом Эль Соль и предназначал его для себя и для своей сестры, а воспротивился, рыча и скаля зубы, то Эль Соль пустил в него стрелу, так что животное тотчас грохнулось оземь и светлая шкура его окрасилась красной кровью. Остальных непрошеных гостей разогнали градом камней и очистили место для себя.
Едва охотники успели утолить первый голод необыкновенно аппетитными, хотя и вывалявшимися в пыли остатками мяса, как чье-то возбужденное восклицание заставило всех обернуться на голос товарища.
— Проклятие! Посмотрите-ка, товарищи! Посмотрите на этот лук!
Мексиканец, выкрикнувший эти слова, указывал ногой на лежавший на земле предмет. Все поспешили подойти к нему взглянуть, что встревожило товарища.
— Вот неприятная находка! — заговорил он, когда все подошли, — видите, белый лук!
— Белый, правда, клянусь Богом! — воскликнул Гарей.
— Белый! Белый! — воскликнули и другие, изумленно и озабоченно рассматривая лежавший предмет.
— Несомненно, он принадлежал какому-нибудь видному члену неприятельского отряда, — сказал Гарей.
— Не только это несомненно, — прибавил старый Рубэ, — но также и то, что он вернется, чтобы отыскать его, едва…
— Стой! Посмотрите туда — едет!
Все повернулись по указанному направлению. Вдоль степи на восток на горизонте блеснул, словно метеор или замерцавшая звезда, какой-то предмет.
Звездой это быть не могло, так как солнце еще высоко стояло на небе; да раздумывать никто и не собирался — все уже по первому взгляду поняли, что это была каска, блестевшая под солнечными лучами, когда всадник то подымался, то опускался, подвигаясь мерным галопом.
— Поближе к вербам, товарищи, к вербам! — закричал Сегэн. — Бросьте лук! Оставьте его там, где он лежал! Уведите коней! Живо оттуда прочь! Нагнитесь, нагнитесь!
Все охотники кинулись к лошадям, схватили их под уздцы и повели, вернее, потащили их в чащу верб. Затем они быстро вскочили на седла, чтобы быть наготове на всякий случай, и начали всматриваться сквозь скрывавшую их листву.
— Должны ли мы стрелять, капитан, когда он подъедет? — спросил Санчес.
— Мы можем ловко поддеть его, когда он нагнется, чтобы поднять лук, — прибавил один из мексиканцев.
— Не делайте этого, если вам жизнь дорога! — предостерег их Сегэн. — Пусть он подымет лук и поедет своей дорогой.
— Почему так, капитан?
— Как вы не понимаете, глупцы, что тогда все племя бросится по нашим следам сегодня же, еще до наступления полуночи? Отпустите его беспрепятственно, говорю я вам; быть может, он не заметит наших следов, так как лошади наши не подкованы.
— А как быть, капитан, если он посмотрит вон на то? Старый Рубэ указал при этих словах на одно место на равнине; он один заметил случайно, в какую цель попала некоторое время назад стрела Эль Соля.
Эль Соль выступил вперед и рассказал о своем поступке в виде извинения и в то же время тоном сожаления,
Труп зверя лежал неподалеку от того места, где остался забытый лук, и при этом белое, окровавленное тело его так резко выделялось на фоне окружающей зелени, что не заметить его не мог ничей глаз, тем более глаз индейца.
— Он, несомненно, заметит его, капитан, — прибавил старый охотник.
— Это меняет дело, — сказал Сегэн, снова вполне овладев собой, и поспешил пожать руку Эль Солю, как бы без слов подтверждая, что последствий его поступка тогда, конечно, предвидеть было нельзя.
— В таком случае нам, разумеется, не остается ничего другого, как встретить забывчивого воина копьем, арканом или взять его живым. Стрелять безусловно нельзя: его товарищи могут расслышать выстрел и очутиться у нас в тылу еще раньше, чем мы успеем добраться до горы. Нет, оружие закиньте за спину: только те, у кого есть копья или арканы, пусть держат их наготове.
— Когда же нам напасть на него, капитан?
— Предоставьте это мне. Возможно, что он слезет с лошади, чтобы поискать на земле; а если нет, то, быть может, проедет к ручью, чтобы напоить лошадь; тут нам можно будет окружить его. Если он тотчас заметит волка, то, быть может, подойдет близко к нему, чтобы внимательно осмотреть его. В таком случае нам нетрудно будет овладеть им. Будьте терпеливы, когда нужно будет, я подам вам сигнал.
Тем временем навахо подъезжал все ближе тем же ровным и мерным галопом. Вскоре он оказался уже шагах в пятистах от ручья и все же продолжал подвигаться вперед, не умеряя аллюра коня. В совершенном безмолвии, затаив дыхание, охотники приковали взгляды к нему и к его лошади.
Зрелище было необычайно красиво. Конь был крупный мустанг с пламенными глазами и красными, широко раздувающимися ноздрями. У рта его была пена, и белыми же пятнами ее были покрыты шея, грудь и плечи. У всадника была обнажена вся верхняя половина тела от пояса и до развевающихся перьев на каске, и только на шее и на предплечье блестело несколько украшений. Бедра его покрывала яркая цветная вышитая ткань, на ногах — мягкая оленья кожа и изящные мокасины.
Видно было, что он не принадлежал к апачам, так как на теле его не было никаких рисунков, а красновато-коричневое лицо сверкало здоровым естественным цветом. Благородные черты его лица имели воинственный характер, глаза смотрели смело и проницательно, по плечам развевались длинные черные волосы. Под ним было испанское седло. В правой руке его было продетое в стремя копье, через левую шел ремень белого щита, а через плечо висел колчан со стрелами; виден был и другой, меньший, чем забытый им в долине, лук.
Великолепную картину представлял собой этот всадник со своей лошадью, несшейся по степи, словно они были одно существо. Всадник походил скорее на героя древности, чем на дикаря Далекого Запада.
— Вот так мчится, черт возьми! — тихо воскликнул один охотник. — Каска сверкает, как молния!
— Да, — пробормотал Рубэ, — этой каске мы многим обязаны! Мы очутились бы в таком же скверном положении, как он теперь, если бы не заметили своевременно эту блестящую штучку… — Рубэ вдруг смолк, тщательно всматриваясь в индейца. — Эге, — воскликнул он с сильным возбуждением, — да ведь это Дакома! Клянусь, это Дакома, второй предводитель навахо!
Галлер оглянулся на Сегэна, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут на него эти слова. В эту минуту Эль Соль нагнулся к Сегэну и шепнул ему несколько слов на непонятном Галлеру языке, сопровождая их энергичными движениями. Галлер разобрал одно только слово «Дакома», при котором на лице предводителя марикопов появилось выражение бешеной ненависти, — и с тем же выражением он указал Сегэну на приближающегося всадника.
— Ну, — ответил ему Сегэн, как бы желая выразить согласие на слова Эль Соля, — он от нас не ускользнет, безразлично, откроет ли он нас или нет. Только стрелять не надо: его спутники еще не отъехали и десяти миль. Нам нетрудно будет его окружить и изловить. Но если бы это не удалось, я смогу догнать его на своей лошади, а вот и другая, еще быстрее моей.
При этих словах Сегэн указал рукой на Моро. И тотчас же, понизив голос, прибавил:
— Тише! Ни звука!
Наступила гробовая тишина. Каждый плотнее сжал коленями лошадь, чтобы удержать ее неподвижно.
Индеец подъехал в эту минуту к началу прежнего лагеря и, склонившись слегка набок в седле, начал обводить глазами землю вокруг. Когда он уже был почти совсем напротив места засады охотников, он заметил предмет своих поисков, выскользнул из стремени и повел свою лошадь так, что она подошла вплотную к лежавшему на земле луку. Затем нагнулся, ни на волос не замедляя бег коня, так низко, что перья его каски касались земли, поднял лук и снова очутился в седле.
— Великолепно! — вырвалось восторженным шепотом у Санчеса.
— Право, было бы жалко убивать его, — пробормотал кто-то из охотников, и со всех сторон раздался тихий гул восторга.
Индеец хотел было тотчас же повернуть тем же галопом назад, как вдруг ему бросилось в глаза окровавленное тело белого волка. Он сильно рванул за поводья, так что лошадь почти осела, и с выражением недоумения и озабоченности начал рассматривать труп.
— Великолепно, — воскликнул снова Санчес. — Бесподобный наездник!
На несколько секунд лошадь и всадник замерли в этой позе; потом выражение лица всадника быстро изменилось, испытующим и слегка испуганным взглядом он оглянулся кругом и дольше остановил свой взгляд на мутной еще, загрязнившейся от копыт охотничьих лошадей воде.
Этого взгляда ему было довольно. Сильно натянув снова поводья, он быстро бросился назад в степь. В это мгновение Сегэн подал сигнал к нападению. Охотники дали шпоры коням и бросились плотной массой вперед из-за чащи верб.
Надо было перескочить через ручей. Сегэн был несколько впереди. Вдруг его лошадь неожиданно споткнулась, поскользнулась с берега и упала вместе с всадником в воду. Остальные промчались мимо него. Не остановился и Галлер и даже не обернулся: он знал, что поимка индейца была вопросом жизни и смерти для всех. Вонзив глубоко шпоры в бока коня и возбудив его этим до крайности, он помчался стрелой.
Некоторое время охотники неслись плотной кучей. Когда они выехали в долину, они видели, что индеец находится от них на расстоянии футов восьмидесяти; но, подвигаясь все больше вперед, они с ужасом замечали, что расстояние это все не уменьшается или даже еще увеличивается.
Они совершенно забыли, в каком состоянии должны были быть их лошади: обессиленные от голода, застоявшиеся от долгой неподвижности в ущелье, они вдобавок только что напились не в меру жадно.
Но Галлер, несмотря на это, убедился вскоре, что он опережает своих спутников; сказывалась исключительная быстрота бега Моро.
Несколько дальше его ускакал вперед один только Эль Соль. Галлер видел, как он взял в руки аркан, забросил его, но вдруг приостановился. Петля скользнула по задним ногам летящего мустанга. Эль Соль промахнулся.
Когда Галлер промчался мимо него, он заметил, что Эль Соль снова вяжет петлю с выражением досады и разочарования на лице.
Арабская кровь Моро вскипела — он далеко оставил остальных за собой. Галлер чувствовал, что скоро догонит индейца; меньше чем в четверть часа расстояние между ними оказалось шагов в двадцать. Удача близка, но как ему повести себя, Галлер не знал хорошенько.
К ружью он не решался прибегнуть, он помнил предостережение Сегэна и понимал, что ему необходимо повиноваться. Оставался, следовательно, только нож или еще ружейный приклад. То и другое было очень несовершенным оружием перед таким врагом.
Но прежде чем Галлер успел решить, какому из них все же отдать предпочтение, предводитель навахо, бросив беглый взгляд через плечо и увидев, что преследовавший его был один, стремительно обернулся, ударил Галлера копьем и снова ускакал. Лошадью своей он управлял, казалось, даже без помощи поводьев; она привыкла повиноваться только голосу и прикосновению хозяина.
Неожиданность была так велика, что Галлер едва успел поднять ружье и отразить удар, направленный ему прямо в грудь; но все же совсем отклонить его не удалось: конец копья задел и ранил его в руку. Вдобавок толчком ружье было выбито у него из рук.
Рана, потрясение и сознание потери ружья несколько лишили Галлера самообладания и помешали ему направлять как следует коня; вследствие этого прошло время, прежде чем он снова вполне овладел поводьями и мог повернуть лошадь.
Противник же действовал быстрее, и Галлер вскоре почувствовал, что сквозь его волосы, над правым ухом, просвистела стрела. Когда ему снова удалось поскакать навстречу индейцу, тот выпустил еще одну стрелу, и через мгновение она вонзилась в руку Галлера.
В страстном возбуждении, разгоряченный до последнего предела, Галлер забыл обо всех дурных последствиях, обо всем на свете и сознавал только одно, что единственную возможность спасти жизнь ему мог дать только меткий выстрел. Он выхватил пистолет, поднял его и помчался стрелою вперед.
В то же самое мгновение индеец уронил свою стрелу, направил копье и, дав шпоры коню, поскакал навстречу врагу.
Бешеным галопом неслись оба друг на друга… Вот Галлер прицелился, спустил курок, выстрела не было — осечка!
Перед глазами Галлера блеснуло острие копья… вот-вот оно коснется груди! В ту же секунду что-то метнулось у самого лица Галлера, просвистело у его уха… Это была петля аркана.
Он видел, что петля опустилась через голову индейца, охватив плечи до самых локтей, видел, как она затянулась на нем… Раздался дикий, пронзительный крик, индеец покачнулся всем телом, копье выпало у него из рук, и через секунду предводитель навахо, выбитый из седла, беспомощно распростерся на земле.
Рассвирепевший мустанг бросился на Моро так, что сшиб его с ног и повалился сам, — и всадники, и лошади барахтались на земле.
Когда Галлер опомнился от всего разыгравшегося с такой быстротой, он увидел Эль Соля, стоявшего с занесенным ножом над безоружным связанным индейцем; лицо его выражало смешанное чувство ненависти и торжества.
В эту минуту примчалась сестра Эль Соля, спрыгнула с лошади и быстро подбежала к группе.
— Смотри, — сказал ей брат, указывая на лежавшего навахо, — вот он, убийца нашей матери!
С коротким и резким криком девушка выхватила нож и бросилась на пленника.
— Нет, Луна! — воскликнул Эль Соль, отстранив ее, — нет! Мы не разбойники! Что бы это была за месть? Нет, пусть он еще поживет. Мы его живым покажем нашим соплеменникам. Пусть наши жены попляшут над великим предводителем и воином, схваченным без единой раны!
Эль Соль произнес эти слова презрительным тоном, глядя в упор на поверженного врага. Индеец весь задрожал.
— Собака! — закричал он, делая отчаянные попытки освободиться, с горящими яростью и злобой глазами. — Марикопская собака, связавшаяся с бледнолицыми разбойниками! Будь проклят!
— А! — прошипел Эль Соль. — Ты, значит, узнал меня, Дакома? Очень рад!
В это время к месту битвы подоспело еще несколько охотников, поспешно кинувшихся, чтобы покрепче связать врага и совсем обезвредить его.
Подъехал и Сегэн и, мельком взглянув на пленника, бросился прежде всего к Галлеру.
— Боже мой, вы ранены! — воскликнул он озабоченно и тревожно. — Дайте-ка мне осмотреть вашу рану. Пробита только мякоть? О, тогда вы очень счастливо отделались, мистер Галлер! Если только… если только стрела… не отравлена! Я боюсь… Эль Соль, подите скорее сюда, мой друг! Посмотрите, не было ли отравлено острие?
— Прежде всего надо скорее вытащить ее, — сказал, быстро приблизившись, Эль Соль, — с этим медлить нельзя.
Стрела глубоко вонзилась в мышцы руки, пробив ее насквозь. Искусной и опытной рукой Эль Соль очистил от перьев противоположный конец ее и осторожно вытащил ее из раны.
— Не останавливайте кровь, пока я не исследую стрелу. Она не похожа на боевую стрелу, скорее на охотничью; но надо поближе исследовать; навахо употребляют очень хитрые яды. К счастью, я располагаю средствами обнаружить всякий яд, а также и противоядиями.
Говоря это, Эль Соль вынул из своей сумки комочек грубой ваты, вытер ею кровь с острия, затем вынул флакончик с какой-то жидкостью и налил из нее несколько капель на острие.
Во все это время Сегэн сильно волновался, тревожно и нетерпеливо ожидая результата.
— Ну, сударь, — сказал наконец Эль Соль, — вы отделались на этот раз очень счастливо! Наверное, у врага были и боевые стрелы в колчане, а те отнюдь не так безвредны. Но, к вашему счастью, он второпях выхватил охотничью стрелу.
Вздохнувший с облегчением Галлер безмолвно указал на другую стрелу, которая прежде пролетела сквозь его волосы над ухом и теперь валялась невдалеке на земле. Эль Соль подошел и поднял ее.
— Посмотрим, — сказал он, приступая к такому же исследованию. — Вот видите, я был прав! — воскликнул он через несколько секунд. — Посмотрите, как позеленело острие. Возблагодарите ваших святых за то, что не эта попала вам в руку, иначе понадобились бы соединенные усилия доктора и мои, все наши познания и наше искусство, чтобы спасти вас.
Искусные руки доктора быстро справились с перевязкой легкой раны Галлера; так же быстро уложен был на мула и привязан знатный пленник, и все направились обратно к ручью для серьезного совещания, необходимость которого была вызвана последними событиями.
Как только они прибыли на место своей прежней засады, одного из охотников отрядили на вершину скалы: он должен был поднять тревогу в случае, если бы разглядел приближающихся индейцев. Остальные сошли с лошадей и расположились вокруг своего предводителя.
Глава 18
ХИТРОСТЬ БЕЗУХОГО
Сегэн заговорил не сразу. Молча и сосредоточенно обдумывал он план дальнейшего поведения, и никто из охотников не решался прервать его размышления.
— Товарищи! — начал он наконец. — То, что мы сделали, может иметь для нас роковые последствия. Но что делать? Избегнуть этого было нельзя. Теперь нам остается изменить наши планы. Индейцы этого так не оставят; они, несомненно, вернутся на поиски нашего пленника и не бросят поисков, хотя бы им из-за этого пришлось пройти обратно весь путь, до самой своей родины. Что же тогда с нами будет? Наши сидят теперь, укрывшись в Мескитских горах; они не могут ни сюда прийти, к Пиннонским горам, ни уйти какой-либо военной тропой, так как следы их были бы непременно обнаружены.
— Почему же нам не отправиться туда к ним и затем не пойти через старые рудники? Таким образом мы не попадем на военную тропу, — предложил канадец Годэ.
— Нет, это не годится, — возразил один мексиканец. — Дорога через старые рудники так далеко отсюда, что мы непременно наткнемся на навахо, которые к тому времени придут в свой город. Ну, а что из этого может выйти, это всем нам ясно: немногие из нас уцелеют.
— Почему же мы непременно на них наткнемся? — угрюмо возразил Годэ. — Когда они убедятся, что их предводитель не возвращался в город, они ведь там не останутся, а мы можем снова переждать их отъезд.
— Конечно, они там не останутся, — сказал Сегэн. — Но они вернутся несомненно по военной дороге. Я хорошо знаю местность вокруг рудников; там совсем нет дичи, у нас не будет провизии, так что эта дорога для нас невозможна.
После непродолжительной паузы он произнес раздумчиво и мрачно:
— Итак, у нас нет другого исхода, как отправиться все же военной тропой до Приэто. Будь что будет! Или же мы должны совсем отказаться от своего предприятия.
Сегэн снова умолк и обвел вопросительным взглядом всех товарищей, как бы желая спросить без слов, не предложит ли кто-нибудь иной план. При этом взгляд его упал на старого Рубэ, сидевшего на траве и проводившего для развлечения своим огромным ножом крестообразные борозды по земле. Тут только вспомнил Сегэн, что старый зверолов еще ни словом не вмешался в общее совещание, и с возгоревшейся надеждой на необыкновенный опыт старика обратился к нему:
— Нуте-ка, Рубэ, не предложите ли вы нам какой-нибудь возможный выход? Я сознаюсь, что ничего придумать не могу.
При словах Сегэна глаза всех обратились на старика. Не без некоторого тщеславного удовольствия — вполне, впрочем, законного — старик тотчас заговорил, как будто только и ждал этого обращения к нему.
— Что ж, капитан, я выскажу свою мысль. Хороша ли они, нет ли, но если вы ее примете, — в течение следующей недели нас не выследит ни одна собака, ни из апачей, ни из навахо. Отрежьте мне уши, если я ошибаюсь!
Эта шутка была одной из излюбленных острот старика, и все засмеялись. Сам Сегэн не мог удержаться от улыбки, предлагая Рубэ продолжать.
— Во-первых, — заговорил Рубэ, — они отправятся на поиски нашего пленника не ранее как через два дня, потому что он у них только второй предводитель, и они без труда могут справиться и без него. Но они не придут еще и через два дня — вот почему. Индеец забыл свой белый лук. Мы все тут знаем, что в глазах дикарей это — большой позор. Ввиду этого я твердо уверен, что он запретил своим следовать за собой из боязни, чтобы кто-нибудь из них не узнал, куда и зачем он отправился. Если бы ему было все равно, узнают ли они это или нет, ему незачем было бы утруждаться самому, он послал бы кого-нибудь другого. Так представляется мне дело, капитан.
— И возможно, что вы правы, — ответил Сегэн. — Продолжайте, Рубэ.
— Но я отнюдь не думаю, что они могут так-таки совсем оставить мысль о своем предводителе. Напротив, я совершенно уверен, что, по крайней мере, половина его племени отправится разыскивать его. Но пока они придут для водопоя вот сюда, к Пиннонскому ключу, пройдет, наверное, полных три дня, а может быть, и все четыре.
— Но уже на следующий день они нападут на наши следы?
— Не нападут, — уверенно сказал Рубэ.
— Как же мы можем помешать этому? — спросил изумленный Сегэн.
— Да так, что наведем их на другой след. Видите вы там колчан за спиною навахо?
— Да, да! — раздалось несколько голосов.
— И он, надо полагать, наполнен стрелами?
— Конечно, конечно, дальше!
— Ну вот, кто-нибудь из нас сядет на мустанга индейца и поедет на военную дорогу, по которой отправились апачи. Там он воткнет стрелы в землю остриями на юг, и если навахо, послушные этому указанию, не отправятся по этой дороге, пока не догонят апачей, и тогда только узнают свою ошибку, то назовите старого Рубэ дураком!
— Да, да, это верно! — воскликнул Сегэн. — Это направит их по ложному следу!
— Браво! Он прав! Он прав! Ура, старый Рубэ! — хором загудела толпа.
— Они не станут раздумывать над тем, зачем он вздумал следовать по пути апачей, им будет довольно того, что они узнают его стрелы.
— А затем еще вот что, — сказал он после небольшого раздумья. — Нашим товарищам из оставшегося отряда вовсе нет надобности приходить сюда, к Пиннонскому ключу. Они могут пройти стороной от военных дорог по пути на Джилу и присоединиться к нам по ту сторону горы, местами, изобилующими бизонами. Нам туда необходимо отправиться во всяком случае потому, что по эту сторону горы у нас нет никакой надежды натолкнуться на бизонов с тех пор, как их спугнули индейцы.
— Я совершенно согласен с вами во всем, — сказал Сегэн. — Возьмитесь сейчас же за дело, не теряя времени. До захода солнца у нас остается еще два часа. За что бы вы хотели взяться прежде всего, Рубэ? Вы предложили весь план, и я охотно готов положиться на вас в деле его осуществления.
— По моему мнению, капитан, надо прежде всего послать человека — такого, который мог бы хорошенько скакать, — к оставшимся нашим товарищам, чтобы рассказать им все и вывести их на дорогу.
— Какой же дорогой направить их?
— Милях в двадцати отсюда к северу есть сухой и каменистый горный хребет; если они пройдут по хребту, то не оставят за собой заметных следов.
— Сейчас пошлю. Санчес, поезжайте вы: у вас хорошая лошадь, и вы хорошо знаете дорогу. До того места, где укрылись наши товарищи, не более двадцати миль. Переправьте их по горному хребту и будьте осторожны во всем. Если вы будете ехать всю ночь, то к утру можете успеть вернуться. Нас вы найдете по ту сторону северной вершины горы. Ну, с Богом!
Не произнеся ни слова, Санчес разыскал свою лошадь в степи, вскочил в седло и полным галопом помчался на северо-запад.
— Ну, Рубэ, теперь за стрелы. Как это устроить? — обратился Сегэн к старому зверолову.
— Если вы согласитесь предоставить это дело мне и Гарею, — ответил Рубэ, — то я смею думать, что мы так воткнем их, что введем в заблуждение всех индейцев в мире. Нам придется удалиться на расстояние приблизительно в четыре мили отсюда; но мы успеем вернуться к тому времени, когда вы наберете воды и притащите вот того волка. Его ведь надо убрать, а за неимением лучшего и он пригодится нам на ужин.
— Отлично. Все будет сделано. Возьмите стрелы.
— Четырех нам довольно, — сказал Рубэ, вынув из колчана четыре стрелы. — Билл! — крикнул он потом Гарею. — Захвати-ка свое, мое и еще одно одеяло, они нам понадобятся… Так. Теперь перекидывай ногу через спину навахского мустанга и поезжай по дороге апачей. Проедешь триста шагов — остановись. А мне дайте одно черное перо.
С этими словами Рубэ выдернул одно из страусовых перьев из каски индейца, вынул в то же время стрелу, укрепил перо на острие и воткнул его в один из прямых шестов, оставшихся среди покинутого индейцами лагеря. Стрела торчала так, что указывала на юг, на дорогу апачей, а перо так бросалось в глаза, что всякий приближающийся из степи должен был заметить этот сигнальный знак.
Когда все было сделано, Рубэ последовал за своим ускакавшим на мустанге товарищем пешком, причем старался держаться в стороне от военной дороги и ступал как можно легче и незаметнее. Точно отсчитав триста шагов, догнав Гарея, он воткнул вторую стрелу, также обращенную острием на юг, так, чтобы она могла быть видна с того места, где была воткнута первая.
Гарей поехал тем же порядком дальше по военной дороге, а Рубэ опять зашагал стороной от дороги по прерии параллельно товарищу. Проехав немного вперед, Гарей замедлил бег мустанга и потом совсем остановился.
Когда Рубэ подошел, он разостлал по земле все три одеяла в длину, в западном направлении. Гарей сошел с мустанга и повел его тихонько по одеялам. Так как ноги его помещались одновременно на двух одеялах, то каждый раз, когда он переходил с первого на второе, первое, заднее, поднималось и расстилалось впереди третьего, переднего, — и это повторялось до тех пор, пока они не вывели таким образом мустанга на полтораста шагов в глубь прерии.
Тогда Гарей поднял одеяла и медленно поехал назад, а Рубэ вернулся опять по следам и воткнул третью стрелу в том месте, откуда мустанг отклонился от дороги апачей.
Затем Рубэ прошел еще немного, держась все так же на юг; нужна была еще одна предосторожность для большей уверенности.
Пройдя около мили, он нагнулся, воткнул четвертую, последнюю, стрелу, потом перешел на тропинку, по которой шел его спутник, и последовал за ним. Дело было сделано, — хитрость была доведена до конца.
Сегэн решил оставить у ручья двух охотников. Лошади их должны были оставаться на скале, а воду они собирались черпать ведром, чтобы в ручье не оставалось свежих следов. Один из них должен был безотлучно находиться на вершине и наблюдать степь в зрительную трубу. Таким образом, если бы навахо вернулись, они могли заметить их своевременно и ускользнуть.
Потом оба должны были остановиться на условленном месте, в десяти милях от Пиннона на север, откуда они могли продолжать наблюдать происходящее в долине, и там оставаться, пока не убедятся, в каком именно направлении удалились индейцы, покинув Пиннонский ручей, — и тогда уже поспешить со своими вестями вперед, к товарищам.
Все эти распоряжения были отданы еще до возвращения Гарея и за ним Рубэ. Когда оба вернулись, охотники сели на коней, мула с привязанным к нему индейцем поместили в середину и поехали обходом к подошве Пиннонской горы. При приближении к горе они отыскали намеченную дорогу, скалистую и усеянную камнями, на которой копыта коней не оставляли никаких следов. Маленький отряд поехал на север по прямой линии, почти параллельно военной дороге.
Глава 19
МИРАЖ ПУСТЫНИ
Переход в двадцать миль привел небольшой отряд к тому месту, где он должен был дождаться, пока к нему присоединится большой отряд, укрывавшийся в Мескитских горах. Они расположились здесь лагерем, развели костер, изжарили жесткое и невкусное, но сдобренное голодом волчье мясо, — на всем пути, как и предсказывал Рубэ, им не встретилось никакой дичи, — поели его и улеглись спать.
Рано утром их разбудил приезд остального отряда охотников, скакавших всю ночь. Так как и у них провизии совсем не осталось, то предоставить утомленным лошадям длительный отдых нечего было и думать; через несколько часов оба соединившихся теперь отряда отправились через Сиеррский лес в надежде найти по другую его сторону дичь.
Эта надежда, по воле благосклонной судьбы, не обманула их. В тот же день им удалось найти путь по свежим следам бизонов, и они поохотились так же удачно, как недавно индейцы, — на зависть голодным охотникам, сидевшим в западне, — добыли много сочного бизоньего мяса. Нагрузив свою богатую добычу, они снова отправились в путь, к развалинам старой миссии, находившейся приблизительно в десяти милях от места охоты.
Развалин они достигли к вечеру, когда только что закатилось солнце, спугнули своим появлением сов и волков и решили расположиться лагерем среди обрушившихся стен бывшего местопребывания миссионеров.
Все чувствовали слабость и истощение от дней голодовки, и потому, едва поужинав и позаботившись о лошадях, они растянулись, положив в изголовье свои седла, и очень скоро уснули.
Так как ночь прошла спокойно, то утром можно было заняться нетрудной работой вяленья, или высушивания, мяса, которая потребовала трех дней.
Утром четвертого дня приехали двое охотников, остававшихся на Пинноне для наблюдения, и сообщили, что задуманная хитрость вполне удалась. На другой день, после того как отряд ушел и они остались вдвоем, навахо вернулись к ручью и, увидев сигналы с помощью стрел, действительно отправились по дороге на юг, вслед за ранее ушедшими апачами. Это было, по их наблюдениям, все племя Дакомы, в общем около трехсот человек.
Охотникам теперь ничего больше не оставалось, как собраться возможно быстрее и продолжать свой путь на север. Через час они были уже на конях и поехали к скалистому берегу Сан-Педро.
После целого дня пути они прибыли в пустынную долину Джилы и, переночевав здесь, пришли к вечеру следующего дня к устью реки Сан-Карло, где и нашли новый ночлег.
Сегэн решил проехать вверх по течению Сан-Карло миль на сто и потом повернуть на восток, в страну навахо.
Прошло еще несколько дней пути на север по стране, привлекавшей внимание путников странными, необычайными очертаниями гор, вершины которых высились то в форме круглых куполов, то в форме зубчатых венцов, иногда даже в форме остроконечных, как шпицы, башен. Местами попадались горы, похожие на колоссальные столы: колоннообразные скалистые глыбы, совсем прямые, поддерживали лежащие на них каменные плиты.
В этих причудливых горных очертаниях путникам чудилось что-то живое до такой степени, что они почти не чувствовали унылой пустыни, окружавшей их; а между тем они ехали теперь по пустыннейшей во всем мире стране, на которую никогда еще не ступала нога человека, обутая не в мокасины; это была страна племени иампариков, жалкой вырождающейся краснокожей народности, к которой остальные племена относились с величайшим презрением.
На четвертый день, покинув течение Джилы, охотники достигли одного места, в котором Сан-Карло прорыл себе ущелье сквозь высокую горную цепь. Здесь они переночевали.
Исследовав тщательно место утром следующего дня, они должны были убедиться, что продолжать путь по течению реки они могут не иначе, как перебравшись через огромную гору, — и Сегэн сообщил товарищам свое намерение: прервать путь по течению реки и направиться на восток.
Все выразили полное согласие; было решено только переждать полуденный зной у Сан-Карло и еще раз освежить лошадей в реке. После полудня оседлали коней и выступили в поход по долине.
На ночлег было решено не останавливаться, а ехать безостановочно вперед всю ночь и, если придется, следующий день — словом, до тех пор, пока они не достигнут воды, потому что без воды бесполезна и остановка: отдыха она не дала бы и сил не восстановила бы.
Не успели они немного проехать, как заметили, что перед ними расстилается страшная пустыня — огромное пространство, совершенно лишенное какой бы то ни было растительности — ни травки, ни деревца, ни воды. Далеко-далеко можно было разглядеть невысокую горную цепь, тянувшуюся с севера на юг, а за нею высилась громада другой цепи гор, величавые вершины которых были покрыты вечным снегом.
Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что у подошвы этой снеговой горной цепи должна быть вода, возможно даже, что там-то и текла пресловутая золотоносная река Приэто, которую искали охотники. Действительно, только «искали», потому что вся эта местность была совершенно не знакома никому из них; даже Рубэ не попадал сюда ни разу, ни в то время, когда его везли в плен, ни во время бегства от навахо.
Такие ожидания или хотя бы даже только надежды очень ободряли путников, но расстояние до тех гор было чудовищно огромно, и если им не посчастливится найти воду у ближайшей горной цепи, то их может ожидать печальная участь… Гибель от жажды угрожает им.
С крайним напряжением сил людей и лошадей ехали они безостановочно всю ночь и вскоре после восхода солнца достигли подошвы ближайшей, невысокой горной цепи. К крайнему своему смущению и огорчению, воды они не нашли. Горы представляли ряд голых, совершенно бесплодных скал, в недрах которых не таилось ни одной струи!
В одном месте горы оказался какой-то проход. После долгих и бесплодных поисков воды охотники решили отправиться через этот проход и в мрачном молчании ехали долго, утомленные, изнемогающие от жажды, удрученные. Но вот пройден проход. У выхода глазам путников представилось такое необычайное зрелище, что весь отряд внезапно и круто остановился, как будто по приказу.
Перед ними тянулась совершенно пустынная, тускло серевшая долина, заключенная, как в рамку, упомянутой снеговой цепью. На южной стороне этой горной цепи возвышались окопы и башни какого-то города, — и насколько можно было судить по его протяжению — большого, огромного города.
Залюбовавшиеся зрители явственно различали колонны храмов, ворота и заборы домов. Над крышами высилось множество башен, а над ними огромной высоты купола.
Охотники, совершенно не ожидавшие, не считавшие даже возможным встретить подобное явление в этой дикой пустыне, долго сидели недвижно на конях, охваченные странными чувствами.
Следует ли им ехать вперед? Не был ли этот колоссальный город тем самым навахским городом, к которому они стремились?
Рубэ решительно отрицал это… Но все равно! Что бы это ни было — небо или ад! воду им надо было добыть — они погибали от жажды!
И они помчались вперед.
Но едва отъехали на несколько шагов, как из всех грудей разом вырвался крик: глазам их представилась новая картина, картина, наполнившая их ужасом… Перед обращенными к ним воротами города появился целый отряд темных фигур… Какие-то всадники!
Охотники рванули поводья так, что лошади почти осели на задние ноги. Все линия вмиг остановилась, как один человек.
— Индейцы! — воскликнули многие.
— Да, это должны быть индейцы… — пробормотал Сегэн. — Кто же больше? Здесь ведь и нет больше никого…
— Но нет! — воскликнул он вдруг после минутной паузы. — Разве бывают такие индейцы! Посмотрите на их огромных коней… на колоссальные ружья… Да это великаны! Гиганты! О, да это… привидения!
Охотники, столпившиеся позади Сегэна и Галлера, ехавших во главе отряда, издавали восклицания ужаса.
Кто же это могли быть? Жители этого города? Но как поразительно громадны были и лошади, и всадники!..
Довольно долго лицо Галлера выражало такую же испуганную растерянность, как лица остальных; но вдруг его осенила какая-то мысль, от которой лицо его сразу посветлело. Он вспомнил о воздушных явлениях в великой африканской пустыне Сахаре, о которой много читал, — и тотчас же сообразил, что и это явление должно быть не что иное, как мираж — фата-моргана пустыни.
Чтобы довершить картину иллюзии, он поднял руку над своей головой — и стоявший впереди гигант тотчас точно повторил это движение. Он дал шпоры коню и поскакал галопом вперед — призрачный всадник сделал то же самое, как бы устремившись навстречу ему.
Охотники последовали за ним, еще не отдав себе отчета о смысле виденного.
Через несколько секунд они миновали угол преломления света — и из глаз исчезли с быстротою мысли и исполинские тени людей, и огромный город. Остались только очертания множества скалистых гор причудливых форм, пересекавших край долины.
Только к вечеру достигли они берега Приэто. Наконец, наконец! Люди и животные были полумертвы от жажды, истощившей их силы до самого последнего предела. И, как ни дорого было время, люди и животные нуждались в двухдневном отдыхе, чтобы хоть сколько-нибудь собраться с силами.
Глава 20
СТОЛИЦА НАВАХО
Задолго до рассвета третьего дня после приезда их к реке охотники снова уже сели на коней, перешли вплавь через глубокую, но не очень широкую реку и, достигнув берега, поехали на юго-запад. Понадобилось, однако, еще целых два дня пути в том же направлении, пока Рубэ заметил вдали горы, замыкавшие, по его мнению, столицу навахо, — и только к вечеру наступившего затем третьего дня очутились они у большого оврага, бывшего, по-видимому, руслом какого-нибудь притока Приэто, у самой подошвы горы.
Старый зверолов, принявший во время этого пути роль проводника и потому ехавший впереди, указал рукой на этот овраг.
— Что это, Рубэ? — спросил Сегэн.
— Видите этот овраг впереди?
— Вижу; что же это за овраг?
— За ним сейчас и город.
Необходимо было перебраться через горный хребет, ограничивавший овраг с юга, потому что у речного русла не видно было никакой тропинки, а под крохотными соснами явственно вилась дорога. Вслед за своим проводником отряд начал карабкаться на гору.
Карабкаясь целый час по головокружительной тропинке, шедшей по самому краю пропасти, они достигли наконец вершины горы и оглянулись на восток.
Перед ними лежала столица навахо… Достигнута наконец цель утомительного, трудного и опасного пути!
— Вот он, вот! Благодарение пресвятой деве! Вон там город… Ура! — радостно восклицали все наперебой.
— Боже мой, достигнуто наконец!.. — пробормотал Сегэн в глубоком волнении. — Слава Богу! Стой, товарищи, стой!
Охотники осадили лошадей, и все загляделись на развертывавшуюся перед ними великолепную панораму.
Они находились на западном краю долины, которая с возвышения была им видна во всю длину, и равнялась эта долина по протяжению, по-видимому, милям двадцати, ширина же составляла миль десять самое большее.
Ни один холм, ни один бугорок не нарушал ровной и гладкой площади, покрытой изумрудно-яркой зеленью; светлая линия перерезала ее на две неравные части — это были излучины прозрачной, как хрусталь, реки. На севере и на юге по восточной стороне долины тянулись, как будто прямо глядя друг на друга, две горных гряды, а в одном пункте можно было различить сосновый лес, откуда начиналась река.
Неподалеку от этого леса смутно виднелись по обоим берегам реки ряды странных зданий, то круглой, то остроконечной формы. Это были жилые дома; это была столица навахо, Навахойа.
С жадным любопытством устремились глаза охотников на эти дома; напрягая зрение, они различали очертания домов, хотя те и стояли на очень далеком расстоянии. Особенно бросилось им в глаза одно из зданий — оно было больше других и по виду похоже на храм.
На оградах и террасах этого здания Сегэну удалось разглядеть с помощью сильной зрительной трубы множество человеческих фигур и такую же большую толпу, движущуюся внизу по равнине. Некоторые погоняли стада животных — мулов и мустангов, по-видимому, с пастбищ домой; другие, вероятно, городская молодежь, забавлялись всевозможными играми в степи под открытым небом; некоторые плескались в реке.
Словом, картина развертывалась яркая, полная жизни, красоту и разнообразие которой еще увеличивали стаи диких гусей, лебедей и журавлей, носившиеся над берегом реки.
«Долго ли продлится мирный покой этого города? — подумал Галлер, больше других залюбовавшийся этой картиной жизни и труда. — Много ли дней пройдет, прежде чем покой и тишина будут нарушены грохотом разрушения и опустошения?..»
Сердца предводителя и многих охотников волновали при виде этой долины совсем другие чувства. Один думал о своей жене, другой о сестре, третьи жили, как Сегэн, надеждой найти за стенами тех строений давно потерянное любимое дитя…
По приказу Сегэна охотники отступили под деревья, и Сегэн открыл новое совещание. Вопрос предстоял огромной важности: каким образом лучше взять город?
Днем нельзя было приступить к атаке: жители заметили бы их раньше, чем они успели бы напасть, и так как мужчин в городе осталось слишком мало для защиты, как и предвидели, то жители бросились бы бежать в ближний лес. Тогда охотники упустили бы, конечно, главную цель предприятия.
Следовательно, атака должна была быть произведена ночью, — по крайней мере, другого выхода никто не видел; а между тем это представляло, конечно, очень существенные и серьезные неудобства, ввиду полного незнания города всеми нападающими.
Но изобретательный ум старого безухого зверолова нашел другой исход, и, ввиду его практичности, он был тотчас единодушно принят. План Рубэ состоял в том, чтобы успеть под покровом ночи окружить город, к самому же нападению приступить не ранее утра.
Таким образом, возможность бегства у жителей будет отнята, а охотники будут разыскивать своих близких между навахскими пленниками, не рискуя ошибиться, при свете дня, а не впотьмах, когда ошибки были бы так возможны. Ведь многие из несчастных томились в плену уже целые годы; родные не видели их столько лет, что могли не сразу узнать, так они изменились.
Порешив на этом, охотники разместились на земле, чтобы не быть замеченными случайно и сколько-нибудь отдохнуть, и, не выпуская поводьев из рук, ожидали, пока солнце зайдет.
Приблизительно через час яркое дневное светило скрылось за горизонтом, мрачные контуры деревьев на противоположной стороне приняли еще более мрачную окраску, и мало-помалу сумерки заволокли серыми тенями всю долину.
С последним исчезнувшим солнечным лучом охотники потянулись длинным рядом вниз по холму и, спустившись в долину, тихо и осторожно поехали по ней, только изредка осмеливаясь обмениваться вполголоса между собой двумя-тремя словами.
Приблизившись к городу на расстояние одной мили, охотники могли явственно различить огни, горящие на террасах домов, а порой даже отчетливо слышали громкие восклицания движущихся вокруг них людей.
На этом месте была сделана остановка, весь отряд был разделен на две части. Одна из них, меньшая, спряталась в засаде в прорытом у края речного берега глубоком овраге; эта часть состояла из нескольких человек, оставленных для надзора за взятым в плен предводителем Дакомой и за мулами.
Большой отряд с Рубэ во главе, который должен был указывать дорогу, направился по опушке леса, подвигаясь полукругом вперед и оставляя по пути то там, то сям по несколько человек, образуя таким образом засаду, пока не разместились все до последнего человека. Был отдан приказ всем размещенным частям оставаться безмолвно и, лежа на своих постах, ждать сигнала к нападению, который по условию рог должен протрубить при наступлении дня.
Медленно поползло время, час за часом. Городские огни мало-помалу потухали, и наконец всю долину покрыла своей тишиной темная безлунная ночь.
Через некоторое время все небо заволокли тяжелые темные тучи, предвещавшие грозу. В этих местах грозы — явление очень редкое, но зато когда они разражаются, то с необычайною, страшною силой. В безмолвной тишине притихшей и как бы насторожившейся природы раздался пронзительный крик лебедя; журавль с шумом пронесся над рекой — таковы были единственные звуки, нарушавшие время от времени глубокий полуночный покой.
Так прошла ночь. В долине забрезжил слабый сероватый свет, принесший с собой холодные струи сырого воздуха и этим разбудивший дремавших охотников.
Вздрагивая и поеживаясь от холода, охотники сбросили с себя одеяла, в которые были укутаны на ночь, и осмотрели оружие. Затем каждый вынул из своей походной сумки по куску вяленого мяса и быстро проглотил его.
Совершенно готовые, чтобы вскочить в седла, все стояли возле своих лошадей; но время еще не пришло.
В долине становилось все светлее; сизый туман, повисший за ночь на скалах и расползавшийся по долине, начал рассеиваться, испаряясь в воздухе.
Когда туман совсем рассеялся, охотники могли разглядеть хорошенько город, проследить глазами за очертаниями домов — и какие же странные здания оказались в нем!
Некоторые из них, самые большие, были построены в форме усеченной пирамиды и состояли из двух, иногда и из трех этажей. Каждый последующий этаж был меньше предыдущего, расположенного под ним, — таким образом, крыши нижних этажей служили верхним террасами, на которые всходили по приставным лестницам.
Окон нигде не было, но зато в глиняной стене каждого этажа видно было по дверному отверстию, пропускавшему внутрь вполне достаточно света. На крышах некоторых зданий, так же как и на верхушке храма, были приделаны стержни с прицепленными на них флагами; по объяснению Рубэ, этим отмечались жилища знатнейших военачальников и великих, прославленных военных героев племени, а на храме флаг служил для украшения священного места.
Светало все больше и больше. На крышах показались фигуры людей в длинных полосатых одеяниях, ходивших взад и вперед по террасам. В большинстве были женские фигуры — девушки и замужние женщины — и много детей при них. Воинов не было видно.
Вот на крышу храма взобрались старики, за ними последовали женщины, девочки и мальчики; все это — дети военачальников.
Больше ста человек показалось наверху, сгруппировавшись вокруг алтаря, на котором был зажжен огонь. Вскоре послышалось пение, и в аккомпанемент ему раздался бой индейского барабана.
Через некоторое время звуки утихли. Все остановились неподвижно, обращенные лицом на восток, и, насколько можно было понять по выражению лиц, стояли молча.
Что это могло значить?
Рубэ шепотом объяснил своим ближайшим соседям, что они ждут восхода солнца и собрались сюда для молитвы, так как навахо поклоняются солнцу.
Вот зарделась самая высокая вершина горы — это показался первый солнечный луч. Мало-помалу гора окрашивается все ниже и ниже в желтый, оранжевый и пурпурный цвета. Вот уже осветились и верхушки домов… вот солнечные лучи скользнули и по лицам молящихся… Между ними есть и белокожие лица — и как их много! Есть женщины и девочки.
— О, Господи, помоги мне найти ее между ними! — прошептал Сегэн и, быстро сложив подзорную трубу, поднес к губам сигнальный рог.
Долина огласилась пронзительными звуками, слышными далеко вокруг. Охотники, услышав призыв, прискакали из лесу и из горных ущелий и ринулись галопом на неприятельский город.
Звуки рога тотчас обратили на себя внимание населения. Некоторым из жителей уже раньше случалось слышать такие звуки, и они знали, что это — боевой клич бледнолицых; другие же слышали их в первый раз, но все пришли в страшное смятение, как свидетельствовали их беспокойные движения. Вдруг они увидели всадников… странное, чуждое, незнакомое вооружение… непривычно взнузданные лошади…
И вот раздался единодушный крик:
— Да это враг! Это бледнолицые!
Вся толпа заволновалась, заметалась с места на место, бросилась из одной улицы в другую… Быстро стали карабкаться индейцы на крыши и убирать за собой приставные лестницы.
Смертельный страх обнаруживало каждое движение, ужас был написан на всех лицах.
Линия атакующих все приближалась и приближалась. Вот они уже в двухстах шагах от городских стен. Здесь они на минуту остановились; снова протрубил сигнальный рог, и с громкими криками «ура!» ринулись охотники со всех сторон в город и собрались, как было условлено, перед храмом.
Глава 21
АДЕЛЬ
В самом непродолжительном времени охотники оцепили кругом все большое здание, обратив таким образом в пленников оставшихся на крыше людей, дрожавших и испуганно прижавшихся к перилам.
— Не бойтесь, мы — друзья! — крикнул им Сегэн на их родном языке, делая успокоительные знаки рукой, но из-за продолжавшегося шума и криков, заглушавших его голос, до седоволосых старцев его слова, по-видимому, не донеслись.
— Мы — друзья! — закричал он еще раз, и на этот раз слова его произвели впечатление; один из стариков подошел к самому краю крыши. Белоснежные волосы его были ниже пояса, блестящие украшения висели в ушах и вдоль груди, а тело было облачено в белые одеяния. Было очевидно, что он считается знатнейшим в своем племени, так как остальные держались в почтительном отдалении.
— Amigos, amigos (друзья)! — крикнул он сверху по-испански.
— Да, да, друзья! — ответил на том же языке Сегэн. — Не бойтесь нас, мы никому не сделаем зла.
— За что нам делать зло! Мы находимся в мире с белыми народами на востоке. Мы — сыны Монтесумы, мы — навахо. Что вам от нас нужно?
— Мы пришли отобрать у вас ваших белых пленниц; это — наши жены и дочери!
— Белых пленниц? Вы ошибаетесь, у нас пленниц нет. Те, которых вы ищете, находятся в плену у апачей, на далеком юге.
— Нет, они у вас! — возразил Сегэн. — Я имею самые точные сведения, что они у вас. Не задерживайте же нас. Мы совершили далекий путь, чтоб отобрать их, и без них мы отсюда не уйдем.
Старец обратился к своим соплеменникам и, после недолгого совещания с ними шепотом, снова выступил к самым перилам.
— Поверьте мне, господин предводитель, — сказал он твердо тоном, не допускающим возражений, — вас ввели в заблуждение. У нас нет белых пленниц.
— Ты лжешь, презренный старик! — вмешался вдруг Рубэ, протискавшись сквозь толпу и снимая с головы свою шапку из кошачьей шкурки. — Погляди-ка сюда, узнаешь меня?
Индейцам был хорошо виден сверху его лишенный волос череп, и вид его, несомненно, обеспокоил их, как можно было заключить по поднявшемуся среди них тревожному ропоту. Но больше всех заволновался, по-видимому, беловолосый предводитель. Он-то лучше всех знал историю этого голого черепа, так как собственными руками снял с несчастного скальп.
Пронесся ропот и по рядам охотников. Подъезжая, они отчетливо видели в толпе индейцев белые лица, теперь их здесь уже не оказалось. Этот обман и эта ложь раздражали их, и со всех сторон послышалось зловещее бряцание ружей.
— Ты солгал, старик! — воскликнул Сегэн, также утративший спокойное самообладание. — Нам достоверно известно, что у вас есть белые пленницы. Выдайте их нам, если жизнь дорога!
— И, советую тебе, живей! — закричал Гарей, угрожающе подняв ружье. — Сию же минуту, или я окрашу твоею кровью твои белые лохмотья.
— Терпение, друг! Мы вам покажем наших белых, но вы увидите, что это не пленники. Они нашего же племени, такие же дети Монтесумы.
Индеец спустился в третий этаж храма, вошел там в одну из дверей и вскоре вернулся с пятью женщинами, одетыми в костюмы навахо; но по лицам охотники тотчас убедились, что они принадлежат к испано-мексиканской расе.
Но через несколько минут, когда охотники пригляделись поближе, среди них оказалось трое убедившихся еще в большем. Эти трое узнали троих девушек, и те, в свою очередь, узнали их. Девушки подскочили к самым перилам, простирая руки и издавая радостные восклицания.
— Пепа!.. Рафаэла!.. Хесусита!.. — послышались голоса трех охотников, называвших своих близких по именам. — Бегите к нам, дорогие! Спускайтесь скорей, скорей!
На верхних террасах стояли переносные лестницы, но как ни напрягали силы девушки, они не могли их тронуть с места. А их бывшие хозяева молча стояли тут же, мрачно нахмурив брови, в сознании бессилия помешать их освобождению, но не желая и пальцем шевельнуть, чтобы помочь им в этом.
— Эй, вы там, поганый сброд! — крикнул Гарей, снова погрозив им ружьем. — Пошевеливайтесь-ка, помогите девушкам сойти — или я из вас дух выпущу!
— Пошевеливайтесь, спустите лестницы! — закричало одновременно еще несколько голосов.
Индейцы покорно спустили лестницы, девушки сбежали вниз и через мгновение очутились в объятиях родственников.
Но две еще оставались наверху неузнанными.
Дрожа от волнения, стоял Сегэн еще несколько минут внизу, со страхом и надеждой вглядываясь в оставшихся. Узнает ли он свою Адель?.. Столько лет!.. Но нет! Если он и не узнает ее по лицу, он узнает по родинке на левой руке.
С быстротою молнии соскочил Сегэн с лошади и, задыхаясь от волнения, побежал вверх по лестнице, за ним последовали еще несколько охотников; скача, не помня себя, с террасы на террасу, он бросился к тому месту, где все еще стояли оставшиеся девушки.
Одного взгляда было довольно, чтобы разрушить его надежду; возраст обеих девушек исключал всякую возможность того, чтобы какая-нибудь из них могла быть его дочерью.
Охваченный глубоким отчаянием, бросился он, как безумный, на старого индейца; тот вздрогнул и отшатнулся, увидев горящие пламенем глаза Сегэна.
— Здесь не все! — крикнул Сегэн громовым голосом. — Приведи сию минуту остальных, или я сброшу тебя отсюда наземь!
— Больше нет у нас здесь белых женщин, — угрюмо и непоколебимо ответил индеец.
— Ты лжешь, собака! Ты лжешь! Вся твоя презренная жизнь в том порукой! Сюда, Рубэ! Поговори-ка с ним!
— Гляди сюда, старый плут! — закричал Рубэ. — Я сниму с тебя скальп в возмездие за мой, если ты нам ее добровольно не выдашь! Где она, молодая «королева Тайна»?
— Королева Тайна? — повторил испуганно индеец, но тотчас же снова овладел собой и насмешливо улыбнулся:
— Ах, вам королева Тайна нужна? Ну, ее теперь здесь нет. Молодая королева Тайна гостит у наших братьев, у апачей, — и он невозмутимо указал рукой на юг.
— Все погибло! — вырвалось со стоном восклицание Сегэна, и он в изнеможении закрыл лицо руками.
— Капитан, не верьте ему! — воскликнул Рубэ. — Много я видел индейцев на своем веку, но такой лживой собаки, как этот старый плут, я больше никогда не встречал. Как можно ему верить?! Вы ведь слышали, что он прежде солгал и об этих девушках.
— Ах, это правда… тогда он солгал… Но ведь так правдоподобно, что она могла уехать!..
— Да нет же! Ложь — его профессия. Вы не знаете всего: он слывет среди навахо великим врачевателем и водит за нос своих собственных соплеменников. У девушки много познаний, и она ему во всем помогает, даже при жертвоприношениях. Эта краснокожая бестия ею дорожит и не хочет лишиться ее. Клянусь чем угодно, что она здесь где-нибудь близко, но он спрятал ее, конечно.
— Товарищи! — крикнул Сегэн, бросившись после слов Рубэ к перилам. — Тащите лестницы, обыщите все дома! Выводите всех из домов, всех, кого найдете, — туда, на равнину. Обыщите все углы… Найдите мне дитя мое!
Охотники бросились к лестницам, обежали все дома и вывели перепуганных жителей, повиновавшихся в большинстве случаев беспрекословно; только в двух-трех местах дело дошло до кровавой расправы, когда охотники встретили сопротивление, — и непокорные поплатились скальпами.
Всех выводимых из домов приводили к храму, каждую женщину внимательно рассматривал Сегэн, подымая покрывала и тщательно изучая лица. Нет, ее не было! Ничего не дала и эта последняя попытка. Погибла последняя надежда.
В течение всего этого времени Галлер не покидал Сегэна, и в ту минуту, когда на лице несчастного отца выразилась крайняя степень отчаяния, он с глубоким состраданием сознавал, что бессилен помочь ему, как ни близко принимал к сердцу его горе. Растерянно переводя глаза с Сегэна на толпу, он на минуту скользнул рассеянным взглядом по лицам только что освобожденных девушек и уже снова хотел перевести взгляд на Сегэна, как вдруг его осенила новая мысль: ведь эти девушки-пленницы должны были знать, где можно найти королеву!
— Спросите этих трех девушек, капитан, — тихо шепнул он Сегэну.
— Ах, да, да, вы правы! Как я не подумал об этом? Пойдем вместе, Галлер, пойдем скорей!
Спустившись вместе по лестнице, они подошли к девушкам. Сегэн начал торопливо и взволнованно описывать наружность той, которую искал.
— Это, вероятно, королева Тайна, — сказала одна.
— Да, да, — бормотал он, дрожа от тревоги. — Королева Тайна! Это она! Королева Тайна!
— Так она здесь, — сказала другая.
— Где? Где? — спрашивал, задыхаясь, отец.
— Я ее видела сегодня утром, совсем недавно, ну, перед самым вашим приходом, — сказала опять первая.
— А я видела, он куда-то уводил ее, — вмешалась в разговор третья, указывая на старого индейца. — Он, наверное, спрятал ее, скорее всего, в Estufa, я думаю.
— Где же это? Что такое Estufa?
— Это то место, где горит священный огонь. Там старик готовит свои лекарства.
— Да где же это? Проводите меня туда!
— Дороги мы не знаем. О, это ужасное место… Там и людей сжигают… Только старый жрец это знает, кроме него туда никого не впускают. Как мы можем знать, где оно? Но, наверное, где-нибудь здесь же, в доме, где-нибудь в подземелье.
Вдруг Сегэна поразила новая мысль, от которой он на минуту оцепенел: что, если дочь его в опасности? Что, если она уже умерла или ее ждет страшная опасность, смерть?
С лица старого предводителя, жреца и врачевателя не сходило выражение угрюмой злобы и упорной решимости — скорее умереть, чем выдать девушку, — и в невыразимой тревоге за свое дитя Сегэн бросился вторично вверх по лестнице.
За ним снова последовало несколько охотников; едва очутившись наверху, он подбежал к старику и, не помня себя, вцепился в его длинные волосы.
— Веди меня к ней! — крикнул он громовым голосом. — Веди меня к королеве, слышишь?! Она — моя дочь!
— Королева… ваша дочь? — пробормотал испуганно старик. Он понял теперь, что без жестокой борьбы этот человек не откажется от своих поисков и, трепеща за свою жизнь, прибегнул к своему испытанному средству: искусной лжи. И, овладев собою, он заговорил деланно спокойным и уверенным тоном: — Нет, белый господин, вы ошибаетесь: это не ваша дочь. Королева — из нашего племени, она дочь солнца; ее отцом был один из навахских предводителей.
— Не искушай меня дольше, презренный! — яростно крикнул Сегэн. — И знай, злодей, что если моей дочери будет причинено малейшее зло, — всех вас ждет неслыханная, страшная месть! Во всем городе твоем я не оставлю в живых ни одной души, и сам ты погибнешь позорной смертью! Ступай вперед, веди меня в подземелье!
— В подземелье! В подземелье! — раздался грозный гул нескольких голосов. Сильные руки схватили индейца за одежду, за длинные вьющиеся волосы.
Старик перестал сопротивляться; мрачные лица доведенных до крайности врагов яснее слов говорили о том, что дальнейшее колебание неминуемо стоило бы ему жизни. И он покорно пошел, ведя за собой охотников, все еще не выпускавших из предосторожности его одежду и волосы из рук, и спустился в подвальный этаж здания храма.
Спустившись с лестницы и приподняв тяжелую завесу над дверью из бизоньих шкур, они пошли длинным коридором, шедшим покато все глубже, пока не вошли наконец в большое, тускло освещенное помещение. Все стены были увешаны шкурами диких зверей и их безобразными чучелами.
То там, то сям скалили зубы головы бурого медведя, белого бизона, пантеры, алчного волка. Между развешанными рогами дикого барана и бизона стояли группы уродливых изображений богов, грубо вырезанные неумелой рукою жреца из дерева или вылепленные из красной глины.
В середине помещения горело на каменном жертвеннике небольшое синее пламя. Это был тот священный огонь, который был впервые зажжен в честь верховного божества, быть может, целые столетия тому назад, и с тех пор должен поддерживаться вечно, пока не вымрет (как предсказывают некоторые) все племя навахо.
Не останавливаясь перед всем этим и даже не заметив, что Сегэн отсюда вышел куда-то, охотники тщательно осматривали и обыскивали все углы.
— Где же Сегэн? Куда он девался? — послышалось вдруг чье-то восклицание.
В тот же миг до охотников донесся какой-то крик. Это женский крик! И чьи-то мужские голоса…
Охотники бросились туда, откуда слышались голоса, сбрасывая на бегу заграждавшие им дорогу висевшие всюду шкуры, — и наконец увидели Сегэна. Он держал в объятиях красивую девушку в пестром, украшенном золотыми безделушками и перьями наряде.
Она кричала и билась в его руках, отталкивая его и стараясь вырваться, но Сегэн удерживал ее, плотно обняв и стараясь отвернуть с ее левой руки рукав оленьей кожи.
— Это она, она! — закричал он наконец дрожащим голосом, увидев на ее обнажившейся руке родинку повыше локтя. — Благодарю тебя, Боже, это она! Адель, моя Адель, узнаешь ли ты меня? Я — отец твой!
Но девушка не переставала кричать. Рванувшись изо всех сил, она оттолкнула Сегэна, простерла руки к старому индейцу и умоляла защитить ее.
Не обращая внимания на все мольбы Сегэна и его ласковые слова, она бросилась на колени перед стариком, обнимая его колени и прижимаясь к ним.
— О Боже, она не узнает меня! Дитя мое! Оставив испанский язык, он заговорил по-индейски, убеждая и умоляя ее:
— Адель, дорогая, дитя мое, я твой отец!
— Ты? Ты — мой отец?! Все белые — враги наши! Прочь, прочь от меня! Не прикасайся ко мне! Мой отец был великий военачальник, он умер. Солнце теперь мой отец, я — дочь Монтесумы. Я — королева навахо!
При этих словах в душе ее как будто произошла какая-то перемена. Она поднялась с пола, на котором стояла на коленях, пугливо пряча лицо, сразу перестала кричать и, гордо выпрямившись, решительно подняла на незнакомца свое прекрасное лицо.
— О моя Адель! — снова выговорил еще Сегэн. — Взгляни же на меня, неужели ты совсем, совсем не помнишь меня? Посмотри, вот твоя мать, дитя мое, взгляни на портрет своей мамы. Неужели и маму не узнаешь, не помнишь?
Он вынул маленький поясной портрет, писанный пастелью, и держал его перед глазами девушки. Она с большим вниманием вглядывалась в него, но заинтересовалась им только как диковинной вещью — глаза ее не выражали ничего, кроме любопытства.
Она совершенно забыла все, и отца, и мать; из памяти ее изгладилось всякое воспоминание о своем детстве, даже родной язык она забыла.
Галлер не в силах был удержаться от слез, когда посмотрел на лицо своего друга. Сегэн стоял среди окружавших его охотников, как человек, только что получивший смертельную рану, — онемелый, с истерзанной душой, с побелевшими, как полотно, щеками, с головой, бессильно поникшей на грудь… Галлер представлял себе безграничное страдание, нечеловеческую муку, которую должно было испытывать наболевшее сердце отца.
Долго простоял он так, не пошевельнув ни одним мускулом, весь во власти безысходного отчаяния, и не пытаясь больше подойти к своей дочери. Потом, со страшным усилием овладев собою, он глухо проговорил:
— Уведите ее отсюда. Выведите ее на площадь перед храмом. Нам здесь больше нечего делать.
Когда охотники удалились, уводя с собою дочь своего предводителя, Сегэн не сразу последовал за ними. Со страдальческим выражением лица Сегэн снова и снова обводил глазами место, в котором прожило долгие годы его бедное, дорогое дитя.
— Господи! — простонал он, заламывая руки и со страстной мольбой подымая глаза к небу. — Сжалься над нами, Боже милосердный, верни ей память!
И разбитый, измученный поплелся к выходу из проклятой пещеры.
Глава 22
МЕСТЬ РУБЭ
Бушующая непогода ожидала вернувшихся из «Эстуфа» охотников, вслед за которыми вскоре появился на площади и Сегэн. Он и раньше решил поспешить с отъездом, а изменившаяся погода заставляла торопиться и выбраться из города возможно скорее.
Черные грозовые тучи, нависшие над горами еще ночью, когда охотники располагались вокруг города, мчались теперь с бешеной быстротой над всей долиной, закрыв своей темной громадой даже самые низкие горы. Между вершинами то и дело сверкали молнии, и через короткие промежутки времени слышались оглушительные раскаты грома.
— Приведите мулов! — крикнул торопливо Сегэн и, схватив свой широкий плащ, накинул его на плечи дочери, тщательно закутывая ее, чтоб защитить от грозившего разразиться каждую минуту ливня.
Был дан сигнал, и вскоре мулы были проведены рядами через равнину под присмотром погонщиков.
— Разыщите и отберите все сушеное мясо, какое найдете в городе, и нагрузите его как можно живей!
Перед большей частью домов и по стенам их были развешаны запасы мяса, а также сушеных плодов, овощей и кожаных мешков, наполненных орехами пиний. Мясо вскоре поснимали, и кое-кто из охотников помогал погонщикам поскорее нагрузить его на мулов.
— Теперь, Рубэ, — обратился к старику Сегэн, — отберите по вашему усмотрению пленных, которых мы увезем с собой; только не больше двадцати человек, иначе у нас не хватит запасов для их прокормления. Выбирайте таких, которые представляют наибольшую ценность с точки зрения скорого и выгодного обмена.
Вслед за тем Сегэн отправился к обозу, ведя за руку свою дочь, чтобы усадить ее на одного из мулов. Рубэ же тотчас удалился для исполнения данного ему поручения и вскоре вернулся, выбрав из толпы и беспрепятственно уведя за собой кучку пленных. Она состояла большей частью из девочек и мальчиков, по лицам и одежде которых можно было заключить, что они принадлежат к высшей знати, как дети предводителей и знаменитых воинов.
Пленные были быстро размещены на мулах и увязаны, и все уже было готово к отъезду, как вдруг острый и опытный глаз Эль Соля заметил что-то вдали на горизонте; с громким криком подняв в этом направлении ружье, Эль Соль в тот же миг привлек к подозрительной точке внимание остальных.
Это был неприятель! Это были их преследователи!
Вдали, на западном крае горизонта, охотники могли различить сотни приближающихся по равнине темных фигур. Они были еще на огромном расстоянии, но опытный глаз горцев мог различить их с первого взгляда. То были всадники… То были индейцы… навахо! Они скакали полным галопом и, рассыпавшись по зеленой равнине, словно свора охотничьих собак, должны были в самом непродолжительном времени кинуться на охотников.
— На коней! — крикнул неустрашимый Сегэн. — Погонщики, вперед! Смелей, ребята, смелей!
Вмиг очутились охотники в седлах, обоз с пленными и запасом провизии погнали по направлению к лесу. Они намерены были отправиться через восточное ущелье, потому что возвращение по тому же пути, которым они прибыли, было отрезано. Рубэ была знакома эта новая дорога.
Так как копья дикарей представляли серьезную опасность только среди открытой равнины, то охотники могли бы успешно отразить их нападение и укрываясь за строениями города; но эта защита могла бы продлиться только до возвращения главного отряда. Когда все племя будет в сборе, всем до одного неминуемо придется погибнуть. Они это отлично знали, и, следовательно, о том, чтоб оставаться здесь, нельзя было и думать.
Сегэн стал во главе отряда, ведя рядом с собой мула, на котором была устроена его дочь. Все охотники и обоз следовали за ним по прерии без сохранения какого-либо определенного порядка.
Галлер был одним из последних, покинувших город; отъехав каких-нибудь сто шагов от городских стен, он вдруг услышал за собой страшный, пронзительный крик. Остановив тотчас лошадь, он обернулся в седле и озабоченно начал прислушиваться.
Неистовый крик повторился — и Галлер мог отдать себе отчет, откуда неслись крики.
На самой верхней крыше храма виднелись две борющиеся фигуры. Галлер узнал их с первого взгляда и сразу понял, что борьба там идет не на жизнь, а на смерть. По развевающейся белой одежде он узнал в одной из фигур старого шарлатана-жреца, а по грязно-серым лохмотьям одежды, по голым лодыжкам и плотно надвинутой на голову шапке можно было сразу узнать другого: это был Рубэ, безухий зверолов.
Борьба длилась недолго. Начала ее Галлер не видел, но сделался зато вскоре свидетелем ее конца. Едва он успел уяснить себе, кто были борющиеся, как увидел, что Рубэ подтащил своего противника к самым перилам, перегнул его своими длинными мускулистыми руками через край и взмахнул длинным ножом. Перед глазами Галлера блеснуло на миг лезвие, красный кровавый поток заструился по белой одежде индейца, руки его опустились, тело повисло, склонившись через перила, на мгновение метнулось в воздухе и с глухим стуком свалилось на нижнюю террасу.
Еще раз в ушах Галлера прозвучал тот же дикий, исступленный крик, и Рубэ исчез с крыши.
Содрогнувшись, потянул Галлер поводья и поехал дальше. Он знал от Сегэна, что эта кровавая расправа была уплатой по старому счету, осуществлением страшной клятвы, мщением — жестоким, но понятным.
Глава 23
В ЛОЩИНЕ
Охотники въехали вскоре в сосновый лес и направились по индейскому пути вниз по течению реки. Ехали они с такой быстротой, какую только допускал шедший впереди обоз, и, проехав расстояние миль в пять, они очутились на восточном краю долины. В этом месте горы тянулись ближе к реке и образовали, как и на западном крае, долины, темную лощину, одну из тех, какие в Америке называются каньонами. Отличалось это место от западного тем, что здесь пролегала тропа не по обе стороны горы, а по самой лощине, вблизи речного русла.
Рубэ, хорошо знавший местность, рассказывал, что во время сильных ливней эта мелководная, речка превращалась в бушующий поток, заливающий всю лощину, и тогда вся долина становилась с востока совершенно недоступной в течение всего времени, пока не опадала вода.
Охотники вступили в ложбину, не останавливаясь, и помчались вперед по камням с такой быстротой, какую позволяло беспорядочное строение почвы. Высоко над ними вздымались крутые отвесные скалы тысячефутовой высоты; гигантские утесы нависли над водой, могучие сосны, росшие из каменистых расселин, простирали над ней свои огромные ветви, усиливая дикий характер мрачной окружающей природы.
В узком горном проходе должен был царить сумрак от тени нависших громад даже в яркие солнечные дни; теперь же там было еще темнее обыкновенного, так как утесы и скалы над головами всадников совсем заволокло черными грозовыми тучами. Сквозь них ежеминутно сверкали молнии, отражавшиеся в воде под ногами быстро скачущих всадников, и короткими резкими раскатами гремел над ущельем гром. Но дождя все еще не было.
Руководимые Рубэ охотники торопливо шлепали по мелководной, но быстрой реке. В ней было и несколько опасных мест, на которых вода ударялась о выступы скал с такой силой, что чуть не опрокидывала лошадей; но беглецам некогда было отыскивать более удобный путь, и они продолжали карабкаться, подбодряя лошадей и словами, и шпорами.
Проехав таким образом несколько сот шагов, они оказались у каньона и выбрались на берег.
— Ну, капитан, — воскликнул Рубэ, остановившись и указывая на входное отверстие, — здесь нам будет удобнее защищаться, потому что тут мы можем истомить их, не подпуская к себе очень долго.
— А вы наверное знаете, Рубэ, что другого прохода, кроме этого, здесь нет?
— Ни одной щелочки, в которую кошка могла бы проскользнуть. Но, конечно, в том случае, если они не вернутся обратно к западному проходу, по которому мы вчера въехали в долину. Путь же этот должен составить, по моему расчету, крюк миль в тридцать пять или сорок; такое расстояние они могут одолеть на своих истомленных лошадях не ранее завтрашнего дня.
— В таком случае останемся, будем защищать это место изо всех сил. Сходите с коней, товарищи, и укройтесь за скалами!
— Если б вы захотели принять мой совет, капитан, я предложил бы послать вперед мулов и женщин, под надзором и защитой нескольких человек — и именно тех, у кого самые плохие лошади. Таким образом, тогда, когда мы бросим это, предназначенное для защиты место, нам возможно будет дать шпоры коням, помчаться во всю прыть, так как женщины и мулы нас задерживать не будут, подвинувшись уже вперед; а на другой стороне прерий мы можем догнать их и соединиться.
— Вы правы, Рубэ, очень долго нам здесь невозможно будет оставаться, иначе у нас выйдут запасы. Пусть же обоз с мулами отправится вперед. На очень ли большом расстоянии находится та гора от линии нашего пути?
Сегэн указал на покрытую снегом гигантскую скалу, нависшую над равниной с северо-западной стороны.
— Дорога, по которой нам придется ехать, раз мы выберем путь на старые рудники, — если после всего, что здесь произойдет, у нас не останется другого выхода, несмотря на то, что дичи мы там не встретим, — дорога эта проходит у самой подошвы горы. На юг от той снеговой вершины тянется горный проход — это и есть та самая дорога, по которой мне тогда удалось бежать.
— Ну хорошо. Пусть в таком случае те, которые отправятся вперед, держатся этого направления, снеговой вершины. Я сейчас отправлю их.
Было выбрано около двадцати человек, у которых были самые плохие лошади; вместе с пленными и мулами отправились они немедленно по дороге к снеговой горе. К этому же отряду присоединился вместе со своей сестрой и Эль Соль, которому был поручен специальный надзор за Дакомой и дочерью Сегэна, а все остальные приготовились к защите ущелья.
Лошади были отведены под специальный навес, а охотники разместились в таких пунктах, из которых им удобно было бы обстреливать из ружья вход. Так приготовились они ожидать врага, который уже должен был быть недалеко, и начали напряженно вглядываться в темное ущелье.
Для уяснения себе всего разыгравшегося на этом месте необходимо несколько подробнее ознакомиться с его расположением.
Река, берущая начало в отдаленнейшем конце местности и протекающая по широкому каменистому руслу, низвергается здесь через огромную, похожую на дверь расщелину между гигантскими порталами в каньон. Один из этих скалистых порталов составляла отвесная гряда восточной части гор, другой — нависшая громада скалистых уступов.
За этими воротами река становилась шире на протяжении приблизительно двухсот шагов; она была стиснута только с одной стороны скалами, другой же берег был умеренной высоты, и только шагов через сто, поближе к равнине, течение задерживалось скалистой стеной, через которую, однако, нетрудно было перебраться даже на лошади и достигнуть таким образом сбоку или с фланга каньона. Почва этой полукруглой местности была покрыта голыми камнями и нанесенными течением поленьями и бревнами, оставшимися после разлива, производимого ливнями, и быстро схлынувшей затем воды.
В конце косы береговые утесы расположены так близко друг к другу, что больше четырех всадников за раз проехать здесь не могут, а на другой стороне этого места, тоже по течению, ущелье снова расширяется и таким уже остается до самого конца.
Самая узкая часть была уже пройдена охотниками; защищаться же было решено не в воротах каньона, а на покрытом наносными бревнами, невысоком отлогом берегу; туда же, в углубление низкой скалы, привели и лошадей. Этим ликвидировалась опасность подвергнуться нападению врага с фланга, как было упомянуто выше, и достигалась возможность во всяком случае продержаться до тех пор, пока отправленный вперед обоз успеет пройти довольно далеко.
План был, следовательно, таков: когда пройдет немного времени и запасы начнут истощаться, так что дольше держаться будет невозможно, — тогда положиться на быстроту своих отдохнувших лошадей и постараться ночью догнать обоз.
Глава 24
БИТВА В УЩЕЛЬЕ
Охотники расположились по приказу своего предводителя между и за голыми скалистыми выступами. Раскаты грома, раздаваясь над самыми их головами, гулким эхом отдавались в мрачном ущелье, и редкие крупные капли еще не вполне разразившегося ливня время от времени падали с шумом на камни.
В этой местности грозовой дождь с громом и молниями — явление вообще очень редкое; зато если уж гроза разражается, то она бушует с такой яростью, стихийной силой, которая свойственна только тропическим странам; кажется, что нет и не будет конца дикой, безудержной, разрушительной стихии — пока все не превратится в великий, первобытный хаос.
Охотникам видно было, что вдали на востоке буря уже разразилась во всем своем грозном величии и силе. Горы на востоке, из которых брала свое начало та река, на берегу которой они находились, совсем скрылись за нависшими над ними тяжелыми грозовыми тучами — и страшный шум прорвавшегося сквозь их толщу ливня доносился даже сюда. Не могло быть сомнения, что проливной дождь скоро дойдет полосой до ущелья.
— Хотелось бы мне знать, что задерживает этих гадов? — сказал, как бы вслух подумав, один из охотников.
Про себя это думали все: времени, действительно, прошло достаточно, преследователи уже могли прийти; промедление было неожиданно и непонятно.
— Бог знает, что за причина, — отозвался другой. — Может быть, они хотят прежде заново выкрасить город.
— Да, я думаю, этим ливнем живо смоет новую окраску, — продолжал шутку третий.
Шутки были не особенно остроумны, но беспечность их свидетельствовала о бодром настроении, которое умудрялись охотники сохранить под двойной угрозой со стороны бушующей стихии и неминуемого нападения дикого врага.
— Мой вам совет, ребята, — вмешался Гарей, — поглядывайте-ка хорошенько за своим порохом.
— Клянусь Богом, его у нас снесет ливнем!
— Вот это было бы славно! Ура, приятель! — закричал старый Рубэ, нисколько не заботясь о том, что его может услышать неприятель.
— Поплескаться и понырять хочется, старый морж?
— Вот именно!
— Ну, мне этого не особенно хочется. Почему вам так хочется измокнуть, хотелось бы мне знать? Лихорадку схватить пришла охота?
— Часика два шел бы ливень, — продолжал Рубэ, не обратив никакого внимания на последний вопрос, — нам и совсем незачем было бы здесь оставаться!.. Вот в чем дело!
— Почему так, Рубэ? — спросил насторожившийся Сегэн.
— Почему, капитан? — отозвался Рубэ. — Да я видел, как и от небольшого ливня эта речонка так вздувалась, что у вас не явилось бы охоты поплыть по ней… Ура! Ливень будет! Скоро, скоро будет!
У Рубэ вырвалось последнее восклицание при виде подвинувшейся с востока огромной черной тучи, насквозь заряженной электричеством; время от времени грохотал могучими раскатами гром, поблескивали сернисто-желтые огоньки молний.
Из этой тучи дождь полил уже не каплями, а, как и предсказывал Рубэ, бурным потоком. Охотники закрыли торопливо дула ружей подолами куртки и молча свернулись ничком под ударами ливня.
Вдруг, сквозь шум дождя, внимание охотников было привлечено другим звуком. Это был топот копыт по каменистому руслу ущелья — то были лошади надвигающихся навахо.
Через несколько минут на одной далекой скалистой глыбе сверкнул при свете молнии какой-то красный предмет; ни у кого из охотников не оставалось сомнения, что это был раскрашенный лоб индейца. Но расстояние, отделявшее их от разведчика, было слишком велико, чтобы ружейный выстрел мог попасть в него, и они продолжали молча, не шевелясь, наблюдать за ним.
Вскоре показался другой, за ним третий, и наконец целая толпа темных фигур показалась, перескакивая со скалы на скалу.
Преследователи сошли с коней, по крайней мере передовой отряд их, и приближались пешком. Но, несмотря на остроту своего зрения, они не могли выследить хорошо укрытых охотников, и было заметно даже, что у них шевельнулось сомнение, не ушли ли они дальше.
Через несколько минут бывшие в первых рядах достигли самой узкой части ущелья. Там лежала круглая, гладко отшлифованная водой каменная глыба, способная служить достаточным прикрытием для разведчика; один из навахо и намеревался воспользоваться им для этой цели: он поместился за ним и потом медленно поднял голову.
Но едва только показался его лоб, грянуло полдесятка выстрелов, и голова исчезла; в следующее мгновение можно было заметить, так тяжело шлепнулось коричневое тело в плеснувшую воду; очевидно, свинцовые посланцы хорошо сделали свое дело.
Теперь индейцы узнали, хотя и ценой потери одного из своих воинов, о присутствии и о позиции бледнолицых. Казалось, они намерены пока удовольствоваться этим, потому что вслед за тем передовой отряд безмолвно вернулся к своему главному отряду.
За несколько минут перед тем дождь немного ослабел; только благодаря этому охотники и получили возможность выстрелить в навахо, и стрелявшие поспешили воспользоваться промежутком, чтобы вновь зарядить свои ружья. Но вслед за тем дождь снова пошел такой частой пеленой, что стоявшим на коленях в ожидании близкого неприятеля охотникам ничего не видно было до самого конца ущелья.
Прошло много времени, прежде чем индейцы снова дали знать о себе; но охотники знали, что неприятель занят обсуждением плана дальнейшего наступления. Очевидно было, однако, что нападение должно было решиться только по такому плану: индейцы воспользуются дождем, доставляющим им наилучшее прикрытие, чтобы проникнуть в ущелье и там ринуться на врага, вступив с ним врукопашную.
Ясно было, что при таком способе атаки охотники, если только им удастся выждать момент, должны были устроить, с помощью общего залпа, настоящую кровавую бойню в рядах индейцев при такой близости расстояния; по-видимому, это-то и пугало и останавливало их.
Почти целый час ежились охотники под потоками дождя, заботясь только о том, чтобы не промокло оружие.
Вода начала струиться нитевидными полосками и просачиваться в щели скал, на что старый Рубэ смотрел с удовлетворением, как на добрый признак; товарищи же посылали проклятия индейцам, которых они так нетерпеливо ждали и которые все еще не показывались.
— Не вздумали ли они обойти стороной? — высказал свое предположение один из них.
— Глупая голова! — возразил другой. — За кого ты их принимаешь, чтобы они могли подумать, что мы застрянем в этой дыре на целых два дня специально для того, чтоб им было удобней истребить нас с двух сторон!
— Нет, они просто хотят дождаться ночи, — высказался третий, — и тогда только нападут.
— Ну, пусть-ка дожидаются! — проворчал Рубэ. — Получаса вполне достаточно, если будет продолжаться такой ливень. Вот вы увидите, что будет… Уж положитесь на меня — или старый моряк совсем разучился гадать по погоде!
— Тише, тише! — зашептало разом несколько голосов. — Идут… идут!
Глаза всех были прикованы к входу. Множество темных фигур показалось в нем и быстро заполнило речное русло. Это были индейцы, но не пешком, а верхами. Охотники догадались, что они решились на атаку. Движения индейцев подтвердили это, потому что они выехали на косу, на противоположной стороне которой белые оберегали дорогу на сушу, — и выстроились в ряды для атаки.
— Смотрите в оба, ребята! — воскликнул Рубэ. — Теперь они приступают к делу серьезно. Угостите-ка их на славу свинцом, слышите?
— Не раньше, чем я прикажу! — с жаром воскликнул Сегэн. — Подождите, пока они подойдут на пятьдесят шагов, тогда мы можем положиться на свой выстрел, несмотря на дождь.
Только успел Сегэн произнести последние слова, как грянул одновременный, оглушительный, страшный крик сотни голосов, какой-то дикий рев, от которого Галлер, до сих пор еще не слышавший его, задрожал с головы до ног.
Это был военный клич навахо.
Когда эти угрожающие звуки пронеслись по ущелью, в ответ им раздался громкий крик «ура!» со стороны охотников и дикий громкий возглас их союзников делаваров и шауни. Затем началась атака в галоп, несмотря на неровную, каменистую почву.
Индейцы приближаются… вот они уже на расстоянии ста шагов… вот остается восемьдесят… шестьдесят…
— Пли! — раздается энергичное слово команды.
Страшный треск прорезал воздух и громом прокатился по ущелью. И когда рассеялся дым, на косе можно было различить кучу мечущихся в предсмертных судорогах тел людей и лошадей, а последние фигуры бежавших индейцев исчезли за входом в ущелье.
Град стрел, выпущенных индейцами, убил только одного охотника и еще двух тяжело ранил.
Некогда было оказывать помощь раненым, так как самый опасный момент наступал только теперь. Заряды были выпущены, а вновь зарядить ружья было немыслимо при этом чудовищном ливне, если бы даже индейцы дали им время для этого.
Сэген предвидел это и потому, не теряя ни мгновения, выхватил из-за пояса свои пистолеты и ринулся вперед, скомандовав и другим, у кого они были, последовать его примеру. Половина отряда последовала за своим предводителем, и все направились вброд к самому краю входа, остановившись здесь в ожидании новой атаки.
Она, наверное, не заставит себя ждать, потому что раздраженные неудачей до последней крайности индейцы готовы будут истребить бледнолицых, чего бы это им ни стоило, хотя бы самой дорогой ценой.
Снова охотники услышали дикий боевой клич, и, когда он смолк, дикари поскакали галопом, по четыре человека в ряд, ко входу.
— Пора! — крикнул Сегэн. — Дружно! Ура!
Почти в один и тот же миг раздался треск пятидесяти пистолетных выстрелов. Первые четыре лошади и еще несколько во втором и третьем ряду поднялись на дыбы и, забившись и закружившись, упали навзничь. Куча барахтавшихся тел образовала плотную массу, закупорившую вход для задних рядов.
Некоторые подъезжали, правда, до самой кучи упавших тел, но лошади вздымались и спотыкались, опрокидывались навзничь, так что только увеличивали собой и своими злополучными всадниками беспорядочную и непроходимую кучу. Те же, которым удавалось перескочить через нее, подвигались волей-неволей все больше вперед, потому что назад двигаться было некуда, и с отвагой отчаяния бросились на охотников. При этом индейцы действовали преимущественно своими ужасными копьями, а охотники могли отвечать только ударами прикладов, ножей и томагавков.
Река вздулась и пенилась у скал: нагроможденные в самом узком месте тела образовали своего рода плотину, через которую, бушуя, рвалась вода. Сами бойцы стояли почти по колено в воде, а вода все прибывала. Вдобавок гром грохотал над самыми их головами, и молнии сверкали в их лица, как будто стихии также стремились погубить их.
Наконец вода хлынула с такой страшной силой, что смыла всю плотину из человеческих и лошадиных тел и, как пучок соломы, понесла ее из теснины, в которой она застряла.
О, Боже, задние ряды теснятся, врываясь в освободившийся вход, а оружие ни у кого не заряжено!
В это мгновение в ушах охотников раздался новый звук. Это не был ни крик людей, ни треск оружия, ни грохот грома — это был глухой шум воды.
Охотники расслышали за собой чей-то предостерегающий крик, чей-то голос хрипло вопил:
— Ради всего святого, на берег! Скорей на берег!
Галлер обернулся и увидел, что спутники его с испуганными и предостерегающими возгласами устремились вброд на косу, а оставшийся там отряд с двумя ранеными перебрался уже на более возвышенное место. В то же мгновение ему бросился в глаза какой-то всплывший на поверхность предмет.
Менее чем в двухстах шагах от того места, где он стоял, показалась какая-то бурая плавучая масса, против самого входа в каньон. Это были потоки воды, несущие на своем пенящемся хребте стволы деревьев и кустарников. Картина эта напоминала бушующий вольный поток, вдруг сорвавший шлюзы огромной плотины.
Галлер все еще смотрел, не трогаясь с места, как вдруг что-то с громовым грохотом ударилось о портал каньона, затем отхлынуло и, вздувшись до высоты футов в двадцать, кипя и бурля, хлынуло в отверстие.
Галлер слышал страшный крик индейцев, видел, как лошади повернулись и бежали, и тогда только бросился к своим, на берег, бывший, к счастью, недалеко. Но перед ним кружились вздувшиеся ручьи, как бы передовой отряд бушующего потока; брести было так трудно, а вода достигала ему уже до пояса… Но прилив отчаянной энергии помог ему добраться до безопасного места.
На берегу ждал его верный Альп, издали следивший за усилиями своего господина и уже собиравшийся кинуться в воду на помощь. С радостным лаем бросился он к Галлеру, приветствуя его спасение.
Почувствовав себя в безопасности, Галлер остановился и загляделся на яростный разгул мчащейся громады воды. С места, на котором он стоял, он мог видеть ущелье на большом пространстве по течению. Индейцы скакали полным галопом вдоль тропы, пролегавшей рядом с руслом реки, он видел, как скрывались за скалами хвосты задних лошадей; тела же убитых и раненых все еще лежали в воде по ту и по другую сторону теснины.
Там были и охотники, и индейцы. Раненые, уцепившиеся то там, то сям за скалистые глыбы, испускали крики ужаса, глядя на несшиеся мимо потоки, и с мольбой призывали на помощь. Но не было никакой возможности спасти их.
— С полдюжины наших погибло там… — грустно проговорил один из горцев.
— Выудят их там, собаки, и скальпируют… — со злобой заметил один мексиканец.
— Ну, я думаю, им придется выуживать достаточное количество и своих, — сказал с гневной усмешкой Гарей, — пожалуй, что и не до скальпов им будет!
— А я думаю, — сухо процедил сквозь зубы старый Р-бэ, — что краснокожим впору о своей собственной шкуре думать. Состязание-то будет жестокое. Я слышал, лошадь раз пробовала состязаться с грозовой тучей. А этим разрисованным обезьянам придется-таки постараться хорошенько, чтобы не замочить хвосты коней, прежде чем перебраться на другой конец ущелья.
Пока Рубэ говорил, тела раненых товарищей вместе с телами индейцев выбросило в одну из извилин каньона, и они скрылись с глаз наблюдавших. Русло было все еще полно пенящимся потоком, с грохотом ударявшим о теснившие его скалы. Все ущелье стало непроходимым, и пока всякая опасность миновала.
Охотники начали спешно собираться в путь, чтобы успеть воспользоваться хоть светом сумерек при переходе через невысокую скалистую стену. В течение часа им это беспрепятственно удалось, и, объехав скалистые уступы, окружавшие с одной стороны вход в каньон, они расположились лагерем под защитою их.
Ловкими и опытными руками было скоро наловлено множество плававших на поверхности воды веток и бревен; запылали костры, и было зажарено к ужину захваченное с собой сушеное мясо. После ужина все придвинулись поближе к огню, чтобы обсушиться, — насквозь промокшее платье дымилось паром, высыхая, — и занялись, как умели, перевязкой ран пострадавших товарищей, так как доктора не было, потому что он находился впереди при обозе.
Здесь решено было отдохнуть несколько часов, чтобы люди и животные могли сколько-нибудь восстановить силы.
Положение позволяло это, так как непосредственной опасности пока не было: если даже преследователи и вернутся снова, то все же добраться до ненавистных бледнолицых они могли не иначе, как совершив обход вокруг гор или же переждав, пока совсем опадет вода.
Обход требовал, как мы знаем, пути в сорок миль, и истомленные лошади индейцев не могли совершить его, не отдохнув предварительно хоть одни сутки; а что вода не обещает опасть скоро, — за это ручалась буря, все еще неистовствующая в горах.
Только около полуночи было решено отправиться в дальнейший путь. Ливнем смыло, разумеется, все следы, образовавшиеся после прохода Эль Соля с обозом, но охотники были люди, не особенно избалованные привычкой к укатанной дороге. Старый Рубэ, взявший на себя роль проводника, не нуждался даже в блеске молний, озарявших время от времени белую горную вершину вдали; наилучшей путеводной звездой для него было собственное изощренное чутье и зоркие глаза.
Охотники ехали всю ночь напролет и настигли обоз через час после восхода солнца у подошвы снеговой горы. Тут они остановились на полчаса в одном горном проходе, позавтракали и, отдохнув, продолжали свой путь через Сиерру. Дорога вела через ущелье на голую равнину, тянувшуюся на восток и на юг на такое пространство, какое только мог охватить человеческий взгляд. Это была пустыня.
Глава 25
ВСТРЕЧА У БАРРАНКИ
Излишне было бы описывать все лишения и страдания, которые пришлось претерпеть охотникам на обратном пути через ту же ужасную «Путину смерти», на которой они столько натерпелись и в первый раз, когда ехали еще с более свежими силами. Люди и животные изнемогали от жажды, так как на пространстве шестидесяти миль пути нигде нельзя было найти воды.
Путники двигались по голой, выжженной солнцем равнине, лишенной всякой растительности, за исключением изредка попадавшихся тощих кустарников, где ни одно живое существо не нарушало впечатления безнадежного, ужасающего, мертвого однообразия пустыни. Питались крайне скудно, стараясь потреблять экономно и без того небогатые запасы пищи; но наконец и они пришли к концу, и один вьючный мул за другим гибли под ножами полумертвых от голода людей.
Из стеблей полыни кое-как еще можно было разводить огонь, но по ночам охотники не решались на это, так как преследователи, хотя их еще нигде не было видно, все же могли уже быть в пути по их следам.
Целых три дня держались они юго-восточного направления и к вечеру третьего дня заметили, что на восточном краю пустыни возвышаются Мимбрские горы, среди которых находились старые заброшенные рудники, некогда созданные Сегэном и достигшие процветания, пока не были разорены и разгромлены индейцами. Начиная с этого пункта, Сегэну была отлично знакома каждая подробность местности, и Сиерру они решились пройти по дороге, ведшей к рудникам.
К закату солнца они подошли к Барранка-дель-Оро; это была огромнейшая рытвина среди равнины, ведшая к бывшим шахтам. Рытвина эта, оказавшаяся скалистым обрывом, произведенным землетрясением, тянулась на расстояние больше двадцати миль, и по обе стороны ее пролегала дорога, так как направо и налево от нее равнина шла до самого конца обрыва.
Приблизительно на полдороге к рудникам должен был быть ручей, как помнили Сегэн и Рубэ; к нему-то они теперь и держали путь, чтобы расположиться лагерем у воды. Но пока утомленным путникам удалось добраться до этого долгожданного места, почти уже наступила полночь.
Лошадей расседлали и у самых верб, которыми обрамлен был ручей, зажгли два костра, а в пищу изголодавшимся охотникам пришлось принести в жертву еще одного мула. После ужина все бросились в совершенном изнеможении на землю, собираясь спать. Только при лошадях на лугу осталась без сна, опершись на свои ружья, безмолвная стража.
Галлер склонил голову на углубление своего седла и вытянул ноги к огню, неподалеку от того места, где помещались Сегэн и его дочь.
Расположились на земле группами и освобожденные от индейского плена мексиканки и взятые у навахо заложники, закутанные в свои полосатые плащи, и все тотчас заснули или, по крайней мере, задремали.
Галлеру было видно лицо Адели, обращенное к небу и освещенное последними отблесками костра. В нем было некоторое сходство с лицом Зои, веселый характер которой и лукавый смех так часто прогоняли со лба нетерпеливого гостя морщины досады и озабоченности, так что он вскоре совсем перестал тяготиться своим пребыванием в гостеприимном доме.
Да, они очень похожи… тот же высокий благородный лоб, та же прекрасная линия профиля… только не тот белоснежный и розовый цвет кожи. Южное солнце придало ничем не защищенному лицу бывшей королевы навахо бронзовый оттенок, и черный, как воронье крыло, цвет волос резко отличался от светло-золотистых волос сестры.
Молодая девушка спала чутким и тревожным сном. Несколько раз она просыпалась, растерянно вглядывалась, вскочив, в окружающую ее обстановку, что-то невнятно бормотала по-индейски; но утомленное до изнеможения тело тотчас снова вступало в свои права, и, по-прежнему склонившись на ложе, она снова засыпала.
Все время пути Сегэн окружал ее самым внимательным попечением и самой нежной заботливостью; но она принимала с полным равнодушием и только изредка с холодной благодарностью всю его предупредительность. Почти ни на минуту не выходила она из молчаливого и мрачного состояния.
Отец пытался несколько раз всевозможными мерами воскресить в ее душе воспоминания детства, но все было безуспешно, ничто не давало надежды его сокрушенному сердцу.
Галлер думал все время, что Сегэн спит, но теперь, вспомнив о нем и его безнадежных попытках, Галлер внимательнее заглянул ему в лицо и тогда убедился, что Сегэн не сводит глаз с дочери и с глубоким вниманием прислушивается к срывающимся с ее губ отрывистым словам.
Вдруг Сегэн явственно вздрогнул: девушка произнесла, как послышалось и Галлеру, имя Дакомы. В ту же минуту он заметил, что и Галлер не спит, и обратился тихонько к нему:
— Бедное дитя! Ее волнует тревожный сон… Я был бы даже готов разбудить ее.
— Ей необходим покой, — заметил Галлер.
— Но такой сон — плохой покой. Слышите, она еще раз назвала Дакому.
— Так зовут нашего пленника?
— Да; по индейским законам она должна была сделаться его женой.
— Откуда вы это узнали?
— От Рубэ; он слышал это в то время, когда был в плену у навахо.
— И вы думаете, она была к нему привязана?
— Нет, по-видимому. Старый врачеватель принял ее в качестве дочери, а Дакома пожелал взять ее в жены; и вот на известных условиях она должна была быть отдана ему. Но сама она не только не обнаруживала благосклонности к нему, а даже боялась его; это подтверждает и то, что она теперь говорит со сна. Бедное дитя! Какую тяжелую участь сулила ей судьба!
— Через два-три дня будут окончены все ее страдания, когда она снова будет на родине и в объятиях матери.
— Слава Богу за это. Но если она такой и останется, это разобьет сердце моей многострадальной жены…
— Не надо об этом думать, друг мой. Время вернет ей память, и дома, при виде множества предметов, виденных ею в детстве, мысли ее прояснятся, воспоминания оживут. Не падайте духом, Сегэн!
— Будем надеяться, будем надеяться!..
Галлер так уверенно говорил только из желания утешить своего друга, но сердце его также удручала печаль, и какая-то смутная тревога, словно предчувствие предстоящего несчастья, охватила его без малейшего внешнего повода. Под впечатлением этого тягостного чувства он спросил:
— Через какое время мы доберемся, по вашему расчету, до Рио-дель-Нортэ, до вашего дома?
— Послезавтра вечером, я думаю, — нетвердым и унылым голосом ответил Сегэн. — Дай Бог, чтоб мы там все застали благополучно…
Что это?.. И его волнует та же смутная тревога? Галлер безотчетно испугался.
— У вас какие-то опасения? — нервно спросил он.
— Да…
— Чего же вы опасаетесь? Кого?
— Навахо.
— Навахо?
— Да. Я неспокоен все время, с тех пор как увидел, что они от Пиннонского ключа отправились на восток. Согласитесь, зачем бы им было выбирать путь на восток, если бы они не собирались произвести нападение на лежащие на востоке селения? Я боюсь, что они совершили набег на долину Эль-Пасо, быть может, даже на сам город. Помешать им в последнем предприятии могло бы только одно: быть может, уход отряда Дакомы слишком чувствительно расстроил их силы.
Он умолк в том же грустном раздумье, потом снова заговорил:
— Возможно, что население Эль-Пасо защищалось; оно и в то время защищалось отважнее всех, только этому и можно приписать, что они надолго избавились от разгромов. Отчасти причина еще и в том, что наш отряд находился долго по соседству от них, это было хорошо известно дикарям. Поэтому можно надеяться, что отправиться в «Путину смерти», на север от Эль-Пасо, им помешало опасение встретиться с нами. Если это так, то наши уцелели и невредимы.
— Дай Бог, чтоб это было так! — серьезно проговорил Галлер.
— Будем спать, — сказал Сегэн. — Быть может, совсем неосновательны все наши опасения, и, во всяком случае, предаваться им бесполезно. Завтра мы двинемся дальше; я прежде хотел было остаться здесь подольше, но теперь я раздумал; поедем, как только лошади будут в силах тронуться. Спите спокойно, друг мой; теперь нам немного времени осталось для сна.
И, опустив голову на седло, он вскоре погрузился в глубокий сон.
Впечатлительный Галлер никак не мог успокоиться настолько, чтоб уснуть. Ни на минуту не смыкая глаз, с сильно бьющимся сердцем, рисуя себе величайшие ужасы, он беспрестанно ворочался на своем жестком ложе. Он представлял себе, как уводят в плен его милую, нежную Зою, чтобы сделать ее невольницей, рабой грубого дикаря… Мысль эта была так мучительна, что он не в силах был даже лежать дольше, быстро вскочил и вышел побродить по прерии.
Долго ли бродил он, пока не дошел наконец до конца рытвины (барранки), — он сам не знал, так как, погруженный в тяжелые думы, не замечал времени; по-видимому, оставалось уже немного до рассвета. Оглянувшись, он увидел при ярком свете луны и лагерь, и лошадей, но расстояние его отделяло такое, что он не мог попытаться вернуться туда; силы его совсем иссякли.
Поддавшись вдруг охватившему его непобедимому утомлению, он опустился на землю тут же, у края обрыва, зиявшего безмолвной и мрачной глубиной, и через несколько минут уснул.
Через час или немного больше его разбудила холодная утренняя сырость, пронизавшая все его тело ознобом. Луна уже зашла, но было не совсем темно, так что он мог видеть большое пространство сквозь ночной туман.
«Быть может, уже близок рассвет», — подумал он, обернувшись лицом к востоку. Он не ошибся: там тянулись по небу красные полосы. Скоро день. Вспомнив, что Сегэн намеревался рано отправиться в путь, он хотел встать и пойти к лагерю, как вдруг до слуха его донеслись голоса и топот копыт по дерну прерии.
«Значит, наши уже проснулись и собираются в дальнейший путь», — подумал он, вскочил и поспешил вперед, но не успел еще сделать и десяти шагов, как услышал отчетливо, что голоса эти раздавались не впереди, а позади него.
— Что бы это значило? — Он остановился и прислушался.
Положительно, он не ошибался, он, несомненно, удаляется от голосов.
— Я сбился с дороги, не туда пошел! — пробормотал он и снова вернулся к краю барранки, чтоб убедиться в этом. Но, к своему крайнему изумлению, он убедился в том, что пошел в нужном направлении, а между тем голоса доносились с противоположного!
Что же это может значить? Неужели лагерь снялся, пока он спал, и прошел своей дорогой, не заметив ни его, ни его отсутствия? Нет, нет, невозможно! Сегэн не ушел бы без него! Он, наверное, послал несколько человек разыскивать меня! Конечно, конечно, это они и есть!
— Хэлло! — крикнул Галлер, чтобы дать им знать, где он находится; но ответа не было. Он крикнул еще и еще раз, с каждым разом все громче и громче… Вдруг прежние голоса притихли — значит, всадники прислушиваются; он крикнул еще раз изо всей силы легких. Тогда послышался какой-то неясный гул, потом топот копыт лошадей, галопом скакавших к нему.
Галлер вздохнул с облегчением, но через секунду ему показалось странным, почему же никто из них не ответил на его сигнал. Еще через секунду, однако, удивление его перешло в озадаченность, когда он уяснил себе, что скачущие находятся на противоположной стороне рытвины.
Расстояние между обоими берегами было не больше трехсот шагов, так что сквозь редкий туман Галлер мог хорошо рассмотреть другой берег; с первого же взгляда Галлер разглядел около ста всадников; длинные пики, развевающиеся волосы и полуголые тела не оставляли никакого сомнения в том, что это были индейцы.
Разумеется, Галлер не стал больше терять времени на оклики и вопросы, а помчался изо всех сил к лагерю; всадники на противоположном берегу замедлили ход коней, двигаясь в ногу с ним. Добежав до ручья, он увидел, что взбудораженные охотники торопливо вскакивают на коней. Как оказалось, стража при лошадях известила их сигналом о близости врага. Сегэн с несколькими охотниками стоял на крайнем выступе обрыва, откуда рассматривал индейцев.
Особенно торопиться с отъездом не было надобности, хоть бы неприятельский отряд и оказался гораздо многочисленнее, потому что, хотя охотников отделяла от врагов только рытвина в триста шагов ширины, все же придется проехать еще двадцать миль, пока им можно будет открыть сражение. Ввиду этого и Сегэн, и охотники не тревожились, и было решено остаться на месте, пока не выяснится, каков противник.
Враги остановились, осадив лошадей, но не сходя с них, и начали всматриваться в противоположный берег обрыва. Присутствие вооруженных людей и привело их, по-видимому, в смятение, так как не прояснившаяся еще тьма не позволила им рассмотреть хорошенько лица. Но вот посветлело, они узнали своеобразную одежду и вооружение ненавистных бледнолицых, и дикий, пронзительный крик, боевой клич навахо, пронесся над пропастью, гулко огласив равнину.
— Это отряд Дакомы! — раздался чей-то голос. — Это они нас преследуют и только по ошибке попали на противоположный берег обрыва.
— Невозможно! — возразил другой. — У них там не больше ста голов, а отряд Дакомы был втрое многочисленней.
— Быть может, остальные погибли от наводнения, — предположил первый.
— Вздор! Можно ли допустить, что они потеряли наш след, когда он еще не успел изгладиться! Да и как решились бы они рискнуть последней сотней людей, потеряв вдвое больше соплеменников от наводнения, для сомнительной из-за наших ружей битвы? Нет, это ни в каком случае не могут быть прежние преследователи!
— Кто же другой? Это, несомненно, навахо. Их воинственный рев я мог бы узнать спросонок.
— Вон там их предводители, — сказал подъехавший в эту минуту Рубэ. — А вот и их главнокомандующий, верховный вождь… Узнаю его, проклятого зверя!
— Вы думаете, это действительно навахо, Рубэ? — спросил Сегэн.
— Так же безошибочно, капитан, как выстрел Билла Гарея.
— Но ведь тут не весь отряд. Где же остальные?
— Быть может, где-нибудь неподалеку Тише!.. Они подъезжают, я слышу. Вон, вон, смотрите туда!
Сквозь медленно развевающийся туман показалось множество темных силуэтов всадников, гнавших впереди себя стадо скота, оглашавшего окрестности своим ржанием, мычанием, блеянием. Белые вслушивались с некоторой завистью в пронзительный хор, оглашавший всю равнину.
— Да, они поживились кой-чем в походе, — уже с явной досадой воскликнул один из них, — а вот мы так возвращаемся почти с такими же пустыми руками, как отправились… Черт возьми!
Галлер возился до сих пор с лошадью и теперь, оседлав ее, подъехал к остальным.
Ему хотелось просверлить своим взглядом туман, получить какое-нибудь подтверждение или успокоение своим злым предчувствиям… И он добился этого… Но от того, что он увидел, у него застыла кровь в жилах.
Совсем вдали, позади всего приближающегося отряда со стадами, темнел другой, маленький отряд, следовавший отдельно от первого. По светлым, развевающимся от ветра платьям нельзя было не заметить, что это не индейцы. Это были женщины! Это были пленницы!
Они приближались, и Галлер рассмотрел, что они сидели на лошадях, и около каждой из них — было их всего около двадцати — ехал верхом индеец для охраны. Со страшно бьющимся сердцем перебегал Галлер глазами с одного лица на другое, но расстояние было слишком велико, и ничего невозможно было заключить наверное.
Отрывистый, заглушенный крик, похожий на стон, заставил его обернуться на Сегэна, стоявшего тут же с подзорной трубой в руках. Он словно замер в одной позе с побелевшим, как снег, лицом, с судорожно трясущимися губами; труба выпала у него из рук.
Потом, едва держась на ногах, шатаясь, заламывая руки, он простонал громко:
— Боже, Боже! Слишком тяжкий удар!
Чьи-то дружеские руки поддержали его.
С быстротою молнии соскочил Галлер с лошади, поднял уроненную Сегэном трубу и поднес ее к глазам. Одного взгляда на группу пленных было довольно, чтобы убедиться в ужасной правде… Тоска и мука были написаны на лицах жены Сегэна и его дочери Зои, ехавших в первом ряду.
Отчетливо видны были Галлеру прекрасные черты бледного лица молодой девушки, ее распухшие от слез глаза, пышная масса распущенных золотистых волос, рассыпавшихся по ее плечам и по крупу лошади… Рядом ехал приставленный к ней для охраны молодой индеец в мундире мексиканского гусара.
По-видимому, в эту минуту и отряд заметил охотников. Галлер видел, что они остановились и стража оставила пленных среди прерии под надзором нескольких человек, а сама помчалась галопом к отряду, находившемуся на краю оврага.
Тем временем рассвело. Туман рассеялся, и обе враждующие стороны оглядывали друг друга через пропасть.
Глава 26
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Встреча была во всяком случае необычайно странная. Лицом к лицу сошлись две группы чуждых, враждебных, ненавистных друг другу людей; каждая смотрела на другую, как на смертельного врага, каждая возвращалась из страны противника, нагруженная добычей и со свитой пленных, ни одна не ожидала и не желала в эту минуту встречи с другой.
И вот они встречаются на полдороге обратно на родину; встретившись, оглядывают друг друга со злейшей, непримиримейшей враждой — и все же, несмотря на незначительность разделяющего их расстояния, сражение так же невозможно, как если бы их разделяло двадцать миль!
На одной стороне стоят в растерянности навахо, так как воины узнали в неприятельском стане своих детей; на другой — мрачные охотники за скальпами, из которых многие узнали среди навахских пленных своих жен, дочерей или сестер.
Глаза врагов скрещивались через пропасть с такой яростью, с такой страстной жаждой мести, что не могло быть сомнения, едва ли хоть один остался бы в живых с той и другой стороны, если бы встреча произошла среди открытой степи. Казалось, само провидение хотело помешать страшному кровопролитию, столкнув их лицом к лицу над пропастью, перед которой было бессильно оружие обеих сторон.
Большинству охотников была известна грустная биография их предводителя. Они слышали о ряде постигших его несчастий, о его разорении на рудниках, о потере состояния, о том, что его дочь была много лет тому назад захвачена в плен и он все годы напрасно искал ее; и когда теперь узнали из нескольких слов Галлера, что в числе пленных навахо ведут жену и дочь Сегэна, то даже самые черствые сердца закаленных горцев исполнились живейшего сострадания к такой ужасной мере горя. То и дело раздавались сочувственные возгласы, а многие давали самим себе и друг другу слово во что бы то ни стало освободить пленниц, хотя бы это им стоило жизни.
Сегэна глубоко тронула и ободрила такая преданность товарищей. Это сознание помогло ему справиться с обрушившимся на него новым страшным ударом и вернуло ему обычную неустанную энергию. Надежда вдохнула в него новые силы. Товарищи дружной гурьбой окружили его, утешая, предлагая советы, готовые повиноваться его решениям и приказаниям.
— Мы можем победить их без особых потерь, — сказал Гарей, — их не более двухсот.
— Не считая женщин, ровно сто восемьдесят шесть, — вмешался один из охотников, — я сосчитал точно.
— Ну, — продолжал Гарей, — я рассчитываю на разницу в храбрости; а недостаток численности мы можем восполнить превосходством оружия: ведь у нас ружья. Я не побоюсь выйти один на двух индейцев, могу еще даже третьего прихватить.
— Что вы толкуете, Билл! Взгляните-ка на местность: голая, плоская! Куда мы скроемся после залпа? Их копья представят здесь большее преимущество — они переколют нас, как баранов.
— Я вовсе не сказал, что мы вступим с ними в бой среди прерии! Мы ведь могли бы следовать за ними, пока они не очутятся в горах, и принять битву среди скал. Именно таков мой совет.
— Конечно, а обремененные своими стадами, они уже от нас не ускользнут.
— Да они вовсе не намереваются бежать; наоборот, очень вероятно, что они первые на нас нападут.
— Это-то нам и нужно! — сказал Гарей. — Пусть только они вступят с нами в бой в горах, — он указал рукой на находившийся милях в десяти Мимбрский хребет. — Они свое скоро получат от нас, будьте уверены!
— Я в этом не сомневаюсь, — возразил снова другой, — но до этого-то дело вовсе и не дойдет, потому что они подождут свой остальной отряд. Главнокомандующие ведут обыкновенно гораздо большие отряды; да их и было около пятисот, когда они проходили через Пиннон.
— Где могут быть остальные, как вы думаете, Рубэ? — спросил Сегэн, обращавшийся обыкновенно во всех затруднительных случаях за советом к старому, опытному охотнику. — Мне видно все пространство до самых рудников, а их нигде нет.
— Их и не будет, капитан, и в этом-то наше счастье. Старый дурак, наверное, отослал часть отряда по другой дороге.
— Почему вы так думаете?
— Э, капитан, да это же ясно. Если бы они ехали там где-нибудь следом, некоторые из краснокожих гадин уже давно вернулись бы за ними, разве это не ясно? А сколько я видел, ни одна собака назад не трогалась.
— Вы правы, Рубэ, — сказал Сегэн, ободренный этим правдоподобным соображением. — Однако что же вы нам советуете?
— Да при теперешнем положении дел шутка выходит такая сложная, что я и сам хорошенько не разберусь и не соображу. Дайте подумать минутку-другую, тогда отвечу по крайнему своему разумению.
— Подумайте, мы подождем, что вы придумаете. Осмотрите пока оружие, товарищи, и позаботьтесь, чтоб все было готово.
Пока охотники совещались, на другом берегу индейцы также собрались вокруг своего предводителя, и по движениям их видно было, что и они держат совет о том, как повести себя в этом необычайном положении.
Увидев детей знатнейших родов своего племени в качестве пленных, они пришли в большое смятение, так как это доказывало, что бледнолицые совершили нападение на их город и, наверное, уже разгромили их дома, пожалуй, даже перерезали беззащитных женщин и детей.
Возвращаясь домой после удачного похода, нагруженные награбленной добычей, они были полны ожидания торжеств и празднеств на родине. И вдруг узнать, что их перехитрили, обошли…
Вдобавок они видели, что отряд белых изрядный и по числу, а их ружей и выстрелов без промаху они достаточно сильно боялись, чтобы пожелать как-нибудь избегнуть столкновения в ближайшее время и при существующих условиях — и тем вернее достигнуть своей цели позже, когда это им будет удобнее.
Было о чем подумать и индейцам.
Старый Рубэ, стоявший все время в сторонке, опершись о ружье, вероятно, успел кое-что придумать, потому что вскинул ружье на плечо и подошел к Сегэну.
— Билл Гарей прав, — сказал он. — Если сражаться с индейцами, то лучше всего сойтись с ними там, где есть скалы и деревья. Среди степи они нас разобьют, об этом и спору быть не может. В таком случае положение может быть двоякое: либо они пойдут за нами, и тогда наше поле сражения будет там, — он указал на выступ Мимбрского хребта, — либо мы последуем за ними до какого-нибудь подходящего поля битвы; а это мы довольно легко можем сделать, так как им стада помешают двигаться быстро. Но…
— Вы чего-то опасаетесь при этом?
— Я боюсь, что на обратном пути мы можем столкнуться с отрядом Дакомы. Невозможно допустить, что они все утонули: они слишком хорошо знают ущелье и характер течения. Вот это-то и заставляет меня призадуматься.
Возможность того, что отряд Дакомы может скоро присоединиться к отряду главнокомандующего, была признана всеми вполне вероятной, и лица омрачились.
— Таковы мои соображения, капитан, на тот случай, если мы будем принуждены сражаться, — продолжал Рубэ. — Но у меня есть надежда, что нам удастся, быть может, вернуть наших женщин, не истратив и щепотки пороха.
— Каким образом? Каким образом? — живо воскликнули и Сегэн, и другие.
— Видите ли, сердце-то вон у тех, хоть кожа у них и медно-красная, тоже есть небось, и дети свои им так же дороги, как и нашему брату белому, христианину. Наткните-ка белую тряпку на палку и предложите им обмен пленными. Они пойдут на переговоры, за это я ручаюсь. Вот эта хорошенькая девочка с длинными волосами — дочь самого их главнокомандующего; и все остальные — дети знатнейших воинов; оттого я их и выбрал. А у нас еще, сверх того, и Дакома, и молодая королева — эти им прежде всего в глаза бросятся. Вы можете вернуть им Дакому и выторговать королеву.
— Я последую вашему совету! — воскликнул Сегэн с загоревшимися надеждой глазами.
— Тогда нельзя терять времени, капитан. Если покажется отряд Дакомы, тогда все мои соображения выеденного яйца не будут стоить. Эти краснокожие гадины могут догадаться уже по тому, что Дакома нами взят в плен, что высланный за ним отряд мчится теперь где-нибудь по нашим следам; меня даже беспокоит, что это может затруднить переговоры. Во всяком случае хитрые собаки будут всячески стараться оттягивать время. Имейте это в виду!
— Мы не промедлим ни одного мгновения, — сказал Сегэн и отдал тотчас приказ вывесить белый флаг. Когда его соорудили, он сам вышел с ним вперед и поднял его вверх.
Все примолкли в напряженном ожидании ответа. Между столпившимися индейцами произошло движение. Слышно было, что они горячо заговорили; было видно, что что-то между ними произошло.
Глава 27
ПЕРЕГОВОРЫ
Через некоторое время от толпы индейцев отделился один высокий воин и вышел вперед. В левой руке у него оказался какой-то белый предмет — это была выдубленная добела оленья кожа; в правой он нес копье и, выйдя вперед, наткнул на него кожу и протянул ее вверх. Это был ответный мирный сигнал.
Сегэн приказал охотникам молчать и громко заговорил по-индейски:
— Навахо! Вам известно, кто мы. Мы прошли всю вашу страну и посетили вашу столицу. Цель нашего похода была отнять у вас наших дорогих родственников, которых вы держали, как нам было известно, в плену. Некоторых мы и отобрали, но многих еще нам не удалось найти. Для того чтобы добиться со временем их возвращения, мы взяли, как видите, заложников. Мы могли бы захватить гораздо больше, но мы ограничились немногими. Города вашего мы не жгли и не громили и ни женам вашим, ни детям никакого зла не сделали. За исключением вот этих, взятых нами в плен, вы найдете все и всех таким же, каким оставили.
Ропот успокоения и удовольствия пробежал по рядам индейцев. Впечатление от слов Сегэна было тем более радостное, что за время совещания они успели убедить себя и друг друга, что дома их ждет полный разгром.
Сегэн продолжал:
— Мы видим, что и вы побывали в нашей стране и взяли пленных. У вас кожа другого цвета, чем у нас, но чувства к родным и у краснокожих такие же, как у нас, белых. Мы уверены в этом, и потому-то я и поднял знамя мира. Согласимся обменяться пленными; пусть каждый из нас отдаст другому его собственность. Это будет поступок, угодный Великому Духу, а вам и нам это принесет радость, потому что те, кем вы теперь владеете, представляют величайшую ценность для нас, а те, кем мы владеем, дороги вам одним. Навахо! Я сказал. Жду вашего ответа.
Когда Сегэн кончил, воины окружили своего предводителя и некоторое время горячо обсуждали его слова. Затем прежний парламентер снова вышел с флагом из оленьей кожи и тоже громко ответил:
— Предводитель белых! Ты хорошо говорил, и наши воины хорошо взвесили твои слова. Ты требуешь немногого и только справедливо. Это правда, что Великому Духу будет угодно и нам радостно, если мы сможем обменяться нашими пленными. Но как же мы можем узнать, верны ли твои слова? Ты говоришь, что вы наш город не жгли и нашим женам и детям зла не причинили; но как же мы можем узнать, правда ли это? Одного твоего слова нам недостаточно.
Сегэн предвидел это возражение и тотчас приказал привести одного из пленных, мальчика.
Мальчика поставили рядом с Сегэном.
— Спросите этого мальчика! — крикнул он на тот берег, указывая на юного пленника.
Навахо согласились, и на оба вопроса — о том, сожжен ли город, и о том, убиты ли женщины, — мальчик ответил отрицательно.
— Ну, брат, — спросил тогда Сегэн, — удовлетворился ли ты этим?
Долго не было ответа. Воины снова собрались на совещание, и по возбужденному их виду и движениям можно было заключить, что среди них была партия, высказывавшаяся против мирного исхода и, по-видимому, советовавшая попытать счастье в битве. Это были самые молодые из воинов, и во главе их стоял, по-видимому, тот, на котором был гусарский мундир и который был, по словам Рубэ, сыном главнокомандующего.
Но сам верховный вождь и другие, пожилые воины были крепко заинтересованы в скором и мирном результате переговоров, благодаря которому они могли получить обратно своих детей невредимыми, — и потому в конце концов одержала верх старшая партия.
Парламентер снова выступил с ответом:
— Навахо обсудили то, что им было предложено, и выражают свое согласие на обмен пленных. Но чтобы обмен этот был произведен как следует, они предлагают следующее: с обеих сторон должно быть выбрано по двадцать воинов; эти воины должны на глазах у всех сложить свое оружие в степи; затем они должны отвести своих пленных на самый конец оврага, что у рудников, и там столковаться между собой об условиях обмена; все остальные с той или другой стороны должны оставаться на своих местах, пока не возвратятся невооруженные воины с обмененными пленными; затем белые флаги должны быть спущены, и обе стороны должны быть признаны свободными от договора. Таковы речи навахо.
В общем, условия были довольно приемлемы; только заключительные слова свидетельствовали о намерениях индейцев попытаться потом снова овладеть возвращенными пленными. Но это мало заботило охотников, — только бы им заполучить своих на этот берег обрыва, — отстоять их потом они сумеют.
К тому же требование, чтобы пленных отвели на место обмена безоружные воины, представлялось вполне справедливым — и двадцать было подходящим числом. Но Сегэн очень хорошо знал, как истолковывают для себя навахо слово «безоружный», и потому он шепотом распорядился, чтобы охотники, укрывшись за кустами, спрятали ножи и пистолеты под одеждой. Сколько можно было заметить, навахо то же проделали со своими ножами и томагавками.
Возразить против предложенных условий можно было немного, а Сегэн не забывал, как дорого время, и потому он принял их немедленно.
Едва навахо получили согласие, тотчас выступили двадцать человек, без сомнения, лучших воинов во всем племени, — и направились на ближайшую поляну. Они воткнули в землю свои копья и прислонили к ним колчаны со стрелами и луки. На другой стороне охотники также на виду у врага сложили свои ружья.
Высланный охотниками отряд состоял из Эль Соля, Гарея, Рубэ и Санчеса, самого Сегэна и Галлера и четырнадцати человек горцев и делаваров.
Белые посадили своих пленных на коней и мулов и снарядили их в путь; в числе их были и королева, и девушки-мексиканки.
Это был дипломатический прием со стороны Сегэна. Он сознавал — так же, как и другие, — что если они с самого же начала удержат королеву, то переговоры, всего вероятнее, ни к чему не приведут; и потому он решил взять ее с собой, а там уже на месте отстоять ее. Если бы это не удалось, оставалось обратиться к оружию, а к этому охотники были готовы.
Наконец обе партии были совсем готовы и по данному сигналу двинулись двумя линиями вдоль оврага к рудникам. Все остальные в обоих отрядах остались на местах, обмениваясь время от времени подозрительными и враждебными взглядами. Флаги в знак примирения продолжали развеваться, оружие лежало нетронутым в отдалении; но обе стороны держали лошадей оседланными и взнузданными и себя самих — наготове, чтобы вскочить в седло при первом движении противника.
Рудник, принадлежавший когда-то Сегэну, находился в самой середине оврага и даже получил от него свое имя (Барранка-дель-Оро — Золотая яма). Грубо прорытые шахты уходили в виде пещер в скалистые отколы оврага. По каменистому грунту их протекал ручей, журча между скал. На берегах этого ручья стояли старые плавильни и развалившиеся домики рабочих, и на большинстве их не уцелело даже крыши; вокруг пышно разросся чертополох и колючие кактусы. Если подойти к этому разрушенному, одичалому месту, бросается в глаза, что дорога по обе стороны оврага круто сворачивает справа и слева к развалинам и позади них сходится под острым углом.
Как только обе партии подъехали к этому пункту, откуда виден был расположенный внизу рудник, они остановились и подали друг другу сигнал через овраг. По предложению навахо было решено оставить пленных и лошадей на возвышении под присмотром двух человек в каждом отряде.
Остальные восемнадцать человек с каждой стороны должны были, по условию, спуститься вниз на дно оврага, сойтись за развалинами построек и, выкурив положенную трубку мира, установить условия обмена.
Крайне неохотно согласились на это предложение Сегэн и Галлер. Оба предвидели уже почти наверное, что переговоры мирного исхода иметь не будут, и надеялись и рассчитывали только на победу своих в неизбежном сражении.
Но и в самом счастливом случае, прежде чем они успеют пробраться по крутому откосу к пленным навахо, надсмотрщики их успеют утащить, а быть может, и убить тут же на месте… От одной этой мысли кровь цепенела. А индейцы упорно настаивали на своем требовании — и время было дорого; каждую минуту мог подоспеть отряд Дакомы — волей-неволей Сегэну пришлось согласиться, иначе он только выдал бы себя.
Глава 28
ОБМЕН ПЛЕННЫХ
И вот охотники оставили своих лошадей под присмотром наверху, а сами спустились в овраг и через несколько минут стояли лицом к лицу с индейцами.
Те оказались, все восемнадцать, как на подбор: рослые, широкоплечие, мускулистые. Выражение лиц у всех неукротимое, хитрое и мрачное; за ним чувствуется сердце, полное ненависти, и на губах сдерживаемая ненависть вместо улыбки привета.
На минуту обе партии остановились, измеряя друг друга глазами и мысленно меряясь силами.
Несмотря на уговор, согласно которому все должны были быть безоружны, оба противника были достаточно вооружены и оба это знали. Ручки томагавков, рукоятки ножей, блестящие стволы пистолетов невозмутимо торчали из-под платья тех и других — ни те ни другие и не заботились спрятать незаметнее опасные игрушки.
Сегэн указал на одну из построек, служившую прежде плавильней, предлагая, таким образом, избрать ее местом совещания. В чуть держащемся глиняном домике была всего одна комната, посредине которой стояла плавильная печь с сохранившейся в ней в течение многих лет золой и шлаком.
На полу валялись разные обломки, на которых и разместились вошедшие, а двое индейцев ухитрились развести огонь в печи. Чтобы развалившаяся печь не так сильно дымила в комнате, тяжелую дверь оставили открытой; она открывалась внутрь.
Галлер очистил место для себя и только собрался сесть, как вдруг что-то прыгнуло на него с лаем и визгом. Оказалось, что Альп, которого Галлер не хотел брать с собой из страха, чтобы злые индейцы не сделали с ним чего-нибудь, вырвался от охотников и пробежал весь путь по следам хозяина. Делать было нечего, Галлер велел ему лечь у своих ног, и собака тотчас послушалась.
Огонь в печи разгорелся, трубку набили и, закурив, пустили ее по рукам, — каждый затягивался и молча передавал ее соседу. Эта церемония отнимала много времени, да хитрые индейцы старались протянуть ее подольше, затягиваясь медленно и по нескольку раз: они не имели причин спешить. Но все же формальность была наконец исполнена, и можно было приступить к обсуждению.
Первый же поднятый вопрос обнаружил предстоящие трудности полюбовного соглашения — он коснулся выяснения числа пленных. У индейцев их оказалось девятнадцать, у белых же, не считая королевы и отнятых девушек-мексиканок, двадцать один.
Это было благоприятно для белых, но, к их изумлению, индейцы указали на то, что их пленные состоят из взрослых женщин, тогда как большинство пленных противника были дети — и потому они настаивали, что обмен должен быть произведен по расчету двух детей за одного взрослого.
В этом бессмысленном требовании Сегэн сразу и наотрез отказал; при этом выразил готовность обменять своего 21 пленного на их 19.
— Почему двадцать один? — воскликнул один из индейцев. — У вас их двадцать семь, мы сосчитали их там наверху.
— Вы присчитали к ним, значит, по ошибке шесть наших — они белые и мексиканки, — объяснил Сегэн. (Кроме трех девушек, узнанных на террасе храма, охотникам удалось найти еще двух своих близких в городе во время поисков королевы.)
— Шесть белых? — переспросил индеец. — Во всяком случае, их пять! Где же шестая? Или вы имеете в виду королеву Тайну, нашу королеву? — спросил он снова, не дожидаясь ответа на прежний вопрос. — У нее светлая кожа. Бледнолицый вождь принял ее, вероятно, поэтому за белую. Ха-ха-ха!
— Ваша королева? — воскликнул запальчиво Сегэн. — Ваша королева, как вы ее называете, моя дочь!
— Ха-ха-ха! — разразились насмешливым хором дикари. — Королева Тайна — белая! Его дочь! Ха-ха-ха!
Стены дрожали от их дьявольского хохота.
— Да, она моя дочь! — повторил дрогнувшим голосом Сегэн, уже не сомневавшийся ни минуты в том, какой оборот примет дело.
— А я говорю — нет! — надменно крикнул тот же индеец. — Королева — не дочь твоя, она нашего племени! Она — дочь Монтесумы, королева навахо!
— Королева нам должна быть возвращена! — воскликнули некоторые. — Она наша, мы требуем вернуть нам ее!
Сегэн, скрепя сердце, пытался дружелюбно и терпеливо рассказать и объяснить все, напоминая, когда и при каких обстоятельствах она ими же была взята в плен. Но все было напрасно! Навахо упорно стояли на своем и решительно заявили, что, если королева им не будет возвращена, они ни под каким видом на обмен не согласятся.
Требование было высказано в таком вызывающем, оскорбительном тоне, что охотникам становилось ясно — они добиваются схватки. Так оно в действительности и было. Теперь, когда у белых не было ружей, которых они так боялись, они рассчитывали одержать победу над ними.
Но и охотники были готовы к бою, если на то пойдет, и в победе они также были уверены. Они ждали только сигнала своего предводителя, чтобы ринуться на врага; но Сегэн вполголоса попросил их не терять терпения и обратился еще раз к индейцам.
— Братья! — начал он сдержанно. — Вы отрицаете, что я — отец этой девушки. Две из ваших пленниц, которых вы знаете, моя жена и моя дочь, мать и сестра ее. Вы отрицаете и это. Если вы искренни в своем недоверии к моим словам, то вы должны согласиться на предложение, которое я хочу вам сделать: велите привести к нам тех, и я велю привести ту, которую вы называете вашей королевой. Если девушка не узнает свою мать и сестру, то я откажусь от своих притязаний и предоставлю ей вернуться, если она пожелает, вернуться к вам.
Охотники были озадачены таким предложением своего предводителя. Они ведь знали, что все попытки Сегэна воскресить воспоминания в уме девушки были безуспешны. Как же он мог допустить, что она тотчас припомнит и узнает мать?
Но и сам Сегэн на это почти не надеялся и не рассчитывал; он прибегнул к этому предложению, как к последней отчаянной попытке. Он думал, что когда его жена и дочь очутятся здесь, вблизи построек, то, в случае схватки, быть может, возможно будет увести их и таким же образом отбить и другую дочь, Адель. Нервным шепотом поделился он этой мыслью с ближайшими товарищами, чтобы гарантировать себе, таким образом, их сдержанность и осторожность.
Навахо отнеслись сначала с крайним изумлением к этому требованию; они встали со своих мест и столпились в дальнем углу для совещания, но вскоре по выражению их лиц можно было понять, что они готовы согласиться.
Они знали, что девушка не признала в бледнолицем предводителе своего отца; они внимательно наблюдали за ней, когда она подъезжала по противоположному берегу оврага, и даже успели столковаться с нею знаками, прежде чем охотники это заметили; таким образом, они не боялись того, что она узнает свою мать. Она была так мала, когда попала в плен, времени прошло так много, обращались с нею в ее новой жизни так хорошо, что воспоминания детства, наверное, изгладились в ее душе без следа.
Хитрые дикари все это отлично рассчитали, решили принять предложение и, вернувшись на прежние места, объявили о своем согласии.
Тотчас было отряжено два человека — по одному от каждой стороны, — чтобы привести трех пленниц, и все остались на местах в ожидании их прибытия.
Немного спустя их ввели.
Разыгравшаяся затем сцена была полна глубокого трагизма. Встреча Сегэна с женой и дочерью и Генри Галлера с Зоей… Момент, когда мать увидела и узнала свое давно погибшее для нее дитя, свою Адель, и ее страдание и ужас при виде равнодушия и безучастия, с которыми та встречала поцелуи и объятия и слезы матери… Взволнованные, полные сочувствия и сострадания лица охотников и злобные торжествующие взгляды и жесты индейцев… Вся эта картина не могла не довести до крайности скопившиеся еще ранее ожесточение и злобу в душе охотников до безмерной, безграничной ярости к этим диким извергам.
Менее чем через четверть часа пленные женщины были уведены теми же людьми, которые привели их; остальные остались на местах для окончания переговоров.
Индейцы тотчас вернулись к своим прежним условиям: взрослых пленных они согласны обменивать одного за одного; за своего предводителя Дакому они согласны выдать двух; но настаивают на получении двоих детей за каждую взрослую женщину.
Хотя на таких условиях белые могли получить всего двенадцать своих, Сегэн все же вынужден был дать согласие, но под одним непременным условием, что белым будет предоставлено право выбрать самим среди пленных тех, кого они пожелают, в обмен на пленных, возвращаемых навахо.
К невыразимому негодованию всех охотников дикари отказали и в этом. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнения, чем окончится это совещание. Ненависть загоралась от ненависти, и во всех глазах пылала месть.
Индейцы злобно смотрели на белых своими раскосыми глазами. Дьявольское торжество сквозило в их взглядах — было очевидно, что они считали себя сильнее противника; между тем противники едва сдерживали себя, стараясь не ослушаться приказа Сегэна, и сидели, подавшись вперед, готовые ринуться в атаку всякий миг.
На той и другой стороне царило долгое, жуткое молчание — зловещий предвестник бури. Вдруг тишину прервал раздавшийся снаружи крик; это был клекот орла.
В Мимбрских горах орлы встречаются довольно часто, какой-нибудь мог пролететь над оврагом. Белые вначале не обратили внимания на этот звук, но им вдруг показалось, что вслед за этим глаза навахо засверкали еще большей угрозой и торжеством. Что же это могло значить? Не было ли это сигналом индейских разведчиков, разглядевших идущий отряд Дакомы?
Охотники прислушались — крик повторился… Это уже серьезно обеспокоило их. Молодой вождь в гусарском мундире встал с места. Он был самым несговорчивым противником во время переговоров. Со слов Рубэ охотники знали о нем как о человеке низком и жестоком, но пользовавшемся при этом огромным влиянием среди воинов.
Он отверг запальчиво и последнее предложение Сегэна и теперь встал, чтобы объяснить свой отказ.
— Почему же это белому вождю так сильно хочется самому выбрать наших пленных? — спросил он, глядя в упор на Сегэна. — Быть может, ему хотелось бы получить обратно златокудрую девушку?
Он умолк, как бы ожидая возражения. Но Сегэн не отозвался. Через секунду продолжал:
— Если белый вождь полагает, что королева — его дочь, то не должен ли он был бы даже желать, чтобы ее сестра сопутствовала ей и отправилась бы также с ней в нашу страну?
Он снова сделал паузу, но Сегэн молчал по-прежнему, — только жилы вздулись у него на шее.
Оратор продолжал:
— Почему белый вождь не хочет отпустить с нами златокудрую девушку? Я сделаю ее своей женой. Известно ли белому вождю, кто я? Я вождь навахо, потомок великого императора Монтесумы, сын короля.
Снова послышался орлиный клекот.
— А она кто? — еще более вызывающе продолжал дикарь, словно сигнал придал ему новый запас смелости. — Кто она, что я должен был бы вымаливать себе ее а жены? Дочь человека, не пользующегося почетом даже среди своего собственного народа… Дочь какого-то охотника за скаль…
Он не успел окончить фразу, и она навеки осталась неоконченной. Пуля Сегэна попала ему в лоб и мгновенно свалила его с ног. Только красная, круглая дырочка, окруженная легкой синевой от пороха, блеснула на лбу падающего вниз лицом трупа.
Глава 30
СХВАТКА В ПАВИЛЬОНЕ
Вмиг и охотники, и индейцы вскочили, как один человек. Двойной клич к нападению прозвучал, словно вырвался из одной груди. С быстротою молнии выхвачены были из-за курток и поясов под плащами ножи, пистолеты и томагавки, — в одно мгновение вспыхнула общая свалка.
Затрещали выстрелы, засвистели в воздухе томагавки, засверкали остро отточенные лезвия ножей — ужасающая, адская картина!..
Пространство было так тесно, так неудержима была ярость противников, что надо было думать, что в первой же стычке обе стороны уничтожат друг друга. На деле же было не то. В первые моменты боя нападение бывает обыкновенно нерешительно, защита энергичнее.
К тому же бой шел почти впотьмах, так как в первые же мгновения двое вцепившихся друг в друга противников повалились на пол, захлопнув при падении дверь и продолжая кататься по полу в борьбе. Время от времени слышен был удар, глухой стук падающего тела. Комната наполнилась дымом, пылью, серными парами, так что дерущиеся, полузадохшиеся, наносили удары, почти не видя и не сознавая, кому и куда.
Галлер почувствовал, что ему делается дурно. В первый миг, тотчас вслед за выстрелом Сегэна, он выхватил свой револьвер и выстрелил в лицо вскочившего с места врага; затем, почти не останавливаясь, выпустил один за другим все шесть зарядов и, борясь усилиями воли с подступавшим чувством удушья, метался по комнате, стараясь найти дверь.
Едва держась на ногах и ощупывая вершок за вершком тонкую глиняную стену, пробираясь к двери, он вдруг услышал где-то близко около себя исступленный голос Билла Гарея. Великан держал в своем могучем кулаке зажатой шею индейца и, за недостатком ножа, потряс его несколько раз, все не выпуская шею, и тотчас же швырнул, не сомневаясь в его смерти, изо всей силы на пол с возгласом: «Вот тебе на дорогу!»
Этот возглас еле слышал явственно Галлер, но что было потом, он сознавал смутно, как сквозь сон. Он чувствовал, как об него стукнулось чье-то тело, чувствовал, что стена, о которую он опирался, начала подаваться… Каким-то образом голова его очутилась среди ослепительного света… Он смутно услышал какой-то треск, точно от рухнувшего потолка, а потом все завертелось и минут на десять все вокруг пропало, исчезло, он ничего не сознавал, ничего не мог припомнить. Он потерял сознание.
Десять минут! Какой короткий промежуток времени, но какой богатый тяжкими событиями и последствиями! Этих десяти минут оказалось достаточно, чтобы пламя объяло домик плавильни и выгнало бойцов из пылающих развалин.
Из навахо не уцелел ни один, но и среди охотников немногие вышли не ранеными: уцелевшие, среди которых оказались Сегэн, Рубэ, Гарей и Эль Соль, едва выползли из-под горящих обломков домика и поспешно бросились, чтоб спрятаться в укромном месте, известном лишь Сегэну, в одной из заброшенных шахт.
Начинавший понемногу приходить в себя Галлер как раз успел заметить своих четырех спутников, когда они украдкой спустились в углубление шахты. Еще не будучи в силах подняться и предпринять что-нибудь, он обводил глазами все вокруг себя — и вот, почти в одну и ту же минуту, увидел три картины, одна другой печальнее и тревожнее.
Три женщины карабкались по крутой тропинке, пролегавшей по левой отвесной стене оврага, за ними шли, подталкивая их, три индейца. Нельзя было не узнать их — это была жена и обе дочери Сегэна. Толпа индейских всадников, человек в пятьдесят, оставив далеко за собой маленькую группу, спускалась вниз по оврагу и, наверное, через несколько минут должна была достигнуть рудника.
Сцена на правой стороне обрыва была еще ужасней. Там неслись галопом охотники на своих лошадях, и за ними гналась огромная толпа диких всадников — без всякого сомнения, подоспевший отряд Дакомы. Охотники не остановились и не уменьшили бег и тогда, когда достигли построек, а мчались через все еще пылавшее пламя пожара вперед, в долину.
Отряд индейцев продолжал преследовать их, а подскакавший всего через две-три минуты отряд из пятидесяти всадников остановился перед пылающей грудой развалин, и все начали шарить между стен.
Глава 31
ГАЛЛЕР В ПЛЕНУ
Галлер все еще лежал среди кактусов в том месте, где очутился при падении; но он понимал, что его не добровольно выбранное убежище ненадолго ускользнет от пронырливых глаз дикарей, — и потому он предпочел сам выйти и показаться.
Действительно, в ту же минуту, как он приподнялся и поднял руки над головой в знак того, что сдается, индейцы тоже увидели его; раздался торжествующий возглас врагов — и в ту же минуту его повалили на землю и связали по рукам и ногам.
Ободренные первой находкой, индейцы еще усерднее продолжали свои поиски и, по-видимому, не без успеха, как можно было судить по послышавшимся еще несколько раз злорадным крикам торжества.
Одного за другим притащили навахо сначала Санчеса, потом рыжеволосого ирландца Бернея и еще трех охотников-мексиканцев, которые были ранены более или менее тяжело и потому не могли своевременно укрыться в убежище шахты; все были крепко связаны ремнями из оленьей кожи.
Связанные пленные были оставлены пока на открытом месте перед рухнувшим домиком плавильни и могли видеть все, что происходило вокруг.
Индейцы рылись в пожарище, расчищая его от обуглившихся и нагроможденных в кучу бревен, чтобы разыскать тела своих воинов, — и не было предела их ярости, когда они убедились по обуглившимся трупам, как мало белых пало в схватке, тогда как с их стороны семнадцать лучших воинов обрели смерть.
Рассвирепев до последней степени, они набросились было на пленных охотников, решив тут же упиться зверской расправой над ними, чтоб сколько-нибудь утолить жажду мести. Но в ту же минуту к месту, где лежали пленные, подъехал вернувшийся с преследования Дакома и удержал их, выразив желание, чтобы белые были принесены на родине в жертву богу Солнца.
Как узнал впоследствии Галлер, прежний вождь навахо был убит пулей охотников, и роль эта перешла к Дакоме, которого вырвали у охотников в первые же моменты преследования.
Присмирев после распоряжения Дакомы, они собрали валявшиеся в пепле ножи, пистолеты, томагавки, затем отнесли останки своих погибших соплеменников в сторону и, уложив их там на земле, громким голосом запели гимн мести.
По окончании этой церемонии и последовавшего за ней торжественного обряда погребения воинов были приведены шесть мулов, и каждого пленного усадили на мула верхом так, что они были обращены лицом к хвосту животного, затем ноги каждого привязали к шее раздраженно мотавшего головой мула, а ступни связали одну с другой; потом туловище пригнули так, что пленный оказывался лежащим спиной на спине мула, и наконец опустили вниз руки, связав и их под брюхом животного.
Прицепив их таким образом, поводья тотчас же опустили, и раздраженные неудобной ношей мулы начали подниматься на дыбы, бить задом, что причиняло мучительную боль несчастным пленным и оттого безмерно потешало и восхищало диких мучителей.
Удовольствие, испытываемое ими при этой зверской забаве, было так велико, что, когда мулам надоело брыкаться, они искусственно продолжали пытку, то нанося животным уколы своими стрелами, то закладывая им под хвосты колючие ветки кактуса. Забава кончилась обмороком пленных.
Устроив таким образом своих пленных, индейцы разделились на два отряда и поехали вверх по обеим сторонам оврага. Первый, меньший отряд поспешил вперед кратчайшей дорогой, имея при себе мексиканских пленных, девушек и детей навахо, чтобы успеть дома все приготовить для торжественной встречи и празднеств в честь победителей; а больший отряд, под предводительством Дакомы, с пленными охотниками и отнятыми при набеге стадами, направился к ручью, еще недавно служившему лагерем злополучных охотников.
Здесь отряд остановился на ночь и на весь следующий день, так как в отдыхе нуждались и изможденные лошади Дакомы, успевшие нагнать охотников, несмотря на огромный крюк, и изранивший копыта скот. Потом пленных снова укрепили на спинах мулов, и победоносный отряд двинулся через прерию на родину.
Глава 32
ЛОВКИЙ НАЕЗДНИК
Целых семь дней длился путь, — транспорт скота не позволял двигаться вперед быстро, — прежде чем Галлер и захваченные одновременно с ним товарищи очутились в столице навахо.
Когда индейское войско подходило к городу, навстречу ему высыпала огромная толпа женщин и детей, — гораздо более многочисленная, чем виденная Галлером при первом посещении города.
Оказалось, что тут были и гости, жители более отдаленных северных селений, прибывшие, чтобы присутствовать при триумфальном въезде и приеме победителей и принять участие в грандиозном пиршестве, которым всегда празднуют навахо счастливый исход набега.
Пленных возили по улицам западной части города, и их сопровождала толпа возгласами злобы и любопытства. Отъехав шагов на сто от жилых домов, конвой остановился на самом берегу реки. Здесь живую добычу отвязали и ссадили всех на землю.
На мгновение несчастные охотники порадовались чувству физической свободы от уз, но скоро им пришлось убедиться, что их ожидало худшее. Начались мучения и издевательства над ними.
Их швырнули, как бревна, на землю, растянули спиной на дерне и затем вбили вокруг каждого по четыре кола. Затем вокруг обеих рук и обеих ног каждого обвязали по кожаному ремню и, обмотав свободные концы вокруг кольев, притянули их так крепко, что суставы и кости заныли.
Так должны они были лежать, лицом к небу, подобно кожам, растянутым для просушки, не имея возможности шевельнуться, кроме поворота головы вправо и влево.
Когда конвой удалился, место его заняли любопытствующие женщины и девушки. Галлер заметил, что они особенно толпились вокруг ирландца Бернея, прыгая вокруг него с комическими гримасами, громко хохоча, тыча в него пальцами и указывая на что-то друг другу. Галлер долго не мог понять, что такое необыкновенное открыли они в нем, но скоро загадка объяснилась.
Кому-то из конвойных понравилась, по-видимому, меховая шапка Бернея, и он взял ее себе, — так что ирландец лежал с обнаженной копной своих огненно-рыжих волос; они-то и потешали дикарок, никогда не видевших цвета лисицы.
Одна из них, более смелая или более любопытная, подошла поближе, нагнулась и дотронулась было рукой до волос, но тотчас отскочила, как будто обожгла о них пальцы.
Это вызвало новый взрыв смеха, и со всех сторон к Бернею стали подбегать и сначала только трогать рукой короткую жесткую щетину на его голове, а потом расходились до того, что стали дергать и даже выдергивать волосы. Ирландец долго молча терпел боль, но потом это ему надоело, и он заговорил, но тоном самой добродушной просьбы:
— Эй, вы там, девушки! Оставьте-ка меня в покое! Никогда рыжих волос не видали, что ли?
Женщины, конечно, ни слова не поняли и только еще веселее обнажали зубы, не только не прекратив свои пытки, но еще больше осмелев.
— Да перестаньте же наконец! — крикнул он уже резче, мотая головой от боли. — Перестаньте дергать, вы из меня жилы выматываете! Ой… ох… Матерь святая, оставите ли вы меня в покое, собачья свора!
Тон его голоса свидетельствовал о жестокой боли и нестерпимом раздражении, но это, по-видимому, только пришпоривало бессмысленную веселость дикарок. Казалось, пытке конца не будет, — ирландец уже не говорил, а шипел сквозь стоны слова проклятий. Вдруг они перестали дергать, о чем-то посовещались между собой, и несколько женщин убежали; по-видимому, у них созрел какой-то новый план. Действительно, через некоторое время они вернулись, таща в руках большой горшок с водой и другой сосуд с жидким мылом. Было ясно, что они надумали смыть красную краску с волос.
Две-три мускулистых женщины ослабили ремни на руках Бернея, так, чтобы его можно было посадить, и, захватив его голову, обильно намылив и облив водой, принялись тереть изо всех сил мочалкой из говяжьих сухожилий. Терли, скребли, царапали, снова мылили, обливали водой…
Напрасно несчастный метался, извивался, убедительно доказывая им на своем языке, что у него волосы не крашены, а природная краска не смывается, — женщины старательно довели свое дело до конца и, когда решили, что натерли достаточно, вылили всю оставшуюся воду на его голову и плечи, чтобы сполоснуть мыло.
Изумлению дикарок не было конца, когда им пришлось убедиться, что волосы все так же ярко пылали огнем. Притащили еще воды, и тупая бессмысленная пытка повторилась с начала до конца…
С наступлением сумерек явилась новая смена стражи, просидевшая, не сомкнув глаз и не пошевельнувшись, всю ночь. Но разговаривать пленным не запрещали, и они толковали о том, что именно ожидает их утром. Никто из них ничего не знал наверняка, но Санчес, немного понимавший наречие навахо, кое-что узнал из разговора женщин между собой.
— Завтра, — рассказывал он то, что успел узнать, товарищам, — состоится великий танец Монтесумы; это праздник преимущественно для женщин и девушек. Послезавтра же состоится большой турнир, на котором воины покажут свое искусство в стрельбе из лука и будут состязаться в борьбе и верховой езде. Пусть бы они меня допустили к участию в последнем, я показал бы им такую штуку, какой еще не видали эти ловкие наездники.
Санчес был не только знатоком боя быков, но и необыкновенным наездником, так как в ранней юности долго специально учился этому искусству.
— На третий день нас погонят сквозь строй… А на четвертый…
— Что же на четвертый?
— На четвертый нас сожгут во славу их бога Солнца.
Пленные все были люди отважные, не раз глядевшие в глаза смерти, и потому думали о смерти без страха. Угнетало их только унизительное сознание такой смерти, какая им предстояла, не в открытом бою, а от руки диких мучителей; кроме того, мучила мысль о проигранном деле. Горька была также неизвестность, тревога о судьбе остальных товарищей, а для Галлера еще тяжела была и мысль о судьбе дорогой ему девушки. Но привычка владеть собой и закаленная воля помогли им заставить себя проспать несколько часов.
Наутро во всем городе начались чистка, уборка и приготовления к торжеству танца Монтесумы. Церемония эта должна была совершиться среди лужайки против храма, и перед самым началом пленников отвязали и потащили туда, чтоб заставить их полюбоваться и подивиться великолепию национального праздника.
Сам по себе танец был довольно несложен. На высоких подмостках восседали, изображая императора Монтесуму и его супругу, воин и молодая девушка. На этот раз эти роли исполняли на троне Дакома и Адель, а мимо них проходили процессии пестро разряженных женщин, потом девушек с венками и гирляндами цветов в разнообразных позах и комбинациях.
Несколько часов длилось однообразное и скучное представление; остальную часть дня дикари пировали. Пленным отпустили самую скудную пищу, достаточную только для поддержания жизни. Ночь они снова провели, как и накануне.
На следующий день с раннего утра воины начали наряжаться, готовясь к турниру, на который снова были приведены в качестве зрителей пленные. На этот раз Галлер заметил на террасе храма несколько пленных женщин, явившихся добровольно или приведенных насильно, чтоб полюбоваться зрелищем. Он стоял так близко, что мог хорошо рассмотреть молодую королеву. В своих великолепных, богатых одеждах она отнюдь не имела огорченного вида, — и Галлер с грустью убедился в этом, думая о своем несчастном друге Сегэне.
Обводя глазами террасу, Галлер вздрогнул и почувствовал, что сердце его замерло: на правой стороне ее, тщательно отделенные толпой от королевы, стояли ее бедные мать и сестра, с бледными, изможденными лицами, с выражением глубокой скорби и беспредельной тоски в глазах.
Лукавые индейцы, очевидно, опасались сближения между этими женщинами, до тех пор, по крайней мере, пока не будет бесповоротно решена участь новых пленниц.
Галлер с усилием отвернулся от них, чтоб не пробуждать ничьих подозрений на случай, если за ним наблюдали, и начал безучастно смотреть на происходившие в степи состязания. Турнир уже начался, и воины щеголяли друг перед другом искусной ездой и фокусами с оружием.
Некоторые ехали галопом, прижавшись к боку лошади одной ногой и протянув свободно другую, пуская в этом неудобном положении без промаха стрелы в цель.
Другие скакали в карьер по равнине, перескакивая при этом с одной лошади на другую. Третьи вскакивали в седло на полном ходу лошади и оказывались в совершенно правильном и прочном положении в седле. Потом показывались чудеса ловкости с арканом. Было еще одно красивое упражнение, при котором воины сбрасывали друг друга с коней, в подражание выбиванию из седла, практиковавшемуся средневековыми рыцарями.
Зрелище было в самом деле необычайно красивое, — огромный, великолепный цирк в пустыне. А для Санчеса цирк всегда имел особую притягательную силу. Галлер видел, с каким вниманием и увлечением следил он за каждой подробностью виртуозных упражнений, и вдруг заметил какое-то непонятное беспокойство в лице и во всей фигуре Санчеса. Казалось, бывшим наездником овладела какая-то мысль, какая-то решимость…
— Скажи своим братьям, — вдруг обратился он к одному из конвойных, — что я могу превзойти лучшего из ваших наездников.
Изумленный таким хвастовством индеец решил передать своим эту похвальбу, хотя бы ради курьеза, — и через несколько минут к Санчесу подъехала кучка любопытных воинов.
— Ты, жалкий белый раб? Ты хочешь состязаться в верховой езде с воинами навахо?! Ха-ха-ха!
— А вы умеете скакать, стоя на голове? — спокойно ответил вопросом Санчес.
— Как это, стоя на голове?
— Да так, на своей голове, в то время как лошадь скачет галопом?
— Да кто же это умеет? Как это возможно?
— Возможно, и я умею, — так же спокойно заявил Санчес.
— Стоит его слушать! Хвастает, дурак! — закричали некоторые.
— Пусть покажет! — воскликнул один. — Дайте ему лошадь, ей ничего не сделается.
— Дайте мне мою собственную лошадь, я покажу вам этот фокус.
— Какая твоя лошадь? Где она?
— Вон, на лугу, мустанг в яблоках.
Когда Галлер оглянулся вместе со всей толпой на луг, он увидел недалеко и своего любимого Моро; невдалеке от него лежал и верный Альп; он много раз пытался пробраться к Галлеру, но конвойные его прогоняли, и он наконец присоединился к Моро.
После короткого совещания индейцы согласились исполнить желание Санчеса. Мустанга поймали арканом, и Санчеса развязали. Индейцы не боялись, что он может ускользнуть: они были уверены, что такую лошаденку, как этот мустанг, они на своих лошадях во всякое время догонят; к тому же у обоих входов в долину была поставлена удвоенная стража.
Санчес быстро сделал нужные приготовления. Он крепко привязал к спине лошади бизонью кожу, потом медленно провел лошадь три-четыре раза по кругу, чтобы дать ей возможность ознакомиться с местом, потом быстро выпустил повод и как-то особенно крикнул, после чего мустанг пошел ровным неспешным галопом по кругу. Убедившись, что лошадь обежала круг несколько раз за одинаковый промежуток времени, Санчес быстро прыгнул ей на спину и проделал известный фокус езды вниз головой, который дикие сыны пустыни видели, однако, впервые.
Не было конца изумлению и бурным восторгам индейцев; Санчеса заставляли повторять свой фокус бесчисленное множество раз. Но Санчес этим не только не тяготился, а напротив, не мог успокоиться сам, пока не показал своим зрителям всех искусных штук и проделок, какие только знал, повергая их каждый раз все в новое и новое изумление.
Когда окончился турнир и пленников снова увели к реке, искусного наездника между ними не было. Счастливцу спас жизнь его талант. Отныне он стал учителем верховой езды у навахо.
Глава 33
СМЕЛЫЙ ПОБЕГ
Настал и следующий день, тот день, в который пленники должны были подвергнуться прогону сквозь строй. Несчастных привели спозаранку на то же место, и приготовления к этой жестокой забаве-казни производились на их глазах.
Воинов выстроили в два ряда на несколько сот шагов в длину по равнине, с промежутком в три-четыре шага между одним и другим рядом. У каждого в руке было по короткой деревянной палке. В промежутке между этими обоими рядами должны были пробегать пленные и на бегу получать удары от каждого, кто успеет.
Тому из пленных, кто умудрится пройти сквозь весь строй и добежать до подошвы горы, не будучи повален с ног дубинами, обещали сохранить жизнь.
— Правда ли это, Санчес? — спросил Галлер шепотом товарища, который, в качестве уже свободного человека, очутился случайно (а быть может, и не случайно) около Галлера.
— Нет, — ответил так же тихо Санчес, — это только хитрость, чтобы побудить вас бежать быстрее и доставить себе большую потеху. Убьют вас все равно… я слышал разговоры.
Милость была бы, во всяком случае, сомнительная, если бы пленных оставили в живых при таких условиях, потому что пройти сквозь этот ужасный строй было бы невозможно для самого здорового и крепкого человека.
— Санчес! — снова позвал его шепотом Галлер, которому вторично пришла в голову одна отчаянная мысль, прежде отброшенная. — Не могли бы вы уронить… нож… какое-нибудь оружие… что-нибудь в этом роде в ту минуту, когда меня развяжут?
— Это вам не ничем не поможет, Галлер… Бежать вам не удастся, если бы у вас было даже пятьдесят ножей.
— Маловероятно, конечно, я сам понимаю. Но попытаться все же хотелось бы. Ведь в худшем случае я рискую только жизнью, а умереть с оружием в руке все же достойнее мужчины.
— Вы правы, — пробормотал взволнованно Санчес. — Я попробую помочь вам добыть оружие. Но моя собственная жизнь…
Он внезапно умолк и через секунду продолжал, многозначительно подчеркивая тоном свои слова, делая вид при этом, что внимательно вглядывается в вершину синеющей вдали горы:
— Если вы оглянетесь назад через плечо, то увидите, быть может, томагавк… мне кажется, он слабо держится… кажется, его можно сорвать…
Галлер понял, что имел в виду Санчес, и оглянулся украдкой назад.
Всего в нескольких шагах от него стоял верховный вождь Дакома, весь поглощенный распоряжениями по поводу предстоящей церемонии. Галлер увидел томагавк за поясом индейца: действительно, он был засунут некрепко, и, быть может, рванув сильно и ловко, его можно было бы вырвать…
Галлер отличался не только смелостью характера и большой ловкостью, но и находчивостью и самообладанием в минуты опасности. В искусстве же бега и прыжков он почти не имел соперников. Итак, надежда была, а потерять он мог так мало. Было бы безумием не попытаться.
Первым должен был бежать Берней, — его уже развязали. Бедный рыжий ирландец бегал очень плохо, что-то будет с ним? Было видно, как страшно напрягался бедняга, но, пробежав всего шагов тридцать, он упал среди этой аллеи из живых людей, обливаясь кровью и потеряв сознание, — и его унесли среди криков ликующей толпы.
За Бернеем развязали и погнали одного из мексиканских охотников, которого Галлер не знал по имени, потом еще одного. Обоих несчастных постигла та же участь, что и Бернея. Наконец принялись развязывать Галлера.
Он встал, выпрямился, потянулся, чтобы размять затекшие члены, и призвал на помощь всю энергию души и тела, какую только могла пробудить безнадежность его положения.
Искоса оглянувшись еще раз, Галлер точнее определил про себя место, где стоял Дакома, потом отступил назад на несколько шагов, как бы для разбега, быстро, как молния, обернулся, ухватился рукой за топор, ловким и быстрым кошачьим прыжком вытащил его из-за пояса вождя и взмахнул им, чтобы попасть в Дакому, но второпях промахнулся. Занести его еще раз над головой Дакомы было некогда. Галлер повернулся и побежал.
Дакома был так поражен и неожиданностью, и изумлением при виде того, какое расстояние между собою и им успел вмиг сделать беглец, что не сразу бросился в погоню.
Галлер побежал не к открытому входу, а по направлению к толпе зрителей, состоявшей из стариков и детей.
Размахивая томагавком, он бросился на толпу, чтобы пробить себе дорогу в ее массе; но в этом и надобности не было, так как перепуганная и опешившая толпа сама отступала вправо и влево, очищая таким образом проход, по которому он и побежал.
Два-три человека попытались было схватить и остановить его, когда он пробегал, но без успеха — и в несколько секунд Галлер очутился среди гладкой равнины, а вся толпа с криком понеслась за ним. Он бежал к цели, давно намеченной заранее, — иначе у него не было бы надежды ускользнуть от погони, — к тому месту, где паслись кони.
Жизнь стояла на карте, и потому беглец не нуждался и в том внешнем поощрении, какое создавала погоня: все силы и энергия и без того были неослабно напряжены до последней степени. Около мили успел он уже пробежать без остановки и оглядки и был уже на таком расстоянии, что лошадь, быть может, могла бы уже услышать его зов. Тогда он решился быстро оглянуться — и с ужасом увидел, что хотя пешая толпа сильно отстала, но в погоню устремилось уже несколько человек на лошадях.
— Моро!.. Моро!.. — в отчаянии крикнул он, продолжая бежать.
Лошади как будто зашевелились, подняли головы, от них отделилась одна… Это он, его Моро! Это его широкая коричневая грудь, его красные нервные ноздри. Среди тысячи он узнает его с первого взгляда!.. Он мчится галопом по направлению к Галлеру, но за ним бросился весь встревоженный табун…
Успеет ли он вскочить на Моро или его растопчут раньше копыта скачущих на него в переполохе коней?
Но Моро подбежал первым, — задыхающийся Галлер вскочил ему на спину и понесся без узды, без седла, направляя своего любимца и спасителя только голосом, только движением рук и колен, мимо всего табуна, к западному краю долины.
Он услышал за собой крики двадцати или более догонявших его индейцев на конях, но это его больше не тревожило, с тех пор как он снова вверил свою жизнь Моро. Когда после напряженной езды он проехал наконец долину и вскарабкался по крутому отвесу Сиерры, он увидел, быстро оглянувшись, что преследователи отстали на несколько миль среди равнины.
Одно только живое существо следовало, не отставая, по пятам беглеца — это был верный друг Альп, с неимоверным напряжением бежавший в ногу с арабским скакуном и находивший в себе силы откликнуться радостным лаем каждый раз, когда на него оглядывался Галлер.
Гордым, упругим галопом нес совершенно отдохнувший за несколько дней Моро своего хозяина по скалистой тропинке. Зато сам хозяин, пролежавший связанным три мучительных дня, плохо питавшийся и разрываемый душевным волнением, чувствовал себя совсем обессиленным этой бешеной скачкой и должен был напрячь всю силу воли, чтобы овладеть своими нервами ввиду предстоящего. Ведь впереди еще была стража!
Санчес слышал от индейцев и говорил Галлеру, что стража состоит всего из двух человек; но ведь они, наверное, наилучшим образом вооружены луками, кольями, томагавками и ножами. Этого было, во всяком случае, более чем достаточно для Галлера, у которого не было ничего, кроме похищенного томагавка, и которым он, вдобавок, не особенно хорошо владел.
Галлер помнил по своей первой поездке по этим местам, что узкая тропинка, извивающаяся над зияющей пропастью, переходит дальше в широкую, ровную поляну и потом снова суживается книзу, если переехать на другую сторону Сиерры. Эта поляна была почти единственным местом, на котором возможно было повернуть лошадь; над ней высилась самая высокая вершина Сиерры — утес футов в двести высоты.
Стража должна была помещаться именно здесь, думал уверенно Галлер, так как с этого пункта видна была вся местность, окружающая долину, на юг и на запад.
Дорога шла зигзагами по извилинам каньона, и когда Галлер взобрался почти на самый верх и обогнул выступ скалы, скрывшей от него утес, он убедился, что не ошибся: стража была действительно на утесе, в неполных трехстах шагах от него, и состояла, к удивлению и радости Галлера, всего из одного часового.
Он сидел на верхней скале, спиной к Галлеру, и внимательно смотрел на запад. Рядом лежали прислоненные к скале его копье, щит, лук и колчан со стрелами, а за поясом поблескивал томагавк.
Для долгого размышления над тем, как надо поступить, времени не оставалось: преследователи гнались по пятам. Он решился на смелую попытку объехать по краю утеса — быть может, часовой его не заметит. Подвигаться приходилось, конечно, крайне медленно по головокружительной узкой тропинке, словно в воздухе висевшей над пропастью. К счастью, шумевший под ним поток заглушал топот копыт.
В такой надежде двигался Галлер, крадучись вперед, перебегая глазами с индейца на край утеса, по которому ступал, весь дрожа от страха, Моро. Альпа не видно было нигде; вероятно, он отстал, не угнавшись за Моро или же напав где-нибудь на след дичи.
Глава 34
НАД ПРОПАСТЬЮ
Отъехав шагов двадцать по скалистому обрыву, он увидел внизу поляну и на ней чьи-то силуэты… Быстро подавшись вперед, он дернул Моро за челку — за отсутствием узды он таким способом останавливал лошадь; Моро вмиг остановился, и Галлер с отчаянием вгляделся в грозную группу.
Там было две лошади — мустанги — и при них индейцы. Оседланные лошади стояли спокойно на поляне; продетый сквозь кольцо одной из них аркан был обмотан вокруг кисти индейца свободным концом. Индеец — очевидно, второй часовой — сидел на земле, прислонившись спиной к утесу, и по позе его было видно, что он спит. Оружие лежало около него, тоже прислоненное к утесу.
Что делать? Убить спящего?.. Моро не допустил этого. Обеспокоенный нерешительной остановкою всадника на таком опасном месте, он фыркнул и ударил копытом о скалу. Этого звука было довольно для тонкого слуха индейских лошадей: они тотчас заржали, индеец проснулся — и крик его, а затем и крик его товарища на верхней площадке утеса доказали Галлеру, что оба одновременно заметили его.
Галлер увидел, что верхний часовой схватил свою пику и начал быстро спускаться, но внимание его больше привлек другой часовой, схвативший лук и вскочивший с быстротою молнии на спину мустанга, помчавшись с диким криком по поляне вверх, по узкой тропинке навстречу бледнолицему врагу. На бегу он выпустил стрелу, но второпях плохо прицелился, и она просвистела мимо головы Галлера.
Через секунду лошади наскочили друг на друга и остановились головой к голове, обе с налитыми кровью глазами; у обеих валил пар из раздувавшихся ноздрей; обе бешено фыркали, как будто сознавая, что и им, как и их всадникам, предстояла борьба не на жизнь, а на смерть — и что одной из двух придется полететь вниз головой с тысячефутовой высоты на каменистое дно ручья, потому что ни разъехаться, ни повернуть назад было некуда.
Момент был трагический. В этом положении Галлер не мог воспользоваться своим томагавком, между тем индеец мог пускать в него стрелу за стрелой. Но Галлер не растерялся, а, наоборот, обострившейся при крайней опасности мыслью тотчас решил, как надо действовать, и принялся за осуществление плана.
Быстро соскользнув со спины Моро и избегнув этим внезапным движением второй стрелы индейца, Галлер прошел по узкому, как нитка, краю обрыва, тесно прижимаясь к боку коня, и перескочил на выступ скалы, где сидел на мустанге индеец. Мустанг, как будто почувствовав злой умысел, фыркнул в ужасе и хотел подняться на дыбы, но лезвие топора Галлера уже вонзилось в его череп, и через секунду конь полетел в пропасть, увлекая за собой отчаянно пытавшегося отмотать аркан и соскочить индейца.
Настала жуткая, зловещая тишина.
Галлер мысленно следил за падением, с содроганием рисуя себе каждый фут воздушного пути человека и животного… Вот донесся громкий всплеск… шум падения двух тел в воду…
Но предаваться чувствам содрогания или сожаления было некогда: другой часовой вскочил на площадку и, не останавливаясь ни на секунду, побежал на Галлера с протянутой пикой.
Уклониться от удара пики здесь не было надежды; оставалось попытаться отпарировать ее или быть пронзенным ею. Галлер начал отбивать ее взмахами томагавка и ему удалось не только отпарировать удар, но и выбить копье из рук индейца. Тогда и индеец выхватил свой томагавк, и в течение нескольких минут оба сражались ими, то промахиваясь, то нанося друг другу легкие раны, причем Галлер старался все больше и больше отодвигаться от края утеса, оттесняя и противника, пока оба не очутились на площадке.
Здесь было больше простора для битвы томагавками, и оба противника, словно спеша воспользоваться удобными условиями боя, одновременно взмахнули топорами и с такой силой, что они, звякнув друг о друга, вылетели у обоих из рук. Тогда противники схватились и через несколько минут повалили друг друга на землю.
Галлер не мог отдать себе отчета, сколько времени длилась эта борьба с почти равным для обоих противников успехом или неуспехом, но вдруг почувствовал превосходство мускульной силы индейца; совершенно обессилевший, он лежал на спине, не в силах не только возобновить нападение, но даже защищаться; тяжелое колено индейца давило ему на грудь, и сильная, железная рука сжимала ему горло так, что Галлер начинал терять сознание.
Но Галлеру суждено было находить спасение в своих четвероногих друзьях. В самую критическую минуту, серьезно грозившую стать для него роковой, откуда-то выскочил Альп, одним бешеным прыжком бросился на индейца — и через мгновение Галлер почувствовал себя свободным: зубы Альпа обезвредили его противника, метавшегося по земле, изловчившегося на миг стать на ноги, но тотчас снова свалившегося от яростного нападения сенбернара.
Вид искусанного, окровавленного и изнемогавшего противника был так ужасен, что Галлер, собравшись с силами, готов был сам спасать его от ярости обезумевшего Альпа; но в ту же минуту послышались подозрительные звуки, заставившие его снова сосредоточиться на своем положении. Прислушавшись, Галлер понял, что его преследователи достигли каньона и гонят лошадей к скалистому выступу.
Подбежав к лошади и усевшись на нее, Галлер все же отозвал Альпа, но тот, по-видимому, уже не помнил себя от ярости, не слушал или не слушался голоса хозяина, и Галлеру ничего иного не оставалось, как предоставить и несчастного индейца, и самого Альпа своей судьбе до того момента, когда подъедут индейцы.
Миновав утес и, следовательно, самую опасную часть пути, Галлер мчался с горы с чувством избавления от опасности.
Когда он выехал на равнину, то оглянулся и увидел, что его преследователи спускаются по хребту Сиерры; но Галлер был все же впереди на целую милю и бодро продолжал скакать полным галопом по прерии, направляясь к снеговой горе.
Через некоторое время Галлер с изумлением увидел бегущего рядом с Моро, тяжело дышащего от утомления и перепачканного в крови Альпа. Вид его возбуждал в измученной душе Галлера смешанное чувство радости о том, что он вернулся невредимым, благодарности за свое спасение и неприязни за слишком жестоко истерзанного врага.
Глава 35
НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Когда Галлер отъехал от подошвы Сиерры, была еще предполуденная пора. Удастся ли ему добраться засветло до снеговой горы, путь к которой был гораздо длиннее по западному краю долины, чем по восточному? Если бы это удалось, то он мог надеяться добраться прежним путем до рудников, а оттуда добрался бы и до Рио-дель-Нортэ по какому-нибудь притоку.
Он ожидал, что преследователи будут гнаться за ним до самых ворот Эль-Пасо; но он успел настолько опередить их, что мог теперь позволить себе щадить, по возможности, силы лошади. При настоящем положении он больше нуждался в том, чтобы сил коня хватило до конца, чем в том, чтоб он сейчас бежал с наибольшей быстротой. И он решил, ради сбережения сил Моро, не увеличивать, а только сохранять известное расстояние между собой и своими преследователями.
Имея в виду эту главную цель, он даже соскакивал время от времени с коня, чтобы облегчить его, и бежал некоторое время рядом с ним. Альп спешил за ним, не отставая и часто взглядывая в лицо Галлера с таким выражением умных глаз, которое как будто говорило о его понимании причины такой неустанной скачки.
Но вот уже совсем близко сверкает снеговая вершина горы. Галлер вдруг вспомнил, что здесь близко должна быть вода — в том месте, куда отправился вперед Эль Соль с обозом и пленными навахо и где поджидал уцелевших в битве и при наводнении товарищей. Решив освежиться сам и напоить животных, он погнал лошадь скорее, чтоб выиграть для этого время.
Когда Галлер подъехал к ущелью, солнце уже близилось к закату. Прежде чем въехать в него, Галлер оглянулся на погоню и убедился, как сильно он опередил ее за последний час, хотя и скакал умереннее: преследователи были, по крайней мере, в трех милях от него — и было видно, что они плетутся устало, понуро, из последних сил. Было ясно, что непосредственной опасности нет.
Скользнув между скал в глубь ущелья, он вдруг почувствовал, что Моро вздрогнул и метнулся в сторону, и тотчас же услышал яростный лай Альпа.
— Черт возьми! — услышал он чей-то голос. — Кто это к нам жалует верхом без седла и без узды?
Из-за скал выскочили пять или шесть человек, вооруженных ружьями, и окружили Галлера.
— Пусть меня изжарят индейцы, если это не тот самый юноша, о котором скорбел наш капитан! Взгляни-ка, Билл!
— Рубэ!.. Гарей!..
— Кто? Святители! Да ведь это… ведь это вы, Галлер, друг мой! Ура, товарищи! Неужели не узнали меня?!
— Сен-Врэн?! Вы? Господи!
— Я, я сам! Сен-Врэн, собственной персоной! Ну, вашу персону из-под всей этой коры грязи и крови, пожалуй, потруднее узнать! Да слезайте же с лошади! Как это вы ускользнули из рук проклятых краснокожих?
— Прежде вы мне расскажите, почему вы тут в сборе и что вы здесь делаете?
— О, мы здесь в качестве передового отряда, а армия наша за нами, внизу, у выхода из ущелья.
— Армия? Какая? Ничего не понимаю!
— Да мы так называем наших. Нас теперь около шестисот человек, а по здешним местам это добрая армия.
— Да кто же… из кого же она состоит?
Прислушавшись, Галлер понял, что его преследователи достигли каньона и гонят лошадей к скалистому выступу.
Подбежав к лошади и усевшись на нее, Галлер все же отозвал Альпа, но тот, по-видимому, уже не помнил себя от ярости, не слушал или не слушался голоса хозяина, и Галлеру ничего иного не оставалось, как предоставить и несчастного индейца, и самого Альпа своей судьбе до того момента, когда подъедут индейцы.
Миновав утес и, следовательно, самую опасную часть пути, Галлер мчался с горы с чувством избавления от опасности.
Когда он выехал на равнину, то оглянулся и увидел, что его преследователи спускаются по хребту Сиерры; но Галлер был все же впереди на целую милю и бодро продолжал скакать полным галопом по прерии, направляясь к снеговой горе.
Через некоторое время Галлер с изумлением увидел бегущего рядом с Моро, тяжело дышащего от утомления и перепачканного в крови Альпа. Вид его возбуждал в измученной душе Галлера смешанное чувство радости о том, что он вернулся невредимым, благодарности за свое спасение и неприязни за слишком жестоко истерзанного врага.
XXXIV. Нежданная встреча
Когда Галлер отъехал от подошвы Сиерры, была еще предполуденная пора. Удастся ли ему добраться засветло до снеговой горы, путь к которой был гораздо длиннее по западному краю долины, чем по восточному? Если бы это удалось, то он мог надеяться добраться прежним путем до рудников, а оттуда добрался бы и до Рио-дель-Нортэ по какому-нибудь притоку.
Он ожидал, что преследователи будут гнаться за ним до самых ворот Эль-Пасо; но он успел настолько опередить их, что мог теперь позволить себе щадить, по возможности, силы лошади. При настоящем положении он больше нуждался в том, чтобы сил коня хватило до конца, чем в том, чтоб он сейчас бежал с наибольшей быстротой. И он решил, ради сбережения сил Моро, не увеличивать, а только сохранять известное расстояние между собой и своими преследователями.
Имея в виду эту главную цель, он даже соскакивал время от времени с коня, чтобы облегчить его, и бежал некото
рое время рядом с ним. Альп спешил за ним, не отставая и часто взглядывая в лицо Галлера с таким выражением умных глаз, которое как будто говорило о его понимании причины такой неустанной скачки.
Но вот уже совсем близко сверкает снеговая вершина горы. Галлер вдруг вспомнил, что здесь близко должна быть вода — в том месте, куда отправился вперед Эль Соль с обозом и пленными навахо и где поджидал уцелевших в битве и при наводнении товарищей. Решив освежиться сам и напоить животных, он погнал лошадь скорее, чтоб выиграть для этого время.
Когда Галлер подъехал к ущелью, солнце уже близилось к закату. Прежде чем въехать в него, Галлер оглянулся на погоню и убедился, как сильно он опередил ее за последний час, хотя и скакал умереннее: преследователи были, по крайней мере, в трех милях от него — и было видно, что они плетутся устало, понуро, из последних сил. Было ясно, что непосредственной опасности нет.
Скользнув между скал в глубь ущелья, он вдруг почувствовал, что Моро вздрогнул и метнулся в сторону, и тотчас же услышал яростный лай Альпа.
— Черт возьми! — услышал он чей-то голос. — Кто это к нам жалует верхом без седла и без узды?
Из-за скал выскочили пять или шесть человек, вооруженных ружьями, и окружили Галлера.
— Пусть меня изжарят индейцы, если это не тот самый юноша, о котором скорбел наш капитан! Взгляни-ка, Билл!
— Рубэ!.. Гарей!..
— Кто? Святители! Да ведь это… ведь это вы, Галлер, друг мой! Ура, товарищи! Неужели не узнали меня?!
— Сен-Врэн?! Вы? Господи!
— Я, я сам! Сен-Врэн, собственной персоной! Ну, вашу персону из-под всей этой коры грязи и крови, пожалуй, потруднее узнать! Да слезайте же с лошади! Как это вы ускользнули из рук проклятых краснокожих?
— Прежде вы мне расскажите, почему вы тут в сборе и что вы здесь делаете?
— О, мы здесь в качестве передового отряда, а армия наша за нами, внизу, у выхода из ущелья.
— Армия? Какая? Ничего не понимаю!
— Да мы так называем наших. Нас теперь около шестисот человек, а по здешним местам это добрая армия.
— Да кто же… из кого же она состоит?
— Состава она самого пестрого, разноцветная, как радуга. Есть у нас люди и из Чихуахуа, и из Эль-Пасо, и с ними изрядное число охотников, звероловов, погонщиков — образцовый комплект. Одним отрядом, который я сформировал, командую я, а другой идет под командой Сегэна.
— Сегэна? Значит, он…
— Вот вопрос! Да он же во главе всего дела!.. Жив, конечно! Однако, подите-ка сюда, прежде всего подкрепитесь глотком старого эль-пасского вина.
— Погодите минутку. Я забыл сказать вам: за мной погоня, индейцы.
— Близко?
— Нет, отстали мили на три, и лошади у них совсем изморенные.
— Ну, так мы еще успеем оказать им прием. Пойдемте с нами, Галлер!
И маленький отряд вместе с неожиданным вестником и принесенной им важной вестью направился к ручью, где находилась вся армия в сборе.
Глава 36
ВОЕННЫЙ СОВЕТ И «АРМИЯ»
Лагерь оказался огромный и действительно походил на армию, так как человек триста были даже одеты в одинаковую форму.
Последние хищнические набеги ожесточили население до последней степени и послужили поводом к сформированию этого огромного отряда, решившего однажды и навсегда проучить краснокожих разбойников.
Сегэн с остатками своего отряда присоединился к этим добровольцам в Эль-Пасо и тотчас же отправился с ними в страну навахо. Находившийся в это время в Эль-Пасо Сен-Врэн узнал от него, что Галлер взят в плен, и в надежде посодействовать его освобождению также примкнул к отряду вместе с 40–50 служителями, сопровождавшими его прежний караван.
Большая часть отряда Сегэна уцелела после битвы в барранке, и в числе спасшихся были также Эль Соль и его сестра Луна. Теперь они тоже отправлялись с отрядом и в эту минуту были в палатке Сегэна, где с ними и свиделся Галлер.
Сегэн вдвойне обрадовался Галлеру, от которого мог узнать что-нибудь о своих, и, как ни мало мог о них рассказать Галлер, Сегэн был все же счастлив, узнав хоть, что жена и дочери его живы и здоровы.
Время было дорого, и на праздные разговоры его нельзя было терять. Отряд в сто человек тотчас же отделился и поехал внутрь ущелья. На середине ущелья они увели лошадей под надежное прикрытие в скалах и устроили засаду. Приказ был забрать всех индейцев в плен или застрелить их, но живым не выпустить ни одного, чтобы он не мог бежать на родину с вестями.
Ждать пришлось недолго. Через несколько минут после того, как была устроена засада, индейцы один за другим проехали по ущелью мимо укрывавшихся белых к выходу.
Поняв, что они попали в западню и видя огромное превосходство сил с той и другой стороны ущелья, индейцы и не пытались защищаться, а побросали копья и запросили пощады. В несколько минут охотники перевязали всех и вернулись с ними к Сегэну, который тотчас созвал для совещания всех начальников отдельных частей войска.
В нападении на навахо в их городе представлялось немало затруднений разного рода; главное же и самое важное в данную минуту было в том, как обеспечить, чтобы навахо не могли быть предупреждены своевременно о нападении, потому что в противном случае они могли скрыть всех белых пленных, спрятав их в огромном лесу, расположенном невдалеке от города и тянущемся на много миль. Тогда все поиски и все преследования были бы тщетны.
Как ни труден был вопрос, но в числе совещавшихся нашелся человек, голова которого преодолела и это затруднение, как преодолевала уже множество прежних. Это была голова безухого зверолова Рубэ. И вот все собрание единодушно остановилось, по его совету, на следующем плане.
Выступление совершится в ту же ночь, чтобы до каньона, точнее, до восточного входа в него можно было успеть добраться еще до рассвета. Нападение на город должно быть произведено как можно раньше.
Чтобы обезопасить себя со стороны часовых у входа в долину, было придумано следующее: отряд из двадцати человек переоденется в платья только что взятых в плен индейцев — в этот отряд войдут Эль Соль и союзники-делавары, затем Рубэ, Гарей и Сегэн — и, выйдя часом раньше всей армии, снимет стражу и дождется товарищей.
Но переодетый отряд преследует еще одну цель — главную: незадолго до самого нападения он должен будет сыграть роль тех двадцати навахо, которые были отправлены в погоню за Галлером. Они войдут первыми в город, ведя впереди привязанного к лошади Галлера, воспользовавшись моментом, окружат храм и с помощью хитрости овладеют белыми пленными и королевой.
После этого будет дан сигнал трубы, по которому или же при первых выстрелах в город галопом ворвется все войско.
Глава 37
ПОБЕДА
Еще до наступления вечера вышел передовой отряд, переодетый в платье навахо и раскрашенный достаточно искусно, чтобы провести врага ненадолго и при неярком свете, и за два часа до рассвета достиг восточного каньона, где еще сохранились следы разрушений от недавнего наводнения.
У выхода из ущелья оказалась стража из пяти индейцев, но, обманутая маскарадом, она подпустила к себе отряд так близко, что была взята в плен без единого выстрела.
После них главный отряд прошел совсем беспрепятственно и, прибыв к ближайшему перед городом лесу, остановился и спрятался в чаще.
В долине царила глубокая тишина, и город покоился сном в этом лунном сиянии. В такой ранний час в городе никто еще не просыпался; между тем внизу над рекой темнели какие-то две-три фигуры. Галлер понял, что это были конвойные при пленных, захваченных вместе с ним. Значит, бедняги еще живы и, конечно, не подозревают, как близок час освобождения.
Томительно тянулось время до рассвета. Наконец забрезжило утро; при бледном сумеречном свете его передовой отряд сел на коней и, выйдя из укрытия, направился через равнину, поместив в середине привязанного для виду к спине Моро Галлера.
Когда переодетые всадники подъехали к городу, они заметили на крышах много людей и были, по-видимому, замечены в свою очередь. Там забегали, засуетились; первые вызвали из домов других, и мало-помалу большие группы показались и на террасах. Когда они подъехали ближе, навстречу им понесся гул ликующих криков.
Очутившись у подножия храма, отряд вдруг круто остановился, все соскочили с коней и полезли вверх по лестницам. У перил террас было много женщин, Сегэн тотчас разглядел среди них королеву, свое бедное дитя — из предосторожности он приказал увести ее тотчас внутрь храма, а через минуту в объятиях его плакали от радости жена и младшая дочь.
Вдруг дикий, безумный крик пронизал воздух… Очевидно, индейцы поняли, что их обошли хитростью. В тот же миг воины выскочили из своих домов и бросились толпами к храму. Засвистели стрелы… Но громче всех звуков и криков прозвучал сигнальный звук рога, сзывавший товарищей для атаки.
Армия была наготове и помчалась галопом к городу. Шагов за двести от жилых домов она разбилась на два отряда, чтобы окружить город и повести атаку с обеих сторон.
У стен крайних домов белые были встречены рукопашным боем. Вызывающие крики, частые выстрелы ружей и карабинов свидетельствовали о том, что битва началась.
Вскоре сражение разгорелось во всех концах. В воздухе стоял стон от диких криков и выстрелов.
На высоких крышах шел отчаянный, смертный бой. Женщины метались с криками ужаса по террасам, бросались бежать в лес. Перепуганные лошади бежали по свободным улицам с бешеным фырканьем и ржанием, а не имевшие свободного прохода били копытами о землю, кусались, скакали через стены. Картина была безумная, чудовищная.
Галлеру пришлось быть все время пассивным зрителем сражения, так как он охранял с пистолетом в руках ту дверь храма, за которой находились женщины. Место, охрану которого он взял на себя — отчасти из потребности собственного сердца, отчасти по просьбе Сегэна, — было расположено так высоко, что он мог следить за развитием битвы во всем городе, от дома к дому.
Когда он обводил глазами через перила картины битвы, внимание его приковала к себе одна сцена так, что он на время забыл обо всем остальном. На одной высокой террасе бились смертным боем два человека; пристальнее всматриваясь, Галлер узнал их: это были Дакома и Эль Соль. У навахо была пика, а у марикопа — ружье, из которого уже были выпущены, по-видимому, пули, так как он замахнулся над головой врага прикладом.
В тот момент, когда Галлер впервые заметил их, Эль Соль, отбив удар копья, направил удар прикладом на Дакому, но тот быстро отшатнулся и снова направил пику. Эль Соль не успел отразить сильный удар, пика вонзилась и прошла, по-видимому, через все его тело, как можно было судить по подавшемуся вперед корпусу навахо.
Галлер невольно вскрикнул, ожидая, что Эль Соль тотчас свалится мертвым, — и вдруг с изумлением увидел, что он замахнулся прикладом и… через несколько секунд Дакома упал к его ногам с раздробленным черепом.
Только тогда силы оставили его, и он сам упал на труп, но тотчас же собрался с силами, вытащил длинное копье из своего тела, шатаясь, подошел к перилам и крикнул:
— Сюда, Луна! Я отомстил за нашу мать!
Галлер видел, как молодая девушка вскарабкалась на крышу, а через секунду раненый упал без чувств на руки сестры.
Эта сцена была, по-видимому, замечена и другими, потому что Галлер видел, как бросились на крышу доктор, Сен-Врэн и еще некоторые. Исследование раны показало, что она, к счастью, не смертельна.
* * *
Становилось несомненным и для индейцев, что результатом боя будет победа белых. Оставшиеся в живых отказались от сопротивления и бежали в лес.
Сражение кончилось.
Охотники остались близ города на весь день, чтоб дать отдохнуть животным и приготовиться к обратному пути на родину через пустыню.
С восходом солнца все войско, захватив с собою скот и освобожденных пленных, тронулось на следующий же день через восточный каньон, направляясь к снеговой горе.
Начались снова все муки и лишения трудного перехода через пустыни, только воспринимались они на этот раз не так, как раньше, хотя и утомленными физически, но счастливыми путниками.
Весь отряд возвращался с гордым и радостным чувством победы, достигнутой цели, свободы от давней постоянной угрозы набегов дикарей. А для многих к этой радости и гордости присоединялось еще освобождение от горя, торжество счастья: ведь многие везли теперь с собой давно оплаканных близких и дорогих людей, без которых жизнь была мрачна и пуста, о которых думали всегда с тоской и ужасом, представляя себе их участь в руках жестоких дикарей.
Впервые за много лет отдыхало теперь исстрадавшееся сердце охотника за скальпами Сегэна. Счастье его было так велико, что его теперь не омрачала даже мысль о том, что бедное дитя его одичало и отвыкло от родителей. Он говорил себе, что совместная жизнь с матерью и сестрой, безграничная любовь и заботы, которыми ее окружат дома, должны будут благотворно повлиять на душу девушки и, быть может, воскресят ее память.
Глава 38
ДОМА
Прошла неделя со времени возвращения Сегэна домой.
Был дивный теплый вечер. Семья Сегэна и гостившие у них Галлер и Сен-Врэн сидели на плоской крыше дома, обсаженной растениями и цветами.
По настоянию матери, которую Адель все еще не узнавала, но к которой начала относиться дружелюбно, Адель сбросила свой индейский костюм и была одета так же, как сестра, но чувствовала себя по-прежнему как среди чужих.
В этот вечер, когда вся семья собралась на балконе-крыше тесным кружком, Адель одна стояла в стороне, опершись на перила и безучастно смотрела в пространство. О чем думала бедная девушка? — с тоской спрашивали друг у друга глазами опечаленные отчуждением дочери родители. Быть может, ее томит скука? Ведь она не может следить за общим разговором, забыв и родной язык…
Жена Сегэна вздумала поиграть на мандолине, быть может, музыка развлечет Адель. Зоя принесла из дома инструмент, и госпожа Сегэн начала тихо и задумчиво перебирать струны… Она так давно не играла! Столько было пережито с тех пор, как она в последний раз держала мандолину в руках!..
Под наплывом дум и воспоминаний она продолжала рассеянно перебирать струны, думая, какую выбрать пьесу, чтоб развлечь Адель.
Первые же ноты как будто пробудили Адель ото сна. Она обернулась лицом к своим и переводила широко раскрытые глаза с матери на инструмент и снова на мать — удивленно и вопросительно.
Сегэн тотчас заметил новое выражение в лице дочери. Сердце его дрогнуло радостным предчувствием, и в страстном возбуждении он воскликнул:
— Адель, о моя Адель!..
Затем, обернувшись к жене, нервно проговорил:
— Спой, Адель, ту песенку… ту, знаешь, которой ты убаюкивала ее… О, посмотри на нее! Пой же, пой скорее! Быть может, Господь сжалится…
Преодолевая страшное волнение, оглянувшись полными слез глазами на свое дитя, мать тихо и нежно запела:
Спи, моя крошка,
Спокойно усни!
Пусть ангелы в небе
Хранят твой покой!
Дитя дорогое…
Пение было прервано странным резким криком девушки. При первых же словах песни она вздрогнула всем телом и начала прислушиваться внимательно, напряженно… Потом с криком подбежала и также напряженно начала вглядываться в лицо госпожи Сегэн, а через минуту бросилась к ней на шею с громким, страстным криком:
— Мама! Мама!
* * *
Да, Господь сжалился и вернул ей память. Любимая мелодия детства задела в душе струну воспоминаний, и душа дрогнула, проснулась. Мало-помалу она вспомнила и отца, и сестру, многие картины детства: понемногу припомнила и родной язык.
За много-много лет впервые радость и счастье осенили дом Сегэна и его семью, к которой они могли причислить отныне и двух зятей — Галлера и Сен-Врэна.
БЕЛЫЙ ВОЖДЬ (роман)
Карлос — отважный охотник на бизонов — принимает участие в состязаниях на празднике в честь дня Св. Иоанна в маленьком мексиканском городке Сан-Ильдефонсо. Показав свою отвагу, он обретает внимание красавицы, но и ненависть со стороны соперников.
Глава 1
Это случилось в глубине Американского континента, более чем за тысячу миль от обоих океанов.
Поднимитесь со мною вон на ту гору и с ее снеговой вершины посмотрите вокруг.
Вот мы уже на самом высоком гребне. Что же мы видим?
На север, пересекая тридцать параллелей, до самых берегов Северного Ледовитого Океана, тянутся горы. Они беспорядочно громоздятся на юге: цепи их то расходятся, то сплетаются в узел. И на западе тоже горы; их неровные очертания четко вырисовываются в небе, а у подножий раскинулись широкие плоскогорья.
А теперь обратимся на восток. Ни одной горной вершины! Ни одной — на сколько хватает глаз и еще на тысячи миль. Вон та темная линия, встающая на горизонте, — это лишь скалистый край другого плоскогорья, такой же прерии, только приподнятой чуть выше над уровнем моря.
Где же мы? На какой вершине? На Сьерра-Бланка, которую охотники называют «Испанский пик». Мы на западной окраине Великих Равнин.
На востоке глаз не встречает никаких признаков цивилизации. Можно ехать целый месяц и все равно не встретить их. На севере, на юге — лишь горы да горы.
Не то на западе. В подзорную трубу вы разглядите вдалеке возделанные поля, протянувшиеся вдоль берегов сверкающей на солнце реки. Это поселения Новой Мексики, оазис, питаемый водами Рио дель Норте. Но события, о которых пойдет речь, развернулись не здесь.
Взгляните снова на восток — и место действия будет перед вами. От подножия горы, на которой мы стоим, простирается далеко на восток плоскогорье. Здесь нет предгорий, оно вплотную подходит к горному кряжу; один шаг — и под ногами у вас уже не ровная земля, а скалистый, поросший сосною склон.
Плоскогорье это не назовешь однообразным. Местами, где разрослась невысокая густая трава, оно ярко-зеленое, но большая часть его бесплодна, точно пустыня Сахара. Вот лежит бурая, выжженная солнцем земля, на которой не видно ни травинки, а там — рыжие пески, а еще дальше все бело, как снег, покрывающий вершину, на которой мы стоим, — это на поверхность проступила соль.
Скудная растительность не одевает землю зеленым нарядом. Листья агавы испещрены багровыми пятнами, тусклая зелень кактусов кажется еще безжизненней оттого, что они сплошь покрыты колючками, Острые листья юкки посерели от пыли и напоминают связки заржавленных штыков; низкорослая, чахлая акация почти не дает тени, и под ней едва могут укрыться большие темные ящерицы и гремучие змеи. То тут, то там одиноко стоит карликовая пальма с голым стволом и пучком листьев на вершине; она придает пейзажу что-то африканское. Глаз всегда быстро устает от картины, где предметы кажутся угловатыми и колючими, а здесь так выглядят не только деревья, но и все растения, и даже у каждой травки свои шипы.
С какой радостью обращаешь взгляд к чудесной долине, уходящей к востоку от подножия горы! Как не похожа она на это бесплодное плоскогорье! Она сплошь устлана ковром яркой зелени, усеянным цветами, которые сверкают всеми красками, словно драгоценные камни. Так и манят к себе теннистые рощи, где сплетают свои ветви тополь, китайское дерево, дуб, ива. Спустимся же под их сень.
Вот мы и у края плоскогорья, а долина все еще далеко внизу, до нее по меньшей мере тысяча футов, но со скалы, которая нависает над нею, можно окинуть взглядом всю ее на многие мили. Она такая же плоская, как и плоскогорье, лежащее выше; и, глядя на нее сверху, представляешь себе, что здесь земная кора раздалась и часть плоскогорья, опустившись вниз, коснулась самых истоков животворной силы земли, которой лишено высокое плоскогорье.
По обе стороны долины, на сколько хватает глаз, протянулись отвесные скалы; они спускаются крутыми тысячефутовыми уступами и почти неприступны; взобраться на них можно лишь в некоторых местах. Ширина долины десять миль, а каменные стены, ограждающие ее, одинаковой высоты и похожи друг на друга, как близнецы. Мрачные и дикие, нависают они над приветливой, сияющей долиной, и она напоминает прекрасную картину в грубой, топорной раме.
Река делит долину надвое; серебряной змейкой она извивается то вправо, то влево, словно ей любо струиться меж этих ярких и веселых берегов. Бесконечные изгибы, спокойное течение свидетельствуют о том, что ложе ее почти гладкое. Берега ее поросли лесом, но не сплошь: здесь он тянется широкой полосой, там по самому краю берега стоят редкие деревья, едва затеняя реку, а вон виднеется зеленый луг — он сбежал к самой воде.
То тут, то там разбросаны небольшие рощи. Они все разные: одни совсем круглые, другие — продолговатые или овальные, а третьи изогнуты, как рог изобилия. Кое-где деревья растут в одиночку; их пышная крона говорит о том, что природа не пожалела на нее сил. Эта долина наводит на мысль о прекрасном парке, насаженном рукой человека, и деревьев здесь как раз столько, чтобы украсить парк, не скрывая его прелести.
Неужели здесь нет дворца или замка, который дополнил бы картину? Нет, ни дворца, ни какого-либо жилища; ни единый дымок не поднимается к небу. Ни души не видно в этом диком раю. Здесь бродят стада оленей, в теннистых рощах отдыхают величественные лоси, но людей здесь нет. Быть может, нога человека никогда…
Но нет! Наш спутник говорит совсем другое. Слушайте:
«Это долина Сан-Ильдефонсо. Сейчас она необитаема, но было время, когда ее населяли цивилизованные люди. Почти посередине долины там и тут видны какие-то беспорядочные груды. На них буйно разрослись сорные травы, деревья, но вглядитесь — и вы поймете, что это развалины города.
Да, когда-то на этом месте был большой, богатый город. Здесь стояла крепость, и на башнях ее реял испанский флаг. Была здесь и миссия, основанная отцами иезуитами, а по всей долине, вокруг города, поселились богатые владельцы рудников и асиенд. Всюду деловито сновал народ, всюду кипели страсти — любовь и ненависть, честолюбие, алчность и месть. Сердца, горевшие ими, давно уже перестали биться, и дела, ими порожденные, ни один летописец не запечатлел на бумаге. Они живут лишь в рассказах, в легендах, похожих более на вымысел, чем на быль.
И, однако, этим легендам не больше ста лет. Сто лет назад с вершины этой горы можно было увидеть не только поселение Сан-Ильдефонсо, но и еще множество городов, поселков, деревень, а ныне на их месте не заметишь и следов человеческого жилья. Самые имена этих городов забыты, и их история погребена среди развалин.
Индейцы жестоко отомстили убийцам Монтесумы[1]. Если бы саксы позволили этой войне, этой мести бушевать еще столетие… нет, даже полстолетия, от потомков Кортеса и от его воинов-завоевателей не осталось бы и следа на земле Анауака[2].
Слушайте же легенду Сан-Ильдефонсо!
Глава 2
Пожалуй, ни в одной стране нет столько религиозных праздников, как в Мексике. Считается, что церковные праздники помогают обратить местное население в христианскую веру, поэтому на мнимосвятой мексиканской земле святцы значительно расширены. Редкая неделя обходится без празднества со всеми его аттрибутами: тут и хоругви, и процессии, и священники в торжественном облачении, точно для представления «Писарро»[3], и духовые ружья, и фейерверки, и повсюду обнажают головы и прямо в пыли преклоняют колена простодушные жители. Все вместе это очень напоминает лондонские шествия в память «порохового заговора»[4] и почти столь же благотворно влияет на нравственность населения.
Конечно, святые отцы затевают эти церемонии не просто для развлечения — вовсе нет. У них имеются в запасе разные небольшие молитвы, индульгенции[5], святая вода, и всем этим они во время праздников оделяют верующих, притом отнюдь не безвозмездно; и когда несчастному грешнику приходит охота покаяться, его основательно обирают, зато ему обещают короткий и легкий путь прямо в рай.
Казалось бы, церемонии эти должны быть исполнены торжественности — ничуть не бывало. Они становятся, в сущности, просто развлечением. Зачастую увидишь коленопреклоненного богомольца, который изо всех сил старается унять боевого петуха, спрятанного в складках серапе и порывающегося закукарекать. И это — под священными сводами храма господня!
В дни празднеств богослужения длятся недолго, а затем вступают в свои права азартные игры, скачки, травля медведей собаками, петушиные бои и другие столь же неприхотливые забавы. Среди игроков вы встретите и священника в сутане, который утром читал молитвы, и, если угодно, можете поставить свой доллар или дублон против его монеты.
Один из самых торжественных и пышных праздников в Мексике — день святого Иоанна. В этот день, особенно в деревнях Новой Мексики, никто не остается дома. Нарядные толпы направляются к какому-нибудь определенному месту, обычно на соседний луг, чтобы полюбоваться самыми разными состязаниями: скачками, погоней за быком, петушиными гонками. В перерывах играют в карты, курят, любезничают с девушками.
В дни празднеств устанавливается некоторое подобие равенства, точно при республике. Богатый и бедный, знать и простонародье — все смешалось в толпе, все развлекаются вместе.
* * *
Сегодня день святого Иоанна. На широком зеленом лугу, что раскинулся за окраиной города, собрались жители Сан-Ильдефонсо. Здесь по праздникам всегда происходят игры, и скоро они начнутся. А пока давайте побродим в толпе и посмотрим, из кого она состоит.
Тут представлены все слои общества, вернее — все здешнее общество.
Вот торопливо идут два тучных святых отца из миссии, в сутанах грубой саржи, с четками и крестами, свисающими до колен; у обоих блестят тщательно выбритые тонзуры. Индейцу-апачу не удалось бы поживиться их скальпами.
А вот священник городской церкви в длинной черной сутане, в широкополой шляпе, в черных шелковых чулках и туфлях с пряжками — его сразу заметишь. Он то милостиво улыбается толпе, то метнет в нее хитрый и злобный взгляд черных глаз, то, помогая вновь прибывшей сеньоре занять место, выставит напоказ свои холеные, унизанные перстнями пальцы. Поистине они великие дамские угодники, эти непорочные служители мексиканской церкви.
Мы подошли к скамьям, которые поднимаются амфитеатром, в несколько рядов. Посмотрим, кто же здесь расположился. С первого взгляда ясно, что это цвет общества, местная аристократия. И в самом деле, вот богатый негоциант дон Хосе Ринкон со своей дородной супругой и четырьмя пухлыми, сонными дочерьми. Здесь же супруга алькальда и все его семейство; и сам алькальд со своим украшенным кистями жезлом — знаком его достоинства; и девицы Эчевариа — прелестные создания (как они сами полагают) — в сопровождении брата-щеголя, который отверг национальный костюм ради парижской моды. Здесь и богатый асиендадо[6] сеньор Гомес дель Монте, обладатель бессчетных стад и обширного поместья в долине; здесь и многие другие землевладельцы со своими женами и дочерьми. И тут же привлекающая все взоры прекрасная Каталина де Крусес, дочь богатого владельца рудников дона Амбросио.
Счастлив будет тот, кто завоюет улыбку Каталины, или, вернее, благосклонность ее отца, ибо это он скажет решающее слово, когда дело дойдет до замужества дочери. Впрочем, ходят слухи, что все уже давно слажено и что удачливый претендент на руку Каталины — капитан Робладо, первое после коменданта лицо в крепостном гарнизоне. А вот и он сам — лихой усач; грудь и спина у него в золотых галунах и шнурах; он свирепо хмурит брови, стоит только кому-нибудь заглядеться на прекрасную Каталину. Но хоть у него и золотые галуны и гордый вид, а этот выбор едва ли свидетельствует о хорошем вкусе Каталины.
Впрочем, ее ли это выбор? Быть может, нет; быть может это выбор дона Амбросио. Честолюбивые мечты завладели им: плебей по рождению, он решил породниться с благородным идальго. У капитана нет и гроша за душой, если не считать его солдатского жалованья, да и оно уже взято за несколько месяцев вперед, зато он настоящий ачупино[7] — в его жилах течет «голубая» кровь подлинного идальго. В своих честолюбивых мечтах старый скряга неоригинален, их разделяют все выскочки.
Тут же стоит комендант Вискарра, высокий сорокалетний полковник, весь в галунах, в шляпе с перьями — настоящий павлин.
Это веселый старый холостяк. Он оживленно переговаривается то с отцом иезуитом, то с городским священником, то с алькальдом, а тем временем оглядывает проходящих мимо крестьянских девушек, прибывших на праздник, и глаза его перебегают с одного смазливого личика на другое. Девушки с изумлением смотрят на его ослепительный мундир, а ему, воображающему, что он второй Дон Жуан, в их взглядах чудится восхищение, и он любезно и снисходительно улыбается им в ответ.
Здесь и третий офицер — в крепости их всего три лейтенант Гарсия. Он красивее старших офицеров, а потому пользуется большим успехом и у простых крестьянских девушек, и у богатых и знатных сеньорит. Я, право, удивлен, что прекрасная Каталина не отдала ему предпочтения. Впрочем, кто поручится, что она этого не сделала? В Мексике женщина умеет хранить тайны своего сердца — их не прочтешь на ее лице, и они не легко слетают с языка.
Не так-то просто сказать, о ком сейчас думает Каталина. В ее годы — а ей двадцать лет — сердце редко бывает свободным. Но кто же он? Робладо? Готов держать пари, что нет. Гарсия? Тут, во всяком случае, можно спорить. Ну, а кроме них, ведь есть и другие — и молодые асиендадо, и служащие на рудниках, и несколько городских щеголей-купцов. Ее выбор мог пасть на кого-нибудь из них. Как знать!
Побродим еще немного в толпе.
Вот солдаты гарнизона; их шпоры позванивают, сабли волочатся по земле, они по-братски смешались с толпой ремесленников в серапе, рудокопов, скотоводов из долины. Они подражают манерам своих офицеров и расхаживают с таким чванным, гордым видом, что сразу понимаешь: военные здесь — власть и сила. Это все уланы — пехота была бы бесполезна в борьбе с индейцами, — и они воображают, что громкий звон шпор и бряцание сабель еще больше возвышают их в глазах окружающих. Вояки бесцеремонно разглядывают девушек, а крестьянским парням не очень это по вкусу, и они ревниво следят за своими невестами и возлюбленными.
Все девушки, и хорошенькие и некрасивые, надели ради праздника свои лучшие, самые яркие наряды. У одних юбки голубые, у других алые, у третьих пурпурные, чаще всего отделанные внизу пышными оборками, отороченными узкой тесьмой. Девушки носят вышитые кофточки с белоснежными оборочками, а поверх с большим изяществом набрасывают иссиня-черные шали, закрывая шею, грудь, плечи, а иногда, из особого кокетства, и лицо. Но еще прежде чем наступит вечер, этот покров будет уже не столь ревниво оберегать стыдливость своих хозяек. Из-за этих живописных складок уже выглядывают на белый свет самые прелестные личики, и по тому, как нежна их не тронутая загаром кожа, можно понять, что они лишь перед самым праздником смыли с лица ягодный сок, который уродовал их последние две недели.
Скотоводы тоже в своих лучших праздничных костюмах: на них бархатные, широкие внизу брюки с бахромой по бокам, ярко начищенные кожаные сапоги, куртки из дубленой овчины или бархатные, пестро расшитые, а под куртками вышитые рубашки, и все они опоясаны ярко-красными шелковыми шарфами. На головах широкополые черные блестящие сомбреро; их тульи повязаны золотой или серебряной тесьмой, концы которой свободно свисают. У некоторых вместо куртки на плечи небрежно наброшено серапе. Все они держат на поводу коней, у всех на ногах шпоры весом в добрых пять фунтов, с колесиками, диаметр которых достигает трех, четырех, а то и пяти дюймов.
Служащие рудников, молодые горожане и мелкие ремесленники одеты почти одинаково; но те, которые принадлежат к сливкам общества, чиновники и коммерсанты, — в куртках из тонкого черного сукна и таких же панталонах своеобразного покроя, не то чтобы европейского, но что-то вроде этого, нечто среднее между парижской модой и местным национальным костюмом.
А вот совсем другой костюм, его носят многие, очень многие в толпе — мирные индейцы, полунищие рудокопы, недавно приобщенные к святой церкви. Их одежда проста: прежде всего тильма — что-то вроде куртки без рукавов; если в мешке из-под кофе вырезать дыру, чтобы проходила голова, а с боков сделать прорезы для рук, это и будет тильма. У этой куртки нет никакого подобия талии, она совершенно бесформенная, держится на плечах и свисает почти до самых бедер. Обычно тильму шьют из грубой шерстяной ткани деревенской выделки; ткань эту называют «герга»; она белесая, и лишь несколько цветных полос украшают ее. Прибавьте к этому штаны из дубленой овчины и грубые сандалии — вот и вся одежда мексиканского мирного индейца. Голова его не покрыта, обнажены и ноги; от колен до щиколоток видна медно-красная кожа.
Сотни краснокожих местных жителей — пеонов[8], работающих в миссии и на рудниках, — расхаживают взад и вперед, а их жены и дочери сидят на корточках на земле. Перед ними на циновках разложены всевозможные плоды и фрукты, какие только водятся в этом краю: фиги, петахайя, сливы, абрикосы, виноград, арбузы и дыни всех сортов, жареные кедровые орехи, которые приносят сюда горцы. Кое-кто торгует с лотка сластями, медовым напитком, лимонадом; другие продают небольшие головы жженого сахара или жареные корни агавы. Иные уселись на корточках перед огнем и жарят маисовые лепешки или красный перец или размешивают прессованное какао с сахаром в глиняном горшке, похожем формой на старинную урну. У этих жалких торговцев за несколько мелких монет можно купить порцию густо наперченного тушеного мяса, тарелку маисовой похлебки или чашку маисового напитка. У владельцев других лотков можно купить маленькую дешевую сигару или выпить огненную агвардиенте, доставленную сюда из Таоса или Эль Пасо. Здесь-то больше всего теснятся вечно мучимые жаждой рудокопы и солдаты. Здесь нет палаток, но почти все торговцы пристроили над головой пальмовые циновки, которые, точно огромные зонтики, заслоняют их от солнца.
Надо сказать еще об одной категории присутствующих, о важных лицах на празднике святого Иоанна: это участники состязаний, те, кто будет оспаривать первенство в играх.
Все это молодые люди из самых разных слоев общества, все, разумеется, верхом, и каждый постарался раздобыть себе лучшую лошадь, какую только мог. Все они гарцуют, заставляя своих пестро убранных коней выделывать самые неожиданные прыжки и скачки, особенно когда проезжают мимо скамей, занятых юными сеньоритами. Тут и рудокопы, и молодые асиендадо, и скотоводы, и пастухи, и охотники на бизонов, и торговцы, и все они отлично держатся в седле. В Мексике каждый великолепно ездит верхом, даже горожане — прекрасные наездники.
Здесь около сотни юношей, готовых помериться силами, показать себя во всевозможных играх, требующих ловкости в искусстве верховой езды.
Так пусть же начнутся состязания!
Глава 3
Состязания начались с «coleo del toros», что означает: погоня за быком. Арена для настоящего боя быков существует только в самых больших городах Мексики; но в каждой, даже самой маленькой деревушке можно видеть гонку за быками, потому что для этой игры только и требуется, что открытое место и самый свирепый бык, какого только можно сыскать. Спорт этот не так возбуждает страсти, как бой быков, потому что он не так опасен для участников. Однако и тут бык нередко поднимает на рога лошадь или калечит всадника, а бывают иногда и смертельные случаи. Иной раз споткнется лошадь, и ее вместе со всадником затопчут те, кто мчался следом; в такой беспорядочной гонке несчастные случаи — дело обычное.
Итак, «coleo» — это состязание в силе, мужестве, ловкости, и выйти победителем стремится каждый юноша в Новой Мексике.
Все приготовления закончились, и глашатай объявил, что состязания сейчас начнутся. Приготовления были просты: толпу оттеснили в сторону, так что быку, выпущенному на свободу, была открыта дорога в прерию. Если б ему не предоставили это преимущество, он мог бы броситься на толпу, а этого следовало опасаться. В страхе перед этим многие женщины взобрались на повозки, которых здесь было множество, так как в них— то многие и прибыли сюда. Сеньоры же и сеньориты, сидевшие на возвышавшихся амфитеатром скамьях, разумеется, чувствовали себя в безопасности.
Соперники уже выстроились в ряд. В этой первой гонке должны участвовать двенадцать человек — юноши из самых разных сословий, которые были или воображали себя первоклассными наездниками. Здесь скотоводы в живописных костюмах, дерзкие погонщики, спустившиеся с гор рудокопы, горожане, землевладельцы из долины, пастухи со скотоводческих ферм, охотники на бизонов, чей дом — бескрайняя прерия. Тут же и несколько улан, жаждущих доказать, что никто не сравнится с ними в искусстве владеть конем.
Дан сигнал, и быка выпускают из соседнего корраля. Было бы безумием приставить к нему пеших погонщиков — его сопровождают пастухи верхом на хороших конях, их лассо обвились вокруг его рогов; они начеку и, если бык попробует взбунтоваться, тотчас рывком опрокинут его наземь.
С виду бык — злобное чудище, лоб у него косматый, взгляд свирепый и мрачный. Ясно, что его не придется долго дразнить, чтобы он окончательно рассвирепел, — он уже и сейчас сердито хлещет себя хвостом по бокам, бодает воздух длинными прямыми рогами, отрывисто фыркает и нетерпеливо бьет землю копытом. Как видно, он — один из самых неистовых представителей этой неистовой породы испанских быков.
Зрители не сводят глаз с быка и громко обсуждают его достоинства. Одни находят его слишком жирным, другие утверждают, что он как раз в хорошей форме для гонок: ведь для «coleo» бык должен быть не столько храбрым, сколько быстроногим. Не сойдясь во мнениях, многие заключают пари насчет исхода гонок, спорят о том, сколько времени пройдет от старта до той минуты, когда быка схватят и опрокинут, — этим кончается погоня, это и есть цель игры.
Если принять во внимание, что бык выбран на славу, сильный, быстрый, неистовый, и что преследователь должен справиться с ним голыми руками, даже не прибегая к помощи лассо, — нельзя не признать, что это нелегкая задача. Бык несется во весь опор, почти со скоростью конского галопа. Чтобы при этих условиях опрокинуть его на землю, нужно совершить подвиг, на который способен лишь человек, обладающий недюжинной силой, ловкостью, превосходный наездник. Этот своеобразный подвиг заключается в том, чтобы схватить быка за хвост и одним рывком повалить его.
Быка отвели ярдов на двести от линии всадников и здесь остановили; перед ним расстилалась прерия. Лассо, с помощью которого его удерживали, осторожно снимают, делают два— три выстрела из духового ружья, острые колючки вонзаются в круп быка — и он мчится прочь под громкие крики зрителей.
Миг — и всадники, пришпорив коней, скачут за ним, крича кто во что горазд.
Строй сломан, преследователи рассеялись в беспорядке по всему лугу, точно это охота за лисой. С каждой минутой цепь преследователей становится все длиннее; они начинали гонку, выстроившись в один ряд, а сейчас растянулись по одному, по двое на сотни ярдов. И, однако, они продолжают погоню, изо всех сил нахлестывая, пришпоривая и погоняя коней.
Доведенный до бешенства острыми, как стрелы, колючками, вонзившимися ему в бока, напуганный свистом их оперения, бык мчался вперед со всех ног. Даже на самом быстром скакуне не так-то легко было свести на нет фору, которую он получил вначале, и бык опередил всех на добрую милю, прежде чем кто-либо успел приблизиться к нему. Но вот улан на крупной гнедой лошади нагнал его и наконец схватил за хвост. Он дернул раз, другой, надеясь, что одной лишь силы его рук довольно, чтобы опрокинуть животное, но это ему не удалось, — в следующее мгновенье бык вырвался, кинулся в сторону и оставил своего преследователя позади.
Теперь быка настигал молодой асиендадо на великолепном коне; но всякий раз, как он протягивал руку, чтобы ухватить быка за хвост, тот ускользал у него прямо из-под носа. Наконец всаднику все же удалось завладеть хвостом, но бык неожиданно рванулся в сторону, выдернул хвост из рук своего врага и был таков.
Одно из условий «coleo» гласит, что тот из участников, кто раз потерпел неудачу, выходит из игры. Итак, асиендадо и кавалерист теперь уже не участвуют в погоне. Они повернули назад, но не поехали прямо туда, где собрались зрители. Они поехали стороной, подальше, чтобы никто не мог прочесть на их лицах всю глубину их разочарования.
Бык мчался все дальше, нетерпеливые, разгоряченные погоней всадники — за ним. Еще один улан попытался схватить быка и тоже потерпел неудачу, за ним пастух, и еще всадник, и еще — все так же безуспешно, и каждую неудачу толпа встречала вздохом разочарования. Несколько человек вылетели из седла, и зрители громко хохотали над ними. А одна лошадь была тяжело ранена: она оказалась у быка на дороге, и он пропорол ее рогами.
Не прошло и десяти минут, а из двенадцати всадников одиннадцать уже выбыли из игры.
Теперь лишь один продолжает погоню. Бык оказался хоть куда, он завоевал все симпатии, и зрители громко рукоплещут ему.
— Браво! Брависсимо! — несется со всех сторон.
Теперь все глаза прикованы к разъяренному животному и к его единственному преследователю. Оба они сейчас довольно близко, и их можно хорошо разглядеть — ведь до сих пор бык уходил от погони не напрямик, все дальше в прерию, но бросался то вправо, то влево, и теперь расстояние между ним и толпой не больше, чем тогда, когда его настиг первый кавалерист. Он и сейчас кидается из стороны в сторону, так что оба они преследователь и преследуемый — хорошо видны со скамей.
Довольно хоть раз взглянуть на этого всадника и коня, чтобы убедиться: здесь нет равных им по красоте. Превзойдут ли они всех также в быстроте и ловкости? Время покажет.
Конь этот — крупный угольно-черный мустанг с длинным, пышным хвостом, суживающимся к концу, точно хвост бегущей лисы. Хоть он и мчится галопом, на ровном фоне луга хорошо видно, какая у него выгнутая шея и великолепная, гордая стать, и зрители разражаются восторженными криками.
Всаднику лет двадцать или чуть больше, он совсем не похож на своих соперников: у него светлые вьющиеся волосы и белая кожа с нежным румянцем; остальные же все без исключения смуглолицы. На нем праздничный костюм скотовода, богато расшитый и украшенный, а вместо обычного серапе пурпурный плащ, более изящный и нарядный. Длинные полы плаща закинуты назад, чтобы руки оставались свободными, и он развевается на ветру и падает мягкими складками, подчеркивая изящество, с которым всадник держится в седле.
Внезапное появление этого великолепного всадника — вначале он держался позади всех, перекинув свой алый плащ через руку, и был незаметен — привлекло общее внимание, и многие спрашивали, кто же он такой.
— Это Карлос, охотник на бизонов! — крикнул один из присутствующих достаточно громко, чтобы его услышали все.
Кое-кому, видимо, это имя было известно, но большинство слышали его впервые. Один из тех, кто знал его, спросил:
— А почему Карлос раньше не вырвался вперед? Ведь он мог бы нагнать быка, если бы захотел.
— Черт побери! Конечно, мог! — отозвался другой. — Это он нарочно держался позади, чтобы дать другим попытать счастья, Он знал, что с этим быком никому не справиться. Смотри-ка!
Без сомнения, говоривший был прав.
С первого взгляда стало ясно, что этот всадник без труда мог настичь быка. Даже и сейчас его лошадь шла спокойным галопом, и хотя ее уши были насторожены, а розовые ноздри раздувались, это было знаком не усталости, но возбуждения погони и недовольства тем, что до сих пор всадник не давал ей воли. И в самом деле, он все еще туго натягивал поводья.
В ту секунду, когда один из собеседников взволнованно воскликнул: «Смотри!», поведение всадника вдруг изменилось. Он был примерно в двадцати шагах от своей живой цели и прямо позади нее. Внезапно лошадь рванулась вперед с удвоенной быстротой и в несколько скачков поравнялась с быком. Все видели, как всадник ухватился за длинный вытянутый бычий хвост, низко пригнулся, тотчас же резко выпрямился — и огромный рогатый зверь опрокинулся наземь. Всадник проделал все это с такой легкостью, словно он одолел не быка, а обыкновенную кошку. Зрители разразились громкими криками «viva». Победитель повернул коня, проехал мимо скамей, скромно раскланиваясь, и скрылся в толпе.
Среди зрителей было немало таких, которым показалось, будто, пока победитель раскланивался, взор его был обращен к прекрасной Каталине де Крусес; а некоторые даже уверяли, что она улыбнулась ему в ответ и, видимо, была польщена. Но это, разумеется невозможно. Неужели наследница богача дона Амбросио ответит улыбкой на поклон какого-то охотника на бизонов!
Но нашлась среди зрительниц одна, которая и в самом деле улыбнулась ему. Это была белокурая девушка с очень светлой кожей; она стояла в повозке, к которой подъехал победитель. И сейчас, когда они оказались рядом, видно было, что они похожи друг на друга, как две капли воды. В их жилах текла одна кровь, кожа их была одного цвета, они были дети одного народа, а может быть, и одного отца. Да, белокурая девушка была сестрой охотника на бизонов. Она улыбалась, счастливая победой брата.
В глубине этой повозки сидела женщина, чья внешность сразу же останавливала внимание, — старая, с длинными распущенными волосами, белыми как снег. Она не произнесла ни слова, но ее пристальный взгляд, обращенный на Карлоса, горел торжеством. Некоторые смотрели на нее с любопытством, но большинство — со страхом, почти с ужасом. Они кое-что знали о ней и шепотом передавали друг другу странные слухи.
— Она колдунья! — говорили они. — Ворожея!
Люди говорили это потихоньку, вполголоса — из опасения, как бы не услыхали Карлос или светловолосая девушка. Ведь это была их мать!
Глава 4
Игры продолжались. Бык, побежденный Карлосом, совсем присмирел и угрюмо бродил по лугу. Он уже не годился для участия во втором туре состязаний, поэтому на него накинули лассо и увели: это приз, его отдадут победителю.
Вывели другого быка и пустили, и новый десяток всадников кинулся за ним по пятам.
На этот раз дичь и ее преследователи были больше под стать друг другу — вернее бык оказался не таким быстроногим: все разом нагнали его и в неудержимой скачке промчались далеко вперед. Совершенно неожиданно бык круто повернул и кинулся назад, прямо к зрителям. Перепуганные крестьянки в повозках, сеньоры и сеньориты на скамьях подняли крик. И неудивительно: еще мгновение — и разъяренный зверь окажется здесь, среди них!
А всадники остались где-то позади. Необходимость на всем скаку повернуть обратно застала их врасплох, и теперь бык далеко опередил их. Даже самые ближние не могли поспеть вовремя.
Все остальные наездники уже спешились. А кто же пеший осмелится преградить дорогу мчащемуся во весь опор разъяренному быку!
Мужчины растерялись; их громкие крики смешались с отчаянными воплями охваченных ужасом женщин. Будут жертвы… может быть, не одна. Никто не мог быть уверен, что его не настигнет смерть.
Повозки, полные перепуганных насмерть женщин, выстроились рядами по обе стороны скамей и тянулись дальше по лугу, образуя нечто вроде полукольца. Вот бык уже в этом полукругу, повозки не дают ему свернуть ни вправо, ни влево и он бешено мчится прямо к скамьям, словно решил прорваться сквозь них. Женщины вскочили и, обезумев от страха, кажется, готовы были прыгнуть прямо на рога чудовища. Ужасная минута!
И в эту минуту перед повозками появился человек, пеший, с лассо в руках. Едва выступив из толпы, он взметнул над головой лассо. Мгновение — и петля обхватила рога разъяренного животного.
Не теряя ни секунды, человек мчится к невысокому дереву, растущему посреди полукруга, и быстро обматывает вокруг ствола свободный конец лассо. Помедли он еще миг, и было бы поздно.
Едва он успел завязать узел, как сильный рывок возвестил, что бык оказался на привязи. Лишь только он отбежал на всю длину лассо, петля которого туго обхватила рога, какая-то непонятная сила внезапно остановила озадаченное животное, отбросила назад, и бык тяжело повалился к ногам зрителей.
— Браво! Viva! — раздались крики, едва лишь сотни замерших в ужасе людей пришли в себя настолько, что к ним вернулся голос. — Viva! Viva Карлосу, охотнику на бизонов!
Не кто иной, как он второй раз сегодня доказал всем свою ловкость и отвагу.
Однако бык еще не побежден, он лишь ограничен определенным расстоянием — длиною лассо, — и, поднявшись на ноги, он с яростным ревом кидается прямо на людей. К счастью, лассо не настолько длинно, чтобы он мог ворваться в ряды зрителей справа или слева, и снова он падает, оседает на передние ноги. Толпа в страхе бросается врассыпную: как знать, а вдруг петля все-таки соскользнет? Но вот подоспели всадники. Новые лассо обвились вокруг шеи быка, опутали ноги, и наконец его безжалостно опрокинули на землю, и он уже не может шевельнуться.
Вот теперь он окончательно покорен и больше уж не побежит. А так как для этой игры приготовили всего двух животных, на сегодня погоня за быком окончена.
Пока шли приготовления к другой большой игре сегодняшнего праздника, некоторые всадники демонстрировали менее высокое искусство верховой езды. Это было нечто вроде интермедии, и каждый показывал что вздумается. Например, набрасывал лассо на ногу человека, бегущего во всю прыть, затягивал петлю на лодыжке и, разумеется, опрокидывал его. Делали это очень многие, и всадники и пешие, — как видно, для этого не требовалось особого мастерства; во всяком случае, так полагали самые искусные — те, что считали ниже своего достоинства участвовать в этой забаве.
Затем всадники показали номер со шляпой. Тут хитрость заключается в том, чтобы, пустив коня галопом, бросить свою шляпу наземь, а потом на всем скаку, перегнувшись с седла, поднять ее. Почти все справились с этим одинаково успешно, и лишь самые молодые считали это знаком особой ловкости. Чуть не двадцать юнцов кружили на конях перед зрителями, сбрасывали свои сомбреро на землю и вновь на всем скаку подхватывали их.
Но поднять предмет поменьше уже не так легко — например, монету, лежащую на земле; тут не зазорно попытать счастья самому искусному наезднику.
Вперед выступил комендант Вискарра и потребовал тишины. Он положил на землю испанский доллар и провозгласил:
— Доллар достанется тому, кто поднимет его с первого раза! Ставлю пять золотых, что сержанту Гомесу это по плечу!
Несколько минут все молчали. Пять золотых — это большие деньги. Только богач может рисковать такими деньгами.
И, однако, вызов не остался без ответа. Вперед выступил молодой скотовод.
— Полковник Вискарра, — заговорил он, — я не стану спорить, что сержанту Гомесу это по плечу, но держу пари: тут есть и другой человек — он сделает это не хуже Гомеса. Не угодно ли вам удвоить ставку?
— Назовите этого человека!
— Карлос, охотник на бизонов.
— Хорошо, я принимаю ваше пари. Кто еще хочет попытать счастья? — продолжал Вискарра, обращаясь к толпе. — На место поднятого доллара я всякий раз буду класть новый. Но только помните — поднимать с одного раза!
Некоторые пытались — и потерпели неудачу. Кое-кто дотронулся до монеты и даже сдвинул ее с места, но никому не удалось поднять ее.
Наконец на луг выехал кавалерист на крупной гнедой лошади — все узнали сержанта Гомеса. Это он первый нагнал быка, но не сумел свалить его. Сразу было видно, что он до сих пор не примирился с неудачей, — его и без того хмурое изжелта-бледное лицо совсем помрачнело. Он был рослый, крепкий и, бесспорно, хороший наездник, но уж слишком грубо, несоразмерно сложен; ему не хватало гибкости и подвижности.
Дело требовало кое-каких приготовлений. Сержант проверил седельные подпруги, снял саблю и портупею и тронул коня.
Через несколько минут лошадь, умело направляемая всадником, оказалась подле монеты, блестевшей на солнце. Гомес нагнулся и попытался схватить монету. Ему удалось было поднять ее с земли, но он недостаточно крепко зажал ее в руке, и монета выскользнула из его пальцев, прежде чем он успел выпрямиться.
Толпа разразилась криком — тут были и восторг и негодование. Большинство относилось к Гомесу благосклонно, потому что за него стоял Вискарра. Не то чтобы полковника Вискарру очень любили, нет, но его боялись и поэтому старались не перечить ему.
Теперь выехал вперед Карлос на своем вороном коне. Все взоры обратились на него. Его красота могла бы вызвать всеобщее восхищение, если бы не его слишком светлая кожа. Это заставляло относиться к нему с недоверием: ведь он был человеком другого народа!
Однако женские сердца не разделяли этого предубеждения, и не одна пара темных девичьих глаз вспыхивала восхищением при виде светловолосого американца, ибо Карлос, охотник на бизонов, был родом американец.
Но нет, не только женщины смотрели на него благосклонно, не только они шептали слова одобрения. Среди низведенных почти до уровня животных индейцев из племени тагносов. которые жили, согнувшись в три погибели и не поднимая глаз, были люди, мечтавшие о давно прошедших днях; они знали, что когда-то их отцы были свободны; на тайных сборищах в горной пещере или в мрачной глубине лесной чащи они все еще возжигали священный огонь богу Кецалькоатлю[9], все еще говорили о Монтесуме, о свободе.
Карлос едва снизошел до каких бы то ни было приготовлений. Он даже не снял плаща, только небрежно откинул его назад, так что длинные полы свисали с крупа коня.
Послушный голосу хозяина, конь сразу пошел галопом, потом колени всадника слегка сжали его бока, и, повинуясь этому знаку, он начал кружить по лугу все быстрее и быстрее.
Но вот с той же скоростью всадник направил коня прямо к сверкающей монете. Доскакав, он перегнулся с седла, схватил золотой, подбросил его высоко над головой, круто осадил коня, протянул руку, и золотой упал на его раскрытую ладонь.
Все это он проделал легко, с непринужденностью индийского факира. Даже недоброжелатели не могли удержаться от апплодисментов, и вновь загремело «viva» в честь Карлоса, охотника на бизонов.
Сержант был унижен. С давних пор он выходил победителем в этих состязаниях: до сегодняшнего дня Карлоса не было здесь или он никогда не участвовал в них. Вискарра чувствовал себя не многим лучше. Его любимец посрамлен, сам он потерял десять золотых — это немало даже для коменданта пограничной крепости. Да, кроме того, неприятно быть осмеянным прекрасными сеньоритами из-за того, что проиграл пари, которое сам же затеял, совершенно уверенный в победе. С этой минуты Вискарра невзлюбил Карлоса, охотника на бизонов.
Следующий номер состоял в том, чтобы проскакать галопом до самого края глубокой канавы, проходившей вдоль луга. Тут нужно было показать не только мужество и ловкость всадника, но и отличную выучку коня.
Канава — оросительный канал — была так широка, что лошадь не могла перескочить через нее, и достаточно глубока, чтобы всаднику не слишком приятно было упасть в нее. Поэтому всадник должен быть не только ловок, но и отважен. Лошадь во весь опор несется к канаве; неожиданно, на всем скаку, ее надо осадить, да так, чтобы все четыре ноги оказались за чертой, а черта проведена меньше чем на две длины лошадиного корпуса от края канавы. Почва была, разумеется, совершенно твердая и плотная, иначе это было бы невыполнимо.
Многие достигли в этом совершенства и трудную задачу выполняли безукоризненно. Великолепное зрелище — конь, внезапно остановленный в стремительном беге: он поднялся на дыбы у самого края канавы, голова его вскинута, глаза пылают, ноздри раздуваются. А иные всадники, напротив, выглядели просто смешно, и толпа потешалась над ними. Это были либо малодушные они осаживали лошадь, не успев еще приблизиться к краю; либо смелые, но неловкие — не сумев сдержать коня на условной черте, они с размаху летели в глубокую грязную воду. Всякую неудачу зрители встречали смехом и криками, почти не смолкавшими, потому что на берег то и дело выбирались едва не утонувшие, насквозь промокшие всадники. Зато искусно выполненный маневр приветствовали громкими «viva» и аплодисментами.
Подобные состязания устраиваются постоянно; при такой системе обучения немудрено стать лучшими в мире наездниками, и мексиканцы в самом деле несравненные наездники.
Было замечено, что охотник на бизонов не участвует в этой игре. Почему? Его друзья утверждали, что это было бы ниже его достоинства, Он ведь уже показал себя искусным наездником в состязаниях более трудных, и участвовать в этой игре — значило бы искать уже ненужной победы. Карлос и в самом деле так думал.
Но раздосадованный комендант смотрел на дело по— другому. И капитан Робладо — тоже, ибо он видел, или вообразил, что видел, какое-то странное выражение во взгляде Каталины при каждой новой победе охотника. У обоих этих вояк были свои планы, такие же подлые, как они сами: оба хотели унизить Карлоса.
Подойдя к нему, они спросили, почему он не попытал счастья в последней игре.
— Я не думаю, что она того стоит, — просто ответил охотник.
— Хо! — насмешливо воскликнул Робладо. — Нет, приятель, у вас наверняка есть на то другие причины. Не такая уж это жалкая игра — остановиться на самом краю ловушки. Сдается мне, вы боитесь искупаться!
Капитан сказал это как бы в шутку, но достаточно громко, чтобы слышали все вокруг, и под конец насмешливо расхохотался.
Они как раз этого и хотели — увидеть, как он искупается. Они питали надежду, что, если Карлос примет вызов, вмешается какая-нибудь случайность, например, поскользнется или споткнется конь, и он угодит в канаву. И чем унизительнее это будет для охотника, тем большее удовольствие получат они. Человек, который выкарабкался из грязной канавы и промок до нитки, пусть даже виной тому его отвага, смешон и жалок в глазах праздничной толпы. И как раз в таком положении жаждали они увидеть Карлоса.
Заподозрил ли охотник, чего они хотят, нет ли, но он ничем этого не показал. По его ответу этого нельзя было понять. Но когда ответ услышали окружающие, канава, грязная вода — все тотчас было забыто. Теперь зрителей ждало зрелище куда более захватывающее.
Глава 5
Карлос ответил не сразу; минуту он молчал, неподвижно сидя в седле. Казалось, он был озадачен. Поведение обоих офицеров, слова Робладо уязвили его. Не досадно ли вступить в такую несложную игру, когда она, в сущности, уже кончилась, и только потому, что Робладо и коменданту вздумалось тебя дразнить! А отказаться — значит, стать мишенью для насмешек и сплетен. Может быть, как раз этого они и добиваются?
У него были основания подозревать недобрые намерения с их стороны. Он кое-что знал о них обоих, о том, каковы они на своем посту, да и мог ли он не знать! Ведь они здесь — высшая власть. Но он знал еще и от том, что это за люди вне службы, в частной жизни, и сведения эти отнюдь не говорили в их пользу. Что касается Робладо, то у охотника были свои причины не любить его, совсем обычные причины, и знай уже Робладо об одном обстоятельстве, у него была бы вполне веская причина отвечать Карлосу такой же неприязнью. До сего дня Робладо не знал даже о существовании охотника на бизонов, который большую часть времени проводил вдали от этих мест. Быть может, офицер никогда прежде не встречал его или, во всяком случае, никогда не обменялся с ним ни словом. Карлос знал его лучше и задолго до этой встречи не любил; как мы уже намекали, у него были на то свои причины.
Сегодняшнее поведение офицера не уменьшило неприязни Карлоса. Наоборот, его высокомерный, насмешливый тон задел и оскорбил охотника.
— Капитан Робладо, — ответил он наконец, — я сказал, что эта игра не стоит того, чтоб тратить на нее время: десятилетний мальчишка и тот не сочтет ее подвигом. Я не стану рвать своему коню рот ради такого пустяка. Что стоит осадить его на краю этой безобидной канавки? Но если…
— Ну, если что? — нетерпеливо спросил Робладо, воспользовавшись паузой и начиная уже догадываться, что скажет Карлос.
— Если вы хотите рискнуть дублоном — я всего— навсего бедный охотник и не могу поставить больше, — я проделаю то, что десятилетний мальчишка, пожалуй, сочтет настоящим искусством.
— Что бы это могло быть, сеньор охотник? — усмехаясь, спросил офицер.
— Я на всем скаку остановлю коня на краю вон того утеса.
— В двух корпусах от обрыва?
— В двух корпусах? Нет — меньше: на том же расстоянии, что здесь, на берегу канала.
Его слова так поразили всех, кто был поблизости и слышал его, что несколько минут никто не мог произнести ни слова. Не верилось, что это предложение сделано всерьез, — столько в нем было дикой, безрассудной отваги. Даже оба офицера, пораженные, готовы были подумать, что охотник просто смеется над ними.
Утес, на который показывал Карлос, был частью высокого плоскогорья, отвесные стены которого обрывались в долину. Он походил на мыс и выступал вперед, словно нарочно для того, чтобы его лучше было видно снизу, из долины. Утес был чем-то вроде волнореза, такой же высокий, как весь скалистый обрыв. На грани его виднелась трава — зеленый краешек прерии, раскинувшейся наверху, на плоскогорье. Ровная, лишенная террас и уступов стена отвесно спускалась в долину, вся исчерченная, это чередовались пласты известняка и песчанника. Добрая тысяча футов отделяла зеленые луга долины от края утеса. Измерить взглядом расстояние снизу вверх не так-то просто человеку со слабыми нервами; поглядеть вниз — это испытание выдержит лишь самый бесстрашный. Вот каков бы утес, на краю которого Карлос решил осадить своего коня. Вполне понятно, что такое предложение поразило всех до немоты. Но вот тишину нарушили крики:
— Это невозможно! Он сошел с ума! Да он шутит! Он насмехается над господами военными!
Карлос сидел на коне, невозмутимо перебирал поводья и ждал ответа.
Ему не пришлось долго ждать. Вискарра и Робладо наскоро обменялись несколькими словами, и Робладо нетерпеливо закричал:
— Я принимаю пари!
— И я ставлю золотой! — добавил Вискарра.
— Сеньоры! — сказал Карлос, видимо огорченный. Мне очень жаль, но я не могу спорить с двумя. Этот дублон — все, что у меня есть, и сейчас вряд ли кто— нибудь даст мне еще один.
Говоря это, Карлос с улыбкой взглянул на толпу, но людям было не до того, чтобы улыбаться в ответ. Ужас охватил их. Они не сомневались, что безрассудного охотника ждет неминуемая гибель. Но все же кто-то отозвался:
— Я дам и двадцать золотых, Карлос, на что угодно, но только не на это. Ведь это безумие!
Это сказал молодой скотовод, тот самый, что уже и прежде вступался за Карлоса.
— Спасибо, дон Хуан, — ответил охотник. — Я знаю, ты всегда ссудил бы меня деньгами. Все равно спасибо. Не бойся! Я выиграю золотой. Не для того я двадцать лет не слезаю с коня, чтобы какой-то ачупино насмехался надо мной!
— Сударь! — в один голос крикнули Вискарра и Робладо, разом схватившись за эфесы шпаг и грозно хмуря брови.
— О, прошу прощения, господа, — с плохо скрытой насмешкой сказал Карлос. — Это у меня нечаянно слетело с языка. Право, я никого не хотел оскорбить.
— Тогда держите язык за зубами, приятель! Еще раз вылетит такое слово, а там как бы голова не слетела с плеч, — пригрозил Вискарра.
— Благодарю вас, сеньор комендант, — ответил Карлос, все еще смеясь. — Пожалуй, я послушаюсь вашего совета.
Комендант только яростно выругался в ответ, но Карлос не обратил на него внимания, ибо в эту минуту его сестра, только что услышавшая о безрассудном намерении брата, выпрыгнула из повозки и в отчаянии кинулась к нему.
— О Карлос! — воскликнула она, обнимая колени всадника. Неужели правда? Нет, не может быть!
— Что, сестренка? — с улыбкой спросил Карлос.
— Что ты…
Голос изменил ей, и она только взглядом указала на утес.
— Конечно, Росита. А почему бы и нет? Стыдно, родная! Не тревожься. Поверь, тут нечего бояться. Я и прежде так делал.
— Карлос, дорогой! Я знаю, ты прекрасный наездник, никто с тобой не сравнится. Но подумай, как это опасно… Боже милостивый! Подумай…
— Фу, сестра! Не позорь меня перед людьми! Поди спроси мать. Послушай, что она скажет. Уж она-то не станет тревожиться.
И охотник направился к повозке; сестра последовала за ним.
Бедная Росита! В эту минуту на тебя были устремлены глаза человека, впервые заметившего тебя, и в темной глубине этих глаз блеснул огонь, не суливший ничего хорошего. Твоя стройная фигурка, твое ангельски прекрасное лицо, быть может, и самое твое горе заставили быстрее забиться сердце человека, чья любовь могла принести лишь гибель той, которую он полюбит. То было сердце полковника Вискарры.
— Смотрите-ка, Робладо! — негромко окликнул он своего подчиненного и соучастника во всех дурных делах. — Взгляните вон туда! Пресвятая дева! Да поглядите же! Вот настоящая Венера — это так же верно, как то, что я христианин и солдат! Хотел бы я знать, с какого неба она свалилась?
— Ей-Богу, я никогда ее не видал, — ответил капитан. Наверно, она сестра этого парня. Так и есть! Послушайте их! Они называют друг друга братом и сестрой. Она и в самом деле недурна.
— Горе мне! — вздохнул комендант. — Да это находка! Я уж просто отупел от здешней скуки и однообразия. Хорошо, что нашлось новое развлечение. Теперь я, пожалуй, смогу вытерпеть еще месяц. Как вы думаете, хватит мне ее на целый месяц?
— Едва ли… если дело пойдет, как с другими. Неужели вам уже надоела Инес?
— Хо-хо! Она слишком горячо любила меня, а я этого терпеть не могу. Я предпочитаю, чтобы со мной были похолоднее.
— Если так, эта блондинка, пожалуй, больше вам подойдет. Но смотрите: они ушли!
Пока офицеры беседовали, Карлос с сестрой приблизились к повозке, в которой сидела их старая мать.
Комендант, капитан и еще многие зрители последовали за ними и обступили их, прислушиваясь.
— Матушка, она хочет отговорить меня, — раздался голос Карлоса. Он уже успел рассказать матери о своем намерении. Без вашего согласия я ничего не стану делать. Но послушайте, матушка, я уже наполовину связал себя обещанием и хотел бы исполнить его. Ведь это дело чести, матушка.
Последние слова были произнесены громко, внушительно, прямо в ухо старой женщине — она, видимо, была глуховата.
— Кто отговаривает тебя? — спросила она, подняв голову и оглядывая окруживших их людей. — Кто?
— Росита, матушка.
— Пусть Росита ткет и вяжет шали — вот ее дело. А ты, сын мой, можешь совершить великие дела… подвиги. Да, подвиги! Разве в жилах твоих не течет кровь твоего отца? Ведь он — он совершал подвиги, да… ха-ха-ха!
Странный смех и безумный взгляд этой женщины заставили зрителей содрогнуться.
— Иди! — закричала она, откидывая назад длинные пряди своих белых волос и размахивая руками. — Иди, Карлос, охотник на бизонов, и покажи этим обгоревшим на солнце трусам, этим рабам, на что способен свободный американец! На утес! На утес!
Отдав этот ужасный приказ, она опустилась на сиденье повозки и вновь погрузилась в молчание.
Карлос больше ни о чем не стал ее спрашивать. Резкие слова, слетевшие у нее с языка, вызвали у него желание поскорее закончить этот разговор: он заметил, что кое-кто из стоявших поближе не пропустил их мимо ушей.
Офицеры, священники, алькальд обменялись многозначительными взглядами.
Снова усадив сестру в повозку и обняв ее на прощанье, Карлос вскочил в седло и поскакал по долине. Отъехав немного, он сдержал коня и бросил взгляд на ряды скамей, где расположились городские сеньоры и сеньориты. Там царило смятение. Они узнали о предполагавшемся испытании, и многие готовы были отговорить охотника от опасной затеи.
Среди них была и та, чье сердце, казалось, вот-вот разорвется; страх и тревога переполняли его, как и сердце сестры Карлоса, но тем, кто окружал ее, она не смела этого показать. Ей приходилось молча страдать и терпеть.
Карлос знал это. Он достал белый платок, хранившийся на груди, и махнул им, словно посылая кому-то последнее «прости». Ответили ли ему — трудно сказать, но мгновение спустя он повернул коня и поскакал к утесу.
Каких только не было догадок у сеньор и сеньорит, у деревенских красоток о том, кому же предназначался этот прощальный привет! Много предположений было высказано, много имен названо, и пошли толки и пересуды. Лишь одна из всех знала, с кем прощался Карлос, и душа ее полна была любви и страха.
Глава 6
Все, у кого были лошади, последовали за охотником, который держал путь прямо к тропе, что вела их долины вверх, на плоскогорье. Эта тропа крутыми извивами взбиралась по скалам, и кроме нее отсюда не было другого пути на плоскогорье. Такая же дорога вилась по противоположному каменному откосу, в этом месте можно было пересечь долину — на много миль вокруг это был единственный путь, ведущий с одной стороны плоскогорья на другую.
Всего тысяча футов отделяла долину от плоскогорья, но тропа, поднимавшаяся вверх, тянулась чуть не на милю; а так так место праздничных игр было в нескольких милях от подножия утеса, Карлоса сопровождали лишь те, кто был на конях, да еще несколько человек, решивших во что бы то ни стало своими глазами увидеть во всех подробностях это опасное испытание. Офицеры, разумеется, были среди тех, кто поднимался по тропе. Те, что остались внизу, двинулись поближе к скалам, чтобы не пропустить самую интересную и волнующую часть зрелища.
Прошло уже больше часа, а оставшиеся внизу все еще ждали, но они не теряли времени даром. Картежники засели играть в монте, замелькали золотые и серебряные монеты, переходя из рук в руки; среди самых азартных игроков были оба отца миссионера; а прекрасные сеньориты занялись своей любимой, спокойной и несложной игрой в чуса. Бой между двумя сильными петухами (один из них принадлежал алькальду, другой — священнику) заполнил следующие полчаса. В этом соревновании восторжествовал представитель церкви. Его серый петух с одного удара убил рыжего петуха алькальда — длинной и крепкой, словно стальной шпорой он хватил противника по голове. Всем оставшимся внизу, даже и сеньоритам, очень понравилось это интересное и приятное зрелище — всем, кроме алькальда.
Петушиный бой окончился, и вниманием толпы снова завладела группа людей, поднимавшихся на плоскогорье. Они уже достигли края утеса, и по их движениям было ясно, что они договариваются об условиях этого неслыханного пари. Давайте присоединимся к ним.
Охотник на бизонов выехал вперед и показал место, где он хочет осуществить свой дерзкий замысел. Сверху, с плоскогорья, скал не видно, и даже самую долину, огромную пропасть в тысячу футов глубиной, не увидишь, если на какую-нибудь сотню шагов отступить от края обрыва. Здесь нет никаких откосов или склонов. Неизменно ровный зеленый луг стелется по плоскогорью до самого края обрыва. Он весь гладкий, трава здесь короткая и густая, как дерн. Коню не обо что споткнуться — нигде ни ямки, ни камешка. Эта опасность ему не грозит.
Выбранное место, как уже говорилось, походило на мыс; он выдавался вперед, нарушая ровную линию каменной стены. Снизу, из долины этот выступ сразу бросался в глаза. А здесь, наверху, он оказался продолжением плоскогорья, вытянутого вперед наподобие языка.
Прежде всего Карлос доехал до самого конца его и внимательно исследовал грунт. Он был как раз хорош: не настолько плотен, чтобы конские копыта скользили, и не такой рыхлый, чтобы они увязали в нем.
Карлоса сопровождали Вискарра, Робладо и другие. Многие подъехали к избранному месту, но держались на почтительном расстоянии от края пугающей бездны. И хоть они долгие годы жили на этой земле, среди величественных и грозных ландшафтов, многие из присутствующих не решились стать на край страшного выступа и заглянуть вниз.
Конь охотника стоял на самой кромке, и Карлос спокойно, словно то был берег канала, показывал, где провести черту. Конь тоже не выказывал признаков беспокойства. Сразу было видно: он прекрасно обучен, и ему это не внове. То и дело, вытянув шею, он заглядывал вниз, в долину, и, увидав там своих собратьев, пронзительно ржал. Карлос нарочно держал его на самом краю утеса, чтобы он освоился здесь, прежде чем приступить к нелегкому испытанию.
Но вот уже и черта проведена; меньше двух лошадиных корпусов отделяют ее от последних травинок, растущих на кромке обрыва. Вискарра и Робладо потребовали было, чтобы расстояние сделали еще короче, но в ответ раздался ропот неодобрения и послышались даже негромкие, приглушенные возгласы: «Позор!»
Чего добивались офицеры? Никто в толпе не знал этого, но все чувствовали: они хотят погубить охотника на бизонов. У каждого из них были на то свои причины. Оба они ненавидели Карлоса. Причина или причины их ненависти возникли недавно, у Робладо даже позже, чем у коменданта. За последний час он заметил нечто такое, что привело его в ярость. Он заметил, как Карлос махнул белым платком, и так как он стоял у скамей, ему было видно, кому предназначалось это «прощай». Изумление, негодование вспыхнули в нем, и он стал разговаривать с Карлосом заносчиво и грубо.
Каким чудовищным не покажется это предположение, но, сорвись охотник с утеса, оба — и Робладо и Вискарра — были бы только рады. Разумеется, это чудовищно, но таковы были там люди в те времена, и в этом нет ничего невероятного. Напротив, подобное варварство — желания и даже поступки еще более бесчеловечные — отнюдь не редкость и сейчас под небом Новой Мексики.
Молодой скотовод, который вместе с другими поднялся на плоскогорье, настаивал, чтобы игра велась честно, по всем правилам. Всего-навсего скотовод, хоть и богатый, он был человек смелый и отстаивал права Карлоса даже наперекор усатым грозным офицерам.
— Послушай, Карлос! — крикнул он, когда приготовления уже шли полным ходом. — Сдается мне, ты готов пойти на это сумасшествие. Раз уже не удалось отговорить тебя, я не стану тебе мешать. Но, по крайней мере, не рискуй собой ради такого пустяка. Вот мой кошелек! Спорь на сколько хочешь.
С этими словами он протянул охотнику туго набитый кошелек — как видно, в нем было немало денег.
С минуту Карлос молча смотрел на кошелек. Великодушное предложение обрадовало его. По всему видно было, что он глубоко тронут добротой юноши.
— Нет, — сказал он наконец, — нет, дон Хуан! От всего сердца благодарю тебя, но взять кошелек не могу… Одну монету, не больше. Я хотел бы поставить один золотой против коменданта.
— Бери, сколько хочешь.
— Спасибо, дон Хуан! Только один золотой. И у меня есть один — значит, всего два… Два золотых. Честное слово, никогда еще я не спорил на такие большие деньги!.. Слышите? Бедный охотник бьется об заклад на два золотых!
— Ну ладно, если ты не хочешь, это сделаю я… Полковник Вискарра! — громко обратился дон Хуан к коменданту. — Я думаю, вы не прочь получить назад свою ставку. Карлос ставит один золотой, а я предлагаю поспорить на десять.
— Согласен, — сухо ответил комендант.
— Решитесь ли вы удвоить ставку?
— Решусь ли я? — повторил Вискарра в бешенстве, что с ним так разговаривают при свидетелях. — Учетверим ее, если вам угодно, сударь.
— Ладно, учетверим, — тотчас принял вызов дон Хуан. Спорю на сорок золотых, что Карлос выдержит испытание!
— Хватит! Выкладывайте деньги!
Золотые монеты отсчитаны, вручены одному из свидетелей, выбраны судьи.
Вот уже все приготовления закончены. Зрители отъехали на плоскогорье и предоставили мыс в полное распоряжение охотника на бизонов и его коня.
Глава 7
Люди во все глаза смотрели на Карлоса, следили за каждым его движением.
Прежде всего он спешился, снял плащ и положил его в стороне. Потом осмотрел шпоры и убедился, что ремешки застегнуты как надо. Поправил опоясывающий его шарф, надвинул сомбреро на лоб. От колен и до самых лодыжек застегнул кожаные боковые отвороты своих бархатных штанов, чтобы они не мешали ему. Охотничий нож и хлыст отдал на хранение дону Хуану.
Потом он занялся конем, который все это время стоял, гордо выгнув шею, словно угадывал, что ему предстоит совершить нечто из ряда вон выходящее. Первым делом Карлос тщательно осмотрел уздечку, затем огромные стальные удила мамелюкского образца, проверяя, нет ли где-нибудь трещинки. Головной ремень он затянул ровно настолько, насколько нужно; потом пристально, дюйм за дюймом, осмотрел поводья. Они были плотно и искусно сплетены из волос хвоста дикой лошади. Кожаные могли бы лопнуть, а за эти, прочные и гибкие, как струна, бояться не приходилось.
Дошла очередь и до седла. Карлос осмотрел его со всех сторон, проверил стремянные ремни и большие деревянные колодки стремян. Подпруга была последним, самым важным предметом его забот. Он ослабил пряжки по обе стороны, а потом, упершись коленом, затянул подпругу как можно крепче. Он стянул ее так основательно, что и кончик пальца нельзя было просунуть под крепкий кожаный ремень.
Все эти предосторожности никого не могли удивить. Стоит порваться ремешку или соскользнуть пряжке — и смельчака поглотит вечная ночь.
Удостоверившись, что все в порядке, Карлос подобрал поводья и легко вскочил в седло.
Прежде всего он направил лошадь шагом вдоль утеса всего в нескольких футах от края: обоим, и коню и всаднику, следовало привыкнуть к опасности.
Вскоре он пустил вороного рысью, а потом и легким галопом. Даже на это нельзя было смотреть без страха. Для тех, кто глядел снизу, это было великолепное, но пугающее зрелище.
Немного погодя он повернул к плоскогорью, поскакал крупным галопом — тем аллюром, которым он намеревался приблизиться к краю утеса, — и вдруг опять натянул поводья, да так, что конь едва не опрокинулся набок. Снова галоп — и снова остановка. Карлос повторил этот маневр раз десять-двенадцать, направляясь то к краю утеса, то к плоскогорью. Разумеется, его конь мог бы скакать куда быстрее. Но о том, чтобы гнать во весь дух, и речи не было. Остановить коня, мчащегося со всей быстротой, на какую он только способен, на расстоянии двойной длины его тела от края пропасти совершенно невозможно, даже если пожертвовать его жизнью. Пуля, попавшая в сердце, и та не смогла бы мгновенно остановить на таком небольшом расстоянии скачущую лошадь. Хороший галоп — большего нельзя было ожидать в таких условиях; так решили и судьи, наблюдавшие за приготовлениями, когда Карлос спросил их об этом.
Наконец он повернул коня к утесу и поудобнее уселся в седле. Его решительный взгляд говорил, что пришло время приступить к испытанию.
Легкое прикосновение шпор — конь тронулся с места. И в следующую секунду он уже скакал галопом прямо к краю утеса.
Все взгляды, пристальные, напряженные, прикованы к всаднику. Все сердца тревожно бьются, зрители замерли; слышно лишь их неровное дыхание да стук копыт о твердый грунт плоскогорья.
Неизвестность длится недолго. В двадцать скачков конь приблизился почти к самому краю, от черты его отделяет расстояние не более шестикратной длины его тела, а поводья все еще висят свободно. Карлос не натягивает их; он знает, что стоит тронуть повод — и конь остановится, а сделать это до черты — значит проиграть. Еще прыжок… еще… еще…
— Эй! Он перескочил… Великий Боже! Он свалится! раздались возгласы среди зрителей.
Это они увидели, что Карлос на всем скаку пересек черту. Но тотчас же раздались громкие приветственные крики. «Viva!» неслось из долины. «Viva!» — кричали те, кто следил за Карлосом с плоскогорья.
В тот миг, когда конь, казалось, готов был перемахнуть за край обрыва, Карлос резко натянул поводья, и передние копыта коня застыли в воздухе. Осев на задние ноги, он словно врос в твердую, надежную почву плоскогорья. Так он замер в каких нибудь трех футах от края утеса. И тогда всадник поднял правую руку, снял сомбреро, помахал им в знак приветствия и вновь надел.
Для тех, кто смотрел снизу, это было великолепное зрелище. Темные силуэты коня и всадника, полные силы и красоты, застыли над обрывом, вырисовываясь на фоне синего неба. Руки и ноги всадника, каждый изгиб тела коня, даже конская сбруя были отчетливо видны. В то краткое мгновение, когда они неподвижно застыли над бездной, казалось, что это конная статуя, отлитая из бронзы, и вершина утеса служит ей пьедесталом.
Это длилось секунду, а воздух уже дрожал от громких «viva». Потом смотревшие снизу увидели, как всадник круто повернул коня и скрылся за кромкой утеса.
Испытание окончилось, и чувствительные женские сердца, тревожно, неистово стучавшие в груди всего минуту назад, уже снова бились спокойно и размеренно.
Глава 8
Когда охотник на бизонов вернулся в долину, все с новой силой закричали «viva» и замахали платками, приветствуя его. А он заметил лишь один платок, но большего ему и не надо было. Других он не увидел, да и не хотел видеть. Этот надушенный кусочек батиста, обшитый кружевом, был для него знаком надежды, знаменем, под которым он готов был пойти на еще более дерзкие и опасные подвиги. Маленькая, украшенная драгоценностями ручка высоко подняла платок и радостно махнула им в знак приветствия. Он видел это и был счастлив.
Он миновал скамьи, подъехал к повозке, спешился и поцеловал мать и сестру. Следом подъехал дон Хуан, тот, что держал за него пари, и некоторые заметили, что светловолосая девушка глядит не только на брата — ему приходиться делить ее нежные взгляды с другим, и этот другой — молодой скотовод. Даже последний тупица не мог не увидеть, что отвечают ей взгляды еще более нежные. Без сомнения, то была любовь, и они знали о чувствах друг друга.
Хотя дон Хуан был богатый скотовод и его величали «доном», однако на общественной лестнице он стоял лишь ступенькой выше охотника на бизонов; этой ступени помогло ему достичь богатство. Он не принадлежал к местной аристократии, да и мало заботился об этом, но он был храбр, энергичен и, пожелай он того, мог бы сблизиться с теми, в чьих жилах текла «голубая» кровь. Но, как видно, он вовсе не стремился к этому и уж во всяком случае он не хотел использовать для этого женитьбу.
Всякий, кто видел, какими пылкими взглядами он обменивался с сестрой охотника на бизонов, мог без труда предсказать, что дон Хуан не женится на аристократке.
Они были счастливы, те несколько человек, что собрались у повозки, и решили отпраздновать событие сластями, оршадом, лучшим вином из Эль Пасо. Дон Хуан не боялся потратить лишнее, да и чего ему было бояться, когда у него в кармане позвякивали пятьдесят золотых чистого выигрыша — те самые, потеря которых не давала покоя коменданту.
Сейчас комендант с хмурым видом бродил вокруг; время от времени он подходил ближе и нагло посматривал в сторону повозки. Он, разумеется, смотрел на Роситу. Избалованный сознанием, что он здесь неограниченный владыка, полковник Вискарра не привык, да и не старался скрывать свои намерения. Он так беззастенчиво выражал свое восхищение, что мало для кого оно осталось тайной. Встречаясь с ним взглядом, бедная девушка робко опускала глаза, и, когда дон Хуан заметил все это, им овладели гнев и тревога. Он знал, что за человек комендант Вискарра, знал, как опасен он, вооруженный властью. О свобода! Как ты прекрасна! Сколько рушится надежд, сколько горьких испытаний выпадает на долю любви, сколько разбивается сердец в краю, где нет тебя, где тираны властны вторгаться в чужую жизнь, властны преградить путь живому потоку чувства!
На лугу все еще продолжались игры, но они уже не вызывали прежнего интереса. Блистательный подвиг Карлоса на время затмил все остальное, притом, кое— кто из представителей власти был не в духе. Вискарра хмурился, Робладо выходил из себя, ревнуя Каталину. Алькальд с помощником надулись: оба крупно проиграли, поставив на рыжего петуха. Отцы иезуиты проигрались в карты, и христианское смирение изменило им. Один лишь городской священник был в духе и не прочь был снова пустить своего петуха в бой.
Наконец объявлены были заключительные состязания петушиные гонки. Это весьма увлекательный вид спорта, вот почему карты и прочие мелкие забавы были снова отложены и все приготовились смотреть гонки.
Петушиные гонки — типичная новомексиканская игра. Ее нетрудно описать. Вот она. Петуха подвешивают за ноги вниз головой к горизонтальной ветке на такой высоте, чтобы всадник мог достать до его головы и шеи. Петух привязан так, что если умело ухватить его и дернуть, можно сорвать его с дерева; но сделать это совсем не просто, потому что и шея и голова петуха намылены. Всадник должен галопом проскакать мимо дерева, и за тем, кто сорвет петуха, тотчас пускаются в погоню все остальные, всячески стараясь отнять у него добычу. В условленном месте он должен повернуть обратно и вновь прискакать к тому дереву, откуда начались гонки. Иногда его настигают на полпути и выхватывают у него петуха, а нередко бывает и так, что в горячке игры злополучную птицу разрывают на части. Если же удачливый всадник вернется, сохранив петуха в целости, его провозглашают победителем. Дело кончается тем, что он кладет свою добычу к ногам возлюбленной, и она — обычно одна из деревенских красоток — в этот вечер танцует фанданго с пернатым трофеем под мышкой. Это знак, что она высоко ценит внимание своего поклонника, а все остальные танцоры могут воочию убедиться, что ее возлюбленный ловок и смел. Это жестокое развлечение. Ведь нельзя же забывать, что несчастный петух, которого хватают и рвут на части, живое существо! Однако вряд ли кому— нибудь из жителей Новой Мексики хоть раз пришло на ум, что это жестоко. А если кто и подумал об этом, так, уж конечно, женщина: ведь обитательницы этой страны столь же милосердны, сколь жестоки их мужья и братья. Женщины мирятся с петушиными гонками, потому что таков обычай Новой Мексики. И найдется ли такая страна, где нет своих жестоких игр? Разве это разумно и последовательно — убиваться над петухом, если мы и сами превесело скачем по следу несчастной, затравленной лисы?
Есть два вида петушиных гонок. Один только что описан. Другой отличается лишь тем, что петуха не привязывают к дереву, а по шею зарывают в землю. Всадники так же скачут по заведенному порядку, но только каждый наклоняется с седла, стараясь выдернуть птицу из земли. В остальном условия те же.
Итак, к ветке подвесили первого петуха, участники выстроились в одну линию — игра началась.
Несколько человек попробовали ухватить птицу за голову, и им это даже удалось, но мыло испортило все дело.
Сержант-улан решил снова попытать счастья, но поставил ли что-нибудь на него полковник и на этот раз — неизвестно. Комендант уже достаточно рисковал сегодня, и он куда острее почувствовал бы потерю, не будь ему утешением небольшая и совершенно незаконная дань, которую он взимал с рудников, и еще кое-какие установленные обычаем доходы. А ведь он вполне мог прожить безбедно, не беря взяток, на те деньги, которые получал от вице-королевского правительства.
Сержанту, у которого, как вы уже знаете, было преимущество — высокий рост и крупный конь, — удалось ухватить петуха за шею. Как стало известно потом, он заранее набрал пригоршню песку — это помогло ему сорвать петуха с ветки, и он поскакал прочь.
Но были там всадники и на более быстрых конях, и не успел сержант обогнуть столб, служивший вехой поворота, как его настиг бойкий пастух и вырвал у птицы крыло; второе крыло оторвал другой преследователь, и сержант вернулся к дереву, держа в руке лишь жалкие остатки. И, конечно, на его долю не досталось ни криков «viva», ни рукоплесканий.
Карлос, охотник на бизонов, не участвовал в этом состязании. Он знал, что завоевал сегодня довольно славы, приобрел и врагов и друзей, и не стремился умножить число ни тех, ни других. Однако кое-кто из зрителей стал поддразнивать его — им просто хотелось снова поглядеть на прекрасного мастера верховой езды. Некоторое время он сопротивлялся, до тех пор, пока с дерева не сорвали еще двух петухов. Одного, целехонького, привез и положил к ногам своей улыбающейся возлюбленной тот самый пастух, о котором уже упоминалось.
И тут, должно быть, новая мысль пришла на ум Карлосу. Он выехал вперед, очевидно, готовый принять участие в следующем заезде.
— Теперь мне не скоро придется быть на празднике, заметил он дону Хуану. — Послезавтра я уезжаю в прерии. Надо сегодня ничего не пропустить.
Игра теперь пошла по-другому. Птицу закопали в землю. Суд по длинной шее и остроконечному клюву, это не петух, а снежно-белая цапля, одна из многих видов, какие водятся в этих местах. Ее нежную, тонкую шею не стали мазать мылом. На этот раз трудность была в том, что у цапли оставалось достаточно свободы, и она никак не давалась в руки; она резко отдергивала голову то вправо, то влево, и ухватить ее было нелегко.
Дан сигнал, и всадники поскакали. Карлос был в числе последних, но, доскакав, увидел, что белая изгибающаяся шея все еще на месте. Он оказался проворнее птицы, мгновенно выхватил ее из покорно раздавшегося песка, и вот она уже машет белоснежными крыльями над гривой его коня.
Карлосу требовалась не только быстрота, но и большая ловкость, чтобы ускользнуть от толпы всадников, устремившихся со всех сторон ему наперерез. Он то кинется вперед, то вдруг остановится, круто свернет, чтобы миновать какого-нибудь всадника и проскакать позади него. Так он маневрировал снова и снова, и наконец его вороной конь вырвался из кольца соперников и понесся к столбу — знаку поворота. Обогнув его, Карлос поскакал назад, высоко подняв свою добычу, незапятнанную и неповрежденную, и зрители встретили его громкими рукоплесканиями.
Догадкам, предположениям не было конца. Кому же он преподнесет свою добычу? Уж, наверно, он выберет девушку своего круга, говорили в толпе, какую-нибудь деревенскую красавицу или дочку скотовода. Казалось, охотник не спешил удовлетворить общее любопытство. Но немного погодя он поразил всех: подбросил птицу высоко вверх и отпустил на свободу. Цапля гордо взмыла вверх, вытянула длинную шею и полетела в дальний конец долины.
Однако, прежде чем расстаться со своей пленницей, Карлос вырвал из ее крыльев несколько длинных, прозрачных, как паутина, перьев, по которым всегда узнаешь цаплю, и связал их в плюмаж. Покончив с этим, он дал шпоры коню и галопом поскакал к скамьям. Там он гибким движением наклонился в седле и положил трофей к ногам… Каталины де Крусес!
Возглас изумления пронесся по толпе, и сразу же все сурово осудили Карлоса.
Как! Простой охотник на бизонов, никому не известный бедняк хочет, чтобы его одарила улыбкой дочь богача? Нет, это не любезность — это уже оскорбление! Что за дерзкая самонадеянность!
И возмущались не только сеньоры и сеньориты. Деревенские красотки и дочки скотоводов были разгневаны не меньше. Ими пренебрегли, на них не обратили внимания, их обманули — и кто? Один из их же среды! Ему, видите ли, понадобилась Каталина де Крусес!
А Каталина — что ж, ей и лестно и неприятно; неприятно потому, что она оказалась в затруднительном положении. Она улыбнулась, покраснела и едва слышно произнесла:
— Благодарю вас, кабальеро.
Однако минуту она медлила, не решаясь поднять трофей. Справа от нее в гневе вскочил на ноги отец, слева — не менее разгневанный поклонник. И этот поклонник был не кто иной, как Робладо.
— Наглец! — закричал он, схватил плюмаж и швырнул его на землю. — Наглец!
Карлос перегнулся с седла, поднял плюмаж и заткнул его за золотую тесьму на шляпе. Потом, бросив вызывающий взгляд на офицера, сказал:
— Не горячитесь, капитан Робладо. Из ревнивых женихов выходят равнодушные мужья. — Он поглядел на Каталину, улыбнулся, и добавил совсем другим тоном: — Благодарю вас, сеньорита!
С этими словами он снял сомбреро, низко поклонился, повернул коня и поскакал прочь.
Робладо наполовину обнажил шпагу, и его громкое «Черт тебя побери!» вместе с проклятиями, которые бормотал сквозь зубы дон Амбросио, достигло ушей Карлоса.
Но при всем своем чванстве капитан был далеко не храбрец, и, принимая во внимание, что у бедра охотника висел в ножнах длинный нож — «мачете», Робладо ограничился одними угрозами и дал Карлосу удалиться.
Этот случай всех взволновал и у многих возбудил недобрые чувства. Охотник на бизонов вызвал негодование аристократии, ревность и зависть демократии, и вышло так, что после всех своих блестящих подвигов он покидал поле состязаний отнюдь не всеобщим любимцем. Безумные слова странной старухи, его матери, передавались из уст в уста и пробудили ненависть к человеку чужого племени — вот почему его искусство вызывало уже не восхищение, а зависть. Американец, еретик, он поистине должен быть ангелом, чтобы завоевать их дружбу, ибо в этом далеком уголке земли фанатизм был также неистов, как в городе Семи Холмов[10] в самые мрачные дни инквизиции.
Пожалуй, для Карлоса было лучше, что состязания уже остались позади и праздник подходил к концу.
Еще несколько минут — и все пришло в движение. Запрягали мулов, быков, ослов; скотоводы с женами и дочерьми забирались в свои повозки, похожие на огромные ящики; крики возниц, свист бичей, отвратительный визг несмазанных осей — все это слилось в дикий концерт, который изумил бы всякого, кто не родился в этом краю.
Не прошло и получаса, как огромный луг опустел, и лишь вечно голодный, тощий койот рыскал там в поисках пищи.
Глава 9
Хотя состязания на открытом воздухе кончились, праздник святого Иоанна продолжался. Было еще немало зрелищ, на которые стоило посмотреть, прежде чем разъехаться по домам. Снова пришла очередь церкви: опять продавали индульгенции, четки и частицы мощей, опять кропили святой водой — ведь казна святых отцов должна была пополниться, чтобы было с чем сесть за карточный стол. Потом, вечером, состоялось шествие в честь святого Иоанна, которому был посвящен праздник. Его статую, водруженную на носилки, носили по всему городу пять или шесть дюжих молодцов, пока они не выбились из сил под тяжестью своей ноши; пот струился с них ручьями.
Сам святой был настоящей диковиной. Большая кукла из воска и гипса, закутанная в выцветшую шелковую мантию, которая когда-то была желтой, и вся изукрашенная перьями и мишурой. Это была католическая статуя, но преображенная на индейский лад, ибо в мексиканской религии столько же индейского, сколько и римско-католического. Святой, видно, устал от трудов: что-то в соединении головы с шеей испортилось, голова поникла на грудь, и, когда статую несли, казалось, что святой кивает толпе. Служители церкви не упустили случая истолковать все по-своему: они объяснили благочестивой пастве, что, кланяясь, святой выражает свое снисхождение к участникам процессии и одобряет их действия, угодные небу. И, конечно же, это настоящее чудо. Так утверждали и отцы иезуиты из миссии и священник местной церкви — и кто стал бы с ними спорить? Возражать им опасно. В Сан-Ильдефонсо нет такого человека, который осмелился бы не поверить церкви. Чудо пошло ей на пользу, оно подогревало энтузиазм верующих. И когда святого Иоанна поместили обратно в его нишу в храме, а впереди поставили ящичек, в него посыпалось немало песет, реалов, квартильо, которые иначе в этот же вечер были бы проиграны в карты.
Кланяющиеся святые и мигающие мадонны отнюдь не новое изобретение святой церкви. У мексиканских священников тоже были свои святые чудотворцы, и даже в Новой Мексике, этом мало кому известном краю, найдется несколько искусников, которые творили чудеса не хуже тех, какими прославилась вся эта порода обманщиков.
Теперь вступила в свои права пиротехника, и не какие-нибудь жалкие заурядные фокусы, — нет, ведь новомексиканцы знают толк в этом искусстве. Любовь к фейерверкам — своеобразный, но верный признак вырождающейся нации.
Дайте нам точные цифры, сколько пороха извел тот или иной народ на фейерверки, на ракеты и шутихи, и я скажу вам, на каком уровне физического и духовного развития он находится. Чем выше цифра, тем ниже опустился душой и телом этот народ, ибо соотношение здесь обратно пропорциональное.
Я стоял однажды в Париже, на площади Согласия, и видел толпу богачей и бедняков, глазеющих на одно из этих жалких зрелищ, которые для того лишь затеваются, чтобы обмануть людей, создать у них иллюзию довольства и радости. Этой пустой забавой им платили за утраченную свободу — так ребенок отдает драгоценный камень за горсть леденцов. И они глядели с наслаждением, чуть ли не с восторгом, а я смотрел на них: какие они были жалкие, малорослые, на добрый фут ниже своих предков! Я смотрел и видел глаза, оживленно блестевшие, но лишенные мысли.
А это были представители некогда великой нации, и она все еще мнила себя первым народом на земле. Они с таким увлечением, с таким восторгом следили за фейерверком, что я уже не мог сомневаться: расцвет и величие этого народа позади, а теперь он быстро катится по наклонной плоскости — к упадку и вырождению…
После фейерверков начали танцевать фанданго. Здесь можно было встретить все те же лица, почти без изменений те же наряды. Лишь сеньоры и сеньориты переоделись, да иная деревенская красотка сменила грубую шерстяную юбку на другую из пестрого миткаля, отделанную оборками.
Танцевали в просторном зале Дома капитула[11], который выходил на площадь. В этот праздничный день вход был открыт для всех. В пограничных городах Мексики, несмотря на классовые различия и деспотизм властей, во всем, что касается развлечений, сохраняется своеобразное демократическое равенство, смешение представителей низших и высших слоев общества, чего никогда не встретишь в других странах. Приезжих англичан и даже американцев это всегда удивляло.
В зал для танцев впускали всякого, кто пожелает, лишь бы он заплатил за вход. Бок о бок с богачом в прекрасном костюме тонкого сукна можно было увидеть скотовода в кожаной куртке и бархатных штанах до колен; а дочка богатого торговца танцевала рядом с крестьянкой, которая своими руками месит тесто и ткет шали.
Комендант, Робладо и лейтенант прибыли на бал в полном параде. Здесь же были и алькальд с жезлом, и священник в широкополой шляпе, и отцы иезуиты в своих развевающихся сутанах, и вся месная знать.
Тут и богатый коммерсант дон Хосе Ринкон со своей дородной супругой и четырьмя толстыми, вечно сонными дочерьми; и супруга и вся семья алькальда; и девицы Эчевариа с братом-щеголем в костюме по парижской моде во фраке и цилиндре; на всем балу он один был в таком наряде. Здесь и богатый землевладелец сеньор Гомес дель Монте с тощей женой и несколькими довольно тощими дочерьми — этим они отличались от сотен коров, бродивших по его пастбищам. Здесь же блистает и красавица Каталина де Крусес, дочь богатого владельца рудников дона Амбросио; отец не отходит от нее и не спускает с нее глаз.
Помимо этих важных особ, тут присутствуют и люди менее значительные: и служащие с рудников дона Амбросио, и конторщики торговых предприятий, и молодые скотоводы из долины, и рудокопы, и пастухи, и охотники на бизонов, и даже городские бедняки с дешевыми серапе на плечах. Кого только не было на этом балу!
Оркестр состоял из бандолы[12], арфы и скрипки; танцевали вальс, болеро, коону. Можно прямо сказать, что лучше не танцуют и в Париже. Пеоны, в коротких кожаных куртках и штанах до колен, и те танцуют с таким изяществом, будто они профессора этого дела; а деревенские красотки в коротких юбочках и пестрых туфлях порхают по залу, словно балерины.
Робладо, по обыкновению, не отходил от Каталины и танцевал с ней почти все танцы, но она не смотрела на его золотые эполеты — ее взор блуждал по залу, словно искал кого-то. Было очевидно, что она невнимательна; она почти не слушала Робладо и явно тяготилась его обществом.
Вискарра тоже кого-то искал взглядом и не находил; он прогуливался взад и вперед, тщетно заглядывая в лица, во все углы.
Если он искал прекрасную блондинку, ему не повезло: ее не было здесь. После фейерверка Росита с матерью уехали домой. Они жили далеко, в долине, и отправились туда в сопровождении Карлоса и молодого скотовода дон Хуана. Однако оба еще хотели вернуться на танцы. Дорога задержала их, и они появились в зале с большим опозданием. Потому-то взор Каталины и блуждал по сторонам. Однако ее не ждало разочарование, как Вискарру.
Фанданго еще не окончилось, когда в зал вошли два молодых человека и смешались с толпой. То были дон Хуан и Карлос. Охотника нетрудно было узнать по белоснежному султану из перьев цапли, который развевался на его черном сомбреро.
Взор Каталины уже не блуждал беспокойно по лицам. Теперь он снова и снова устремлялся в одну сторону, но не прямо и подолгу, а украдкой — ведь за ней наблюдали разгневанный отец и ревнивый поклонник.
Карлос притворялся равнодушным, хотя сердце его пылало. Чего бы не дал он, чтобы танцевать с Каталиной! Но он слишком хорошо понимал положение дел. Он знал, что стоит ему пригласить Каталину, и разразится скандал. И он не отваживался на это.
Время от времени ему вдруг начинало казаться, что Каталина больше не обращает на него внимания, что она с интересом прислушивается с словам Робладо, щеголя Эчевариа и других. Да, Каталина прекрасно играла свою роль. Игра эта предназначалась для других, не для Карлоса, но он не знал этого и почувствовал себя уязвленным.
Беспокойство охватило его, но он пошел танцевать. Партнершей он избрал прехорошенькую крестьяночку, Инес Гонсалес, и она была счастлива танцевать с ним. Каталина видела это и, в свою очередь, ощутила укол ревности.
Некоторое время продолжалась эта игра. Наконец Карлосу наскучила его партнерша, и он уселся в одиночестве на скамью. Его глаза следили за каждым движением Каталины. И в ее ответном взгляде он читал любовь, любовь, в которой они признались друг другу, — да, они уже связали себя клятвой. Что же им было сомневаться друг в друге?
Они снова верили друг другу, танцы взволновали их, дон Амбросио изрядно выпил и уже не так рьяно опекал дочь, и теперь уверенность была не только у них в сердце, но и во взгляде они чаще и смелее смотрели друг на друга.
По комнате кружились пары и в вихре вальса проносились мимо Карлоса. Каталина вальсировала со щеголем Эчевариа. И каждый раз, когда она оказывалась рядом с Карлосом, их взгляды встречались. Чего только не скажет испанка мимолетным взглядом, который вновь и вновь возвращается к любимому! И в глазах Каталины Карлос читал чудесную повесть. Когда Каталина в третий раз проносилась мимо по кругу, Карлос заметил, что в руке, которая покоится на плече партнера, она что-то держит. То была веточка, покрытая темной зеленью. Оказавшись рядом с Карлосом, Каталина ловко уронила ее прямо к нему на колени, и до него донесся едва слышный шепот: «Туя!»
Карлос схватил ветку, темно-зеленую ветку туи. Ему ли было не понять ее значение! Он прижал ее к губам, а потом сунул в петлицу своей вышитой куртки.
Когда Каталина снова оказалась рядом с ним, они обменялись взглядами, полными любви и доверия.
* * *
Ночь тянулась медленно, дон Амбросио начал клевать носом и наконец увез дочь домой; капитан Робладо сопровождал их.
Вскоре после этого почти все, кто был познатнее и побогаче, разъехались; лишь некоторые, самые неутомимые поклонники Терпсихоры, танцевали до тех пор, пока румяная Аврора не заглянула в забранные решетками окна Дома капитула.
Глава 10
Льяно Эстакадо, или «Столбовая Равнина», — царство охотников, один из самых своеобразных уголков Великих Американских Равнин. Это уединенное степное плоскогорье, по очертаниям напоминающее баранью ногу, возвышается над всей округой почти на тысячу футов. Оно тянется с севера на юг на четыреста миль, а ширина его в самом широком месте едва достигает трехсот миль. Это пространство, почти равное всей Ирландии. Оно не похоже на остальную прерию, и само оно неоднородно. На севере засушливая степь простирается на пятьдесят миль; местами не встретишь ни деревца, а местами растет чахлая, низкорослая акация — здесь встречаются два вида ее. Степь кое-где рассекают суровые, непроходимые ущелья глубиной до тысячи футов. Крутые, отвесные стены их совершенно неприступны; на дне между ними изредка попадаются неглубокие озерки, а среди скал и по крутым склонам лепятся чахлые кедры.
Проникнуть в эти глубокие расселины, в эти каньоны, или перебраться через них можно лишь в определенных местах, и такие переходы не часты — их разделяют десятки миль.
На плоскогорье порою на сотни миль тянутся совершенно ровные, пустынные земли, и грунт здесь такой плотный, словно его нарочно утрамбовали; а местами раскинулся зеленый ковер трав, разрослись акации; кое-где путешественник увидит неглубокие впадины, наполненные водой, то совсем маленькие, то побольше; есть и настоящие невысыхающие озерки — их берега заросли осокой. Почти во всех этих озерках вода в той или иной степени насыщена солями; в одних она сернистая, в других совсем соленая. После сильных дождей озер становится больше, и вода в них почти пресная; но дожди в этом необитаемом краю редкость, и во время длительных засух почти все озерки исчезают.
В южной части Льяно Эстакадо почти не увидишь ровных пространств; на добрые пятьдесят миль с севера на юг протянулась широкая — чуть не в двадцать миль шириной — полоса песчаных холмов. Это груды белого песка; они вздымаются то грядами до ста футов вышиной, то отдельными конусообразными вершинами; нигде не деревца, ни куста, ни травинки — ничто не нарушает их мягких очертаний, ни одно яркое пятно не оживляет их однообразной белизны. И самое поразительное, поистине загадка для геолога — что среди этих холмов, даже на самых высоких гребнях, встречаются водоемы, озерки, и вода в них бывает не от случая к случаю, не только после дождей. Тут растет камыш, тростник, кувшинки — значит, эти озерки не пересыхают и не иссякают. А казалось бы, можно ли найти более неподходящее место для воды?
Такие дюны встречаются и на берегах Мексиканского залива и на европейском побережье, и там это нетрудно объяснить; но существование их здесь, в самом сердце материка, иначе как загадкой природы не назовешь.
Этот песчаный пояс можно пересечь в одном или двух местах, но лошади на каждом шагу вязнут по колено, и не будь здесь воды, опасно было бы пускаться в такое путешествие.
Где же находится Льяно Эстакадо? Разверните карту Северной Америки. Вы увидите большую реку, которую называют Кэнедиен; она берет начало в Скалистых горах, сперва течет на юг, потом на восток, пока не сливается с Арканзасом. Поворачивая к востоку, река огибает северный край этого плоскогорья, кое-где она омывает его отвесные стены, а в иных местах отступает далеко в сторону, и тогда с берега эти стены можно принять за горную гряду — путешественники нередко совершают эту ошибку.
Западная стена Льяно Эстакадо более отчетлива. У истоков Кэнедиен начинается еще одна большая река — Пекос. Если верить карте, она тоже течет на юг, но это не совсем точно: на протяжении нескольких сот миль Пекос заметно отклоняется к востоку и лишь потом направляется к югу, где впадает в Рио Гранде. Пекос омывает все западное основание плоскогорья, которое преграждает ему путь, и вместо того, чтобы течь на восток, как все другие степные реки, берущие начало в Скалистых горах, Пекос отклоняется к югу.
Восточная граница плоскогорья не столь определенна, но некоторое представление о его очертаниях можно получить, если знать, что граница эта проходит в каких-нибудь трехстах милях от Пекоса и пересекает истоки Уошито, Ред-Ривер, Брасос и Колорадо. Все эти реки и их многочисленные притоки берут начало на восточных склонах Льяно Эстакадо, и быстрые воды их рассекают плоскогорье на огромные фантастической формы массивы.
На юге плоскогорье суживается и, постепенно понижаясь, переходит в долины многочисленных небольших речушек, которые вливаются в низовья Рио Гранде.
В этом своеобразном краю никто не живет. Даже индеец никогда не задерживается тут надолго; он останавливается лишь на несколько часов, чтобы отдохнуть после перехода, но в иных местах и он, привыкший к голоду и жажде, не осмелится пересечь плоскогорье. Переход через Льяно Эстакадо очень опасен, и на всем ее протяжении — четыреста миль — лишь в двух местах путешественники могут пересечь ее, не рискуя жизнью. Опасность кроется в недостатках воды. Травы здесь изобилие, но в иное время года даже на хорошо известной дороге на протяжении шестидесяти-восьмидесяти миль невозможно добыть ни капли воды.
В давние времена один из этих переходов, соединяющий Санта-Фе с Сан-Антонио-де-Бехар в Техасе, назывался «Испанской тропой»; чтобы странники не сбились с пути, кое-где поставлены были вехи, столбы. Отсюда и название всей местности.
По Льяно Эстакадо теперь мало кто проезжает; там можно встретить лишь мексиканских охотников на бизонов да индейских торговцев — команчеросов. Поселенцы Новой Мексики пускаются в путь небольшими партиями и охотятся на бизонов либо торгуют с индейскими племенами, кочующими в восточной части плоскогорья. И охота и торговля не очень-то прибыльны, но и этого довольно людям особой породы — тем, кого случай или призвание заставили столь опасным и необычным способом добывать хлеб насущный.
Эти жители мексиканской окраины очень напоминают охотников и обитателей англо-американских лесных поселений, расположенных на границе. Однако у мексиканцев иное оружие, одежда, иные способы охоты.
Снаряжение охотников на бизонов, как и лесного бродяги, очень простое. Охотится он верхом на неплохом, а иногда и превосходном коне; вооружен луком и стрелами, охотничьим ножом и длинным копьем. Огнестрельного оружия он, как правило, не признает; бывают и исключения, но они редки. Важная часть его снаряжения — лассо. Что касается торговли, запас товаров у него невелик — обычно на каких-нибудь двадцать долларов, не больше. Несколько мешков с хлебом, выпеченным из муки крупного помола (индейцы, живущие в прерии, его очень любят), куль маиса, кое-какие безделушки, которыми украшают себя индейцы, грубые серапе, несколько кусков ярко окрашенной домотканной шерстяной материи — вот и весь его товар. Металлическими изделиями он почти не торгует. Он сам платит за них слишком дорого, ибо их привозят издалека и без зазрения совести облагают непомерно высокими пошлинами. Огнестрельным оружием он вовсе не торгует индейцам этих прерий его привозят с востока; но испанские ружья — легкие мушкеты и штуцеры — команчи добывают во время набегов на южно-мексиканские города.
Возвращаясь из своего дорогостоящего и опасного путешествия, охотник привозит сушеное бизонье мясо и шкуры; одни он добыл сам, на охоте, другие выменял у индейцев на свои товары.
В обмен на вещи отдают и лошадей, и мулов, и ослов. Индейцы владеют огромными стадами, у иных сотни голов скота, и почти на всех — мексиканское клеймо. Другими словами, индейцы крадут их в поселениях, расположенных в нижнем течении Рио Гранде, а затем продают в верховьях Рио Гранде, и торговля эта считается совершенно законной, — по крайней мере, сейчас дело обстоит так, что ничего тут не поделаешь.
Охотники на бизонов редко отправляются в прерии большими группами. Иногда их собирается много, они берут с собой жен и детей и кочуют с ними, точно индейское племя. Однако чаще всего в путь пускаются один-два охотника с лошадьми, мулами и слугами — вот и вся экспедиция. Дикие обитатели прерий тревожат их меньше, чем обычных путешественников. Команчи и другие племена знают, с какой целью они пускаются в прерию, и радушно принимают их. И при всем этом эти люди с двойной профессией, полуохотники-полуторгаши, нередко обманывают индейцев и плохо обращаются с ними. Они передвигаются на вьючных мулах и в повозках, запряженных мулами или быками. Такая повозка — самый примитивный способ передвижения. Она двухколесная; колеса вырезаны из тополя и насажены на прочную деревянную ось. Колеса эти обычно не совсем круглые, они скорее овальные или даже квадратные. Двойное дышло тянется от оси, а сверху водружено нечто вроде глубокого четырехугольного ящика. Несколько пар быков впряжены в это сооружение простейшим способом: деревянную поперечину, заранее прикрепленную к дышлу, привязывают к рогам. На быках нет ни ярма, ни сбруи; налягут быки головами на поперечину и тянут весь поезд. Придя в движение, деревянная ось поднимает такой скрип и визг, что никакими словами не описать. Лишь в доме, где много детей всех возрастов и все они кричат в голос, можно услышать такую чудовищную какофонию; или для этого надо отправиться в Южную Мексику, где нас оглушит подобной музыкой стадо вопящих обезьян.
Глава 11
Примерно через неделю после праздника святого Иоанна небольшая партия охотников на бизонов переправлялась через Пекос у Лесного брода. Тут было всего пять человек: белый, метис и три чистокровных индейца, а с ними несколько вьючных мулов и три повозки, запряженные быками. Походка индейцев, их согнутые фигуры, тильмы на плечах и ноги, обутые в сандалии, — все говорило о том, что это мирные индейцы. То были наемные пеоны Карлоса, единственного белого в этой партии и ее предводителя.
Метис, по имени Антонио, был погонщиком мулов, а индейцы погонщиками быков; каждый вел свою упряжку, направляя быков при помощи длинного стрекала.
Карлос верхом на своем прекрасном вороном коне, закутанный в плотное серапе, ехал впереди, указывая дорогу. Свой нарядный плащ он оставил дома: жаль было брать его в такое долгое и трудное путешествие, а кроме того, индейцы могли польститься на такой великолепный плащ и, не задумываясь, сняли бы с его обладателя скальп. Карлос расстался не только с плащом, но и с расшитой курткой, алым шарфом и бархатными штанами и теперь был одет гораздо проще.
Карлос многого ждал от этой поездки. Никогда прежде он не брал с собой в прерии столько товаров. Не только три повозки, каждую из которых тащили четыре быка, но и пять вьючных мулов были нагружены: в повозках — хлеб, маис, испанские бобы, чилийский перец; во вьюках серапе, одеяла, грубые шерстяные ткани, кое-какие яркие безделушки, несколько испанских ножей с острыми трехгранными лезвиями. Только дерзость и удача в праздничных состязаниях помогли Карлосу запастись таким множеством товаров. У него был золотой, еще два он выиграл, а впридачу молодой скотовод, дон Хуан, чуть не силой навязал ему взаймы еще пять, чтобы Карлос мог основательнее снарядить свою экспедицию.
Путники благополучно переправились через Пекос и двинулись к высшей точке Льяно Эстакадо — она находится недалеко от Лесного брода. Отлого поднимающееся вверх ущелье привело их на плоскогорье. Перед ними открылась ровная, однообразная прерия нигде ни кустика, ни рытвины, ни единой черточки, которая служила бы приметой в пути.
Но Карлосу не нужны были путеводные приметы. Он знал Льяно Эстакадо, как ни один человек на свете. Он повернул коня на юго-восток, и караван тронулся. Карлос держал путь в Луизиану, к одному из главных рукавов Ред-Ривер, — он слышал, что в последние годы там бывало много бизонов. Карлос впервые направлялся в эти края; чаще всего он охотился и торговал в Техасе, по верхним притокам Брасоса и Колорадо. Но землями, по которым текли эти реки, теперь окончательно завладели могущественное племя команчей и их союзники — киава, липаны, тонкевы. Индейцам никто не мешал преследовать бизонов, и они не давали своей дичи передышки. Животные стали пугливы, не подпускали человека близко, и стада их заметно поредели.
Не то — в бассейне Ред-Ривер. Это уже вражеская территория. Время от времени здесь охотятся вако, пане, осаджи, изредка тут появляются отряды кикапу, чероки и других племен, кочующих к востоку от Льяно Эстакадо. Подчас дело доходит до кровавых стычек; враждебные племена вынуждены держаться подальше друг от друга, поэтому то одна, то другая сторона упускает охотничий сезон, и бизонов никто не тревожит. Известно, что на нейтральной земле — земле вражды — в изобилии водятся бизоны и всякая другая дичь, и она не так пуглива, как в других местах.
Карлос знал все это, вот почему он и решился снарядить экспедицию к верховьям Ред-Ривер, которая берет начало на востоке Льяно Эстакадо, а вовсе не в Скалистых горах, как показывает карта.
И Карлос и метис Антонио хорошо вооружены для охоты на бизонов; из трех пеонов два тоже искусные охотники. У всех луки, копья — они всего удобнее для этой охоты. Однако в одной из повозок спрятано также и огнестрельное оружие длинноствольное коричневое ружье американского образца. Карлос хранил его совсем для другой дичи и прекрасно умел с ним обращаться. Но как оно попало в руки мексиканского охотника на бизонов? Вспомните, Карлос по происхождению не мексиканец. Ружье это — семейная реликвия. Оно принадлежало отцу охотника.
Мы не станем следовать по пятам за Карлосом и его караваном, не станем наблюдать за каждым шагом этого удивительного путешествия по пустынной прерии. Однажды охотникам пришлось совершить дневной переход в семьдесят миль по безводной пустыне. Но Карлос не впервые вел караван по местам, где нет ни капли воды, и уже знал, как не потерять при этом ни одного быка или мула.
Он путешествовал так. У последнего водоема давал быкам напиться вволю; под вечер отправлялись в путь и шли до света; затем Карлос делал двухчасовую стоянку, и животные паслись, пока на траве еще лежала роса. Потом снова долгий переход до полудня и снова отдых — три-четыре часа, пока не наступит вечерняя прохлада; тогда партия снова пускается в путь, и лишь к ночи заканчивается этот дневной переход. Еще и сейчас так путешествуют обычно в пустынях Чиуауа, Соноры и в Северной Мексике.
Через несколько дней Карлос со своими спутниками спустился по восточному склону с высокого нагорья и достиг притока Ред-Ривер. Здесь все выглядело совсем по-другому — вокруг расстилалась волнистая прерия. Все линии здесь мягки и плавны; холмы с закругленными вершинами и отлогими склонами переходят в зеленые долины, а по ним струятся и сверкают на солнце прозрачные ручьи. Там и тут вдоль берегов раскинулись рощи пышно разрослись вечнозеленые дубы, красавицы пеканы с вкусными продолговатыми орешками и серебристые тополя. На пригорках кое-где высятся могучие деревья — они растут поодаль друг от друга, и кажется, что их насадила рука человека. У них раскидистые, пышные кроны, а по светлым перистым листьям и длинным коричневым стручкам, свисающим с ветвей, сразу видно, что это и есть знаменитая американская акация. В низинах, у ручья, виднеется красная шелковица, тут и там цветет нежным сиреневым цветом китайское дерево. И холмы и долины устланы богатым ярко-зеленым ковром невысокой бизоньей травы, и кажется, будто это недавно скошенный луг покрывается новой, молодой зеленью. Чудесные места! Неудивительно, что они стали излюбленным пастбищем бизонов.
Вступив в этот благословенный край, Карлос вскоре напал на след бизонов: всюду попадались протоптанные ими тропы, водопои, деревья с ободранной корой. На следующее утро он оказался посреди огромного стада; бизоны спокойно, как обыкновенные коровы, бродили по полю и не спеша щипали траву. Они были совсем не пугливы и даже не подумали скрыться при его приближении.
Вот он и достиг цели. Это была его огромная, богата ферма, его собственное стадо — да, это стадо принадлежало ему, как всякому другому, — и теперь Карлосу оставалось только бить бизонов и заготовлять впрок мясо и шкуры.
Что же касается торговли с индейцами, то это было еще впереди. Карлос не сомневался, что за время охоты он не раз повстречается с ними.
Как все, кто бродит по прериям, будь то трапперы[13] или индейцы, Карлос живо чувствовал красоту окружающей природы и выбрал живописный уголок для лагеря. То была поросшая густой травой низина, где под сенью пекан, шелковиц, дикого китайского дерева струился чистый, прозрачный ручей.
В теннистой роще Карлос поставил повозки и разбил палатку.
Глава 12
Карлос начал охотиться, и охота его была необыкновенно удачна. В первые два дня он убил не меньше двадцати бизонов и всех их доставил в лагерь. Карлос и Антонио преследовали животных и били их, а два пеона свежевали туши, разрезали их на части и отвозили на стоянку. Тут за дело принимался третий пеон: он вялил мясо — разрезал его на тонкие ломти и сушил их на солнце.
Охота обещала быть прибыльной. Карлос не сомневался, что добудет столько мяса, сколько сможет увезти с собой, и солидный запас шкур. Все это у него быстро раскупят в городах Новой Мексики.
Однако на третий день охотники заметили, что поведение бизонов изменились: они вдруг стали неспокойны и пугливы. Время от времени мимо во всю прыть проносились огромные стада казалось, они охвачены страхом или спасаются от преследования. Но это не Карлос с Антонио испугали их. Кто же тогда обратил их в бегство?
Карлос рассудил, что неподалеку охотится какое-нибудь индейское племя. И он оказался прав. Поднявшись на гору, с которой открывалась вся эта живописная долина, он заметил индейский лагерь. Около пятидесяти вигвамов, словно палатки, выстроилось вдоль ручья у самого края долины. Вигвамы были конической формы: поставленные наклонно по кругу жерди сходились, их связывали и полученный таким образом каркас покрывали бизоньими шкурами.
— Это вигвамы вако! — тотчас сказал Карлос: у него был наметанный глаз.
— Откуда вы знаете, хозяин? — спросил Антонио. Он был далеко не так опытен, как Карлос, который всю жизнь, с самого детства, провел в прериях.
— По вигвамам видно.
— А я думал, это команчи. Я видел такие же вигвамы у «пожирателей бизонов».
— Нет, Антонио, — возразил Карлос. — В вигваме команчей жерди плотно соединены и доверху покрыты шкурами, для дыма не остается выхода. А здесь, видишь, совсем не так. Нет, это вигвамы вако. Правда, они союзники команчей.
Так оно и было. Жерди наверху сходились неплотно, и для дыма оставалось отверстие, поэтому вигвам вако походил на конус, но на усеченный и этим отличался от вигвама команчей.
— Вако не враждуют с нами, — заметил охотник. — Я думаю, нам нечего их опасаться. Уверен, что они будут торговать с нами. Но где же они?
Охотник задавал себе этот вопрос потому, что, оглядывая лагерь, он не увидел там ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни животных — ни одного живого существа. Но это не мог быть покинутый лагерь. Индейцы никогда не бросят такие вигвамы; во всяком случае, они не оставят такие прекрасные шкуры. Нет, они, наверно, где-то по-соседству: должно быть, преследуют бизонов среди больших холмов.
Карлос угадал. Разглядывая сверху лагерь, они услыхали громкие крики, и через минуту неподалеку, на холмах, показался большой отряд — несколько сот всадников. Они ехали медленно, но их взмыленные кони тяжело дышали — очевидно, только что они скакали во весь опор. Вскоре за ними появился другой, еще более многочисленный отряд. Тут были лошади и мулы, нагруженные огромными коричневыми вьюками — с бизоньим мясом, завернутым в косматые шкуры. Этот караван вели женщины и мальчики-подростки, а следом бежали собаки и крикливые ребятишки.
Они подходили к лагерю с противоположной стороны, поэтому Карлос и Антонио до поры до времени оставались незамеченными.
Первый отряд индейцев спешился среди вигвамов, и тотчас кто-то острым взглядом разглядел над вершиной холма головы охотников. Раздался предостерегающий клич — и в мгновение ока все уже снова были на конях и в боевой готовности. Двое или трое поскакали ко второму каравану, который еще не успел дойти до лагеря; другие, видимо встревоженные, переезжали с места на место.
Они явно опасались, что к ним подкрались пане, их смертельные враги.
Но Карлос тут же рассеял их опасения. Он дал шпоры коню, выехал на гребень холма и остановился на виду у индейцев. Потом он подал несколько хорошо известных ему знаков, крикнул во весь голос: «Amigo!»[14] — и они успокоились. Вперед выехал молодой индеец и поскакал на холм. Он приблизился как раз настолько, чтоб можно было разговаривать, и остановился; они объяснились отчасти с помощью знаков, отчасти на исковерканном испанском языке и прекрасно поняли друг друга. Индеец поскакал обратно; вскоре он снова вернулся и пригласил охотника и его товарища в лагерь.
Карлос, разумеется, принял это любезное приглашение, и через несколько минут они с Антонио уже ели свежее бизонье мясо и мирно разговаривали с хозяевами.
Вождь — рослый, красивый индеец, — очевидно, обладал всей полнотой власти; он особенно дружелюбно принял Карлоса и очень обрадовался, узнав, что у него много товаров. Он пообещал назавтра же с утра побывать в лагере Карлоса и разрешил своему племени вести с ним торговлю. Как и предполагал охотник, то было благородное племя вако, один из самых благородных народов, населяющих прерии.
Карлос вернулся в свой лагерь в превосходном настроении. Теперь он обменяет свои товары на мулов — так обещал вождь, — а ведь прежде всего за ними он и отправился в прерию.
Утром, как и было условлено, явились индейцы во главе со своим вождем; небольшую низину, где охотник раскинул лагерь, заполнили мужчины, женщины и дети. Тюки были распакованы, товары выложены напоказ, и весь день прошел в оживленной торговле. Карлос убедился в безукоризненной честности своих покупателей, а под вечер, когда они разъехались, весь его товар был распродан без остатка. Зато неподалеку, в долине, паслись на приколе мулы, не меньше тридцати голов. Все они теперь принадлежали охотнику на бизонов. Не зря потратил он свои восемь золотых!
Они принесут ему доход не только по возвращении домой, они пригодятся и в пути: всех до одного он навьючит бизоньими шкурами и вяленым мясом.
Да, экспедиция оказалась удачной. Карлос размечтался о будущем богатстве, и в душе его вспыхнула надежда, что настанет день, когда он будет вправе просить руки прекрасной Каталины.
Если уж он разбогатеет, даже дон Амбросио, пожалуй, не станет противиться его сватовству. В ту ночь сладостны были мечты Карлоса, охотника на бизонов, и ему снились чудесные сны.
Глава 13
На следующий день он охотился с еще большим пылом. Ведь теперь можно вывезти всю добычу, как бы велика она не была. Нечего опасаться, что придется оставить в прерии шкуры или вяленое мясо. У него теперь тридцать пять мулов, считая и тех, с которыми он сюда пришел, да три повозки — он сможет перевезти солидный груз, на многие сотни долларов.
Ему удалось получить у индейцев даже несколько шкур, которые служили им одеждой. За них он отдавал индейцам все, что им нравилось. Даже пуговицы со своей куртки и с курток своих людей, золотые ленты и сверкающую тесьму с сомбреро — все, что блестело.
Карлос готов был отдать все, только, разумеется, не оружие. Да индейцев оно и не прельщало. У них были почти такие же луки и лассо, и они умели мастерить их сами. Они, конечно, купили бы ружье, но то была память, и Карлос не променял бы его даже на два десятка мулов.
Еще день-два Карлос продолжал охотиться. Он заметил, что с каждым часом бизоны становятся все более неспокойными, пугливыми. Он видел также, что стада их бежали с севера, а ведь вако охотились южнее его лагеря. Нет, животные спасались не от них. Тогда от кого же?
Настала третья ночь после торговли с индейцами; Карлос и его люди уснули. На часах стоял Антонио, а в полночь его должен был сменить один из пеонов.
Метиса клонило ко сну. Он устал от погони за бизонами; ему оставалось стоять на страже еще полчаса, и он из последних сил боролся с одолевавшей его дремотой, как вдруг с той стороны, где паслись мулы, донеслось фырканье.
Антонио мгновенно очнулся. Он приложил ухо к земле и стал слушать. С той стороны снова послышалось фырканье, теперь уже громче, потом — раз за разом — еще и еще…
«Что бы это значило? Койоты? А, может, медведь? Надо будить хозяина», — подумал Антонио.
Неслышно подойдя к спящему Карлосу, Антонио тронул его за плечо. Достаточно было легкого прикосновения — и охотник, схватив ружье, вскочил на ноги. Он всегда брался за это оружие в случае опасности, когда грозило нападение индейцев; луком же он пользовался только на охоте.
Обменявшись несколькими короткими словами, Антонио и Карлос разбудили пеонов, и все пятеро приготовились к бою. Они не выходили из-за повозок, сдвинутых так, что образовалось нечто вроде небольшого треугольного загона. Высокие кузова могли служить надежной защитой от стрел; костра не зажигали, поэтому со стороны лагерь совсем не был заметен. Кроме того, повозки стояли в густой тени шелковиц, которые скрывали лагерь от посторонних взглядов; зато тем, кто прятался за повозками, была хорошо видна прерия, лежащая перед ними. Если бы не рощи, темневшие там и тут, можно было бы окинуть взглядом всю долину — вверх, вниз, во все стороны. Но в этих рощах могло скрываться немало врагов.
Охотники молча, настороженно прислушивались. На минуту им показалось, что какая-то тень подбирается к табуну мулов, которые паслись на приколе не дальше ста ярдов от повозок. Однако в неверном свете это могло просто померещиться. Что бы это ни была за тень, двигалась она очень медленно, казалось даже, что она почти не меняет места.
Наконец Карлос решился подойти поближе, разглядеть, что это такое. Он вылез из загона и пополз к мулам, за ним Антонио. Прибизившись к темному предмету, они ясно увидели, что он движется.
— Смотри-ка! Что же это такое? — прошептал охотник.
Тут мулы снова зафыркали, некоторые начали бить землю копытами, словно их кто-то испугал.
— Я думаю, это медведь, продолжал Карлос. — Похоже на то. Он так напугает мулов, что их и не догонишь… Выстрел и тот наделает меньше переполоху.
С этими словами он поднял ружье и, прицелившись, насколько позволяла темнота, спустил курок.
Казалось, выстрел вызвал из ада всех злых духов. Сотня голосов взвыла разом, сотня лошадей застучала копытами по земле; табун пришел в движение; мулы громко кричали и неистово рвались с привязи. Вот они уже разорвали путы и бешеным галопом мчатся вон из низины. А за ними скачут и вопят и погоняют их едва различимые во тьме всадники. Не успел Карлос опомниться от изумления, а мулов и индейцев уже и след простыл.
Мулов как не бывало. Только что здесь пасся целый табун и вот не осталось ни одного.
— Убежали! — пробормотал Карлос. — Бедные мои мулы… Всех угнали, всех до единого!.. Будь прокляты эти обманщики!
Он нимало не сомневался, что мародерами были вако — те самые индейцы, у которых он купил мулов. Он знал — такие случаи нередки в прериях; торговцев часто грабят подобным образом, и они уже привыкли к тому, что одного и того же мула приходится покупать дважды у тех же самых индейцев, которые его украли.
— Проклятые обманщики! — с возмущением повторил Карлос. Вот почему они были такие щедрые и благородные! Это они просто сговорились обокрасть меня, как настоящие трусы. Отнять у меня все в открытую они не смели. Проклятье! Теперь я погиб!
И гнев и горе были в его последних словах.
Охотник и в самом деле оказался в незавидном положении. Все надежды, которые еще недавно вознесли его так высоко, в одну минуту рассыпались в прах. Он лишился всего, что у него было, потерял все, ради чего затеял эту экспедицию. Сколько тягот и опасностей перенес он в пути — и все понапрасну. Он вернется с пустыми руками, еще большим бедняком, чем был, ведь его собственные пять мулов исчезли вместе с остальными. Быки, верный конь да повозки — вот все, что у него осталось. Этого едва хватало, чтобы погрузить провизию на обратный путь; никакого груза, ни единого тюка со шкурами, никаких запасов мяса сверх того, чем должны прокормиться в дороге он и его спутники.
Все эти мысли промелькнули в голове Карлоса в те короткие минуты, пока он стоял и застывшим взглядом смотрел в ту сторону, куда умчались грабители. Он и не пытался преследовать их. Это было бы не только бесполезно, но и опасно. На своем великолепном коне он мог бы догнать их, но лишь для того, чтобы погибнуть на остриях их копий.
— Проклятые обманщики! — снова повторил он, потом поднялся, пошел назад, к загону, и распорядился подвести быков поближе и крепче привязать их к повозкам: ведь какая-нибудь отставшая группа индейцев может еще раз напасть на них.
Так как спать было небезопасно, Карлос и его спутники больше не ложились и были начеку всю ночь, до рассвета.
Глава 14
То была для Карлоса печальная ночь, ночь горестных раздумий. Потеряв все, что имел, он оказался среди враждебно настроенных индейцев, которые могли еще передумать и вернуться, чтобы покончить с незадачливыми охотниками. От дома, да и от любого другого поселения белых его отделяли сотни миль, и надо было еще пересечь эту огромную пустыню. Смутно было у него на душе: что ждет его дома? Ведь он лишился всех своих товаров и, вернувшись, быть может, станет всеобщим посмешищем. И при этом никакой надежды, что потерянное будет возвращено, что возместятся убытки. Правительство, разумеется, не станет снаряжать экспедицию, чтобы отомстить за такого незначительного человека, как он; да испанские солдаты и не доберутся сюда, даже если б захотели. И неужели Вискарра и Робладо пошлют ради него солдат! Нет, нечего надеяться, что товары будут возвращены. Он жестоко ограблен, и ему остается только примириться с этим. И впереди все так мрачно и безотрадно!
Как только рассветет, он отправится в лагерь вако — он не побоится открыто обвинить их в вероломстве. Да и найдет ли он их на прежней стоянке? Нет, скорее всего, задумывая его ограбить, они перекочевали в другое место.
В ту ночь безумная мысль не раз приходила ему в голову. Потерянного не вернешь, но ведь можно отомстить. У вако есть враги. Некоторые соседние племена враждуют с ними; и Карлос знал, что у них есть могущественный враг — племя пане.
«Судьба моя горька, — думал Карлос, — зато сладка месть! Что, если разыскать пане, сказать им, чего я хочу, отдать в их распоряжение мое копье, лук, мое верное ружье?.. Я никогда не встречался с этим племенем, и я не знаю их, но у меня твердая рука, и теперь, когда я хочу мстить, они не пренебрегут моей помощью. Мои люди пойдут за мной хоть на край света, это я знаю. Правда, они — тагносы, племя невоинственное, но когда их оскорбят, они умеют драться и мстить».
— Да, я разыщу пане!
Последние слова он произнес почти громко, горячо и уверенно. Карлос не привык подолгу раздумывать и колебаться, и теперь его решение было твердо. И не удивительно: с ним поступили так подло и так жестоко, такое печальное будущее ожидало его, если он с пустыми руками вернется домой, так хотелось ему воздать по заслугам тем, кто навлек на него несчастье, да и не совсем угасла надежда вернуть хоть малую часть пропавшего — вот что заставило его решиться на такой шаг. И Карлос принял решение и уже готов был сообщить о нем своим спутникам, но тут Антонио, который был поглощен какими-то своими мыслями, первый заговорил с ним.
— А вы не заметили ничего странного, хозяин? — спросил он.
— Когда, Антонио?
— Когда мулы удрали.
— А что такое?
— Да эти мошенники не все на конях были, добрая половина пешие.
— Верно, я тоже заметил.
— Так вот, хозяин, я столько раз видел, как команчи гонят табун мустангов, и они всегда были верхами.
— Ну и что же? Тут ведь были вако, а не команчи.
— Да, хозяин. Но я слыхал, что вако — все равно как команчи: они настоящие конники и всегда действуют только верхом.
— Да, правда, — в раздумье ответил охотник. — Признаться, тут что-то есть.
— А больше вы ничего не заметили странного, хозяин, во время набега? — продолжал метис.
— Нет, Антонио. Уж больно мне было досадно, да и растерялся я от такой беды. Ничего я не заметил. А что еще?
— Да вот они ведь не только вопили во всю глотку, они еще и гикали так, что хоть уши затыкай, а главное — свистели. Вы разве не слышали?
— Ого! А ты слышал?
— Ясно слышал. И не один раз.
— Где ж были мои уши? — упрекнул себя Карлос. — А ты уверен, Антонио?
— Не сомневайтесь, хозяин.
Минуту-другую охотник молча, напряженно и сосредоточенно думал и вдруг заговорил, казалось, сам с собой:
— Это, может быть… Это, должно быть… Да, клянусь! Это…
— Что, хозяин?
— Это свист пане!
— Вот и я так думаю, хозяин. Команчи так никогда не гикают. И киава — тоже. И я не слыхал, чтобы вако подавали такие сигналы. Может, это пане? Да еще они были пешие. Наверно, это пане.
Мысли Карлоса сразу приняли другой оборот. По всей вероятности, Антонио прав. Свист — сигнал, который отличает пане от всех других племен. Кроме того, появление такого большого отряда пеших мародеров — еще одна особенность. Карлос знал, что южные племена никогда не применяют такую тактику. Пане тоже прирожденные наездники, но в свои набеги на юг они нередко отправляются пешие, надеясь вернуться на конях. Почти всегда так оно и бывает.
«Стало быть, я напрасно обвинял вако, — подумал Карлос. Грабители не они, а пане!»
Но тут новое подозрение шевельнулось в нем. Нет, ограбили все-таки вако. Они нарочно свистели, как пане, чтобы ввести его в заблуждение. Часть их могла спешиться, тем более, что лагерь их близко. И ведь после того, как охваченные паникой мулы сорвались с привязи, индейцы исчезли именно в том направлении.
Пойди он завтра к ним, они, конечно, скажут, что поблизости появились пане и что это они угнали его мулов. Мулов он, конечно, не увидит: они будут надежно спрятаны где-нибудь за холмами.
— Нет, Антонио, — сказал он, обдумав все это. — Наши враги все-таки вако.
— Надеюсь, что вы ошибаетесь, хозяин.
— Я тоже хотел бы надеяться, друг. Еще вчера я их считал друзьями. Мне будет обидно убедиться, что они нам враги… Но боюсь, что это так.
И все же Карлос был не вполне уверен в этом; и пока он размышлял, новый довод в защиту вако пришел ему на ум. Его спутники тоже заметили это обстоятельство.
Все видели, с какой стороны бежали бизоны последние несколько дней. Они проносились с севера на юг, и разве их явная тревога не подтверждала близости погони? А ведь вако все время охотились южнее лагеря Карлоса. По-видимому, какие-то другие индейцы охотились на севере. Наверно, это и были пане.
Снова Карлос упрекнул себя в том, что слишком поспешил заподозрить новых друзей. Его мучили сомнения. Быть может, утро разрешит их.
Как только рассветет, он отправится в лагерь вако и разберется во всем или, во всяком случае, поговорит с ними начистоту.
* * *
Едва над прерией забрезжил рассвет, Антонио стал испытующим взглядом обшаривать землю во всех направлениях, и вдруг зоркие глаза его заметили в траве какой-то странный предмет. Неподалеку от того места, где еще так недавно паслись мулы, виднелось что-то темное. Может быть, там растет дрок или еще какой-нибудь кустарник? Нет не похоже, не те очертания. Скорее всего, это лежит какое-нибудь животное… быть может, большой волк? Вблизи этого самого места им ночью почудилось что-то живое, во что стрелял Карлос.
Заметив этот странный предмет, Антонио сразу же обратил на него внимание Карлоса, и теперь, в сером предутреннем свете, оба старались разглядеть его.
Светало, очертания предмета становились яснее, и с каждой минутой возрастало любопытство охотников. Они бы уж давно подобрались поближе, но их все еще не оставляло опасение, что индейцы могут вернуться, и они предусмотрительно не выходили из загона.
Но прошло еще немного времени, и они не выдержали: надо же наконец узнать, что там такое! У них уже возникло подозрение, которое им хотелось проверить. Карлос и Антонио перебрались через повозки и направились к загадочному предмету.
Подойдя ближе, они увидели, что это мертвый индеец, и не слишком удивились — пожалуй, именно этого они и ожидали. Он лежал ничком на траве; присмотревшись, они увидели у него в боку рану; из нее вытекло много крови. То был след пули Карлос не промахнулся.
Они наклонились и перевернули тело, чтобы внимательнее осмотреть. Индеец был в полном боевом уборе: голый по пояс, а лицо и грудь разрисованы так, чтобы враги испугались одного его вида. Но больше всего Карлоса поразил головной убор дикаря. За ушами и на висках волосы тщательно выбриты, на темени коротко подстрижены, и лишь на самой макушке оставлен длинный клок; он заплетен в косу, всю утыканную перьями, и она свисает на спину. Голые виски выкрашены в ярко-красный цвет, так же размалеваны и щеки и грудь. Ужасен был вид этого мертвеца: яркие пятна, пламенеющие на землисто-бледной коже, побелевшие губы и стеклянные глаза.
Несколько минут Карлос молча разглядывал его, потом обернулся, выразительно посмотрел на своего спутника и, показывая на бритую голову индейца и на мокасины, в которые он был обут, сказал, явно довольный этим открытием:
— Пане!
Глава 15
Мертвый индеец был, несомненно, из племени пане. Об этом говорили его прическа, форма мокасин и боевая раскраска на теле.
Карлос был рад, что это оказался пане. У него на это были причины. Во-первых его обрадовало, что вако не оказались предателями; во-вторых, то, что он разделался с одним из грабителей; и, наконец, убедившись, что во всем виноваты пане, он вновь обрел надежду вернуть хотя бы часть украденных мулов и сделать это при помощи вако.
В этом не было ничего невероятного. Как уже сказано, вако и пане — заклятые враги. Пусть только вако узнают, что пане где-то поблизости, и они непременно погонятся за ними — в этом Карлос не сомневался. Он со своим маленьким отрядом тоже примет участие в преследовании и, если пане будут разбиты, может быть, вернет своих мулов.
Он хотел сразу же скакать в лагерь вако, известить их, что пане вышли на тропу войны, и уже вместе с ними пуститься на поиски общего врага.
Но тут и он и Антонио вдруг вспомнили: ведь пане умчались в ту сторону, где стояли лагерем вако! До лагеря не больше двух миль, и едва ли пане даже ночью не заметили его. Что, если они застали вако врасплох и сейчас сражаются с ними?
Да, это вполне вероятно, более чем вероятно. Они как раз могли успеть, и время для нападения было самое подходящее. Мулов они угнали еще до полуночи. Они, несомненно были тогда на пути к селению вако и подоспели туда в тот самый час, когда и совершаются обычно набеги и грабежи, — между полуночью и рассветом.
Карлос боялся, что не успеет предупредить вако. Его друзья могли уже погибнуть. Так или иначе, он решил немедленно отправиться в их лагерь.
Наказав Антонио и пеонам охранять и до последней возможности защищать их собственный лагерь, Карлос захватил лук и ружье и поскакал прочь. День еще только занимался, но охотник знал тропу, ведущую в селение вако, и без труда держался ее. Он ехал с осторожностью и еще издали внимательно разглядывал каждую рощу на своем пути и осматривал гребни холмов, каждый подъем, который предстояло одолеть.
Эта осторожность была далеко не лишней. Пане, скорее всего, были где-то неподалеку — возможно, все еще сидели в засаде на полпути между лагерем Карлоса и стоянкой вако или сделали привал среди холмов.
Охотник не слишком опасался встречи с одним или двумя врагами. Он знал — верный конь не подведет, ни одному индейцу не догнать его. Но его могут окружить сразу десятки врагов, и тогда ему не пробраться к вигвамам вако. Вот почему Карлос продвигался вперед с такими предосторожностями.
Он напряженно прислушивался к тишине. Он ловил и мысленно оценивал каждый звук: вот закулдыкал дикий индюк, притаившийся меж ветвей дуба; на сухом бугре захлопала крыльями куропатка; просвистела лань; тоненько пролаял степной сурок. То были все хорошо известные звуки, и, однако, всякий раз Карлос замирал на месте и чутко прислушивался. При других обстоятельствах он не обратил бы на них внимания, но он знал, что индейцы мастера подражать животным и птицам, и напрягал слух, стараясь разобраться, подлинные ли это голоса, не подделка ли. Он различал тропу, по которой прошли ночью пане. Судя по многочисленным следам на траве, это был большой отряд. Переезжая через ручей, Карлос заметил отпечатки мокасин на песке. Значит, среди индейцев оставались и пешие, хотя, несомненно, многие теперь скакали на украденных мулах.
И Карлос поехал дальше с еще большими предосторожностями. Он был уже на полпути к селению вако, а следы пане все еще вели в ту же сторону. Разве такие опытные воины могли не заметить лагерь вако? Конечно, не могли. Сперва они, наверно, увидали тропу, ведущую от вигвамов вако в лагерь Карлоса, потом самые вигвамы и, быть может, уже напали на них… быть может…
Размышления охотника были неожиданно прерваны. Какие-то звуки донеслись издалека: устрашающие крики и вопли, непрестанный громкий, но невнятный гул и гомон множества голосов. И из этого шума выделялись то гиканье, то радостные крики, то пронзительный свист и разносились далеко по прерии, возвещая о торжестве или, может быть, о мести.
Карлос знал, что означают эти крики и вопли: то был шум сражения, страшного, смертного боя!
Они неслись из-за того самого холма, на который поднимался Карлос.
Пришпорив коня, он доскакал до вершины и поглядел вниз, в долину. Здесь кипел бой.
Все поле кровопролитного сражения открылось перед глазами Карлоса. Шестьсот краснокожих всадников носились по прерии; вот они мчатся навстречу друг другу с копьями наперевес, вот, раз за разом спуская тетиву, издали осыпают противника стрелами, а вот, съехавшись грудь с грудью, схватились врукопашную и пустили в ход смертоносные томагавки. Одни нападают целыми отрядами, с длинными копьями наперевес, другие спасаются бегством, иные, потеряв коня, продолжают сражаться пешими. Некоторые укрылись за группой деревьев и выскакивают оттуда всякий раз, как подвернется удобный случай пустить стрелу или вонзить копье в спину врагу, и кровавому спору не видно конца.
Не раздалось ни единого выстрела, никто не трубил в рог, не били барабаны, посылая воинов в бой, не слышалось грома орудий, не загорались ракеты, клубы серного дыма не поднимались к небу, но и без этих признаков нельзя было ошибиться: это не воинственный танец — своеобразный турнир прерий, — а настоящее сражение. Дикое гиканье и еще более дикий свист… Бешеные атаки… Свирепые возгласы, крики торжества и мести… Ржанье коней, оставшихся без седоков… Там и тут поверженные наземь индейцы с багровыми в свете солнца черепами — враги уже сняли с них скальпы… Окровавленные копья и ножи… Да, сомнений быть не могло: здесь шел бой, смертный бой. То сошлись на поле брани вако и пане, и вот они бьются не на жизнь, а на смерть.
Карлос понял это с первого взгляда, а с минуту понаблюдав за битвой, он уже мог отличить воинов одного племени от другого. Пане были в полном боевом уборе, и их нетрудно было узнать по клоку волос на макушке, заплетенному в косу. А среди вако (враги, несомненно, застигли их врасплох) многие оказались в обычной охотничьей одежде — в куртках и кожаных наколенниках. Однако некоторые вако были тоже обнажены, как и противники, но Карлос без труда отличил их от пане по гриве развевающихся волос.
Первое побуждение Карлоса было — скакать вперед и принять участие в битве: разумеется, на стороне вако. Звуки боя возбуждали его, а вид грабителей, которые так недавно разорили его, вызывал у него страстное желание отомстить. Многие пане сейчас скакали на тех самых мулах, которых угнали у него, и Карлос решил отбить хотя бы нескольких.
Он уже готовился пришпорить коня и ринуться в схватку, но на поле боя вдруг все переменилось, и он остался на месте. Пане отступали!
Многие из них поворачивали коней и без оглядки скакали прочь.
И тут, глядя вниз, Карлос увидел, что три воина пане во весь опор скачут прямо к тому месту, где он стоял. Большая часть отряда еще сражалась или рассыпалась по прерии, но эти трое, отрезанные от всех остальных, неслись прямо на него.
Охотник отъехал за деревья, и три всадника, не замечая его, подскакали совсем близко.
В эту минуту у них за спиной раздался боевой клич вако, и Карлос увидел, что их настигают два всадника вако. Беглецы оглянулись и, увидев, что противников только двое, вновь повернули коней и кинулись в бой.
При первой же атаке один из преследователей был убит, и второй, в котором Карлос узнал вождя вако, оказался лицом к лицу с тремя врагами.
Казалось, где-то рядом щелкнул бич — это Карлос спустил курок, и один из пане свалился с коня. Двое других, не зная откуда раздался выстрел, продолжали теснить вражеского вождя; однако, подпустив их ближе, он кинулся на одного из врагов и томагавком раскроил ему череп. Но конь понес вождя дальше, и, прежде чем он успел повернуть, третий пане, искусный воин, настиг его и вонзил ему в спину длинное копье; оно прошло насквозь, острие наконечника выступило на груди. С последним смертным криком благородный индеец упал с коня наземь.
Но в то же мгновение пал и его враг. Стрела, пущенная Карлосом, не успела спасти вождя, зато отомстила за него. Она пронзила пане в тот миг, когда он вонзал копье, и, все еще сжимая рукоять, он свалился на землю одновременно со своей жертвой.
Страшен был вид этих двух тел, распростертых рядом на траве, но Карлос не стал рассматривать их. На другом краю поля все еще яростно сражались, и, пришпорив коня, Карлос поскакал в самую гущу схватки.
Однако пане уже потеряли многих лучших воинов и, охваченные ужасом, обратились в бегство. Карлос гнался за ними вместе с победоносными отрядами вако и то и дело стрелял из ружья по отступающим грабителям. Потом, опасаясь, что какая-нибудь случайная группа может наскочить на его собственный лагерь, он бросил погоню и поскакал туда.
На стоянке все оказалось благополучно. Антонио и пеоны укрывались за повозками, готовые отразить любое нападение. Случалось, отбившиеся от своих индейцы проезжали мимо, но они, видно, были слишком напуганы, и не до того им было, чтобы нападать на охотников.
Убедившись, что тут все в порядке, Карлос снова повернул коня и помчался назад, на поле недавнего боя.
Глава 16
Приближаясь к тому месту, где пал вождь вако, Карлос услышал многоголосый хор, певший погребальную песнь.
Подъехав еще ближе, он увидел воинов, которые, спешившись, тесным кольцом обступили труп. То было тело павшего вождя. Другие, те, кто дольше гнался за врагом, только съезжались, и каждый, входя в круг, затягивал ту же мрачную песнь.
Охотник тоже спешился и подошел к самому кругу. Одни встречали его удивленными взглядами, но другие, те, которые знали, что он помогал им во время боя, подходили и обменивались с ним рукопожатием. Потом один старый воин, взяв Карлоса за руку, ввел его в круг и молча указал на застывшие черты вождя он словно сообщал охотнику, что их вождь погиб.
Ни он, ни кто-либо другой из воинов не знал, что и Карлос как-то участвовал в случившемся. Никто из оставшихся в живых не был свидетелем схватки, в которой пал вождь. Со всех сторон поляну обступили высокие деревья, и с прерии она не была видна, а во время этой смертельной схватки бой шел далеко отсюда. Вот почему старик думал, что сообщает Карлосу новость, и тот не произнес ни слова.
Однако Карлос по всему видел, что отважные воины в замешательстве: на земле лежат пять убитых индейцев — и не у одного не снят скальп! Что это может означать? Убиты были три пане и двое вако — вождь и еще один воин. Не могли же они убить друг друга и пасть все разом, в одну и ту же минуту? Нет, так не могло быть. Пане и один из вако лежали поодаль, трое других — рядом, как их застигла смерть: вождь, пронзенный копьем, и за ним его убийца пане, так и не выпустивший из рук оружия. Вождь все еще сжимал окровавленный томагавк, а зияющая рана в черепе второго пане показывала, куда этот томагавк опустился в последний раз.
Смысл этой картины был ясен индейцам, тут еще не скрывалось ничего таинственного. Но кто убил убийцу их вождя вот чего они не могли понять. Пять воинов полегли здесь, но должен быть кто-то еще, кто участвовал в этой смертельной схватке и остался жив.
Будь это пане, разве сбежал бы он, не унеся с собою скальп вождя вако? Ведь такой трофей прославил бы его на всю жизнь! А если это был вако, так кто же он и куда исчез?
Эти вопросы передавались из уст в уста, и никто не мог на них ответить. Но некоторые воины еще продолжали погоню — быть может, они что-нибудь знают? А пока они не вернулись, над павшим вождем вновь зазвучала погребальная песня.
Наконец все смельчаки собрались и встали вокруг вождя. Один из старых воинов выступил вперед и дал знак, что хочет говорить. Воцарилась мертвая тишина, и он начал:
— Вако! Мы должны бы радоваться, но в сердцах наших печаль. Победа наша омрачена великой бедой. Мы потеряли нашего отца, нашего брата! Наш славный, наш любимый вождь погиб. Горе нам! Смерть настигла его в час торжества, в ту самую минуту, когда могучая рука его раскроила череп врага. В сердцах его воинов печаль, и долго еще она будет жить в сердцах его народа! Вако! Наш вождь отомщен. Убийца лежит у его ног — смертоносная стрела пронзила его и обагрилась его кровью. Кто из вас поразил врага?
И он помедлил, словно ожидая ответа. Но никто не отозвался.
— Вако! — продолжал он. Наш любимый вождь пал, и в сердцах наших печаль. Но нам радостно знать, что он отомщен. Вот он ненавистный убийца, с него еще не сняли скальп. Кто тот храбрый воин, что заслужил трофей? Пусть выйдет вперед и возьмет его!
Снова он умолк — и снова никто ни словом, ни движением не отозвался на его призыв.
Вместе со всеми молчал и Карлос. Он не понимал речи воина, ибо тот говорил на языке вако, которого охотник не знал. Он догадывался, что воин говорит о павшем вожде и о его врагах, но точный смысл сказанного был ему неизвестен.
— Братья! — снова начал старый воин. — Храбрый скромен, он молчит о своих подвигах. Лишь храбрый воин мог свершить это. Пусть же храбрец признается, пусть не боится говорить! Вако будут благодарны воину, который отомстил за смерть их любимого вождя.
И опять стало тихо, и лишь голос оратора вновь нарушил молчание.
— Братья воины! — горячо продолжал он, возвысив голос. — Я сказал, что вако будут благодарны. Слушайте же, что я скажу теперь!
Все жестами показали готовность слушать.
— Есть у нас обычай — выбирать вождя из храбрейших воинов нашего племени. Я предлагаю избрать его сейчас же, избрать его здесь — здесь, на поле, обагренном кровью павшего вождя. Я предлагаю: пусть нашим новым вождем станет тот, кто совершил этот подвиг. — И он показал на убитого пане.
— Я за того, кто отомстил убийце вождя! — раздался голос.
— И я! — крикнул еще кто-то.
— И я! И я! — один за другим восклицали воины.
— Тогда торжественно поклянемся, что тот, кому по праву принадлежит этот трофей, — оратор указал на скальп пане, будет вождем народа вако!
— Торжественно клянемся! — в один голос вскричали воины, стоявшие в кругу, и каждый при этом приложил руку к сердцу.
— Довольно! — сказал старый воин. — Вождь племени вако, отзовись! Объявись своему народу!
Наступила мертвая тишина. Каждый воин пытливо всматривался в лица остальных, все сердца бились, готовые приветствовать нового вождя.
Карлос, не представлявший, какая честь ожидает его, стоял немного поодаль и с интересом наблюдал за своими краснокожими друзьями. Он и не догадывался, о чем взывал старый воин. Однако рядом оказался индеец, знавший по-испански, и он наконец объяснил Карлосу, чего ждут воины. Едва Карлос собрался сделать свое скромное признание, как один из воинов, стоявших в кругу, воскликнул:
— Чего нам еще ждать? Если скромность связывает язык воина, пусть заговорит его оружие. Смотрите, его стрела все еще в теле убийцы. Она меченая. Быть может, она скажет нам имя воина?
— Верно! — воскликнул старый воин. — Спросим стрелу!
И, шагнув вперед, он вытащил стрелу из тела пане и высоко поднял ее.
Все взгляды устремились на наконечник стрелы, и тотчас раздался единодушный крик изумления: наконечник оказался железным! Ни у одного вако никогда не было такого.
И сейчас же все глаза, вопрошающие и восхищенные, обратились к Карлосу, охотнику на бизонов. Все поняли, что это его рука послала смертоносную стрелу; а кое-кто заметил, что третий пане пал от ружейной пули, и громко объявил о своем открытии. Это окончательно убедило их.
Да, сомнений быть не могло: за их вождя отомстил бледнолицый!
Глава 17
Карлос, который теперь уже знал, о чем допытывались воины, выступил вперед и с помощью того индейца, который говорил немного по-испански, коротко рассказал, как погиб вождь и какое участие в этой смертельной схватке принимал он сам.
В ответ раздался гул одобрения, и самые пылкие из молодых воинов кинулись к охотнику, стали пожимать ему руку и горячо благодарить. Почти все уже знали, что именно Карлосу они обязаны своим спасением. Ведь выстрел из ружья, раздавшийся в ночи, предостерег вако. Не будь его, пане застали бы лагерь врасплох, и как знать, чем тогда бы кончился этот день? Именно потому, что выстрел был услышан, пане встретили такой отпор, какого никак не ожидали; он-то и погубил их и заставил уцелевших бесславно отступить.
Когда вако увидели, что охотник сражается на их стороне и убивает их врагов, сердца их преисполнились благодарности; а теперь, поняв, что бледнолицый воин еще и отомстил за их любимого вождя, они дали волю своим чувствам, и несколько минут воздух дрожал от восторженных криков.
Когда волнение немного улеглось, вперед снова выступил старый воин. Все относились к нему с величайшим почтением и, как видно, всегда прислушивались к его словам. На сей раз его речь была обращена к Карлосу.
— Белый воин! — сказал он. — Я говорил с храбрыми воинами племени вако. Все они понимают, что многим обязаны тебе, и их благодарность нельзя выразить словами. Тебе объяснили, о чем мы тут только что совещались. Здесь, перед лицом павшего, мы поклялись, что тот, кто отомстил за него, станет нашим вождем. Тогда мы не думали, что этот храбрый воин — наш белый брат. Теперь мы это знаем, но разве из-за этого мы нарушим клятву, изменим своему слову? Нет! Мы не можем и помыслить об этом. Слушай: снова торжественно повторяем мы свою клятву!
— Повторяем клятву! — эхом отозвался круг воинов, и при этом каждый торжественно приложил руку к сердцу.
— Белый воин! — продолжал оратор. — Наше слово священно. Для воина нет выше чести той, какую мы предлагаем тебе. Честь эта по плечу лишь настоящему воину. Слабый, будь он даже и потомком славного вождя, никогда еще не правил отважным народом вако. Мы не боимся предложить эту честь тебе. Мы будем рады, если ты примешь ее. Чужестранец! Мы будем гордиться своим белым вождем, ибо хоть ты и белый, но настоящий воин! Мы знаем тебя лучше, чем ты думаешь. Мы слыхали о тебе от наших союзников, команчей, — мы слыхали о Карлосе, охотнике на бизонов. Мы знаем: ты великий воин, но мы знаем также, что в своем краю, среди белых людей, ты — ничто. Прости нас за прямоту, но разве это неправда? Мы презираем твой народ: ведь твои собратья или тираны, или рабы. Обо всем этом мы узнали от наших братьев команчей, и они нам еще многое поведали о тебе. Мы знаем, кто ты. Мы узнали тебя, когда ты появился здесь, и были рады тебя увидеть. Мы торговали с тобой как с другом. Теперь мы приветствуем тебя как брата, и мы говорим тебе: если никакие узы не связывают тебя с твоим неблагодарным народом, войди в семью народа, благодарность которого неизменна. Оставайся с нами, будь нашим вождем!
Когда старик закончил, раздалось как бы многократное эхо: то воины, стоявшие в кругу, один за другим повторили его последние слова, и потом наступила мертвая тишина.
Карлос был так удивлен, что не сразу мог ответить. Его удивила не только необычайная честь, так своеобразно предложенная ему, — его поразило то, как хорошо старый воин осведомлен о его жизни. Он и в самом деле торговал с команчами и поддерживал с ними дружеские отношения, кое-кто из них даже наведывался в Сан-Ильдефонсо. Но не странно ли, что дикари разобрались в истинном положении дел? А ведь это истина: среди своего народа Карлос как бы отверженный… Однако сейчас ему некогда было раздумывать над тем, как это все странно и необычайно: воины ждали ответа.
Что же отвечать? Отверженному, лишенному надежд, ему вдруг показалось, что это предложение следует принять. У себя дома он немногим лучше раба, а здесь он будет править — единодушно избранный господин и повелитель.
Хотя вако и называют дикарями, но они воины, у них есть сердце, они человечны, и они настоящие люди. Они уже доказали это. Мать и сестра разделят его судьбу, но Каталина… Мысль о Каталине оборвала все его сомнения, больше он уже не думал.
— Великодушные воины! — заговорил он. — Всем сердцем я чувствую, как велика честь, которую вы оказали мне. Я хотел бы высказать, как глубоко я вам благодарен, но у меня нет таких слов. Поэтому я отвечу вам коротко и откровенно. Да, правда, в своем краю я не в чести, я бедняк из бедняков, но есть узы, связывающие меня с родными местами, — это сердечные узы, и они вынуждают меня вернуться. Я все сказал, воины вако!
— Довольно! — произнес старый воин. — Довольно, храбрый чужестранец! Мы не станем допытываться, почему ты так решил. Если ты и не будешь нашим вождем, ты останешься нашим другом. У нас есть еще одна возможность хоть немного отблагодарить тебя. Ты пострадал от наших врагов, лишился того, что тебе принадлежало, но мы нашли твоих мулов, и они опять твои. И еще просим тебя: наш кров и наше угощенье просты, но останься у нас на несколько дней, будь нашим гостем. Согласен?
— Останься! — эхом повторили воины.
И Карлос тотчас принял приглашение.
* * *
Неделю спустя около пятидесяти вьючных мулов, нагруженных бизоньими шкурами и вяленым мясом, с трудом поднялись по восточному склону Льяно Эстакадо и направились по этому пустынному плоскогорью на северо-запад. Погонщик, сидящий на одном из мулов, был метис. Быки, погоняемые краснокожими пеонами, тащили вслед за мулами три повозки; колеса так отчаянно скрипели, что пугали даже койотов, которые крались следом, прячась в зарослях акации. Впереди гарцевал всадник на великолепном вороном коне; то и дело он оборачивался и с удовлетворением смотрел назад, на отличный табун мулов. Это был Карлос.
Вако и впрямь оказались щедрым народом. Десятками мулов и их тяжелой поклажей одарило племя того, кто отомстил за убитого вождя. Но это еще не все. На груди охотника, в кармане куртки, лежал мешочек с редким сокровищем — тоже дар вако, и они обещали своему гостю, что не в последний раз вручают ему такой подарок. Что же было в этом мешочке? Монеты, деньги, драгоценные камни? Нет, всего лишь песок, но песок желтый, сверкающий. То было золото!
Глава 18
На другой день после праздника в крепости был дан небольшой обед. Были званы лишь несколько холостых приятелей коменданта — местные острословы, в том числе и щеголь Эчевариа. Среди гостей были и священник и отцы миссионеры: оба они все свое внимание отдали пиршественному столу — любой брат францисканец поступил бы также на их месте.
Компания отведала уже немало изделий мексиканской кухни: говядину, жаркое, перец во всех видах, и обед был в той стадии, когда мундиры сняты и вино льется рекой — и канарио, и херес, и педро дексименес, и мадера, и бордо; для тех, кто любил напитки покрепче, тут были фляжки золотистого каталонского и мараскино. Что и говорить, неплохим винным погребом обладал комендант. Он был здесь не только военным комендантом, но и, как мы уже сказали, сборщиком пошлины — иными словами, исполнял обязанности таможни и, понятно, то и дело получал небольшие подношения в виде корзины шампанского или дюжины бордо.
Гости уже порядком выпили. Священник, несмотря на свой сан, стал таким же человеком, как все; отцы иезуиты забыли про власяницы и четки, и старший из них, отец Хоакин, развлекал гостей пикантными приключениями, героем которых он был, прежде чем стал монахом. Эчевариа рассказывал анекдоты о Париже, о гризетках и о своих многочисленных похождениях.
Испанские офицеры в качестве хозяев были, разумеется, не так болтливы, хотя комендант, тщеславный, словно мальчишка-лейтенант, впервые надевший эполеты, не мог воздержаться и снова и снова вспоминал о своих несчетных победах над красавицами Севильи. Он долго стоял с полком в этом городе апельсиновых рощ и не уставал восхищаться жемчужиной Андалусии.
Робладо отдавал предпочтение красоткам Гаваны и распространялся о той пышной и грубой красоте, какою отличаются квартеронки. Гарсия сообщил о своем пристрастии к маленьким ножкам жительниц Гвадалахары, но не старого испанского города Гвадалахары, а богатой провинции в Мексике, носящей то же имя. Он со своей частью квартировал прежде именно там.
Так говорили они, грубо и непристойно, о том, что требует величайшей деликатности, — о женщинах. Присутствие трех служителей церкви не сдерживало их. Напротив, оба отца иезуита и священник хвастались своими любовными связями так же непристойно и бесстыдно, как другие, ибо все трое были ничуть не безгрешнее остальной компании, собравшейся за столом. В обычной обстановке они еще проявили бы некоторую сдержанность, но здесь, после нескольких бокалов вина, она исчезла бесследно; они ничуть не стеснялись в этой компании, и никто из присутствующих, со своей стороны, нимало не благоговел перед ними. Вся их показная святость и смирение предназначались лишь для наивных крестьян и простодушных пеонов. А за столом то один, то другой из святых отцов изредка принимал благочестивый вид, но только шутки ради, чтобы придать остроту и пикантность рассказу о каком-либо похождении. Общий разговор становился все беспорядочнее, и вдруг кто-то назвал имя, заставившее всех умолкнуть. То было имя Карлоса, охотника на бизонов.
Услышав это имя, кое-кто из присутствующих изменился в лице. Робладо нахмурился; было бы нелегко разобраться в смешении чувств, исказивших черты Вискарры; отцам иезуитам и священнику имя охотника, видимо, тоже не доставило удовольствия.
О Карлосе упомянул не кто иной, как Эчевариа:
— Клянусь честью, такой дерзости я еще не видывал даже в республиканском Париже! Какой-то чертов торгаш, ничтожество, которое торгует мясом и шкурами… короче говоря, мясник, убийца этих чертовых бизонов — и вдруг посмел добиваться… Parbleu![15]
Хоть Эчевариа разговаривал по-испански, ругался он всегда по-французски. Так выходило вежливее.
— Неслыханная наглость! Невыносимо! — раздались голоса.
— А по-моему, прекрасная дама не так уж и рассердилась, заметил грубоватый малый, сидевший в самом конце стола.
Ему стали хором возражать. И громче всех заспорил Робладо.
— Дон Рамон Диас, — обратился он к молодому человеку, — вы просто-напросто ничего не видели. Я стоял рядом с дамой и знаю, что она была возмущена (то была ложь, и Робладо знал это), и ее отец…
— Да, отец-то, конечно! — смеясь, воскликнул дон Рамон. Все видели, как он обозлился. Это вполне понятно. Ха-ха-ха!
— А кто он такой, этот Карлос? — спросил один из гостей.
— Превосходный наездник, — ответил дон Рамон. — С этим и наш комендант согласится.
Произнося эти дерзкие слова, он с понимающей усмешкой взглянул на Вискарру. Тот нахмурился в ответ.
— Вы проиграли немало денег, не правда ли? — осведомился у Вискарры священник.
— Только не Карлосу, — ответил комендант, — а тому, второму грубияну. Они, как видно, приятели. Самое скверное, что когда держишь пари с кем-нибудь из простонародья, нет никакой надежды отыграться в следующий раз. Ведь с ними в обычное время не встречаешься.
— Но кто же он такой? — снова спросил тот же гость.
— Кто? Да просто охотник на бизонов, вот и все.
— Вот как? А разве больше вы о нем ничего не знаете? У него светлые волосы — это очень странно, ведь белокурых мексиканцев не бывает. Он не креол? Может, бискаец?
— Ни то, ни другое. Говорят, он американец.
— Американец?
— Не совсем так: его отец был американец. Но вот падре может рассказать о нем.
Итак, священника попросили развлечь компанию кое-какими подробностями из жизни охотника на бизонов. Отец его, как говорили, был американец. Странный человек, неведомо откуда и какими путями забрел он давным-давно в эту долину и тут решил осесть. Подобные случаи были редки в поселениях Новой Мексики. Но еще удивительнее было, что американец был не один: его сопровождала американка, мать Карлоса, та самая старуха, которая привлекла к себе общее внимание в день святого Иоанна. Все попытки святых отцов обратить пришельца или его жену в христианство ни к чему не привели. Старый траппер (отец Карлоса был траппером) умер, как и жил, богохульником, еретиком, и все в городе были убеждены, что его вдова общалась с дьяволом. Это был позор для церкви, и отцы иезуиты уже давно изгнали бы это светловолосое семейство, но старый комендант, предшественник Вискарры, почему-то покровительствовал ему и сдерживал благие намерения рьяных служителей церкви.
— Но, кабальерос, — воскликнул иезуит, взглянув на Вискарру, — подобные еретики опасны! В их душах зреют семена мятежа, угроза общественному порядку. Когда этот светловолосый охотник является домой, он водит компанию лишь с теми, за кем и не уследишь как следует. Его всегда видят с этими подозрительными тагносами, и некоторые из них у него в услужении.
— Вот как, он водится с тагносами? — раздались голоса. Опасная личность! Надо за ним присматривать.
Потом зашла речь о сестре охотника. Все собеседники более или менее лестно отзывались о ее красоте, и, слушая их, поминутно менялся в лице Вискарра. Этого негодяя разговор занимал куда больше, чем могли предположить гости, и у него давно готов был план действий.
Его слуги и приспешники уже взялись за дело, заботясь о том, чтобы он мог осуществить свои низкие намерения.
Потолковав о сестре охотника на бизонов, компания стала разбирать по косточкам других местных красавиц. Да и о чем им было говорить, если не о женщинах! Неудивительно, что они быстро вернулись к первоначальной теме своей беседы, и под влиянием новых бокалов вина беседа эта стала еще колоритнее.
Кончилось тем, что кое-кто совсем опьянел; час был уже поздний, гости распрощались, и некоторых пришлось даже провожать до дому. Отцам иезуитам и священнику дали в провожатые солдат, так как все трое допились до чертиков, но им это было не впервой.
Глава 19
Комендант и его приятель Робладо остались одни; заново наполнив стаканы, с сигарами в руках, они продолжали беседу.
— Итак, Робладо, вы и в самом деле думаете, что парню отвечают взаимностью? Я того же мнения, иначе он не решился бы на такую дерзость.
— Теперь я в этом совершенно уверен, — ответил капитан. Не сомневаюсь, что они виделись наедине вчера вечером. Я подходил к дому Крусес и увидел какого-то человека: он стоял у самой ограды, опираясь на нее, как будто разговаривал с кем-то во дворе. Ято думал, что это какой-нибудь приятель дона Амбросио. Когда я уже был близко, человек отошел от ограды и вскочил на коня. Он закутался в плащ, лица я не разглядел. Но я узнал коня. Вообразите, это оказался тот самый вороной, который вчера был под охотником на бизонов! Вошел я, спросил, кто из хозяев дома; слуги отвечают, что хозяин на руднике, а сеньорита ушла к себе и сегодня вечером никого не принимает. Черт побери! Я вышел из себя, уж и не помню, что я им там сказал. Прямо невероятно! И все-таки этот нищий втихомолку свел с ней знакомство — это также верно, как то, что я солдат.
— Да, просто не верится! Что же вы думаете предпринять, Робладо?
— Ну, о ней-то я уж позабочусь! Теперь за ней будут лучше присматривать. Я кое о чем намекну дону Амбросио. Вы ведь знаете мой секрет, полковник! Ее приданое — рудник, — вот что притягивает меня, как магнитом. Но до чего же нелепо, чтобы моим соперником оказался какой-то охотник на бизонов!
Робладо громко расхохотался, но смех его прозвучал фальшиво и невесело. И вдруг новая мысль пришла ему в голову.
— А знаете, ведь наш отец Хоакин не любит семью белоголового, — продолжал он. — Я понял это по его сегодняшним намекам. Если вмешается церковь, мы без особого шума избавимся от этого охотника. Стоит только отцам иезуитам доказать, что он еретик, и они выгонят его из Сан-Ильдефонсо. Верно?
— Да, конечно, — холодно ответил Вискарра, потягивая вино. — Но если изгнать этого охотника, дорогой мой Робладо, придется изгнать и еще кое-кого. Вместе с шипами мы выдернем и розу. Вы меня понимаете?
— Вполне.
— А я этого вовсе не желаю, по крайней мере теперь. Немного погодя мы охотно расстанемся и с розой и со всеми ее шипами, кустами, корнями и прочим! — с громким хохотом докончил Вискарра.
— Да, кстати, полковник, — спросил капитан, — каковы ваши успехи? Были у нее дома?
— Нет, мой дорогой, некогда было. Не забудьте — до ее дома не близко. И вообще я намерен отложить свой визит, пока ее братец не уберется подальше. Будет гораздо удобнее ухаживать за ней в его отсутствие.
— Уберется подальше? Что это значит?
— Да то, что скоро охотник отправится в прерию. Может быть, даже на несколько месяцев. Будет там бить бизонов, надувать индейцев… ну, и прочее в том же роде.
— Ого! Это недурно.
— Как видите, милый друг, нам совершенно незачем спешить. Потерпите — впереди у нас вполне достаточно времени. Я уверен, пока возвратится наш храбрый охотник на бизонов, мы прекрасно успеем обделать наши делишки. Вы завладеете богатыми рудниками, а я…
Тут в дверь негромко постучали, и они услышали голос сержанта Гомеса; он спрашивал, нельзя ли поговорить с комендантом.
— Войдите, сержант! — крикнул полковник.
И в комнату вошел кавалерист с грубым, жестоким лицом; по всему видно было, что он только что соскочил с коня.
— Ну как, сержант? — спросил Вискарра, когда тот подошел ближе. — Выкладывайте! При капитане Робладо можете говорить все.
— Они живут в самом последнем доме, в том конце долины, полковник; отсюда миль десять, не меньше. Их там только трое: мать, сестра и брат — тот самый, вы его видели на празднике. Слуги у них тагносы, не то трое, не то четверо, они ему помогают на охоте. У него несколько мулов, быков да повозки вот и все хозяйство. Они ему нужны для охоты. Он и сейчас собирается на охоту — уедет дня через четыре, не позже. Я слыхал, на этот раз он уедет надолго, двинется каким-то новым путем, через Льяно Эстакадо.
— Через Льяно Эстакадо?
— Так мне говорили.
— Что еще, сержант?
— Ничего, полковник. Вот только у девушки есть возлюбленный — тот самый парень, который на празднике бился с вами об заклад, вы еще ему порядком проиграли.
— Ах, черт возьми! — воскликнул Вискарра, мгновенно помрачнев. — Так вот оно что! Так я и думал. А где он живет?
— Недалеко от них, полковник. У него свое ранчо, и он, говорят, богатый… для скотовода, понятно.
— Налейте-ка себе стаканчик каталонского, сержант.
Кавалерист протянул руку, наклонил бутылку, наполнил стакан и, почтительно поклонившись офицерам, одним духом осушил его.
Потом, поняв, что он больше не нужен, отдал честь и удалился.
— Что же, — сказал полковник, — как видите, ваши дела складываются недурно.
— И ваши тоже, — ответил Робладо.
— Не совсем.
— Почему?
— Не нравится мне этот ее возлюбленный, этот скотовод. У него есть деньги, к тому же он не робкого десятка — пожалуй, доставит мне немало хлопот. Он не из тех, кого можно вызвать на дуэль, — по крайней мере, мне, при моем положении, это не к лицу. Но он коренной здешний житель, он их поля ягода — не то что охотник, — и все здесь любят его. И раз он тут замешан, дело принимает совсем другой оборот… А впрочем, не все ли равно! Еще не было случая, чтобы я потерпел неудачу. Доброй ночи, капитан!
— Доброй ночи! — ответил Робладо.
И, одновременно поднявшись из-за стола, они разошлись по своим спальням.
Глава 20
Ранчо и асиенды растянулись вдоль реки почти на десять миль от Сан-Ильдефонсо. Ближе к городу их было больше; но чем дальше вниз по течению, тем они попадаются реже и тем беднее их обитатели. Фермеры и скотоводы побогаче боялись воинственных индейцев и предпочитали строиться ближе к крепости. Напротив, бедность заставляла иных быть отважными и селиться у самой границы. И так как вот уже несколько лет никто не нападал на поселение Сан-Ильдефонсо, многие мелкие фермеры и скотоводы обосновались в восьми и даже в десяти милях от города.
В полумиле от всех остальных ранчо стоял одинокий домик последнее, самое отдаленное от города жилище в этой долине. Казалось, он был расположен за пределами той территории, которую охранял гарнизон, ибо ни один патруль сюда не заглядывал. Хозяева его, видно, верили в судьбу или в милосердие апачей — индейского племени, которое обычно совершало набеги на Сан-Ильдефонсо: дом ничем не был защищен от них. А может быть, его охраняло как раз то, что он был расположен так уединенно, вдали от всех других ранчо.
Он стоял немного в стороне от дороги и не на самом берегу реки, а поодаль, в тени утеса, — казалось, он врос в скалу.
Это бедное жилище, как и все дома в долине, да и почти повсюду в Мексике, было сложено из больших спрессованных и высушенных на солнце глыб глины. У многих лучших построек этого типа фасады белые — значит, где-нибудь рядом есть залежи гипса. В иных домах, где хозяева с большими претензиями, окна кажутся застекленными. Так оно и есть, только вместо стекол вставлены похожие на стекло сверкающие тончайшие пластинки все того же гипса — его употребляют для этой цели в разных уголках Новой Мексики.
Ранчо, о котором идет речь, не украшали ни окна, ни побелка. Оно стояло под нависшим утесом, и его темные стены почти сливались со скалой; окнами служили два отверстия, забранные несколькими деревянными поперечинами; через эти отверстия в дом проникало немного света.
Однако внутри было бы совсем темно, если бы не дверь, обычно открытая настежь.
С дороги, проходящей по долине, дом был едва виден. Путешественник никогда бы его не разглядел, и даже острый глаз индейца мог не заметить его. Необычайная изгородь скрывала его от посторонних взглядов — необычайная, впрочем, для того, кто не свыкся еще с растительностью этого отдаленного уголка земли. Изгородь была из колоннообразных кактусов. Растения эти точь-в-точь аккуратные рифленые столбики толщиной в шесть дюймов и вышиной от шести до десяти футов. Они стояли рядом, почти вплотную, словно колья в частоколе, да притом ощетинивались во все стороны шипами, так что в просветы почти ничего не было видно. В положенный срок вершины этих живых колонн покрывались прекрасными, словно восковыми, цветами, а потом на месте цветов появлялись яркие ароматные плоды.
Лишь пройдя внутрь ограды, можно увидеть маленькое ранчо; и хоть его стены грубы, прелестный огороженный садик, весь в цвету, говорит о том, что здесь есть чья-то заботливая рука. За кактусовой изгородью другая загородка — простая невысокая стена, сложенная из необожженного кирпича, отделяет примыкающую к скале площадку. Это кораль — загон для скота, и одном углу его сооружено нечто вроде небольшого сарая или конюшни. Иногда в этом корале стоят пять или шесть мулов да десяток быков, а в конюшне — великолепный верховой конь. Но сейчас там пусто, никого нет. Конь, мулы, быки ушли вместе со своим хозяином далеко в прерии.
Хозяин их — Карлос, охотник на бизонов. Это и есть его дом; здесь он живет со своей старой матерью и красавицей-сестрой. В этом доме жил он с самого детства.
И, однако, они всегда были чужаками в долине и в городе. Ни испанцы, ни индейцы не признавали их за своих. И те и другие отличались от этой семьи не меньше, чем друг от друга. Иезуит сказал правду: Карлос и его близкие и в самом деле были американцы. Родители его поселились в долине очень давно, никто не знал, откуда они родом; знали только, что пришли они с востока, пересекли Великие Равнины. Они были еретики, и святым отцам так и не удалось присоединить их к своей пастве. Отцы иезуиты давно бы изгнали их или как-нибудь иначе расправились с этой семьей, если бы ей не покровительствовал прежний военный комендант. И к тому же простой народ всегда испытывал перед обоими какой-то суеверный страх. Позднее это чувство полностью обратилось на мать Карлоса и приняло новую форму: ее считали колдуньей, ведьмой и при встрече с ней спешили осенить себя крестным знамением. Но случалось это не часто, так как она почти не появлялась на людях. На праздник святого Иоанна ее привез Карлос, которому очень хотелось развлечь горячо любимых мать и сестру.
В той отчужденности, которая окружала их, в значительной степени было повинно их американское происхождение. Испано-мексиканцы и англо-американцы подозрительно и недружелюбно относились друг к другу еще задолго до того времени, о котором ведется рассказ. Чувства эти, порожденные национальной враждой, всчески поощряло и разжигало духовенство своими интригами и кознями. Тень предстоящих событий уже нависла над Мексикой; Америка распространила свое влияние и на Флориду и на Луизиану. Смысл происходящего был ясен, разумеется, лишь самым дальновидным, но пагубная страсть расовая ненависть — охватила всех.
Все вокруг были предубеждены против семьи охотника на бизонов, и потому она почти не общалась с жителями долины.
Карлос и его родные поддерживали отношения главным образом с местным индейским населением — с бедняками тагносами, которые менее всех были настроены против американцев.
Войдя в жилище Карлоса, мы увидели бы светловолосую Роситу, — сидя на циновке, она ткет шаль. Ее ткацкий станок состоит всего из нескольких деревянных частей грубой работы. Он так примитивен, что его и станком-то не назовешь. И тем не менее длинные синеватые, параллельно натянутые нити, дрожащие при каждом прикосновении ловких пальцев девушки, скоро превратятся в прелестную шаль, которую кокетливо накинет на голову какая-нибудь городская красотка. Ни одна рукодельница в долине не умеет ткать такие шали, как сестра охотника на бизонов. Как нет среди юношей наездника, равного Карлосу, так никто не сравнится с Роситой в искусстве, которым она добывает средства к существованию.
В домике всего две комнаты — вдвое больше, чем почти во всех таких домишках. Чувство деликатности еще живо в душе сакса, и семья Карлоса жила не совсем на индейский лад.
Кухня занимает комнату побольше, и выглядит она веселее, потому что свет проникает сюда через открытую дверь. Здесь вы увидите небольшой очаг, похожий на алтарь, пять-шесть глиняных горшков, по форме напоминающих урну, несколько чашек и кубков, выдолбленных из тыквы, покатый каменный столик на коротких ножках, который служит для приготовления маисовых лепешек, несколько циновок и бизоньих шкур (на них обычно сидят), мешок маиса, пучки сухих трав, связки красного и зеленого перца, но и только.
Это, пожалуй, единственный дом во всей долине, где ваш глаз не порадуют изображения святых. Здесь и вправду живут еретики.
Но прежде всего остального вы увидите старуху, которая сидит у огня и курит трубку. Странная она, эта старуха, и, уж конечно, судьба у нее тоже странная, но она никому еще не поведала о своем прошлом. Резкие черты исхудалого лица, побелевшие, но все еще пышные волосы, дикий блеск глаз — все необычно в ее облике. Не одним лишь темным, невежественным людям поневоле может почудиться, будто она не такая, как все. Не диво, что жители долины считают ее колдуньей.
Глава 21
Росита стояла на коленях, и маленький челнок в ее руках проворно сновал по утку. Она пела, пела и нежно и звонко, веселую песенку, которой научила ее мать, песенку, родившуюся в далеких лесах Америки; потом запела старинную романтическую испанскую песню — быть может, это был «Трубадур»; чудесная эта мелодия не потеряла своей прелести, даже в современной песенке «Не любит…». «Трубадур» был любимой балладой Роситы, и, когда она бралась за бандолу и пела под звон ее струн, напоминающий звон гитары, слушатель испытывал истинное наслаждение.
Сейчас она пела, чтобы скоротать время и чтобы работалось легче, и хотя на этот раз она не аккомпанировала себе, ее серебристый голосок и без всякой другой музыки звучал нежно и ясно.
Мать отложила в сторону трубку и, как и Росита, занялась делом. Она пряла пряжу, из которой ткались ткани. Если ткацкий станок Роситы был очень примитивен, то прялка была еще примитивнее — просто-напросто быстрое, неутомимо пляшущее веретено. С помощью этой нехитрой механики старая женщина вытягивала и сучила такую ровную нить, что и настоящая прядильная машина не могла бы ее перещеголять.
— Бедный наш Карлос! Раз, два, три, четыре, пять, шесть… я сделала шесть зарубок — уже шестой день он в пути. Наверно, он сейчас на Льяно Эстакадо, мама. Я надеюсь, что ему повезет и индейцы обойдутся с ним по-хорошему.
— Не тревожься, девочка. Мой храбрый сын взял с собой отцово ружье, и он умеет с ним обращаться. Да, это он умеет. Не тревожься за Карлоса!
— Но ведь он еще никогда не бывал там, мама. Вдруг он повстречается с враждебным племенем?
— Не тревожься, девочка! У Карлоса есть враги пострашнее индейцев… враги пострашнее, и они здесь, рядом с нами. Трусливые рабы! Они ненавидят нас… И здешние испанцы и креолы ненавидят нас… Испанские собаки! Они ненавидят нас за то, что мы саксы.
— Не говори так, мама! Ведь не все они наши враги. У нас есть и друзья.
Росита думала о доне Хуане.
— Немного, очень немного… И они редко навещают нас. Да и что мне до них — ведь у меня есть сын! Разве он не лучший наш друг? Нежное сердце, храброе сердце, сильная рука! Кто сравнится с моим Карлосом? И мальчик любит свою старую мать, странную старую мать… Это все они, пьяницы, думают, что она странная. А все-таки он любит свою старую мать. На что же ей тогда друзья?
Она громко расхохоталась, и в этом смехе звучало такое торжество, что сразу было видно, как гордится она своим сыном.
— А какой груз повез он, мама! Прежде он никогда не брал так много товаров. И откуда у него столько денег?
Росита в точности не знала, откуда, но в глубине души подозревала, кто именно был тот друг, что ссудил ее брата деньгами.
— Боже мой! — продолжала она. — Если он удачно продаст все эти прекрасные вещи, он будет очень богат. Он пригонит мулов, целый табун. Скорей бы уж он вернулся! Раз, два, три… шесть. Да, только шесть зарубок. А мне так хочется, чтобы это доска уже вся была в зарубках, с обеих сторон… очень хочется!
Говоря это, Росита глядела на узкую кедровую дощечку, висевшую на стене. На дощечке видны были шесть маленьких зарубок. Она заменяла Росите и часы и календарь: каждый день, пока не вернулся Карлос, на ней прибавляется по зарубке, и сестра всегда будет знать, сколько времени прошло с тех пор, как он уехал.
Поглядев минуту-другую на кедровую дощечку и попытавшись представить себе, что зарубок уже не шесть, а семь, Росита оставила это занятие и снова принялась ткать.
А старуха тем временем отложила веретено и сняла крышку с глиняного горшка, который стоял на очаге на небольшом огне. Над горшком поднялось облако пара, и в комнате вкусно запахло: старуха тушила мелко изрубленное вяленое бизонье мясо, крепко приправленное испанским луком и стручками красного перца.
— Жаркое готово, девочка, — сказала она, достав мясо деревянной ложкой и отведав его. — Давай обедать.
— Хорошо, мама, — ответила Росита, вставая из-за своего станка. — Сейчас я приготовлю тортильи.
Тортильи — это лепешки, которые едят только теплыми, вернее, они вкусны лишь теплые, прямо со сковородки, поэтому их пекут в последнюю минуту, когда уже садятся за стол или даже во время еды.
Росита отодвинула горшок и поставила сковороду на угли. В другом горшке уже сварился маис. Росита сняла его и поставила рядом, на каменный столик, потом с помощью продолговатой, тоже каменной скалки быстро превратила разваренный маис в снежно-белое тесто. Отставила в сторону горшок, отложила скалку и погрузила розовые пальчики в тесто. Взяла ровно столько теста, сколько требовалось на лепешку, скатала из него шар, прихлопнула его ладонями, и получился плоский, не толще вафли, круг. Теперь оставалось только бросить его на горячую сковороду, тотчас перевернуть, еще мгновенье — и тортилья готова.
Все это требовало незаурядной ловкости, но Росита все проделала так искусно, что ясно было — она мастерица печь тортильи.
Когда на блюде появилась изрядная стопка лепешек, Росита перестала печь; мать уже разложила жаркое по тарелкам, и обе принялись за еду, не пользуясь при этом ни ножами, ни вилками, на даже ложками. Лепешки были еще теплые, и их можно было согнуть как угодно, они-то и заменяли все эти ухищрения цивилизации, которые в мексиканском ранчо считались совершенно лишними.
* * *
Едва они успели покончить со своим скромным обедом, как до их слуха донесся какой-то необычный звук.
— Что это? — воскликнула Росита, вскочив на ноги и прислушиваясь.
Через открытую дверь и окна снова проник в комнату тот же звук.
— Да это труба! — сказала девушка. — Наверно, это пришли солдаты.
Она выглянула в дверь, потом подбежала к изгороди и стала глядеть сквозь щели между зелеными столбиками. Это и в самом деле были солдаты. Невдалеке, по двое в ряд, вниз по долине двигался отряд улан. Блеск их оружия и фляжки на пиках придавали им вид веселый и привлекательный. В ту минуту, когда Росита увидела их, они повернули коней, перестроились и, вытянувшись в одну линию, остановились лицом к изгороди, всего в какой-нибудь сотне шагов от нее. Ясно было, что они остановились перед ранчо не случайно.
«Что им тут надо?» — сразу же подумала Росита. Отряды улан часто проходили мимо них по долине, но никогда не приближались к дому, который, как уже сказано, стоял в стороне от дороги. Что же привело сюда солдат? Что заставило их свернуть со своего обычного пути?
Не найдя ответа на эти вопросы, Росита побежала в дом и стала спрашивать мать. Но и та ничего не могла ответить ей; тогда девушка вернулась к ограде и опять стала смотреть в щелку.
В это время один из всадников, одетый наряднее других верно, офицер, — отделился от строя и галопом поскакал к дому. Вот он уже совсем рядом, вот остановил коня у живой изгороди и поверх кактусов заглядывает во двор.
Росита увидела только шляпу с султаном и лицо, но она сразу узнала его. Это был тот самый офицер, который так беззастенчиво смотрел на нее в день святого Иоанна. Перед нею был комендант Вискарра.
Глава 22
Офицеру, смотревшему поверх изгороди, прекрасно видна была девушка, стоявшая в маленьком садике среди цветов. Она отступила к двери и скрылась было в доме, но обернулась, чтобы позвать Бизона — огромного волкодава, который яростно лаял и готов был кинуться на незнакомца.
Послушный ее голосу, пес, рыча, побежал в дом. Он был очень недоволен и, как видно, хотел испробовать свои зубы на ногах чужого коня.
— Благодарю вас, прекрасная сеньорита, — сказал офицер. Вы так добры, что защитили меня от этого свирепого зверя. Хорошо, если бы в этом доме я боялся только его одного.
— Чего же еще вы боитесь, сеньор? — удивилась Росита.
— Ваших глаз, милая девушка. Они куда опаснее, чем острые зубы вашего пса, — они уже ранили меня.
Росита покраснела и отвернулась.
— Кабальеро, — сказала она, — вы, наверно, приехали сюда не для того, чтобы смеяться над бедной девушкой. Могу я спросить, что у вас за дело?
— Никакого дела, прекрасная Росита, просто я хотел увидеть вас… Нет, нет, не уходите! У меня есть дело, есть… Видите ли, у меня в горле пересохло, я хотел напиться. Вы ведь не откажетесь дать мне глоток воды, прекрасная сеньорита?
Теперь он говорил торопливо и сбивчиво, стараясь во что бы то ни стало удержать девушку, которая уже готова была оборвать этот разговор и уйти в дом. Вискарру вовсе не мучила жажда, и, уж во всяком случае, он не хотел пить, но закон гостеприимства, конечно, заставит девушку принести воды, а там он, быть может, сумеет добиться и большего.
Ничего не ответив на его льстивые речи, Росита вошла в дом и тотчас вернулась с тыквенной чашей, полной воды. Подойдя к просвету в изгороди, который служил воротами, Росита подала воду Вискарре и стала ждать, пока он напьется и вернет чашу.
Не желая показать, что его просьба была только предлогом, комендант через силу сделал несколько глотков, потом выплеснул оставшуюся воду и протянул чашу Росите. Та хотела взять ее, но Вискарра продолжал крепко держать чашу и не сводил с Роситы дерзкого, настойчивого взгляда.
— Очаровательная сеньорита, — сказал он наконец, — вы были так добры! Нельзя ли поцеловать вашу прелестную ручку?
— Что такое, сударь? Отдайте, пожалуйста, чашу.
— Нет, сперва я заплачу за питье. Согласны?
И он бросил в чашу золотой.
— Нет, сеньор, я не могу взять деньги. Ведь я просто исполнила свой долг. Мне не нужен ваш золотой, — твердо закончила она.
— Очаровательная Росита! Вы завладели моим сердцем, почему же заодно не взять и золотой?
— Я вас не понимаю, сеньор. Возьмите, пожалуйста ваши деньги и отдайте чашу.
— Я отдам ее только вместе с золотым.
— Тогда оставьте ее себе, сеньор, — сказала девушка, поворачиваясь, чтобы уйти. — Меня ждет работа.
— Нет, постойте, сеньорита! — воскликнул Вискарра. — Не откажите еще в одной любезности. Я хотел попросить огня для сигары. Вот, возьмите чашу! Видите, она пустая. Вы ведь простите меня за то, что я предлагал вам этот золотой?
Вискарра видел, что девушка оскорблена, и своими извинениями старался успокоить ее.
Росита взяла у него чашу и пошла в дом, чтобы исполнить его просьбу.
Через минуту она вновь появилась, неся на небольшом совке немного жару из очага.
Дойдя до ворот, она с удивлением увидела, что офицер спешился и привязывает коня к столбу.
— Я устал с дороги, — сказал он, когда Росита протянула ему совок. — Солнце так печет! Если позволите, сеньорита, я войду в дом и отдохну немного.
Эта новая просьба была неприятна девушке, но отказать она не могла, и через минуту, звеня шпорами и бряцая саблей, комендант вошел в дом.
Росита следовала за ним, не произнося ни слова. Ни словом не удостоила вошедшего и ее мать — она сидела в своем углу и не обратила на офицера ни малейшего внимания, даже не взглянула в его сторону. Пес, грозно рыча, стал кружить около него, но молодая хозяйка прикрикнула на пса; собака снова улеглась на циновку, но не спускала с незваного гостя злобно сверкавших глаз.
Едва Вискарра вошел в дом, ему стало не по себе. Он видел, что ему не рады. Росита не произнесла ни единого приветливого слова, и старуха и пес ничем не проявили своего гостеприимства. Наоборот, все заставляло коменданта безошибочно чувствовать, что он здесь нежеланный гость.
Но Вискарра не привык считаться с чувствами подобных людей. Он не обращал внимания на их приязнь или неприязнь, особенно когда это мешало его удовольствиям; и, закурив сигару, он преспокойно уселся на скамью с полной непринужденностью, как у себя дома.
Некоторое время он молча курил.
Между тем Росита выдвинула ткацкий станок и, опустившись перед ним на колени, принялась за работу, словно в комнате никого чужого и не было.
— О, да как это хорошо придумано! — воскликнул офицер, делая вид, что его очень заинтересовала работа девушки. — Мне давно хотелось взглянуть, как их делают, эти шали… ведь это шаль, правда? Честное слово, очень интересно! Вот, значит, как их ткут. Можете вы сделать ее за день, сеньорита?
— Да, сеньор, — был короткий ответ.
— А эта пряжа бумажная, правда?
— Да, сеньор.
— А какой милый узор! Это вы сами придумали?
— Да, сеньор.
— Я вижу, это настоящее искусство! Хотел бы я понять, как переплетаются эти нити.
Он поднялся со скамейки и, подойдя к станку, опустился на колени.
— В самом деле, до чего хитро придумано! Знаете что, милая Росита, поучите-ка и меня этому делу. Хорошо?
Старуха до этой минуты сидела неподвижно, глядя в землю, но, услышав имя дочери в устах незнакомца, вздрогнула и оглянулась на него.
— Я не шучу, — продолжал он между тем, — ведь это очень полезное искусство! Вы не могли бы меня выучить?
— Нет, сеньор, — последовал односложный ответ.
— Ну что вы! Не такой уж я тупица! Я думаю, что научусь… Кажется, надо только взять вот эту штучку, — он наклонился и положил руку на челнок так, что его пальцы касались пальцев девушки, — и вот так пропустить ее между нитей… верно?
Но тут, словно охваченный безумной страстью, он, казалось, забылся и, внезапно понизив голос, глядя на залившуюся краской девушку, продолжал:
— Росита, прелесть моя! Я люблю вас… Один поцелуй, прекраснейшая… только один поцелуй!
И прежде чем она успела увернуться, он обнял ее и крепко поцеловал в губы.
Девушка закричала, и в ответ раздался другой крик, громкий, неистовый.
Старуха, которая до этой минуты все еще сидела, согнувшись, в своем углу, вскочила и, как тигрица, кинулась на офицера. Мгновение — и ее длинные, костлявые пальцы вцепились ему в горло.
— Прочь, ведьма, прочь! — закричал он, стараясь вырваться. — Прочь, говорю! Или я зарублю тебя, проклятая… Прочь, тебе говорят!
Но старуха кричала не переставая и не выпускала его; она хватала его за горло, рвала эполеты и все, что попадало под руку.
Однако еще острее ее когтей оказались клыки громадного волкодава, который тоже сразу вскочил с места и вцепился в ногу офицера так, что тот заорал изо всех сил:
— Пошел вон!.. Эй! Сержант Гомес! На помощь! На помощь!
— Вот тебе, подлый ачупино! — кричала старуха. — Собака! Испанский пес! Зови их, зови своих трусливых слуг!.. Где мой храбрый сын? Зачем умер мой муж? Подлый пес оскорбил наш дом… Будь они здесь, ты не ушел бы живым, собака! Убирайся!.. Убирайся к своим красоткам, к своим девкам! Убирайся вон!..
— Проклятая фурия! Убери этого пса… убери пса!.. Эй вы там! Гомес! Где у вас пистолеты? Пристрелите его! Скорее! Скорее!
Пустив в ход саблю, доблестный комендант наконец-то добрался до своей лошади. Сержант Гомес прикрывал его отступление.
Ноги Вискарры были порядком искусаны, но все же ему удалось кое-как взобраться в седло.
Сержант разрядил оба пистолета, но так и не попал в собаку. Видя численное превосходство врага, пес повернулся и побежал в дом.
Лая больше не было слышно, но когда комендант уже сидел в седле, из дома донесся насмешливый хохот. Такой звонкий, серебристый был этот смех, что комендант сразу понял: это смеется над ним белокурая красавица Росита.
Досаде коменданта не было предела, он с радостью приказал бы своему отряду занять ранчо, он потребовал бы голову этого пса; одно удерживало его — страх, что тогда солдаты узнают причину его позорного бегства. А испытать такое унижение ему вовсе не хотелось.
Итак, он вернулся к своему отряду, отдал команду, и все двинулись в обратный путь, в город.
Вискарра недолго ехал во главе улан; злоба и разочарование душили его, и, отдав кое-какие распоряжения сержанту, он крупным галопом поскакал вперед.
Вид всадника в синем плаще, который направлялся к дому Роситы (Вискарра узнал молодого скотовода дона Хуана), разумеется, не мог успокоить разозленного коменданта. Вискарра не остановился, не заговорил, но, смерив дона Хуана злобным взглядом, продолжал путь.
Он не сбавлял хода и натянул поводья только у ворот крепости.
Лошадь, задыхаясь, тяжело водила боками — ей пришлось расплачиваться за всю горечь и злобу, которые терзали его хозяина.
Глава 23
Как только все стихло, Росита выскользнула из дому и поглядела в щель изгороди. Она опять услышала, как затрубил трубач и хотела убедиться, что незваные гости уехали.
С радостью она увидала, что уланы уже довольно далеко и направляются в другой конец долины.
Она вбежала в дом и сказала об этом матери, которая уже снова сидела в углу и невозмутимо курила свою трубку.
— Подлые негодяи! — воскликнула старуха. — Я так и знала, что они уйдут. Достаточно было старой женщины и собаки… О, был бы здесь мой храбрый Карлос! Он бы проучил этого заносчивого ачупино, показал бы ему, что мы не так уж беспомощны! Ха! Карлос бы ему показал!
— Не думай больше об этом, мамочка. По-моему, они не вернутся. Ты их напугала, ты и наш храбрый Бизон. Какой он молодец!.. Да, но я не посмотрела — может быть, он ранен, — прибавила она, поспешно оглядывая комнату. — Бизон! Бизон! Сюда, мой славный пес! Иди, у меня кое-что есть для тебя. Храбрый зверь!
Заслышав хорошо знакомый голос, пес вылез из своего убежища и, ласково заглядывая в глаза девушке, запрыгал, завилял хвостом.
Росита наклонилась, запустила руки в мохнатую шерсть и стала ощупывать и осматривать собаку, боясь обнаружить кровавый след пули. К счастью, сержант плохо целился. У пса не оказалось ни единой раны или даже царапины, и, судя по тому, как он прыгал вокруг своей молодой хозяйки, он был в добром здоровье и прекрасном расположении духа.
Отличный пес был этот Бизон — одна из тех великолепных овчарок Новой Мексики, которые хоть и сами наполовину волки, но прекрасно охраняют овечьи отары, успешно отбивая нападения не только волков, но и свирепого мексиканского медведя. Нет на свете овчарок лучше новомексиканских, а Бизон был одним из лучших представителей этой породы.
Убедившись, что пес цел и невредим, его хозяйка встала на скамейку и, поднявшись на цыпочки, сняла с гвоздя на стене какой-то странный предмет. Это было похоже на связку каких-то кривых колбас. Но то была не колбаса, хотя по блеску собачьих глаз и радостному повизгиванию было ясно — Бизон прекрасно знает, что это такое, и с его точки зрения оно ничуть не хуже колбасы. Да, Бизона не приходилось посвящать в эту тайну — он знал, что за штука вяленая бизонина. Пес всегда любил высушенное бизонье мясо и, получив кусок, принялся за него с таким усердием, что доказал это как нельзя лучше. Прелестная Росита, все еще немного напуганная, снова подошла к изгороди, чтобы убедиться, что поблизости никого нет.
Но на этот раз тут кто-то был; однако, увидев его, она совсем не испугалась, ничуть не бывало. При виде молодого человека в синем плаще, верхом на коне в богатой сбруе она испытала совсем иное чувство: теперь ее сердце было полно доверия.
Этот молодой всадник был дон Хуан, скотовод. Он подъехал прямо к воротам и, увидев девушку, приветливо, дружески окликнул:
— Добрый день, Росита!
И она также дружески, приветливо отозвалась:
— Добрый день, дон Хуан!
— Как поживает сеньора, ваша матушка?
— Благодарю вас, дон Хуан! Как всегда. — И Росита звонко рассмеялась.
— Над чем это вы смеетесь, Росита? — удивился дон Хуан.
— А вы не видели доблестных солдат? — сквозь смех спросила девушка.
— Как же, видел. Сейчас на дороге я повстречал целый полк улан, они неслись к городу. А комендант ускакал от них вперед. Он несся во весь опор, как будто за ним гнались апачи. Я и вправду подумал, что они встретили индейцев: я ведь знаю после встречи с этими господами они всегда так улепетывают.
— А как выглядел офицер? Вы ничего такого не заметили?
— Кажется, заметил. Похоже, что он продирался сквозь колючие кусты. А впрочем, я едва успел взглянуть на него — так быстро он проскакал. Зато он на меня очень сердито поглядел! Видно, все не может забыть про свои золотые, — помните, как он мне проиграл в день святого Иоанна? Ха, ха!.. Но, дорогая Росита, что же вы смеетесь? Разве солдаты были здесь? Что-нибудь случилось?
И Росита рассказала ему о посещении коменданта — о том, как он попросил воды напиться и огня, чтобы зажечь сигару, и как вошел в дом, а Бизон кинулся на него и заставил его отступить с позором, как он, искусанный, еле взобрался на коня и поскорей уехал. Однако о самых важных подробностях она умолчала. Она ничего не рассказала ни об оскорбительных речах Вискарры, ни о поцелуе. Она боялась, что, услышав об этом, дон Хуан выйдет из себя. Ведь она знала, как вспыльчив и неосторожен ее возлюбленный. Такие новости он не станет спокойно слушать — он погорячится и еще попадет из-за нее в беду. Вот почему Росита и решила утаить от него истинную причину разыгравшегося скандала. И она рассказывала лишь о забавной стороне случившегося и сама при этом от души смеялась.
Но и то немногое, что узнал дон Хуан, заставило его отнестись к делу гораздо серьезнее. Явился Вискарра, попросил напиться, потом огня для сигары, заходил в дом… Все это очень странно, но совсем не смешно, думал дон Хуан. И потом на него напала собака, искусала его… И его выгнали из дома, да еще так позорно, да еще на глазах отряда улан!.. Вискарра, заносчивый хвастун Вискарра, великий военачальник, герой сотни битв с индейцами, битв, которых на самом деле вовсе и не было, — и вдруг над ним одержала победу собака! Нет, думал дон Хуан, это совсем не смешно. Вискарра отомстит, по крайней мере, будет всеми силами этого добиваться.
Еще и другие неприятные мысли одолевали дона Хуан. Что привело коменданта в этот дом? Как отыскал он это жилище, этот прелестный уединенный уголок, казавшийся ему, дону Хуану, центром вселенной? Кто указал ему дорогу? Что заставило улан свернуть с пути, изменить привычный маршрут?
Вот какие вопросы задавал себе дон Хуан. Но спрашивать об этом Роситу — значило бы обнаружить перед нею чувство, которое он предпочитал скрывать: ревность.
Да, в ту минуту его терзала ревность. Ну конечно, Росита дала Вискарре напиться, зажгла ему сигару… быть может, пригласила его войти. Еще и сейчас она такая веселая и, видно, совсем не сердится на Вискарру за этот неожиданный визит.
От этих мыслей дону Хуану стало совсем горько, и он не присоединился к веселому смеху своей возлюбленной.
Но стоило Росите пригласить его войти, как его настроение изменилось и он снова стал самим собой. Спешившись, он через садик прошел за Роситой в дом.
Девушка подсела к станку и вновь принялась за работу, а молодому человеку разрешено было опуститься на колени рядом с нею и говорить о чем ему вздумается. Она не возражала, когда время от времени он помогал ей расправить уток или рассучить спутавшуюся нить; в этих случаях руки их часто встречались и, кажется, не расставались дольше, чем это было необходимо, чтобы распутать узел.
Но никто ничего этого не замечал. Мать Роситы предалась полуденному сну, а Бизон, если и видел что-нибудь, все равно никому ничего не сказал бы — он лишь вилял хвостом и добродушно поглядывал на дона Хуана, словно всецело одобрял его поведение.
Глава 24
Очутившись в своей роскошной квартире, Вискарра первым делом потребовал вина. Вино подали, и комендант с мрачной решимостью стал пить бокал за бокалом. Он надеялся залить вином свою досаду и на короткий срок преуспел в этом.
Когда выпьешь вина, на душе становится легче, но только на время. Можно напиться пьяным и забыться, но надолго ли? Ревность и зависть пробудятся вновь, и очень скоро — да, еще скорее, чем вы очнетесь от опьянения. Всего вина, сколько его ни выжато из всех гроздей винограда на свете, не хватит, чтобы ревнивцу найти в нем полное забвение.
Сердце Вискарры раздирали страсти. Тут была и любовь вернее, то чувство, которое называл любовью этот распутник, — и ревность, и гнев, вызванный тем, что с ним так невежливо обошлись, и уязвленное самолюбие: ведь со своими золотыми эполетами и роскошным султаном он считал себя неотразимым; но преобладало над всем горькое разочарование.
И разочарование это было тем сильнее, что Вискарра просто не понимал, как же теперь возобновить ухаживанье. Если он опять явится с визитом, придется, пожалуй, вновь пережить такую же неприятность, а то и похуже.
Хоть его и украшают галуны и нашивки, хоть он и важная особа, а светловолосой девушке нет до него никакого дела — это ясно. Она совсем не такая, как те девушки, которых он прежде удостаивал своим вниманием, не такая, как все эти темноокие жительницы долины. Ведь любая из них без единого слова, и даже не краснея, взяла бы его золотой — уж наверно, ни одна бы не отказалась!
Да, назад на ранчо теперь ему дороги нет. Так где же встретиться с ней? Где ее увидеть? В городе она показывается редко, не бывает ни на каких увеселениях, разве что когда брат дома. Итак, где же и как увидеть ее? Положение безнадежное, нет никакой возможности исправить первый опрометчивый шаг. Будь эта девушка заключена в монастырь, и то не было бы хуже. Да что и говорить, никакой надежды! Так размышлял Вискарра.
Но даже мысленно произнося эти слова, он все-таки не верил, что надежды и в самом деле не осталось. Нет, он не намерен сразу отступиться! Чтобы он, сердцеед Вискарра, не сумел завоевать сердце какой-то полунищей девчонки! Ну нет, он еще не знавал неудач — не узнает и на этот раз! Уже из одного только тщеславия он добивался бы своего, но были и еще причины для того, чтобы страсть его разгорелась. Он натолкнулся на сопротивление, задача оказалась нелегкой — от всего этого лишь возрастали его энергия и упрямство.
А тут еще ревность — она тоже подхлестывала его самолюбие.
Он ревновал к дону Хуану. Вискарра заметил его тогда, в день праздника. Он видел юношу в обществе охотника на бизонов и его сестры. Видел, как они разговаривали, выпивали, веселились все вместе. Он уже и тогда ревновал, но это было ничто по сравнению с той ревностью, какая терзала его теперь. Ведь тогда он предвкушал скорую и легкую победу. Тогда у него на душе было спокойно, не то что сейчас — сейчас, когда он потерпел неудачу и в час своего унижения повстречался все с тем же соперником… И тот направлялся к знакомому ранчо. И там его, вне всякого сомнения, радушно встретили, рассказали обо всем, что произошло… И они вместе хохотали, издеваясь над ним, Вискаррой. И… о дьявольщина! Эта мысль была нестерпима.
Но при всем том комендант и не думал отказаться от своих намерений. Уж наверно, есть еще какие-то пути, пусть нечестные, пусть подлые, лишь бы только додуматься… Вискарра чувствовал, что тут нужен человек, способный рассуждать более хладнокровно. А где Робладо?
— Сержант! Скажите капитану Робладо, что мне надо с ним поговорить.
Капитан Робладо был самым подходящим сообщником в подобных делах. В своем отношении к женщинам оба они были подлецами, но Вискарра вел себя немного поделикатнее, в благородно-комическом духе. Он был мастер обольщать. Подобно дон Жуану, он становился поклонником каждой хорошенькой женщины и воображал, что его победы вполне законны, тогда как Робладо не брезгал никакими средствами, лишь бы они поскорей привели его к цели. Он готов был действовать и силой, если это выгодно и неопасно. Из них двоих худшим негодяем был, конечно, Робладо.
После того, как, действуя на свой лад, комендант потерпел поражение, он готов был пойти на все, что ему ни посоветует Робладо. И, уж конечно, Робладо мог дать ему совет: ведь этот капитан отлично знал любовную стратегию и тактику как цивилизованных людей, так и диких индейцев.
Случилось так, что и сам Робладо нуждался в совете по сходному делу. Он просил руки прекрасной Каталины, и дон Амбросио дал свое согласие, но, к всеобщему удивлению, сеньорита взбунтовалась. Она не отказалась наотрез выйти за капитана Робладо. Это был бы прямой вызов, и тогда дон Амбросио, пожалуй, немедленно пустил бы в ход всю свою отцовскую власть. Но Каталина просила отца повременить, уверяя, что ей еще рано выходить замуж. Робладо и думать не мог об отсрочке, ему не терпелось разбогатеть. Но дон Амбросио внял мольбам дочери — именно это и тревожило капитана.
Быть может, под влиянием коменданта дон Амбросио изменит свое решение и поспешит с желанной свадьбой? Поэтому Робладо был рад и счастлив, если бы начальник оказался у него в долгу.
Придя к коменданту, Робладо выслушал подробнейший рассказ обо всем, что произошло.
— Дорогой мой полковник, вы не так взялись за дело. При вашем опыте, при вашем искусстве… я просто поражен! Вы обрушились на них, как орел на голубятню. Так только спугнешь птиц, и тогда они надежно укроются в своем убежище. Вам совершенно незачем было ездить в это их ранчо.
— Но как бы я тогда увиделся с нею?
— У себя дома или где-нибудь в другом месте, это уж как вам угодно.
— Невозможно! Она ни за что не пришла бы!
— По вашему приглашению, конечно, нет — это я знаю.
— Тогда как же?
— Ха! Неужели вы так наивны? Вы что же, никогда не слыхали, что на свете существуют сводни? — И Робладо расхохотался.
— Ах, да, конечно… Но, поверьте, я никогда в них не нуждался.
— Еще бы! Вы, с вашим утонченным стилем, полагаете, что они вообще не нужны. Но теперь вам придется прибегнуть к их помощи. Очень полезная публика, уверяю вас: сберегает вам время, избавляет от хлопот, ну и, кроме того, способствует успеху дела. Еще не поздно. Советую вам. Ну, а если и на сей раз вас постигнет неудача, у вас остается еще одно средство…
Не станем дольше прислушиваться к беседе этих негодяев. Достаточно сказать, что они во всех подробностях обсуждали свои мерзкие планы. Больше часа провели они за этим занятием, потягивая вино, пока наконец все не было обдумано и оставалось лишь привести замысел в исполнение.
Он и был приведен в исполнение, но результат оказался совсем не тот, которого они ждали. «Дама», которая выступала в роли сводни, вскоре свела знакомство с Роситой, но ее успех был еще более сомнителен, чем успех самого Вискарры. Нет, его и сомнительным не назовешь — тут как раз не оставалось никаких сомнений, все было ясно.
Как только она дала Росите понять, с какой целью к ней явилась, та обо всем рассказала матери, и царапины, которыми отделался комендант, не могли идти ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю его посланницы. Не взмолись она о пощаде, ей бы не спастись от разъяренного Бизона.
Она могла бы прибегнуть к помощи закона и отомстить им, но уж такова была ее профессия, что она предпочла молча проглотить обиду.
Глава 25
— Ну, Робладо, — спросил комендант, что теперь?
— А вы не догадываетесь, мой дорогой полковник?
— Да не совсем, — ответил Вискарра, хотя он прекрасно знал, что делать. До этого он додумался совсем недавно. Эта мысль пришла ему в голову в день его первого поражения, когда сердце его горело злобой и жаждой мести. И потом она возникала снова и снова. А его вопрос был совершенно излишен. Ибо комендант заранее знал, каков будет ответ Робладо: «Действуйте силой».
Так оно и было. Робладо произнес именно эти слова.
— Но как?
— Возьмите нескольких солдат и ночью увезите ее. Что может быть проще? С этой недотрогой надо было с самого начала так действовать. Не бойтесь, никакой беды от этого не будет. Для них это вовсе не так ужасно. Это способ испытанный, я знавал такие случаи. Ручаюсь вам, еще не успеет вернуться охотник, как она уже со всем этим чудно примирится.
— А если нет?
— Ну, если даже нет, чего вам бояться?
— Пойдут толки, сплетни…
— Эка важность! Нет, дорогой полковник, на этот раз вы что-то слишком робки. Правда, вы уже изрядно напортили, но это совсем не значит, что в дальнейшем вы будете действовать также неловко. Увезти ее можно ночью. У вас тут есть комнаты, куда никому не позволено входить. Если надо, можно воспользоваться даже теми… знаете?.. где нет окон. Никакой колдун не сможет ничего проведать. Отберите людей, таких, которым вы доверяете. Вам незачем брать весь отряд, а пять-шесть золотых свяжут языки тем, кого вы возьмете с собой. Право, это не труднее, чем украсть рубашку. Украсть рубашонку — только и всего!
И негодяй захохотал, довольный грубым сравнением и еще более грубой шуткой, а комендант вторил ему.
И все же Вискарра еще не решался прибегнуть к этому крайнему средству. Но вовсе не душевное благородство было тому виной. Хотя он и не был таким же отъявленным подлецом, как Робладо, сейчас его сдерживали отнюдь не соображения порядочности. Вискарра всю жизнь с холодным равнодушием относился к чувствам тех, кому он причинял зло, это вошло у него в привычку, и колебался он сейчас совсем не потому, что его сколько-нибудь занимало, будет ли потом эта девушка счастлива или глубоко несчастна. Нет, он далек был от этих мыслей. Робладо был прав, когда обвинил его в робости. Полковник в самом деле робел. Он просто-напросто отчаянно трусил.
Он боялся не того, что ему придется понести какое-то наказание. Слишком важной и могущественной персоной он был, а родственники намеченной жертвы слишком незначительны, чтобы стоило опасаться их. Немного дипломатии — и они, совершенно ни в чем не повинные люди, будут осуждены на смерть, и это будет выглядеть как акт правосудия. Нет ничего проще, как состряпать дело об измене, заключить человека в тюрьму и убить, особенно сейчас, когда восстание индейцев и креольская революция угрожают испанскому владычеству в Америке[16].
По-настоящему Вискарра боялся лишь толков и сплетен. Такое откровенное похищение недолго удастся держать в секрете. Рано или поздно просочатся какие-то слухи, и, уж конечно, такую скандальную историю сразу подхватят, раззвонят на всех перекрестках, весь город будет судачить. Но может случиться и кое-что похуже. Слухи могут выйти за пределы Сан-Ильдефонсо, докатиться до главной квартиры, дойти до ушей самого вице-короля! Вот этого и в самом деле боялся комендант.
Не то, чтобы двор вице-короля был в те времена образцом высокой нравственности. Нет, там отнеслись бы довольно снисходительно к любому проявлению деспотизма или разврата, лишь бы все делалось втихомолку. Однако на такой вот грабеж среди бела дня едва ли посмотрели бы сквозь пальцы, хотя бы из чисто политических соображений. Да, у Вискарры были все основания соблюдать осторожность. Он не верил, что проделку можно сохранить в тайне. Кто-нибудь из мошенников, которые помогут ему похитить девушку, в конце концов, пожалуй, еще предаст его. Правда, то будут его собственные солдаты, и случись что-нибудь, он расправится с ними по своему усмотрению, но что от этого изменится? Ведь это все равно, что запереть конюшню, когда конь уже украден.
И даже если они не предадут его, разве можно надеяться сохранить все в тайне? Прежде всего будет опасен ее разгневанный брат. Правда, сейчас он в отъезде, но зато существует еще и ревнивый поклонник, да и брат когда-нибудь вернется. Все поймут, что похищение — дело рук его, Вискарры. Его визит, приход сводни, похищение девушки — все это будет сопоставлено и все вместе отнесено на его счет. А у нее такой брат, да и жених тоже, что они не станут молчать о своих подозрениях. Можно бы и избавиться от обоих, но тогда придется идти напролом, а это слишком опасно.
Так рассуждал про себя Вискарра, то же он доказывал и капитану Робладо. И не потому, что хотел, чтобы капитан разубедил его, нет, но он надеялся, что вдвоем они додумаются до какого-то наименее рискованного средства, ибо цели своей он хотел добиться во что бы то ни стало.
И они нашли то, что искали. Мысль эта, конечно, пришла в голову капитану, который был куда более изобретателен и нагл. Со стуком поставив стакан на стол, он неожиданно воскликнул:
— Придумал, Вискарра! Ей-Богу, придумал!
— Да ну? Браво!
— Если угодно, можете забавляться с вашей красоткой двадцать четыре часа кряду, и самый злой сплетник ничего худого не заподозрит. По крайней мере, теперь вам нечего бояться. Черт возьми, какая счастливая мысль!.. Как раз то, что нужно!
— Да не томите же, капитан! Что вы надумали? Говорите скорее!
— Погодите, сперва выпью глоток вина. Хитро придумано! Не могу не выпить по этому поводу.
— Тогда пейте, пейте! — воскликнул обрадованный Вискарра, наливая вино; ему явно не терпелось услышать, что за счастливая мысль осенила его приятеля.
Робладо залпом осушил бокал и, подсев поближе к коменданту и понизив голос, подробно изложил ему свой новый план. Идея эта, видимо, очень понравилась Вискарре. Дослушав до конца, он крикнул: «Браво!» — и вскочил с таким видом, словно получил приятнейшую весть.
Радостно возбужденный, он несколько минут шагал из угла в угол, потом громко захохотал.
— Черт побери, да вы настоящий стратег! — воскликнул он. Сам Великий Конде[17] не додумался бы до такой стратегии! Пресвятая дева! Более мастерского хода и не придумаешь, и я обещаю вам, капитан, — исполнение не заставит себя ждать.
— А зачем откладывать? Почему не взяться за дело сейчас же?
— Верно… Давайте сейчас же и подготовимся к этому приятному маскараду.
Глава 26
И тут произошли события, которые, казалось, должны были бы помешать коменданту крепости и его капитану исполнить задуманное. По крайней мере, так можно было предположить. Не прошло и суток после описанного разговора, как в городе и во всей долине разнесся слух о нападении немирных индейцев. Говорили, что индейцы — были ли то апачи, юты или команчи, никто не знал, — показались недалеко от Сан-Ильдефонсо в полном боевом уборе.
Это, вне всякого сомнения, означало, что они могут напасть на любую часть поселения. Потом прошел новый слух, еще более серьезный: индейцы напали на нескольких пастухов на плоскогорье, совсем близко от города; пастухам удалось спастись, но собаки их были убиты, а отары овец угнаны в горы надежную крепость грабителей.
На сей раз вести были более определенные. Напали индейцы из племени юта, из отряда, который охотился к востоку от реки Пекос. Очевидно, перед тем как возвратиться домой, к верховьям Дель Норте, они решили совершить этот набег, суливший им немалые богатства. Пастухи ясно видели их и по боевой раскраске сразу узнали ютов.
Что на пастухов напали именно юты, было довольно правдоподобно. Совсем недавно они же совершили набег на поселения, расположенные в цветущей долине реки Таос. Юты прослышали о богатствах Сан-Ильдефонсо, вот почему они и напали. А команчи и апачи были в мире
с Сан-Ильдефонсо и уже несколько лет ограничивались тем, что опустошали провинции Коагуила и Чиуауа. Жители Сан-Ильдефонсо не давали этим племенам никакого повода нарушить мир, да и индейцы ничем не обнаруживали каких-либо враждебных намерений.
В ночь после того, как похитили овец, был совершен более крупный грабеж. Это случилось уже в самом поселении. Со скотоводческой фермы, расположенной в нижнем конце долины, угнали большое стадо рогатого скота. Пастухи видели, как индейцы угоняют скот, но, испугавшись, были рады унести ноги и спрятались на ферме.
Не было совершено еще ни одного убийства, но лишь потому, что грабителям никто не сопротивлялся. И на дома индейцы еще не нападали. Быть может, то был лишь небольшой отряд, но как знать — к нему могут присоединиться другие, и тогда они, пожалуй, отважатся на более дерзкие и опасные действия.
И жителей долины и горожан охватило волнение. Всюду царил ужас. Те, кто жил в ранчо, стоявших на отлете, на ночь покидали свои жилища и искали приюта в городе или в крупных асиендах. С наступлением темноты ворота асиенд запирались, до самого утра по плоской крыше — асотее — расхаживали караульные. Великий страх объял жителей; он был особенно силен потому, что нападение индейцев оказалось полной неожиданностью — ведь долгое время с ними поддерживались хорошие отношения.
Неудивительно, что людьми овладела тревога. У них были все основания для этого. Они прекрасно знали, что жестокость диких воинов во время набега не знает предела: индейцы убивают всех мужчин, щадят одних только молодых женщин, но лишь для того, чтобы увести их с собою и превратить в жалких, несчастных пленниц. Жители Сан-Ильдефонсо хорошо знали все это — ведь в то самое время тысячи их землячек, навсегда потерянных для своих родных и друзей, томились в плену у диких индейцев. Неудивительно, что всюду царили смятение и ужас.
Комендант, по-видимому, был все время настороже. Во главе своих улан он рыскал по окрестностям и делал даже вылазки в горы. Ночью из конца в конец долины разъезжали патрули. Населению было предложено, если нападут индейцы, забаррикадировать двери и не выходить из домов. И все восхищались рвением и энергией своих защитников.
С каждым днем росла слава коменданта. Впервые ему представилась подлинно блестящая возможность показать всем, какой он храбрец, — ведь с тех пор, как он прибыл сюда, индейцы еще ни разу не нападали на Сан-Ильдефонсо. Во времена его предшественника индейцы появлялись здесь несколько раз, и всем памятно, что в этих случаях, вместо того, чтобы преследовать «варваров», войска отсиживались в крепости до тех пор, пока враг не скрывался, угнав из долины весь оказавшийся под рукой скот.
Нет, новый комендант действует совсем иначе. Что за храбрый офицер этот полковник Вискарра!
Волнение продолжалось несколько дней. Но так как до сих пор индейцы никого не убили, не похитили ни одной женщины и появлялись только ночью, все решили, что, по-видимому, их тут слишком мало, просто какая-нибудь небольшая кучка грабителей. В противном случае они бы уже давно осмелились показаться среди бела дня и вообще причинили бы гораздо больше вреда.
Все это время мать с сестра охотника на бизонов жили, никем не охраняемые, в своем уединенном ранчо, и притом во всей долине вряд ли можно было бы найти семью, которая меньше боялась бы индейцев. На то были причины. Во-первых, сама жизнь научила их почти не обращать внимание на опасность, которая приводила в ужас их менее отважных соседей. Во-вторых, индейцы, как видно, стремились захватить побольше добра, и их вряд ли могла соблазнить такая бедная хижина. Чуть выше по долине немало богатых ранчо. Нет, вряд ли индейцы нападут на таких бедняков.
Имелось и еще одно важное основание для такой уверенности — это было нечто вроде семейной тайны. Карлос торговал со всеми соседними племенами, был известен индейцам и поддерживал дружбу почти со всеми их вождями. И индейцы хорошо относились к нему: ведь он был американец. А их отношение к американцам в то время и еще много времени спустя было таково, что даже совсем малолюдные партии американских трапперов или торговцев, ничего не опасаясь, проходили по землям апачей и команчей, тогда как эти же самые апачи и команчи постоянно нападали на огромные мексиканские караваны и грабили их без пощады. Лишь много времени спустя эти племена люто возненавидели и саксов, и виноваты в этом были сами белые, которые не раз проявляли варварскую жестокость по отношению к индейцам.
Карлос же, торгуя с индейцами, никогда не забывал о своем маленьком ранчо, о родных, и он всегда уговаривал мать и сестру не бояться индейцев, когда его нет дома, уверяя, что индейцы не тронут их.
Он не поддерживал дружеских отношений лишь с хикариллами маленьким, жалким племенем, жившим в горах, к северо-востоку от Санта-Фе. То была одна из ветвей могучего племени апачей, но держались они особняком, и у них было мало общего с великими разбойниками юга — мескалеро и «пожирателями волков».
Вот почему маленькая Росита и ее мать отнеслись к ходившим тогда слухам хоть и не совсем спокойно, но все же с меньшим страхом, чем их соседи.
Их постоянно навещал дон Хуан и снова уговаривал переселиться на время к нему: у него был большой, хорошо укрепленный дом, охраняемый самим хозяином и его многочисленными пеонами. Но мать Роситы только смеялась над его страхами, и Росита, конечно, тоже отказалась принять его предложение — ей это казалось не вполне удобным и приличным.
* * *
Приближалась ночь, третья с тех пор, как в долине пошли слухи о появлении индейцев. Мать и дочь оставили станок и веретено и уже собирались улечься на свои постели на земляном полу, как вдруг Бизон вскочил с циновки и, яростно рыча, кинулся к двери.
Рычанье перешло в лай, такой неистовый, что сразу стало ясно — за дверью кто-то чужой. Дверь была закрыта и заперта на засов, но старуха, даже не спросив, кто там, отодвинула засов и отворила дверь.
Едва она показалась на пороге, раздался дикий клич индейцев, и удар тяжелой дубинки опрокинул ее наземь. Несмотря на яростные атаки пса, несколько дикарей в устрашающей боевой окраске и в перьях ворвались в дом, вопя и размахивая оружием. Не прошло и пяти минут как они вытащили из дома кричащую от ужаса девушку и привязали ее на спину мула.
Захватив с собой то немногое, что могло представлять для индейцев хоть какую-нибудь ценность, дикари подожгли ранчо и поспешно ускакали.
Сидя на муле, к которому ее привязали, Росита увидела пламя пожара, а ведь когда похитители выносили ее из дома, она видела мать — неподвижное тело, распростертое на пороге и, казалось, безжизненное. И вот дом в огне, уже и крыша занялась!
— Бедная моя мама! — в отчаянии бормотала девушка. Господи! Что будет с мамой?..
* * *
Почти одновременно с нападением на ранчо Карлоса или чуть позже индейцы появились перед домом дона Хуана; но, покричав и выпустив несколько стрел на асотею и в дверь, они скрылись.
Дон Хуан был полон страха за своих друзей. Как только индейцы отъехали от его фермы, он выскользнул из дому и, надеясь в темноте остаться незамеченным, отправился к хорощо знакомому ранчо.
Отойдя совсем немного, он вдруг увидел пламя пожара, и от этого зрелища кровь застыла у него в жилах.
Он не остановился. Хоть он был и пеший, но вооружен и со всех ног кинулся вперед, решив защитить Роситу или погибнуть.
Через несколько минут он уже стоял перед дверью ранчо и здесь с ужасом увидел бесчувственное тело старухи, ее страшное, мертвенно-бледное лицо, озаренное пламенем горящей крыши.
Огонь пока не подобрался к ней, но еще немного — и она сгорела бы.
Дон Хуан вынес ее в садик и в отчаянии кинулся искать и звать Роситу.
Но она не откликалась. Лишь треск пламени, вздохи ночного ветра, уханье горной совы да вой койота были ответом на его тревожный зов.
Наконец, когда у дона Хуана не осталось никакой надежды, он вернулся к распростертому телу и опустился подле него на колени, чтобы осмотреть. К его удивлению, старуха была еще жива и, после того, как он смочил ее губы водой, стала понемногу приходить в себя. Страшный удар лишь оглушил ее.
Дон Хуан поднял ее на руки и с тяжелым сердцем отправился хорошо знакомой тропой к своему дому.
* * *
Наутро слух о ночном происшествии разнесся по всему Сан-Ильдефонсо, вселяя в сердца людей еще больший ужас. Во главе многочисленного отряда комендант у всех на виду проскакал через город. После долгих и громких разговоров и бессмысленных разъездов взад и вперед уланы как будто напали на след индейцев.
Но задолго до наступления темноты солдаты вернулись с обычным своим донесением:
— Индейцев догнать не удалось.
Они доложили, что шли по следу до самого Пекоса. Индейцы переправились через реку и двинулись дальше, к Льяно Эстакадо.
Эта последняя новость немного успокоила жителей долины: можно было предположить, что, если индейцы скрылись в этом напралении, грабежу и набегам конец. Они, верно, решили присоединиться к своему племени, которое, как все знали, охотилось где-то в той стороне.
Глава 27
Перед вечером Вискарра со своими разряженными уланами проехал вверх по долине: они возвращались в город после преследования индейцев.
Прошел какой-нибудь час, и на дороге показалась другая кавалькада, запыленная и усталая; она двигалась в том же направлении. Едва ли можно было назвать это кавалькадой: тут были вьючные мулы да быки тащили несколько повозок. Только один человек ехал на лошади; его одежда и весь вид явно показывали, что он — хозяин каравана.
Долгий путь утомил всадника и коня, оба покрыты пылью, но все равно этого всадника узнать нетрудно: это Карлос, охотник на бизонов.
Он уже совсем недалеко от дома. Еще пять миль по этой пыльной дороге — и перед ним откроется дверь его бедного жилища. Еще час — и старая мать, милая сестра кинутся к нему в объятия, и он с нежностью прижмет их к груди.
Какая это будет неожиданность для них! Уж конечно, они не ждали его так скоро.
А как он обрадует их! Ведь ему необыкновенно повезло. Великолепные мулы, богатый груз — да это же настоящее богатство! У Роситы теперь будет новое платье — не из грубой домотканой материи, а шелковое, настоящего привозного шелка, и мантилья, и атласные туфельки, и в следующий праздник она наденет тонкие чулки… Она будет достойной парой его другу дону Хуану. А матушке не придется больше довольствоваться маисовым напитком: она станет пить чай, кофе, шоколад — что ей больше понравится!
Их дом слишком плох и стар, его надо снести и на его месте построить новый… Нет, лучше пускай он будет конюшней для вороного, а новый дом можно построить рядом. После продажи мулов можно будет купить хороший участок земли и наладить все хозяйство.
А что мешает Карлосу стать скотоводом и сдавать землю в аренду или самому использовать ее под пастбище? Это куда более почтенное занятие; тогда он уже не будет последним человеком в Сан-Ильдефонсо. Ничто не сможет помешать ему. Так и надо сделать. Только прежде он еще раз побывает на плоскогорье, навестит своих друзей вако — ведь они обещали… О, их обещание и есть тот краеугольный камень, на котором основаны все его надежды!
Шелковое платье Росите, дорогие напитки старухе-матери, новый дом, пастбище — мечтать об этом так приятно! Но есть у Карлоса еще одна, самая заветная мечта, она затмевает все другие. Если он съездит еще раз в страну вако, он сможет осуществить и эту мечту.
Карлос верил, что единственная преграда, отделяющая его от Каталины, — это его бедность. Ведь и ее отец, строго говоря, не из богачей. Правда, теперь-то он богат, но всего несколько лет назад он был просто бедный рудокоп, не богаче Карлоса. Прежде они были соседями, и в те далекие времена дон Амбросио вовсе не считал, что мальчик Карлос — неподходящее знакомство для маленькой Каталины.
Что же тогда он может иметь против охотника на бизонов, если охотник тоже разбогатеет? «Конечно, ничего, — думал Карлос. — Если доказать ему, что я не беднее его, он согласится отдать за меня Каталину. А почему бы и нет? Мать говорила, что в моих жилах течет такая же кровь, как у любого благородного идальго, ничуть не хуже. И если вако сказали правду, еще одна поездка — и у Карлоса, охотника на бизонов, будет столько же золота, сколько у владельца рудника дона Амбросио!»
Всю обратную дорогу он думал об этом. Каждый день, каждый час строил он свои воздушные замки. Не проходило часа, чтобы он не покупал шелковое платье Росите, чай, кофе, шоколад — матери; он воздвигал новое ранчо, покупал пастбище, показывал отцу Каталины золото и требовал ее руки. Воздушные замки!
Чем ближе к дому, тем ярче, доступнее становились эти радужные видения, и лицо охотника светилось счастьем. Но скоро ужас исказит его черты…
Несколько раз он готов был помчаться вперед, чтобы поскорее насладиться встречей с матерью и сестрой, но он всякий раз сдерживал себя.
— Нет, — шептал он. — Лучше я останусь с мулами. Так будет торжественнее! Мы все выстроимся в ряд перед ранчо. Они подумают, что я приехал с кем-то чужим и это ему принадлежат мулы. А когда я скажу, что это все — мое, они вообразят, что я стал настоящим индейцем и вместе со своими отважными слугами совершил набег на южные провинции.
И Карлос засмеялся от удовольствия.
«Росита, сестренка! — думал он. — Теперь-то она выйдет замуж за дона Хуана. Теперь я могу дать свое согласие. Так будет лучше. Он смелый, он сумеет защитить Роситу, когда я опять уеду в прерии. Правда, это будет последняя поездка. Съезжу еще только один раз — и меня будут звать не просто Карлос, охотник на бизонов, но сеньор дон Карлос».
И при мысли, что он станет богачом и его будут называть «дон Карлос», он снова рассмеялся.
«А как странно, что я никого не встретил! — подумал он потом. — На дороге ни души! И ведь совсем не поздно, солнце еще не скрылось за утесом. Куда же делись люди? А на дороге много свежих конских следов… Ха! Здесь побывали солдаты! Совсем недавно проехали вверх по долине… Но ведь не из-за этого же нигде не видно людей. И даже ни одного отставшего солдата! Если бы не эти следы, я бы подумал, что на Сан-Ильдефонсо напали индейцы. Только если бы апачи и вправду тут объявились, наш комендант со своими усачами никогда не посмел бы так далеко отъехать от крепости, знаю я его!.. Нет, это все-таки странно! Ничего не понимаю. Может, сегодня какой-нибудь праздник и все ушли в город?»
— Антонио, друг, ты знаешь все праздники. Сегодня праздник?
— Нет, хозяин.
— Где же весь народ?
— Я и сам не пойму, хозяин. Хоть бы кто навстречу попался…
— Вот и я не понимаю… Может, по соседству появились дикие индейцы? Как ты думаешь?
— Нет, хозяин, глядите! Вот следы улан. Час, как проскакали. Где уланы, там нет индейцев.
Антонио так сказал это и так при этом посмотрел, что Карлос не мог ошибиться в истинном смысле его слов, которые сами по себе можно было бы понять и по-другому. Антонио вовсе не хотел сказать, что если уж уланы тут появились, так индейцы не посмеют сюда сунуться, — совсем наоборот. Не «индейцев нет, потому что появились уланы», но «уланы здесь, потому что индейцы не появлялись», — вот что он хотел сказать.
Карлос понял его и в ответ разразился смехом — он ведь и сам так же думал.
На дороге по-прежнему никто не показывался, и Карлоса это начинало тревожить. Он все еще не думал, что с его близкими могла случиться беда, но это безлюдье наводило на мысль об одиночестве и, казалось, сулило что-то недоброе.
И понемногу печаль закралась в душу Карлоса, завладела ею, и он уже не мог с нею справиться.
Он еще не миновал ни одного ранчо. Как уже говорилось, их дом был самый последний, если ехать вниз по долине. Но ведь жители пасли свои стада еще ниже, и в этот час они обычно гнали скот домой. А сейчас не видно ни скота, ни пастухов.
Луга по обе стороны дороги, на которых обычно паслись стада, пусты. Что бы это могло значить?
И на душе у него становилось как-то беспокойно, тревожно; эта смутная тревога все росла, пока он не достиг того места, где ему надо было свернуть.
Вот наконец и поворот. Он свернул на дорогу, ведущую к дому, миновал рощицы вечнозеленых дубов — сейчас он увидит свое ранчо.
Карлос невольно осадил коня… и так и застыл в седле; рот его приоткрылся, остановившийся взор был страшен.
Дома не было видно, его скрывала зеленая стена кактусов, но поверх нее он разглядел какую-то зловещую черную линию, а над асотеей курился странный дымок.
— Боже правый! Что это? — воскликнул он прерывающимся голосом, но тут же, не раздумывая, так вонзил шпоры в бока коню, что тот полетел стрелой.
Вот уже расстояние, отделяющее его от изгороди, осталось позади, и, соскочив с коня, охотник кинулся к дому.
* * *
Вскоре подошел весь караван. Антонио поспешил за ограду.
Там, между еще не остывших, почерневших от огня стен, полулежал на скамье его хозяин. Кудрявая голова Карлоса поникла; обхватив ее обеими руками, он судорожно стискивал пальцы.
Заслышав шаги, он поднял глаза, но лишь на мгновение.
— Господи! Матушка… сестра!.. — повторял он. Голова его снова поникла, он тяжело, прерывисто дышал. То был час жестоких, нестерпимых страданий: он предчувствовал страшную правду.
Глава 28
Несколько минут Карлос, пораженный страшным ударом, и не пытался стряхнуть оцепенение.
Чья-то рука дружески опустилась на его плечо, и он поднял голову. Над ним склонился дон Хуан.
По лицу дона Хуана было видно, что он страдает не меньше Карлоса. Значит, надеяться не на что. И все же почти автоматически Карлос спросил:
— Мать? Сестра?
— Твоя матушка у меня, — ответил дон Хуан.
— А Росита?
Дон Хуан не ответил, по щекам его катились слезы.
— Ну, дружище, — сказал Карлос, увидав, что дон Хуан не меньше, чем он сам, нуждается в утешении, — не надо так… Я хочу знать самое худшее! Она умерла?
— Нет, нет!.. Надеюсь, она не умерла!
— Ее похитили?
— Увы, да!
— Кто?
— Индейцы!
— Ты уверен, что индейцы?
Когда Карлос это спрашивал, глаза его как-то странно блеснули.
— Совершенно уверен. Я видел их собственными глазами. Твоя матушка…
— Матушка! Что с ней?
— Сейчас она в безопасности. Она встретила дикарей в дверях, ее ударили, и она лишилась чувств и больше ничего не видела.
— А Росита?
— Никто ее не видел. Конечно, индейцы увезли ее.
— Ты уверен, дон Хуан, что это были индейцы?
— Уверен. Они почти в то же время напали на мой дом. Они еще прежде угнали у меня скот, и поэтому один из пеонов остался на страже. Он заметил их еще издали, и мы успели запереться и приготовиться к защите. Они увидели, что мы начеку, и очень скоро ускакали. А я сразу вышел из дому и стал пробираться сюда, потому что очень боялся за твоих. Крыша уже пылала, твоя матушка без чувств лежала на пороге. А Росита исчезла! Матерь божья, она исчезла!
И он снова заплакал.
— Дон Хуан! — твердо сказал Карлос. — Ты был другом, братом мне и моей семье. Я знаю, ты страдаешь не меньше моего. Не нужно слез! Смотри, мои глаза уже сухи. Больше я не пролью ни слезинки, может, и не усну, пока не освобожу Роситу… или не отомщу за нее. Пора приняться за дело! Расскажи мне все, что известно об этих индейцах… Поскорее, дон Хуан! Я хочу знать все!
Дон Хуан подробно пересказал разные слухи, которые ходили в те три-четыре дня, рассказал и о действиях индейцев: о том, как их впервые увидели на плоскогорье; об их встрече с пастухами и о том, как они угнали овец; об их появлении в долине и нападении на его скот — пострадало как раз его стадо; и потом все дальнейшее, что Карлос уже знал.
Он рассказал Карлосу и о том, как энергично действуют солдаты, как они в то утро шли по следу грабителей, как он со своими людьми хотел присоединиться к солдатам, но комендант не согласился на это.
— Не согласился? — переспросил Карлос.
— Да, он сказал, что мы будем только мешать солдатам. Я думаю, это потому, что он на меня в обиде. Он ведь невзлюбил меня тогда, на празднике.
— Так. Что еще?
— Уланы вернулись недавно, с час назад. Они доложили, что шли по следу до того места, где индейцы переправились через Пекос и двинулись к Льяно Эстакадо. Индейцы, видно, поскакали к Великим Равнинам, так что гнаться за ними дальше было бесполезно. Так говорят солдаты. А люди только счастливы, что дикари исчезли, и теперь не станут ни о чем беспокоиться. Я попробовал собрать отряд, чтоб погнаться за индейцами, но никто не захотел рискнуть. Я уж хотел пуститься в погоню с одними своими пеонами, хоть это и безнадежное дело, но, слава Богу, вернулся ты.
— Дай-то Бог, чтобы не слишком поздно было гнаться за ними по следу. Хотя нет… Ты говоришь, они напали в полночь? Ведь не было ни дождя, ни сильного ветра — след будет свежий, как роса, и если только собака… Да, а где Бизон?
— У меня дома. Утром его не было, мы уж думали, что индейцы его убили или украли, но днем мои люди нашли его здесь, в ранчо. Он был весь в грязи и так изранен копьем, что текла кровь. Видно, индейцы забрали его с собой, но по дороге он удрал.
— Странно, очень странно… Бедная моя Росита! Бедная сестренка! Где ты сейчас? Где?.. Увижу ли я тебя когда-нибудь?.. Боже мой! Боже мой!
Ненадолго Карлос поддался отчаянию и застыл в прежней безнадежной позе.
Но вдруг он вскочил на ноги и, сжимая кулаки, со сверкающими глазами, закричал:
— Широки просторы прерии и еле заметен след подлых грабителей, но у Карлоса, охотника на бизонов, зоркий глаз! Я найду тебя, найду тебя, хотя бы мне пришлось искать всю жизнь!.. Не бойся, Росита! Не бойся, любимая сестра! Я приду к тебе на помощь! А если тебя обидели, — горе, горе племени, которое сделало это! — Потом, повернувшись к дону Хуану, он сказал: — Уже темно. Сегодня мы ничего не можем сделать. Дон Хуан! Друг мой, мой брат! Веди меня к ней, к моей матери…
В языке, которым говорит горе, есть своя поэзия, и этой поэзией были проникнуты слова охотника на бизонов. Но эта поэтическая вспышка быстро погасла, и он снова вернулся к суровой действительности. Все, что могло способствовать успеху погони, было трезво обсуждено и умело подготовлено. Оружие, снаряжение, конь — Карлос заботился обо всем, чтобы с рассветом можно было двинуться в путь. Кони были приготовлены и для слуг его и дона Хуана, которым предстояло сопровождать их.
На мулов навьючили провизию и все необходимое для долгого путешествия, ибо Карлос решил не возвращаться, пока не сдержит клятву — освободит сестру или отомстит за нее. Он не из тех преследователей, которых пугает малейшее препятствие. Он не собирается возвращаться с докладом, что «индейцев догнать не удалось». Он твердо решил идти по следу грабителей хоть до края прерий, дойти до самой крепости индейцев, где бы она ни была.
Дон Хуан всем сердцем был с ним, ибо он не меньше Карлоса был заинтересован в исходе погони и горе его было столь же велико.
С ним были два десятка пеонов, все верные тагносы, и хоть война не была их призванием и ремеслом, но сочувствие и искреннее стремление услужить хозяевам, к которым они были очень привязаны, делали их настоящими воинами.
Если только они успеют нагнать похитителей, за исход битвы бояться нечего. Судя по всему, что известно об этой шайке, она невелика и не слишком опасна. Будь иначе, воры не ушли бы из долины, ограничившись такой ничтожной добычей. Если догнать их, прежде чем они присоединятся к своему племени, все может еще кончиться хорошо — их заставят вернуть награбленное и пленницу и, может быть, дорого заплатить за все беды и страдания, которых они были виною. Итак, выиграть время — вот что было важнее всего, и преследователи решили двинуться в путь с первыми лучами рассвета.
Карлос совсем не спал в эту ночь, а дон Хуан лишь изредка на минуту забывался тревожным сном. Оба не раздевались и не ложились. Карлос сидел у постели матери, которая все еще не вполне оправилась от нанесенного ей удара и бредила во сне.
Охотник сидел молча, погруженный в раздумье. Он перебирал в уме всевозможные планы и догадки. К какому племени могла принадлежать эта шайка? Это не апачи и не команчи. И тех и других он встречал, возвращаясь домой. Они держались дружелюбно и ни словом не упоминали о каких-либо столкновениях с жителями Сан-Ильдефонсо. И, кроме того, ни те, ни другие не стали бы действовать такой малочисленной кучкой. Карлос только жалел, что похитители не были ни команчами, ни апачами. Ведь узнай любое из этих племен, что похищенная девушка — его сестра, ему тотчас вернули бы ее, в этом он не сомневался. Но нет — ни те, ни другие не имели к этому отношения. Так кто же? Юты? Дон Хуан говорил, что все в долине уверены в этом. Если так, надежда не потеряна: Карлос торговал с одной из ветвей этого могущественного и воинственного племени. Он даже в дружбе с некоторыми вождями ютов, но сейчас их здесь нет — они пошли войной на северные поселения.
И снова его мысль возвращалась к хикариллам. Это трусливое и жестокое племя, и они ему смертельные враги. Они рады бы завладеть его скальпом. И если сестра попала к хикариллам, горька будет ее участь. При одной мысли, что ждет тогда Роситу, Карлоса пробрала дрожь, и он вскочил, судорожно сжимая руки.
* * *
Близилось утро. Пеоны были уже на ногах и при оружии. Оседланные лошади и мулы ждали во дворе, и дон Хуан объявил, что все готово. Карлос подошел к матери проститься. Она знаком попросила его ниже наклониться над постелью. Старуха была еще очень слаба, она потеряла много крови и говорила с трудом, еле слышно.
— Сын мой, — сказала она, когда Карлос нагнулся к ней, знаешь ли ты, за какими индейцами ты пускаешься в погоню?
— Нет, матушка, — ответил Карлос, — но боюсь, что это хикариллы, наши враги.
— Скажи, они отращивают бороду? Носят они драгоценные перстни?
— Нет, матушка. Почему вы спрашиваете? Вы же знаете, у них нет бороды!.. Бедная матушка, — шепнул он дону Хуану, — после того страшного удара мысли ее путаются.
— Иди же по следу! — продолжала мать Карлоса, не слыхавшая его последних слов. — Иди по следу… Может быть, он приведет тебя к… — И она прошептала что-то ему на ухо.
Карлос вздрогнул, точно услышанное поразило его.
— Что?! — сказал он. — Вы так думаете, матушка?
— У меня есть подозрение, только подозрение… Но ты иди по следу, он приведет тебя… Иди по следу и убедись сам!
— Не сомневайтесь, матушка, уж я проверю.
— Прежде чем уйдешь, обещай одно: не горячись, будь осторожен!
— Не бойтесь, матушка! Я буду осторожен.
— Если это правда…
— Если это правда, я скоро вернусь. Да хранит вас Бог, матушка! Кровь моя кипит… Не могу больше медлить! Да хранит вас Бог! Прощайте!
Минуту спустя вереница всадников во главе с Карлосом и доном Хуаном выехала из широких ворот и свернула на дорогу, ведущую прочь из долины.
Глава 29
Еще не рассвело, когда отряд выехал в путь, но это не значит, что всадники поторопились сверх меры. Карлос знал, что они и в темноте могут следовать по дороге, по которой ехали накануне уланы; а когда они доберутся до места, где те повернули обратно, будет уже достаточно светло.
За пять миль от ранчо дона Хуана дорога разделялась на две: одна вела на юг — по ней накануне вечером приехал Карлос; другая отходила налево и, уже почти не сворачивая, вела к Пекосу, к тому месту, где реку можно было перейти вброд. Отпечатки копыт показывали, что солдаты вчера свернули налево.
Стало совсем светло. По этой наезженной, хорошо знакомой дороге можно было бы пуститься галопом. Но охотник не смотрел на дорогу, на ясные следы копыт, — он внимательно осматривал землю по обе стороны дороги, и потому приходилось ехать медленнее.
По обочинам дороги, как показывали следы, недавно прошло стадо. Без сомнения, это было стадо, украденное у дона Хуана, голов с полсотни. Карлос сказал, что, судя по следам, стадо прогнали тут два дня назад, и это совпадало с временем, когда были украдены быки дона Хуана.
Вскоре отряд выехал из долины и оказался на равнине, по которой протекает Пекос. Они собирались направиться прямиком к реке, до которой оставалось еще две мили, как вдруг Бизон, бежавший впереди, круто свернул налево. Зоркий глаз Карлоса различил на земле след, по которому пробежала собака. След этот отделялся от тех, что оставили уланы, и шел на север.
И Карлосу и дону Хуану показалось странным, что Бизон повернул в эту сторону: тут не было ни дороги, ни тропы; казалось, собака просто бежит по следу какого-то животного. Может быть, Бизон уже однажды проходил этой дорогой?
Карлос спешился, чтобы осмотреть следы.
— Четыре лошади и мул! — сказал он дону Хуану. — Две лошади кованы только на передние ноги, две другие и мул совсем не подкованы. На всех были всадники. Мул шел впереди… возможно, с поклажей. Нет! — прибавил он, всмотревшись еще. — Это не вьючный мул!
Чтобы разобраться во всем этом, охотнику не понадобилось и пяти минут. Почти всем его спутникам это казалось просто чудом — быть может, даже всем, кроме Антонио. И, однако, Карлос не ошибся ни в одной мелочи. Еще несколько минут он тщательно осматривал следы.
— Время совпадает, — опять обратился он к дону Хуану. Они прошли здесь вчера рано утром, еще роса не высохла. А от твоего дома они ускакали, когда еще не наступила полночь? Ты в этом уверен?
— Уверен, — ответил скотовод. — В полночь я уже вернулся с пожара вместе с твоей матушкой. В этом я вполне уверен.
— Еще один вопрос. Как, по-твоему, дон Хуан, сколько индейцев было тогда у твоего дома? Много? Мало?
— По-моему, немного. За деревьями мы не увидали, сколько. А когда они поднимали крик, слышны были два-три голоса зараз. И по следам похоже, что шайка была совсем маленькая. Может быть, эти самые индейцы и сожгли ваше ранчо, а потом прискакали ко мне. У них было для этого достаточно времени.
— Вот и я думаю, что это те самые, — сказал Карлос, все еще склоняясь над отпечатками копыт. — А это, наверно, и есть их следы.
— По-твоему, это они и есть? — переспросил дон Хуан.
— Да… Смотри-ка! Странно, правда?
И Карлос указал на Бизона, который снова подбежал к ним и скулил: ему явно не терпелось бежать дальше по найденному следу.
— Очень странно, — ответил дон Хуан. — Похоже, что он тут не первый раз.
— Возможно, — сказал Карлос. — Но в этом мы после разберемся. Сперва посмотрим, куда направлялись те храбрые вояки. Я хочу знать это, прежде чем свернуть с большой дороги. В путь, и поскорее!
Они пришпорили лошадей и поскакали по дороге. Охотник, как и прежде, был впереди всех. И, как прежде, он зорко осматривал землю по сторонам, проверяя, не отходит ли от дороги, по которой они едут, еще какой-нибудь след.
Время от времени дорогу, действительно, пересекала случайная тропинка, но видно было, что протоптана она уже давно, а за последнее время ни один всадник не проезжал по ней. И Карлос ехал мимо, не придерживая коня, чтобы осмотреть ее подробнее.
За двадцать минут отряд доскакал до реки Пекос и остановился у брода. Ясно видно было, что и солдаты останавливались здесь и, не перейдя реки, повернули обратно. Но стадо и верховые, сопровождавшие его, двумя днями раньше переправились на тот берег, — так сказал Карлос. Следы их отчетливо виднелись на прибрежном иле.
Карлос поехал по мелководью на другой берег. С первого взгляда он увидел, что здесь не проходил ни один солдат, только стадо в сорок или пятьдесят голов.
Карлос долго и тщательно осматривал не только илистый берег, но и открывающуюся за ним равнину, потом сделал знак дону Хуану и остальным, чтобы они тоже перешли брод.
Когда дон Хуан подъехал к нему, Карлос сказал уверенно:
— Тебе повезло! Ты можешь вернуть свое стадо.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что оно было здесь какие-нибудь сутки назад. Его гонят четверо всадников. За это время стадо не могло уйти далеко.
— А как ты все это узнал?
— Ну, это не так трудно, — спокойно сказал охотник. — У тебя угнали скот люди на тех же лошадях, которые прошли вон там… — Он указал на следы и продолжал: — Очень возможно, что мы найдем все стадо среди тех отрогов. — И Карлос показал на обрывистые кряжи — отроги Льяно Эстакадо, отходящие далеко в долину от крутого, обрывистого края плоскогорья. Отсюда, от брода, до них было миль десять.
— Так что же, поедем туда? — спросил дон Хуан.
Карлос ответил не сразу. Как видно, он еще не решил и мысленно взвешивал, какой путь избрать.
— Да, — медленно и серьезно сказал он наконец. — Лучше проверить все до конца. Может быть, все мои страшные подозрения ошибочны. И она — она тоже могла ошибиться. Оба следа еще могут сойтись.
Все это он говорил почти про себя, и дон Хуан, хоть и слышал его слова, но не понял их. Он уже хотел спросить Карлоса, что это значит, но охотник внезапно пришпорил коня и, дав спутникам знак не отставать, поскакал по следу украденного стада.
Меньше чем через час они доскакали до глубокой лощины. Здесь часть долины, точно залив, далеко вдавалась между выступами высокого плоскогорья. Они въехали в это своеобразное ущелье — и необычайное зрелище представилось им. Все ущелье было полно черных стервятников. Они сотнями сидели на скалистых склонах, парили в воздухе, подскакивали по дну ущелья, хлопая огромными крыльями, точно радуясь чему-то. Были тут и койот, и волк, и медведь гризли; они бродили по ущелью или вступали в драку, хотя драться было не из-за чего — еды с избытком хватало на всех. Несколько десятков полуобглоданных остовов валялось на земле, и, подойдя ближе, дон Хуан и его пастухи узнали остатки собственного стада.
— Говорил я тебе, дон Хуан, — произнес Карлос хриплым от волнения голосом, — но этого я не ожидал. Хитро придумано! Ведь быки могли и выбраться отсюда, вернуться домой, и тогда… А, подлый негодяй! Матушка была права — это он! Это он!
— Кто, Карлос? О чем ты говоришь? — спросил дон Хуан, озадаченный этими странными, отрывистыми восклицаниями.
— Не спрашивай сейчас, дон Хуан! Скоро я все объясню тебе… Скоро, но не сейчас. Голова моя точно в огне, и сердце… Скоро, скоро! Тайны больше нет. Я знаю все! С самого начала я подозревал… Я видел его тогда, на празднике… Я видел, какими глазами он на нее смотрел, мерзавец!.. А, деспот! Я вырву твое сердце из груди!.. Едем, дон Хуан!.. Антонио! Друзья! За мной! Едем по следу. Он совсем ясный. Я знаю, куда он приведет… Да, я знаю! Вперед!
И, вонзив шпоры в бока своего коня, охотник помчался назад, к броду.
Дон Хуан и остальные спутники, недоумевая, поскакали за ним.
У брода они не остановились. Карлос погнал коня в воду, весь отряд последовал его примеру. Не остановились они и в том месте, где следы поворачивали на север. Бизон кинулся вперед, изредка он подавал голос; всадники скакали за ним по пятам.
Не проехали они и мили, как след круто повернул — теперь он вел к городу!
На лицах дона Хуана и пеонов отразилось удивление, но охотник нимало не удивился. Он-то этого и ждал. Нет, в лице его не было изумления. В нем было нечто другое, нечто гораздо более страшное!
Глаза Карлоса глубоко ушли в глазницы и сверкали, точно грозное пламя пылало в них. Он стиснул зубы, плотно сжал побелевшие губы и, казалось, обдумывал, а быть может, и принял уже какое-то отчаянное решение. Он почти не смотрел на следы, ему уже не надо было отыскивать дорогу. Он хорошо знал, куда едет!
Тропа пересекала топкую низину. Пробираясь по ней, Бизон весь перемазался в рыжей глине. Такая же глина пристала к его косматой шерсти, когда он прибежал накануне.
Дон Хуан сразу обратил на это внимание.
— Пес уже был здесь раньше! — сказал он.
— Знаю, — ответил Карлос. — Знаю… все знаю! Никакой тайны нет осталось. Терпение, друг! Ты тоже все узнаешь, а пока дай мне подумать. У меня ни на что больше нет времени.
След все еще вел к городу. Он не вернулся в долину, а по отлогому склону поднялся на плоскогорье и шел теперь почти параллельно его отвесному краю.
— Хозяин! — сказал Антонио, поравнявшись с Карлосом. — Эти следы не индейских лошадей. Разве что индейцы их украли. Тут были две военные лошади. Я эти следы знаю. И не простые офицерские, по подковам вижу.
Карлос не проявил ни малейшего удивления, услыхав это, и ни слова не ответил метису. Видимо, он был поглощен своими мыслями.
Думая, что хозяин не слышал или не понял его, Антонио вновь повторил то же самое. Тогда Карлос наконец посмотрел в его сторону.
— Дорогой мой Антонио, — сказал он, — ты думаешь, я слеп? Или глуп?
Он сказал это без гнева. Антонио понял и, придержав коня, опять присоединился к остальным.
Так ехали они то вскачь, то замедляя шаг, чтобы немного передохнули усталые лошади. Так ехали они по следу, и след неуклонно вел к городу.
Наконец они достигли того места, где дорога, извиваясь, спускалась с плоскогорья в долину. По этой извилистой тропе поднимался Карлос в день святого Иоанна, чтобы показать свое искусство наездника. Наверху, в том месте, где начинался спуск, Карлос приказал своему отряду остановиться и в сопровождении одного только дона Хуана подъехал к самому краю выступающего вперед утеса — место это называется Утес загубленной девушки. Именно здесь остановил он тогда коня.
Они подъехали к краю обрыва. Отсюда видны были вся долина и город.
— Видишь вон тот дом? — спросил охотник, показывая на громадное здание, высившееся поодаль от других, на полпути между всадниками и городом.
— Крепость?
— Да, крепость.
— Вижу, а что?
— Она там!
Глава 30
В эту минуту по асотее шагал взад и вперед какой-то человек. Это был не часовой, хотя с обеих сторон асотеи стояло по часовому; они были вооружены карабинами, их головы и плечи виднелись над зубчатыми башнями крепости.
Человек, который расхаживал взад и вперед, был офицер, и та часть асотеи, где он прогуливался, расположенная над офицерскими квартирами, отделялась от остальной крыши стеной такой же высоты, как и весь парапет. Притом это огороженное место было священно — здесь редко раздавались грубые шаги обыкновенных солдат. Это была как бы верхняя палуба крепости.
Офицер был в полной форме, хотя и не при исполнении обязанностей, но по стилю и покрою его мундира с первого взгляда ясно было, что этот вояка — большой франт и любит во всякое время щеголять в полном параде. Он носил свои золотые галуны и пестрый мундир, как павлин — пышное оперение. То и дело он приостанавливался и окидывал взглядом свои лакированные сапоги, проверял, стройны ли у него ноги, или любовался перстнями, которыми были унизаны его белые, холеные пальцы.
При этом он был отнюдь не красавец и не герой, но это не мешало ему воображать себя и тем и другим — Аполлоном и Марсом сразу.
А был он полковником испанской армии, комендантом крепости, ибо офицер этот был не кто иной, как Вискарра.
Вполне довольный собственной наружностью, он, как видно, был очень недоволен чем-то другим. На лице его лежала тень, которую не могло прогнать даже созерцание собственных лакированных сапог и лилейно-белых рук. Какая-то мысль тяготила его и даже заставляла порою вздрагивать и беспокойно оглядываться по сторонам.
— Да ведь это был только сон, — бормотал он. — И зачем я об этом думаю? Это был только сон.
Произнося эти отрывочные фразы, он смотрел себе под ноги, а когда поднял глаза, случайно взглянул в сторону Утеса загубленной девушки. Впрочем, нет, не случайно: ведь этот утес тоже привиделся ему во сне, и взгляд его следовал за мыслями.
В то мгновение, как взгляд его упал на вершину утеса, Вискарра вздрогнул, точно увидел перед собою страшный призрак, и невольно ухватился за парапет. Кровь отхлынула от его щек, челюсть отвисла, он быстро, прерывисто дышал.
Что же было причиной такого волнения? Быть может, силуэт далекого всадника на самой вершине утеса, четко вырисовывавшийся в бледном небе? Что в этом зрелище так испугало коменданта? А он был смертельно испуган. Послушаем его.
— Боже мой! Боже мой, это он! Его лошадь… Он!.. Совсем как в моем сне… Это он! Мне страшно смотреть на него! Не могу…
На секунду офицер отвернулся и закрыл лицо руками.
Секунда — и он опять поднял глаза. Не любопытство, но страх заставил его, точно завороженного, снова поглядеть в ту сторону. Всадник исчез. Ни лошади, ни человека — ни единого пятнышка не видно было на фоне неба над обрывом.
— Наверно, мне опять померещилось? — все еще дрожа, спросил себя трус. — Наверно, померещилось… Там никого нет, и уж во всяком случае… Как бы он мог? Он за сотни миль отсюда! Мне просто показалось! — И он захохотал. — Что это со мной, хотел бы я знать? Тот страшный сон сбил меня с толку. Черт побери! Не буду больше об этом думать!
И он зашагал взад и вперед еще быстрее, чем прежде, воображая, что это отвлечет его от неприятных мыслей. Но всякий раз, поворачиваясь, он невольно смотрел в сторону утеса, пытливо оглядывал весь край обрыва, и в этом взгляде был страх. Но всадник — или призрак — не появлялся больше, и Вискарра понемногу начал успокаиваться.
По каменным ступеням застучали шаги. Кто-то поднимался по лестнице.
Вот показалась голова, плечи, и на асотею шагнул капитан Робладо.
Он и Вискарра поздоровались, из чего можно было понять, что в этот день они еще не виделись. В сущности, оба только недавно встали. Час был не слишком поздний для светских людей, которые ведь не ложатся спать спозаранку. Робладо только что позавтракал и вышел на асотею, чтобы в свое удовольствие выкурить гавану.
— Да, забавный был маскарад! — расхохотался он, закуривая сигару. — Право слово! Я насилу смыл с себя краску. И охрип после всех этих воплей — за неделю голос не вернется! Ха-ха! Никогда еще девицу не покоряли и не завоевывали столь сложным, романтическим способом! На пастухов напали, овец увели и разогнали на все четыре стороны, быков угнали и перебили, как на бойне, старуху стукнули по голове, дом подпалили… Да еще разъезжали целых три дня взад и вперед, наряжались индейцами, орали до хрипоты… Столько хлопот — и все ради какой-то простой девчонки, ради дочки отъявленной колдуньи! Ха-ха! Прямо как глава из какой-нибудь восточной сказки… из «Тысячи и одной ночи», скажем. Только вот девицу не спасет никакой волшебник или странствующий рыцарь. — И Робладо снова захохотал.
Его речь разоблачила то, о чем, быть может, читатель уже догадался: что недавний набег «дикарей» был делом рук самих Робладо и Вискарры, затеянным для того, чтобы тайно похитить сестру охотника на бизонов. «Индейцы», которые угнали овец и быков, напали на асиенду дона Хуана, подожгли ранчо Карлоса и увезли Роситу, — эти «индейцы» были: полковник Вискарра, капитан Робладо, сержант Гомес и солдат по имени Хосе — еще один подчиненный полковника, доверенный и послушный его слуга.
Их было только четверо — с самого начала предполагалось, что четверых достаточно для осуществления подлого дела. Слухи и страхи, распространившиеся по долине, наделяли четверых силою четырех сотен. Притом, чем меньше посвященных в секрет, тем лучше. Так осторожно и хитро рассудил Робладо.
И действовали они весьма хитроумно. С самого начала и до конца партия была обдумана и разыграна с мастерством, достойным лучшего применения. На пастухов впервые напали наверху, на плоскогорье, чтобы убедительнее прозвучало известие о появлении враждебно настроенных индейцев. Из крепости посланы были солдаты на разведку, жителей призывали к осторожности — все для того же: чтобы больше поразить воображение. И когда после этого угнали быков, никто уже не мог сомневаться, что в долине появились дикие индейцы. Этот грабеж помог участникам гнусного маскарада убить сразу двух зайцев: осуществляя главный свой замысел, они заодно еще и подло отомстили молодому скотоводу.
Загнав его быков в ущелье и перебив их, они тоже преследовали двойную цель. Прежде всего они рады были нанести ему ущерб, но главное — они боялись, что, если оставить скот на произвол судьбы, он может найти дорогу назад, на ферму. А если бы вернулись быки, будто бы украденные индейцами, это вызвало бы подозрения. Теперь же они надеялись, что задолго до того, как кто-нибудь случайно наткнется на место бойни, волки и стервятники сделают свое дело, и догадки придется строить на одних костях. Это было всего вероятнее. Ведь пока длится тревога, вызванная нападением индейцев, вряд ли кто-нибудь отважится заглянуть в эти места. Тут нет ни жилья, ни дороги, тут проезжают изредка одни индейцы.
Даже когда дело дошло до развязки и жертву наконец похитили, ее не повезли прямо в крепость: ведь даже и ее надо было ввести в заблуждение. И вот ее, связанную, посадили на мула, которого погонял один из негодяев, и предоставили ей смотреть, какой дорогой они едут, вплоть до того места, где надо было свернуть к городу. Здесь ей завязали глаза кожаным поясом и так привезли в крепость, и, разумеется, она не знала, далеко ли ее завезли и что это за место, где ей позволили наконец отдохнуть.
Каждый акт дьявольской драмы был задуман столь тонко и разыгран столь искусно, что это делало честь если не сердцу, то уму капитана Робладо. Он же был и главным актером во всем этом представлении.
Вискарру на первых порах одолевали кое-какие сомнения; не совесть удерживала его, а собственная неумелость и боязнь разоблачения. Ведь это могло серьезно повредить ему. Если раскроется такой злодейский умысел, весть о нем мгновенно облетит всю страну. И тогда он погиб.
Красноречие Робладо, вдохновляемое его низкими намерениями, взяло верх над слабым сопротивлением начальника; а раз согласившись на эту затею, он и сам находил все это очень увлекательным и забавным. Шутовские воззвания и россказни об индейцах, наводившие ужас на жителей, и хвалы, которые воздавались при этом коменданту, действующему при этом столь доблестно и неутомимо, — все это оказалось приятным развлечением среди однообразия солдатской жизни. И в те несколько дней, что длилось нашествие «дикарей», у коменданта и капитана не было недостатка в поводах для смеха и веселья. Они так ловко все проделали, что наутро после заключительного набега грабителей и похищения Роситы ни одна душа в Сан-Ильдефонсо, если не считать самих офицеров и двух их помощников, нимало не сомневалась: всему виною настоящие дикие индейцы!
Впрочем, в одной душе шевелилось подозрение, только подозрение, — в душе старухи-матери. Даже сама Росита думала, что она в руках индейцев… если она вообще могла думать.
Глава 31
— Да, великолепная шутка, честное слово! — с хохотом продолжал Робладо, дымя своей сигарой. — С тех пор как мы забрались в эту чертову глушь, мне еще ни разу не случалось так позабавиться. Что ж, и на пограничном посту можно найти себе развлечение, если действовать умеючи. А сколько хлопот нам доставило это дело! Но, дорогой комендант, скажите-ка, строго между нами, — теперь-то вы уже можете судить, — стоило ли так хлопотать?
— Я очень жалею, что мы это сделали, — самым серьезным тоном ответил комендант.
Робладо посмотрел ему в лицо и впервые увидел, как хмур и мрачен его собеседник. Занятый своей сигарой, он до сих пор этого не замечал.
— Вот так так! — воскликнул он. — Что случилось, полковник? Вы выглядите совсем не так, как подобает человеку в вашем положении. Вы ведь должны были провести несколько приятнейших часов! Что-нибудь неладно?
— Все неладно.
— Что такое? Вы были у нее?
— Только на минуту, и с меня хватит.
— Не понимаю вас, дорогой полковник.
— Она сумасшедшая.
— Как — сумасшедшая?
— Да, буйная. Заговаривается так, что я в ужас пришел. Счастлив был поскорее уйти. Там остался Хосе, он за нею присматривает. Я просто не мог слушать, как она бормочет. Поверьте, у меня пропала всякая охота оставаться.
— Ну, это пустяки! — сказал Робладо. — Через день-другой она придет в себя. Она все еще думает, что попала к дикарям, которые хотят ее убить и снять с нее скальп. Вы с успехом можете ее разуверить, как только она придет в себя. Она-то может знать правду, я тут беды не вижу. Все равно вам придется ей сказать, и чем раньше, тем лучше: больше останется времени, чтобы она успела с этим примириться. Теперь она у нас уютно пристроена в четырех стенах, и у них нет ни глаз, ни ушей, так что вы действуйте на досуге. Никто ничего не подозревает, никто и не может подозревать. Все только и думают, что об индейцах, ха-ха! Говорят, этот ее поклонник, дон Хуан, хочет собрать отряд и пуститься в погоню за краснокожими! — И Робладо снова расхохотался. — Ничего у него не выйдет: с ним слишком мало считаются, и никому нет дела ни до его скота, ни до колдуньиной дочки. Будь это кто-нибудь еще, дело, пожалуй, приняло бы другой оборот. А сейчас нам нечего бояться, что все раскроется. Если бы еще появился сам охотник на бизонов…
— Послушайте, Робладо… — вдруг прервал его комендант, и в голосе его прозвучало необычное волнение.
— Да? — спросил капитан, с удивлением глядя на Вискарру.
— Я видел сон… страшный сон! Вот что меня тревожит, а совсем не бред этой девушки. Проклятие! Что за страшный сон!
— Помилуйте, комендант, вы храбрый солдат — и тревожитесь из-за какого-то сна! Ну-ка, что это вам приснилось? Я прекрасно умею толковать сны. Ручаюсь, у меня вы получите наилучшие разъяснения.
— Ну, слушайте, это довольно просто. Мне снилось, что я стою на Утесе загубленной девушки. Мне снилось, что я там один с Карлосом, охотником на бизонов, и что он все знает и привел меня туда, чтобы отплатить мне, чтобы отомстить за нее. У меня не было силы сопротивляться, и он подвел меня к самому краю. Кажется, мы схватились и боролись некоторое время, а потом он выпустил меня и столкнул с обрыва. И вот я падаю, падаю… А наверху стоит охотник, и рядом с ним его сестра, и на самом выступе утеса — эта ужасная старая колдунья, их мать, она смеется каким-то диким, безумным смехом и хлопает в ладоши, а руки у нее длинные, костлявые… И я падаю, падаю, а дна все нет… Ужасное чувство, и конца ему не было! От этого ужаса я и проснулся. Я даже не мог поверить, что это был только сон, никак не мог отделаться от ощущения, что все это на самом деле… Ужасный сон!
— Да, но только сон. А что значит…
— Постойте, Робладо! Я вам еще не все сказал. Через час… да нет, через каких-нибудь четверть часа я ходил здесь и думал о том, что мне приснилось, и нечаянно посмотрел туда, на утес. И там, на самом краю, стоял всадник, он был хорошо виден на фоне неба, и это был вылитый охотник на бизонов! Я узнал и коня и всадника — я хорошо помню, как он держится в седле. Я решил, что это мне мерещится. Отвел глаза на секунду, потом посмотрел опять, а всадника уже нет! Он так быстро исчез… Я думаю, мне просто показалось. Там никого и не было, просто после того сна мне почудилось.
— Очень возможно, — сказал Робладо, желая успокоить приятеля. — Очень возможно и вполне естественно. Во-первых, отсюда, где мы с вами стоим, до вершины того утеса добрых три мили по прямой. На таком расстоянии вы уж никак не отличили бы этого охотника от любого другого всадника — это невозможно. Во-вторых этот самый Карлос сейчас находится по крайней мере за пятьсот миль от кончика моей сигары и рискует своей драгоценной особой ради нескольких вонючих бизоньих шкур и нескольких десятков фунтов вяленого мяса. Будем надеяться, что кто-нибудь из его меднокожих друзей снимет с него светловолосый скальп, которым так восхищаются иные наши красотки. А ваш сон, дорогой комендант, — ну что же может быть естественнее! Вам просто не могло не присниться что-нибудь в этом роде. Вы помнили, как он гарцевал в день праздника на этом самом утесе, и думали о его сестре и подозревали, надо полагать, что сеньор Карлос обошелся бы с вами не слишком нежно, знай он об этом деле и попадись вы ему в руки, — все сразу было у вас в мыслях, и все перемешалось в этом нелепом сне. И старуха тоже: если вы о ней не думали, так я думал с тех самых пор, как стукнул ее тогда, в дверях. Ну и вид у нее тогда был, век не забуду!
И негодяй расхохотался. Его не так уж забавляло это воспоминание, но он хотел изобразить все происшедшее пустой безделицей, чтобы успокоить Вискарру.
— Эка важность! — продолжал он. — Сон! Самый обыкновенный сон. Полно, дорогой друг, выкиньте это из головы!
— Не могу, Робладо. Эти мысли — точно моя собственная тень: от них не отделаешься. У меня какое-то предчувствие. Лучше бы я оставил девчонку в ее грязной лачуге! Клянусь Богом, я хотел бы, чтобы она оказалась опять у себя дома. Не успокоюсь до тех пор, пока не избавлюсь от нее. Прежде я ее любил, а теперь просто ненавижу эту сумасшедшую.
— Ну-ну, друг! Скоро вы будете другое говорить. Она вам опять понравится…
— Нет, Робладо, нет! Я о ней без отвращения думать не могу — не знаю, почему, но не могу. Помоги, Боже, мне от нее избавться!
— А это не так трудно, и вреда никому не будет. Она может вернуться как пришла. Разыграем еще одну сценку маскарада, и ни одна душа не догадается. Если вы и в самом деле говорите серьезно…
— Робладо! — воскликнул комендант, хватая капитана за руку. — Никогда в жизни я не говорил серьезнее. Скажите мне, как можно отправить ее обратно, не поднимая шума? Скажите скорее, я не могу больше выносить это ужасное чувство!
— Что ж, — начал Робладо, — нам надо еще раз нарядиться индейцами, надо…
Он не договорил. Короткий стон вырвался из груди Вискарры. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит, губы побелели, крупные капли пота выступили на лбу.
Что бы это значило? Вискарра стоял у внешнего края асотеи, откуда видна была дорога, ведущая к воротам крепости. Он смотрел туда, за парапет, и протянул руку, указывая на что-то.
Робладо, стоявший далеко от парапета, почти посередине асотеи, кинулся к коменданту и взглянул в ту же сторону. По дороге, весь в поту и пыли, галопом скакал всадник. Он был уже так близко, что Робладо узнал это лицо. Вискарра узнал его еще раньше. Это был Карлос, охотник на бизонов!
Глава 32
То, что сказал Карлос дону Хуану на вершине утеса, как громом поразило простодушного скотовода. До этой минуты он ничуть не сомневался, что они гонятся за индейцами. Даже то странное обстоятельство, что следы повернули назад, в долину, не раскрыло ему глаза. Он решил, что индейцы еще кого-нибудь ограбили в этих местах и преследователи услышат об этом, как только спустятся в долину.
Когда Карлос показал ему на крепость и сказал: «Она здесь!», дон Хуан сначала удивился, потом просто не поверил.
Но довольно было еще одного слова охотника и нескольких мгновений раздумья — недоверие исчезло. Страшная правда молнией озарила сознание дона Хуана; ведь и он помнил, как вел себя Вискарра в день праздника. Тотчас ему пришли на ум и появление коменданта в доме охотника и все другие обстоятельства, и он понял, что Карлос не ошибся.
Несколько минут дон Хуан не мог вымолвить ни слова слишком мучительны были нахлынувшие на него мысли и чувства. Мучительны, как никогда. Он не страдал так даже в то время, когда был уверен, что его возлюбленная в руках диких индейцев. Тогда была еще надежда, что своеобразные законы чести, принятые у индейцев в отношении пленниц, позволят Росите избежать ужасной доли, что жених и брат успеют выручить ее. А теперь прошло столько времени! Зная Вискарру… О Господи!.. Это была ужасная мысль, она заставила молодого всадника покачнуться в седле. Он отъехал на несколько шагов, соскочил с лошади, пошатнулся и опустился на землю, охваченный нестерпимой тоской и болью.
Карлос все еще оставался на утесе и смотрел в сторону крепости. Казалось, он обдумывает план действий. Он видел часовых на зубчатых стенах, видел слоняющихся вокруг солдат в темно-синих с малиновым мундирах. До него донесся зов кавалерийской трубы, когда звонкое эхо стало перекидываться от скалы к скале. И он увидел, что какой-то человек — офицер ходит взад и вперед по асотее. Вот он остановился и заметил Карлоса…
Как раз в эту секунду Вискарра и увидел на утесе всадника, который одним своим видом так напугал его и который ему, конечно, вовсе не померещился.
— Может быть это он, злодей? — сказал себе Карлос, глядя на офицера. — Похоже, что это он и есть. Ох, если бы я отсюда мог достать его пулей!.. Но терпение, терпение! Я ему отомщу!
С этими словами он тронул поводья и отъехал к дону Хуану. Они посовещались о том, как действовать дальше. Подозвали и Антонио, и Карлос сказал ему о своей уверенности, что Росита пленница в крепости. Антонио не услышал ничего нового, он уже сам обо всем догадался. Он ведь тоже, как и его хозяин, был на празднике и его зоркие глаза ничего не упустили в тот памятный день. Он тоже заметил поведение Вискарры, и задолго до того, как путники остановились здесь, возле утеса, он нашел разгадку всему, что было таинственного и непонятного в недавнем набеге индейцев. Он знал все, хозяин мог не тратить слов на объяснения.
Но ни слов, ни времени и не тратили понапрасну. Для этого слишком сильно бились сердца брата и влюбленного. Быть может, в эту самую минуту девушке, дорогой обоим, грозит опасность, быть может, она сейчас защищается от своего подлого похитителя, и, если они подоспеют вовремя, они спасут ее!
Эти соображения были важнее всяких планов. До и какой тут мог быть план? Не обнаруживать себя, скрываться, тайно рыскать вокруг крепости и ждать удобного случая… Какого случая? Быть может, в бесплодном ожидании пройдет несколько дней! Дней! Когда нельзя медлить ни часа, ни минуты! Не теряя ни секунды, они должны действовать.
Но как действовать? Только в открытую — ничего другого они не могли придумать. Да неужели Карлос не смеет потребовать, чтобы ему вернули сестру?
А если их встретят отказом, ложью, увертками?.. Конечно, никакого другого ответа они не получат. Эта мысль привела обоих в ужас.
Что же еще остается делать? Если во всеуслышание объявить о подлом злодеянии, это, пожалуй, поможет. Общее сочувствие будет на их стороне… А быть может, и больше того. Быть может, жители долины, хоть они и порабощены, соберутся вокруг крепости и громко потребуют… Быть может, пленницу еще можно спасти… Эти мысли нагоняли одна другую.
— А если не спасем, — сказал Карлос, скрипнув зубами, — мы отомстим за нее. Пусть мне грозит петля, все равно ему не жить, если она обесчещена! Клянусь!
— И я даю клятву! — крикнул дон Хуан, хватаясь за рукоять своего мачете.
— Хозяин! Вы оба, послушайте! — сказал Антонио. — Вы знаете, я не трус. Я вам помощник, мое оружие, моя жизнь — все ваше. Но дело это страшное. Без осторожности только зря пропадем. Надо быть поосмотрительнее.
— Да, верно, мы должны быть осторожны. Я обещал это матушке. Но как, друзья, как? Что такое осторожность? Сидеть и ждать, пока она… О Господи!
Все трое замолчали. Никто не мог ничего придумать.
В самом деле, положение было бесконечно трудное. Перед ними крепость, и в ее стенах — быть может, в какой-нибудь глухой камере — томится в плену сестра охотника на бизонов. Он знал, что она там, но как трудно будет освободить ее!
Прежде всего злодей, похитивший Роситу, будет отпираться, уверять, что ее здесь нет. Ведь если он ее выпустит, он тем самым признает свою вину. А какие доказательства может представить Карлос? Солдаты гарнизона, без сомнения, ничего не знают, за исключением двух или трех негодяев, которые помогали в этом подлом деле. И если Карлос поднимет голос, никто в городе не поверит такому обвинению против коменданта. Охотника поднимут на смех и, конечно, арестуют, и он дорого поплатится. И даже если бы он предъявил доказательства, кто из власть имущих поможет ему добиться правосудия? Военные тут — сила и закон, и жалкое подобие гражданской власти, существующей здесь, уж, наверно, предпочтет стать не на его сторону, а на сторону его противника. Ему неоткуда ждать справедливости. Свои обвинения он может подкрепить лишь такими доказательствами, которых никогда не поймут и не примут в расчет все те, к кому он может обратиться. Вискарра без труда найдет какое-нибудь объяснение следам, ведущим назад, в долину, если он вообще снизойдет до того, чтобы что-то объяснять, а обвинения Карлоса объявит бредом сумасшедшего. Никто им не поверит. Именно гнусность совершенного злодейства делает его неправдоподобным.
Карлос и его товарищи хорошо понимали все это. Им неоткуда было ждать поддержки, не на что надеяться. Никто из властей не придет им на помощь и не даст удовлетворения.
Некоторое время охотник был молчалив и задумчив; наконец он вновь заговорил — и теперь уже другим тоном. Как видно, у него возник план, появилась какая-то надежда.
— Друзья! — сказал он. — Надо открыто прийти и потребовать ответа, ничего другого я не могу придумать. И надо это сделать сейчас же. Я не переживу и часа, не попытавшись выручить сестру. Ждать еще час, когда мы боимся… Нет, медлить нельзя. Я кое-что надумал. Наверно, это не самый осторожный план, но больше раздумывать некогда. Слушайте!
— Мы ждем!
— Нам незачем всем сразу появляться у ворот крепости. Там сотни солдат, а у нас двадцать тагносов, и хоть они и храбры, как львы, от такой схватки пользы не будет: силы слишком не равны. Я поеду один.
— Один?
— Да. Надеюсь, мне удастся увидеть его. Больше мне ничего не надо. Он тюремщик Роситы, а когда тюремщик спит, узника можно освободить. Стало быть, он уснет!
Слова эти были полны значения, и говорящий невольно положил руку на рукоять ножа, заткнутого за пояс.
— Он уснет, — повторил Карлос, — и очень скоро, если судьба улыбнется мне. Что будет дальше — мне все равно: не до того мне! Если она обесчещена, не все ли мне равно — жить или умереть? Но я отомщу за нее!
— Но как ты добьешься свидания с ним? — спросил дон Хуан. — Он не захочет принять тебя. Может быть, тебе переодеться? Тогда, пожалуй, скорее удастся увидеть его.
— Нет! Не так просто мне переодеться — меня выдадут светлые волосы и кожа. И на это уйдет слишком много времени. Поверь, я не буду опрометчив. Я придумал, как дойти до него, надеюсь, я при любых условиях его увижу. А если не удастся, не стану пока поднимать шум. Никто из этих негодяев не будет знать, зачем я на самом деле приходил. И потом я сделаю, как ты посоветуешь. А сейчас я не могу больше ждать. Я должен что-то делать. По-моему, это он сейчас ходит там, по асотее, вот почему я не могу ждать, дон Хуан. Если это он…
— А что мы будем делать? Разве мы не можем никак тебе помочь? — спросил дон Хуан.
— Может быть… если мне надо будет бежать. Поедем, я покажу вам, где меня ждать. Скорее! Сейчас дорога каждая минута — как день. У меня голова горит, точно в огне. Едем!
Карлос вскочил в седло и погнал коня по крутой тропе вниз, в долину.
С того места, где дорога, спустившись в долину, поворачивала к крепости, она на протяжении более мили вела через густые заросли невысоких деревьев и кустарника; через них нельзя было пробраться иначе, как по этой дороге.
Но были в этой чаще и тропинки, протоптанные скотом, по ним тоже можно было пересечь ее. Тропы эти хорошо знал Антонио, который прежде жил тут, по соседству. По одной из этих троп всадники могли подъехать к крепости на расстояние не больше полумили незаметно для часовых на стенах. К этому месту Антонио и повел весь отряд. Скоро они добрались до опушки и здесь, по распоряжению Карлоса, спешились, не выходя из-за кустов.
— Вы все оставайтесь тут, — сказал дону Хуану охотник. Если я сумею уйти оттуда, я поскачу прямо сюда. Если потеряю коня, все равно вы меня еще увидите. Такое небольшое расстояние я пробегу, как олень, никто меня не догонит. А когда вернусь, скажу вам, как действовать дальше.
И вдруг, схватив дона Хуана за руку, Карлос увлек его за собою к самому краю опушки:
— Смотри, дон Хуан! Это он! Клянусь Богом, это он!
Карлос показал на высокую крышу крепости — над краем парапета виднелись чья-то голова и плечи.
— Да, это комендант, — сказал дон Хуан, тоже узнав человека на асотее.
— Довольно! Мне больше некогда разговаривать! — воскликнул охотник. — Теперь — или никогда! Если я вернусь, вы будете знать, что делать дальше. Если не вернусь — значит, я или схвачен, или убит. Оставайтесь здесь. Оставайтесь до поздней ночи — может быть, я еще выберусь оттуда. Их тюрьмы не так уж крепки. Кроме того, у меня с собой золото. Может быть, оно выручит меня. Вот и все. Прощай, верный друг! Прощай!
Стиснув руку дона Хуана, Карлос вновь вскочил в седло и тронул коня.
Он не поехал прямо к крепости — ведь тогда его слишком быстро обнаружили бы. Тропа, проложенная в зарослях, могла вывести его на главную дорогу, которая, в свою очередь, вела к воротам крепости; по этой самой тропе он и поехал. Антонио проводил его до самой опушки, потом вернулся к остальным.
Выехав на дорогу, Карлос пустил коня галопом и смело поскакал к широким воротам крепости. Пес Бизон бежал следом, не отставая.
Глава 33
— Клянусь святой девой, это он! — удивленно и тревожно воскликнул Робладо. — Он и есть! Верное слово!
— Я так и знал, так и знал! — взвизгнул Вискарра. — Это он был на утесе, мне не померещилось!
— Откуда же он взялся? Ради всех святых, откуда этот малый…
— Робладо, я должен уйти! Я пойду вниз. Я не хочу встречаться с ним. Я не могу!
— Ну, полковник, пусть уж лучше он поговорит с вами. Он ведь уже видел вас и узнал. Если вы начнете избегать его, это только вызовет подозрения. Он, наверно, будет просить, чтобы мы помогли ему в погоне за индейцами, — ручаюсь, что он только за этим и пришел!
— Вы так думаете? — спросил Вискарра, немного успокоенный этим предположением.
— Не сомневаюсь! Зачем же еще! Правду он подозревать не может. Он ведь не колдун, как его мать! Никуда не уходите, и давайте послушаем, что он скажет. Разумеется, вы можете говорить с ним отсюда, с асотеи, а он пускай остается внизу. Если он начнет вести себя дерзко, — помните, он ведь уже дерзил нам обоим, — мы его арестуем и подержим часок-другой в каталажке, чтобы он немного поостыл. Надеюсь, он даст нам для этого повод. Я ведь не забыл его наглой выходки тогда, на празднике.
— Вы правы, Робладо, я останусь и выслушаю его. Так будет лучше. Я думаю, это рассеет подозрения. И потом, вы правы: он и не может ничего подозревать.
— Напротив, он сейчас попросит вас о помощи, и вы ему поможете — и совсем собьете его со следа. Он еще станет вашим другом! — И Робладо расхохотался.
Это звучало правдоподобно, и очень понравилось Вискарре. Он тотчас решился последовать совету капитана.
Этот торопливый разговор занял всего несколько минут — с того мгновения, как они впервые увидели всадника, и до тех пор, пока он не скрылся под сенью крепости.
Последние двести ярдов он ехал медленно и с почтительным видом, словно опасаясь, как бы не сочли дерзостью, если на пороге этого оплота власти он выставит напоказ свое искусство наездника. На красивом лице его можно было увидеть следы горя, но ничто в нем не выдавало того чувства, которое сейчас было всего сильнее в его сердце.
Подъезжая к крепости, он снял сомбреро и почтительно поклонился офицерам, чьи головы и плечи виднелись над парапетом; а в десятке шагов от крепостной стены придержал коня, снова снял шляпу и ждал, пока с ним заговорят.
— Что вам нужно? — спросил Робладо.
— Кабальеро, я хотел бы поговорить с комендантом.
Это было сказано тоном человека, который хочет попросить о чем-то. Тон этот успокоил и Вискарру и второго, более наглого негодяя, который, хоть и уверял начальника в противном, не так уж был убежден, что охотник приехал с мирными намерениями. Однако теперь он не сомневался, что первая его догадка верна: Карлос приехал просить их о помощи.
— Это я! — отозвался Вискарра, который совсем оправился от испуга. — Я комендант. Что вы хотели мне сказать, приятель?
— Ваше превосходительство, я пришел с просьбой. — И охотник смиренно поклонился.
— Говорил я вам! — шепнул начальнику Робладо. — Все в порядке, полковник!
— Что ж, мой друг, — сказал Вискарра своим обычным надменно-снисходительным тоном, — послушаем вас. Если ваша просьба разумна…
— Ваше превосходительство, я прошу о большой милости, но, надеюсь, ничего неразумного в этом нет. Я уверен, если только это не помешает вашим многочисленным обязанностям, вы не откажете мне. Ведь все знают, как много времени и хлопот вы уже отдали этому делу.
— Говорил я вам! — снова пробормотал Робладо.
— Ну, ну, выкладывайте! — подбодрил просителя Вискарра. Я ведь не могу ответить, пока не услышу, о чем вы просите.
— Дело вот в чем, ваше превосходительство. Я только бедный охотник на бизонов…
— А, вы Карлос, охотник на бизонов! Знаю, знаю.
— Да, ваше превосходительство, мы встречались… в день святого Иоанна.
— Как же, как же! Припоминаю. Вы отличный наездник.
— Вы оказываете мне много чести, ваше превосходительство. Но мое уменье мне сейчас не поможет. Большое несчастье постигло меня…
— Что такое случилось? Выкладывайте!
И Вискарра и Робладо догадывались, о чем попросит охотник. Им хотелось, чтобы эту просьбу слышали солдаты, слонявшиеся без дела у ворот, поэтому сами они говорили громко, желая, чтобы и проситель повысил голос.
И Карлос тоже отвечал громко — не затем, чтобы доставить удовольствие собеседникам, нет, у него были на то свои причины. Он тоже хотел, чтобы солдаты, а главное, часовой у ворот слышали его разговор с офицерами.
— Так вот, ваше превосходительство, — продолжал он, — я живу в бедном ранчо, на самом краю поселения, со старухой-матерью и сестрой. Прошлой ночью на них напали индейцы. Мою мать ударили так, что она упала замертво, дом подожгли, а сестру увезли с собой!
— Я слышал об этом, мой друг. Больше того, я сам пустился в погоню за дикарями.
— Знаю, ваше превосходительство. Я в это время был в прерии и вернулся только сегодня ночью. Я слышал, что вы, ваше превосходительство, немедля погнались за дикарями и очень благодарен вам.
— Не стоит благодарности, я только исполнял свой долг. Я сожалею о том, что случилось, и сочувствую вам. Но негодяи успели удрать, и сейчас нет надежды воздать им по заслугам. Может быть, позже, когда здешний гарнизон будет усилен. Тогда я мог бы сам устроить набег на индейцев, и, может быть, мы отыскали бы вашу сестру.
Охотнику вполне удалось своей почтительностью провести Вискарру — комендант вновь обрел свою самоуверенность и хладнокровие, и всякий, кто знал о случившемся не больше, чем можно было уловить из их беседы, наверняка обманулся бы, слушая его. Он прекрасно притворялся — ни речь, ни осанка не выдавали его. Но от зорких глаз Карлоса, знавшего всю правду, не укрылась дрожь губ, как ни мало она была заметна; он заметил и неуверенный взгляд Вискарры и каждую малейшую запинку в его речи.
Да, Карлос обманул его, но он-то не мог обмануть Карлоса.
— О чем же вы хотели просить? — осведомился Вискарра, посулив Карлосу так много в будущем.
— Вот о чем, ваше превосходительство: позвольте вашим солдатам еще раз пойти по следу грабителей — под вашей ли командой, чему я был бы очень рад, или под командой кого-нибудь из ваших храбрых офицеров… (При этих словах Робладо почувствовал себя польщенным.) Я буду проводником, ваше превосходительство. На двести миль кругом нет такого места, которого я не знал бы так же хорошо, как эту долину. И хоть мне самому не пристало говорить об этом, но поверьте, ваше превосходительство, я могу пойти по следу индейцев не хуже любого охотника на Равнине. Только пошлите солдат, ваше превосходительство, и обещаю вам — я приведу их к грабителям или покрою себя позором! Я не потеряю их след, к у д а б ы о н н и п р и в е л!
— О, вот как! — сказал Вискарра, многозначительно переглядываясь с Робладо.
Обоим явно стало не по себе.
— Да, ваше превосходительство, по следам я везде пройду.
— Ну, это невозможно, — возразил Робладо. — Ведь это было два дня назад. И потом, мы-то уже раз прошли по этим следам, переправились через Пекос и убедились, что к тому времени разбойники были вне пределов досягаемости. Так что это будет совершенно бесполезная попытка.
— Кабальерос! — снова обратился к обоим Карлос. — Уверяю вас, что я могу найти разбойников. Они не так уж далеко отсюда.
Комендант и капитан вздрогнули и заметно побледнели. Охотник, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания.
— Чепуха, приятель! — с запинкой выговорил Робладо. Они… да они теперь за сотни миль, никак не меньше… где-нибудь там, на Льяно Эстакадо, или в горах.
— Простите, капитан, что я не соглашаюсь с вами, но я уверен… я знаю, что это за индейцы, знаю, из какого они племени.
— Из какого племени? — разом переспросили офицеры; лица обоих были серьезны, в голосах слышалась дрожь. — Как — из какого племени? Разве это были не юты?
— Нет, — ответил охотник, который прекрасно видел смятение своих собеседников.
— А кто же?
— Я уверен, что это не юты, — сказал Карлос. — Это, наверно, хикариллы. Они — мои заклятые враги.
— Вполне возможно! — разом согласились офицеры с явным облегчением.
— Вполне возможно! — повторил Робладо. — По описаниям очевидцев можно было думать, что это юты. Но, возможно, люди ошибались. Все были так напуганы, что ничего толком не могли рассказать. И потом, ведь индейцы показывались только по ночам.
— А почему вы думаете, что это были хикариллы? — спросил комендант, которому снова стало легче дышать.
— Отчасти потому, что их было так мало, — ответил Карлос. — Будь это юты…
— Но их было совсем не так мало. Пастухи донесли о большой шайке. Они угнали огромное стадо. Если бы это был не сильный отряд, они не посмели бы явиться в долину, это ясно.
— Я уверен, что их было немного, ваше превосходительство. Довольно эскадрона ваших храбрых солдат, чтобы захватить и грабителей и добычу.
Услыхав такие слова, малорослые уланы, слонявшиеся поблизости, выпрямились и расправили плечи, чтобы казаться повыше.
— Если только это были хикариллы, — продолжал Карлос, мне и по следу незачем идти. Они не пошли на Равнину. Если они двинулись в ту сторону, так только затем, чтобы запутать вас, когда вы погнались за ними. Я знаю, где они сейчас: в горах.
— В горах, по-вашему? Вот как!
— Да, я в этом уверен. И не дальше, чем за пятьдесят миль отсюда. Только пошлите солдат, ваше превосходительство, и я приведу их прямо туда, куда надо. Для этого незачем идти той дорогой, по которой грабители выехали из долины, — я уверен, что это ложный след.
Комендант и Робладо отошли от парапета и несколько минут совещались вполголоса.
— Это будет неплохо выглядеть, — говорил капитан. — В сущности, вам только того и надо. Козыри сами идут вам в руки. Вы посылаете солдат по просьбе этого парня, а кто он тут такой? Ничтожество! Вы оказываете ему услугу, а заодно и себе. Ручаюсь вам, это будет прекрасно выглядеть.
— Но он будет проводником!
— И пусть его! Еще лучше: все останутся довольны. Он, конечно, не разыщет своих хикариллов… Где там! Но почему бы не потешить дурака?
— Но представьте, вдруг он нападет на наши с вами следы? На след стада!
— Он не пойдет в ту сторону. И потом, мы ведь не обязаны идти за ним, куда ему вздумается. Но он сказал, что не пойдет туда, что не намерен идти по следу. Он знает, где там, в горах, гнездо этих хикариллов… Что ж, очень может быть. Разгромить их — это даже лестно. Вывесим над воротами парочку скальпов это будет недурно выглядеть. Таких украшений еще не прибавилось за все время, что мы с вами тут сидим. Ну, что скажете? В конце концов, это просто небольшая прогулка — пятьдесят миль верхом.
— Что ж, вообще я не возражаю. Это и правда будет выглядеть недурно… Но сам я не могу поехать. Не хочу близко подходить к этому малому ни на этой прогулке, ни где-либо еще… Вы, наверно, понимаете, какое у меня чувство? — И комендант выразительно посмотрел на Робладо.
— Да, да… конечно… — ответил тот.
— Солдат поведите вы, а если вам не хочется, пошлите Гарсию или сержанта.
— Я поеду сам, — сказал Робладо. — Так будет вернее. Если охотнику вздумается пойти по каким-нибудь неподходящим следам, я уведу его в другую сторону или просто не соглашусь… Да, лучше мне поехать самому. Черт возьми, и я буду очень рад схватиться с этими краснокожими! Надеюсь привезти вам скальпы! — захохотал Робладо.
— Когда вы думаете выступить? — спросил полковник.
— Сейчас же. Чем скорее, тем лучше. Так всем будет приятнее, и это докажет, что мы исполнены энергии и патриотизма! — И он опять расхохотался. — Вы отдайте приказания сержанту, а я пойду обрадую нашего охотника.
Робладо поспешно спустился с асотеи, и через минуту заиграл горнист. Звук трубы возвестил: «По коням!»
Глава 34
Все время, пока происходил этот разговор, охотник неподвижно сидел в седле там, где он впервые остановил коня. Офицеров он больше не видел: они отошли от края асотеи, и теперь парапет скрывал их. Но Карлос догадывался, о чем они совещаются, и терпеливо ждал.
В воротах собралось уже три или четыре десятка солдат, все они с любопытством разглядывали коня и всадника; но раздался хорошо знакомый звук трубы, и они бросились к конюшням; у ворот остался только часовой. Он, как и все солдаты, слышал разговор охотника с офицерами и догадывался, что трубач трубил недаром. Карлос был уверен, что его просьбу исполнят, хотя комендант еще не сказал ему этого.
До последней минуты он не составил определенного плана действий. Да и как мог он все обдумать, когда так много зависело от случая?
Лишь одно было ему ясно: он должен застать Вискарру одного. Хотя бы только на минуту — и этого довольно.
Он чувствовал: просить, умолять бесполезно — это будет пустой тратой времени и кончится поражением и смертью. Для мести довольно одной минуты. А мысль о том, что сестра его погибла, не оставляла Карлоса, и он жаждал мести. Что будет дальше — об этом он не думал. Если придется бежать — что ж, тут он полагается на случай и на самого себя: сил и находчивости у него хватит.
Итак, до этой минуты у него не было никакого определенного плана. Но вдруг ему пришло в голову, что комендант может сам повести отряд, выходящий на поиски. Если так, сейчас он ничего не станет предпринимать. Он будет в роли проводника и ему представится полная возможность не только уничтожить врага, но и ускользнуть. Пусть только они выйдут на дикую, неизведанную равнину — там ему не страшны никакие уланы, будь их хоть вдесятеро больше. Никогда им не догнать его на его верном скакуне.
Солдаты собираются в поход — это он понял по сигналу трубы. Пойдет ли с ними Вискарра? — вот вопрос, который все больше тревожил Карлоса, пока он неподвижно сидел на своем коне, с нетерпением глядя вверх, на парапет.
И вот над краем стены снова появилось ненавистное лицо. На сей раз комендант выглянул, чтобы сообщить, как он воображал, радостную весть жалкому просителю. И он сообщил ее напыщено и важно, уверенный, что оказывает охотнику величайшую милость.
Лицо Карлоса осветилось радостью, но не от известия, которое он услышал, хотя именно так подумал Вискарра, — нет: Карлоса обрадовало, что комендант, как видно, остался один на асотее. Робладо рядом не было.
— Вы необыкновенно добры, ваше превосходительство, что оказываете такую милость ничтожному бедняку. Уж и не знаю, как вас благодарить!
— Не стоит благодарности, не стоит. Офицеру его католического величества не нужна благодарность, когда он исполняет свой долг.
При этих словах комендант гордо и достоинством помахал рукой и, казалось, готов был удалиться. Карлос остановил его вопросом:
— И я буду иметь честь служить проводником вашему превосходительству?
— Нет, сам я не пойду с этой экспедицией, ее возглавит мой лучший офицер, капитан Робладо. Он сейчас готовится выступить. Подождите его.
И, круто повернувшись, Вискарра возобновил свою прогулку по асотее. Без сомнения, ему было не по себе от этого разговора с глазу на глаз, и он рад был распрощаться с охотником. Не стоит задаваться вопросом, почему он соизволил дать все эти объяснения, но Карлосу только и надо было знать то, что он узнал.
Он увидел, что время настало, нельзя терять ни минуты, и мгновенно решил действовать.
До сих пор он неподвижно сидел в седле. Ружье он держал, уперев прикладом в стремя, дуло прижав к плечу, так что его не заметила ни одна душа. Высокие сапоги на ногах Карлоса и серапе, наброшенное на его плечи, полностью скрывали ружье. Ускользнул от посторонних взглядов и острый охотничий нож, висевший у левого бедра Карлоса и скрытый под серапе. Это и было все его оружие.
То недолгое время, когда комендант и Робладо совещались, Карлос не потерял даром, это было лишь кажущееся бездействие. Он тщательно осмотрел стены. Он увидел, что из самых ворот каменные ступени в массивной стене ведут вверх, на асотею. Эта лестница предназначалась для солдат, когда по долгу службы им надо было подняться на крышу крепости. Но Карлос знал, что есть еще и другая лестница, для офицеров. И хоть он никогда прежде не бывал в крепости, он правильно заключил, что она должна находиться в смежной части здания. Он заметил также, что в воротах стоит только один часовой и что каменная скамья в глубине ворот — обычное место отдыха караульных — сейчас пуста.
Значит, караульные либо внутри, в здании, либо разошлись по казармам. Надо сказать, что дисциплина в крепости была плохая. Вискарра, хотя сам щеголеватый и подтянутый, не много спрашивал с солдат. Он был слишком занят собственными удовольствиями, чтобы заботиться о чем-либо еще.
Все это наблюдательный охотник обнаружил еще прежде, чем Вискарра вторично подошел к парапету и сообщил ему о своем намерении послать солдат. И едва он опять скрылся из виду, Карлос принялся за дело.
Он неожиданно спешился и оставил коня на том же месте, где остановил его с самого начала. Он не привязал вороного ни к поперечине, ни к столбу, а лишь закинул поводья за луку седла. Он знал, что превосходно обученный скакун будет спокойно ждать его.
Ружье он все еще держал под плащом, хотя приклад, плотно прижатый к ноге, теперь был заметен постороннему взгляду. Придерживая его, Карлос направился к воротам.
Одно беспокоило Карлоса — пропустит ли его часовой? Если нет, часовой должен умереть!
Решение мгновенно принято, и, подходя к воротам, охотник под плащом берется за рукоять ножа.
К счастью для Карлоса, да и для самого часового, попытка оказалась успешной: охотник без особых затруднений миновал ворота. Часовой, неуклюжий и ленивый парень, слышал недавний разговор и теперь не заподозрил ничего дурного. Правда, он все-таки остановил было Карлоса, но тот поспешно ответил, что ему надо кое-что сказать коменданту, который велел ему подняться на асотею. Часовой остался не вполне удовлетворен этим ответом и не очень охотно, но все же дал Карлосу пройти.
Карлос тотчас бросился к лестнице и скользнул наверх. Легко и бесшумно, как кошка, поднялся он по каменным ступеням, и, когда вышел на асотею, Вискарра, стоявший в каких-нибудь пяти-шести шагах от лестницы, не подозревал, что он здесь больше не один.
Да, это был он, Вискарра, деспот, грабитель, насильник, погубивший сестру Карлоса, похитивший ее честь. Вот он стоит в нескольких шагах от брата-мстителя, в шести футах от дула ружья, и все еще не знает о том, что ему грозит. Он отвернулся и смотрит в другую сторону, он не видит опасности.
Охотник лишь на мгновение скользнул по нему взглядом, затем обвел глазами стены, чтобы удостовериться, что наверху никого нет. Он знал, что на обеих башнях стоит по часовому, но не увидел их: они занимали посты на внешних стенах и не были видны с того места, где стоял Карлос. И больше на крыше никого, ни души. Только враг был здесь, и взгляд Карлоса вновь остановился на нем.
Карлос мог выстрелить Вискарре в спину и уже готов был это сделать, но тотчас передумал. Он пришел убить этого человека, но не так. Даже и осторожность подсказывала другой путь. Нож молчалив, он скорее даст мстителю возможность ускользнуть, когда дело будет сделано.
Подумав так, Карлос осторожно опустил приклад ружья наземь и прислонил дуло к парапету. Железо чуть слышно звякнуло о камень. Как ни слаб был этот звук, комендант услышал его, резко обернулся и вздрогнул, увидев незваного гостя.
Он попытался сделать вид, что возмущен, но заметил новое выражение, от которого за эти минуты неузнаваемо изменилось лицо охотника, и тотчас гнев уступил место страху.
— Как вы посмели явиться без спроса, сударь? — начал он. Как вы…
— Потише, полковник! Потише, вас могут услышать!
Это было сказано негромко, сухо и решительно, тоном приказа, и подлый трус, к которому обращены были эти слова, испугался. Отчаянную и непоколебимую решимость увидел он в лице, во всем облике стоявшего перед ним человека, и это лицо ясно говорило ему: «Попробуй ослушаться — и ты умрешь!»
Выражение это подкреплялось сверкающим лезвием длинного ножа, рукоять которого уверенно сжимала рука охотника.
Вискарра весь побелел от страха. Теперь он понял, что все это значило. Просьба о посылке солдат была только предлогом, чтобы добраться до него, Вискарры. Охотник выследил его, узнал, что это он во всем виноват, и теперь явился потребовать удовлетворения или отомстить за сестру. Все ужасы ночного кошмара вновь обступили Вискарру, мешаясь с ужасом, который предстал перед ним наяву.
Он не знал, что делать, да и не в силах был говорить. Он отчаянно озирался, в тщетной надежде на помощь откуда-то со стороны. Но кругом — ни души, только серые стены, а перед ним сумрачное лицо грозившего врага. Позвать бы на помощь, но это лицо, угрожающая поза… Вискарра понял, что, если крикнет, этот крик будет последним в его жизни. Наконец, задыхаясь, он выговорил:
— Что вам нужно?
— Мою сестру!
— Вашу сестру?
— Да.
— Карлос, я не знаю… Ее здесь нет… Я…
— Лжете! Она здесь, в крепости. Смотрите: пес воет там, под дверью. Почему бы это?
И Карлос показал на дверь нижнего этажа, перед которой в эту минуту вертелся и скулил Бизон, всем своим видом показывая, что он хочет войти. Солдат пытался отогнать его.
Вискарра поглядел в ту сторону. Он увидел собаку, увидел и солдата, но не посмел его окликнуть. Острое лезвие сверкало перед ним. Охотник повторил тот же вопрос:
— Почему бы это?
— Я… я не знаю…
— Опять лжете! Она вошла в эту дверь. Где она сейчас? Отвечайте! Скорее!
— Говорю вам, не знаю. Поверьте…
— Лживый негодяй! Она здесь! Я выследил тебя, я прошел всюду, где шли вы… Не помогли вам ваши хитрости. Солги еще раз — и этот нож будет у тебя в сердце! Она здесь! Где она? Где? Отвечай!
— Нет, не убивайте меня, я все скажу! Она здесь… Она… Клянусь, я не сделал ей ничего плохого! Клянусь, я не…
— Ладно, мерзавец! Стань сюда… сюда, к стене! Живее!
Охотник указал место, откуда видна была часть патио внутреннего двора. Комендант тотчас повиновался, понимая, что иначе его ждет верная смерть.
— Прикажи, чтобы ее привели сюда. Ты знаешь, кто ее стережет. Веди себя смирно, слышишь? Попробуй только подать знак своим холопам! Одно слово, одно движение — и я проткну тебя ножом! Ну?!
— О Господи, Господи!.. Это погубит меня… Все узнают… Я погиб, погиб!.. Умоляю вас, сжальтесь, подождите немного! Она вернется к вам, клянусь! Сегодня же ночью!..
— Сейчас же, негодяй! Живо, действуй! Зови того, кто знает, где она. Пусть ее приведут! Быстрее, не испытывай мое терпение! Еще минута…
— Боже правый! Не убивайте меня!.. Одну минуту… постойте… Ага!
Последний возглас прозвучал совсем по-другому. Это был крик радости, торжества.
Комендант все еще стоял лицом к лестнице, по которой поднялся Карлос, сам же охотник не смотрел в ту сторону, а потому не заметил, что еще один человек поднялся на асотею… И вдруг чья-то сильная рука стиснула его угрожающе поднятую руку. Он вырвал руку, круто повернулся — перед ним стоял офицер. Он узнал лейтенанта Гарсию.
— С вами я не в ссоре! — крикнул охотник. — Не вмешивайтесь!
Лейтенант, не отвечая, выхватил пистолет и хотел выстрелить ему в лицо. Карлос кинулся на него.
Грянул выстрел, на секунду дым окутал и Гарсию и охотника. И Вискарра услышал, как кто-то тяжело упал на асотею. Еще миг и среди дыма появился второй, тот, кто остался невредим.
Это был охотник на бизонов, и с ножа, который он сжимал в руке, капала кровь.
Он кинулся к тому месту, где прежде стоял комендант, но никого там не нашел: Вискарра уже бежал по асотее ко второй лестнице.
Карлос тотчас же увидел, что здесь, на асотее, не догонит его — Вискарра успеет спуститься по лестнице. А бежать за ним вниз — безумие: ведь выстрел, конечно, уже переполошил всех.
Отчаяние охватило Карлоса, но лишь на миг. Сейчас же его осенила блестящая мысль — он вспомнил о своем ружье. Пожалуй, комендант еще не ушел от него!
Он схватил ружье и, отскочив в сторону, чтобы не мешал еще не рассеявшийся дым, прицелился.
Вискарра уже добежал до лестницы и начал спускаться. Только голова и плечи его виднелись над краем стены, когда что-то заставило его остановиться и оглянуться. Трус почти оправился от испуга — ведь помощь была уже совсем близко, — и он оглянулся из любопытства, чтобы посмотреть, чем закончилась схватка между охотником и Гарсией. Он хотел остановиться лишь на мгновение, но едва он повернул голову, раздался выстрел меткая пуля настигла его, и он покатился вниз по ступеням.
Охотник видел, что пуля попала в цель, он видел к тому же, что и другой офицер мертв, слышал яростные крики внизу, и понял, что, если не убежит, не медля ни секунды, его окружат и пронзят сотней пик.
Первая его мысль была — спуститься по той лестнице, по которой он сюда пришел. Вторая ведет во внутренний двор, а там уже полно солдат.
Он перескочил через тело лейтенанта и кинулся к лестнице.
По ней уже поднимались вооруженные люди. Путь был отрезан!
Опять он перешагнул через убитого, побежал по асотее, вскочил на парапет наружной стены и заглянул вниз.
Страшно было прыгнуть с такой высоты, но на что еще мог он надеяться? Несколько улан уже выбежали на крышу и кинулись к нему, наставив пики, другие стреляли из карабинов; пули засвистели вокруг. Раздумывать было некогда. Взгляд Карлоса упал на вороного; славный конь стоял, гордо изогнув шею, покусывая удила. «Слава Богу, он еще жив!»
Вид четвероногого друга придал Карлосу силы. Прыжок — и вот он уже на земле, у подножия стены, целый и невредимый.
Пронзительным свистом он подозвал коня, вскочил в седло и через минуту уже скакал по долине.
Пули засвистели вслед, уланы торопились в погоню. Но прежде чем они сели на коней и выехали за ворота, Карлос достиг опушки зарослей и скрылся из глаз; густая листва кустарника сомкнулась позади него.
Отряд улан под предводительством Робладо и Гомеса скакал следом за Карлосом. Но когда они приблизились к зарослям, к величайшему их изумлению, над кустами появилось десятка два голов, и дикий воинственный клич раздался им навстречу.
— Индейцы! Дикари! — закричали уланы, сдерживая коней, которые в панике поворачивали назад.
Приказано было остановиться и ждать подкрепления. Весь гарнизон подняли на ноги, чащу окружили и наконец решились войти в нее. Но индейцев обнаружить не удалось, хотя следы их лошадей и разбегались по чаще во всех направлениях.
Потратив несколько часов на не слишком решительные поиски, Робладо с уланами вернулся в крепость.
Глава 35
Гарсия был мертв. Вискарра не умер, хотя, когда его подобрали, могло показаться, будто ему недолго осталось жить, и по всему было видно, что он безмерно боится умереть. Лицо его было залито кровью, и на щеке остался кровавый след пули. Но он был жив и все время стонал и бормотал что-то. Внятно говорить он не мог — пуля, пронзившая щеку, выбила у него несколько зубов.
Он был ранен в лицо, и только. Ни малейшая опасность не грозила ему. Однако городской врач, молодой и не слишком опытный, не сразу мог успокоить своего пациента, и несколько часов кряду Вискарра оставался отнюдь не в блаженном неведении насчет своей судьбы. Военный доктор умер незадолго перед тем, и на смену ему в гарнизон еще не прислали другого.
Величайшее волнение царило весь этот день в крепости, да и в городе, конечно, тоже. Весь Сан-Ильдефонсо всколыхнули поразительные вести; точно степной пожар, пронеслись они по всей долине.
Рассказывали о случившемся по-разному. Одни говорили, что все поселение окружили дикари, которых ведет Карлос, охотник на бизонов; что дикарей, должно быть, видимо-невидимо — ведь они открыто напали на крепость, — но все же после ожесточенной схватки, в которой было немало убитых с обеих сторон, храбрые солдаты отразили нападение; офицеры все перебиты, в том числе и комендант, и в эту ночь надо ждать нового нападения — скорее всего, на город. Так говорили одни.
Но распространился и другой слух: будто восстали мирные индейцы, и это их, а не диких воинов, ведет Карлос, охотник на бизонов. Это они безуспешно пытались напасть на крепость, но опять-таки храбрые солдаты отогнали их, причем обе стороны понесли большой урон, и в том числе погибли комендант и его офицеры; и все это лишь первая вспышка грандиозного заговора, в котором принимают участие все тагносы Сан-Ильдефонсо, и, вне всякого сомнения, сегодня ночью они снова нападут!
Тем, кто задумывался на этими слухами, они казались непонятными. Чего ради воинственные индейцы атаковали крепость, вместо того, чтобы двинуться на почти беззащитный город или на богатые асиенды? И почему вдруг их предводителем оказался охотник Карлос? Почему именно он — он, которому дикари принесли столько несчастий? Кто же в Сан-Ильдефонсо не знал, что они похитили сестру Карлоса! Чтобы он возглавил нашествие индейцев — нет, это казалось слишком невероятным!
Ну, а заговор, восстание? Но ведь мирные индейцы повсюду спокойно работают на полях, и те, что служат в миссии, тоже заняты своими обычными делами. И если судить по вестям из рудников, там тоже не заметно никаких признаков заговора. Из двух распространившихся в долине слухов слух о восстании тагносов с охотником во главе казался наиболее правдоподобным. Все знали, что тагносы отнюдь не были довольны своей судьбой. Но сейчас ничто не указывало на такое восстание. Все тагносы заняты были своей повседневной работой. Кто же тогда мятежники? Итак, слухи казались совершенно невероятными.
Вскоре добрая половина горожан собралась перед крепостью; и после того, как из уст в уста были переданы самые разнородные версии, стало наконец известно, что же произошло на самом деле.
Но и подлинные события были не менее загадочны и непонятны, чем слухи. Какая у охотника могла быть причина напасть на офицеров гарнизона? Кто были индейцы, его спутники? Воинственные или мирные? Дикари или повстанцы?
Всего любопытнее, что и сами солдаты, принимавшие участие в воображаемой «битве», не могли ответить на эти вопросы. Одни говорили одно, другие — другое.
Многие слышали разговор Карлоса с офицерами, но, сам по себе вполне естественный, в сочетании со всеми последующими событиями этот разговор лишь окончательно запутывал и без того загадочное дело. Солдаты ничего не могли объяснить, и горожане, отправившись по домам, продолжали спорить и обсуждать эту таинственную историю. Высказывались самые разнообразные догадки. Некоторые думали, что охотник здесь только затем, чтобы от чистого сердца просить о помощи против индейцев, а с ними были просто несколько тагносов, которых он тоже звал в погоню. Комендант же сперва пообещал помочь ему, а потом отказался от своих слов, и этим вызвано было странное поведение охотника.
Было и другое предположение, собравшее больше сторонников: что охотник наметил своей жертвой капитана Робладо. Всему причиной ревность. Ведь все знали, как под конец повел себя Карлос в день праздника, и немало смеялись над ним. Ну, а когда ему не удалось напасть на Робладо, он поспорил с комендантом… и так далее.
Эта догадка, хоть и не слишком похожая на правду, была подхвачена многими, так как неизвестно было, чем же на самом деле объяснялось поведение охотника. Только четыре человека в стенах крепости да трое вне ее знали настоящую причину. Все остальные о ней и не подозревали.
И все сходились в одном — единодушно осуждали Карлоса. Петля еще слишком хороша для него, и уж когда его схватят, он получит по заслугам! Всех возмущала его безграничная неблагодарность. Ведь только днем раньше эти самые офицеры со своими храбрыми солдатами оказали ему такую услугу, погнавшись за индейцами! Должно быть, он просто сошел с ума. Наверно, старуха-мать околдовала его.
Убить лейтенанта Гарсию! Всеобщего любимца! Проклятие!
Это была правда: лейтенанта любили все жители долины, быть может, не за какие-либо добродетели, а просто за то, что он совсем не походил на других офицеров. Он был приветлив, никому не приносил вреда, и все уважали его.
В этот вечер во всем Сан-Ильдефонсо у охотника не было ни единого друга. Впрочем, нет. Один друг у него был. Одно сердце было полно такой же любви к нему, как и прежде, — сердце Каталины, но и она не понимала, почему он вел себя так странно.
Но каковы бы ни были причины, она знала: Карлос не может быть неправ. Что ей вся клевета, все насмешки, которыми его осыпают! Что ей за дело, если он и убил человека! Он не сделал бы этого без серьезных оснований. Должно быть, ему нанесли какое-нибудь ужасное оскорбление. Каталина глубоко верила в это. Зная благородную душу Карлоса, она не могла думать иначе. Он — господин и повелитель ее сердца — не мог совершить ничего дурного.
Весть о случившемся едва не разбила сердце Каталины. Она означала разлуку — надолго, быть может, навсегда! Теперь Карлос не осмелится больше показаться в городе и вообще в Сан-Ильдефонсо. Его изгонят в прерии, будут преследовать, точно волка или свирепого бизона, быть может, схватят и убьют!.. Горьки были ее мысли. Когда теперь она увидит его? Быть может, никогда!
Глава 36
Тем временем Вискарра лежал на своем ложе и стонал не столько от боли, сколько от страха за свою жизнь.
Если бы не это, он был бы вне себя от ярости, но страх смерти вытеснил все остальные чувства.
Впрочем, если бы он был уверен в своем выздоровлении, он все равно не знал бы покоя. Его воображение было расстроено страшным сном и всем тем, что произошло после. Хотя его окружали солдаты, он все равно боялся охотника на бизонов: ему казалось, что Карлос может сделать все, что захочет, и потом уйдет безнаказанно. Даже в собственной комнате, со стражей у двери, Вискарра не чувствовал себя в безопасности — рука мстителя может настигнуть его и здесь.
Теперь он, больше чем когда-либо, хотел избавиться от нее — от той, которая была всему причиной, но он понимал, что дело это деликатное и осуществить его теперь труднее, чем когда-либо. Неизбежно узнают, почему Карлос так безрассудно покушался на его жизнь, слух об этом дойдет до высокого начальства, прикажут произвести расследование, а это его погубит, если только ему не удастся оградить себя от подозрений.
Так думал Вискарра, надеясь выздороветь; когда же он начинал сомневаться в этом, мысли его становились еще мрачнее.
Он с нетерпением ждал прихода Робладо, который намекал ему на какую-то возможность все уладить. Воинственный капитан все еще обыскивал заросли. Но вот появился Гомес и доложил, что тот решил оставить поиски и возвращается в крепость.
Для Робладо же события этого дня были, напротив, скорее приятны; наблюдая за ним, всякий мог бы убедиться в этом. Что действительно огорчило его, так это рана коменданта: ведь она была не смертельна! Робладо был опытнее врача и прекрасно это знал. Они с Вискаррой были не столько друзьями, сколько сообщниками, — их связывало соучастие в преступлениях, — и любой из них без сожаления порвал бы эту дружбу в ту самую минуту, когда оказалось бы, что порвать ее выгодно. Дружба эта не помешала Робладо от всей души сожалеть, что пуля не попала в его «друга» чуть повыше или чуть пониже — в голову или в горло. Сожаление объяснялось не злобой или ненавистью к коменданту, а попросту тем, что, случись это, он мог бы извлечь выгоду для себя. Робладо давно мечтал подняться выше по служебной лестнице. Он не отличался скромностью и лелеял надежду, что в один прекрасный день станет начальником крепости. Умри Вискарра — и он тут же получит его пост. Но Вискарре не суждено было умереть сейчас, и мысль об этом несколько омрачала радость Робладо.
Да, он радовался. Ведь он и Гарсия были врагами. Они с давних пор невзлюбили друг друга, завидовали друг другу, вот почему Робладо ничуть не жалел о смерти лейтенанта. Но сегодняшняя драма давала еще один повод для радости, повод самый существенный, больше всего отвечавший желаниям и надеждам Робладо.
Хотя попытки охотника на бизонов завоевать благосклонность Каталины казались попросту нелепыми, все, что за последнее время узнал Робладо, пробудило в нем ревность. Мало того, он был сильно встревожен. Странная девушка эта Каталина де Крусес, она не раз проявляла редкостную твердость характера — такую не купишь и не продашь, как тюк товара. В последнее врем она дала им — отцу и Робладо — хороший урок. Она топнула ножкой и пригрозила, что уйдет в монастырь, в могилу, если ее станут неволить. Она не отказала Робладо, то есть не отказала прямо, но она настаивала на отсрочке, на праве дать ответ, когда надумает сама, и дону Амбросио пришлось согласиться.
Неудивительно, что капитана одолевало беспокойство. Не то чтобы он ревновал ее, хотя по-своему он ее любил, и его самолюбие было уязвлено при мысли о таком сопернике, но он опасался решительного характера Каталины и боялся, что от него ускользнет ее великолепное приданое. Такая женщина пойдет на любое безумство. Она может и впрямь уйти в монастырь, а то и на Равнины с этим ничтожеством, с этим охотником на бизонов. Такая женщина вполне способна на подобный шаг, это очень на нее похоже. Правда, в любом случае она не сможет захватить с собой свое состояние, но не все ли равно? Ведь ему-то, Робладо, оно тогда не достанется.
Ну, а теперь нечего больше опасаться охотника на бизонов: после случившегося он капитану уже не соперник. Жизнь его под угрозой. Он не только не сможет встретиться с Каталиной, он не отважится даже показаться в поселении. За этим будут неусыпно следить. И Робладо радовался при мысли о том, как он будет преследовать своего соперника, поймает его и расправится с ним.
Так думал бессердечный капитан — вот почему ему доставили удовольствие события этого дня.
Обшарив заросли и проследив за предполагаемыми индейцами до самого плоскогорья, он возвратился со своими уланами в крепость, чтобы подготовиться к более длительной погоне за беглецом.
Глава 37
Приход Робладо успокоил Вискарру, которого терзали бессильная злоба и страх смерти.
Разумеется, разговор шел о последнем событии — Робладо рассказал о погоне.
— И вы действительно думаете, что с этим охотником был отряд дикарей? — спросил комендант.
— Нет, — ответил Робладо. — Сперва я так думал, вернее солдаты так думали, и их доклады меня ввели в заблуждение. А теперь я уверен, что это были не индейские воины, а его друзья тагносы. Выходит, отец Хоакин был прав — у охотника на бизонов подозрительные знакомства. Мы давно уже могли арестовать его, это был вполне подходящий повод. Ну, а теперь нам и повода не надо. Он наш, если только мы его поймаем.
— Как вы думаете действовать?
— Ну конечно, он не так-то легко дастся нам в руки. Придется порядком потрудиться, прежде чем мы его схватим. Я вернулся снарядить людей, чтобы можно было подольше не возвращаться. Негодяи выехали из долины верхней дорогой и, наверно, направились в горы. Так и Гомес думает. Мы последуем за ними и попытаемся их нагнать. Нужно немедленно сообщить во все ближайшие поселения, чтобы Карлоса схватили, если он там появится. Только едва ли он это сделает.
— Почему вы так думаете?
— Почему? Да ведь старая-то ведьма, оказывается, жива! К тому же он надеется найти сестру и, уж конечно, будет рыскать вокруг Сан-Ильдефонсо.
— Ага! Вы правы, так оно и есть. Он ни за что не оставит мать в покое, пока она…
— Тем лучше. Тем скорее нам подвернется случай его захватить. Хотя это будет совсем не так легко, дорогой полковник, поверьте мне. Он осторожнее волка, а за его чертовым конем наш гарнизон не угонится. Парня надо заманить в ловушку, иначе его не поймать.
— И вы придумали ловушку?
— Кое-что есть у меня на уме.
— Что же?
— Видите, я уже говорил вам — у Карлоса есть причина рыскать здесь, неподалеку. Разок-другой он, наверно, навестит старую ведьму, но не больше. Другая приманка была бы вернее.
— Вы имеете в виду ее? — Вискарра указал на комнату, в которой заперли Роситу.
— Да. Говорят, он до глупости привязан к сестре. Так вот, если бы она находилась в таком месте, куда он мог бы прийти, ручаюсь вам, он навестил бы ее. А мы устроили бы там засаду.
— В каком месте? Где? — нетерпеливо спросил Вискарра.
— Где-нибудь поблизости от их родного ранчо. Там уж ей найдут пристанище. Если вы согласитесь ее отпустить на время, вы легко вернете ее после — вам никто не помешает, когда мы разделаемся с этим Карлосом.
— Соглашусь ли я? Да ведь я только этого и хочу! Пока она здесь, мне не будет покоя. Нам с вами обоим грозит беда, если пойдут толки. Ведь если слух дойдет кое-куда, мы пропали. Разве не так?
— Да, пожалуй, тут вы отчасти правы. О смерти Гарсии нельзя не доложить, а когда узнают, начнут доискиваться причин. Нам надо сочинить собственную версию, и как можно более правдоподобную. На нас не должно пасть и тени подозрения, нельзя дать никакого повода для толков, так что хорошо сейчас спровадить ее.
— Но как спровадить? Вот что меня беспокоит. Если мы отправим ее домой, это вызовет еще больше подозрений. Как это объяснить? Не могут же индейцы ее вернуть! Вы говорили, у вас есть какой-то план?
— Думаю, что есть. Но сперва объясните мне, полковник, что вы имели ввиду, когда называли ее сумасшедшей?
— Она помешалась. Она и теперь сумасшедшая. Мне Хосе сказал: мелет всякую чепуху, не понимает, что ей говорят. Я просто в ужасе, Робладо!
— Она не понимает, что ей говорят?
— Уверен.
— Тем лучше. Значит, не запомнит, где она сейчас и где была. Теперь я знаю, как от нее избавиться. Нет ничего проще. Она вернется домой и скажет, что была в плену и индейцев, если будет способна говорить. Ну как, удовлетворит вас это?
— Еще бы! Но как это устроить?
— Очень просто, дорогой комендант. Вот послушайте. Гомес и Хосе, как и в тот раз, нарядятся индейцами и сегодня ночью или завтра на рассвете увезут ее отсюда, а куда — это я им укажу. Куда-нибудь в горы. Дальше или ближе — не имеет значения. Утром их всех найдут, причем девушка будет связана, точно пленница. А если к тому времени рассудок к ней вернется и она сама тоже вообразит, что она их пленница, — еще лучше. Ну вот, я с солдатами преследую Карлоса и случайно наталкиваюсь на этих индейцев. Можно выстрелить по ним разок-другой на безопасном расстоянии, чтобы никого не задеть. Они удирают, бросив пленницу, мы ее спасаем и привозим обратно в город, а там уж мы ее сбудем с рук. Ха-ха-ха! Как вам нравится моя выдумка, полковник?
— Великолепно! — ответил Вискарра. Предвкушая осуществление этого плана, он, видимо, успокоился.
— Да это самого черта собьет с толку. Мы не только отведем от себя подозрения, но и прибавим себе славы. Как же! Удачная операция против дикарей! Вызволили пленницу! Возвратили ее родным! И кого же? Сестру того самого человека, который покушался на вашу жизнь! Поверьте, комендант, даже сам охотник, если это может вас порадовать, будет одурачен. Если только она сумеет связать два слова, она поклянется, что все время была в плену у дикарей. Даже своему брату она повторит эту чепуху.
— Превосходный план! Надо все это сделать сегодня же ночью.
— Ну конечно! Как только солдаты разойдутся по казармам, Гомес может выехать с нею отсюда. Гоняться за Карлосом я сегодня не стану — говоря по совести, не вижу в этом смысла. У нас одна возможность его захватить: расставить ему западню, девушка будет приманкой. Потом мы это устроим, вы можете больше не тревожиться. Завтра в полдень я явлюсь к вам с докладом: отчаянная схватка с хикариллами или ютами, несколько индейцев убито, освобождена пленница, солдаты доблестно сражались, рекомендую капрала такого-то повысить в чине, и так далее. — И капитан расхохотался.
Вискарра вторил ему; пожалуй, он не стал бы смеяться, если бы Робладо не успел уверить его, что рана его не опасна и через недельку-другую совсем затянется.
Свои уверения Робладо подкрепил тем, что обозвал доктора олухом и наградил его еще другими бранными эпитетами. Вот почему, освободившись от страха неминуемой смерти и от другой терзавшей его мысли, Вискарра вновь обрел душевное равновесие, которого был лишен за последние сутки. Теперь им безраздельно овладело другое желание — желание отомстить Карлосу.
* * *
Поздно вечером, как только отзвучала вечерняя зоря и солдаты разбрелись по казармам, небольшая группа всадников выехала из ворот крепости и направилась по дороге, ведущей в горы. Всадников было трое. В одном из них, закутанном с головы до ног и сидящем на муле, можно было узнать женщину. Двое других в странном одеянии, причудливо разрисованные и украшенные перьями, походили на воинов-индейцев. Но то были не индейцы, а испанские солдаты, переряженные индейцами. Это сержант Гомес и улан Хосе увозили из крепости сестру охотника на бизонов.
Глава 38
Карлос уже достиг зарослей, а его преследователи еще только отъезжали от стен крепости. Гнаться за ним можно было, разумеется, лишь верхом, а на то, чтобы оседлать коней и взять оружие, требовалось время. Поэтому Карлос уже не боялся, что его нагонят, и не стал запутывать след. Он был уверен в своем скакуне и знал, что уйдет из-под носа у преследователей и ему незачем скрываться в зарослях.
Пробираясь к ожидавшим его друзьям, Карлос уже не думал больше о собственной безопасности и тревожился только о доне Хуане и его спутниках. Он вдруг понял, в каком трудном положении они оказались. Как им удастся ускользнуть?
Не успел он пересечь и половины открытого пространства, а беспокойство о друзьях уже заглушило в нем всякий страх за собственную жизнь, и он представлял себе, что надо сделать. Он не станет углубляться в заросли, а направится сразу к тропе, ведущей на Утес загубленной девушки. Уланы поскачут той же дорогой, а тем временем дон Хуан и тагносы успеют скрыться.
Карлос воспользовался бы этим планом, если бы он мог положиться на благоразумие дона Хуана, но он опасался так поступить. Дон Хуан горяч и не слишком дальновиден. Заметив, что за Карлосом погоня, он, конечно, сочтет своим долгом, как они условились, выйти с людьми из чащи, а именно этого Карлос и не хотел. Вот почему он помчался галопом прямо туда, где дон Хуан со своими спутниками, не слезая с коней, ждали его в засаде.
— Слава богу, с тобой ничего не случилось! — воскликнул дон Хуан. — Но они гонятся за тобой. Вон они скачут, и сколько их!
— Да, — ответил Карлос, бросив взгляд назад. — Но они очень отстали.
— Что же нам делать? — спросил дон Хуан. — Рассеяться в кустах или держаться всем вместе? Ведь они скоро будут здесь.
Карлос задумался и ответил не сразу. У них было три более или менее верных возможности спастись: первая — рассеяться в зарослях, как предлагал дон Хуан; вторая — держаться всем вместе и немедленно отступить той же дорогой, по которой они прискакали сюда, но только не показываясь на глаза преследователям; и, наконец, — не скрываться, появиться перед ними, а уж затем уходить той же дорогой. Вступить в бой при сложившихся обстоятельствах было бы безрассудно и бесполезно.
Охотник не привык долго раздумывать, он взвесил эти планы мгновенно. Первый он тотчас же отбросил. Рассеяться в чаще значит, пойти на жертвы. Лес невелик, какие-нибудь две мили в ширину, хотя и вдвое больше в длину. Солдат здесь столько, что они легко могут окружить его, и они, конечно, не преминут это сделать. Заросли прочешут вдоль и поперек, переловят половину людей, сочтут их причастными к происшествию в крепости и сурово накажут, а то и просто застрелят на месте, несмотря на то, что нет никаких доказательств их вины.
Карлос применил бы второй план — попытался бы пробраться через заросли, не показавшись преследователям, но он опасался, что их настигнут до наступления ночи. Мулы под тагносами уже притомились, а у большинства солдат хорошие, быстрые кони. Если бы не это, всем им удалось бы скрыться незамеченными, и тогда дон Хуан и его люди не навлекли бы на себя подозрения в соучастии. а это было бы так важно для будущего… И, однако, о втором плане нечего было и думать. Карлос принял третий.
На эти размышления у охотника ушло вдвое меньше времени, чем у вас на то, чтобы прочитать о них. Не прошло и нескольких секунд, как Карлос ответил дону Хуану, возвысив голос настолько, чтобы его услышали и все остальные. Его ответ был приказом:
— Все до одного — вперед через заросли! Высуньтесь из кустов, но чтобы видны были только головы, плечи и луки. Испустите боевой клич! Тут же поворачивайте назад и рассейтесь во все стороны! За мной!
Наскоро отдав эти распоряжения, Карлос ринулся в заросли и вскоре вынырнул у опушки. Почти одновременно, вытянувшись в неровную линию, показались тагносы; с одной стороны их охранял дон Хуан, с другой — Антонио. Размахивая над головой луками, они испустили воинственный боевой клич, словно и в самом деле были дикими индейцами.
Даже на небольшом расстоянии лишь наметанный глаз мог заметить, что это индейцы — тагносы, а не дикие воины. Головы почти у всех были обнажены, длинные волосы развевались на ветру; по внешнему виду они и впрямь мало чем отличались от своих соплеменников из прерий. У всех были луки — оружие, которым и до сих пор пользуются мирные индейцы, если уже дело доходит до боя, и их боевой клич звучал не менее грозно, чем клич некоторых племен, называемых обычно «воинственными», «дикими». Многие из спутников Карлоса еще не так давно принимали участие в сражениях. Многие лишь совсем недавно стали мирными тружениками.
Их появление произвело именно тот эффект, на какой и рассчитывал охотник на бизонов. Солдаты неслись вперед беспорядочными кучками, некоторые были уже на расстоянии трехсот шагов от зарослей; теперь от неожиданности они осадили лошадей. Передние тотчас повернули бы обратно, если бы не увидели, что новый большой отряд улан выезжает из крепости.
Преследователи растерялись. Они были уверены, что в зарослях дикие индейцы и что их там несметное множество. Их уверенность подкреплялась событиями последнего времени — ведь солдаты верили, что все эти дни они как раз и гонялись за дикарями. И вот теперь те сами напали на них! Вот почему уланы остановились на равнине, ожидая подкрепления.
Карлос предвидел такое действие своей уловки. Он приказал своим товарищам без шума отойти назад, под прикрытие кустов; и вскоре все они собрались в том самом месте, где недавно стояли в засаде.
Теперь их повел через заросли Антонио — только не к Утесу загубленной девушки, а тропой, которая вела к другому подъему на плоскогорье. Когда они, отъехав на добрые три мили от своей засады, пробирались среди скал наверх, издали они увидели заросли и раскинувшуюся позади долину. На открытом пространстве перед зарослями все еще разъезжали храбрые солдаты; они так и не решились проникнуть в чащу, где, как они думали, притаились свирепые дикари.
Карлос и его спутники поднялись на плоскогорье, круто повернули на север и направились к ущелью, которое было примерно в десяти милях отсюда; однако, пока они пересекали прерию, позади не показался ни один преследователь.
Ущелье тянулось на восток и выходило к нижнему течению Пекоса. Это было русло потока, наполнявшееся водой только в дождливую пору, а теперь совсем пересохшее. Дно устилала мелкая галька, на которой почти нельзя различить следов: лошади лишь смещают камешки, не оставляя знаков, которые может прочитать следопыт. Здесь старые отпечатки невозможно отличить от новых.
Карлос и его спутники спустились в ущелье; они проехали миль пять-шесть вниз по пересохшему руслу и сделали привал. Привал был нужен Карлосу для того, чтобы рассказать остальным, как им действовать дальше; у него был план, который он тщательно продумал за последние час-два.
До сих пор никто из них, кроме него самого, не был скомпрометирован, и он вовсе не хотел, чтобы это случилось. Это могло ему только повредить. Дон Хуан и Антонио не показывались из зарослей, а темные лица остальных, промелькнувших на мгновение за кустами куманики, испуганные солдаты, конечно не могли узнать. Поэтому, если дон Хуан и его пеоны вернутся домой незамеченными, для них все может окончиться благополучно. Это вполне возможно. Снаряжая свой отряд, Карлос действовал с большой осторожностью. Они выехали в тот ранний час, когда люди еще спят, и никто их не видел. А до того как распространился слух о происшествии в крепости, никто в долине не знал даже, что охотник на бизонов возвратился. Никто не видел, когда разгружали его мулов, и пас их теперь один из пеонов далеко от ранчо. Таким образом, если бы солдаты до завтрашнего дня не появились в долине, дон Хуан и его пеоны успели бы вернуться ночью домой и приняться за свои повседневные дела, не возбудив ничьих подозрений. Разумеется, Робладо будет там утром, но вряд станет противиться его сватовству. В ту ночь сладостны были за ними, а эта дорога ведет в сторону, почти противоположную от дома дона Хуана. Солдатам Робладо понадобится по крайней мере целый день, чтобы следовать по всем ее извилинам. И, конечно, преследователи все равно не узнают, куда направились Карлос и его люди после привала, так как его новый план хоть кого собьет с толку.
В общем, было решено, что дон Хуан со своими пеонами возвратится домой; обратно на ранчо уйдут и пеоны Карлоса; они покроют дом новой крышей — только это и нужно было сделать после пожара, так как стены уцелели, — и останутся там, словно ничего не случилось. Не призовут же их к ответу за дела хозяина!
О том же, где укроется теперь сам Карлос, не должен знать никто, кроме одного-двух верных друзей. Он, конечно, сумеет найти себе пристанище. И в открытой прерии и в какой-нибудь пещере в горах он все равно что дома. Он обойдется и без крыши над головой. Звездное небо ему милее, чем раззолоченный потолок какого-нибудь дворца.
Тагносам велели хранить тайну. Обошлись без клятв. Тагносы — люди не из болтливых, к тому же они знали, что их собственная безопасность, а может быть, и жизнь зависит от их молчания.
Наконец обо всем уговорились, но Карлос и его спутники задержались на привале почти до захода солнца. Потом все сели на коней и мулов и снова поскакали вниз по руслу.
Когда они отъехали примерно с милю, один из тагносов выбрался по склону из ущелья и направился через прерию к югу. Он должен был возвратиться в долину тропинкой, ведущей на окраину Сан-Ильдефонсо. Этой тропки он достигнет только к ночи, и, конечно, вряд ли кто-нибудь встретится ему: ведь вокруг рыщут «дикие» индейцы!
Немного спустя из ущелья выбрался второй тагнос и поехал в том же направлении, что и первый. Затем их примеру последовал еще один, потом еще и еще… и наконец в ущелье остались только дон Хуан, Антонио и Карлос. Тагносам велели добираться домой разными дорогами, а более сметливых направили самыми запутанными тропками. И вряд ли в крепости нашелся бы такой солдат, который мог бы их выследить.
Карлос и два его спутника покинули ущелье последними, тоже повернули вправо и въехали в долину Сан-Ильдефонсо у самого ее конца. Было уже совсем темно, но все трое хорошо знали дорогу и к полуночи достигли дома молодого скотовода.
Они не решились подъехать к дому, не произведя сначала разведки. Но оказалось, что все спокойно и солдаты здесь еще не появлялись.
Карлос поспешно обнял мать, рассказал о том, что произошло за день, дал кое-какие наставления дону Хуану и, вскочив в седло, простился с ними.
За ним следовал Антонио с мулом, навьюченным съестными припасами. Они выехали из долины и направились к Льяно Эстакадо.
Глава 39
На следующий день опять произошло событие, взволновавшее жителей Сан-Ильдефонсо, и без того взбудораженных рядом необычайных происшествий.
Около полудня через город в крепость возвращались уланы, посланные на поиски убийцы — так теперь называли Карлоса. Никаких следов его они не нашли, но в предгорьях натолкнулись на большой отряд воинственных индейцев. Произошла отчаянная схватка, было убито много индейцев, но, как обычно, оставшиеся в живых ухитрились унести трупы товарищей, вот почему солдаты возвратились без их скальпов. Однако они захватили гораздо более существенный трофей — молодую девушку, родом из Сан-Ильдефонсо, которую они вызволили из рук индейцев. Как полагает капитан Робладо, доблестный начальник экспедиции, это та самая девушка, которая была похищена несколько дней назад из ранчо в дальнем конце долины.
Капитан и несколько человек, находившихся при спасенной пленнице, остались на площади, остальные вернулись в крепость.
У Робладо были свои причины избрать именно этот путь, вовсе не самый короткий, и задержаться в городе. Прежде всего он хотел сдать свою подопечную местным властям. Затем пускай все горожане своими глазами увидят, что это он ее привез: ведь она — живое доказательство того, какой великий подвиг он совершил. И наконец, для него это удобный случай покрасоваться перед неким балконом.
Капитан осуществил все три своих намерения, но не все вышло так, как ему хотелось. Не умолкала труба, возвещая о прибытии солдат, спасенная пленница находилась среди них на виду, и конь капитана Робладо — не без помощи острых шпор гарцевал самым невероятным образом, но все понапрасну: Каталина на балкон не вышла. Ее не видно было среди конторщиков и слуг, и, когда гордый победитель отъехал от балкона, торжество на его лице сменилось угрюмым разочарованием.
Через несколько минут он спешился перед Домом капитула и передал девушку с рук на руки алькальду и другим отцам города. Эта церемония сопровождалась цветистой речью, в которой приводились некоторые потрясающие подробности спасения пленницы, выражено было сочувствие ее родителям, к т о б ы о н и н и б ы л и, а под конец оратор высказал предположение, что несчастная жертва, наверно, и есть та самая девушка, которую похитили индейцы несколько дней назад.
Все это выглядело как нельзя более правдоподобно и убедительно. Робладо, сдав свою подопечную алькальду, сел на коня и отъехал, сопровождаемый бурей восторгов; отцы города провожали его громкими славословиями, жители — рукоплесканиями и криками «viva».
— Да вознаградит вас Бог, капитан! — доносилось до его слуха, когда он выбирался из толпы.
Проницательный наблюдатель заметил бы в этот миг странное выражение, промелькнувшее в уголках глаз Робладо, — иронию и вместе с тем сильное желание рассмеяться. И действительно, доблестный капитан едва не расхохотался в лицо восторженной толпе. Он сдерживался лишь потому, что хотел насладиться шуткой вместе с комендантом — к нему он теперь спешил.
Но вернемся к пленнице.
Обступившая ее толпа жаждет удовлетворить свое любопытство. Как ни удивительно, но именно это чувство преобладает. Сочувствия почти незаметно, хотя при подобных обстоятельствах его следовало бы ожидать. Лишь очень немногие произносят: «Бедняжка!», и эти немногие — преимущественно бедные темнокожие туземки.
Хорошо одетые лавочники — испанские переселенцы и креолы, мужчины и женщины, — смотрят на девушку равнодушным взглядом или с любопытством зевак, жадных до чужой беды.
Такое равнодушие к чужому страданию вовсе несвойственно народу Новой Мексики — вернее, женщинам этой страны, — ибо если мужчины там и жестоки, то женщины добры и отзывчивы.
Поведение их могло бы показаться странным, однако в данном случае для этого были основания. Они знали, кто такая эта спасенная девушка, знали, что она сестра охотника на бизонов сестра Карлоса-убийцы! Это и заглушало в них лучшие чувства.
Карлос навлек на себя всеобщее негодование. Местные жители называли его не иначе, как злодеем, разбойником, неблагодарным. Каков негодяй! Убить славного лейтенанта, любимца всей округи! И что могло его толкнуть на это? Наверно, ссора из-за пустяков или ревность! В самом деле, что толкнуло его на это? Какая иная причина могла быть у этого дьявола, этого белоголового еретика, если не жажда крови? Неблагодарный негодяй! Покушаться на жизнь доблестного коменданта, того самого коменданта, который не жалел сил и трудов, стараясь вырвать сестру убийцы из рук дикарей-индейцев!
И наконец комендант добился своего. Подумать только: вот она здесь, она возвратилась домой, живая и невредимая, благодаря коменданту. Ведь это он послал своего капитана и солдат разыскивать ее — сестру человека, который чуть не убил его. Дьявол! Убийца! Разбойник! Они рады бы увидеть его на виселице. Добрый католик никогда бы так не поступил, только грешник, еретик, кровожадный американец мог это сделать! Уж он получит по заслугам, когда его поймают!
Такие чувства волновали всех жителей долины за исключением бедных рабов — порабощенных индейцев — и нескольких креолов. Впрочем, и они не одобряли поступков Карлоса, хотя в них силен был мятежный дух и они всем сердцем ненавидели испанский режим.
Неудивительно, что при таком отношении к охотнику на бизонов несчастная девушка, его сестра, вызывала так мало сочувствия.
Никто не сомневался в том, что освобожденная пленница — его сестра, хотя лишь немногие из присутствующих знали их. Ее брат, такой знаменитый теперь, до праздника святого Иоанна был почти неизвестен горожанам. Он редко бывал в городе, а его сестра еще реже, и только очень немногие из стоявших здесь видели ее прежде. Но сходство было несомненное. Такие прелестные золотые волосы, белоснежную кожу, яркий румянец на щеках редко увидишь в Северной Мексике, хотя где-нибудь в другой части света они никого не удивят. А в объявлениях, расклеенных по стенам, описывались именно эти приметы «убийцы». Разумеется, это его сестра. К тому же здесь были люди, видевшие Роситу на празднике, где ее красота вызвала не только восхищение, но и зависть.
Росита была, как всегда, прекрасна, только румянец на ее щеках поблек и какое-то странное, дикое выражение появилось во взоре. На обращенные к ней вопросы она либо не отвечала совсем, либо что-то невнятно бормотала. Она сидела молча: лишь порой у нее вырывались какие-то бессвязные, странные возгласы; несколько раз она повторила слова «индейцы» и «дикари».
— Она помешалась, — говорили люди друг другу. — Ей кажется, что она все еще у дикарей.
Возможно, что так оно и было. Конечно, ее окружали не друзья.
Алькальд спросил, нет ли среди присутствующих ее родных или знакомых, кому он мог бы ее доверить.
Из толпы вышла какая-то простая девушка, которая только что здесь появилась: она знает бедняжку; она позаботится о ней и проводит домой.
Вместе с этой девушкой была индианка, вернее — метиска, по-видимому, ее мать. Они увели спасенную пленницу. Вскоре все разошлись по домам и занялись своими обычными делами.
Росита и спутницы свернули в узкую улочку, прорезавшую предместье, где ютилась беднота, миновали ее и оказались за пределами города. Затем, пройдя несколько сот ярдов по глухой тропинке в зарослях, они вышли к небольшому заброшенному ранчо и там скрылись. А через несколько минут к дверям подъехала повозка, запряженная волами, которыми правил пеон.
Девушка вышла из дому, ведя Роситу за руку, и обе сели в повозку.
Они уселись на охапку сена, брошенную на дно повозки, и пеон погнал волов. Выехав из зарослей, повозка покатила по большой дороге, ведущей к последним фермам на краю долины.
Девушка смотрела на Роситу жалостливым взглядом; она помогала ей поудобнее устроиться, чтобы та как можно меньше страдала от тряски; она подбадривала ее ласковыми словами, однако говорила с нею не как с подругой или старой знакомой. Ясно было, что эта девушка никогда раньше не видела Роситу.
Когда они проезжали по глухому участку дороги, примерно в миле от города, позади показался быстро скачущий всадник. Через несколько минут он уже нагнал их. Под всадником красовался великолепный мустанг; сразу видно было, что этого коня берегут и холят — он был резвый и игривый, а бока его так и лоснились.
Всадник подъехал к повозке и велел пеону остановиться; мелодичный голос сразу же выдал во всаднике женщину, а нежные щеки, шелковистые волосы и тонкие черты лица свидетельствовали о том, что это настоящая сеньорита. Неудивительно, что на расстоянии ее можно было принять за мужчину: на плечи было накинуто простое серапе, широкие поля сомбреро почти совсем скрыли черные блестящие волосы, и сидела она в седле по-мужски, как заправский наездник-мексиканец.
— Это вы, сеньорита? — удивленно и вместе с тем почтительно сказала девушка в повозке.
— А ты не узнала меня, Хосефа?
— Нет, сеньорита. Ох, горе мне! Где же вас узнать, когда вы так нарядились?
— А как нарядилась? Самый обыкновенный костюм!
— Конечно, сеньорита, только не для такой важной сеньоры, как вы!
— Да, видно, меня никак нельзя узнать в этом наряде. Я встретила нескольких знакомых, и они мне не поклонились! Всадница засмеялась. — Бедняжка!.. — продолжала она, вдруг изменив тон и сочувственно глядя на спутницу Хосефы. — Сколько ей пришлось выстрадать! Бедная девочка! Боюсь, что мне сказали правду. Святая дева! Как похожа…
Сеньорита не договорила. Позабыв о присутствии Хосефы и пеона, она высказала вслух свои мысли. Последние слова невольно сорвались с ее уст.
Спохватившись, она испытующе посмотрела на них обоих. Пеон был занят волами, зато лицо девушки загорелось любопытством.
— На кого похожа, сеньорита? — спросила она простодушно.
— На одного моего знакомого. Это не имеет значения, Хосефа. — Сеньорита поднесла палец к губам и многозначительно посмотрела в сторону пеона.
Хосефа, которая знала ее тайну и догадывалась, кто этот знакомый, промолчала.
Сеньорита подъехала ближе к повозке со стороны, где сидела Хосефа, и, наклонившись к ней, прошептала:
— Оставайся там до утра, все равно ты не успеешь вернуться засветло. Останься — может быть, ты что-нибудь услышишь. Приходи пораньше, но не домой, а к заутрене. Смотри, не опоздай. Я буду в церкви. Постарайся увидеться с Антонио. Отдай ему вот это. Алмаз на золотом кольце сверкнул на мгновение в пальцах сеньориты, и тотчас Хосефа зажала его в руке. — Скажи ему, для кого, а кто послал — это ему незачем знать. Вот тебе деньги на расходы и еще немного, чтобы дать ей. Нет, лучше дай ее матери, если только она согласится принять.
На колени Хосефы упал кошелек.
— Разузнай что-нибудь. Разузнай, милая Хосефа!.. До свидания! До свидания!
Последние слова сеньорита произнесла второпях; повернув своего лоснящегося мустанга, она поскакала обратно к городу.
Она могла не сомневаться, что Хосефа последует ее наставлениям остаться там до утра — девушка была не меньше, чем сама сеньорита, заинтересована в этой поездке.
Хорошенькая Хосефа была невестой метиса Антонио, и удалось бы ей увидеть его или нет, она не собиралась торопиться домой. Если она увидит его, тем приятнее будет задержаться на ранчо; если же нет, она задержится в надежде на встречу.
Простая повозка, казалось, вдруг превратилась в прекрасный экипаж с рессорами и бархатными подушками — Хосефа слышала, что есть такие, хотя никогда их не видела: ведь в руках у нее кошелек, полный монет, шестой части которых хватит на все расходы, и ей предстоит встретиться с Антонио!
Сердобольная девушка перетряхнула сено, положила голову Роситы себе на колени, укрыла ее своей шалью, чтобы не пронизывала вечерняя сырость, и велела пеону трогать. Тот громко крикнул на волов, ткнул их стрекалом, и они снова потащили повозку по пыльной дороге.
Глава 40
Ходить к заутрене — для мексиканских сеньор модный обычай, особенно для тех из них, которые живут в больших и маленьких городах. Только забрезжит рассвет — и они выходят из широких дверей своих домов и спешат по городским улицам к церкви, где оглушительно звонит колокол. Сеньоры закутаны (богатые — в шелковые шарфы и мантильи, а кто победнее — в скромные аспидно-черные шали) так плотно, что их невозможно узнать. Каждая держит под складками переплетенную книжечку — молитвенник.
Последуем за ними в храм и посмотрим, что там происходит.
Если вы опоздаете к началу и, войдя, встанете у двери, то увидите несколько сот коленопреклоненных людей — вернее сказать, увидите их спины.
Спины эти отнюдь не одинаковы — так же, как не бывает одинаковых лиц. Они самых различных очертаний, размеров, цвета и общественного положения. Вы заметите здесь спины сеньор в мантильях; иные позволили этому элегантному одеянию соскользнуть на плечи, тогда как у других голова совсем скрыта под ним, — вот вам уже два разных стиля. Увидите вы здесь и спины миловидных простолюдинок с грациозно перекинутым назад концом шали, повисшей без намека на изящество и, может быть, не совсем даже чистой. Вы разглядите и спину лавочника, едва прикрытую короткой холщовой курткой; спину водовоза, обтянутую поношенным кожаным камзолом; спину щеголя, задрапированного в мягкий нарядный шерстяной плащ; и рваное серапе бедняка, городского парии. Перед вами предстанут спины широкие и узкие, прямые и сутулые; не исключена возможность, что вы увидите и один-два горба, особенно в церкви большого города. Но в какую мексиканскую церковь вы не зашли бы во время богослужения, я обещаю вам, что вы узрите всевозможнейшие спины. Однако они не будут расположены в каком-либо порядке, отнюдь нет. Спина сеньоры в мантилье может оказаться втиснутой меж двух грубых, засаленных шалей, а спина одетого в полосатое или в крапинках серапе бедняка окажется рядом с великолепным шерстяным плащом какого-нибудь франта. Я не несу ответственности за размещение всех этих спин, обещаю вам только большое их число и разнообразие.
Единственное лицо, которое, скорее всего, будет обращено к ним, — это бритая физиономия тучного патера, облаченного в полотняную сутану. Когда-то она, несомненно, была белой и чистой, но теперь у нее такой вид, словно ее кинули в корзину для грязного белья, но по какому-то недоразумению вернули, так и не выстирав. Патер столь же мало похож на праведника, как и самый закоренелый грешник его паствы. Вот он мечется по небольшому возвышению то с жезлом, то с кадилом курящегося ладана, а вот он взял и куколку — изваяние святого. Вы услышите какую-то тарабарщину из скверной латыни, которую он бормочет во время этого представления. В эти минуты вы непременно вспомните игру мистера Робина или пьесу «Великий маг», если вам довелось их посмотреть.
Вскоре до вас донесется позвякивание колокольчика, которое удивительно преобразит все эти спины. Ненадолго вы увидите их в самом странном положении — не в вертикальном, как надлежит быть спинам, а сникнувшими и скособочившимися. Пока они будут отдыхать, возможно, мелькнет и лицо, но только в профиль, и если оно красиво, то заставит вас забыть о спине. Впрочем, тогда перед вами будет уже не спина, а скорее бок. Быть может, профиль поразит вас красотой, но, уж наверно, не набожным выражением. Вы заметите глаз, посматривающий кокетливо и лукаво, а если вы наблюдательны, то увидите и другой профиль, более грубо очерченный, к которому эти кокетливые, лукавые взгляды обращены. Это происходит в те минуты, когда спины, отдыхая, обвисают. Как они добиваются такой позы, вам покажется загадкой, анатомической головоломкой, а между тем это очень просто. Такое положение легко дается тому, кто знает, как это делается: стоит только перенести опору с колен на бедра. Немудрено, что вы изумились, ибо, замаскированная мантильями, шарфами, шалями и юбками, эта хитрость проделывается весьма искусно.
Но вот зазвонил колокольчик — и спины снова выпрямились. Для этих богомольцев его звон то же самое, что для солдат команда «смирно». Как только он звякнет, спины, подтянувшись, мгновенно становятся на несколько дюймов выше. Патер еще раз бормочет молитву пресвятой деве и «Отче наш» и разыгрывает еще одну пантомиму, а спины остаются тем временем застывшими в неподвижности. И вдруг они снова укорачиваются, как прежде, мелькают профили, они обмениваются кивками и лукавыми взглядами, и так до тех пор, пока опять не зазвонит колокольчик. Тут патер начинает третий тур представления, за ним следует четвертый и так далее, пока богослужение не закончится.
Каждое утро, еще задолго до завтрака, повторяется в мексиканской церкви это смехотворное коленопреклонение и бормотанье молитв. Заняты этим и мужчины и женщины, хотя среди представительниц слабого пола богомолок гораздо больше, и в числе ревностных молельщиц много сеньор местного высшего света.
Что же заставляет всех этих людей вставать с постели в столь ранний час, дрожать от холода на улицах и мерзнуть в церкви? Что это — вера или суеверие? Благочестие или ханжество? Разумеется, многие из этих глупцов и в самом деле верят, что все это угодно Богу: они механически преклоняют колени и твердят молитвы, а за это на них снизойдет милость Господня. Однако среди самых ревностных посетителей заутрени, безусловно, много и таких, которых волнуют совсем иные чувства. В стране, где мужчины ревнивы, женщины особенно предприимчивы и хитры, этот ранний час — для них золотая пора. Ведь только на редкость ревнивый страж решится в эти холодные часы встать с постели.
Дождитесь конца представления у дверей храма. Там стоит большая чаша святой воды. Выходя из церкви, каждый погружает руку в эту чашу и окропляет себя водой. Вот маленькая, вся в кольцах рука на мгновение окунает кончики пальцев в сосуд — и тут же ловко передает любовную записку кавалеру в плаще. Возможно, вы увидите, как богатая сеньора, тщательно закутанная в серапе, уходит из церкви в направлении, противоположном тому, откуда она пришла. Ну, а если вы столь любопытны, что пренебрежете приличиями и последуете за ней, то, пожалуй, окажетесь свидетелем запретного свидания в глухом переулке или где-нибудь в тополевой аллее.
Утро в мексиканском городе столь же богато приключениями, как и ночь.
* * *
Едва лишь колокол церкви Сан-Ильдефонсо стал сзывать к заутрене, из ворот одного из самых больших и богатых домов города выскользнула женщина. Рассвет чуть брезжил; женщина была закутана с головы до пят, однако ее высокая, стройная фигура, достоинство и грация осанки, легкая горделивая походка выдавали важную сеньору. Подойдя к церкви, она остановилась и огляделась по сторонам. Лицо ее скрывали складки низко опущенной мантильи, но по тому, как она стояла, как поворачивала голову то вправо, то влево, ясно было, что она пристально вглядывалась в богомольцев, которые, словно тени, приближались в предрассветном сумраке. Она, несомненно, ждала кого-то и, судя по нетерпеливому взору, каким она окидывала каждого появлявшегося на площади, тот, кого она ждала, был ей очень нужен.
Наконец к церкви подошел последний богомолец. Оставаться дольше на улице не имело смысла. С видимым разочарованием сеньорита проскользнула через портал и исчезла за дверью. Еще мгновение — и она уже стояла на коленях перед алтарем, повторяя слова молитвы и перебирая четки.
Но не она последней вошла в церковь; вскоре появилась еще одна прихожанка. Когда сеньорита уже входила в храм, на дальний угол площади выехала повозка и там остановилась. С повозки соскочила молодая девушка; быстро перебежав через площадь, она прошла в портал. На вновь пришедшей была пунцовая юбка, вышитая кофточка и шаль, — так одевается в этих краях беднота, простонародье. Девушка была простая крестьянка.
Она вошла в церковь, но, прежде чем опуститься на колени, внимательно оглядела ряды спин. На одной из них, окутанной мантильей, взгляд ее задержался. Она узнала ту самую сеньориту, о которой мы говорили. Девушка, видимо, успокоилась; проскользнув меж спин, она опустилась на колени рядом с сеньоритой так близко, что их локти почти соприкасались.
Она проделала все это совсем бесшумно, и сеньорита не заметила свою новую соседку, лишь легкий толчок в локоть заставил ее поднять голову и оглянуться. Лицо ее осветилось радостью, однако губы продолжали твердить молитву, словно ничего не произошло.
Но вот раздался сигнал, возвещающий, что можно немного отдохнуть, и две коленопреклоненные фигуры — сеньорита и простолюдинка — склонились друг к другу; руки их сблизились. Еще мгновение — и из-под шали показалась маленькая коричневая рука, из-под мантильи — нежные белые пальцы, унизанные кольцами.
Словно сговорившись, они коснулись друг друга, и хотя это длилось едва полсекунды, тонкий наблюдатель мог бы заметить, как из одной руки в другую — из коричневых пальцев в белые проскользнула свернутая трубочкой бумажка. Но поистине лишь тонкий наблюдатель заметил бы этот маневр — он был проделан так ловко, что никто из стоящих на коленях впереди или сзади не увидел ничего предосудительного.
Обе руки тут же скрылись под накидками; прозвенел колокольчик, сеньорита и крестьянка снова выпрямились и с самым благочестивым видом стали повторять слова молитвы.
Но вот служба кончилась. Окропляя себя святой водой, девушки торопливо перекинулись несколькими словами; но вышли они из церкви врозь и разошлись в разные стороны. Крестьянка быстро пересекла площадь и скрылась в узкой улочке. Сеньорита горделивой поступью направилась к своему дому; лицо ее сияло радостью.
Она вошла в дом и поспешила в свою комнату. Развернув маленький листок бумаги, она прочитала:
«Дорогая Каталина! Вы сделали меня счастливым. Лишь час назад я был самым несчастным человеком на свете. Я потерял сестру и думал, что лишился вашего уважения. Мне возвращено и то и другое. Сестра моя со мной, а драгоценный камень, сверкающий у меня на пальце, говорит о том, что даже клевете не удалось отнять у меня вашу дружбу, вашу любовь. Вы не считаете меня убийцей. Да, я не убийца, я — мститель. Вы узнаете обо всем. Об ужасном заговоре, жертвами которого стали я и мои родные. Жестокость этого заговора так чудовищна, что он кажется невероятным. Да, я стал его жертвой. Я больше не могу показаться в Сан-Ильдефонсо. Отныне меня будут травить, как волка, и если схватят, то расправятся со мной, как с волком. Но теперь, когда я знаю, что вы не заодно с моими врагами, мне ничего не страшно.
Если бы не вы, я ушел бы далеко отсюда. Но с вами я не в силах расстаться. Лучше я буду ежечасно рисковать жизнью, чем покину места, где вы живете, — ведь вы мне дороже всех на свете!
Сколько раз я осыпал поцелуями ваше кольцо! Этот залог любви у меня отнимут лишь вместе с жизнью.
Враги гонятся за мной, как ищейки, но я не боюсь их. Мой славный конь всегда при мне, а с ним я могу смеяться над своими трусливыми преследователями. Но я должен во что бы то ни стало еще раз прийти в город. Я должен увидеть вас, дорогая. Должен сказать вам то, чего нельзя доверить бумаге. Не откажите мне! Я приду на старое место, чтобы увидеться с вами, завтра в полночь. Не откажите, дорогая, любимая! Мне надо объяснить вам многое такое, что очень важно, и я могу это сказать только с глазу на глаз. Вы увидите, что я не убийца, что я по-прежнему достоин вашей любви.
Спасибо! Спасибо за вашу доброту к моей бедной маленькой сестренке! Бог даст, она скоро поправится. До свиданья, моя любимая! К.»
Прочитав записку, прекрасная Каталина поднесла ее к губам и пылко поцеловала.
— Достоин моей любви! — прошептала она. — Да, он достоин любви королевы! Отважный, благородный Карлос!
Она снова поцеловала листок и, спрятав его на груди, неслышно вышла из комнаты.
Глава 41
Желание Вискарры отомстить Карлосу возрастало с каждым часом. Недолго длилась радость, охватившая его, когда он избавился от страха смерти. Так же недолго радовался он, избавившись от беспокойства из-за пленницы. Его терзало совсем иное чувство. Превыше всего он ценил свою красоту — и теперь лишился ее. Он обезображен на всю жизнь!
Когда он увидел свое лицо в зеркале, сердце его запылало, как горящий уголь. И хотя он был трусом, он почти пожалел, что его не убили на месте.
Он потерял несколько зубов, но зубы можно вставить новые, а вот щека непоправимо изуродована. Пуля вырвала кусок мяса. Здесь будет отвратительный шрам, который останется навсегда.
Ужасен был вид Вискарры. Ужасны были его мысли. Глядя на то, что сделал с его лицом охотник на бизонов, он громко стонал. Он клялся отомстить. Пусть только Карлоса поймают пытки и смерть ждут его! Смерть ему и его родным!
Порой Вискарра даже раскаивался, что отослал сестру охотника. Зачем он испугался последствий? Зачем не отомстил, убив ее? Он уже не любит эту девчонку. Ее язвительный смех до сих пор гложет его сердце. Она была причиной всех его страданий — страданий, которые прекратятся только с его жизнью, причиной горечи и унижений, от которых он не избавится до конца своих дней! Почему он ее не убил? Это была бы сладостная месть ее брату, едва ли не лучшая награда за пережитое.
Терзаемый этими мыслями, Вискарра метался на своем ложе, стонал в тоске и отвратительно ругался.
Карлоса надо поймать. Он, Вискарра, всеми силами будет добиваться этого. И надо схватить его живым. Незачем торопиться с наказанием. Конечно, Карлос умрет, но смерть не должна прийти мгновенно. Нет, Вискарре будут примером дикари прерий. Охотник на бизонов умрет так, как умирают пленные у индейцев: его привяжут к столбу и сожгут. Вискарра клялся в этом.
А потом — его мать. Ее считают колдуньей. С ней и надо расправиться так, как расправляются с колдуньями. В этом случае ему не придется действовать одному. Уж конечно, отцы иезуиты поддержат его. Они охотно идут на такие фантастические жестокости.
А когда сестра Карлоса останется одна на свете, за нее некому будет вступиться. Она окажется всецело в его власти. Он поступит с ней, как ему вздумается, — ему никто не станет мешать… Не любовь говорила в нем, а желание отомстить.
Вот какие дьявольские замыслы проносились в голове этого презренного негодяя.
Не меньше жаждал смерти охотника на бизонов и Робладо. Его самолюбию был также нанесен удар: он больше не сомневался в том, что Каталина серьезно увлечена этим человеком, а, быть может, их уже связывает взаимная любовь и согласие. Робладо навестил ее как-то после трагического случая в крепости. Он заметил, что она держала себя совсем не так, как прежде. Теперь, когда «убийца» был так безнадежно опозорен, капитан надеялся восторжествовать над ним. Однако, хотя Каталина и не сказала ничего в защиту Карлоса — разумеется, она не смела, она в то же время не поддержала и противную сторону и никак не показала, что возмущена его поступком. Оскорбительные эпитеты Робладо, присоединенные к тем, которыми, не скупсь, осыпал Карлоса ее отец, казалось, причиняли ей боль. Несомненно, она вступилась бы за него, если бы осмелилась.
Робладо заметил все это во время своего утреннего визита.
Но гораздо больше он узнал о ее поведении через свою шпионку. Одна из служанок Каталины, Висенса, почему-то невзлюбила свою госпожу, предала ее и с некоторых пор сделалась пособницей своего поклонника — военного. Немного золота, посулы, да еще солдат-возлюбленный — это был Хосе, — и Висенса стала послушным орудием Робладо. Через Хосе он получал сведения о Каталине, а та ничего и не подозревала. И хотя эта система шпионажа была установлена лишь недавно, она уже принесла плоды. Робладо узнал, что Каталина ненавидит его и любит кого-то другого. Кто этот другой — Висенса не знала, но Робладо догадался без труда.
Неудивительно, что он желал смерти Карлоса, охотника на бизонов. Он жаждал его смерти не меньше, чем Вискарра.
Оба из кожи вон лезли, чтобы добиться своего. Во все стороны на розыски были посланы отряды солдат. На стенах города расклеили объявления — плод совместного творчества коменданта и его капитана, — в которых было написано, что за голову Карлоса назначена немалая награда; еще большую сумму обещали тому, кто приведет его живым.
Не остались в стороне и местные граждане: в доказательство лояльности и усердия они тоже сочинили объявление, сообщая, что жертвуют крупную сумму, целое состояние, человеку, которому посчастливится поймать Карлоса. Объявление подписали все именитые люди города, и имя дона Амбросио красовалось одним из первых. Поговаривали даже о том, чтобы собрать добровольцев, которые уж постараются помочь солдатам, преследующим еретика-убийцу, а вернее — заработать большие деньги, назначенные за его поимку.
Вот уж действительно загадка, долго ли проживет Карлос, когда голова его оценена так высоко!
Робладо, сидя дома, обдумывал, как поймать беглеца. Он уже разослал по долине своих самых надежных шпионов и велел им днем и ночью слоняться среди жителей. Они должны были немедленно сообщить ему все, что узнают о том, где бывает Карлос или те, с кем он прежде встречался, — за это им обещали хорошо заплатить. Установили наблюдение за домом молодого скотовода дона Хуана. И хотя Вискарра и Робладо собирались с ним расправиться на особый лад, они решили пока его не трогать: так будет легче осуществить их план. Нанятые шпионы были не солдаты, а городские жители и бедные скотоводы; появление военных в этой части долины, куда они обычно не заходят, могло бы расстроить замысел Вискарры и Робладо. Но и солдаты были наготове, однако они держались поодаль от ранчо Карлоса, чтобы не спугнуть птицу и не помешать ей вернуться в свое гнездо. Что ж, все это было разумно и логично.
Итак, Робладо, сидел у себя дома и обдумывал, как поймать Карлоса. Стук в дверь прервал его размышления над какими-то бумагами. Это были донесения его шпионов, только что полученные в крепости и адресованные ему и коменданту.
— Кто там? — спросил он, прежде чем разрешить войти.
— Это я, капитан, — ответил резкий, визгливый голос.
Робладо, несомненно, узнал голос, так как крикнул:
— А, это ты? Входи!
Дверь отворилась, и в комнату вошел человек небольшого роста, смуглый, с плутоватым лицом куницы. У него была вертлявая, скользящая походка, и, несмотря на мундир, саблю и шпоры, вид у него был приниженный. В словах его сквозило раболепие, и честь он отдавал офицеру раболепно. Именно таких и нанимают для подозрительных дел люди, подобные Вискарре и Робладо; и для этих целей он уже не раз им служил. Это был солдат Хосе.
— Ну, что скажешь? Ты видел Висенсу?
— Да, капитан. Я встретился с нею вчера вечером.
— Есть новости?
— Не знаю, новость ли это для капитана, только она сказала мне, что сеньорита отправила ее вчера домой.
— Ее?
— Да, капитан, белоголовую.
— Ага! Дальше!
— Вы ведь знаете, когда вы ушли, алькальд предложил ее любому, кто захочет взять. Так вот, вперед вышла одна девушка и сказала, что она ее знакомая. И еще была там женщина — мать этой девушки. Ее им сразу и отдали, и они увели ее в дом в зарослях за городом.
— Но она там не осталась. Я знаю, что она убралась оттуда, хотя еще не слышал подробностей. Как же это было?
— Так вот, капитан: только они вошли в дом, как подъехала повозка с возницей-тагносом, и девушка, дочка той женщины, Хосефа, забралась на повозку вместе с белоголовой, и они поехали. Но ни девушка, ни ее мать раньше не видели белоголовой. И как по-вашему, капитан: кто послал их и повозку?
— А что сказал Висенса?
— Их послала сеньорита, капитан.
— Ага! — воскликнул Робладо. — И Висенса уверена в этом?
— Это не все, капитан. Когда повозка тронулась, а может, чуть позже, сеньорита уехала из дому на своем коне. Она закуталась в простое серапе и надела на голову сомбреро, будто какая-нибудь дочь скотовода. Такой костюм, по-моему, совсем не к лицу важной сеньорите. Она поскакала окольной дорогой. Но Висенса думает, что она свернула на большую дорогу, когда проехала мимо домов, и, наверно, догнала эту повозку. Времени у нее было достаточно.
Эти сведения, видимо, произвели большое впечатление на Робладо. Он помрачнел, нахмурился, глаза его блеснули — казалось, какой-то новый план пришел ему на ум. Он помолчал, занятый собственными мыслями, потом спросил:
— Это все, Хосе?
— Все, капитан.
— Может быть, Висенса еще что-нибудь узнала. Повидай ее сегодня вечером опять. Скажи, чтобы не спускала глаз с сеньориты. Если ей удастся разведать, что они переписываются, я ей хорошо заплачу, да и тебя не забуду. Узнай подробнее о той женщине и о ее дочери. Разыщи тагноса, который их возил. Не теряй времени, Хосе. Ступай!
Угодливый солдат раболепно поблагодарил, еще раз раболепно отдал честь и скрылся за дверью.
Как только он вышел, Робладо вскочил с места и взволнованно зашагал по комнате, разговаривая сам с собой:
— Черт возьми! Как же я об этом не подумал? Они переписываются… Ну конечно! Дьяволы! Что за женщина! Он наверняка уже все знает, если только он и сам не поверил, будто мы спасли его сестру от индейцев. Надо установить слежку за домом дона Амбросио. Может быть, это и будет та ловушка, в которую мы его поймаем? Любовь — более надежная приманка, чем братская привязанность. Ага, сеньорита! Если это правда, тогда у меня найдется козырь, какого вы никак не ждете. Я заставлю вас принять мои условия, не прибегая к помощи вашего глупого папаши!
Еще несколько минут Робладо обдумывал свои планы, мечтая о мести и победе, затем он вышел из комнаты и отправился к коменданту, чтобы передать ему сведения, которые только что получил от Хосе.
Глава 42
Дом дона Амбросио де Крусес не был городским особняком. Он находился в предместье — вернее, на самой окраине города, примерно в восьмистах ярдах от площади. Стоял он одиноко, на довольно большом расстоянии от других домов. Его не назовешь виллой или коттеджем — в Мексике нет ни того, ни другого, ни даже чего-либо похожего. В этой стране на протяжении тысячи миль, от ее северной границы до южной, архитектура однообразна и однотипна. Небольшие дома, ранчо бедняков, различаются в зависимости от трех разных климатов — жаркого, умеренного и холодного, которые, в свою очередь, зависят от высоты местности. В жарких краях — иначе говоря, на побережье и в некоторых долинах в центре страны — ранчо — это легкая постройка из камыша и жердей, крытая пальмовыми листьями. На Равнинах, лежащих выше, на плоскогорьях, — а надо сказать, что большинство населения живет именно там, — все ранчо без исключения глинобитные. На лесистых склонах гор, высоко над уровнем моря, ранчо сложены из бревен; у них широкий свисающий карниз и крыша, крытая дранкой; они нисколько не похожи на бревенчатую хижину американских глухих лесов и намного опрятнее и живописнее тех.
Это о ранчо. Как видите, тут есть некоторое разнообразие. О домах богачей этого не скажешь. На протяжении тридцати градусов широты, от одной границы Мексики до другой, и, пожалуй, по всей Испанской Америке, все они строятся на один лад. Если же вам изредка встретится дом необычной архитектуры, то, расспросив, вы узнаете, что его хозяин — иностранец: англичанин — владелец рудников, фабрикант-шотландец или же немец-коммерсант.
Все это относится лишь к домам в сельской местности. В маленьких городишках дома такие же, как и загородные, с очень небольшими изменениями. В больших же городах, хотя там и сохранились некоторые чисто мексиканские черты, архитектура зданий приближается к архитектуре европейских городов, разумеется, главным образом испанских.
Дом дона Амбросио мало чем отличался от других богатых загородных особняков. Он был похож на тюрьму, крепость, монастырь или казармы — что вам больше по душе; все же вид его заметно оживляла окраска стен — перемежающиеся красные, белые и желтые вертикальные полосы. Благодаря этому чисто восточному сочетанию веселых красок мексиканское жилище кажется не таким угрюмым. Такой стиль широко распространен в некоторых частях Мексики.
Все линии дома очень просты. Глядя на него спереди, с дороги, вы увидите длинную стену с огромными воротами посередине и тремя или четырьмя несимметрично расположенными окнами. Окна заслонены вертикальными железными прутьями. Это оконная решетка. Ни стекол, ни переплетов в окнах нет. Ворота тяжелые, деревянные, обиты железом и запираются железными засовами. Передняя стена — в один этаж, но она возвышается над крышей, образуя парапет высотою по грудь человеку, и благодаря этому кажется выше. Так как крыша плоская, снизу парапет не виден.
Заверните за угол справа или слева. Не рассчитывайте, что вы увидите фронтон, — у таких домов его не бывает. Вместо него далеко тянется глухая стена такой же высоты, как первая вместе с парапетом; а если вы пройдете вдоль нее до самого конца и снова заглянете за угол, вы обнаружите еще одну такую же стену — она замыкает прямоугольник.
Вам так и не пришлось бы увидеть фасад дома дона Амбросио, если подразумевать под этим наиболее нарядную часть здания. Мексиканец не придает значения наружному виду своего жилища. Только из внутреннего двора — патио — пред вами предстанет фасад, и, возможно, он поразит вас своим великолепием и изысканностью. Вот тогда-то вы и сможете судить о вкусе владельца дома.
Пройдемте в патио. Привратник, отозвавшись на стук или звонок, откроет вам небольшую калитку — часть упомянутых ворот. Мы проходим через сводчатый коридор — портал, прорезающий здание, и вот мы во дворе. Теперь перед нами настоящий фасад дома.
Двор вымощен цветными кирпичами, выложенными наподобие шахматной доски. Посередине струей бьет фонтан, бассейн его украшен орнаментом. В больших кадках, чтобы корни не повредили мостовую, растут аккуратно подстриженные деревья. По сторонам этого двора вы увидите двери; некоторые из них застеклены и со вкусом задрапированы занавесями. Двери зала, столовой и спален расположены с трех сторон, с четвертой находятся кухня, кладовая, амбар, а также конюшня и каретный сарай.
Надо упомянуть еще об одной важной части дома: это крыша асотея. Туда поднимаются по каменной лестнице. Крыша плоская и очень прочная, так как покрыта цементом и не боится дождя. Со всех сторон она обнесена парапетом такой высоты, что он не мешает любоваться окрестностями, но ограждает от назойливых взоров прохожих. После захода солнца или когда оно прячется за облака, асотея — самое приятное место для прогулок. По крыше дома дона Амбросио прогуливаться особенно приятно, так как она больше похожа на сад. Вокруг расставлены покрытые черным лаком горшки с редкими растениями, а зеленые ветви и яркие цветы, поднимаясь над стенами, удивительно украшают дом и снаружи.
Но это не единственный сад при жилище богатого владельца рудников. За домом раскинулся еще один, продолговатой формы, с двух сторон обнесенный высокими глинобитными стенами. Эта ограда тянется до берега реки. Вдоль реки нет забора; достаточно широкая и глубокая в этом месте, она заменяет ограду. Сад большой, а в конце его насажены еще и фруктовые деревья. Его украшают со вкусом проложенные дорожки, цветочные клумбы и зеленые беседки самой разнообразной формы и величины. Пройдясь по этому саду, можно подумать, что дон Амбросио, хотя он всего-навсего богатый выскочка, обладает изысканным вкусом ведь такие очаровательные уголки не часто встречаются в Мексике. Но не им придуманы эти тенистые деревья и благоухающие беседки. Все это затея его красавицы-дочери, которая проводит немало часов в тени сада.
Дону Амбросио вид рудника — огромной выемки в скале, среди груд кварца, и в глубине ее вид богатой жилы — был милее всех цветов на свете. Куча слитков серебра приковала бы к себе его взор куда вернее, чем поле, сплошь покрытое черными тюльпанами или голубыми георгинами.
Каталина совсем не походила не отца. У нее был вкус возвышенный и утонченный. Ей были чужды мысли о богатстве и спесь богачей. Она охотно отказалась бы от своего вызывавшего так много толков наследства, чтобы разделить жизнь в скромном ранчо с человеком, которого она любила.
Глава 43
Солнце клонилось к закату. Его огненный шар спешил поцеловать снежную вершину Сьерра-Бланка, высившуюся на западе. Белую мантию, ниспадавшую с плеч горы, окрасили розовые блики, во впадинах ущелий она становилась алой, пурпурной и от контраста с темными лесами, росшими на склонах Сьерры, казалась еще прекраснее.
В этот вечер закат был особенно яркий. На западе громоздились разноцветные облака; золото, пурпур и лазоревая синева сочетались в пышном великолепии; облака принимали самые причудливые очертания, и могло показаться, что это сияющие, восхитительные существа из какого-то иного мира. Эта картина должна была радовать глаз, развеселить сердце, полное печали, а счастливое сделать еще счастливей.
Она не осталась незамеченной. На нее устремлены были глаза, очень красивые глаза, и все же в них была печаль, никак не гармонировавшая с картиной, на которую они смотрели.
Не сияние закатного неба омрачило эти глаза. Хотя они и были устремлены на него, не о нем была печаль, отразившаяся во взоре. Не тем полно было сердце.
Обладательница этих глаз — не юная девочка, а девушка в расцвете красоты. Она стояла на асотее великолепного дома и, казалось, любовалась пышным закатом, однако размышляла она не о закате, но о вещах далеко не столь приятных.
Даже отблеск пламенного неба, падая на ее лицо, не мог рассеять пробегавшие по нему тени. Сумрак в душе оказался сильнее, чем свет внешнего мира. Тени омрачали прекрасное лицо, потому что тень окутала сердце.
И все же лицо ее было прекрасно и прекрасна фигура, высокая, величавая, с нежной грацией и мягкими очертаниями. Эта красавица была Каталина де Крусес.
Она стояла на асотее одна, окруженная лишь растениями и цветами. Склонившись над низким парапетом, она смотрела на запад и видела заходящее светило.
Порой она поднимала глаза к небу и солнцу, но чаще смотрела в глубину сада, на тенистую рощицу диких китайских деревьев, сквозь стройные стволы которых сверкала серебряная лента реки. На этой рощице ее глаза время от времени задерживались с выражением какого-то странного интереса. Неудивительно, что это место притягивало ее взор. Здесь впервые она, точно завороженная, слушала обеты любви; оно было освящено поцелуем, и в своих мечтах она вознесла его с жалкой земли в небесную высь. Неудивительно, что для нее не существовало места прекраснее. В самых прославленных садах мира, даже в раю не могло быть такого прелестного тенистого уголка, как маленькая зеленая беседка, которую она сама устроила в листве этих диких китайских деревьев.
Почему же ее взгляд так печален? Ведь в этом прибежище сегодня же ночью она встретится с тем, кто сделал для нее этот уголок священным. Почему она так печальна? Ведь, предвкушая встречу, она должна бы сиять от радости.
Временами, когда она думала о предстоящей встрече, так оно и было. Но на ум приходила и другая мысль, это она вызывала тревожное чувство, из-за нее набегали на лицо тени. Что же это за мысль?
Каталина держала в руках бандолу. Она опустилась на землю и стала наигрывать старинную испанскую песню. Но она не в силах была справиться с собой. Мысли блуждали далеко, пальцы не слушались.
Она положила бандолу, снова встала и принялась ходить взад и вперед по асотее. Прогулка не приносила успокоения. Порой сеньорита останавливалась и, опустив глаза, казалось, над чем-то задумывалась. Потом снова начинала ходить и опять застывала на месте. И еще и еще раз, все молча, без единого слова.
Один раз она прошла вокруг асотеи, заглядывая во все уголки между растениями и цветочными горшками, словно искала что-то; но поиски не увенчались успехом, ничто не привлекло ее внимания.
Она опять села на скамью и взяла бандолу. Но, едва коснувшись пальцами струн, отложила инструмент и вскочила, словно вдруг вспомнила что-то очень важное.
— Как же я не подумала об этом? Ведь я могла уронить в саду! — прошептала она и сбежала по лесенке вниз, в патио.
Узкий коридор вел из патио в сад. Через мгновение Каталина уже шла по усыпанным песком дорожкам, поминутно наклоняясь и заглядывая за каждое деревце, за каждый кустик — всюду, где могло бы остаться незамеченным то, что она искала.
Она обшарила все уголки, потом ненадолго задержалась в зеленой беседке меж китайских деревьев — ведь это место было ей особенно мило. Но вот она покинула сад; на лице ее по-прежнему тревога: видно, сеньорита не нашла то, что потеряла.
Она вернулась на асотею, опять взяла в руки бандолу и, как прежде, проведя по струнам, отложила ее, поднялась и опять заговорила сама с собой:
— Как странно! У меня в комнате ее нет… В зале, в столовой, на асотее, в саду — нигде нет… Куда она могла затеряться? О Господи! Что, если она попала в руки отца? Там все так ясно, нельзя не понять… Нет, нет, нет!.. А вдруг она попала в другие руки? В руки его врагов! Там сказано: сегодня ночью… Правда, не сказано, где, но упомянуто время, а о месте нетрудно догадаться… Если бы я знала, как предупредить его! Но я не знаю, и он придет. Горе мне, теперь уже ничего нельзя предотвратить! Только бы она не попалась врагам! Но куда же она могла затеряться? Матерь божия, куда же?..
Все это говорилось с таким волнением, что было ясно: сеньорита потеряла что-то очень для нее важное и дорогое. Это было не что иное, как записка, принесенная Хосефой, в которой Карлос писал, что придет сегодня ночью повидать Каталину. Неудивительно, что ее так встревожила потеря. Содержание записки не только могло погубить ее доброе имя, но подвергало опасности жизнь любимого ею человека. Вот почему черные тени омрачили ее лицо, вот почему она в тревожных поисках обошла весь сад и асотею.
— Придется спросить Висенсу, — продолжала она. — А очень не хочется. Я не верю ей больше. Она так изменилась! Была искренняя, честная, а стала лгуньей и лицемеркой. Уже два раза я уличила ее во лжи. Что это значит?
Каталина помолчала, словно в раздумье.
— И все-таки придется спросить ее. Может быть, она нашла бумажку, подумала, что это что-нибудь ненужное, и бросила в огонь. По счастью, она не умеет читать. Но ведь она встречается с теми, кто умеет… Да, я совсем забыла про солдата, ее дружка. Что, если она нашла записку и показала ему?.. Боже праведный!
Мысль о такой возможности была мучительна, сердце сеньориты забилось сильнее, она учащенно задышала.
— Это было бы ужасно! — продолжала она. — Хуже ничего быть не может!.. Не нравится мне этот солдат, в нем есть что-то хитрое и низкое… Говорят, он дурной человек, хотя комендант и благоволит к нему. Упаси Бог, если записка у него! Нельзя терять времени. Позову Висенсу и спрошу ее.
Она подошла к парапету и крикнула вниз:
— Висенса! Висенса!
— Что, сеньорита? — раздался голос откуда-то из дому.
— Поди сюда!
— Сейчас, сеньорита.
— Быстрей! Быстрей!
Девушка в короткой пестрой юбке и белой кофточке без рукавов вышла в патио и поднялась по лестнице на крышу.
Светло-коричневый цвет кожи выдавал, что она метиска родилась от брака индейца с испанкой. Она была недурна собой, но, взглянув на ее лицо, никто не подумал бы, что она добра, честна, приветлива: лицо это было злобное и хитрое. И держалась она дерзко и вызывающе, как человек, виновный в преступлении, которое уже обнаружено, и готовый на все. Такой тон появился у нее недавно, и ее хозяйка наряду с другими происшедшими в ней переменами заметила и это.
— Что вам угодно, сеньорита?
— Я потеряла небольшой листок бумаги, Висенса. Он был свернут трубочкой… не так, как письма, а вот так. — И она показала девушке листок, свернутый так же. — Тебе не попадалась такая бумажка?
— Нет, сеньорита, — тотчас последовал ответ.
— Может быть, ты вымела ее или бросила в огонь? Она такая неважная с виду, да и в самом деле пустяковая, но на ней рисунок, который мне хотелось переснять. Не уничтожили ее, как ты думаешь?
— Не знаю, сеньорита. Только я-то ее не уничтожала. Уж я-то ее не выметала и не бросала в огонь. Как же я выкину бумажку, раз я не умею читать? Ведь так можно выкинуть что-нибудь нужное.
Была ли правдой или ложью вторая часть ее рассуждений, но вначале Висенса сказала правду. Она не уничтожила бумажку — она ее не вымела и не сожгла.
Она отвечала прямо и простодушно, даже как-будто сердясь немного, словно обижаясь, что ее заподозрили в такой небрежности.
Хозяйку ответ, казалось, удовлетворил, а заметила ли она тон Висенсы — об этом трудно судить, так как она сказала только:
— Ладно. В конце концов это неважно. Можешь идти, Висенса.
Девушка отошла с угрюмым видом и стала спускаться по лестнице. В последнюю секунду она поглядела на хозяйку, уже стоявшую к ней спиной, и злобная, насмешливая улыбка искривила ее губы. Конечно, она знала о потерянной бумажке больше, чем сказала своей госпоже.
Каталина вновь устремила взор на заходящее солнце. Через несколько минут оно скроется за снеговой вершиной горы. Пройдет несколько часов, а потом — радостная встреча!
* * *
Робладо, как и прежде, сидел у себя дома. И, как прежде, раздался негромкий стук в дверь. Опять он спросил: «Кто там?», и снова раздался ответ: «Я!» И, как прежде, он узнал голос и велел стучавшему войти. Опять, раболепно отдав честь, к офицеру подошел солдат Хосе.
— Ну, Хосе, какие новости?
— Только это, — ответил солдат, протягивая свернутый трубочкой листок бумаги.
— Что это? От кого? — поспешно спросил Робладо.
— Капитан разберется лучше меня — я ведь не умею читать. А взяли эту бумажку у сеньориты, и похоже, что там письмо. Кто-то передал его сеньорите вчера утром в церкви — так Висенса думает. Она видела: сеньорита, как вернулась от заутрени, читала его. Висенса думает, что его принесла в долину крестьянка Хосефа. Да капитан, наверно, и сам увидит…
Робладо был уже поглощен запиской, он не слыхал и половины того, что говорил Хосе. Дочитав до конца, он вскочил со стула, словно его ткнули шилом, и в волнении зашагал по комнате.
— Скорее! Скорее, Хосе! — крикнул он. — Пришли сюда Гомеса. Никому ни слова! Будь готов, ты тоже мне понадобишься. Сейчас же пришли Гомеса! Ну!
Солдат отдал честь на этот раз менее раболепно — уж очень он торопился! — и стремглав выскочил из комнаты.
— Вот удача, ей-Богу! — пробормотал Робладо. — Не было еще случая, чтобы влюбленный дурак не попадался на такую приманку! И сегодня же в полночь! У меня хватит времени, чтобы подготовиться. Если бы я только знал место! Но об этом ничего не сказано.
Он перечитал записку.
— Не сказано, черт возьми! Какая досада! Что делать? Нельзя же действовать вслепую… Ага, знаю! Надо выследить ее! Выследить до самого места. Висенса может это сделать, а мы тем временем заляжем поблизости в засаде. Висенса скажет нам, где они встретились. Мы успеем их окружить — не сразу же они расстанутся. Мы их застигнем в минуту сладкого свиданья. Тысяча чертей! Только подумать, кто стал на моем пути — презренная собака, бизоний палач! Терпение, Робладо, терпение! Сегодня же… сегодня ночью!
Стук в дверь. Вошел сержант Гомес.
— Отбери двадцать солдат, Гомес! Лучших, слышишь! Будь готов к одиннадцати. Времени у тебя хватит, но чтобы был готов, когда я позову. Никому из чужих ни слова! Вели седлать коней, да скажи людям, чтобы помалкивали. Зарядите карабины. Будет для тебя дельце. Потом узнаешь, какое. Ступай, готовься!
Сержант, не сказав ни слова, пошел выполнять приказ.
— Вот проклятье! Знал бы я, где место, хотя бы приблизительно! Возле дома? В саду? А может где-нибудь подальше, за городом? Вполне вероятно. Вряд ли он рискнет прийти к самому городу — тут могут узнать его или коня. Чтоб он сдох, его конь!.. Нет, нет! Я еще заполучу этого коня, не будь я Робладо! Если бы только разузнать заранее, где они встретятся, дело было бы верное. Но нет, ничего не сказано о месте. Как же, «старое место»! Тысяча чертей! Они встречались и раньше, и, наверно, часто… часто… О!
Мучительный стон вырвался из груди Робладо, и он заметался по комнате, словно теряя рассудок.
— Сказать Вискарре сейчас, — продолжал он, — или когда уже все будет кончено? Лучше подожду. Вот будет лакомая новость к ужину! А может быть, я подам к столу гарнир из ушей охотника на бизонов!
И негодяй разразился дьявольским смехом. Потом прицепил саблю, захватил пару тяжелых пистолетов и, проверив, хорошо ли укреплены шпоры, быстро вышел из комнаты.
Глава 44
До полуночи оставался один час. В небе светила луна, но она уже склонилась к горизонту, и скалы, стеной замыкавшие долину с юга, отбрасывали длинную, во много ярдов, тень.
Вдоль каменного плоскогорья, у самого его подножия, ехал к городу всадник. Ехал он осторожным шагом и время от времени бросал на дорогу беспокойные взгляды, — должно быть, чего-то опасался и хотел остаться незамеченным. Очевидно, именно поэтому он держался в тени скал, так как, приближаясь к местам, где склон был пологий и не отбрасывал тени, он останавливался и тщательно осматривался, а потом быстро проезжал это место. Если бы он не старался не попасться кому-либо на глаза, он, конечно, не жался бы к утесам, а избрал гораздо лучшую дорогу, пролегавшую совсем невдалеке.
Проехав таким образом несколько миль, всадник оказался наконец напротив города, в трех милях от него. Отсюда в город вела дорога, соединявшая его с проходом в скалах, где можно было подняться на левую половину плоскогорья.
Всадник придержал коня и некоторое время в раздумье глядел на дорогу. Решив отказаться от нее, он проехал еще с милю под тенью утесов, потом опять остановился и окинул внимательным взглядом местность справа от себя. К городу или куда-то выше вела узкая тропка. Всадник, видимо, быстро убедился, что она-то ему и нужна, повернул коня, отделился от утесов и выехал на открытое место.
В сиянии месяца стало видно, что он молод и прекрасно сложен; одет он был как скотовод; благородный вороной конь под ним весь лоснился в серебряном свете. Всадника нетрудно было узнать. В этой стране людей с темной кожей его белое лицо и светлые кудри, выбивавшиеся из-под полей сомбреро, не оставляли сомнения в том, кто он. Это был Карлос, охотник на бизонов. Следом бежала большая, похожая на волка собака; прежде, в тени, ее не было видно. То был пес Бизон. Чем ближе подъезжал всадник к городу, тем он становился осторожнее.
Раскинувшаяся перед ним местность, хотя и ровная, не была сплошь открытой; на его счастье, кое-где возвышались небольшими островками группы деревьев; тропка пролегала через рощицы кустарника, они выделялись то тут, то там, словно заплаты на равнине. Бесшумно, без лая, первой входила в рощу собака; всадник следовал за ней. А выехав на опушку, он снова останавливался, тщательно осматривал открытое пространство, отделявшее его от следующей рощи, и только тогда ехал дальше.
Путешествуя таким образом, он наконец оказался в нескольких сотнях ярдов от от предместий города. Уже видны были стены зданий и купол церкви, сверкавший над кронами деревьев. Всадник устремил взор на стену, которая была ближе других. Он узнал ее очертания. Это был парапет над домом дона Амбросио; всадник приближался к нему сзади.
В небольшой роще, последней в долине, Карлос остановился. За ней до берега реки, которая, как уже говорилось, замыкала сад дона Амбросио, лежало открытое ровное пространство — луг, принадлежащий дону Амбросио, где обычно паслись его лошади. Их перегоняли через реку по грубо сколоченному мосту, который начинался за оградой сада; но там был еще один мост, более легкий и тщательно сделанный, — он соединял луг и сад и предназначался только для пешеходов. По этому укромному мостику выходила из сада дочь дона Амбросио, когда ей хотелось насладиться прогулкой по чудесному лугу на другом берегу реки. Чтобы в сад не вторгались посторонние, на середине маленького мостика была запертая на замок калитка.
От рощи, где остановился Карлос, до мостика было немногим больше трехсот ярдов, и только темнота могла бы помешать его разглядеть. Но все еще сияла луна, и Карлос ясно видел высокие сваи и выкрашенную светлой краской калитку. Реки он не мог видеть, берега тут высокие, а сад скрывали тополя и китайские деревья, росшие у самой воды.
Въехав в рощицу, Карлос спешился, отвел коня в самую густую тень деревьев и оставил его там. Он не привязал коня, а только перекинул поводья через переднюю луку седла, чтобы они не волочились по земле. Он давно приучил своего благородного скакуна оставаться на месте без привязи.
Затем он подошел к краю зарослей и остановился, глядя на мостик и деревья за ним. Карлос приходил сюда не впервые, но никогда еще не испытывал он такого сильного душевного волнения, как сейчас.
Он готовился к предстоящей встрече и давал себе слово говорить откровенно, так, как никогда раньше не осмеливался. Он сделает предложение… Будет ли оно отклонено или принято? От этого зависела его судьба. Сердце его так сильно билось, что стук отдавался в ушах.
* * *
В городе царила глубокая тишина. Жители давно уже спали, ни один луч света не пробивался из дверей или окон — все они были плотно закрыты и наглухо заперты. На улицах не было ни души, лишь несколько ночных стражей охраняли город. Закутанные в темные плащи, они сидели на лавках у домов и дремали, зажав в руке длинные алебарды, а у ног на мостовой стояли их фонари.
Глубокая тишина царила и в жилище дона Амбросио. Огромные ворота были накрепко заперты, привратник скрылся в своей сторожке, а это означало, что все обитатели уже дома. Если тишина — это сон, то здесь все спали. Однако слабый луч света проникал из-за стеклянной двери сквозь неплотно задернутые шелковые занавеси и падал на мощеный двор — значит, по крайней мере, один из обитателей бодрствовал. Свет шел из комнаты Каталины.
Вдруг тишину разбил гулкий звон колокола. Это часы на церковной башне возвестили полночь. Едва отзвучал последний удар, как свет в комнате внезапно погас — его уже не было видно сквозь занавеси.
Вскоре тихо отворилась стеклянная дверь, и появилась плотно закутанная женская фигура. Крадучись, неуверенным шагом она скользила по теневой стороне двора. Широкий плащ не мог скрыть ее стройности и изящества, а походка пленяла грацией, несмотря на скованность и настороженность движений. Это была сеньорита.
Обойдя патио, она вошла в коридор, который вел в сад. Перед тяжелой дверью, преграждающей выход из дома, она остановилась. Но лишь на мгновение. Из-под плаща появился ключ, и большой засов нехотя уступил нажиму женской руки. Но он не поддался бесшумно: ржавое железо заскрипело, и Каталина вздрогнула в испуге. Она даже возвратилась обратно в коридор, чтобы проверить, не услышал ли кто-нибудь шума; стоя в темном проходе, она оглядела патио. Уж не дверь ли это хлопнула, когда она возвращалась? По крайней мере, так ей почудилось, и она стояла, с тревогой глядя на двери, выходящие во двор. Но все они были плотно затворены, и дверь ее комнаты тоже: Каталина, уходя, закрыла ее. И все же сомнения не покинули сеньориту, и она вернулась к воротам не совсем успокоенная.
С опаской она отворила их и через коридор вышла в сад. Держась в тени деревьев и кустов, она вскоре достигла рощицы в конце сада. Здесь она остановилась; сквозь стволы деревьев она оглядела открытое пространство, отделявшее ее от рощи, где был теперь Карлос. Она смутно видела очертания деревьев, но и только; в тени их на таком расстоянии нельзя было разглядеть человека в темной одежде.
Каталина выскользнула из рощицы; через мгновение она уже стояла перед калиткой на середине мостика, в самом высоком его месте. Здесь она опять остановилась, достала из-под плаща белый батистовый платок и, выпрямившись во весь рост, обеими руками расправила платок высоко над головой.
В воздухе носились светляки, и их огоньки сверкали на темном фоне рощи, но это не помешало Каталине заметить среди этих огоньков более яркую вспышку, словно кто-то чиркнул спичкой. Она получила ответ на свой сигнал.
Каталина опустила платок и, достав небольшой ключ, вставила его в скважину замка. Растворив калитку, она отошла обратно под тень деревьев и в ожидании остановилась.
Даже в темноте глаза ее светились любовью: она увидела, как из рощи вышел человек и направился к мостику. Человек этот был ей дороже всего на свете; она ждала его, щеки ее пылали и сердце наполнилось радостью.
Глава 45
Каталине не почудилось, что она слышала стук захлопнувшейся двери, когда она возвращалась по коридору. В эту минуту действительно закрыли дверь — ту, что вела в спальню служанок. Если бы Каталина поспешила, то увидела бы, как кто-то метнулся по двору и вошел в эту дверь. Но Каталина опоздала. Дверь уже закрылась, и кругом снова было тихо. «Видно, это почудилось мне», — подумала она.
Но нет, ей это не почудилось. Как только члены семьи разошлись по своим спальням, за дверью комнаты Каталины начали следить. С полоски света, пробивавшейся сквозь занавешенное стекло, не сводила глаз Висенса.
Еще с вечера служанка попросила разрешения ненадолго отлучиться. Ей не отказали. Она отсутствовала почти час. Солдат Хосе привел ее к Робладо, и там они обо все уговорились.
Висенсе велено было выследить, когда сеньорита выйдет из дому, и потом пойти за ней до места тайного свидания. Узнав, что это за место, она должна сейчас же бежать туда, где ее будут ждать Робладо и солдаты, и сразу привести их к влюбленным. Робладо решил, что это самый верный план действий, и позаботился о том, чтобы этот план осуществить.
Дверь спальни служанок находилась как раз напротив комнаты Каталины. Сквозь замочную скважину Висенса увидела, что свет погас и сеньорита проскользнула в патио. Она подождала, пока та вошла в коридор, затем, тихонько отворив дверь, прокралась за ней.
Как раз тогда, когда сеньорита отперла ворота в сад, Висенса, притаившись, стояла у стены возле входа в коридор. Услыхав, что Каталина возвращается, — ее выдал звук шагов, хитрая шпионка метнулась обратно в комнату служанок и затворила за собой дверь.
Не сразу она отважилась выйти снова, но пришлось — ведь в замочную скважину теперь уже нельзя было ничего увидеть. Висенса все же поглядела в нее, но хозяйка не возвращалась, значит, она пошла дальше в сад. И опять Висенса тихонько отворила дверь и выскользнула из спальни. На цыпочках подошла она к коридору и украдкой туда заглянула. Там уже не было темно: ворота остались открытыми, и лунный свет залил весь проход. Можно было не сомневаться, что сеньорита вышла и теперь она в саду.
В саду ли? Висенса вспомнила о мостике. Она знала, что у ее госпожи есть ключ от калитки и она нередко днем и даже ночью уходит гулять за реку. А вдруг сеньорита и на этот раз перешла мост? Теперь она уже где-нибудь далеко на том берегу… Что, если она не узнает, в какую сторону ушла ее госпожа, и испортит все дело?..
Как только эта мысль мелькнула у нее в голове, Висенса бросилась по коридору в сад и, пригнувшись, что есть духу побежала по дорожке.
Не увидев никого меж фруктовых деревьев и цветочных клумб, она стала было отчаиваться, но вид густой рощицы в конце сада ее обнадежил: вот самое подходящее место для свидания, правильно рассудила искушенная в подобных делах Висенса.
Но подойти к рощице оказалось не так-то просто. Между цветочными клумбами и этой рощей лежало открытое пространство зеленая лужайка. Если там, в рощице, кто-нибудь есть, он непременно заметит приближающегося человека — ведь луна светит так ярко. Висенса сразу это поняла и остановилась, раздумывая, как же ей все-таки туда пробраться.
Можно, кажется, сделать только одно. Высокая стена ограды отбрасывает на лужайку полосу тени в несколько футов шириной. А что, если незаметно добраться до рощи, прячась в этой тени? Девушка решила попытаться.
С хитростью, присущей метисам, она распласталась на земле и поползла, так она достигла опушки рощи, как раз позади зеленой беседки. Здесь она остановилась, подняла голову и посмотрела сквозь листву. Она увидела то, что хотела.
Каталина стояла на мосту выше того места, где залегла метиска, и ее силуэт вырисовывался на фоне синего неба. Висенса увидела поднятый вверх белый платок и догадалась, что это сигнал. Она видела вспышку в ответ на этот сигнал, видела, как ее хозяйка отперла замок и распахнула калитку.
Хитрая шпионка не сомневалась больше, что свидание состоится в рощице, и могла бы вернуться с этими сведениями к Робладо. Но Робладо ясно приказал ей не уходить до тех пор, пока она не увидит своими глазами, что влюбленные встретились в условленном месте, поэтому она стала ждать, как они поступят дальше.
Заметив знакомый платок, Карлос в ответ поджег щепотку пороха. Он не стал терять времени. На мгновение подошел он к коню, шепнул ему что-то такое, что тот великолепно понял, и вышел из рощи. Бизон следовал за ним по пятам. Дойдя до мостика, Карлос наклонился и, прошептав несколько слов собаке, отправился дальше. Собака не последовала за ним — она улеглась на берегу реки.
Еще мгновение, и влюбленные встретились.
Висенса лежала, прижавшись к земле, и издали следила за ними. Луна озаряла их лица, и при этом свете отчетливо были видны белое лицо и вьющиеся волосы Карлоса. Девушка знала охотника на бизонов — да, это был он.
Она увидела все, что нужно было знать Робладо. Место свидания — здесь, в конце сада. Оставалось только возвратиться к офицеру и сказать ему об этом.
Она уже собралась уползти и даже приподнялась, как вдруг, к своему ужасу, увидела, что влюбленные идут через рощицу к той самой беседке, за которой она укрылась.
Они шли, казалось, прямо на Висенсу. Если бы она встала или попыталась ускользнуть, они непременно заметили бы ее.
Выбора не было — нужно было оставаться на месте по крайней мере до тех пор, пока не представится лучшая возможность убраться отсюда. И Висенса скорчилась под тенью листвы.
Через минуту влюбленные вошли в беседку и сели на скамью, стоявшую в этом укромном уголке.
Глава 46
Каталина и Карлос были так взволнованы, что несколько минут не могли вымолвить ни слова. Первой заговорила Каталина.
— Как ваша сестра? — спросила она.
— Ей лучше. Я велел отстроить наше ранчо, она теперь там. Родные стены сотворили чудо. Рассудок сразу вернулся к Росите, она только иногда немного забывается. Но я надеюсь, что она скоро поправится.
— Как я рада! Бедная девочка, сколько ей пришлось выстрадать в плену у этих грубых дикарей!
— Грубых дикарей! Да, Каталина, вы назвали их настоящим именем, хотя и не знаете, о ком говорите.
— О ком? — удивленно повторила сеньорита. Она, как и все, была уверена, что сестра Карлоса побывала в плену у индейцев.
— Отчасти из-за этого я хотел увидеться с вами сегодня. Я не мог жить, не объяснив вам своего поведения, — вы, наверно, не могли понять меня. Но теперь вы все узнаете. Слушайте, Каталина!..
Не опустив ни одной подробности, Карлос рассказал подруге об ужасном заговоре. Каталина была поражена.
— Какие злодеи! — воскликнула она. — Какая невероятная жестокость! Подумать только, что есть на свете такие изверги! Если бы это не вы мне сказали, дорогой Карлос, я не поверила бы, что возможна такая подлость! Я знала, что оба они дурные люди, я слышала об их подлых делах, но такого злодейства и вообразить не могла. Святая дева! Что за люди! Чудовища! Непостижимо!
— Теперь вы знаете, справедливо ли меня называют убийцей.
— Дорогой Карлос, не думайте об этом! Я никогда этому не верила. Я знала, что вы не можете поступить несправедливо, неблагородно. Но не бойтесь! Весь свет узнает…
— Свет! — с горькой усмешкой прервал Карлос. — Для меня нет света. У меня нет дома. Даже для тех, с кем я вместе вырос, я всегда был чужой — отверженный еретик. А теперь и того хуже: я беглец, меня преследуют, за мою голову назначена награда, и немалая. По правде говоря, я никогда не думал, что так дорого стою!
Карлос засмеялся, но веселость его длилась недолго. Он продолжал:
— Свет для меня — вы, Каталина! А теперь вы останетесь для меня только в сердце. Я должен проститься с вами и уехать, уехать далеко. Здесь меня ждет смерть… нет, хуже, чем смерть. Я должен уйти. Мне придется уехать на родину своих родителей, к нашим давно забытым родственникам. Возможно, я найду себе там пристанище и друзей, но счастья нет для меня без вас и не будет никогда!
Каталина молчала, опустив полные слез глаза. Она вздрогнула от мелькнувшей у нее мысли и страшилась ее высказать. Но сейчас не время для ложной скромности и излишней робости, да это и не в ее характере. От одного слова зависит счастье всей ее жизни и счастье любимого человека. Прочь девичью застенчивость! Она скажет, что думает!
Она наклонилась к Карлосу близко-близко, взяла его за руку и, глядя ему в глаза, сказала с нежностью, но твердо:
— Карлос, вы ведь хотите, чтобы я уехала с вами?
В то же мгновение он обнял ее и поцеловал.
— Боже мой! Возможно ли это?! — воскликнул он. — Так ли я понял? Каталина, дорогая, я хотел предложить вам это, но не смел. Я боялся. Мне казалось — это безумие. Вы всем жертвуете ради меня! Дорогая моя, дорогая, неужели это правда? Неужели вы хотите уехать со мной?
— Да, хочу! — последовал краткий, но решительный ответ.
— О Боже! Я слишком счастлив! Целую неделю я так страдал и вот снова счастлив. Да, неделю тому назад я тоже был счастлив, Каталина. Я пережил удивительное приключение, оно сулило мне богатство. Я был полон надежд, я надеялся завоевать вас, Каталина… нет, дорогая, не вас — вашего отца. Я надеялся с помощью золота заручиться его согласием. Смотрите! — Карлос протянул руку, полную сверкающего металла. — Это золото. Я нашел золото. Я надеялся, что сравнюсь с вашим отцом в богатстве, а потом добьюсь его согласия. Увы, сейчас и золото не поможет… Но ваши слова возвратили мне счастье. Не думайте, что вы теряете богатство… Нет, я знаю, вы о нем и не думаете, дорогая. Я дам вам такое же — быть может, много больше. Я знаю, где можно добыть этот драгоценный мусор, и я все скажу вам, когда у нас будет для этого время. Сегодня ночью…
Каталина прервала его. Ее острый слух уловил звук, показавшийся ей странным. Что-то слегка зашуршало за беседкой, словно ветер тронул листву. Но ведь ветра не было, ни малейшего дуновения. Значит, шорох был от чего-то другого. От чего же?
Подождав секунду-другую, они вышли из беседки и пошарили в кустах, откуда, по-видимому, исходил шорох, но ничего не обнаружили. Они осмотрели все кругом, но нигде не было ничего, что могло бы так зашуршать. Теперь было гораздо темнее, чем тогда, когда они вошли в беседку. Луна опустилась ниже, ее серебряное сияние потускнело, но все же было еще достаточно светло, чтобы заметить любой крупный предмет на расстоянии нескольких ярдов. Каталина не могла ошибиться. Она, несомненно, слышала какой-то шорох. Может быть, это была собака? Карлос прошел на мостик. Нет, Бизон лежал там, где хозяин его оставил. Он не подходил к беседке. Что же это было? Не ящерица ли? Может быть, ядовитая змея?
Но что бы это ни было, в беседку нельзя возвращаться — они останутся снаружи. Недобрые предчувствия шевельнулись в душе Каталины: она вспомнила о потерянной записке и о том, как где-то хлопнула дверь, когда она шла сюда. Все это она торопливо рассказала своему другу.
До этого Карлос не придавал большого значения тому, что могло быть явлением естественным, — взмахнула крыльями вспугнутая ими птица, проползла змея или ящерица. Но слова Каталины заставили его насторожиться. Он сразу понял, что в этом кроется что-то дурное. Не раз он сталкивался с коварством индейцев и привык соображать быстро. Он тут же решил тщательно исследовать землю.
Он опять прошел за беседку и, опустившись на колени, внимательно осмотрел кусты и траву. Спустя мгновение он поднялся и с удивлением воскликнул:
— Клянусь, вы правы, Каталина! Здесь, несомненно, кто-то был. Кто-то лежал на этом самом месте. Только куда же он девался?.. Да ведь это была женщина! Вот след ее платья.
— Висенса! — воскликнула сеньорита. — Не иначе, как моя служанка Висенса! Смилуйся, Господь! Она слышала все от слова до слова!
— Конечно! Она выследила, когда вы ушли из дому, и пошла за вами. Но что ее толкнуло на это?
— Горе мне! Один Бог знает. Она так странно вела себя последнее время… Просто несносно! Карлос, дорогой, продолжала сеньорита, и в ее голосе звучало уже не огорчение, а тревога, — вам нельзя здесь больше оставаться. Кто знает, что она натворит? Вдруг она позовет моего отца! А вдруг еще хуже… Святая дева! Неужели?..
Тут Каталина поспешно рассказала Карлосу о знакомстве Висенсы с солдатом Хосе и обо всем, что касалось этой девушки. Он должен уйти, нельзя медлить ни минуты!
— Хорошо, я уйду, — сказал Карлос. — Но не потому, что боюсь их. Сейчас слишком темно, чтобы стрелять из карабинов, а их сабли меня не достанут: ведь со мной мой верный конь, он мигом примчится на мой зов. Но мне и вправду лучше уйти. Тут что-то кроется. Не станет же эта девушка так стараться из одного только любопытства. Я ухожу сейчас же.
Итак, Карлос принял решение. Но столько осталось недосказанного: еще раз произнести любовные клятвы, назначить час новой встречи, быть может, последней, перед тем как со всем покончить и бежать через Великие Равнины.
Не раз Карлос, уже ступив на мост, снова возвращался к Каталине: еще одно ласковое слово, еще прощальный поцелуй…
Наконец, обменявшись последним «до свиданья», влюбленные расстались. Каталина направилась к дому, а Карлос готов был перейти мост, но рычанье Бизона заставило его, насторожившись, остановиться.
Собака зарычала снова, на этот раз более грозно, а затем свирепо залаяла, предупреждая хозяина о близкой опасности.
Сперва Карлос хотел перебежать через мост и мчаться к коню — тогда он успел бы вовремя скрыться. Вместо этого он вернулся в рощицу, чтобы предостеречь Каталину и поторопить ее. Каталина тем временем уже вышла на лужайку, но, услышав лай собаки, остановилась. Спустя мгновение к ней подбежал Карлос. Но он не успел и слова сказать, как за оградой сада раздался конский топот — по обеим сторонам скакали всадники. Судя по беспорядочному стуку копыт, одни из них остановились, другие проскакали дальше вдоль ограды. Вот подковы загремели по настилу большого моста, тотчас неистово залаяла собака, и уже между стволами деревьев видны темные силуэты всадников на другом берегу. Сад окружен!
Глава 47
После того как влюбленные вошли в беседку, Висенса долго еще сидела на корточках, прислушиваясь к их разговору; от нее не ускользнуло ни одно слово. Однако ее удерживал не интерес к разговору, а опасение, что ее обнаружат, если она попытается уйти. Она поступила благоразумно, потому что при лунном свете из беседки хорошо видна была лужайка, которую ей предстояло пересечь. Только тогда, когда луна зашла, у Висенсы появилась надежда скрыться незамеченной. Улучшив минуту, когда влюбленные не смотрели в ее сторону, она отползла на несколько ярдов, поднялась и стремглав побежала в темноту.
Как ни странно, сеньорита услышала шелест не тогда, когда девушка отползала от беседки. Чтобы лучше спрятаться, Висенса на пути наклонила ветку, а потом отпустила ее, и ветка распрямилась, шумя листьями. Вот почему влюбленные ничего не обнаружили, хотя сразу же вышли из беседки. В ту минуту они уже не могли ни увидеть, ни услышать шпионку. Она прошмыгнула в коридор, прежде чем зашуршала ветка.
Висенса не задержалась ни на мгновение. Она не возвратилась к себе в комнату, а пробежала двор и поспешила к воротам. Крадучись прошла она портал, словно боялась разбудить привратника.
И вот Висенса уже у ворот; она достала из кармана ключ, но только не от самих ворот, а от калитки.
Ключ этот она припасла еще с вечера, зная, что он ей понадобится. Теперь она вставила его в замок и повернула с величайшей осторожностью, чтобы замок не щелкнул и не заскрипел. Так же осторожно она подняла щеколду и, открыв калитку, тихонько вышла на улицу. Медленно и бесшумно она затворила за собой калитку и во весь дух побежала по дороге, ведущей к соседнему леску.
Здесь, неподалеку от дома дона Амбросио, притаились в засаде Робладо и его солдаты. Чтобы никто их не видел и ничто не нарушило его плана, Робладо привел сюда солдат поздно вечером, кружной дорогой. Здесь он поджидал теперь свою шпионку.
Девушка добралась до места и быстро рассказала офицеру все, что видела. Повторить то, что она слышала, уже не было времени. Узнав, почему она задержалась, Робладо смекнул, что нельзя терять ни минуты. Свидание может закончиться, прежде чем он нагрянет, и тогда добыча ускользнет от него.
Будь у Робладо больше времени в запасе, он действовал бы иначе. Тогда бы он отправил часть людей дорогой, пролегавшей ниже, и они подошли бы к саду прямо со стороны луга. Разумеется, он провел бы всю операцию намного спокойнее и осмотрительнее.
Однако он понимал, что, действуя верно, но медленно, может и опоздать. Нет, тут нужно торопиться, это ясно! И Робладо тотчас же отдал распоряжение своим спутникам. Людей разделили на два неравных отряда. Один должен был занять позицию вдоль садовой ограды справа, другой — слева; большему отряду было приказано оставить у стены лишь нескольких человек, остальные должны были во весь опор нестись через большой мост на другой берег и отрезать выход из сада. Видимо, именно этому отряду предстояла главная роль — им командовал сам Робладо. Он прекрасно знал, что без лестницы не взобраться на стены, значит, если Карлос в саду, он попытается скрыться через мостик. А если он вздумает бежать через коридор к воротам и затем на улицу, то его перехватили бы пешие солдаты во главе с Гомесом, — Висенса должна была провести их ко входу в коридор со стороны внутреннего двора.
План был задуман неплохо. Робладо хорошо знал местность. Он нередко прогуливался здесь, и высота стен и все подступы к саду ему были великолепно известны. Конечно, если бы удалось окружить сад, прежде чем Карлос заметит, что подходят солдаты, можно было бы не сомневаться в успехе. Его бы убили или схватили.
Не прошло и нескольких минут после появления шпионки, как Робладо уже отдал распоряжения своим людям. А еще через пять минут они выехали из леса, пересекли небольшую полянку, отделявшую их от дома дона Амбросио, и начали окружать сад. Тогда-то и раздалось первое предостерегающее рычанье Бизона.
— Бегите! Бегите! — закричала Каталина, увидев, что Карлос возвращается. — Обо мне не думайте! Они не осмелятся посягнуть на мою жизнь! Я не совершила никакого преступления. Оставьте меня, Карлос, бегите!.. Матерь божья, вот они!
Темные фигуры выходили из коридора и устремлялись в сад. Напрямик через кусты, гремя своими саблями, они спешили к влюбленным. То были пешие солдаты. Несколько человек остались в проходе, остальные подбегали все ближе.
Сначала Карлос хотел бежать именно в ту сторону. Ему казалось, что он мог бы добежать до дома, подняться на асотею и соскочить вниз. Воспользовавшись темнотой, он вернулся бы на луг где-нибудь в дальнем его конце. Но он увидел, что коридор отрезан, и оставил эту мысль. Он посмотрел на стены ограды нет, слишком высоки, не перелезть. Можно бы попытаться, но тем временем враги нападут на него. Надо прорваться через мост это единственный выход. Теперь он понял, что не должен был возвращаться. Каталине не угрожала опасность — ее жизни, во всяком случае. Наоборот, для нее куда опаснее, если он останется с нею. Надо было сразу бежать через мост. Теперь он отрезан от своего коня. Он мог бы его окликнуть, благородный скакун тотчас примчится на зов, но тогда враги бросятся за ним и, возможно, поймают его. А это все равно, что лишиться собственной жизни. Нет, коня звать нельзя! Карлос не дал сигнала. Что же ему делать? Остаться с Каталиной? Но его сейчас же окружат, схватят, а то и убьют, как собаку! Ведь он и жизнь Каталины подвергнет опасности. Нет! Он должен сделать отчаянную попытку и вырваться из сада; если возможно, достичь луга, а там…
Карлос не стал думать, что будет дальше.
— Прощайте, дорогая! — воскликнул он. — Я должен покинуть вас. Не отчаивайтесь! Если мне суждено погибнуть, я унесу с собой вашу любовь в небеса! Прощайте! Прощайте!
Поспешно вымолвив эти прощальные слова, он кинулся прочь так стремительно, что не услышал ответа.
Сеньорита опустилась на колени; сложив руки и подняв глаза к небу, она молилась о его спасении.
В несколько прыжков Карлос вновь очутился под сенью рощи. На противоположном берегу он видел своих врагов и по голосам мог судить, что их там много. Они громко разговаривали, перекликались. Карлос узнал голос Робладо: он приказал половине улан спешиться и следовать за ним на мост. Сам он уже слез с лошади.
Карлос видел, что единственный путь к спасению — это быстро перебежать мост и прорваться через толпу. Только так он еще, пожалуй, достигнет луга и пробьет себе дорогу навстречу коню. Ну, а когда он будет в седле, пусть они попробуют его поймать! Это отчаянное решение — пробиться сквозь строй: ему грозит почти верная смерть. Но еще вернее, что его ждет смерть, если он останется здесь.
Колебаться было некогда. Несколько человек уже спешились и направились к мостику. надо перейти мост, прежде чем они на него вступят. Вот один уже там. Его надо отбросить назад.
Взведя курок пистолета, Карлос ринулся к калитке. С другой стороны тоже приближался человек. Они встретились лицом к лицу. Их разделяла лишь калитка. И тут Карлос увидел, что противник его — сам Робладо!
Ни один не проронил ни слова. Робладо тоже держал пистолет наготове и выстрелил первым, но промахнулся. Поняв это и страшась пули противника, он попятился и крикнул солдатам, чтобы стреляли из карабинов.
Однако прежде чем они успели выполнить приказ, раздался выстрел: охотник разрядил свой пистолет, и Робладо, испустив громкое проклятие, покатился к берегу. Карлос распахнул калитку и хотел броситься вперед, но сквозь дым и мрак разглядел направленные на него дула карабинов. Тут его осенило: нет, бежать через мост нельзя! И он привел в исполнение новую мысль, хотя за это время солдаты едва успели нажать курки карабинов.
Блеснул свет, раздался треск, а когда дым рассеялся, Карлоса уже не было на мосту. Неужели он вернулся в сад? Но нет, несколько солдат уже отрезали ему отступление в ту сторону.
— Он убит! — раздались крики. — Черт побери! Он свалился в воду. Смотрите!
Все взгляды обратились на реку. Конечно, туда упал человек — об этом свидетельствовали пузырьки и расходившиеся по воде круги, но больше ничего не было видно.
— Он утонул! Он пошел ко дну! — кричали солдаты.
— Смотрите, как бы он не уплыл! — сказал кто-то.
По берегам забегали люди, пристально вглядываясь в воду.
— Не может быть! Не видно ни всплеска!
— Здесь он не мог улизнуть, — сказал солдат, стоявший немного пониже моста. — Я все время глядел на воду.
— И я тоже! — закричал другой, стоявший выше. — Мимо меня он не проплывал.
— Значит, он убит и лежит на дне!
— Давайте выудим его!
Но Робладо, который уже поднялся — он увидел, что отделался всего лишь раной в руку, — помешал им выполнить это намерение.
— Рассыпаться по берегу! — прогремел он. — В обе стороны! Скорей, а не то он ускользнет! Торопитесь!
Все бросились выполнять приказ, как вдруг солдаты, двинувшиеся вниз по течению, остановились, изумленные. В сотне ярдов от них, согнувшись, взбирался вверх по крутому берегу человек. Еще секунда — он выпрямился и с быстротой молнии помчался через луг к роще.
— Держи! — раздались крики. — Вот он! Святые угодники, он и есть!
В трескотне ружейных выстрелов послышался пронзительный свист. Прежде чем верховые успели тронуться, из рощи навстречу бегущему вылетел конь. Человек мгновенно прыгнул в седло, громко, презрительно рассмеялся и ускакал в темноту.
Почти все уланы вскочили на лошадей и во весь опор понеслись за ним; но после недолгой скачки по долине они отказались от погони и возвратились к своему раненому командиру.
Сказать, что Робладо был взбешен, значило бы ничего не сказать: его состояние трудно передать словами. Но ведь осталась другая жертва, и на нее он мог излить свою досаду и злобу.
Каталину захватили в саду, когда она молилась о спасении любимого человека. Ее оставили на попечении Хосе, остальные солдаты бросились на помощь преследователям Карлоса. Хосе хорошо знал охотника и, не отличаясь храбростью, вовсе не стремился участвовать в погоне.
Каталина слышала выстрелы и крики и поняла, что борьба отчаянная. Слышала она и резкий свист и презрительный смех, заглушивший все остальные звуки. И слышала, как замерли вдали крики преследователей.
Сердце ее радостно забилось. Она знала, что Карлос на свободе.
Теперь, только теперь она подумала и о себе. Она тоже замыслила бежать. Она знала, что ей предстоит выслушивать оскорбительные насмешки мерзкого начальника этих негодяев. Что делать, как избежать встречи с ним? Разве только, если уговорить Хосе! Она знала подлый нрав этого человека. Не соблазнится ли он золотом? Надо попытаться. И попытка увенчалась успехом. Против большой суммы негодяй не устоял. Он сообразил, что его не слишком сурово накажут, если он и упустит пленницу, которую можно в любой момент опять захватить. За такие деньги он рискнет навлечь на себя недовольство капитана. К тому же у капитана есть причины быть к нему снисходительным. Итак, деньги уплачены, и сеньорите позволено уйти.
Чтобы создать видимость побега, Хосе попросил ее запереть изнутри дверь своей комнаты; она выполнила это в точности.
Едва Робладо перешел мост, его встретил Хосе и, запинаясь, с трудом переводя дыхание, сообщил, что прекрасная пленница скрылась в доме. Она выскользнула и убежала. Будь это обыкновенная пленница, он, конечно, пристрелил бы ее. А догнал он ее, когда она уже входила в комнату, и она заперла дверь перед самым его носом!
В первую минуту разъяренный Робладо хотел было взять дом приступом. Однако он одумался: это, пожалуй, покажется смешным. Да и толку будет немного. Ретироваться с поля сражения побуждала его и боль в раненой руке.
Снова перешел он мост, сел с помощью солдат на коня и, собрав свое доблестное войско, двинулся обратно в крепость, предоставив разбуженному городу гадать о причинах переполоха.
Глава 48
На следующее утро весь город только и говорил что о ночном происшествии. Сперва предполагалось, что индейцы совершили набег и солдаты, как всегда их отбили. Что за доблестные защитники народа!
Потом пронесся слух, что захватили Карлоса-убийцу, а в перестрелке убили капитана Робладо. Но вскоре оказалось, что Карлос не пойман — его только ловили и чуть-чуть не поймали. Робладо дрался с ним один на один, ранил его, но преступник в темноте ускользнул, бросившись в реку. Он прострелил капитану руку, вот почему капитан не взял его в плен.
Слух этот шел из самой крепости и был близок к истине. А о ранении Карлоса присочинили, чтобы придать немного блеска поведению Робладо; но потом стало известно, что охотник на бизонов скрылся, не получив ни единой царапинки.
Люди не переставали удивляться: как же это преступник отважился подойти к городу, зная, что за его голову назначена награда? Уж наверно, у него была на это важная причина. Скоро стала известна и она — вся история выплыла наружу. То-то настал праздник для сплетников! Каталина давно была признана первой красавицей Сан-Ильдефонсо, а теперь завистливые женщины и ревнивые мужчины могли смотреть на нее свысока. Ее репутация сильно пострадала. То, что сделала она, хуже, чем неравный брак. Местная аристократия была возмущена тем, что Каталина унизила себя близостью с бедняком, чуть ли не нищим, а городская беднота, до фанатизма религиозная, осуждала ее за дружбу с «убийцей» и, что еще хуже, с «еретиком».
Случай этот вызвал необычайное волнение. Цена за голову охотника поднималась, как акции на бирже. В Доме капитула собрались на совет члены городского управления и местные тузы. Было вывешено новое объявление. Теперь за поимку Карлоса предлагалась еще большая сумма, и, кроме того, всякому, кто снабдит его съестными припасами или окажет ему содействие, грозили суровой карой. А тот из граждан, кому вздумалось бы приютить охотника на бизонов под своей крышей, не только понесет положенное наказание, но и все его имущество будет конфисковано.
Не осталась в стороне и церковь. Святые отцы пугали гневом господним и грозили отлучением всякому, кто помешает вершить правосудие над еретиком-убийцей.
Вот в каком положении оказался беглец. К счастью, Карлос умел обойтись и без крыши над головой. Он был как дома и в просторах пустынной прерии и в скалистых ущельях в горах, где враги его умерли бы с голоду; да они и не посмели бы отправиться туда за ним. Если бы ему пришлось искать пищи и крова у жителей Сан-Ильдефонсо, на него, конечно, донесли бы и предали бы его. Но охотник так же мало нуждался в них, как дикие обитатели прерии. Ему могла служит постелью и зеленая лужайка и голая скала, а раздобыть себе пищу он мог даже на бесплодной Льяно Эстакадо, и там ему не страшна была целая армия преследователей.
Дон Амбросио не принял участия в совете. Горе и гнев удержали его дома. Между ним и дочерью произошла бурная сцена. Отныне ее будут неотступно сторожить, будут держать в доме отца, как пленницу, — наказание научит ее смирению!
Невозможно описать, что чувствовали Робладо и комендант. Их душила бешеная злоба. Они едва не обезумели от разочарования, унижения, физических и душевных страданий. Весь день они не выходили из дому и только и делали, что замышляли и прикидывали, как бы вернее изловить своего заклятого врага.
Робладо столь же страстно желал добиться успеха, как и Вискарра. У обоих было достаточно оснований ненавидеть Карлоса, и оба ненавидели его всем своим существом.
Робладо больше всего терзался из-за того, что ему не удастся самому участвовать в погоне, может быть, в течение нескольких недель. Хотя рана его не была опасна, ему приходилось держать руку на перевязи, и он не мог управлять лошадью. Теперь стратегические планы его и коменданта будет выполнять кто-нибудь другой, не столь заинтересованный в поимке преступника, как они сами. Хорошо еще, что из СантаФе, из штаб-квартиры, прислали двух лейтенантов, а не то гарнизон на время и вовсе остался бы без офицеров. Но ни один из новичков ни Яньес, ни Ортига — не был способен поймать охотника на бизонов. Им нельзя было отказать в храбрости, Ортиге во всяком случае, но оба они совсем недавно приехали из Испании и не знали еще, как живут и воюют здесь, на границе.
Солдаты с готовностью преследовали преступника и проявляли примерное рвение. Они стремились его поймать, рассчитывая на обещанную большую награду, и всякий раз охотно шли в разведку. Однако напасть на Карлоса отважился бы только многочисленный отряд. В одиночку или вдвоем никто, не исключая хваленого Гомеса, не осмелился бы подойти к нему на расстояние выстрела, тем более сойтись с охотником лицом к лицу и попытаться схватить его.
Многие на собственном опыте убедились в беспримерной храбрости Карлоса, другие слышали сильно приукрашенные рассказы о ней, и в гарнизоне его так боялись, что одно лишь появление Карлоса обратило бы в бегство целый отряд.
Охотник на бизонов и в самом деле был ловок, силен и бесстрашен, а богатое воображение местных жителей еще и преувеличивало эти его качества. Мало того: и солдаты и мирные жители прониклись уверенностью, что Карлос заколдован, а потому неуязвим; ведь ему покровительствует его мать-колдунья — иными словами, ему покровительствует сам дьявол! Многие утверждали, что его не берет ни пуля, ни стрела, ни сабля, и те, кто разрядил в него карабин во время схватки на мосту, вполне этому верили. Любой из них готов был поклясться, что попал в Карлоса и непременно убил бы его, не будь он под защитой нечистой силы.
Удивительные россказни распространялись среди солдат и жителей долины. Карлос появлялся то здесь, то там, и всегда верхом на своем черном, как уголь, коне (конь тоже слыл заколдованным). Охотника видели на краю плоскогорья — он мчался во весь опор вдоль самого обрыва, он даже мог бы стряхнуть пепел своей сигары вниз, в долину. Другие встречали его ночью в зарослях, на глухих тропах, и, по их словам, лицо и руки его были красны и светились, как раскаленные уголья. Пастухи видели его наверху, на Утесе загубленной девушки, и даже внизу, в долине, однако никто не отваживался подойти близко и заговорить с ним. Все бежали от него, все уклонялись от встречи. Кто-то утверждал даже, что видел, как Карлос переходил мостик, ведущий в сад дона Амбросио, и новый град сплетен посыпался на верную Каталину. Впрочем, злопыхателей постигло горькое разочарование, ибо они услышали, что мост больше не существует — дон Амбросио велел его сломать на другой день после того, как узнал о недостойном поведении своей дочери.
Власть суеверий над невежественным населением Новой Мексики так велика, как нигде в мире. Можно сказать, что они здесь — основа религии. Отцы миссионеры, насаждавшие среди солнцепоклонников Кецалькоатля религию Рима, поощряли многие суеверия, обращая их себе на пользу. Вполне понятно, что паства не рассталась со всеми этими предрассудками, как бы ни были они нелепы. Вот почему новомексиканцы верили в колдовство и колдунов ничуть не меньше, чем в Бога.
И надо ли удивляться тому, что дьявол оказался причастен к делам Карлоса, охотника на бизонов. Его искусство в верховой езде, бегство из-под носа преследователей, даже если не считать их сверхъестественными, были, конечно, необычайны и романтичны. Но жители Сан-Ильдефонсо относились к ним теперь иначе. Карлосу помогает нечистая сила: и ловкость, с какой он опрокинул быка, схватил цаплю и скакал по краю пропасти в день праздника, и то, что он ускользал невредимым от карабинов и пик, — все от дьявола.
Но странное дело: за последние дни с преступником часто сталкивались те, кто к этому вовсе не стремился, а вот тем, кому непременно хотелось с ним повстречаться, это никак не удавалось. День за днем, с утра до вечера, безуспешно рыскали по округе лейтенанты Яньес и Ортига со своими солдатами. Не видели Карлоса и многочисленные шпионы, разосланные повсюду, где он мог бы появиться. Сегодня они доносили, что видели его здесь, завтра — там. Преследователи мчались в указанное место и всякий раз обнаруживалось, что за охотника приняли какого-нибудь скотовода на черном коне. Солдаты все снова и снова бросались по ложному следу, пока эта безуспешная погоня не изнурила вконец людей и лошадей. И, однако, эти поиски стали единственной обязанностью гарнизона: комендант и не думал отказываться от погони, пока у него оставался хоть один солдат.
Особенно зорко следили за одним местом. Днем и ночью переодетые солдаты и специально нанятые шпионы не спускали с него глаз. Это было ранчо охотника на бизонов. Переодетых солдат и шпионов разместили вокруг таким образом, что они могли, оставаясь незамеченными, видеть все происходящее вне стен дома. Днем они занимали одни посты, ночью — другие, один тайный караул сменялся другим, и наблюдение не прерывалось ни на минуту. Однако в обязанности шпионов не входило напасть на Карлоса, если бы он появился. Они лишь должны были уведомить отряд, стоявший поблизости наготове, а уж там достаточно сил, чтобы захватить преступника.
Мать и сестра охотника жили опять в своем ранчо. Пеоны починили его и настлали крышу — задача несложная, поскольку стены не пострадали от пожара. И теперь жилище их было таким же уютным, как и прежде.
Никто не беспокоил мать и сестру Карлоса — ведь они не должны были знать, что за ними неусыпно следят. Не без умысла к ним относились так терпимо: за каждым их движением зорко наблюдали. Стоило им покинуть ранчо, как за ними шли следом; а о том, что они вышли из дому, нужно было немедленно сообщить начальнику прятавшегося в засаде отряда. Суровое наказание грозило всякому, кто не выполнял бы этого строгого приказа.
Объяснялось все это очень просто. Вискарра и Робладо подозревали, что Карлос навсегда покинет эти места и возьмет с собой мать и сестру. Почему бы нет? Почему бы ему не уехать отсюда? Долина Сан-Ильдефонсо никогда уже не будет ему домом, меж тем он без труда найдет себе приют по ту сторону Великих Равнин. Здесь он навсегда предан анафеме. Только смерть может избавить его от постоянного страха за свою жизнь. Вот почему оба офицера считали, что Карлос намерен уехать в другие края. Но, конечно, он не оставит мать и сестру, пока их держат как заложниц. Он не уйдет далеко отсюда. Рано или поздно эта лиса попадется в капкан, и тогда они с ним расправятся.
Так рассуждали комендант и его капитан, и именно поэтому было строжайше приказано охранять ранчо. Его обитательницы были настоящие пленницы, хотя они и не подозревали об этом, — по крайней мере, так думали Вискарра и Робладо.
Однако, несмотря на все их хитроумные планы, несмотря на шпионов, разведку и солдат, на обещанные награды и угрозу сурового наказания, день следовал за днем, а преступник по-прежнему оставался на свободе.
Глава 49
Давно уже Карлоса не было ни слышно, ни видно, а те донесения, которые о нем поступали, после проверки оказывались ложными. Комендант и его собрат начали беспокоиться. Вдруг он и впрямь навсегда уехал отсюда в другие края? Этого они теперь боялись больше всего. У обоих были основания желать, чтобы он убрался подальше от этих мест, и еще совсем недавно они очень обрадовались бы такому исходу дела. Но после неудачной попытки схватить Карлоса оба они — и соблазнитель и охотник до приданого — уже не хотели этого. Страстное желание отомстить взяло вверх над подлой любовью одного и корыстолюбием другого. Всеобщее сочувствие, вызванное их злоключениями, еще больше разжигало их ярость. Можно было не опасаться, что она когда-нибудь заглохнет. Вискарре достаточно было взглянуть в зеркало — и она вспыхивала в его груди с новой силой.
Вискарра и Робладо сидели на асотее крепости и рассуждали о том, справедливы ли их предположения.
— Он обожает свою сестру, — заметил комендант, — да и мать тоже, хоть она и карга. А все-таки, дорогой мой Робладо, каждый больше всего дорожит собственной жизнью. Дорога мне рубаха, но шкура еще дороже. Он прекрасно понимает, что если останется здесь, то рано или поздно попадется нам в руки, и знает, что его тогда ждет. Правда, он ловко удирал, но не всегда же ему будет так везти. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Негодяй хитер — уж, конечно, он знает эту поговорку. Вот поэтому я и боюсь, что он все-таки убрался отсюда. Может, и не навсегда, но, во всяком случае, не скоро покажется. Допустим, он и вернется, но как мы будем поддерживать эту вечную слежку? Она изведет самого дьявола. Она так нам надоест, как осада Гранады доброму королю Фердинанду и грязная сорочка его воинственной супруге[18]. Ей-Богу, мне это уже и так опротивело!
— Хуже будет, если он удерет от нас, — возразил Робладо. Лучше уж я буду всю жизнь за ним гоняться.
— Да, да, я тоже, капитан. Не думайте, я вовсе не намерен отказаться от слежки. Нет, черт побери! Посмотрите на меня!
Вискарра вспомнил об изуродовавшем его шраме, и горькая гримаса еще более обезобразила его лицо.
— А все-таки, — продолжал он, — после того, что произошло, вряд ли он оставит их здесь даже
ненадолго. Вспомните, какой опасности он подвергал себя, когда пришел за сестрой.
— Конечно, — задумчиво ответил Робладо, — конечно. Меня больше всего удивляет, почему он не уехал с ними в ночь, когда вернулась Росита, в ту самую ночь… Ведь, судя по письму, он был там, в своем ранчо. Правда, чтобы подготовиться к путешествию через прерии, нужно время. В какое-нибудь наше селение он не переедет, а чтобы уехать далеко, надо подготовиться, хотя бы женщинам. Сам-то он, наверно, в пустыне как дома, не хуже антилопы или степного волка. Но если бы он уж очень захотел, он все-таки мог бы уйти тогда и взять их с собой.
— Мы промахнулись, что в ту ночь не послали наших людей к его ранчо, — заметил Вискарра.
— Я бы послал, если бы боялся, что он сбежит.
— Как это «если бы»? А вы не боялись? Разве нельзя было этого ожидать?
— Нисколько, — сказал Робладо.
— Я не понимаю вас, дорогой капитан. Как же так?
— А так, что в долине есть магнит, который притягивает его посильнее, чем мать или сестра, и я об этом знал.
— Вот оно что! Теперь я понимаю вас.
— Да! — скрипнув зубами, злобно продолжал Робладо. — Именно она, эта бесценная красотка, которая, невзирая ни на что, будет моей женой. Ха-ха! Он не мог сбежать, не потолковав с ней. Да, разговор у них был, и одному Богу известно, порешили ли они, что это их последняя встреча. Но ничего, это я за них решил, и дон Амбросио мне помог. Черт побери, надеюсь, больше она уже не будет гулять по ночам! Нет, он не бежал. Я не допускаю этого — и по двум причинам. Прежде всего из-за нее… Любили ли вы когда-нибудь? Я хочу сказать, любили ли вы по-настоящему? — И он снова расхохотался.
— Пожалуй, был такой грех, — тоже смеясь, ответил Вискарра.
— Вот и в моей жизни тоже был такой идиотский случай. Что ж, тогда вы сами должны знать: уж если человек влюблен всерьез, его никакими канатами не оттащишь от места, где живет дама его сердца. Да, я думаю, наш охотник, хоть он ей совсем не родня, любит и боготворит эту мою будущую супругу. Ха-ха-ха! И уж поверьте, никакая опасность, даже страх перед виселицей не заставит его уехать из Сан-Ильдефонсо, пока у него есть надежда еще на одно тайное свидание. Ну, а так как он знает, что сеньорита готова бежать ему навстречу, он эту надежду не потерял. А второе основание полагать, что он все еще скрывается неподалеку, — это то, о чем вы говорили. Вряд ли он покинет мать и сестру после того, что произошло. Его мы не ослепили, хотя слава Господу или дьяволу, мы всем, кроме него, отвели глаза. Он знает все, Висенса подтвердила нам это. Вот почему, я уверен, он не бросит их надолго. Этот охотник хитер, как койот, он наверняка пронюхивает, где наши засады, знает насчет приманки и уж постарается не попасться нам на глаза. Никуда он далеко не ушел и через этих своих проклятых пеонов поддерживает связь с матерью и с сестрой.
— Что же нам делать?
— Я уже об этом думал.
— Если мы помешаем пеонам ходить, куда им заблагорассудится, они сразу поймут, что вокруг ранчо засада.
— Конечно, комендант. Так никуда не годится!
— Вы придумали другой план?
— Отчасти.
— Так выкладывайте же!
— Вот слушайте. Кое-кто из пеонов постоянно навещает Карлоса в его логове. В этом я убежден. За ними, разумеется, следили, но они уходят только днем, и всякий раз оказывалось, что по своим обычным делам. Но есть там один, который уходит из ранчо ночью, а выследить его никак не удается. Как за ним ни шпионят, он всегда исчезает в зарослях. Вот я и думаю, что это он встречается с охотником.
— Очень похоже на то.
— Так вот, если бы нашелся кто-нибудь, кто выследил бы его или хоть напал на след… Но тут-то и загвоздка. Больше всего нам нужен теперь хороший следопыт, а во всем гарнизоне не найти ни одного.
— Но есть же в долине еще охотники, и не только на бизонов. Неужели среди них не найти подходящего?
— Конечно, охотники есть, и, говорят, никто из них не сочувствует этому преступнику. Да только боюсь, все они нам не годятся. Нам нужен такой, чтоб ему хватало и ловкости и отваги, тут чем-нибудь одним не обойтись. Они его крепко ненавидят, но и боятся тоже. Есть, правда, один, — я слышал о нем кое-что, как раз такой человек, какой нам нужен. Он не побоится встречи не то что с Карлосом, но и с самим чертом. Ну, а насчет ловкости и всяких там индейских хитростей — так у него среди охотников репутация еще солиднее, чем у Карлоса.
— А кто он такой?
— Их двое, они неразлучны. Один — мулат, он прежде был в рабстве у американцев. Он беглый, и конечно, ненавидит все, что ему напоминает о его хозяевах. А нашего охотника он, говорят, ненавидит лютой ненавистью. Отчасти все из-за тех же воспоминаний о прошлом, а отчасти потому, что завидует охотничьей славе Карлоса. Так или иначе, а нам это на руку. Его дружок тоже вроде мулата: он самбо — сын негра и индианки с побережья Матамораса или Тампико. Он давно уже в наших краях, а как он сюда попал, никто не знает. Только этот самбо и мулат с давних пор неразлучны: живут вместе, вместе охотятся и горой стоят друг за друга. Оба они здоровенные молодцы, и хитрости им тоже хватает. Но мулат у них первый — из них двоих он первый подлец. Совесть их обоих не очень-то обременяет. Словом, они-то нам и нужны.
— Тогда почему бы нам их сейчас же не заполучить?
— В том-то и беда, что сейчас их здесь нет. Они на охоте. Они понемногу прислуживают миссии: поставляют святым отцам оленину и всякую другую дичь. Теперь, видно, наши смиренные, воздержанные монахи вздумали полакомиться бизоньими языками — у них есть какой-то там особенный рецепт — и послали своих охотников за свежей дичью.
— А давно они ушли, не знаете?
— Да уж несколько недель назад, задолго до того, как возвратился Карлос.
— Тогда, может быть, они скоро вернутся?
— Очень возможно. Пожалуй, я поеду сейчас в миссию, разузнаю поточнее.
— Поезжайте. Хорошо бы нам их заполучить. По вашему описанию выходит, что эти два молодчика стоят всего нашего гарнизона. Не теряйте времени.
— Ни минуты не потеряю, — ответил Робладо. И, наклонившись над парапетом, крикнул: — Эй, Хосе! Коня!
Вскоре пришел вестовой и доложил, что лошадь оседлана. Робладо уже шагнул к лестнице, но тут навстречу ему над каменным полом асотеи показалась коротко остриженная голова с выбритой на темени круглой, как плешь, тонзурой. Еще мгновение — и на асотее появился сам отец Хоакин, учтивый и улыбающийся.
Глава 50
Это тот самый служитель церкви, который присутствовал на праздничном обеде в крепости в день святого Иоанна. Он старший из двух отцов иезуитов и безраздельно хозяйничает в миссии. Младший его собрат, отец Хорхе, поселился в Сан-Ильдефонсо недавно, тогда как отец Хоакин заправляет миссией почти с самого ее основания. Он здесь старожил и поэтому знает всю подноготную каждого жителя долины. К семье Карлоса, охотника на бизонов, он почему-то всегда питал глубокую неприязнь, которую и обнаружил в тот вечер на обеде у Вискарры, хотя и не объяснил, чем она вызвана. Он ненавидит «белоголовых» совсем не потому, что считает их еретиками, отец Хоакин в душе не придает подобным вещам никакого значения, хотя всегда грозно обрушивается на отступников церкви. Его религиозное рвение — это чистейшее лицемерие и мирская хитрость. Нет такого порока, распространенного в долине Сан-Ильдефонсо, которому не предавался бы больше всех отец Хоакин. Он искусный игрок в монте и при случае не прочь смошенничать, он авторитетнейший судья в петушиных гонках и всегда готов поставить несколько золотых. Но это еще не все, чем может похвастаться святой отец. Бывая под хмельком — а это не редкость, — он любит рассказывать о своих любовных похождениях в молодости и даже совсем недавно. И хотя новообращенным при миссии полагалось бы быть темнокожими тагносами, там постоянно вертятся несколько юных метисов, мальчишек и девчонок, которых здесь называют племянницами и племянниками отца Хоакина.
Вы, наверно, считаете, что все это сильно преувеличено.
Можно ли себе представить, чтобы какой-нибудь почтенный священник пользовался уважением своей паствы, ведя такой образ жизни? И я бы так думал, если бы мне не привелось собственными глазами наблюдать нравы духовенства Мексики. Безнравственность отца Хоакина — отнюдь не исключение в среде его собратьев. Напротив, это явление очень распространенное, можно даже сказать — общее правило.
Итак, совсем не религиозный пыл восстановил монаха против семьи бедного охотника, ничуть не бывало. Он затаил злобу еще против покойного главы семьи: иезуиту порядком доставалось от него при прежнем коменданте.
Отец Хоакин взошел на асотею суетливый и озабоченный, ему явно не терпелось рассказать какую-то новость, и, судя по его торжествующей улыбке, он заранее предвкушал впечатление, которое произведет эта новость на слушателей.
— Добрый день, святой отец!.. Добрый день, ваше преподобие! — в один голос сказали комендант и Робладо.
— Добрый день, дети мои! — ответил иезуит.
— Вы пришли очень кстати, святой отец, — сказал Робладо. Вы избавили меня от поездки в миссию — я как раз собирался к вам.
— Что ж, если бы вы пришли, капитан, я угостил бы вас отменным завтраком. Мы наконец получили бизоньи языки.
— Вот как! — разом воскликнули Вискарра и Робладо с таким оживлением, что отец Хоакин даже удивился.
— Ах вы, разбойники прожорливые! Понимаю, к чему вы клоните. Вы не прочь получить от меня несколько штучек. Так знайте, что вы и ломтика не получите, пока не дадите мне чего-нибудь промыть пыль в глотке. Я умираю от жажды!
Офицеры громко расхохотались:
— А чего бы вам хотелось, святой отец?
— Погодите, дайте подумать… Ага! Стаканчик того самого бордо, которое вам недавно прислали.
Принесли вина; отец Хоакин выпил залпом целый стакан и причмокнул губами как знаток, вполне оценивший достоинства напитка.
— Прекрасно! Превосходно! — воскликнул он и возвел глаза к небу, как будто все хорошее исходит оттуда и туда возвращается.
— Так вы получили бизоньи языки? — нетерпеливо спросил Робладо. — Значит, ваши охотники вернулись?
— Да, вернулись. Из-за этого я и пришел к вам.
— Великолепно! А я как раз из-за этого собирался в миссию.
— Ставлю золотой, что у нас на уме одно и то же! — объявил отец Хоакин.
— Мне невыгодно спорить, отец мой, вы всегда выигрываете.
— Бросьте! За мои новости вы с радостью отдадите золотой.
— Какие новости?.. Какие у вас новости? — подступили к нему оба офицера.
— Еще стаканчик бордо, или я задохнусь. Эта пыльная дорога хуже чистилища. Ну, вот это мне поможет!
И святой отец осушил еще один стакан вина и снова причмокнул губами.
— А теперь выкладывайте свои новости, ваше преподобие!
— Так вот, слушайте: наши охотники вернулись.
— Ну и что?
— Что? Они привезли новости.
— Какие?
— О нашем друге, охотнике на бизонов.
— О Карлосе?
— О ком же еще!
— Какие новости? Они его видели?
— Его самого не видели, но напали на его след. Они обнаружили его логово и знают, где он сейчас.
— Прекрасно! — воскликнули Вискарра и Робладо.
— Они берутся найти его в любое время.
— Великолепно!
— Вот видите, друзья мои, что у меня за новости. Можете ими воспользоваться как вам угодно.
— Дорогой падре, — заметил Вискарра, — вы умный человек, помогите нам советом. Вы ведь знаете, как обстоит дело. Наши уланы не способны поймать этого негодяя. Что нам делать, как по-вашему?
Такое доверие очень польстило иезуиту.
— Друзья, — сказал он, привлекая к себе обоих сразу, — я уже думал об этом. На мой взгляд, вы великолепно обойдетесь и без улан. Посвятите наших двух охотников, насколько это необходимо, в свои дела, снарядите их, и пускай отправляются по следу. И если они вам не поймают этого негодяя еретика, значит, отец Хоакин ничего не смыслит в людях.
— Как раз об этом мы и думали! — воскликнул Робладо. Ведь я из-за этого и собирался к вам!
— И вы правильно рассудили, дети мои. Я полагаю, что это самый верный путь.
— А возьмутся ли за это наши охотники? Они люди свободные, они могут и не пойти на такое рискованное дело.
— Рискованное! — повторил иезуит. — Опасность не испугает их, можете мне поверить. Они храбры, как львы, и проворны, как тигры. Будьте спокойны, они не остановятся перед опасностью.
— Так вы думаете, они согласятся?
— Можете считать, что они согласились, я уже выяснил это. У них свои причины не слишком любить Карлоса, и вам не придется долго уговаривать их. Да они, наверно, уже собрались в дорогу ведь они прочитали объявление — и, надо думать, прикинули, какое богатство сулит поимка Карлоса. Подтвердите, что они получат солидное вознаграждение, и не пройдет и трех дней, как они принесут вам уши этого охотника на бизонов или его скальп, а не то и всю тушу, если вам это больше нравится. Уж они-то его выследят, будьте покойны!
— А не послать ли с ними солдат? Карлос может быть не один. У нас есть основания полагать, что с ним метис — его правая рука, а с такой поддержкой он окажется нешуточным противником для ваших охотников.
— Вряд ли. Ведь это сущие дьяволы. Но спросите их самих. Им лучше знать, нуждаются ли они в подмоге. Это их дело, пусть они и решают.
— Послать за ними сейчас или вы сами пришлете их сюда? спросил Робладо.
— А не лучше ли кому-нибудь из вас отправиться к ним? Такое дело не терпит огласки. Если они явятся сюда, люди, пожалуй, догадаются, о чем у вас с ними может быть разговор. А уж если до Карлоса дойдет, что эти молодцы его ищут, тогда едва ли им удастся его поймать.
— Вы правы, отец мой, — сказал Робладо. — А как нам увидеться с ними, чтобы никто об этом не узнал?
— Нет ничего проще, капитан. Отправляйтесь к ним в дом — в лачугу, вернее сказать. Они живут в хибарке среди скал. Место это глухое, вряд ли вы кого-нибудь встретите по дороге. Вам надо ехать тропой через заросли, но я дам вам проводника, он знает это место и доведет вас. Молодчики вас, должно быть, ждут: я им намекнул, чтобы они не уходили из дому на случай, если понадобятся. Будьте покойны, вы наверняка их застанете.
— А когда вы пришлете проводника?
— Он уже здесь — мой слуга поведет вас. Он внизу, во дворе, вам незачем терять время.
— Конечно, Робладо, — поддержал комендант. — Лошадь ваша оседлана, поезжайте, не откладывая.
— Еду, сейчас же!.. Где ваш проводник, отец мой?
— Эстебан! Эй, Эстебан! — крикнул иезуит, наклонившись над парапетом.
— Я здесь, сеньор! — ответили снизу.
— Иди сюда! Быстро!
На асотее тотчас появился мальчик-индеец: он снял шляпу и почтительно приблизился к отцу Хоакину.
— Проводишь капитана по тропе через заросли к хижине охотников.
— Хорошо, сеньор.
— Да смотри, никому ни слова об этом!
— Хорошо, сеньор.
— Если скажешь, отхлестаю плетью. Ступай!
Робладо в сопровождении мальчика спустился по лестнице, ему помогли сесть на лошадь, и он выехал из ворот крепости.
Отец Хоакин осушил еще стаканчик бордо, предложенный Вискаррой, затем вспомнил, что в миссии его ждет роскошный завтрак, и, распрощавшись с хозяином, отправился восвояси.
Вискарра остался на асотее один. Если бы кто-нибудь был там и наблюдал за ним, он заметил бы, что стоило Вискарре взглянуть в сторону Утеса загубленной девушки, как на лице его появлялось странное, тревожное выражение.
Глава 51
Робладо въехал в заросли; в нескольких шагах впереди его лошади рысцой бежал мальчик Эстебан. Около полумили Робладо ехал по проселочной дороге, которая вела из города к одному из проходов в скалах, затем свернул на узкую тропку, по которой, кроме охотников да пастухов, разыскивающих своих овец, почти никто не ходил и не ездил. Еще две-три мили пути, и он добрался до цели своего путешествия — жилища охотников, притулившегося у подножия утеса.
Это и в самом деле была жалкая хижина. Несколько стволов древовидной юкки, в изобилии растущей вокруг, заменяли столбы, они поддерживали односкатную крышу — вернее, навес, верхним краем примыкавший к утесу. Крыша была устлана жесткими листьями той же юкки, наваленными плотным слоем. Было там и что-то вроде двери, сделанной из досок, отщепленных от более толстых стволов юкки, и подвешенной на полосах буйволовой кожи. Окном служило отверстие со ставнем из того же материала, подобным же образом подвешенным. Стены были сплетены из виноградных лоз, вкривь и вкось скрепленных тонкими жердями и кое-как промазанных глиной. Хозяева старались тратить поменьше труда на постройку дома, поэтому четвертую стену заменяла гладкая поверхность отвесного утеса, и полоса копоти отметила на ней путь дыма, выходившего вместо трубы просто через отверстие в крыше. Дверь находилась сбоку и примыкала к утесу, окно же было вырезано в передней стене хижины, так что хозяева увидели бы всякого, кто вздумал бы прийти сюда по тропе. Только случалось это редко: свирепые охотники почти ни с кем не водили знакомства, и жилище их было в стороне от проезжей дороги. С одной стороны ее загораживали скалы, с другой скрывали еще и густые заросли.
За домом виднелся небольшой загон, кое-как сложенный из камней. Там стояли три тощих, облезлых мула и две такие же жалкие лошади. К коралю примыкало поле, вернее — то, что когда-то было полем; теперь, запущенное, заброшенное, оно поросло травой и сорняками. Впрочем, кое-где можно было обнаружить следы человеческого труда: местами в беспорядке торчали неухоженные кустики маиса, а между ними тянулись усики дынь и тыкв. Сразу видно было, что люди, поселившиеся на этой земле, ей не хозяева.
У порога лежали пять или шесть собак, больше похожих на волков; на земле под нависшей скалой валялось несколько обтрепанных вьючных седел. Два старых, потертых, рваных седла для верховой езды торчали на горизонтальном шесте; на нем же висели уздечки, связки вяленого мяса и стручки красного перца.
Войдя в этот дом, можно было увидеть двух не слишком опрятных индианок — одна месила тесто для грубого хлеба, другая жарила мясо. У самой скалы меж двух камней горел огонь, а рядом на полу были свалены в беспорядке глиняные горшки и тыквенные бутылки.
Стены этого жилища украшали луки, колчаны и шкуры животных; покрытые шкурами камни, сложенные в двух углах комнаты (там была только одна комната), служили постелью. В третьем углу стояли два охотничьих ружья, одно длинноствольное, другое испанское, с коротким стволом, и два длинных копья, а над ними висели охотничьи ножи, пороховницы, сумки и всякое другое снаряжение, необходимое охотнику Скалистых гор. Были там и сети и прочие принадлежности для рыбной ловли и охоты за мелкой дичью. Вот и вся обстановка и утварь этой лачуги. Все это Робладо увидел бы, войди он в хижину; но он не вошел, так как те, кто был ему нужен, не сидели в четырех стенах. Мулат лежал, растянувшись на земле, а самбо, по обычаю своей родины побережья жарких стран, — в гамаке, повешенном меж двух деревьев.
Вид этих людей внушил бы отвращение всякому, однако Робладо он успокоил. Именно такие пособники ему и нужны! Он видел обоих и раньше, но никогда к ним не приглядывался. А теперь, глядя на их наглые, мрачные физиономии и темные мускулистые тела, он подумал: «Да, вот эти справятся с Карлосом. Внушительная парочка. Если судить по внешности, то любой без труда его одолеет — они и крупнее и плотнее его».
Мулат был повыше своего приятеля. Тот уступал ему и в силе, и в храбрости, и в проницательности. Если не считать самбо, вряд ли можно было сыскать во всей стране еще кого-нибудь с такой отталкивающей физиономией, как у мулата. Ну, а самбо — тот был ему под стать.
У мулата была темно-желтого цвета кожа, редкие усы и борода. За толстыми фиолетовыми, как у негра, губами красовались два ряда огромных волчьих зубов. Желтоватые крапинки густо усеивали белки его ввалившихся глаз. Над глазами нависли густые черные, широко раздвинутые брови; дырами зияли вывернутые ноздри толстого приплюснутого носа. Густая копна курчавых волос, вернее — шерсти, скрывала огромные уши. На голове на манер тюрбана был повязан старый клетчатый мадрасский платок, давным-давно не приходивший в соприкосновение с мылом. Курчавые волосы, вылезавшие из-под складок тюрбана на лоб, придавали лицу мулата еще более дикое и свирепое выражение. Все в этой физиономии говорило о жестокости, наглой дерзости, коварстве и отсутствии каких бы то ни было человеческих чувств.
Одежда мулата мало чем отличалась от той, какую носят все охотники прерий. Она состояла из шкур и одеяла. Необычен был лишь головной убор — память о тех временах, когда мулат был невольником в Южных штатах.
У самбо было лицо не менее свирепое, чем у его приятеля. Отличалось оно только цветом кожи. Оно было бронзово-черным сочетание окраски кожи двух рас, к которым принадлежали его родители. Губы у него были толстые и лоб покатый, как у негра, а индеец сказывался в волосах, почти гладких, свисавших длинными змеевидными прядями на шею и плечи. Однако его внешность обращала на себя меньше внимания, чем вид его дружка-мулата. Он носил обычную для своего племени одежду широкие шаровары из грубой бумажной ткани и безрукавку из той же материи, грубое серапе и вместо пояса шарф. Грудь, шея, плечи и массивные темные, как бронза, руки были обнажены.
Робладо подоспел как раз к концу сценки, в которой наглядно выразился характер самбо.
Полулежа в гамаке, он наслаждался крепкой сигарой и время от времени отгонял мух бичом из сыромятной кожи. Потом окликнул одну из женщин, свою теперешнюю жену:
— Эй, девчонка! Дай мне поесть! Жаркое готово?
— Нет еще, — ответил голос из хижины.
— Тогда принеси мне маисовую лепешку и перцовку!
— Ты ведь знаешь, дорогой, перцовки нет в доме, — прозвучал ответ.
— Поди сюда! Ты мне нужна!
Женщина вышла из хижины и с явной неохотой приблизилась к гамаку.
Пока она не подошла совсем близко, самбо сидел не шевелясь, потом неожиданно взмахнул бичом, который он до сих пор прятал за спиной, и изо всей силы обрушил его на плечи женщины, защищенные лишь тонкой сорочкой. Удары сыпались один за другим, пока несчастная женщина не отважилась наконец отойти на безопасное расстояние.
— Так-то, девчонка! В другой раз, когда я попрошу лепешку и перцовку, у тебя они найдутся, не правда ли, душечка?
И, снова улегшись в гамаке, дикарь разразился громовым хохотом, к которому присоединился мулат. Он собирался точно так же поступить и со своей дражайшей половиной, но как раз в эту критическую минуту у хижины остановился Робладо.
Оба вскочили на ноги и почтительно его приветствовали. Они знали, кто он такой. Разговор поддерживал в основном мулат ведь из них двоих он был главный, — самбо же оставался в тени.
Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали женщины и Эстебан. Как и советовал отец Хоакин, приятели были наняты для того, чтобы выследить охотника на бизонов и, мертвого или живого, доставить его в крепость. В первом случае их ожидало немалое вознаграждение, во втором — почти вдвое большее.
Они не пожелали помощи солдат. Это их не прельщало. Им вовсе не хотелось уменьшить щедрую награду, делить ее еще с кем-нибудь. Для двоих эта сумма была бы целым состоянием, и блестящая перспектива ее получить разжигала их стремление добиться успеха.
Покончив с этим делом, капитан поскакал обратно в крепость, а мулат и самбо стали тут же собираться на охоту за человеком.
Глава 52
Через полчаса мулат и самбо — первого звали Мануэль, второго Пепе — готовы были отправиться в путь. Сборы не отняли и половины этого времени, но добрых пятнадцать минут было затрачено на то, чтобы подкрепиться жарким и выкурить по крепкой сигаре; а лошади пока что грызли брошенные им початки кукурузы.
Но вот сигары докурены; приятели вскочили в седла и поскакали.
Мануэль был вооружен длинноствольным ружьем, какими обычно пользуются американские охотники, и ножом, тоже американским, с тяжелым крепким клинком, обоюдоострым на несколько дюймов от конца, — страшным оружием в единоборстве. И то и другое Мануэль привез с собой из долины Миссисипи, там же он научился пользоваться этим оружием.
У седла лошади Пепе болталось на ремне испанское охотничье ружье; на боку у Пепе висел большой, тяжелый нож — мачете, а за спиной — лук и колчан со стрелами. В некоторых случаях например, когда нужно добыть дичь или нанести удар, не поднимая шума, — мачете и лук удобнее, чем любое огнестрельное оружие. Из лука стреляют быстрее, чем из ружья; а если первая стрела не попала в цель, что ж, это не пуля — меньше вероятности, что она выдаст намеченной жертве врага.
Кроме этого оружия, у каждого охотника за поясом торчал пистолет, а на седельной луке висело свернутое лассо.
Позади, на крупе лошадей, они везли провизию — связки вяленого мяса и завернутые в оленью шкуру холодные маисовые лепешки. Снаряжение довершали тыквенная бутыль для воды с двумя горлышками, рожки, пороховницы и сумки. За лошадьми по пятам бежали два громадных тощих пса, такие же свирепые и дикие на вид, как и их хозяева. Один из них был волкодав местной породы, другой — испанская ищейка.
— Как поедем, Мануэль? — спросил самбо, когда они отъехали от хижины. — Напрямик к Пекосу?
— Нет, нет, вверх полезем, в обход. Увидят нас в долине еще догадаются, за кем это мы. Ему кто-нибудь сболтнет — тогда не видать нам тех денег. Нет, поедем старой дорогой — через сухое русло к Пекосу. Дольше будет, зато вернее.
— Черт побери! — воскликнул Пепе. — Да там крутизна помрешь, пока влезешь. Моей бедной скотине, пожалуй, не под силу. И так выдохлась. Мы ведь сколько гонялись за бизонами!
Они пересекли заросли и по дороге, огибавшей скалы, подъехали к месту, где в отвесный склон врезалась лощина. По дну ее можно было подняться на верхнее плоскогорье. Подъем был крутой, очень трудный. Любая лошадь заартачилась бы, кроме выросшего в горах мустанга, — эти всюду карабкаются, как кошки. Даже собаки взбирались с трудом на этот почти вертикальный откос. Однако охотники спешились и, таща за собой лошадей, полезли вверх; вскоре они достигли плоскогорья.
Отдышавшись немного и дав передохнуть лошадям, они опять сели в седла и поскакали галопом через прерии на север.
— Ну, Пепе, сынок… — пробормотал мулат. — Нам, может, кто попадется навстречу. Может, тут пастух гоняется за антилопой. Слышишь?
— Ага, Мануэль, понимаю.
Это были последние слова, которыми они обменивались на протяжении десяти миль. Ехали они гуськом: впереди Мануэль, следом Пепе, позади собаки. Те тоже бежали друг за дружкой волкодав за ищейкой.
Проехав десять миль, они достигли высохшего русла реки, наискосок пересекавшего дорогу. По этому самому руслу ехали Карлос и его спутники в день, когда они бежали после происшествия в крепости. Теперь сюда спустились охотники. Как тогда Карлос, они свернули вниз по направлению к устью — к берегу Пекоса. Здесь они въехали в рощу и, спешившись, привязали коней к деревьям. Хотя лошади лишь недавно вернулись после долгого пути и сейчас пробежали еще не менее тридцати миль, они совсем не казались измученными. Несмотря на худобу, они были сильны и выносливы, как это присуще их породе, и могли бы без ущерба пробежать еще миль сто. Их хозяева прекрасно это знали, иначе они не были бы уверены в успехе своей охоты на человека.
— Как бы он не ускакал, вороной у него хорош, — заметил мулат, поглядев на мустангов. — Ничего, нагоним, а, Пепе?
— Да уж нагоним.
— Пара кляч измотает рысака, а, Пепе?
— Верно, Мануэль, измотает!
— Не хочу я надрываться, надо сделать игру полегче. Исхитримся, Пепе?
— Надеюсь, Мануэль!
— Он наверняка засел в пещере. Лучше местечка ему не найти. Не схватят, когда спит, солдатам тут в жизнь не взобраться. И назад, в долину, ему выйти легко. Ходит взад и вперед, никакие шпионы его не углядят. Больше ему негде быть. Наверняка он в пещере с конем вместе. Только вот загвоздка: когда его поймать? А, Пепе?
— То-то и оно! Кабы знать, когда он там, а когда нет!
— Ну, это нетрудно. Устроим засаду — и все.
— Думаешь, он там бывает днем?
— Думаю, Пепе. В долину он выходит ночью, это ясно только ночью. Может, не к себе домой, куда-нибудь по соседству. Уж наверно, он встречается с Антонио. В пещеру Антонио нельзя идти: белоголовый хитер, он идет ему навстречу. Это наверняка!
— Может, нам выследить Антонио?
— Можно, только это не годится. Тогда надо драться сразу с двоими. И не надо убивать Антонио. У людей нет зла на Антонио. Найдут с ним Антонио — будет хуже. Нет, сынок, хватит с нас белоголового — много дела поймать его. Помни: поймать — не убить. Пусть-ка сами убивают. На что нам выслеживать Антонио? Мы знаем, где он сам. Кабы не знали, другое дело.
— А может, пойти к пещере днем, Мануэль? Что-то я плохо помню, где это.
— Миля, не меньше. Пошли бы, если он спит… А когда он спит? Может, ты скажешь?
— А если не будет спать?
— За милю увидит нас в ущелье, вскочит в седло, ускачет вверх, на плоскогорье, — ищи его тогда! Может, три дня пропадут, а может, и вовсе не найдем.
— А знаешь, Мануэль, я придумал! Пойдем к входу в ущелье, заляжем до ночи поблизости. Как станет темно, заползем туда, где поуже. Он проедет мимо — другой дороги в долину у него нет, понимаешь? — тогда мы его и подстрелим.
— Эх, ты! Да мы так потеряем половину платы! А если промахнемся в темноте? Тогда все потеряем. Ну нет! Все — или ничего! Жизни своей не пожалеем, а его надо взять живьем, только живьем!
— Ладно, тогда пускай он выедет из ущелья, — заметил Пепе. — Отъедет подальше, а мы заберемся в пещеру. Будем ждать, пока придет обратно. Что скажешь, Мануэль?
— Неплохо придумано, сынок. Ладно, так и сделаем. Только зря соваться не будем. Сперва пускай он выедет из ущелья, тогда пойдем. Увидим, что он убрался, — и в пещеру. Так мы его наверняка захватим… Смотри, солнце садится. Пора! Поехали!
— Поехали!
Они сели на коней и выехали на берег реки. В этом месте не было брода, но что с того? Не медля ни минуты, они заставили лошадей войти в воду и поплыть; за ними последовали собаки; и вскоре все они выбрались на другой берег. Вода текла с них ручьями. Вечер был холодный, но что для таких людей жара или холод! Они не замечали своей промокшей одежды. Не задерживаясь, они поскакали прямо к отвесным скалам, в которые упиралась долина. Здесь, у подножия Льяно Эстакадо, они свернули вправо, огибая утесы.
Охотники проскакали две или три мили вдоль каменной стены и подъехали к скалистому отрогу, врезавшемуся в долину. Отходя от плоскогорья, он постепенно суживался и становился все более пологим. В конце его беспорядочно громоздились обломки скал и каменные глыбы. Здесь не было деревьев, но темные вздыбленные камни придавали этому месту какой-то взъерошенный вид. Меж камней и в расселинах скал мог бы укрыться целый отряд всадников вместе с лошадьми.
К этому выступу скалистого мыса и направился мулат. За мысом скрывалось ущелье, где находилась пещера; второй такой же кряж огораживал ущелье с южной стороны. Оно глубоко вгрызалось в скалу, а оттуда вверх, на плоскогорье, вела узкая крутая тропа. Это было то самое ущелье, где перебили стадо молодого скотовода дона Хуана. Здесь больше не видно было трупов. Стервятники, волки и медведи немало потрудились над ними, и теперь на дне ущелья валялись одни лишь кости, уже побелевшие.
Наконец охотники достигли цели путешествия. Они провели своих коней меж каменных глыб и крепко привязали их; потом стали карабкаться по расселинам и скалам вверх и добрались до вершины хребта. Отсюда открывался вид на вход в ущелье. Он был шириной ярдов в триста, и ни человек, ни лошадь не могли бы пройти мимо Мануэля и Пепе незамеченными, разве что ночь будет уж очень темная. Но охотники надеялись на луну; при свете ее они увидят и кошку, если она вздумает проскочить в ущелье.
Облюбовав себе местечко, они залегли в засаде. Снизу, из лощины, лежащей по обе стороны хребта, никто не мог бы их увидеть. А их лошади были спрятаны среди скал.
Охотники на человека ясно представляли себе план действий. У них были основания предполагать, что Карлос, объявленный вне закона, поселился здесь, в пещере, в этом ущелье, хорошо знакомом Мануэлю. По ночам он, уж наверно, выходит отсюда, отправляется в долину — отсюда до его ранчо всего миль десять и где-то на полпути встречается с Антонио, а тот рассказывает ему обо всем, что происходит в Сан-Ильдефонсо, и кстати передает ему съестные припасы.
Здесь они намеревались ждать, пока Карлос выедет из ущелья, потом забраться в пещеру и наброситься на него, когда он вернется. Конечно, они могли бы подкараулить его, когда он будет проезжать мимо, но они не были уверены, что им удастся его схватить. Если он будет верхом на своем коне, им его не поймать. Можно, конечно, подкрасться совсем близко и выстрелить в него, но в этом случае, как сказал мулат, есть риск, что он ускользнет.
К тому же они гнались вовсе не за его скальпом. Оба они, и в особенности Мануэль, хотели во что бы то ни стало захватить Карлоса живым и заработать двойную плату. Пусть это и труднее и опаснее, зато, если они его поймают, награда будет удвоена, а за деньги эти головорезы были готовы на все. Впрочем, они вовсе не были так отважны, чтобы стремиться к открытой схватке. Они знали безудержную храбрость белоголового и надеялись взять верх над ним, прибегнув к хитрости.
С самого начала они решили выследить его, а потом подкрасться к нему, когда он будет спать, и постепенно, в пути, обдумали план действий. В голове Мануэля этот план зрел задолго до того, как он предложил его Пепе.
Их надежды подогревались уверенностью, что жертва и не подозревает о том, кто за ним гонится. Карлос ни от кого не мог узнать об их возвращении с охоты, поэтому он не будет уж очень осторожен. Конечно, знай Карлос, что они отправились по его следу, он повел бы себя иначе, чем теперь, когда он думает, что скрывается от солдат. От солдат он в любое время спрячется где-нибудь на Льяно Эстакадо. Охотники — другое дело. Если при первой попытке им не удалось бы разделаться с ним, они выследят его и найдут, куда бы он ни ускакал.
Оба они, Мануэль и Пепе, не сомневались: белоголовый не заподозрит, что они здесь, до той минуты, пока они его не схватят. Поэтому-то они и рассчитывали на успех.
Разумеется, они приняли меры, которые должны были обеспечить им удачу, если только их предположение правильно: Карлос сейчас в пещере и выйдет из ущелья ночью.
Скоро они это узнают. Солнце уже село. Ждать осталось недолго.
Глава 53
Карлос действительно был в это время в пещере. После случая в крепости он поселился здесь, сделав эту пещеру своим «логовом» по тем самым причинам, о которых Мануэль говорил своему сообщнику. Она обеспечивала ему надежное убежище и при этом находилась недалеко от его друзей, от долины. Он мог спокойно выходить из ущелья ночью и возвращаться перед рассветом. Днем он спал. Здесь он мог не бояться, что его выследят солдаты. Но если бы даже и выследили, из входа в пещеру открывался вид на ущелье почти на милю, до самого устья, и кто бы ни появился с той стороны, Карлос заметил бы его еще издали. И хотя по обе стороны ущелья вздымались неприступные утесы, у охотника была возможность бежать, если бы солдаты вошли в ущелье снизу, из долины. Как уже сказано, из ущелья вверх, на плоскогорье, вела узкая, крутая, опасная тропка. Несмотря на ее крутизну, славный вороной смело взбирался по ней, а наверху, на широком просторе Льяно Эстакадо, Карлос только посмеялся бы над своими преследователями-уланами.
Лишь в часы его сна или после наступления темноты враги могли бы подкрасться к нему. Но и этого Карлос не боялся. Он спал так же безмятежно, как если бы его окружала надежная охрана. И у него был страж — верный страж Бизон. Из последней отчаянной схватки на мосту Бизон все-таки вырвался, и хотя его искололи пиками, раны были неопасны. Как и прежде, он был рядом со своим хозяином, и, когда тот спал, умный пес сидел на уступе и смотрел вниз, в ущелье.
От одного лишь вида солдатских мундиров шерсть встала бы дыбом на спине Бизона и он бы предостерегающе зарычал. Даже в темноте собака почует приближение постороннего еще за несколько сот ярдов, и это позволит хозяину вовремя скрыться от самых быстроногих преследователей.
Пещера была просторная, достаточно просторная, чтобы вместить людей с их лошадьми. Кристально чистая вода стекала со скал в ее глубине в круглую, точно чаша, выемку, казалось, созданную рукой человека. Но это лишь казалось. Сотворила эту чашу и наполнила ее чудеснейшей водой сама природа. В этих местах такие водоемы не редкость. В горах Вако и Гваделупских, расположенных еще южнее, часто встречаются пещеры с такими родниками.
Трудно представить себе лучший приют для беглеца, кто бы он ни был — разбойник, изгнанник, преследуемый законом, — и для Карлоса теперь это было самое подходящее убежище. Он давно знал о существовании пещеры, а кроме него, о ней знали лишь такие же охотники на бизонов, как он, да дикие индейцы. К этому темному, мрачному ущелью жители долины никогда не приближались.
Здесь, в пещере, Карлос мог сколько угодно предаваться размышлениям, а размышления его подчас бывали очень горьки. Обо всем, что происходило в долине, ему рассказывал Антонио. Каждую ночь он виделся с Антонио в условленном месте, у Пекоса, и узнавал от него новости. Хитрый мулат Мануэль угадал верно. Если бы Антонио приходил в пещеру, его могли бы выследить и тем самым обнаружить убежище Карлоса. Вот почему охотник каждую ночь уходил отсюда, чтобы встретиться с Антонио подальше.
В городе у Антонио была ловкая помощница — ему сообщала новости Хосефа. От нее он узнал, что Каталину де Крусес держат под замком; что Робладо всего лишь ранен и уже поправляется; что на поиски Карлоса отправились отряды, возглавляемые вновь приехавшими офицерами, и что награда за его голову увеличена. О слежке, установленной за ранчо, Карлос знал давно. Эта затея, не такая уж хитрая, все же сильно досаждала ему: он не мог навещать мать и сестру. Однако через Антонио он все-таки поддерживал с ними постоянную связь. Казалось, после происшедшего ему следовало бы беспокоиться за сестру; но негодяй Вискарра еще не оправился после ранения, а кроме того, Карлос правильно рассудил, почему Роситу отпустили на свободу. За нее он не очень боялся — по крайней мере, в ближайшее время; а вскоре он увезет ее далеко, туда, где ей не будет грозить опасность.
И сейчас он ждал удобного случая. Он не сомневался: как бы ни были бдительны враги, он в любое время сумеет выкрасть мать и сестру. Но вместе с ними должна бежать и та, что дорога ему не меньше. А ее охраняют куда строже, с нее не спускают глаз!
Ради нее одной он каждый день рисковал жизнью, ради нее проводил одинокие часы в пещере, обдумывая все новые безрассудно смелые планы.
Каталину держат под замком, стерегут ее неусыпно дни и ночи напролет. Как же ее освободить? Эта мысль не давала ему покоя.
Каталина поклялась, что уйдет вместе с ним. О, почему они не бежали сразу? Почему медлили? Как он мог упустить такую драгоценную минуту! Промедление оказалось роковым. Неужели задуманное не осуществится долгие месяцы, годы, быть может, никогда?..
Злоба врагов, презрение, с каким относились к нему в долине, мало заботили Карлоса. Он беспокоился лишь о Каталине, лишь мысль о ней неотступно тревожила его. В часы бодрствования он думал об одном — как спасти не себя, а любимую.
Можно ли удивляться, что он так ждал ночи? Можно ли удивляться, что он нетерпеливо мчался к Пекосу, к месту тайного свидания с Антонио?
Снова спустилась ночь. Карлос вывел коня на откос у выхода из пещеры, вскочил в седло и поскакал вниз по ущелью. Впереди бежал Бизон.
Глава 54
Охотникам на человека, как они и предполагали, не пришлось долго ждать. Светила луна — на это они тоже рассчитывали. Луна была яркая, и лишь порой ее ненадолго закрывали пробегавшие по небу облака.
Однако ветра не было, воздух словно застыл. Здесь, на высоте, воздух так чист и прозрачен, что самый легкий звук слышен на большом расстоянии, каждый шорох отдается вдалеке.
Шорохи и шумы были слышны, хотя собаки и лошади охотников, приученные стоять тихо, и сами охотники не издавали ни звука. Они лежали молча, и если переговаривались, то только шепотом.
То были голоса самой природы, какие обычно раздаются в этом диком краю: захрапит бурый медведь в своей берлоге среди скал, завоет, залает койот, ухнет сова, порой пронзительно пискнет летучая мышь или крикнет козодой. Некоторое время ушей спрятавшихся охотников достигали лишь эти звуки.
Прошло полчаса, но ни мгновение Мануэль и Пепе не дали отдыха зрению и слуху. Они смотрели то на ущелье, то в сторону долины. Очень может быть, что их жертвы нет в пещере и днем не было, а такие люди, как они, предвидят и взвешивают всякую возможность. Если это так и если Карлос сейчас должен возвратиться в пещеру, то их план нельзя осуществить. Но Мануэль предусмотрел и такой случай: надо дать Карлосу пройти, а потом, ночью, подкрасться поближе к пещере, хорошо бы на расстояние выстрела, дождаться утра, когда белоголовый появится снова, и прострелить ему руку из ружья — этим оружием желтолицый охотник владел мастерски. Можно застрелить лошадь и это неплохой план. Карлоса почти наверняка удастся поймать, если они убьют или ранят его коня. И приятели решили при первом же удобном случае покончить с благородным животным.
Знали они и совсем верный способ убить или захватить Карлоса, тут вряд ли возможна неудача, — конечно, если точно знать, что их жертва сейчас в пещере. Но у них были свои основания не воспользоваться этим планом.
Ничего не стоило провести отряд улан по плоскогорью и оставить его наверху, у тропки, ведущей из ущелья. Другой отряд тем временем вошел бы в ущелье из долины; а так как скалистые стены ущелья почти отвесны, Карлосу был бы отрезан путь к бегству с обоих концов. Правда, как мы уже знаем, если бы солдаты вошли только в ущелье, все дело сорвалось бы; а чтобы провести их на плоскогорье, минуя ущелье, пришлось бы затратить целый день. Но, конечно, Вискарра и Робладо ради верного успеха не пожалели бы ни времени, ни людей.
Мулат и его темнолицый приятель все это великолепно знали, однако меньше всего они думали о том, чтобы воспользоваться таким планом. Его можно было осуществить, почти не подвергая себя опасности, зато невелика была бы и плата: ведь каждый солдат потребовал бы себе равную долю обещанной награды. А Мануэлю и Пепе вовсе не хотелось с кем-то делиться наградой, если они благодаря своему опыту и смекалке поймают Карлоса. Нет, они и не думали прибегнуть к этому способу. Оба не сомневались, что добьются своего и без посторонней помощи.
Они недолго ждали в своей засаде на скале. Через каких-нибудь полчаса и тот и другой чутким ухом уловили звук, доносившийся из ущелья: кто-то приближался к выходу в долину. Стучали лошадиные копыта по камню, осыпалась мелкая галька.
Дно ущелья устилали осколки камней, нанесенные сюда во время ливней. По этой каменистой дороге ущельем ехал всадник.
— Белоголовый, — пробормотал Мануэль. — Наверняка он.
— Верно, брат, ты угадал. Ты все его следы разгадал сразу. В пещере-то он и прячется. Мы наверняка его застукаем, когда придет обратно… А, черт! Вот он!
Не успел Пепе договорить, как на склоне появилась высокая тень. В лунном свете охотники разглядели всадника и коня. Можно было не сомневаться: это и была намеченная жертва.
— Слушай, брат, прошептал Пепе, а вдруг он пройдет близко? Может, уложить коня? При таком свете не промахнешься, будем целиться в коня. Уложим его — легко захватим белоголового.
— Не годится, сынок. Его не так-то легко захватить и пешего. Уйдет в скалы, будет прятаться день за днем, все время будет начеку — намучаемся мы с ним. Старый план лучше. Пускай его едет — вернее захватим, когда вернется. Тогда наверняка его захватим.
— Но, Мануэль…
— К черту! Чего там «но»? Всегда ты спешишь. Наберись терпения, не пяться, не трусь! Вон, гляди!
Этот возглас означал, что предложение Пепе, хотя и разумное, неосуществимо: всадник проезжал так далеко, что был недосягаем для их ружей.
Он ехал посередине ущелья, держась на равном расстоянии от его откосов, и ясно было, что он выедет на открытое пространство ярдов за двести от того места, где прятались в засаде охотники.
Так оно и вышло. Через несколько минут он оказался против их укрытия и действительно не менее чем в двухстах ярдах от них. Его не настиг бы выстрел из охотничьего ружья Мануэля; столь же ненадежным посланцем была бы пуля Пепе. Охотники лежали, затаив дыхание, не помышляя о стрельбе; они силой удерживали своих собак в расселине скалы, поглаживая их, чтобы успокоить.
Всадник приближался медленным шагом, с большой осторожностью. В ярком свете луны искрились блестящие части сбруи и оружия. Можно было отчетливо разглядеть и белую кожу, и статную фигуру всадника, и его великолепного коня.
— Белоголовый! — пробормотал Мануэль. — Удачно, сынок!
— А что это там, впереди? — спросил Пепе.
— Ага! Я и не заметил. Будь он проклят! Это пес. Ну конечно, пес!
— Верно, пес, провались он!
— К черту в пекло этого пса! Я уже про него слыхал. Редкостный пес. Дьявольщина! Задаст он нам хлопот! Хорошо еще, что ветер не в ту сторону. Сейчас неопасно… А, черт! Гляди!
Всадник вдруг остановился и подозрительно посмотрел на вершину скалы, где скрывались охотники. Что-то в поведении собаки обеспокоило его.
— Будь он проклят! — опять пробормотал Мануэль. — Этот пес еще задаст нам хлопот! Наше счастье, что ветер не в ту сторону.
Ветер был совсем слабый, дул он и в самом деле со стороны всадника прямо в лицо охотникам, и это было для них удачей, не то Бизон, конечно, почуял бы их.
Их засаду и так чуть не обнаружили. Какой-то еле уловимый звук — быть может, одна из лошадей переступила ногами в траве возбудил подозрение собаки, хотя всадник ничего не услышал. Да и собака, видимо, сразу успокоилась — она опустила морду и снова побежала вперед. Всадник последовал за ней. Через несколько минут они скрылись из виду.
— Теперь, сынок, в пещеру!
— Пошли!
Охотники спустились вниз, сели на коней и, пробравшись среди скал, въехали в ущелье. Держась в тени откоса, они поехали в дальний, узкий конец ущелья, к той тропе, по которой недавно спустился всадник. Поднимаясь по ней, они внимательно смотрели на утес справа, так как знали, что пещера должна быть на этой стороне.
Они не опасались, что оставят след и Карлос распознает его, даже если будет возвращаться днем: тропа вела по камням, и на них уже были отметины, оставленные копытами его собственной лошади. И все же Мануэль не был спокоен; время от времени он твердил не то про себя, не то обращаясь к своему приятелю:
— Будь он проклят! Задаст нам хлопот этот пес, наверняка задаст! Будь он проклят!
Наконец в каменной стене ущелья, словно черное пятно, показалось жерло пещеры. Мануэль бесшумно спешился и, оставив своего коня с Пепе, взобрался на уступ и стал внимательно разглядывать вход в пещеру. Хитрый охотник был осторожен на случай, если вдруг ктонибудь оказался внутри, — он не упустил из виду и такую возможность.
Некоторое время он прислушивался у входа, потом послал в пещеру собак; они не залаяли, не заворчали, и Мануэль наконец успокоился. Он заполз туда сам, все же держась в тени скал, потом высек огонь, заслонив свет, чтобы отблеск его не падал наружу, быстро огляделся и, окончательно убедившись, что никого нет, вышел и велел товарищу привести коней.
Теперь в пещеру вошли оба охотника вместе со своими лошадьми. Они обшарили все кругом и на сухом уступе обнаружили несложное хозяйство Карлоса. Серапе, небольшой топорик, чтобы колоть щепки для очага, котелок для варки пищи, две-три чашки, несколько кусков вяленого мяса и немного хлеба — вот и все, что было в пещере.
Непрошенные гости присвоили себе все то, что им пришлось по вкусу, привязали лошадей в глубине и тщательно осмотрели каждый уголок, чтобы уже совсем освоиться в этом каменном жилище; потом они погасили огонь и, словно хищные звери, залегли, подкарауливая свою ничего не подозревающую жертву.
Глава 55
Покинув пещеру, Карлос ехал с осторожностью, вполне естественной для человека в его положении. Однако этой ночью он был особенно осмотрителен. Он зорко вглядывался в каждый кустик на пути, в каждый камень, за которым мог бы притаиться враг. Почему же сегодня он более осторожен, чем обычно? Да оттого, что в душу его закралось подозрение, и подозревал он, что на его след могли напасть те самые люди, которые так близко от него лежали сейчас в засаде.
В последние дни он часто думал об этих людях. Он хорошо знал их и знал, что оба они, а Мануэль в особенности, ненавидят его. Их могут послать на розыски, думал он, и, несомненно, они способны его выследить. Вот почему Карлос тревожился сейчас куда больше, чем прежде, когда его преследовали отряды улан с их неопытными начальниками. Если на поиски его двинутся хитрый мулат и его не менее проницательный дружок, то, конечно, пещера недолго будет служить ему убежищем, и он уже не сможет так легко получать вести из Сан-Ильдефонсо.
От этих мыслей Карлосу было не по себе и стало бы еще тревожнее, не будь он уверен, что приятели охотятся сейчас далеко на плоскогорье. Он надеялся, что сумеет уладить все свои дела и уехать из этих краев до того, как вернутся Мануэль и Пепе. Но в это утро его надежды рухнули.
Он возвращался в свое убежище, когда уже рассвело. На этот раз Антонио, за которым неотступно следовали шпионы, не удалось вовремя прийти в условное место, и поэтому Карлос задержался. Возвращаясь в ущелье, он натолкнулся на свежий след, который шел с северного края плоскогорья. Здесь прошли лошади, мулы и собаки, и по следам Карлос быстро посчитал, сколько их было. Оказалось — как раз столько, сколько лошадей, мулов и собак у желтолицего охотника и его дружка. И Карлос понял: это их следы! Они вернулись с охоты в прериях.
Он внимательно рассмотрел следы и убедился, что его опасения справедливы. Отпечатки, оставленные одной из собак, разнились от других. Это не был след волкодава местной породы, хотя и такой же крупный. Карлос слышал, что Мануэль не так давно приобрел огромную ищейку. Конечно, это и есть отпечатки ее лап.
Карлос проехал по следам охотников до того места, где они пересекали его собственную старую тропу, ведущую к ущелью. Как же он удивился, когда обнаружил, что один из всадников вместе с собаками свернул и отправился в ту сторону, куда вели следы его коня! Сомнений не могло быть: человек этот выслеживал именно его, Карлоса! Вскоре, однако, этот человек повернул обратно и продолжал прежний путь.
Карлос знал теперь, что накануне вечером здесь проезжали охотники. Он выследил бы их дальше, но наступило утро, и так как они явно направлялись к городу, он не отважился ехать в ту сторону, а вернулся в свое убежище.
Весь день его не покидали тревожные мысли, навеянные этим открытием; о том же он думал и сейчас, покинув пещеру; вот почему он соблюдал такую осторожность.
Итак, пес Бизон, выскочив из ущелья, неожиданно обернулся к скалам и зарычал. Тогда и Карлос остановился и внимательно посмотрел в ту сторону. Но он не увидел ничего подозрительного; к тому же Бизон, видимо, успокоился и снова побежал вперед.
«Дикий зверь какой-нибудь», — подумал Карлос и поехал дальше.
Он выбрался на открытое место и, проскакав миль шесть-семь галопом, достиг берегов Пекоса. Здесь он свернул вниз по течению и, снова соблюдая осторожность, направился к роще на берегу. Эта роща и была местом свидания.
Не доехав ярдов сто, Карлос остановился. Вперед бросилась собака; порыскав в зарослях, она возвратилась к своему хозяину. После этого он смело въехал в тень рощи, спешился там и стал под деревом, поджидая прихода вестника.
Ему не пришлось долго ждать. Через несколько минут в долине показался человек; пригнувшись, он быстро шел к роще. Ярдов за триста он остановился и тихонько свистнул. Карлос ответил на сигнал, и человек, все так же пригибаясь, подошел к нему под деревьями. Человек этот был Антонио.
— За тобой следили, друг? — спросил Карлос.
— Как всегда, хозяин, но я скоро от них отделался.
— Да, теперь это будет не так легко.
— Отчего же, хозяин?
— Я знаю, что у тебя за новости: ведь желтолицый охотник вернулся?
— Черт побери! Так оно и есть! Кто же вам сказал, хозяин?
— Утром, когда ты ушел, я наткнулся на след — их след, не иначе.
— Их и есть, хозяин. Они вернулись вчера вечером. Но у меня есть новости похуже.
— Похуже? Что такое?
— Они выслеживают вас!
— Ага, уже! Я этого ждал, но не так скоро. Откуда ты знаешь, Антонио?
— Хосефа сказала. Ее братишка прислуживает отцу Хоакину. Утром падре взял его с собой в крепость, а потом послал проводить капитана Робладо к хижине желтолицего охотника. Падре стращал мальчишку, чтобы никому не говорил про это. Да только, когда он вернулся в миссию, он пошел к матери. А Хосефа уже подозревала, что его посылали за каким-то нечистым делом, потому что он показал ей серебряную монету. Ну, она все у него и выпытала. Он не знает, про что разговаривали Робладо и охотники, только ему кажется, они куда-то собирались. Так вот, я прикинул все это вместе и подумал: наверно, они отправились по вашему следу, хозяин.
— Конечно, друг. Я ничуть не сомневаюсь в этом. Значит, выживут меня теперь из пещеры. Они, конечно, догадываются, где я скрываюсь. Ничего не поделаешь, придется искать себе другое убежище. Хорошо, что я вовремя почуял негодяев и они не схватят меня, когда я буду спать. Они-то, наверно, как раз на это рассчитывают… А еще что нового?
— Да ничего такого нет. Вчера вечером Хосефа видела Висенсу с Хосе. А с сеньоритой ей так и не удалось перекинуться словечком: уж больно крепко сторожат сеньориту. Но у Хосефы есть дело к жене привратника. Завтра она ее увидит — может, что-нибудь у нее и выведает.
— Мой добрый Антонио, — сказал Карлос, кладя ему в руку монету, — отдай это Хосефе и скажи, чтобы действовала. На нее вся наша надежда.
— Не бойтесь, хозяин, — ответил Антонио усмехаясь. — Хосефа старается изо всех сил. У нее-то, я так думаю, вся надежда на меня!
Карлос засмеялся простодушным словам своего верного слуги и товарища, но тут же стал расспрашивать о другом — о своей матери и сестре, о солдатах, шпионах, о доне Хуане.
Антонио ничего нового не знал о доне Хуане. Его арестовали на следующий день после происшествия в крепости, и с тех пор он сидел за решеткой. Его обвиняли в пособничестве Карлосу и должны были судить, как только поймают охотника на бизонов.
За полчаса они обо всем переговорили. Карлос взял у Антонио свертки с едой и собрался возвратиться в свое убежище.
— Завтра приходи опять, Антонио, — сказал он на прощанье. — Если мне что-нибудь помешает прийти, жди меня послезавтра и потом в следующую ночь. Доброй ночи, друг!
— Доброй ночи, хозяин!
С этими словами друзья — ибо они были настоящими друзьями — расстались.
Антонио, низко пригнувшись, отправился в сторону долины, а Карлос, вскочив в седло, поскакал к хмурым утесам Льяно Эстакадо.
Глава 56
Новость, которую сообщил Антонио, не могла не вызвать у Карлоса самых серьезных опасений, можно было бы сказать страха, если бы Карлосу было знакомо такое чувство. Он стал еще осторожнее и напряженно думал о том, как же ему оградить себя от преследователей.
Если бы ему предстояло сразиться лицом к лицу с двумя сильными людьми, которые хотели поймать его, он бы не так беспокоился. Но он знал, что эти два негодяя хоть и сильны, а нападут на него лишь тогда, когда у них будут какие-нибудь преимущества перед ним. Они непременно постараются нагрянуть, когда он будет спать, или попробуют еще как-то застать его врасплох. Он должен остерегаться их уловок!
Карлос медленно ехал к ущелью, всецело поглощенный мыслями о желтолицем охотнике и его приятеле.
«Они, конечно, знают эту пещеру, — подумал он. — Раз они пошли вчера по моему следу, значит, подозревают, что я скрываюсь где-то в ущелье. О том, что вышло тогда в крепости, они, уж конечно, тоже слышали. Наверно, им рассказал какой-нибудь пастух там, на плоскогорье. Так… Но что же дальше? Они поспешили в миссию. Ага! Отец Хоакин взял мальчишку с собой в крепость. Понимаю, понимаю… Падре ведь покровитель этих негодяев. Они сказали ему что-то, иначе зачем бы он в такую рань пошел в крепость? Они принесли новости, и Робладо тут же отправился к ним. Ясно, ясно: они обнаружили мое убежище!.. Может быть, они добрались до ущелья, пока меня не было? — думал он. — Посмотрим! Что ж, времени им хватило бы, если только они отправились сразу же после разговора с Робладо. Мальчишка так и подумал. Да, надо глядеть в оба! Пора!»
Едва эта мысль промелькнула в его сознании, Карлос остановил вороного, пригнулся к самой шее коня и стал всматриваться во тьму впереди. Он подъехал уже к входу в ущелье и почти той же дорогой, по какой недавно уехал отсюда. Но теперь луна скрылась за тяжелыми облаками, и ее свет не рассеивал сумрака в ущелье.
«Они могут залезть поглубже в ущелье, где узко, рассуждал он, — и дождаться, чтобы я вышел из пещеры, это очень на них похоже. Подстеречь меня там — сущий пустяк. Может быть, сейчас они уже в ущелье».
Он задумался на минуту. Да, это вполне возможно.
«Что ж, пусть даже так, — сказал он себе. — Все равно я поеду. Бизон обежит скалы на выстрел впереди меня. Если они там залегли и он их не обнаружит, — значит, эти бестии еще хитрее, чем я думаю, а я ведь знаю — они не простачки! Ну, а если он их спугнет, я успею ускакать».
— Эй, Бизон!
Собака, остановившаяся впереди, в нескольких шагах, подбежала и посмотрела в лицо хозяину. Он подал ей знак и произнес только одно слово:
— Ищи!
— Собака ринулась в ущелье. Теперь она бежала далеко впереди, обнюхивая землю. Всадник следовал за ней.
Так он подъехал к месту, где отвесные стены сходились совсем близко, их разделяли всего лишь какие-нибудь сто ярдов. По обе стороны у подножия утесов лежали большие глыбы, за которыми свободно могли притаиться люди; за ними можно было спрятать даже лошадей.
«Вот самое подходящее место для трусливого нападения, подумал Карлос. — Здесь можно с любой стороны нанести предательский удар, даже не очень целясь. Но Бизон не подает сигнала».
— Ага!
Это короткое восклицание было ответом на чуть слышный лай собаки. Бизон наскочил на след там, где мулат и его сообщник свернули к середине ущелья. Из-за облаков выглянула луна, и Карлос увидел, что собака мчится по ущелью ко входу в пещеру.
Хозяин позвал бы ее обратно, но ведь она не искала еще, нет ли кого за обломками скал, а без этого Карлос не решался ехать дальше. Но Бизон слишком стремительно несся вперед — он явно напал на свежий след, и Карлосу пришло на ум, что его враги сейчас в пещере.
Как только он подумал об этом, Бизон снова залаял. Его больше не было видно, но хозяин знал, что пес уже недалеко от входа в пещеру и бежит по свежему следу.
Карлос сдержал коня и прислушался. Ехать дальше он не решался. Не решался и позвать собаку. Если поблизости кто-нибудь есть, его голос услышат. Оставалось только ждать возвращения собаки или ждать до тех пор, пока он поймет, за кем Бизон погнался. В конце концов, это может быть и медведь или какой-нибудь другой дикий зверь.
Неподвижно сидел Карлос на коне, однако внезапное нападение не застигло бы его врасплох. Его верное ружье лежало поперек седла, а заряд и запал он проверил раньше. Он прислушивался к малейшему шороху, впивался взглядом в каждое темное углубление в скалах впереди и по сторонам.
Он недолго оставался в неизвестности: откуда-то из глубины ущелья донесся звук, заставивший всадника привскочить в седле. Казалось, сцепились собаки, и на мгновение Карлосу представилось, что Бизон напал на медведя. Но заблуждение тут же рассеялось: острый слух охотника уловил голоса нескольких собак, и в неистовом шуме драки он различил хриплый лай ищейки.
Ему сразу все стало ясно. Враги подстерегали его в пещере. Теперь он был уверен, что шум доносился оттуда.
Первым его побуждением было повернуть коня и скакать прочь из ущелья. Однако он остался на месте и прислушался.
Шум драки не прекращался, но теперь среди рычанья и лая собак Карлос различил голоса людей, что-то глухо и торопливо говоривших собакам и друг другу.
Вдруг все как будто успокоилось, собаки замолкли, только изредка глухо лаяла ищейка. Но вот замолкла и она.
Тишина подсказала Карлосу, что Бизон либо убит, либо убежал куда-нибудь от нападавших на него людей. Ждать его больше не имело смысла. Карлос знал: если Бизон жив, он догонит хозяина. Уже не раздумывая, он повернул коня и поскакал вниз по ущелью.
Глава 57
Карлос подъехал к выходу из ущелья и остановился, но не на открытом месте, а в тени скал, тех самых скал, за которыми еще совсем недавно скрывались в засаде его преследователи. Сидя в седле, он смотрел назад, в ущелье, и прислушивался, не гонятся ли за ним.
Вскоре он заметил, что к нему приближается какая-то тень. С радостью он узнал Бизона. И вот уже собака у стремени его лошади. Наклонившись, Карлос разглядел, что пес жестоко изранен и истекает кровью. Несколько глубоких ран зияло на боках, с плеча свисал клок шкуры, по нему сочилась красная струйка. Бизон едва ковылял; видно было, что он ослабел от потери крови.
— Друг! — сказал Карлос. — Ты спас мне сегодня жизнь, теперь мой черед — попробую спасти твою.
С этими словами он спешился, взял собаку на руки и снова взобрался в седло.
Он сидел, раздумывая, что же ему теперь делать, и зорко смотрел в ту сторону, откуда ждал преследователей.
Теперь он твердо знал, кто занял его пещеру. Лай ищейки сказал ему яснее слов: там желтолицый охотник, и с ним, разумеется, самбо. Во всей долине нет другой ищейки — значит, то лаяла собака Мануэля.
Минуты шли, а Карлос стоял неподвижно в тени скал и все раздумывал, куда бы ему направиться.
«Поеду к роще и подожду там Антонио. Они не выследят меня сегодня — ночь будет совсем темная. Все небо затянуло облаками, луна уже не выглянет. Если они меня не найдут, я завтра смогу там скрываться весь день. Ну, а выследят — что ж, я еще издали их увижу, успею ускакать… Бедный мой Бизон, ты истекаешь кровью. Ох, какая рана! Потерпи, дружище! Вот сделаем привал, тогда подлечим тебя… Ладно, поеду к роще. Они не подумают, что я туда двинулся, ведь в этой стороне город. Да и не найдут они мой след в темноте… Ого! Что же это я? Не найдут след в темноте, как же! А про ищейку я забыл? Храни меня господь! Эти дьяволы разыщут меня, даже если ночь будет черна, как сажа. Храни меня господь!»
Лицо его омрачила тревога. Видно, тяжела была и ноша в его руках, и тяжкие мысли давили: Карлос согнулся и, казалось, впал в глубокое уныние. Впервые он, беглец, преследуемый людьми и законом, проявил признаки отчаяния.
Долго сидел он, не поднимая головы, склонившись над шеей коня. И все же он не поддался отчаянию.
Он вдруг выпрямился, словно неожиданная мысль пробудила в нем надежду. Казалось, он принял новое решение.
— Да, — сказал он себе, — я поеду туда, к роще! Мы еще проверим твою хваленую ловкость, кровопийца Мануэль! Посмотрим, посмотрим!.. Может, ты и получишь по заслугам, да только не той награды тебе хочется! Не так-то легко тебе достанется мой скальп!
С этими словами Карлос повернул коня и, устроив поудобнее Бизона, поскакал по долине.
Он ехал быстро и ни разу не оглянулся. Казалось, он спешил, хотя ему нечего было бояться, что его настигнут. Его коня никто не мог догнать, когда он несся во весь опор.
Карлос молчал; лишь изредка он обращался с ласковым словом к собаке; ее кровь стекала по ногам Карлоса, по бокам вороного. Бедный Бизон совсем ослабел и не мог бы ступить ни шагу.
— Потерпи, друг, потерпи еще немного! Скоро ты отдохнешь от этой тряски.
Уже через час Карлос достиг уединенной рощи на берегу Пекоса, той самой, где недавно они встретились с Антонио. Здесь он остановился. Он решил провести в роще остаток ночи и весь следующий день, если только ему не помешают.
В этом месте Пекос течет меж невысоких, но крутых берегов, да и на много миль вверх и вниз они все такие же. По обе стороны тоже на многие мили раскинулась ровная низина. Растительности здесь немного. Поодаль друг от друга разбросаны редкие островки деревьев, а вдоль берегов тянется узкая бахромка ив. То тут, то там она разрывается, и в просвет между деревьями видна гладь воды. В крохотных рощицах растут тополя и виргинские дубы с подлеском из акаций, иной раз по соседству стоят и кактусы.
Эти рощицы так малы и настолько отдалены одна от другой, что не мешают обозревать долину, и тот, кто скроется в любой из них, издалека увидит всадника или какой-нибудь другой крупный предмет. При свете дня враг не сможет подойти к нему незаметно — разумеется, если не спать и быть начеку. Другое дело — ночью; тогда безопасность будет зависеть от того, насколько темная настанет ночь.
Зеленый оазис, куда въехал Карлос, находился далеко от других рощиц. Отсюда больше чем на милю открывался вид на низину по обе стороны реки. Роща занимала всего лишь несколько акров, но благодаря ивам, окаймлявшим реку, казалась больше. Она была расположена у самого берега, и кромка ив словно примыкала к ней. Ивы отступили от края воды лишь на несколько футов, а роща врезалась в равнину на несколько сот ярдов.
У этой рощи была одна особенность. По самой середине деревья как бы расступились, открытое пространство покрывала ровная мурава. Полянка эта была почти круглая, ярдов сто в поперечнике. Неподалеку от одного ее края по касательной проходил берег реки. Здесь был просвет меж деревьями, и с полянки открывался вид на луга, раскинувшиеся на другом берегу. А с противоположной стороны к прилегающей низине, словно аллейка, вел еще один просвет меж деревьями; таким образом, полоска открытого пространства как бы рассекала рощу на две, почти одинаковые по величине. Однако с низины, лежащей по обе стороны реки, можно было увидеть этот просвет лишь в том случае, если оказаться против него.
Поляна, просвет между деревьями, протянувшийся ярдов на десять-двенадцать, и самая низина были совершенно ровные и гладкие; росла здесь только невысокая трава, и любой движущийся предмет был бы заметен издалека.
В роще густо разросся подлесок, преимущественно низкорослая акация. Частая сеть плюща и тянущихся вверх лиан оплела ветви могучих дубов, которые возвышались над всеми остальными деревьями. Взор не проникал в подлесок, хотя охотник, преследуя дичь, мог бы пробраться сквозь эти заросли. А ночью, даже при лунном свете, они казались сумрачными и непроходимыми.
По одну сторону полянки на сухой песчаной почве росли кактусы. Их было здесь не больше десятка, но два-три крупных, с вытянувшимися вверх мягкими, мясистыми отростками, казались почти такими же высокими, как виргинские дубы. Массивные колонны этих кактусов, так непохожих на окружающие деревья, придавали этому уголку причудливый вид. Непривычному человеку эти гигантские канделябры, столь отличные от обыкновенных кустов и деревьев, показались бы загадкой, и он не знал бы, к какому царству природы их отнести. Здесь, в этом уголке, преследуемый законом беглец рассчитывал найти себе убежище на ночь.
Глава 58
Карлос не ошибся, сказав, что собака сохранила ему жизнь, — во всяком случае, она сохранила ему свободу, а это, в конце концов, одно и то же. Ведь если бы умный пес не отправился вперед, Карлос пошел бы в пещеру, и его, конечно, схватили бы.
Хитрые противники предусмотрели все для того, чтобы его поймать. Лошадей они спрятали в глубине пещеры. Сами расположились за уступами скал по обе стороны от входа и, точно два тигра, готовы были прыгнуть на Карлоса, как только он покажется.
Им помогли бы и собаки: припав к земле, они вместе со своими хозяевами приготовились броситься на ничего не подозревающую жертву.
Засада была тщательно обдумана, и пока все шло неплохо. Охотники покинули Сан-Ильдефонсо украдкой, так что их не могли увидеть; они приехали к ущелью окольным путем, с примерным терпением выждали, чтобы Карлос уехал, и лишь тогда забрались в пещеру. Все это было проделано мастерски.
Мог ли Карлос знать или хотя бы заподозрить, что они скрываются там? Им и в голову не приходило, что он узнал об их возвращении с охоты. Они прошли через долину к миссии темной ночью, выложили привезенную дичь, когда никто этого не видел, и больше в городе не показывались. Отец Хоакин велел им ждать, пока он не известит их. О том, что они вернулись, знали лишь несколько слуг в миссии, но никому из тех людей, кто мог бы сказать об этом Карлосу, ничего не было известно. Если так, рассуждали они, с чего бы ему подозревать, что они засели в его пещере? А след, оставленный ими, когда они шли по ущелью вверх, он, возвращаясь, не заметит. Он может увидеть след лишь в том месте, где дорога усеяна галькой, но на ней и днем ничего не разглядишь.
Можно ли лучше расставить ловушку? Карлос войдет в пещеру, ничего не опасаясь и, возможно, ведя своего коня на поводу. Они оба, а вместе с ними и собаки кинутся на него и свяжут, прежде чем он успеет взяться за пистолет или нож. Судьба его предрешена.
Но судьба его не была предрешена. Мануэль прекрасно это знал, вот почему он бормотал снова и снова:
— Проклятый пес! Задаст он нам хлопот, Пепе…
А Пепе в ответ злобно чертыхался: мысль о собаке беспокоила и его. До них давно дошла молва о Бизоне, но они еще не знали, какую великолепную выучку прошел этот умный пес.
Приятели понимали, что, если первой в пещеру войдет собака, она их обнаружит и предостережет хозяина. Если в ту минуту Карлос еще не подъедет близко, засада обречена на неудачу. А вот если пес останется позади, тогда все сойдет гладко. Даже если он прибежит одновременно с хозяином, а значит, не предупредит его заранее, они успеют выскочить и подстрелить коня или седока.
Вот как рассуждали эти два мерзких негодяя, поджидая Карлоса.
Они еще не засели у входа в пещеру. Они успеют занять намеченные места, когда почуют опасность. А пока они стоят в тени скал, глядя вниз, в ущелье. Возможно, что ждать им придется долго, поэтому они подкрепились — уничтожили весь скромный запас провизии, оставленной Карлосом в пещере. Чтобы не озябнуть, мулат накинул себе на плечи только что присвоенное одеяло. Тыквенная фляга с вином, которую они принесли с собой, помогла им не скучать в ожидании. Лишь мысль о Бизоне, мелькая порой в сознании желтолицего охотника и его темнокожего приятеля, омрачала их веселье.
Они ждали свою жертву совсем не так долго, как рассчитывали.
Им почему-то казалось, что Карлос ускакал далеко, к самому Сан-Ильдефонсо, а там, пожалуй, его задержат какие-нибудь дела, и он вернется лишь перед рассветом.
Но задолго до полуночи, пока они строили эти предположения, Мануэль, не сводящий глаз с ущелья, вдруг привскочил и дернул приятеля за рукав:
— Гляди, Пепе, вон! Вон он, белоголовый!
И мулат показал на тень, которая приближалась со стороны равнины к узкому концу ущелья. В полутьме она была едва видна, но все же можно было различить очертания человека верхом на лошади.
— Черт бы его побрал! Он самый… Ч-черт! — ответил Пепе, вглядевшись в темноту.
— Прячься, сынок! Придержи собак… Назад! Прячься! Я подстерегу снаружи… Тише!
Они еще раньше уговорились, кому где стоять, и Пепе тотчас занял свое место. Мануэль, ухватив ищейку за загривок, остался у входа в пещеру, но через минуту приподнялся, явно встревоженный.
— Дьявол! — пробормотал он. — Дьявол!.. Говорил я — все пропало… Держись, Пепе! Пес напал на наш след!
— А, черт! Что же делать?
— В пещеру… Скорей!.. Там его и прикончим.
Оба кинулись в пещеру и замерли в ожидании. Наспех они составили новый план действий: они схватят собаку Карлоса, как только она вбежит к ним, и постараются придушить.
Но им это не удалось. Подойдя ко входу в пещеру, Бизон остановился у выступа и принялся громко лаять.
Раздосадованный Мануэль вскрикнул и, выпустив ищейку, с ножом в руке ринулся на Бизона. Тут же прыгнула вперед и ищейка, и псы сцепились в отчаянной схватке. Он плохо кончилась бы для ищейки, но в следующее мгновение все четверо — Мануэль, Пепе, ищейка и волкодав — напали на Бизона, пустив в ход ножи и зубы. Ему нанесли несколько тяжелых ран, и бедный пес, чувствуя, что ему не справиться сразу с четырьмя противниками, благоразумно отступил за скалы.
Его не стали преследовать: негодяи все еще надеялись, что Карлос ни о чем не догадается и подойдет к пещере. Но надежды их быстро рассеялись. В полумраке они увидели, как всадник повернул коня и поскакал прочь из ущелья.
Несколько минут под сводами пещеры гулко звучали возгласы досады, богохульства, непристойная брань.
Наконец негодяи немного поостыли; ощупью добрались они до своих лошадей и вывели их из пещеры. Здесь они остановились и опять дали волю злобной досаде; потом принялись обдумывать, как же действовать дальше.
Гнаться тут же за Карлосом не имело смысла: пока они выберутся на равнину, он, конечно, ускачет от них на много миль.
Долго еще охотники ругались и осыпали Бизона проклятиями. Наконец это утомило их, и они опять задумались над тем, как быть.
Пепе считал, что ночью идти дальше бесполезно: до наступления утра им все равно не нагнать Карлоса; а вот станет светло, тогда будет легче его выследить.
— Дурак ты, Пепе! — ответил Мануэль на эти рассуждения. Станет светло — он увидит нас… Так мы все дело испортим. Эх, ты!
— Как же теперь?
— Дьявол! А ищейка на что? Она и ночью поскачет по следу. Не уйдет белоголовый.
— Так ведь он когда остановится? Миль за десять, не ближе! Значит, ночью нам его не догнать.
— Опять ты дурак, Пепе! Миль за десять? Нет, ближе! Про ищейку-то он не знает, не думает, что мы его выследим. Наверняка ближе остановится. Только вот пес у него сущий дьявол! Кабы не пес…
— Черта с два! Пес теперь нам не помеха.
— Почему это?
— Почему? Да потому, что я пырнул его его ножом. Уж ты мне поверь, он свое отбегал.
— Дьявол! Хорошо бы так… Хорошо бы… За это и двух золотых не жалко. Кабы не этот пес, белоголовый уже был бы наш. Кабы не пес, мы бы его до рассвета захватили. Скоро он остановится. Про нас-то он не знает и про ищейку не знает… Остановится, вот увидишь. Клянусь Богом, дело верное!
— Как так, Мануэль? Думаешь, он не не уйдет далеко?
— Нипочем не уйдет! Никуда он не уйдет!.. Скоро мы его выследим. Дождемся, чтобы заснул, подберемся к нему… Только вот этот пес… Ничего, подберемся.
— Про пса не думай, он нам не помеха. Я так пырнул его ножом — дай Бог ему двадцать минут прожить, а уж больше где там! Когда найдем белоголового, так одного, без собаки, уж ты мне поверь.
— Хорошо бы… Что ж, попробуем, сынок. Поехали!
Мануэль тронул поводья и начал спускаться со скалы в ущелье. Пепе и собаки двинулись за ним.
Глава 59
Подъехав к месту, где они в последний раз видели всадника, Мануэль спешился и подозвал ищейку. Он сказал собаке несколько слов и знаком послал ее по следу. Ищейка поняла, что от нее требуется, опустила морду к земле и бесшумно побежала вперед. Мануэль опять взобрался в седло, и оба охотника пришпорили коней и поскакали вперед, чтобы не отстать от собаки.
Они видели ее, хотя луна скрылась. Светло-рыжая шерсть ищейки выделялась на темном фоне зелени, к тому же здесь не росли ни кусты, ни высокая трава, в которой собаки не было бы видно. Притом, как и приказал хозяин, она шла по следу не торопясь, хотя запах был еще совсем свежий и она могла бы бежать намного быстрее. Ищейка была обучена ночью выслеживать медленно и не поднимать шума, поэтому не раздавалось характерного для этой породы глухого отрывистого лая.
Прошло не меньше двух часов, прежде чем впереди показалась роща, где укрылся Карлос. Едва увидев ее, Мануэль пробормотал:
— Гляди, сынок! Собака ведет в лес, гляди! Ставлю монету, что белоголовый там, будь он проклят! Наверняка там!
Когда они подъехали к роще ярдов на пятьсот-шестьсот — она все еще лишь смутно виднелась во мраке ночи, — желтолицый охотник окликнул ищейку и велел ей держаться позади. Он был уверен, что Карлос либо в самой роще, либо где-то по-соседству. В любом случае ничего не стоит снова напасть на его след. Если их жертва в роще, — а судя по возбуждению собаки, так оно и было, — тогда не нужна больше сноровка ищейки. Настало время принять другие меры.
Отклонившись от прямого пути, Мануэль поехал по кругу, неизменно держась на одном и том же расстоянии от опушки рощи. Спутник ехал позади, с ним были собаки.
Так они оказались напротив естественной аллейки, рассекавшей рощу, и вдруг им в глаза ударил яркий свет. Изумленные охотники остановились. Они достигли того места, откуда была видна лужайка. Посреди нее горел большой костер!
— Говорил я тебе! — воскликнул Мануэль. — Вон он спит, дурак! И не думал, что его ночью выследят… Холода-то не любит — какой развел огонь! Не ждет беды… Знаю я эту прогалину хитрое место, только с двух концов костер видно. Ага, вон и лошадь!
В отсвете костра был ясно виден стоявший неподалеку вороной.
— Черт побери! — продолжал охотник. — Не думал я, что белоголовый такой дурак. Гляди! Ведь это он спит там! Наверняка он!
Там, куда показывал Мануэль, у костра виднелось что-то темное. Похоже было, что это вытянулся спящий.
— Святая дева, так и есть! — подтвердил Пепе. — Разлегся у самого костра. Вот дурак! Ясно, что он думал — в такую темень мы его не выследим.
— Тише ты! Пса нет, белоголовый — наш! Хватит болтать, Пепе! За мной!
Мануэль двинулся не прямо к роще, а несколько ниже, к берегу реки. И охотники, не обмениваясь больше ни словом, пустили коней вскачь.
Их жертва была теперь в таком месте, что лучшего и пожелать нельзя, и они торопились воспользоваться случаем. Оба хорошо знали эту рощу, так как не раз, укрываясь в ней, стреляли оленей.
Охотники выехали на берег, спешились и, привязав лошадей и собак к ивам, направились в сторону рощи.
Теперь они не были так осторожны, как раньше. Они не сомневались, что жертва спит, растянувшись у костра. Дурень! думали они. Но как он мог подозревать, что они здесь появятся? Самый прозорливый человек считал бы себя здесь в безопасности. Ничего удивительного, что он лег спать, — уж наверно, он устал. И неудивительно, что он разложил костер: ночью сильно похолодало, в такую погоду без огня не уснешь. Все казалось совершенно естественным.
Они подошли к опушке рощи и, не раздумывая, заползли в кустарник.
Ночь была тихая, ветерок едва касался листвы — малейший шорох в кустах можно было услышать с любого края полянки. Тихое журчание воды далеко на быстрине, легкая зыбь и плеск у берега, порою вой степного волка да унылый зов ночной птицы — вот и все звуки, которые доносились до слуха.
И все же, хотя эти двое продирались сквозь густой подлесок, ни один звук не выдал их приближения. Лист не шелохнулся, не подогнулась ветка, не хрустнул сучок под рукой или коленом — ничто не выдало присутствия человека в темном кустарнике. Эти люди знали, как пролезть сквозь заросли. Они приближались неслышно, точно змеи, скользящие в траве.
На полянке царила глубокая тишина. На самой середине пылал костер, ярким пламенем озарявший все вокруг. Неподалеку стоял великолепный конь, славный вороной охотника на бизонов; в отсвете костра его нетрудно было узнать. А еще ближе к огню виднелось распростертое тело самого охотника, который, должно быть, спал. Так и есть — это его дорожная сумка, сомбреро, сапоги и шпоры. С шеи лошади свешивается лассо, и конец его, наверно, обмотан вокруг руки спящего. Все это можно было заметить с первого взгляда.
Лошадь вздрогнула, ударила копытом оземь, но вот она снова стоит спокойно.
Что же ей почудилось? Не подкрадывается ли дикий зверь?
Нет, не дикий зверь; тот, кто появился, опаснее зверя.
Из кустов, растущих вдоль южного края поляны, выглянуло лицо — лицо человека. Оно показалось на мгновение, и сразу же скрылось в листве. Его нетрудно узнать. Тот, кто увидел бы это лицо в сиянии пылающего костра, заметив, что оно желтое, мигом догадался бы, чье оно. Это лицо мулата Мануэля.
Недолго оно прячется в листве, потом появляется снова, и рядом с ним показывается еще одно лицо, более темное. Оба обращены в одну сторону. Две пары глаз устремлены на простертую у костра фигуру: человек, видимо, все еще безмятежно спит. В их глазах сверкает злобное торжество. Ну, теперь победа обеспечена! Наконец-то жертва в их власти!
И опять лица исчезают. Минуту не видно и не слышно, что в кустах люди. Но вот снова высунулась голова мулата, только уже в другом месте, ниже, у самой земли, там, где кустарник не так густ.
А еще через мгновение из зарослей появляется и туловище, оно медленно выползает на поляну. Потом выползает и второй охотник. Вот уже оба они неслышно подбираются по траве к спящему. Распластавшись на животе, они движутся, словно две огромные ящерицы, один по следу другого.
Впереди Мануэль. В правой руке его зажат длинный нож, в левой он держит ружье.
Они движутся медленно, с величайшей осторожностью, но готовы мгновенно ринуться вперед, если жертва проснется и заметит их.
Спящий невозмутимо лежит между ними и пламенем. Тело его отбрасывает длинную тень на траву. Для большей безопасности, охотники заползают в эту тень и, скрытые ею, движутся дальше.
Вот Мануэль уже в трехстах футах от распростертого тела; он весь подобрался и встал на колени, готовясь прыгнуть вперед. Яркий свет падает на его лицо, и он весь на виду. Его час настал.
Точно бич, щелкает выстрел, яркая вспышка пронизывает пышную крону виргинского дуба, растущего у прогалины. Мануэль внезапно вскакивает на ноги, с диким криком протягивает руки вперед, шатаясь, делает шаг-другой и, выронив нож и ружье, падает прямо в костер.
Вскочил и Пепе. Он уверен, что стрелял человек, прикинувшийся спящим. Стремительно бросается он распростертому телу и с отчаянной решимостью вонзает ему в бок лезвие ножа.
И тотчас с воплем ужаса он отскакивает назад. Не задерживаясь, чтобы помочь упавшему приятелю, он мчится через полянку и скрывается в кустах, а тот, что лежит у костра, по-прежнему недвижим.
Но вот по ветвям дуба, откуда раздался выстрел, спускается темная фигура; над лужайкой звучит пронзительный свист, и конь, волоча по земле лассо, бросается к дереву.
Прямо с дуба на спину лошади прыгает полуголый человек с длинным ружьем в руке. Еще мгновение — и человек и лошадь исчезают в прогалине меж деревьев. Всадник во весь опор мчится по долине.
Глава 60
Кто же все-таки лежал у костра? Это был не Карлос, охотник на бизонов. Но ведь это его одежда — его плащ и шляпа, его сапоги со шпорами!
И, однако, сам Карлос не лежал у костра. Нет, это он, полуголый, соскочил с дерева и ускакал на вороном коне. Загадка!
Мы расстались с ним два часа назад, когда он подъехал к опушке рощи. Чем же он был занят это врем? Вот тут-то и кроется разгадка.
Достигнув рощи, Карлос проехал вглубь на полянку; там он остановил коня и спешился. Поглядев с состраданием на Бизона, он осторожно положил его на мягкую траву, но раны собаки так и остались неперевязанными. Сейчас у хозяина не было времени: ему предстояло заниматься другими делами.
Карлос ослабил уздечку и оставил коня пастись, а сам принялся за выполнение замысла, который созрел у него в голове, пока он сюда ехал.
Прежде всего нужно было разжечь костер — в такую холодную ночь он вполне уместен. В подлеске нашлись сухие ветви и сучья; Карлос притащил их, сложил на середину полянки, и вот уже разгорелось пламя, освещая все вокруг. В красных отсветах гигантские кактусы казались колоннами, высеченными из камня; на них теперь был обращен взгляд Карлоса.
Он подошел к ним и принялся ножом срезать самый крупный кактус; скоро великан рухнул наземь. Тогда Карлос рассек ствол и большие отростки на части различной длины и оттащил их к костру. Неужели он собирается бросить их в огонь? Ведь эта сочная зеленая груда только притушит пламя, а не сделает его ярче.
Но у Карлоса вовсе не было такого намерения. Напротив, он разложил эти куски на траве в нескольких футах от костра, разложил хитро, обдуманно; получилось нечто, величиной и очертаниями похожее на человеческое тело. Два цилиндрических куска пригодились для бедер, два других — для рук, вытянутых, точно у спящего; изогнутый отросток зеленого канделябра заменил приподнятое плечо. И когда Карлос покрыл эту фигуру своим широким плащом, она стала удивительно напоминать отдыхающего или спящего на боку человека.
Однако произведение — ибо это, конечно, произведение искусства — еще не завершено: недостает головы и ног ниже колен. Но скоро и они оказались на месте. Карлос сделал из травы шар и положил его над плечами; с помощью шарфа и шляпы этот ком стал похож на то, что он должен был заменить, — на человеческую голову. Нахлобученная на него шляпа почти закрывала его; можно было подумать, что спящий надел ее так, чтобы уберечь лицо от сырости или москитов.
Оставалось лишь доделать ноги, но с этим пришлось повозиться. Ведь охотники обычно спят, вытянув ноги к огню, значит, они должны оказаться на самом виду и выглядеть так, чтобы никто не заподозрил подделки.
Все эти подробности Карлос обдумал раньше, поэтому он, не теряя ни минуты, продолжал работу. Он снял свои кожаные сапоги и пристроил их под небольшим углом к ляжкам из кактуса так, что край широкого плаща их немного прикрыл. Огромные шпоры он оставил на сапогах — они блестели в ярком пламени костра и были видны издалека.
Еще несколько штрихов — и чучело готово.
Тот, кто его смастерил, отошел на самый край полянки и, обходя ее вокруг, разглядывал чучело со всех сторон. Он остался доволен. В самом деле, никто не усомнился бы: это спит путник, который так устал, что улегся, даже не сняв шпор.
Карлос вернулся к костру и тихим свистом подозвал коня. Он вывел его ближе к огню и привязал повод к луке седла. Прекрасно обученный конь тотчас перестал щипать траву: он знал, что теперь надо тихо стоять на месте, пока его не освободит рука хозяина или знакомый сигнал, которому он привык повиноваться. Потом Карлос развернул привязанное к кольцу на удилах лассо. Свободный конец веревки он протянул к лежащей у костра фигуре и спрятал под край плаща, чтобы казалось, будто спящий держит ее в руке.
И опять охотник на бизонов обошел вокруг полянки, разглядывая фигуру посередине, и снова, по-видимому, остался доволен. Затем он притащил из кустов новую охапку сухого валежника и бросил в огонь.
Но вот он поднял глаза кверху, точно изучая деревья, растущие вокруг полянки. Взгляд его задержался на огромном дубе. Дуб рос у самой прогалины, и его длинные горизонтальные ветви протянулись над поляной. Это дерево с пышной вечнозеленой кроной, увитое лианами и поросшее длинным густым мхом, стояло, как огромный тенистый шатер, самое высокое из всех и самое развесистое. Это был поистине патриарх рощи.
— Как раз то, что нужно, — глядя на него, пробормотал Карлос. — В тридцати шагах — расстояние подходящее. Через прогалину они не войдут, конечно, этого можно не опасаться. Ну, а если войдут… Но нет, они пойдут берегом, под ивами. Да, наверняка… Ну, теперь займемся Бизоном.
Он посмотрел на собаку, все еще лежавшую там, где он ее оставил.
— Бедняга! — огорченно сказал он. — Досталось ему… Рубцы от их подлых ножей останутся на всю жизнь. Что ж, может быть, он доживет еще до того часа, когда будет отомщен. Очень может быть! Но куда же мне его девать?
После минутного раздумья он продолжал:
— Черт возьми! Я теряю время. Прошло полчаса, не меньше. Если они погнались за мной, они уже близко. Этот длинноухий зверь, конечно, способен выследить меня — надеюсь, он не ошибется. Но куда девать Бизона? Если я привяжу его к дереву, он будет лежать спокойно, бедное животное! Ну, а вдруг они пойдут прогалиной? Навряд ли, конечно. Я бы не пошел на их месте. Но, допустим, они все-таки пойдут с той стороны. Тогда они увидят собаку и заподозрят неладное. Им еще взбредет в голову посмотреть наверх, и тогда… Нет, нет, это не годится! Надо придумать что-нибудь другое.
Он подошел к дубу и стал внимательно разглядывать нижние ветви. Видимо, он нашел то, что искал. Теперь он знал, как поступить.
— Вот это годится, — пробормотал он. — Я положу собаку на лозы. Переплету их еще немного и покрою мхом.
Ухватившись за ветви, он вскочил на дерево.
Он сдернул несколько лиан и соединил ими развилину сучьев, так что получилось подобие площадки, потом набрал несколько охапок мха и устлал им эту площадку, сплетенную из лиан.
Когда все было готово, Карлос соскочил с дерева, поднял Бизона и осторожно положил на мох; собака лежала не шевелясь.
Теперь пора подумать о том, как пристроиться самому. Сделать это нетрудно: нужно лишь сесть прочно и удобно, укрыться поглубже в листве и держать наготове ружье.
И Карлос стал устраиваться: уселся на толстом суку, ноги поставил на другой, на третью ветвь оперся локтями. В развилине лежал ствол ружья, руки охотника крепко сжимали приклад.
Карлос тщательно осмотрел ружье. Разумеется, оно было заряжено. Ну, а вдруг от ночной росы отсырела затравка? Он отвинтил крышку полки, ногтем большого пальца выковырял порох и всыпал новый запас из своей пороховницы. Потом разровнял его, позаботившись, чтобы часть пороха попала в канал и дошла до заряда. Затем он занялся кремнем — проверил, крепок ли он, осмотрел края. Видимо, все было в порядке, и Карлос снова пристроил ружье в развилине сука.
Охотник на бизонов был не из тех, кто полагается на слепой случай, — люди его ремесла верят в мудрость предусмотрительности. Надо ли удивляться тому, что сейчас он был особенно осмотрителен! Пренебрежение даже к мелочам могло оказаться роковым. Осечка ружья могла стоить ему жизни. Неудивительно, что он заботливо осмотрел кремень и проверил, сухой ли порох.
Позицию он выбрал удачно. Отсюда открывалась взору вся полянка. Появись на ней хотя бы кошка — и ту нельзя было бы не заметить.
Чуть ли не целый час сидел Карлос в немой тревоге, глядя на окруженную кустами зеленую полянку.
И наконец он был вознагражден за терпеливое ожидание. Он увидел желтое лицо, выглянувшее из кустов, и чуть было сразу не выстрелил в него. Он даже прицелился, но тут лицо снова скрылось.
Он подождал еще немного — и вот яркий свет костра озарил лицо Мануэля, поднявшегося на колени. Тогда палец нажал на курок, и меткая пуля Карлоса пробила голову его коварного врага.
Глава 61
Пепе скрылся в зарослях почти в ту же секунду, когда Карлос вскочил на коня и ускакал по прогалине. На поляне не осталось ни живой души.
Громадное тело лежало с протянутыми вперед руками, одна прямо на пылающих угольях костра. Своей тяжестью она примяла хворост и заслонила свет. Но все же света было достаточно, чтобы озарить страшное лицо, испещренное багровыми пятнами. Туловище, ноги, руки недвижимы — столь же недвижимы, как чучело, лежащее рядом. Желтолицый охотник мертв! Жаркое пламя лижет его руку, готово пожрать ее, но он не ощущает боли. Огонь не страшен мертвецам!
Но где же остальные? Они ведь бросились в разные стороны. Не бегут ли они друг от друга?
Пепе направился туда, откуда появился. Скрывшись за завесой листвы, он не остановился — он несся так, словно совсем обезумел от страха. Трещат и ломаются сучья, громко шуршат листья, он бежит через рощу напролом, не разбирая дороги. Но вот уже и эти звуки стихли, замер вдалеке и топот лошади Карлоса.
Где же они теперь, Пепе и Карлос? Удрали они друг от друга? Казалось бы, так оно и есть — ведь они разошлись в разные стороны.
Но нет, это не так, Пепе, по всей вероятности, жаждал как можно скорее убраться подальше от этого места; его противник хотел другого. Правда, он ускакал из рощи, но это не было бегством.
Зная Пепе, Карлос нисколько не сомневался в том, что от его храбрости и следа не осталось. Безмерный ужас охватил чернокожего охотника, когда он неожиданно, да еще при таких загадочных обстоятельствах, лишился дружка. Не скоро он оправится от этого ужаса. Он будет думать только об одном — как бы ему удрать. Это Карлос знал.
Он тотчас сообразил, откуда подошли враги, — разумеется, с южной стороны рощи. Оттуда он и ждал их, и когда он вглядывался в чащу кустарника, его внимание привлекал больше всего именно тот край рощи. Они думали, что оттуда всего безопаснее подойти к нему, — так предположил Карлос, и он оказался прав.
Из опасения, что стук копыт может его спугнуть, они, конечно, оставили своих коней где-нибудь в стороне, подумал затем Карлос и тоже не ошибся. Верным оказалось и еще одно его предположение: Пепе мчится сейчас к лошадям. Карлос понял это, увидев, что его враг ринулся в заросли.
Так оно и было. После таинственной гибели своего приятеля и вожака Пепе и не помышлял о поединке с Карлосом. Скорее к лошадям, пуститься наутек — только этого он хотел! Быть может, Карлос не погонится за ним тотчас же и под покровом темной ночи он успеет скрыться.
Но он ошибся: Карлос для того и поскакал вперед, чтобы помешать ему удрать. Он тоже решил добраться до лошадей.
Выехав из рощи, Карлос повернул направо и поскакал по опушке, а когда доехал до места, откуда видна было река, осадил вороного — ему надо было перезарядить ружье.
Подняв ружье вертикально, он потянулся за пороховницей. К его удивлению, рука не нащупала ее. Он осмотрелся — пороховница пропала! Не было и перевязи, на которой она висела у него через плечо. Видимо, когда он прыгал с дерева, тесьма зацепилась за ветку, и пороховница там и осталась.
Раздосадованный неудачей, Карлос хотел было повернуть коня и скакать обратно, как вдруг увидел на равнине темную фигуру, скользящую вдоль ив, окаймлявших речку. Конечно, это удирает Пепе, кто же еще!
Карлос в нерешительности остановился. Пока он съездит за пороховницей и перезарядит ружье, противник может ускользнуть. Лошади, должно быть, недалеко, и он ускачет. Днем Карлос без труда догнал бы его и конного, но в такую темную ночь, пожалуй, не догонишь. Если Пепе ускачет на пятьсот ярдов вперед, его уже не будет видно.
Это очень встревожило Карлоса. У него были веские причины желать смерти Пепе. Не одно лишь вполне естественное желание отомстить, но и благоразумие подсказывало: от этого человека надо избавиться. Эти наемные убийцы преследовали Карлоса так предательски, что пробудили в нем жажду мести. К тому же беглец знал: у него будет опасный враг, пока жив хоть один из этих негодяев. Нет, Пепе не должен убежать!
Карлос колебался недолго. Возвращаться за пороховницей значит, упустить противника. Эта мысль заставила его решиться. Он бросил ружье на землю и, пришпорив коня, во весь опор понесся по равнине в сторону реки. А через несколько секунд он уже настиг удирающего врага.
Увидев, что он отрезан от лошадей, Пепе остановился, словно готовясь к бою. Но Карлос не успел еще спешиться, как Пепе снова пал духом; прорвавшись сквозь заросли ивняка, он бросился в воду.
На это Карлос не рассчитывал. Он уже соскочил с коня и теперь стоял растерянный и огорченный. Неужели враг ускользнет? Как быть: снова сесть на коня или догонять его пешком?
Карлос быстро решился: конечно, пешком! Он кинулся в густой ивняк следом за Пепе, выбрался на берег и на мгновение остановился у самой воды. Как раз в эту минуту враг вылез на противоположный берег и сломя голову побежал по низине. И снова Карлос подумал: не лучше ли погнаться за ним верхом? Но берега здесь высокие, коню, пожалуй, не взобраться, в этом месте реку не перейти вброд. Некогда и пробовать, дорога каждая минута.
— Уж наверно, он бегает не быстрее меня, — прошептал Карлос. — Значит, в погоню! — И он бросился в воду.
В несколько взмахов он переплыл речку, тотчас взобрался на берег и помчался вслед за врагом.
К этому времени Пепе опередил его ярдов на двести, но когда он пробежал следующие двести, Карлоса отделяло от него уже не больше ста ярдов. Где там было Пепе тягаться с белоголовым! Карлос бежал чуть ли не вдвое быстрее, чем его охваченный ужасом враг, хотя тот напрягал все силы, понимая, что дело идет о жизни и смерти.
Погоня не длилась и десяти минут.
Вот Карлос совсем близко. Пепе слышит за спиной его шаги. Бежать дальше — напрасный труд. Как и прежде, Пепе остановился, готовый отчаянно защищаться.
Еще мгновение — и они оказались лицом к лицу в каких-нибудь десяти футах друг от друга.
Оба вооружены длинными ножами — это их единственное оружие. Даже в тусклом свете видно, как сверкают лезвия.
Враги не успели даже передохнуть. Обменявшись гневными возгласами, они ринулись друг на друга и сцепились в ожесточенной схватке.
Это была очень недолгая схватка. Она завершилась в несколько секунд. Тела противников переплелись, закружились в единоборстве — и вот уже один тяжело опрокинулся наземь. Раздался стон. Это голос Пепе. Это он упал!
Поверженное тело минуту извивалось на земле, приподнялось, упало снова, еще несколько раз передернулось и застыло неподвижно, скованное смертью.
Карлос наклонился, вглядываясь. На свирепое и злобное лицо его врага смерть уже наложила свою печать. Все было кончено. У победителя не оставалось больше сомнений.
Он отвернулся от неподвижного тела и пошел обратно к реке.
Потом Карлос нашел пороховницу, поднял ружье и, перезарядив его, отправился на поиски лошадей.
Вскоре он отыскал их. Пуля была послана в голову ищейки, вторая — в другую собаку, больше похожую на волка, лошади отвязаны и отпущены на свободу.
Покончив с этим, Карлос снова возвратился на полянку. Он снял Бизона с дерева, подошел к костру и остановился у тела Мануэля. Огонь пылал особенно ярко — его питала человеческая плоть.
С омерзением отвернувшись от этого зрелища, Карлос собрал свою одежду, опять сел в седло и поскакал к ущелью.
Глава 62
Прошло уже три дня с тех пор, как желтолицый охотник и его приятель отправились на розыски Карлоса. Те, кто их послал, с нетерпением ждали вестей. Они нисколько не сомневались в ретивости своих наемников — обещанная награда была залогом успеха, и они были уверены, что Карлос будет пойман. Все трое — Робладо, Вискарра и иезуит — считали, что при такой награде иначе и быть не может. И все же им не терпелось получить от охотников известие — если не о том, что беглец уже схвачен, то хотя бы, что его видели или напали на его след.
Однако, поразмыслив, святой отец и офицеры стали думать, что вряд ли они получат какие-нибудь вести от охотников. Надо ждать, пока те возвратятся сами — с жертвой или без нее.
— Конечно, охотники гонятся за ним по пятам, — заметил монах, — и пока они этого негодяя еретика не схватят, мы о них ничего не услышим.
Как же потрясла эту милую троицу новость, принесенная в Сан-Ильдефонсо одним пастухом! Он нашел два мертвых тела и узнал в них Мануэля и Пепе.
Пастух рассказал, что видел эти тела, растерзанные волками и стервятниками, неподалеку от рощи у Пекоса, и так как он хорошо знал этих людей, то по остаткам их одежды и снаряжения догадался, кто они такие.
Он нисколько не сомневался, что это были мулат и самбо охотники миссии.
Сперва это «таинственное убийство», как его называли, казалось необъяснимым, если только не предположить, что его совершили дикие индейцы. Жителям долины не было известно, что охотников послали на розыски Карлоса. Их обоих здесь знали, но мало кто интересовался, куда и зачем они ездят. Они жили и охотились далеко от поселения, там, куда никто не заглядывал. Местные жители полагали, что они, как всегда, отправились на охоту и на них напали кочующие индейцы.
В рощу снарядили отряд улан, их повел туда пастух, и они вернулись с совершенно иным объяснением случившегося.
Охотники, утверждали они, убиты совсем не стрелами индейцев, а оружием белого человека. Притом их лошади остались целы, а собак прикончили — на берегу лежат их скелеты.
Ясно, что индейцы тут ни при чем. Индейцы увели бы с собой и лошадей, и, уж конечно, сняли бы с мертвецов все, что представляет хоть какую-нибудь ценность. Индейцы? Нет, это не их рук дело.
Кто же все-таки совершил убийство? Об этом можно было легко догадаться. Там, где нашли скелеты собак, земля была мягкая, и на ней остались следы копыт еще одной лошади, кроме лошадей убитых охотников. Нашлись люди, которые распознали, чьи это следы. То были следы хорошо известного всем вороного коня, принадлежащего Карлосу, охотнику на бизонов.
Итак, преступление совершил Карлос. Многие знали, что он не в ладах с Мануэлем. Наверно, они встретились и повздорили, а может быть, — это еще вероятнее, — Карлос набрел на Мануэля и Пепе, когда они спали у костра, незаметно подкрался и расправился с ними. Мануэля он застрелил на месте, и тот упал в огонь — труп его наполовину сгорел. Второй охотник пытался скрыться, но кровожадный преступник настиг его и прикончил.
На голову всеми осужденного Карлоса посыпались новые проклятия. При упоминании его имени люди крестились и произносили либо молитву, либо ругательства; матери пугали им непослушных детей. Имя Карлоса, охотника на бизонов, вселяло больший ужас, чем слух о нашествии индейцев.
Среди жителей Сан-Ильдефонсо усилилась вера в сверхъестественное. Теперь почти никто уже не сомневался, что мать Карлоса колдунья и, конечно, все эти дела ее сын совершал при ее помощи и по ее наущению.
Никто не надеялся больше, что его схватят или убьют. Разве это возможно? Кто сумеет связать этого дьявола и передать его в руки правосудия? Да, никто больше не верил, что его удастся поймать.
Нашлись даже такие, которые всерьез советовали схватить его мать-колдунью и сжечь ее на костре. Пока она жива, доказывали они, никакая погоня Карлосу нипочем. Вот если ее отправить на тот свет, тогда удастся наказать и убийцу.
Весьма вероятно, что эти советчики и одержали бы верх — на их стороне было большинство, и к тому же их открыто поддерживали отцы иезуиты. Однако, прежде чем общественное мнение окончательно созрело для того, чтобы могло совершиться такое страшное жертвоприношение, новое событие круто изменило ход дела.
* * *
В воскресенье утром, когда люди выходили из церкви, на площадь прискакал, весь в пыли и в поту, всадник. На нем был мундир сержанта улан, и все сразу узнали сержанта Гомеса.
В несколько минут его окружила толпа зевак. Несмотря на воскресный день, со всех сторон раздались громкие возгласы ликования. Вверх полетели шляпы, крики «viva» потрясали воздух.
Что же за новость возвестил Гомес? Новость и впрямь необычайная: преступник пойман!
Да, это правда. Карлоса схватили, и теперь он в руках солдат. Его захватили не силой и не хитростью. Всему виною предательство. Его предал один из его же людей.
А случилось это вот как. Отчаявшись получить известие от Каталины, Карлос решил увезти из Сан-Ильдефонсо мать и сестру. Он приготовил для них временное жилище в глуши, далеко от поселения, там, где его враги не смогут их настигнуть, а сам хотел вернуться в долину, как только позволят обстоятельства.
Он знал, что за его матерью и сестрой неусыпно следят и увезти их отсюда совсем не просто. Но он все же сумел бы добиться своего, если бы его не предали. Один из пеонов, сопровождавших его в последний раз на охоту, теперь выдал его врагам.
Карлос был на ранчо и торопливо собирался в далекий путь. Своего коня он оставил неподалеку, в зарослях. К несчастью, с ним не было Бизона. Верный пес еще не оправился от ран, полученных в схватке в ущелье, иначе он караулил бы возле ранчо. Теперь Карлосу пришлось поручить это пеону.
Робладо и Вискарра еще раньше подкупили этого негодяя. И он, вместо того, чтобы охранять своего хозяина, поспешил с доносом к его врагам. Дом окружили солдаты. Карлос отчаянно сопротивлялся, несколько человек убил, но в конце концов враги одолели его и захватили.
Почти тотчас же после появления Гомеса звук трубы возвестил о приближении отряда улан, и вскоре они вступили на площадь. Среди них, под удвоенной охраной, надежно связанный, ехал верхом на муле пленник.
Слух о таком необычайном событии распространился очень быстро, и площадь заполнила любопытная толпа, жаждущая увидеть знаменитого охотника на бизонов.
Но Карлос был здесь не единственный, на кого люди смотрели с любопытством. За ним через площадь провели еще двух пленниц, и одна из них вызывала не меньшее любопытство зевак, чем сам преступник. Эта пленница — его мать. Сотни глаз смотрели на нее со злобой и страхом, ее провожали к тюрьме градом насмешек и угроз.
— Смерть колдунье! Смерть! — кричали изверги, когда она проходила мимо.
Даже рассыпавшиеся по плечам волосы и полные слез глаза ее молоденькой спутницы, ее дочери, не тронули сердца фанатичной толпы. Нашлись и такие, которые кричали:
— Смерть обеим — смерть матери и дочери!
Страже пришлось поспешно втолкнуть пленниц в дверь тюрьмы, чтобы разъяренная толпа не накинулась на них.
По счастью, Карлос этого не видел. Ему даже не было известно, что они арестованы. Он надеялся, что мать и сестру оставили на ранчо, не причинив им вреда, и враги мстят лишь ему одному. Он не знал еще о дьявольских замыслах своих преследователей.
Глава 63
Пленниц заключили в городскую тюрьму, Карлоса же для верности увели в крепость и посадили на гауптвахту.
Ночью к нему явились гости. Комендант и Робладо не могли устоять перед подлым желанием насладиться местью.
Осушив свои стаканы, они вместе с компанией веселых собутыльников вошли в камеру и стали издеваться над связанным узником. Полупьяные посетители осыпали его ругательствами и оскорблениями, какие только могла изобрести их фантазия.
Карлос долго терпел все это молча. Наконец, выведенный из себя очередной грубой остротой Вискарры, он не сдержался и сказал что-то насчет перемен в лице коменданта. Это привело негодяя в бешенство, и он бросился на связанного пленника с кинжалом в руке. Он, конечно, убил бы Карлоса, если бы Робладо и остальные его не удержали. Приятели напомнили ему, что, убив Карлоса, он лишит их обещанного развлечения. Только это и обуздало Вискарру, однако он утихомирился лишь тогда, когда ударил беззащитного пленника несколько раз кулаком по лицу.
— Пусть мерзавец живет! — сказал Робладо. — Завтра мы ему устроим веселенькое представление.
Пьяные головорезы, пошатываясь, вышли из камеры, предоставив узнику размышлять над тем, что за «представление» ему обещано.
Больше ему ничего и не оставалось делать. Карлос прекрасно понимал, что с ним расправятся. Он не надеялся на милость военных или гражданских судей. Его смерть и будет представлением, думал он. Всю ночь он терзался мучительной тревогой — не за себя, а за тех, кто был ему дороже собственной жизни.
В узенькую бойницу мрачной камеры заглянуло утро. И больше никого пленник не видел. Свирепые тюремщики не сказали ему ни слова утешения, не бросили сочувственного взгляда, не принесли ни воды, ни пищи. Друг не справился о нем. Казалось, во всем мире нет сердца, которое тревожно забилось бы при мысли о нем.
Настал полдень. Карлоса вывели, вернее — выволокли из крепости. Его окружили солдаты. Куда они его поведут? На казнь?
Глаза ему не завязали. Он видел, что его ведут через город на площадь. Там необычайное скопление народу. Толпа запрудила и площадь и все асотеи, откуда она видна. Казалось, в городе собрались все жители долины. Тут и владельцы асиенд, и скотоводы, и рудокопы, и кого только нет! Но почему они здесь? Их привлекло, должно быть, из ряда вон выходящее событие. По всему видно — они ждут какого-то необычайного зрелища. Быть может, представления, которое обещал Робладо? Но что это за представление? Уж не хотят ли его пытать в присутствии всего этого сборища? Очень может быть…
Он шел, и огромная толпа глумилась над ним. Его провели через площадь и втолкнули в городскую тюрьму.
В камере на грубой скамье, стоящей у стены, можно было отдохнуть. Несчастный повалился на скамью — сидеть выпрямившись ему не позволяли связанные руки и ноги.
Он остался один. Сопровождавшие его солдаты вышли из камеры и заперли ее на замок. Он знал, что несколько человек остались за дверью — слышны были их голоса и бряцанье сабель. Действительно, двоих оставили на страже. Остальные разбрелись и смешались с толпой, заполнившей площадь.
* * *
Несколько минут Карлос лежал без движения, без мысли. Душа его оцепенела от горя. Впервые в жизни он поддался отчаянию.
Это чувство было мимолетным, и снова мысль его заработала, но надежда не вернулась. Говорят, надежда уходит только вместе с жизнью — нет, это неверно. Он все еще жил, а надежда умерла. Он не мог надеяться, что ему удастся бежать: его слишком хорошо стерегли. Озлобленные враги, убедившись на опыте, что его нелегко поймать, не оставили ему ни малейшей возможности ускользнуть. А надеяться на помилование или сострадание Карлосу и в голову не приходило.
Но мысль его снова работала.
Как только ключ поворачивается в замке и узник остается один, он прежде всего обводит взглядом стены своей темницы, словно проверяя, правда ли, что он в заточении. Повинуясь этому вполне естественному побуждению, Карлос поглядел на стены. Небольшое оконце — вернее, амбразура пропускала свет: камера была не в подземелье. Оконце находилось высоко, но, став на скамью, можно было посмотреть, куда оно выходит. Карлос, однако, не проявил любопытства и по-прежнему лежал неподвижно. Он видел, что стены его темницы не каменные, они сложены из необожженного кирпича и при этом не толстые — это видно по амбразуре. Такие стены не слишком прочны. Решительный человек, будь у него острый инструмент и время, без особого труда мог бы пробить стену и выбраться отсюда. Так размышлял Карлос. Но он подумал и о том, что у него нет ни острого инструмента, ни времени. Через несколько часов, а может быть, и через несколько минут его, конечно, поведут из этой тюрьмы на эшафот.
Смерть его не страшила, не страшила даже пытка — он ждал, что ему уготовано именно это. Для него была пыткой мысль о вечной разлуке с матерью и сестрой, с гордой, благородной девушкой, которую он любил; его терзала мысль, что никогда больше он их не увидит.
Неужели никак нельзя дать им знать о себе? Неужели нет у него друга, который передал бы им его последнее слово, его предсмертную мысль? Нет, никого!
Временами косой луч, прорезавший камеру, пропадал, и в камере становилось темно — что-то снаружи заслоняло амбразуру. То было лицо какого-нибудь любопытного зеваки, забравшегося на плечи приятелей, чтобы взглянуть на узника.
Амбразура была над головами толпы. С площади доносились грубая брань и оскорбления, и притом обращенные не к одному Карлосу, но и к тем, кто был ему дорог, — к его матери и сестре. Он прислушивался с горечью и с тревогой. Почему о них так много говорят? Слов он не мог разобрать, но в гуле голосов снова и снова различал имена матери и сестры.
Так он пролежал на скамье около часа. Потом дверь отворилась, и в камеру вошли Вискарра и Робладо. Их сопровождал Гомес.
Узник подумал, что час его настал. Теперь его поведут на казнь. Но он ошибся. Сейчас у них была другая цель. Они пришли насладиться его душевной мукой.
Офицеры недолго задержались в камере.
— Ну, приятель, — начал Робладо, — мы обещали устроить тебе сегодня представление. Слово мы держать умеем. Так вот, все готово, представление скоро начнется. Взбирайся на скамью и посмотри в окошко. Площадь хорошо видна отсюда — не беспокойся, бинокль тебе не понадобится. Вставай! Не теряй времени! Увидишь кое-что занятное.
Робладо разразился хриплым смехом, ему вторили комендант и Гомес. Не дожидаясь ответа, все трое вышли из камеры и приказали караульному снова запереть дверь.
Их приход и слова Робладо озадачили Карлоса. Что все это значит? Представление, и при этом он — зритель? Какое еще может быть представление, если не его казнь? Что же это значит?
Некоторое время он пытался понять, о чем же это говорил Робладо, и наконец ему показалось, что он нашел ключ.
— Ага! — пробормотал он. — Дон Хуан… Вот оно что! Мой бедный друг! Они и его приговорили к смерти, и он должен умереть раньше меня. Они хотят, чтобы я видел его казнь. Изверги! Нет, не доставлю им такого удовольствия — не буду смотреть! Останусь здесь.
И он снова опустился на скамью, решив, что не встанет с места. Порой он шептал:
— Бедный дон Хуан! Верный друг… Друг до гроба. Да, до гроба. Ведь он за меня умирает, за меня… Дорогой друг, дорогой!..
Размышления узника внезапно прервались. Чье-то лицо заслонило амбразуру, и грубый голос крикнул:
— Эй ты Карлос, бизоний палач! Погляди-ка сюда! Черт побери, зрелище того стоит! Гляди на свою мамашу, на колдунью! Вот она красуется! Ха-ха!
Если бы его ужалила ядовитая змея, ударил враг, Карлос не вскочил бы так стремительно. Он забыл о том, что руки и ноги у него связаны, и упал на пол; с трудом поднялся он на колени.
Теперь он был осторожнее; хоть и не сразу, но ему удалось встать на ноги. Он взобрался на скамью и, прильнув лицом к амбразуре, выглянул наружу.
Кровь застыла у него в жилах и крупные капли пота выступили на лбу, когда он увидел, что происходит на площади. Душа его исполнилась ужасом, и ему показалось, что чья-то рука сжала его сердце и давит железными пальцами.
Глава 64
Середина площади опустела — ее оцепили солдаты. Толпы людей, прижатые к стенам домов, стояли по сторонам, запрудили балконы и асотеи. Ближе с середине площади расположились офицеры, алькальд, должностные лица и местная знать. Почти все они были в мундирах, и при других обстоятельствах именно они привлекли бы к себе взоры толпы. Но сейчас куда больший интерес вызывала другая группа, и на нее-то с напряженным вниманием были обращены все взгляды.
Она занимала угол площади напротив тюрьмы, как раз напротив оконца, в которое смотрел Карлос. На этой группе сразу же остановился его взгляд. Больше ничего он уже не видел — ни толпы, ни сдерживающих ее солдат, ни важного начальства и разряженной знати, — он видел лишь тех, что стояли напротив его окна. Он не мог отвести от них глаз. ли раньше. Надо полагать, прежде всего он отправится в погоню попонами из черной саржи, свисающими до самых ног. На каждом осле волосяной недоуздок; конец его держит темнокожий погонщик в причудливой одежде из той же самой черной материи. За спиной каждого еще один погонщик, так же странно одетый, с плетью из бизоньей кожи. Подле каждого осла стоит еще и один из отцов иезуитов, держа в руках неотъемлемые принадлежности своего ремесла — молитвенник, четки и распятие. Вид у них деловитый: они находятся при исполнении служебных обязанностей. Но каких? Слушайте же!
Ослы оседланы. На каждом из них живое существо — человек. Всадники сидят не свободно, нет — они связаны. Ноги их стянуты веревками, обмотанными вокруг щиколоток, а чтобы спина оставалась согнутой, руки привязаны к деревяному ярму, надетому на шею осла. Головы их опущены, и лица обращены к стене, толпа их пока еще не видит.
Они обнажены. Достаточно одного взгляда, чтобы понять — это женщины. Последние сомнения рассеются при виде их длинных рапущенных волос; седые у одной, золотистые у другой, они закрывают щеки пленниц и свисают на шеи ослов. Но одну из них нетрудно узнать и без этого. Она сложена, как Венера. Даже взгляд скульптора признал бы ее беупречной. На другую наложили печать годы. Она сморщена, костлява, худа, и на нее неприятно смотреть.
О Боже! Что за зрелище для Карлоса, охотника на бизонов! Эти всадницы поневоле — его мать и сестра! Он узнал их мгновенно, с первого взгляда.
Если бы сердце его пронзила стрела, боль не была бы острее. С уст его сорвался сдавленный стон — единственный звук, который выдал его страдания. Потом он умолк. Лишь судорожное, отрывистое дыхание говорило о том, что он жив. Он не упал, не лишился чувств. Он не отступил от окна. Точно изваяние, стоял он, как стал с самого начала, прижавшись грудью к стене, чтобы тверже держаться на ногах. Глаза его, застывшие, неподвижные, прикованы к несчастным женщинам.
На середине площади Робладо и Вискарра — наконец они торжествуют! Они увидели его в амбразуре. Он их не видел: в эти минуты он забыл об их существовании.
На церковной башне ударил колокол и смолк. Это был сигнал, возвестивший начало гнусной церемонии.
Погонщики отвели ослов от стены и остановились друг за другом, боком к площади. Теперь лица женщин были частично обращены к толпе, но их почти закрывали распущенные волосы. Приблизились иезуиты. Каждый избрал себе жертву. Они пробормотали над пленницами какие-то непонятные слова, помахали перед их лицами распятием и, отойдя на шаг, шепнули что-то негодяям, стоявшим сзади.
Те с готовностью отозвались на сигнал. Взявшись поудобнее за рукоятку, каждый полоснул плетью по обнаженной спине женщины.
Плети опускались неторопливо и размеренно, ударам велся счет. Каждый удар оставлял свой рубец на коже. На молодой женщине они были заметнее; не то чтобы их наносили с большей силой, но алые полосы отчетливее выделялись на белой, мягкой и нежной коже.
Как ни странно, женщины не кричали. Девушка вся сжалась и тихонько всхлипывала, но ни один стон не сорвался с ее губ. А старуха даже не шелохнулась, ничто не выдало ее мук.
Когда каждая получила по десять ударов, с середины площади раздался голос:
— С девушки хватит!
Толпа подхватила возглас, и тот, на обязанности которого было наносить удары младшей жертве, свернул свою плеть и отступил. Второй продолжал свое дело до тех пор, пока не отсчитали двадцать пять ударов.
Потом грянул оркестр. Ослов провели по краю площади и остановили на следующем углу.
Музыка смолкла. Святые отцы снова забормотали и замахали распятием. Настал черед палачей, но на этот раз только один из них выполнял свою роль. Толпа потребовала, чтобы девушку избавили от плетей, однако она все еще сидела на осле в той же унизительной, позорной позе.
Старухе отсчитали еще двадцать пять ударов. Снова заиграла музыка, и процессия направилась к третьему углу площади. Ужасная пытка возобновилась. Потом двинулись к четвертому, последнему углу площади. Здесь казнь завершилась: старуха получила сто ударов — все положенное число.
* * *
Церемония окончена. Толпа окружила несчастных. Их стражи ушли, и они предоставлены самим себе.
Но на лицах людей нет сострадания, одно лишь любопытство. То, что произошло у них перед глазами, почти не вызвало сочувствия в сердцах этого сброда. Фанатизм сильнее жалости. Кто станет заботиться о колдунье и еретичке!
И все же нашлись такие, что позаботились о них. Нашлись руки, которые развязали веревки, растерли мученицам лбы, накинули на плечи шали, смочили водой губы этих безмолвных жертв — безмолвных потому, что обе они были без сознания.
Здесь оказалась и простая повозка. Как она сюда попала, никто не знал и никто не интересовался этим. Надвигались сумерки, и люди, удовлетворив любопытство и к тому же проголодавшись, стали расходиться по домам. Дюжий возница и два темнокожих индейца, которыми распоряжалась какая-то молодая девушка, уложили несчастных в повозку; потом возница взобрался на свое место, и повозка тронулась. Девушка и помогавшие ей индейцы пошли сзади.
Они миновали предместье и по окольной дороге, пересекавшей заросли, подъехали к уединенному ранчо, тому самому, куда однажды уже привозили Роситу. Ее и на этот раз увезла Хосефа.
Страдалиц внесли в дом. Вскоре заметили, что одна больше уже не страдает. Дочь привели в сознание, и она увидела, что ее мать мертва.
Старухе растирали виски, смачивали губы, терли руки — все было напрасно. Мать не услышала отчаянного крика дочери. Смерть унесла ее в иной мир.
Глава 65
Карлос смотрел на страшное зрелище из оконца в камере. Мы сказали, что он смотрел молча. Это не совсем так. Время от времени, когда окровавленная плеть тяжелее опускалась на спину жертвы, из груди его вырывался сдавленный стон — невольное выражение безмерной муки.
Вид Карлоса явственней, чем голос, выдавал сжигавшее его нестерпимое пламя. Лицо его приводило в ужас тех, кто случайно или из любопытства бросал взгляд на оконце. Мускулы окаменели, остановившиеся глаза обведены темными кругами, за сжатыми губами стиснуты зубы, на лбу блестят крупные капли пота. Казалось, он больше не дышит и в лице его не осталось ни кровинки. Оно было бледно, как смерть, и недвижимо, словно высеченное из мрамора.
Со своего места Карлос мог видеть только два угла площади — тот, где чудовищное истязание началось, и тот, где были отсчитаны следующие двадцать пять ударов. Затем процессия скрылась из виду, но, хотя страшное зрелище уже не терзало его взор, Карлос не почувствовал облегчения. Он знал, что истязание продолжается.
Он отошел от окошка. Теперь он принял решение — он решил покончить с собой. Чаша страдания переполнилась, больше он не в силах вынести. Смерть избавит его от мучений. Надо умереть.
Но как лишить себя жизни?
У него нет оружия, а если бы даже и было, со связанными руками он все равно не смог бы им воспользоваться.
Что, если размозжить голову о стену?
Взглянув на глинобитные стены, он понял, что не достигнет цели. Он лишь оглушит себя, но не убьет. А потом снова пробудится для страшной жизни.
В поисках способа покончить с собой он обвел глазами камеру.
Ее пересекала балка. Она проходила так высоко, что на ней мог бы повеситься самый рослый человек. Будь у него свободны руки и найдись тут веревка, он мог бы это сделать. Впрочем, веревка есть, и достаточно длинная: его руки связаны обмотанной несколько раз полосой сыромятной кожи.
Карлос подумал об узлах. Как же он удивился и обрадовался, когда обнаружил, что они растянулись и ослабли! Горячий пот, проступивший на руках, размочил сыромятную кожу, и она стала мягкой и податливой. Не помня себя, едва не обезумев от того, что ему пришлось увидеть, Карлос безотчетными резкими движениями растянул ремни на несколько дюймов. Теперь он сразу почувствовал, что их можно развязать, и принялся за это со всей силой и энергией человека, которому терять нечего. Если бы ему связали руки впереди, он бы перегрыз ремень зубами, но руки были крепко связаны за спиной. Он стал их тянуть и дергать изо всех сил.
Нет в мире людей, которые обращались бы с веревками и ремнями так ловко, как испанцы. Индейцы не могут тягаться с ними в этом искусстве; узел, завязанный даже самым ловким моряком, покажется неуклюжим в сравнении с тем, который сделают они. Никто не умеет так надежно сковать узника без помощи железа. И Карлос был связан превосходно.
Но человека, обретшего сверхъестественную силу и полного решимости, не удержать веревками из пеньки или из кожи. Дайте такому человеку достаточно времени — и он освободится. Карлос знал, что ему нужно только время.
Благодаря тому, что сыромятная кожа размокла, много времени не потребовалось. Не прошло и десяти минут, как ремни соскользнули с запястий, и руки узника оказались на свободе.
Он стал перебирать пальцами ремень, чтобы его распутать. На одном конце он сделал петлю и, взобравшись на скамью, второй конец привязал к балке. Затем накинул петлю на обнаженную шею, рассчитал длину, на какой она должна висеть, когда затянется под тяжестью тела, и став на край скамьи, уже готов был прыгнуть…
«Взгляну на них еще раз — и умру, — подумал Карлос. Бедные мои… в последний раз!»
Он стоял почти напротив оконца. Чтобы увидеть площадь, нужно было лишь слегка наклониться, и Карлос наклонился.
Он не увидел их; но толпа теперь смотрела в тот угол площади, что примыкал к тюрьме. Скоро ужасная казнь кончится. Может быть, когда их поведут отсюда, он их увидит. Он подождет — это будет его последняя минута…
Что же это такое? Боже, это…
Он услышал свист плети, прорезавшей воздух. Он услышал или вообразил, что слышит тихий стон. Толпа молчала, до него доносился малейший звук.
«Боже милосердный, неужели нет милосердия? Бог отмщения. Услышь меня!.. Ага, отмщение! Что же это я, глупец этакий, задумал самоубийство? Да ведь руки мои свободны — разве я не могу выбить дверь, сломать замок? Мне грозит всего лишь смерть от их оружия, а может быть…»
Он сорвал с шеи петлю и хотел было отойти от окна, как вдруг что-то тяжелое ударило его по лбу, чуть не оглушив.
Сперва Карлос подумал, что это камень, брошенный снизу каким-нибудь негодяем, но непонятный предмет, упав на скамью, глухо звякнул.
Карлос посмотрел вниз и при тусклом свете разглядел что-то продолговатое. Он быстро нагнулся и поднял аккуратно перевязанный, завернутый в шелковый шарф пакетик.
Карлос поспешно развязал сверток и поднес к свету. Тут были кошелек, полный золотых монет, нож и сложенный листок бумаги.
Карлос прежде всего взял бумагу. Солнце село, и в камере стало темно, но у окошка было еще достаточно света, чтобы прочитать записку. Он развернул ее и стал читать:
«Вас должны казнить завтра. Мне не удалось узнать, оставят ли вас на ночь здесь или уведут обратно в крепость. Если вы останетесь в тюрьме, тогда все хорошо. Посылаю вам два оружия. Воспользуйтесь любым или обоими. Стены можно пробить. На воле вас будет ждать верный человек. Если же вас поведут в крепость, попытайтесь бежать по дороге — другой возможности не будет. Мне незачем советовать вам быть мужественным и решительным, вам воплощению решимости и мужества. Бегите к ранчо Хосефы. Там вы встретите ту, что готова теперь разделить с вами и опасности и вашу свободу. До свидания! Друг сердца моего, до свидания!»
Подписи не оказалось.
Но Карлосу она и не была нужна — он прекрасно знал, кем написана записка.
— Отважная, благородная девушка! — прошептал он, пряча записку на груди, под охотничьей рубашкой. — Я буду жить для тебя! Эта мысль возвращает мне надежду, дает новые силы для борьбы. Если я умру, то не от руки палачей. Нет, мои руки свободны. Пока я жив, их больше не свяжут! Только смерть заставит меня сдаться!
Узник сел на скамью и торопливо развязал ремни, которые все еще стягивали его ноги. Потом снова вскочил и, зажав в руке нож, принялся шагать по камере, при каждом повороте кидая угрожающий взгляд на дверь. Он решил прорваться мимо стражей, и видно было, что он готов наброситься на первого, кто войдет к нему.
Несколько минут он метался по камере, словно тигр в клетке.
И вдруг он остановился, захваченный какой-то новой мыслью. Подобрал только что сброшенные ремни и, сев на скамью, снова замотал их вокруг лодыжек, но так ловко и хитро, что замысловатый узел мог развязаться от одного рывка. Нож спрятал за пазуху, куда раньше положил кошелек. Потом он снял с балки веревку из сыромятной кожи и, скрестив руки за спиной, так обмотал запястья, что, казалось, они накрепко связаны. После этого он улегся на скамью. Лицо его было обращено к двери, и он лежал неподвижно, словно крепко спал.
Глава 66
В нашей стране холодных чувств, любви расчетливой и корыстной мы не можем понять и, пожалуй, даже не верим в возможность безрассудно отважных поступков, какие в других краях порождает сильная страсть.
У испанских женщин любовь нередко обретает глубину и величие, каких не знают и никогда не испытывают народы, у которых к этому чувству примешивается торгашество. У этих возвышенных натур она часто превращается в истинную страсть, беззаветную, безудержную, глубокую, которая поглощает все другие чувства, заполняет душу. Дочерняя преданность, привязанность к родному дому, моральный и общественный долг отступают перед ней. Любовь торжествует над всем.
Такова была природа и сила любви, горевшей в сердце Каталины де Крусес.
Против нее восстала дочерняя привязанность, на чашу весов были брошены положение в обществе, богатство и многое другое, но любовь перевесила. Повинуясь ей, Каталина решила оставить все.
Приближалась полночь, и в доме дона Амбросио было темно и тихо. Хозяин отсутствовал. Вискарра и Робладо устроили в крепости грандиозное пиршество, и сливки общества были приглашены туда. Среди гостей был и дон Амбросио. В этот час он пировал и веселился в крепости.
Это был праздник не для дам, вот почему там не было Каталины. Его устроили без подготовки, наспех — надо же отметить события истекшего дня! Офицеры и священники пребывали в наилучшем расположении духа и не пожалели усилий, чтобы пирушка удалась на славу.
В городе царила тишина, и в доме дона Амбросио, казалось, все замерло. Привратник в ожидании хозяина задержался у входа, но он сидел в подворотне и, видимо, дремал.
За ним следили те, кому было на руку, чтобы он спал.
Широкие двери конюшни распахнуты. В проеме можно разглядеть силуэт человека. Это конюх Андрес.
В конюшне нет света. Но если бы горел свет, в стойлах видны были бы четыре оседланные и взнузданные лошади. И еще одно странное обстоятельство: у всех лошадей копыта плотно обмотаны грубой шерстяной тканью. Конечно, это сделано не зря!
От ворот не виден вход в конюшню. Но конюх порой выходит вперед и украдкой выглядывает из-за угла. Должно быть, он наблюдает за привратником. Некоторое время он прислушивается, затем возвращается на прежнее место, к темному входу конюшни.
Тонкий луч света прорывается сквозь занавеси на дверях одной из комнат — из спальни сеньориты. Но вот свет внезапно погас. Вскоре дверь бесшумно отворилась, и за порог скользнула женщина. Держась тени, падавшей от стены, она направилась к конюшне, подошла к открытым дверям и вполголоса окликнула:
— Андрес!
— Я здесь, сеньорита, — ответил конюх, шагнув ближе к свету.
— Все оседланы?
— Да, сеньорита.
— И копыта обмотаны?
— Все до одного, сеньорита.
— Что же нам делать с ним? — кивнув в сторону ворот, с беспокойством продолжала сеньорита. — Пока не вернется отец, он не уйдет, а потом будет уже слишком поздно. Святая дева!
— А может быть, и привратника убрать, как девушку? Я с ним справлюсь.
— Да, Висенса… Как ты от нее избавился?
— Связал ее, заткнул ей рот, да и запер в саду, в сторожке. Уж поверьте, сеньорита, она оттуда не выберется, пока ее кто-нибудь не найдет. Ее можно не бояться. Только скажите, я и привратника так же упрячу.
— Нет, нет, нет! Кто откроет папе ворота? Нет, это не годится. — Она задумалась. — А вдруг он выйдет из тюрьмы, а лошадей еще не будет? Его хватятся, погонятся за ним, поймают… Он выйдет оттуда, я уверена, что выйдет! Сколько же ему понадобится времени? Наверно, немного. Он быстро развяжет веревки. Я знаю, он умеет, он мне как-то говорил… Пресвятая дева! Может быть, он уже на свободе и ждет меня! Надо торопиться!.. Да, привратник… Ага!
Она вскрикнула и порывисто обернулась к Андресу. Видимо, ее осенила какая-то мысль.
— Андрес! Добрый Андрес, слушай! Мы все устроим.
— Слушаю, сеньорита.
— Так вот. Ты проведешь лошадей кружной дорогой, через сад. Сможешь ты переправить их через реку?
— Дело нехитрое, сеньорита.
— Вот и хорошо! Веди их через сад… Постой!
Она взглянула на длинную аллею, ведущую через сад; аллея протянулсь как раз напротив ворот и была оттуда видна. Если привратник не будет спать, он непременно увидит, что по ней ведут четырех лошадей, хоть ночь и темная.
Но вот Каталина снова оживилась — наверно, она придумала, как обойти это препятствие.
— Вот что, Андрес! Иди к воротам и посмотри, не спит ли привратник. Иди смело. Если он спит, очень хорошо. А если нет, заведи с ним разговор. Попроси его выпустить тебя через калитку. Вымани его на улицу, а там как-нибудь задержи его. Я сама выведу лошадей.
Этот план годился, и конюх приготовился к дипломатической встрече с привратником.
— А немного погодя проберись вслед за мной в сад. Смотри не оплошай, Андрес! Я удвою твою награду — ты ведь поедешь со мной, чего тебе бояться?
— Сеньорита, да я для вас жизни не пожалею!
Золото всемогуще. Золото заставило стойкого Андреса изменить старой дружбе, лишь бы угодить госпоже. За золото он готов был задушить привратника на месте.
А тот не спал; по обычаю испанских привратников, он лишь дремал. Андрес пустил в ход свой стратегический план — угостил привратника сигарой, а через несколько минут тот, ничего не подозревая, вышел вместе с ним за ворота, и оба они стояли на улице и покуривали.
По гудению их голосов Каталина поняла, что все в порядке. Она вошла в темную конюшню и, проскользнув к одному из коней, взяла его под уздцы и вывела. Она быстро отвела его в сад и привязала к дереву. Потом она возвратилась и вывела из конюшни второго коня и третьего; и вот наконец и четвертый привязан в саду.
Каталина опять вернулась во двор. Она закрыла конюшню, заперла дверь своей комнаты и, бросив взгляд в сторону ворот, проскользнула обратно, в глубь сада. Ей осталось лишь сесть на свою лошадь и, держа в поводу вторую, ждать Андреса.
Она ждала недолго. Андрес точно рассчитал время. Через несколько минут он появился в саду; закрыв за собой калитку, он присоединился к своей хозяйке.
Их уловка великолепно удалась. Привратник ничего не заподозрил. Андрес пожелал ему спокойной ночи, пробормотав, что собирается лечь спать.
Теперь дон Амбросио может возвращаться, когда ему вздумается. Как обычно, он пройдет к себе в спальню. Только утром он узнает, чего лишился.
Сняли материю, обмотанную вокруг копыт лошадей, и, без лишнего шума войдя в воду, переправили всех четырех через реку. Выбравшись на другой берег, всадники сначала поехали по направлению к скалам, но вскоре свернули на тропку в зарослях, ведущую к низине. Этой дорогой они приедут к ранчо Хосефы.
Глава 67
Лежа на скамье, Карлос внимательно оглядел свою темницу, выискивая место, где легче всего можно бы пробить стену. Он уже знал, что стены сложены из необожженного кирпича, и, хотя они достаточно крепки, чтобы держать здесь обыкновенного злоумышленника, человек, вооруженный подходящим оружием и решимостью выйти на свободу, без особого труда может их пробить. Для этого хватило бы двух часов. Но как работать два часа, чтобы никто не заметил этого и не помешал? Вот над чем пришлось поразмыслить узнику.
Одно ясно: сейчас начинать нельзя, надо подождать смены часовых.
Карлос рассудил верно. До тех пор, пока не сменится стража, он будет по-прежнему лежать на скамье, словно крепко связанный. Он знал, что часовые должны сдать его смене, а новые обязаны проверить, в камере ли он, и, следовательно, они заглянут сюда. По его расчетам, смены караула не придется долго ждать — новые часовые скоро явятся.
Одно тревожило Карлоса: оставят ли его на ночь в тюрьме или же для большей безопасности уведут обратно в крепость? Если его поведут туда, то не останется ничего другого, — так советовала и Каталина, — как сделать отчаянную попытку бежать дорогой. В крепости, на гауптвахте, его будут окружать каменные стены. О том, чтобы пробить такую стену, нечего и думать.
Конечно, его могут увести туда. Но почему, собственно, им беспокоиться, что он удерет из тюрьмы, крепко связанный, как они полагают, безоружный, охраняемый бдительными стражами? Нет. Никому и в голову не придет, что он может бежать. Наконец, гораздо удобнее продержать его эту ночь здесь, в тюрьме. Она рядом с площадью, где его должны казнить, и казнь, без сомнения, назначена на завтра. Вон как раз перед тюрьмой уже возведена виселица.
Отчасти из этих соображений, отчасти потому, что они были заняты более приятными делами, офицеры действительно решили оставить его в городской тюрьме, но Карлос об этом не знал.
Впрочем, он был готов ко всему. Если его поведут обратно в крепость, он при первом же удобном случае, рискуя жизнью, попытается бежать. Если же его оставят в тюрьме, он дождется прихода караульных, а когда они уйдут, начнет пробивать стену. Допустим, его застанут за работой — что ж, тогда остается одно: он бросится на часовых и прорвется сквозь их строй.
Его побег не был делом безнадежным. Совсем не так легко удержать под стражей человека, полного решимости и к тому же вооруженного ножом, человека, которого может остановить только смерть. Такой человек порой вырывается на свободу, даже если он окружен легионом врагов. А у Карлоса было куда больше надежды на успех. Ведь он силен и отважен, большинство его врагов пигмеи в сравнении с ним. Да и храбростью они не отличаются. Карлос знал, стоит им увидеть, что руки у него развязаны и он вооружен, как они тут же кинутся в стороны. Надо, конечно, опасаться, что они начнут стрелять из карабинов. Однако он надеялся, что и в этом случае ему повезет, ибо солдаты не могли похвастать меткостью в стрельбе; к тому же темная ночь укроет его.
Больше часа пролежал он на скамье, мысленно перебирая все возможности обрести свободу. Его размышления прервал шум на площади. Это к тюрьме подошла новая группа солдат.
Сердце Карлоса тревожно забилось. Не затем ли они пришли, чтобы отвести его в крепость? Очень возможно. Он ждал, с мучительным нетерпением прислушиваясь к каждому слову.
К его большой радости, оказалось, что это смена караула. Из их разговора он узнал, что приказано держать его всю ночь в тюрьме. Именно это ему и хотелось услышать.
Вскоре дверь отперли, и вошли несколько улан. У одного был в руке фонарь; при свете его они оглядели Карлоса, не поскупившись при этом на оскорбительную брань. Они увидели, что он надежно связан. Потом все ушли, предоставив его самому себе. Конечно, дверь снова заперли, и камера погрузилась во мрак.
Карлос лежал неподвижно, пока не удостоверился, что солдаты удалились. Он слышал, как у двери располагаются новые часовые, потом голоса остальных замерли вдалеке.
Теперь можно было приступить к делу. Он поспешно сорвал с рук и с ног веревки, достал спрятанный на груди нож и принялся долбить стену.
Место он выбрал в самом дальнем углу от двери, в задней стене камеры. Он не знал, куда она выходит, однако можно было предполагать, что за ней начинается равнина.
То была не крепостная тюрьма, а обыкновенная легкая постройка, куда городские власти заключали незначительных преступников. Что ж, тем скорее он может рассчитывать на то, что пробьет стену.
Она легко поддавалась под ножом. Ведь это была всего лишь глина с примесью соломы, и, хотя кирпичи были уложены толщиною не меньше чем в двадцать дюймов, Карлосу удалось за час продолбить дыру, через которую можно было вылезть. Он, наверно, сделал бы это еще быстрее, но ему пришлось работать осторожно и как можно тише. Дважды ему почудилось, что караульные собираются войти в камеру, и оба раза он вскакивал и стоял с ножом в руке, готовый броситься на них. К счастью, воображение обманывало его — в камеру никто не входил. Вот уже все готово, и узник с удовольствием ощутил холодный воздух, ворвавшийся через отверстие.
Он прекратил работу и прислушался. С этой стороны тюрьмы не доносилось ни звука. Кругом было темно и тихо. Карлос просунул голову в отверстие и выглянул. Хотя ночь была темная, он разглядел бурьян и кактусы, росшие у самой стены. Вот удача — нигде ни души!
Карлос расширил отверстие и с ножом в руке выполз наружу. Осторожно, неслышно он поднялся на ноги. Кроме высокого, густо разросшегося бурьяна, кактусов и алоэ, ничего не было видно. Он оказался далеко от жилья, на выгоне. Он был на свободе!
Укрываясь за кустами, Карлос стал красться к равнине. Словно из-под земли перед ним выросла чья-то тень, и тихий голос произнес его имя. Он узнал Хосефу. Они перекинулись несколькими словами, и девушка неслышно пошла вперед; Карлос последовал за нею.
Они вошли в заросли и по узкой тропке обогнули город. Ранчо Хосефы было на окраине с противоположной стороны; через полчаса они уже входили в это скромное жилище.
Еще мгновение — и Карлос склонился над бездыханным телом матери.
Смерть матери не была для него неожиданностью. Такой конец он предвидел. Нервы его были уже напряжены до предела после того, что он видел утром. Бывает так, что одно несчастье заслоняет другое и вытесняет его из сердца. Но перенесенное Карлосом страдание не могло потускнеть перед еще большим. Горе поразило его так жестоко, что он словно окаменел.
Теперь перед ним была рядом та, которая хотела облегчить ему горе, — его самоотверженная спасительница.
Но не время было предаваться скорби. Карлос поцеловал холодные губы матери, поспешно обнял сестру и любимую.
— Лошади есть?
— Они здесь, за деревьями.
— Идем! Нельзя терять ни минуты, надо уходить отсюда. Идем!
С этими словами он закутал тело матери в серапе и, взяв его на руки, вышел из дома.
Его спутницы уже ждали там, где спрятаны были лошади.
Карлос увидел, что коней пять. Радость блеснула в его глазах, когда он узнал своего вороного. Его разыскал Антонио. Он и сам тоже был здесь.
Вот уже все на лошадях: Росита и Каталина, Антонио и конюх Андрес. А сам Карлос со своей ношей на верном скакуне.
— Вниз по долине, хозяин? — спросил Антонио.
Карлос в раздумье помолчал.
— Нет, — сказал он наконец. — Той дорогой они погонятся за нами. Поедем мимо Утеса загубленной девушки. Им не придет в голову, что мы станем взбираться по скалам. Ты поведешь нас через заросли, Антонио, — ты лучше всех знаешь ту тропу. Вперед!
И всадники тронулись в путь. Скоро они были уже за пределами города и ехали по извилистой тропе, которая вела к утесу. Лошади шли гуськом через заросли; седоки не проронили ни слова, не переговаривались даже шепотом.
Спустя час они достигли крутого подъема среди скал и, не задерживаясь, все так же молча, гуськом поехали дальше, пока не выбрались наверх. Карлос велел Антонио вести остальных на плоскогорье, а сам остался позади.
Когда они отъехали, Карлос поворотил коня и поскакал к утесу. На самом краю он остановился — перед ним как на ладони лежал Сан-Ильдефонсо. Во мраке ночи долина казалась огромным кратером потухшего вулкана. Внизу, в городе и в крепости, словно последние вспышки еще не остывшей лавы, мерцали огни.
Конь стоял неподвижно. Всадник понял на руках тело матери, открыл бледное лицо ее, словно хотел, чтобы и она увидела эти огни.
— Матушка! Матушка! — крикнул он голосом, хриплым от скорби. — О, если бы хоть на мгновение, на одно короткое мгновение эти глаза могли видеть, эти уши слышать, ты была бы свидетельницей моей клятвы! Клянусь, я отомщу за тебя! С этого часа все свои силы, все время, душу и тело я отдаю мести. Отомстить!.. Нет, это не то слово! Это не месть, а правосудие, это суд над преступниками, над гнуснейшими убийцами, каких видел мир! Но они не уйдут от кары. Дух моей матери, услышь меня! Они не уйдут от кары! Я отомщу за твою смерть, полной мерой воздам за твои муки! Празднуйте, банда негодяев! Пируйте и веселитесь! Час расплаты близок — ближе, чем вы думаете. Я ухожу, но я вернусь! Немного терпения — и вы еще увидите меня. Да! Вы еще будете стоять лицом к лицу с Карлосом, охотником на бизонов!
Карлос поднял правую руку и угрожающе протянул ее вперед, лицо его загорелось огнем мстительного торжества.
Словно движимый тем же порывом, конь его дико заржал, потом по знаку хозяина круто повернул и ускакал с утеса.
Глава 68
Досмотрев до конца позорную церемонию на площади, Вискарра и Робладо возвратились в крепость.
Как уже сказано, возвратились они не одни — они пригласили на обед именитых людей города: священника, отцов иезуитов, алькальда и прочих. Офицеров поздравляли с поимкой Карлоса, это событие надо было отпраздновать. Комендант и его капитан, главный виновник торжества, решили веселиться. Вот почему в крепости шел пир горой.
Стоит ли переводить Карлоса на гауптвахту? Пускай останется на ночь в городской тюрьме. Чего бояться? Не удерет же он! Ведь он так крепко связан и находится под надежной охраной.
Завтра наступит последний день его жизни. Завтра его враги с удовольствием увидят, как он будет умирать. Завтра комендант и Робладо насладятся местью.
Впрочем, Вискарра наслаждался уже и сегодня. Он отомстил за презрение, с каким отнеслась к нему сестра Карлоса, хотя это он крикнул на площади палачу: «Хватит!» Не сострадание побудило его вмешаться. Нет, его слова были вызваны отнюдь не гуманными чувствами.
Намерения Вискарры были коварны и гнусны. Завтра брата Роситы уберут с дороги, и тогда…
Но ни вино, ни музыка, ни громкий смех и шутки не могли отвлечь коменданта от одной горькой мысли. Ведь зеркало на стене снова и снова отражало его обезображенное лицо. Да, победа Вискарры была куплена дорогой ценой, жалким было его торжество.
Робладо — тот блаженствовал. Среди гостей был дон Антонио, и сидели они рядом.
Вино сделало сговорчивым владельца рудников. Он был любезен и щедр на обещания. Его дочь, сказал он, раскаивается в своем опрометчивом поступке, теперь она безучастна к судьбе Карлоса. Пусть Робладо не теряет надежды.
Возможно, у дона Амбросио были основания верить в свои слова. Быть может, Каталина, чтобы лучше скрыть свой отчаянный замысел, дала ему для этого повод.
Вино лилось рекой, и гости коменданта пировали вовсю. Пели песни, произносили тосты и патриотические речи. Было уже за полночь, а веселье не утихало.
В разгар пирушки кто-то предложил, чтобы привели узника. Эта нелепая затея пришлась по вкусу полупьяной компании. Многим любопытно было поближе увидеть охотника на бизонов, который стал так знаменит.
Предложение поддержали сразу несколько человек, и комендант согласился. Почему бы не доставить удовольствие гостям? Да и самому Вискарре, так же как и Робладо, понравилась эта мысль. Сейчас они лишний раз надругаются над ненавистным врагом.
Итак, позвали сержанта Гомеса, послали его за Карлосом, и пирушка продолжалась.
Однако, против всяких ожиданий, кончилась она очень скоро. В комнату ворвался сержант Гомес и громко объявил:
— Пленник исчез!
Если бы среди гостей взорвался снаряд, они не бросились бы врассыпную с такой быстротой. Переполох произошел невообразимый; все повскакивали с мест, опрокидывая столы и стулья; стаканы и бутылки полетели на пол.
Через минуту в комнате не осталось ни одного человека. Одни кинулись по домам проверять, целы ли их семьи, другие побежали к тюрьме, чтобы воочию убедиться, что сержант сказал правду.
Вискарра и Робладо едва не лишились рассудка. Они бушевали и проклинали все на свете. Всему гарнизону тотчас приказали стать под ружье.
Через несколько минут чуть ли не все солдаты крепости вскочили на коней и помчались к городу.
Тюрьму окружили.
Вот дыра, через которую удрал узник. Но как он развязал веревки? Кто передал ему оружие?
Караульных допрашивали и пороли, пороли и допрашивали, но ничего от них не добились. Они ведь только тогда узнали, что узник сбежал, когда за ним пришел Гомес с солдатами.
На поиски во все стороны разослали небольшие отряды, но что они могли сделать ночью? Едва ли охотник остался в городе. Конечно, он снова умчался куда-нибудь на Равнины!
Ночные поиски ни к чему не привели; отряд, посланный вниз по долине, возвратился наутро, не обнаружив никаких следов Карлоса или хотя бы его сестры и матери. О том, что еретичка умерла этой ночью, в городе уже знали, но куда девалось ее тело? Уж не ожила ли она и помогла узнику бежать? Что же, очень возможно!
Утром, попозже, на это загадочное событие пролился какой-то свет. Дон Амбросио, который накануне отправился на покой, не потревожив дочери, ждал ее к завтраку. Что же это она не является в положенный час? Отец рассердился, потом забеспокоился и наконец послал за нею. Но на стук в дверь ее спальни не последовало ответа.
Взломали дверь, вошли в комнату — и что же? Никого нет, постель не смята: сеньорита сбежала!
Ее надо найти! Где конюх? Где лошади? Догнать ее и вернуть!
Бросились к конюшне, открыли ее. Нет конюха, нет лошадей — они тоже исчезли!
Святые угодники! Какой скандал! Мало того, что дочь дона Амбросио помогла преступнику удрать, она бежала и сама, и теперь они вместе! «Неслыханно!» — говорили все в один голос.
Наконец напали на след лошадей. По следу отправился большой отряд улан, и с ними конные жители долины. Отпечатки копыт вели на плоскогорье, затем к Пекосу. Беглецы переправились через реку. Дальше след терялся. Всадники разъехались в разные стороны по сухой гальке, и следов уже нельзя было различить.
После нескольких дней бесплодных поисков преследователи возвратились. Послали новый отряд, но и этот вернулся ни с чем. Обыскали каждый уголок, где Карлос мог бы найти себе убежище: старое ранчо, рощи на берегу Пекоса, нагрянули даже в ущелье, обшарили пещеру — нигде никаких признаков беглеца и его спутников! Оставалось лишь предположить, что они покинули Сан-Ильдефонсо.
Это предположение подтвердилось, и все перестали наконец теряться в догадках. Дружественные команчи, заглянувшие в долину, рассказали, что Карлос встретился им на плоскогорье. Его сопровождали две женщины и несколько слуг с мулами, навьюченными продовольствием. Охотник на бизонов сказал команчам, что он отправляется в далекое путешествие — на другую сторону Великих Равнин.
Эти сведения были точны, и никто в них не усомнился. Карлос нередко говорил о своем намерении уехать в страну американцев. Туда-то он и направился и, вероятнее всего, осядет там на берегах Миссисипи. Теперь его никто не нагонит. Больше его здесь не увидят — вряд ли он когда-нибудь опять покажется в поселениях Новой Мексики.
* * * *
Прошли месяцы. Кроме того, что рассказали команчи, о Карлосе и его близких ничего не было слышно. И хотя ни его, ни тех, кто ушел с ним, не позабыли, о них перестали повсюду говорить. У жителей Сан-Ильдефонсо были и другие дела; а в последнее время произошли события столь значительные, что они почти вытеснили память о знаменитом беглеце.
Поселению грозил набег ютов. Этого не миновать бы, но тут на ютов, в свою очередь, напало другое воинственное племя и разбило их. Поражение ютов предотвратило набег на долину в этом году, но опасность на будущее осталась.
А затем над Сан-Ильдефонсо нависла еще одна угроза: ждали мятежа тагносов — мирных индейцев, составляющих здесь большинство населения. Во многих поселениях их братья восстали, и им удалось сбросить испанское иго. Могли ли и тагносы Сан-Ильдефонсо не мечтать о восстании, о свободе?
Однако благодаря предусмотрительности властей заговор в Сан-Ильдефонсо был пресечен в корне. Вожаков схватили, допросили с пристрастием, осудили и расстреляли. Скальпы убитых вывесили на воротах крепости в назидание их темнокожим соотечественникам, которым ничего больше не оставалось, как смириться.
Эти трагические события во многом способствовали тому, что охотник на бизонов и его дела были преданы забвению. Конечно, кое у кого в Сан-Ильдефонсо были веские основания его помнить, но большинство перестало думать о нем и его близких. Все слышали и поверили, что беглец давным-давно пересек Великие Равнины и теперь находится под защитой своего народа на берегах Миссисипи.
Глава 69
Что же все-таки сталось с Карлосом? Правда ли, что он пересек Великие Равнины? Неужели он так и не вернулся? Что случилось с поселением Сан-Ильдефонсо?
Эти вопросы пришлось задать, так как человек, рассказывавший легенду, замолк. Взор его блуждал по долине, порой устремлялся на Утес загубленной девушки, порой останавливался на поросших сорной травой руинах. Глубокое волнение охватило рассказчика — вот почему он умолк.
Его слушатели начали догадываться о судьбе, постигшей Сан-Ильдефонсо, и с нетерпением ждали конца. Спустя некоторое время рассказчик продолжал:
— Да, Карлос вернулся. Что произошло с Сан-Ильдефонсо? Вот те руины вам ответят. Сан-Ильдефонсо пал. Хотите знать, как это случилось? Эта страшная повесть — повесть о крови и мести. Карлос отомстил.
Охотник на бизонов вернулся в долину Сан-Ильдефонсо, но вернулся не один. Он привел с собою пятьсот воинов, краснокожих воинов, которые избрали его своим предводителем, своим белым вождем. Это были непокоренные индейцы племени вако. Они знали, какое зло причинили ему враги, и поклялись отомстить за него.
Стояла осень, поздняя осень — самая прекрасная пора на американских равнинах, когда разрумяниваются дикие леса и природа словно отдыхает от ежегодных тяжких трудов, и все живое, насладившись роскошным пиром, который она так щедро приготовила для своих детей, кажется умиротворенным и счастливым.
Была ночь, ярко светила осенняя луна, та самая луна, чей круглый диск и серебряные лучи прославлены в песнях жатвы по всей земле.
Лучи ее не менее ослепительно падали на дикие просторы Льяно Эстакадо, хотя там жатвы никогда и не ведали. Предостерегающее рычанье овчарки разбудило одинокого пастуха, дремавшего возле затихшего стада. Приподнявшись, он настороженно огляделся. Что там — волк или медведь, или, может быть, рыжая пума? Нет, это не зверь. Нечто совсем иное увидел пастух, окинув взором прерию… Увидел — и содрогнулся.
По прерии двигалась длинная цепь темных силуэтов. То были силуэты лошадей с их седоками. Лошади шли гуськом — морда одной касалась крупа другой. Направлялись они с востока на запад. Голова колонны была уже совсем близко, а конец терялся вдалеке, и пастух его не видел.
Вскоре войско приблизилось. Всадники проходили в двухстах шагах от того места, где лежал пастух. Они скользили плавно и бесшумно. Не звякали удила, не звенели шпоры, не бряцали сабли. Слышались лишь глухие удары о землю неподкованных копыт да порой ржанье нетерпеливого коня, который тут же умолкал, сдерживаемый седоком. Они проходили неслышно — неслышно, как тени. Озаренные полной луной, они казались призраками.
Пастух дрожал от страха, хотя и знал, что это не призраки. Он прекрасно знал, кто они, и понимал, что означает это нескончаемое шествие. Индейские воины двинулись в поход. В ярком свете луны он хорошо разглядел их. Он видел, что здесь одни мужчины. До пояса и ниже бедер они обнажены, грудь и руки их раскрашены, и при них лишь луки, колчаны и стрелы. Сомнений не оставалось: это дикие индейцы вступили на тропу войны.
Но удивительнее всего показался пастуху вождь, который ехал впереди этого молчаливого отряда. Он не походил на остальных ни одеждой, ни снаряжением, ни цветом кожи. Пастух увидел, что вождь — белый!
Впрочем, изумление пастуха быстро прошло. Он был человек смышленный. Это он нашел когда-то трупы желтолицего охотника и его дружка. Ему припомнились события того времени. После недолгого раздумья он решил, что этот белый вождь не кто иной, как Карлос, охотник на бизонов. И пастух не ошибся.
Прежде всего он подумал о спасении собственной жизни и замер, боясь шелохнуться. Но не успели воины пройти мимо, как у него возникли другие мысли. Индейцы на тропе войны! Они идут к городу, и ведет их Карлос, охотник на бизонов! Ему пришла на ум история изгнанника, он вспомнил все подробности. Ну конечно, Карлос возвращается в Сан-Ильдефонсо для того, чтобы отомстить своим врагам!
Отчасти из чувства патриотизма, отчасти в надежде на вознаграждение пастух решил помешать Карлосу. Он поспешит в долину и предупредит гарнизон!
Едва всадники проехали мимо, он вскочил на ноги и готов был мчаться в крепость. Но он просчитался. Разведчики, которых предусмотрительно разослал белый предводитель, давно уже заметили и окружили пастуха вместе с его стадом, и его тут же схватили. Половина стада пошла на ужин тем самым людям, которых он собирался выдать.
До того места, где им встретился пастух, белый вождь и его спутники ехали хорошо знакомой дорогой — дорогой торговцев с индейцами. Здесь предводитель свернул и, не сказав ни слова, повел воинов наперерез по прерии. Бесшумно и послушно следовала за ним бесконечная цепь всадников, словно ползла, извиваясь, гигантская змея.
Еще через час они достигли края Великой Равнины — места, так хорошо знакомого их вождю. Оно возвышалось над ущельем, в котором он не раз укрывался от врагов. Луна, по-прежнему сиявшая ослепительно ярко, была теперь низко над горизонтом, и свет ее не достигал дна ущелья. Оно лежало в глубокой тени. Спуск был труден, но только не для таких людей, да еще с таким проводником.
Сказав несколько слов ближайшему воину, белый вождь направил коня в расселину и исчез в тени скал.
Воин передал приказ следующему и вслед за Карлосом скрылся во мраке. Так, одного за другим, бездна поглотила пятьсот всадников.
Некоторое время до слуха доносился непрерывный частый топот — удары двух тысяч копыт о скалы и мелкие камни. Но шум этот постепенно замирал, и наконец все стихло. Люди и лошади ничем не выдавали своего присутствия в ущелье. Слышались одни лишь голоса диких зверей и птиц, в чье убежище вторглись непрошенные гости, — жалобный плач козодоя, вой волка да пронзительный крик орла.
* * *
Прошел еще день. Снова взошла луна, и гигантская змея, что весь день пролежала свернувшись в ущелье, неслышно выскользнула из его устья и потянулась через долину реки Пекос.
Вот она уже достигла реки и переправляется на другой берег. Среди всплесков и брызг лошади одна за другой идут бродом, затем колонна скользит дальше.
Из долины Пекоса она поднялась на ту часть плоскогорья, с которой открывается вся долина Сан-Ильдефонсо.
Небольшой привал, вперед посланы разведчики, и колонна снова движется.
А когда луна снова скрылась за снежной вершиной Сьерра-Бланки, голова колонны достигла Утеса загубленной девушки. Последний час предводитель ехал медленно, словно ждал, пока зайдет луна. Свет ее теперь не нужен. Для того, что должно свершиться, больше подходит тьма.
Разведчики, посланные осмотреть дорогу, возвратились. Узким проходом среди скал белый вождь ведет свой отряд вниз. Еще полчаса — и пятьсот всадников неслышно скрываются в зарослях.
Посреди чащи метис Антонио отыскивает поляну. Здесь воины соскакивают с коней и привязывают их к деревьям. Они нападут на врагов пешие.
* * *
Час ночи. Луна скрылась, и перистые облака, отражавшие ее свет, с каждой минутой становятся темнее. Теперь уже ничего не разглядишь в двадцати шагах. Черной и мрачной кажется громада крепости на фоне свинцового неба. Не виден на башне часовой; лишь время от времени разносится его пронзительный окрик: «Слушай!»— значит, он на своем посту. На окрик отвечает часовой у ворот, и снова воцаряется тишина. Гарнизон спит крепко, безмятежно спят и стражи у ворот, растянувшись на каменной скамье.
В крепости не опасаются внезапного нападения: ведь нет никаких слухов о набегах индейцев, с соседними племенами отношения мирные, заговорщики-тагносы уничтожены. К чему излишняя предосторожность? Для обычной охраны гарнизона вполне хватит одного часового у ворот и другого — на асотее. Еще бы! Обитателям крепости и не мерещится, что враг близок.
«Слушай!» — снова пронзительно кричит страж на стене. «Слушай!» — отвечает ему другой, у ворот.
Но оба они беспечны и не слишком чутко прислушиваются; они не замечают, как к стенам, распластавшись по земле, словно огромные ящерицы, ползут какие-то темные тени. Медленно и неслышно движутся они в траве, неуклонно приближаясь к воротам крепости. Возле часового горит фонарь, он отбрасывает свет на некоторое расстояние. Но что толку — часовой их не видит!
Наконец какой-то шорох достигает его слуха. С губ его готовы слететь слова: «Кто идет?» — но смерть останавливает их. Разом натянуты шесть луков, шесть стрел впиваются в грудь часового. Сердце его пронзено, и он падает, не издав даже стона. Поток темных тел вливается в открытые ворота. Захваченная врасплох стража умирает, не успев схватиться за оружие.
Гремит боевой клич вако, сотни темнокожих воинов бурным потоком хлынули во внутренний двор.
Они заполняют патио, осаждают двери казарм. Солдаты, охваченные паникой, выбегают в одних рубашках и падают, пронзенные стрелами своих темнокожих противников. Со всех сторон раздается треск карабинов и пистолетов, но те, кто стрелял, умирают, не успев перезарядить свое оружие.
* * *
Это была страшная битва, хоть длилась она и недолго. Все смешалось: крики, стоны, выстрелы; звучный голос мстителя-вожака и дикий боевой клич его соратников; треск дерева, когда взламывали или срывали с петель двери, лязг мечей, свист стрел, грохот карабинов… Да, это была поистине страшная битва!
Но вот она кончилась. Наступила почти полная тишина. Воины больше не оглашают воздух своим устрашающим кличем. Их враги, солдаты, уничтожены. Все казармы очищены, не забыли ни одной, а их недавние обитатели, все в крови, лежат кучами среди двора или у дверей. Все они убиты на месте.
Впрочем, нет, не все. Двое остались в живых, двоих пощадили. Вискарра и Робладо все еще живы.
Теперь к деревянным дверям здания сваливают груды щепок и поджигают их. К небу вздымаются клубы дыма и полотнища багрового пламени. Огонь подбирается к массивным еловым балкам асотеи; они загораются, трещат и падают во двор. Вскоре от крепости остаются лишь дымящиеся развалины…
Но краснокожие воины не стали ждать, пока сгорит крепость. Месть их вождя еще не завершена. Он должен отомстить не только солдатам. Он поклялся отомстить и жителям долины. Поселение Сан-Ильдефонсо должно быть уничтожено!
* * *
И Карлос сдержал свою клятву. Прежде чем взошло солнце, город был охвачен пламенем. Стрелы, копья и томагавки совершили свое дело: мужчины, женщины, дети сотнями гибли под крышами своих пылающих домов.
Кроме индейцев-тагносов, лишь немногие остались в живых, они и рассказали о страшной бойне. Лишь немногим белым, в их числе злополучному отцу Каталины, позволили уйти в другие поселения и взять с собой остатки имущества.
За какие-нибудь двенадцать часов все поселение Сан-Ильдефонсо — город, крепость, миссия, асиенды и ранчо — перестало существовать. Не стало и жителей этой прекрасной долины.
* * *
Всего только полдень. Развалины Сан-Ильдефонсо еще дымятся. Его обитатели мертвы, но здесь есть люди. На площади сотни темнокожих воинов, они выстроены квадратом. Перед ними посреди площади разыгрывается необычайная сцена, еще одно действие драмы: завершается месть их вождя.
На ослах, связанные, сидят два человека. С них сняли одежду, и их обнаженные спины выставлены напоказ перед молчаливыми зрителями. Но хотя на этих двоих больше нет развевающихся сутан, их нетрудно узнать по коротко остриженным волосам и выбритым тонзурам.
Это отцы иезуиты из миссии.
Глубоко врезается плеть в обнаженные тела, иезуиты громко стонут и извиваются от боли и страха. Они горячо просят и молят своих мучителей прекратить жестокую порку, но никто их не слушает.
На эту казнь смотрят двое белых. Один из них Карлос, охотник на бизонов, другой — скотовод дон Хуан.
Напрасно стараются святые отцы вызвать в них жалость. Им не растрогать этих двух людей — их сердца окаменели.
— Вспомните мою мать, вспомните мою сестру! — сквозь зубы отвечает Карлос.
— Да, недостойные священники, вспомните! — добавляет дон Хуан.
Снова взлетает плеть и снова опускается на спины, и так до тех пор, пока все четыре угла площади не стали свидетелями наказания.
Ослов подводят к церкви — она почернела от копоти, крыша обрушилась, — связывают их голова к голове; зрителям видны только спины седоков.
В стороне протянулась цепочка воинов, их луки натянуты, и по сигналу град стрел со свистом прорезает воздух. Страданиям святых отцов настал конец: обоих нет больше в живых.
* * *
Я подхожу к последнему действию страшной драмы; нет слов, чтобы его описать. Все предыдущее тускнеет перед ужасом этой сцены. Она разыгрывается на вершине Утеса загубленной девушки. В этом месте часть плоскогорья узким, длинным мысом врезается в долину, здесь Карлос столь блестяще выдержал испытание в день святого Иоанна.
И сейчас будет снова показано искусство верховой езды. Но как не похожи на прежних участники, как не похожи зрители!
На лошадях сидят два человека. Это всадники поневоле — они привязаны к седлам. Их руки не сжимают поводья — они связаны за спиной, а ноги стянуты сыромятным ремнем, проходящим под брюхом лошади. Для того, чтобы всадники прочно и неподвижно держались в седле, их привязали еще и другими ремнями, идущими от крепких кожаных поясов к передней луке и к крупу лошади. Таким образом, лошадь не может сбросить седока, не скинув и седла, а этому помешает прочная подпруга. Все предусмотрено: эти всадники не вылетят из седел, не показав своего искусства.
Но не по доброй воле они это сделают. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть на их лица. Ужасны чувства, явственно написанные на этих лицах: самое низкое, трусливое малодушие, самое беспросветное отчаяние.
Люди эти — средних лет, оба офицеры в полной парадной форме. Но и без того нетрудно узнать в них смертельных врагов Карлоса — Вискарру и Робладо. Только теперь они уже не противники Карлоса — они его пленники.
Но для чего же их посадили на лошадей таким странным образом? Что за комедия должна здесь разыграться?.. Комедия? Как бы не так!
Смотрите: лошади под этими седоками — дикие мустанги. Смотрите: голова каждого мустанга обмотана куском грубой ткани, и он ничего не видит.
Для чего? Сейчас вы это узнаете.
Каждого коня с трудом удерживает индеец-тагнос. Мустанги стоят на Утесе загубленной девушки, перед выступом, который выдвигается вперед.
В ту же сторону обращены и лица выстроившихся в ряд воинов-индейцев. Они безмолвны. Ничем не нарушается зловещая тишина. Впереди на вороном коне — вождь, и к нему прикованы все взоры, словно люди ждут от него сигнала. Лицо его бледно, но сурово и непоколебимо. Месть еще не завершилась.
Он и его жертвы не обмениваются ни единым словом. Все уже сказано. Они знают свою участь.
Они сидят к нему спиной, они его не видят; но в устремленном на него взоре обоих тагносов, удерживающих лошадей, какое-то странное выражение. Чего они ждут? Ждут знака.
Взмахом руки, в молчании подан знак. Тагносы, отпустив мустангов, отскакивают в сторону. Еще знак — и воины, пришпорив своих коней, с диким криком несутся вперед.
Вот уже их копья вонзаются в крупы мустангов, и ничего не видящие лошади скачут к выступу утеса…
Вопль смертельного ужаса, вырвавшийся у седоков, тонет в криках преследователей. Еще мгновение — и все кончено. Перепуганные мустанги сорвались с утеса, увлекая своих седоков в вечность.
Темнокожие воины сгрудились у края обрыва и безмолвно смотрят друг на друга.
Вперед метнулся всадник; сдержав коня у самого края, он посмотрел вниз, в пропасть. Это белый вождь.
Он глядит на бесформенную груду, лежащую внизу. Люди и лошади недвижимы — они мертвы, смяты, раздроблены, разбиты… Страшное зрелище!
Карлос глубоко вздохнул, словно огромная тяжесть свалилась наконец с его сердца. Потом обернулся к другу.
— Дон Хуан! — произнес он. — Я сдержал слово: она отомщена!
* * *
Заходящее солнце видело длинную цепь воинов-индейцев: один за другим они выезжали из долины и направлялись к Льяно Эстакадо. Но они уходили не так, как пришли. Они возвращались из Сан-Ильдефонсо в родные края с награбленным добром, которое они считали своей законной военной добычей.
Впереди по-прежнему ехал охотник на бизонов, и рядом с ним — скотовод дон Хуан. Только что разыгравшиеся страшные события омрачили их лица, но эти тени рассеивались, когда всадники мысленно уносились в будущее. В конце пути обоих ждали радостные встречи.
Карлос недолго оставался со своими друзьями-индейцами. Взяв золото, которое они ему когда-то обещали, он двинулся дальше на восток и там, в Луизиане, на Ред Ривер, развел плантацию. С ним были красавица-жена, сестра, дон Хуан и несколько старых слуг, и он прожил многие годы в мире и благоденствии.
Время от времени он отправлялся на охоту в страну своих старых друзей вако, которые неизменно были ему рады и по-прежнему называли его своим белым вождем.
А о Сан-Ильдефонсо с тех пор ничего больше не было слышно. В этой прекрасной долине так и не основали новых поселений. Тагносы, освобожденные от сетей рабства, которыми опутали их отцы иезуиты, с великой радостью отказались от навязанной им полуцивилизации. Иные обосновались в других поселениях, большинство же возвратились к прежним обычаям — они снова стали охотниками прерий.
Возможно, что в другие времена судьба Сан-Ильдефонсо вызвала бы больший интерес, но описанные нами события произошли в исключительный период испаноамериканской истории. Как раз в ту пору на всем Американском континенте владычество Испании быстро клонилось к упадку, и падение Сан-Ильдефонсо было всего лишь эпизодом среди многих не менее драматических событий. Примерно в то же время пали Гран-Квивира, Або, Чилили и сотни других поселений и городов. У каждого из них своя история, своя кровавая повесть — быть может, куда более интересная, чем та, которую мы здесь рассказали.
Лишь случай привел нас к прекрасной долине Сан-Ильдефонсо, случай столкнул нас с человеком, который помнил ее легенду легенду о белом вожде.
КВАРТЕРОНКА, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ЗАПАДЕ (роман)
Один из лучших романов М. Рида, в котором дана широкая картина жизни юга США в период рабовладения. В сюжете романа рассказывается о захватывающих приключениях Эдуарда Радерфорда и квартеронки Авроры, готовых любой ценой бороться за свою любовь и свободу.
Глава 1
ОТЕЦ ВОД
ОТЕЦ ВОД! Я славлю твой могучий бег. Подобно индусу на берегах священной реки, склоняю я пред тобою колена и возношу тебе хвалу!
Но как несходны чувства, которые нас одушевляют! Индусу воды желтого Ганга внушают благоговейный трепет, олицетворяя для него неведомое и страшное грядущее, во мне же твои золотистые волны будят светлые воспоминания и связуют мое настоящее с прошлым, когда я изведал столько счастья. Да, великая река! Я славлю тебя за то, что ты дала мне в прошлом. И сердце замирает от радости, когда при мне произносят твое имя!
Отец вод, как хорошо я знаю тебя! У твоих истоков я шутя перескакивал через тоненькую струйку, ибо в стране тысячи озер, на вершине Hauteur de terre, ты бежишь крохотным ручейком. На лоно вскормившего тебя голубого озерка спустил я берестяной челн и отдался плавному течению, устремившему меня на юг.
Я плыл мимо берегов, где на лугах зреет дикий рис, где белая береза отражает в зеркале твоих вод свой серебристый стан и тени могучих елей купают в твоей глади свои остроконечные вершины. Я видел, как индеец чипева рассекал твои хрустальные струи в легком каноэ, как лось-великан стоял в твоей прохладной воде и стройная лань мелькала среди прибрежной травы. Я внимал музыке твоих берегов — крику ко-ко-ви, гоготу ва-ва — гуся, трубному гласу большого северного лебедя. Да, великая река, даже в далеком северном крае, на твоей суровой родине, поклонялся я тебе!
* * *
Все вперед и вперед плыву я, пересекая один за другим градусы, широты и климатические пояса.
И вот я стою на твоем берегу, там, где ты прыгаешь по скалам и зовешься водопадом Святого Антония и бурным, стремительным потоком прокладываешь себе дорогу на юг. Как изменились твои берега! Хвойные деревья исчезли, и ты нарядился в яркий, но недолговечный убор. Дубы, вязы и клены сплетают шатром свою листву и простирают над тобой могучие руки. Хотя леса твои по-прежнему тянутся без конца и края, девственной природе приходит конец. Взор с радостью встречает приметы цивилизации, слух жадно ловит ее звуки. Среди поваленных деревьев стоит бревенчатая хижина, живописная в своей грубой простоте, а из темной чащи леса доносится стук топора. Над поверженными исполинами гордо качаются шелковистые листья кукурузы, и золотые ее султаны сулят богатый урожай. Из-за зеленых крон деревьев вдруг выглянет церковный шпиль, и молитва возносится к небу, сливаясь с рокотом твоих волн.
Я снова спускаю челн на твои стремительные волны и с ликующим сердцем плыву вперед и вперед, на юг. Я проплываю теснины, где ты с ревом пробиваешь себе путь, и восхищенно всматриваюсь в причудливые скалы, которые то отвесной стеной поднимаются ввысь, то расступаются и мягкими изгибами вырисовываются на синеве небес. Я смотрю на нависшую над водой скалу, прозванную наядой, и на высокий утес, на округлой вершине которого в далекие годы солдат-путешественник разбивал свою палатку.
Я скольжу по зеркальной поверхности озера Пепин, любуясь его зубчатыми, похожими на крепостную стену берегами.
С волнением гляжу я на дикий утес Прыжок любви, чьи обрывистые склоны часто отвечали эхом на веселые песни беззаботных путешественников, а однажды эхо повторило скорбный напев — предсмертную песнь Веноны, красавицы Веноны, которая ради любви пожертвовала жизнью.
* * *
Вперед несется мой челн, туда, где безграничные прерии Запада подступают к самой реке, и взор мой с радостью скользит по их вечнозеленым просторам.
Я замедляю ход своего челна, чтобы посмотреть на всадника с разрисованным лицом, скачущего вдоль твоего берега на диком коне, и полюбоваться на гибких дакотских девушек, купающихся в твоих хрустальных струях, а затем — снова вперед, мимо Скалистого карниза, мимо богатых рудами берегов Галены и Дюбюка и воздушной могилы смелого рудокопа.
Вот я достиг того места, где бурный Миссури яростно бросается на тебя, как будто хочет повлечь за собою по своему пути. С утлого суденышка я слежу за вашим поединком. Жестокая короткая схватка, но ты побеждаешь, и отныне твой укрощенный соперник вынужден платить тебе золотую дань, вливаясь в твое могучее русло, и ты величественно катишь свои воды вперед.
* * *
Твои победоносные волны несут меня все южнее. Я вижу высокие зеленые курганы — единственный памятник древнего племени, некогда обитавшего на твоих берегах. Но сейчас передо мной встают поселения другого народа. Сверкающие на солнце колокольни и купола вздымают в небо острые свои шпили, дворцы стоят на твоих берегах, а другие, плавучие, дворцы качаются на твоих волнах. Впереди виден большой город.
Но я не задерживаюсь здесь. Меня манит солнечный юг, и, вновь доверившись твоему течению, я плыву дальше.
Вот широкое, как море, устье Огайо и устье другого крупнейшего твоего притока, знаменитой реки равнин. Как изменились твои берега! Ни нависших скал, ни отвесных утесов. Ты прорвался сквозь сковавшие тебя горные цепи и теперь широко и свободно прокладываешь себе путь через собственные на— носы. Ты сам в минуту буйного разгула создал свои берега и можешь прорвать их, когда тебе вздумается. Теперь леса вновь окаймляют тебя — леса исполинов: раскидистые платаны, высокие тюльпанные деревья, желто-зеленые тополя поднимаются уступами от самой воды. Леса стоят на твоих берегах, и на своей широкой груди ты несешь остовы мертвых деревьев.
* * *
Я проношусь мимо последнего твоего большого притока, пурпурные воды которого лишь слегка окрашивают твои волны. Плыву вниз по твоей дельте, вдоль берегов, прославленных страданиями Де Сото[19] и смелыми подвигами Ибервиля[20] и Ла Салля[21].
Тут душу мою охватывает беспредельное восхищение. Лишь человек с каменным сердцем, бесчувственный ко всему прекрасному, способен взирать на тебя здесь, в этих южных широтах, не испытывая священного восторга.
Сказочные картины, сменяя одна другую, как в панораме, развертываются передо мной. Нет на земле пейзажа прекраснее. Ни Рейн с его замками на скалах, ни берега древнего Средиземного моря, ни острова Вест-Индии — ничто не может сравниться с тобой. Ни в одной части света нет такой природы, нигде мягкое очарование не сочетается столь гармонично с дикой красотой. Однако взор не встречает здесь ни скал, ни даже холмов; лишь темные кипарисовые чащи, опушенные серебристыми мхами, служат фоном картине, и они не уступают в величавости гранитным утесам.
Лес уже не подходит вплотную к твоим берегам. Его давно свалил топор поселенца, и на смену ему пришли золотистый сахарный тростник, белоснежный хлопок и серебристый рис. Лес отступил назад и теперь лишь издали украшает картину. Я вижу тропические деревья с широкими блестящими листьями — пальмы сабаль, аноны, водолюбивую ниссу, катальпу с крупными трубчатыми цветами, душистый стиракс и магнолию с ее восковыми лепестками. С листвой этих прекрасных туземок смешивают свою листву и сотни чудесных пришельцев: апельсин, лимон и фиговое дерево, индийская сирень и тамаринд, оливы, мирты и бромелии, а поникшие ветви вавилонской ивы составляют разительный контраст с прямыми стеблями гигантского сахарного тростника и копьевидными листьями высокой юкки.
Окруженные этой пышной растительностью, стоят виллы и роскошные усадьбы самой разнообразной архитектуры, столь же разнообразной, как и национальности населяющих их людей, ибо на твоих берегах живут люди самых различных наций, и все они принесли тебе свою дань, украсив тебя дарами всемирной цивилизации.
Прощай, отец вод!
Хоть я не родился под этим благодатным южным небом, но провел здесь долгие годы и люблю эту страну даже больше, чем свою родину. Здесь про— жил я дни светлой юности, возмужал и провел бурные годы зрелости, и воспоминания об этих годах, полных неувядаемой романтики, никогда не изгладятся из моей памяти. Здесь мое сердце впервые познало Любовь — первую чистую любовь. Неудивительно, что страна эта всегда будет окружена для меня немеркнущим сиянием.
Читатель, выслушай историю этой любви!
Глава 2
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ
Как многие юнцы, вырвавшиеся из колледжа, я тяготился жизнью в отчем доме. Мной овладела жажда путешествий; я мечтал увидеть мир, знакомый мне пока только по книгам.
Вскоре мне удалось осуществить мою мечту. Без всякого сожаления смотрел я, как холмы моей родины скрываются за темными волнами, не тревожась о том, увижу ли я их когда-нибудь снова.
Хоть я и вышел из стен классического колледжа, я не чувствовал никакой склонности к классическим знаниям.
За десять лет, проведенных над напыщенными гиперболами Гомера, однообразными стихами Вергилия и скучными нескромностями Горация Фланка, я не проникся тем восхищением перед классической литературой, какое испытывают — или притворяются, что испытывают, — почтенные ученые с очками на носу.
Я не создан, чтобы жить в мире отвлеченных идей или в мечтаниях о прошлом. Я люблю окружающую меня реальную жизнь. Пускай дон-кихоты изображают трубадуров среди развалин старинных замков, а жеманные барышни посещают места, воспетые в путеводителях. Что до меня, то я равнодушен к романтике прошлого. В современном Вильгельме Телле я вижу лишь наемника, готового продать силу своих мускулов любому тирану, а живописный лаццарони, при ближайшем знакомстве, представляется мне обыкновенным мелким воришкой.
Глядя на разрушающиеся стены Афин и развалины Рима, я замечаю лишь бесприютность и голод. Я не любитель живописной нищеты. Меня не трогают романтические лохмотья.
А между тем именно жажда романтических приключений заставила меня покинуть родной дом. Меня увлекало все яркое и необыкновенное, ибо я был в том возрасте, когда человек больше всего влюблен в романтику. Да я и сейчас не изменился. Теперь я старше, но час разочарования для меня еще не наступил и, думаю, никогда не наступит. В жизни много романтического — это не иллюзия. Романтика живет не в светских гостиных с их нелепыми обычаями и глупыми церемониями; она не носит блестящих мундиров и сторонится безвкусных придворных празднеств. Звезды, ордена и титулы ей чужды. Пурпур и позолота убивают ее.
Романтику надо искать в других местах — среди великой и могучей природы, хотя и не только там. Ее можно найти среди полей и дубрав, среди скал и озер, так же как и на людных улицах больших городов. Ибо родина ее в человеческих сердцах — сердцах, которые охвачены высокими стремлениями и бьются в груди у людей, жаждущих Свободы и Любви.
Итак, я устремился не к старым классическим берегам, а в более молодые страны. В поисках романтики я отправился на запад. И я нашел ее и упивался ею под ярким небом Луизианы.
* * *
В январе 18. года я ступил на землю Нового Света, на землю, политую английской кровью. Любезный шкипер, который перевез нас через Атлантический океан, доставил меня на берег в своей шлюпке. Я стремился увидеть места, где происходили последние исторические сражения; в ту пору я увлекался военной историей. Но мне хотелось осмотреть поле боя в Новом Орлеане не из простого любопытства. Я придерживался мнения, считавшегося в то время еретическим, что мирные люди, вынужденные взяться за оружие, сражаются в иных случаях не хуже наемников-профессионалов, и что длительная военная муштра не служит непременным залогом победы. История войн при поверхностном изучении как будто опровергает это мнение; оно противоречит также и свидетельствам военных. Однако свидетельства профессионалов не имеют большого значения в этом вопросе. Разве можно найти хоть одного военного, который не старался бы выставить свое искусство в самом героическом свете? Кроме того, властители не жалели сил, чтобы ввести свои народы в заблуждение. Надо же было им найти какое-то оправдание для той чудовищной обузы, какой для нас является «регулярная армия».
Мое желание увидеть поле боя на берегах Миссисипи[22] имело прямое отношение к интересовавшему меня вопросу. Эта военная операция служила веским доводом в мою пользу, ибо на этом месте шесть тысяч человек, никогда не слышавших команды: «Напра…во!», победили, разбили наголову и, можно сказать, почти стерли с лица земли прекрасно вооруженную и обученную армию, вдвое превосходившую их числом.
После того как я побывал на месте этой битвы, мне довелось и самому участвовать во многих боях. И теорию, которую я в то время отстаивал, я впоследствии проверил на опыте. Вера в военную муштру — это заблуждение, а сила регулярной армии — иллюзия.
* * *
Через час я уже бродил по улицам Нового Орлеана, не думая больше о войне.
Мысли мои приняли другое направление. Передо мной, словно в панораме, развертывалась кипучая жизнь Нового Света во всей ее свежести и многообразии, и, вопреки принятому мною решению nil admirari — ничему не удивляться, — я невольно с удивлением озирался вокруг.
Одной из первых неожиданностей, поразивших меня, можно сказать, еще на пороге моей жизни за океаном, было открытие, что я ни на что не годен. Я мог сослаться на свой аттестат и сказать: «Вот доказательства моей учености — я удостоен высшей награды в колледже». Но на что он мог мне пригодиться? Те отвлеченные науки, которым меня учили, не имели никакого применения в реальной жизни. Моя логика была просто болтовней попугая. Моя классическая ученость лишь загромождала мою память. И я был так же плохо подготовлен к жизненной борьбе, к труду на благо своему ближнему и самому себе, как если бы изучал китайские иероглифы.
А вы, бездарные учителя, пичкавшие меня синтаксисом и стихосложением, — вы, конечно, назвали бы меня неблагодарным, если бы я высказал вам все возмущение и презрение, которое охватило меня, когда я оглянулся назад и убедился, что десять лет жизни, проведенных под вашей опекой, пропали для меня даром, что я глубоко заблуждался, считая себя образованным человеком, а на самом деле ровно ничего не знаю.
* * *
Итак, с некоторым запасом денег в кармане и очень небольшим запасом знаний в голове я бродил по улицам Нового Орлеана, удивленно озираясь вокруг.
Но вот прошло полгода, а я ходил по тем же улицам уже почти без денег в кармане, но зато изрядно пополнив запас своих знаний. За эти шесть месяцев я приобрел значительно больший жизненный опыт, чем за последние шесть лет моей жизни.
Этот опыт обошелся мне недешево. Взятые мною в дорогу деньги быстро исчезли в водовороте ресторанов, театров, маскарадов и «квартеронских балов». Немалую долю я оставил и в том банке, который называется «фараоном» и не выплачивает вкладчикам ни капитала, ни процентов.
Я даже боялся подсчитать все мои расходы. Но в конце концов я пересилил себя и подвел итог. Оказалось, что после оплаты счета в гостинице у меня остается ровно двадцать пять долларов! На двадцать пять долларов я должен был жить, пока напишу домой и получу ответ, то есть не меньше трех месяцев, — ведь это было в ту пору, когда еще не знали больших океанских пароходов.
Полгода я храбро грешил. Теперь я был полон раскаяния и хотел исправиться. Я даже охотно поступил бы на службу. Но вся моя школьная премудрость, которая не помогла мне сберечь кошелек, была теперь бессильна пополнить его вновь. Во всем этом кипучем городе я не мог найти занятия, к которому был бы пригоден.
Без друзей, приунывший, немного пресыщенный и довольно сильно обеспокоенный своим ближайшим будущим, я слонялся по улицам. С каждым днем у меня оставалось все меньше знакомых. Я не встречал их больше в увеселительных заведениях, где они обычно собирались. Куда же они пропали?
В их исчезновении не было ничего таинственного. Наступила середина июня, стояла изнурительная жара, и с каждым днем ртуть в градуснике поднималась все выше. Температура доходила до 100 градусов по Фаренгейту. Через неделю-другую можно было ожидать ежегодного, хотя и нежеланного, гостя, по прозвищу Желтый Джек, которого одинаково боялись и старый и малый. Страх перед желтой лихорадкой выгонял все высшее общество из Нового Орлеана, и оно, подобно перелетным птицам, устремлялось на север.
Я не храбрее других. У меня не было никакого желания познакомиться с этим страшным болотным дьяволом, и я считал, что мне тоже лучше убраться подобру-поздорову. Для этого стоило только сесть на пароход и отправиться вверх по течению, в один из городов, куда не проникает тропическая малярия.
В то время одним из самых привлекательных северных городов считался Сент-Луис, и я надумал отправиться туда, хотя и не имел представления, на что буду там существовать, так как моих средств хватало ровно на дорогу.
Сказав себе, однако, что из двух зол надо выбирать меньшее, я твердо решил ехать в Сент-Луис. Итак, я собрал свои пожитки и поднялся на борт парохода «Красавица Запада», отходившего в далекий «Город на холмах».
Глава 3
«КРАСАВИЦА ЗАПАДА»
В назначенное время я был на борту парохода. Но оказалось, что, понадеявшись на аккуратность здешних пароходов, я пришел слишком рано, чуть ли не за два часа до отплытия.
Однако я не даром потратил время — я провел его с пользой, изучая своеобразное строение судна, на которое взошел. Я сказал «своеобразное», ибо пароходы, плававшие по Миссисипи и ее притокам, совершенно не похожи на пароходы других стран и даже на те, что плавают по рекам Восточных штатов.
Это чисто речные пароходы, они не могут выходить в открытое море, хотя некоторые из них и осмеливаются плавать вдоль техасского берега от Мобила до Галвестона.
Корпус у них построен так же, как и у морских судов, но значительно отличается глубиной трюма. У этих судов такая мелкая осадка, что остается очень мало места для груза, а палуба поднимается всего на несколько дюймов над ватерлинией. Когда же судно тяжело загружено, вода доходит до самого фальшборта. Машинное отделение находится на нижней палубе; там же установлены и большие чугунные паровые котлы с широкими топками, так как эти суда ходят на дровах. Там же из-за тесноты трюма размещают и большую часть груза; по всей палубе вокруг машин и котлов навалены кипы хлопка, бочки с табаком и мешки с зерном. Таков груз на судне, идущем вниз по течению. На обратном пути пароход везет уже другие товары: ящики с различной утварью, сельскохозяйственные орудия, модную галантерею, доставленную на пароходах из Бостона, кофе в кулях из Вест-Индии, рис, сахар, апельсины и другие продукты тропических стран.
На корме отведено место для беднейшей части путешественников, так называемых палубных пассажиров. Здесь вы никогда не увидите американцев. Некоторые пассажиры — ирландские поденщики, другие — бедные немецкие эмигранты, направляющиеся на отдаленный Северо-Запад, а в основном — негры, иногда свободные, а чаще всего рабы.
Чтобы покончить с описанием корпуса, скажу еще, что постройка судна с такой мелкой осадкой очень разумна. Это делается для того, чтобы оно могло идти по мелководью, весьма oбычному на этой реке, особенно в периоды засухи. Вот почему чем меньше осадка, тем лучше. Один капитан на Миссисипи, хвастаясь своим судном, уверял, что, если выпадет сильная роса, он берется провести его даже через прерии.
Если у парохода на Миссисипи лишь очень небольшая часть скрыта под водой, то можно сказать обратное о его надводной части. Представьте себе двухэтажный дощатый дом длиною около двухсот футов, выкрашенный в ослепительно белый цвет; представьте вдоль второго этажа ряд окошек с зелеными переплетами, или, вернее, дверей, открывающихся на узкий балкон; представьте себе плоскую или полукруглую крышу, покрытую просмоленным брезентом, а на ней ряд люков для верхнего света, словно стекла в парнике; представьте себе два огромных черных цилиндра из листового железа, каждый десяти футов в диаметре и чуть ли не ста футов высотой, возвышающихся, как башни, — это дымовые трубы парохода; сбоку — цилиндр поменьше, или труба для выпускания пара, а впереди, на самом носу корабля, длинный флагшток с развевающимся звездным флагом, — представьте себе все это, и вы будете иметь некоторое понятие о том, что такое пароход на Миссисипи.
Войдите внутрь — и в первую минуту вас поразит неожиданное зрелище. Вы увидите роскошный салон длиной около ста футов, украшенный богатыми коврами и красиво обставленный. Вы отметите изящество обстановки, дорогие кресла, диваны, столы и кушетки; красоту расписанных и отделанных позолотой стен; хрустальные люстры, спускающиеся с потолка; по обеим сторонам салона десятки дверей, ведущих в отдельные каюты, и громадные раздвижные двери из цветного или узорчатого стекла, за которыми находится запретное святилище — дамский салон Короче говоря, вы увидите вокруг богатство и роскошь, к которым вы совершенно не привыкли, путешествуя по Европе. Вы только читали о подобной обстановке в какой-нибудь волшебной сказке или в «Тысяча и одной ночи».
И все это великолепие порой находится в досадном противоречии с поведением того общества, которое тут расположилось, ибо в этом роскошном салоне встречаются грубые невежи наравне с изысканными джентльменами. Вы можете с удивлением увидеть сапог из свиной кожи, положенный на столик красного дерева, или черный от никотина плевок, измазавший узор на дорогом ковре. Но это случается редко, и теперь — еще реже, чем в описанные мною дни.
* * *
Осмотрев внутреннее помещение «Красавицы Запада», я вышел на палубу. Здесь, на носу корабля, было оставлено свободное пространство, обычно называемое тентом, — прекрасное место для отдыха мужской части пассажиров. Верхняя палуба, на которой расположены каюты, выдается тут вперед; ее поддерживают колонки, опирающиеся на нижнюю палубу. Крышей ей служит штормовой мостик, выдвинутый вперед, как и палуба, и укрепленный на тонких деревянных стойках; он защищает эту площадку от солнца и дождя, а небольшие перила делают ее совершенно безопасной. Спереди и с боков она открыта, что дает возможность пассажирам осматривать окрестности, а легкий ветерок во время хода судна навевает прохладу; вот почему тент — излюбленное место пассажиров. Для их удобства здесь стоят кресла и разрешается курить.
Только человек, совсем равнодушный к кипучей жизни толпы, отказался бы понаблюдать за ней час-другой на набережной Нового Орлеана. Усевшись в кресло и закурив сигару, я решил посвятить некоторое время этому интересному занятию.
Глава 4
ПАРОХОДЫ-СОПЕРНИКИ
Та часть набережной, которая была у меня перед глазами, именовалась портом. Штук двадцать или тридцать судов стояло у деревянных причалов. Некоторые пароходы только что пришли с верховьев реки и выгружали свои товары и пассажиров, очень немногочисленных в это время года. Другие, осаждаемые суетящейся толпой, разводили пары, тогда как остальные, казалось, были покинуты своими экипажами и капитанами, которые, наверно, в это время веселились в шумных ресторанах и кабачках. Изредка показывался франтоватый конторщик в синих хлопчатобумажных брюках, белом полотняном пиджаке, дорогой панаме, в батистовой рубашке с пышным жабо и брильянтовыми запонками. Такой расфранченный джентльмен появлялся на несколько минут у одного из опустевших судов, вероятно, чтобы заключить какую-нибудь сделку, и спешил обратно в город, где его ждали более интересные занятия.
Особое оживление на берегу было заметно против двух крупных пароходов. Один из них был тот, на котором я собирался отплыть. Второй, как я прочел на штурвальной рубке, назывался «Магнолия». Это судно также готовилось к отплытию, о чем говорили суета на палубе, яркий огонь в топках и клубы вырывающегося со свистом пара.
На набережной разгружали последние подводы; пассажиры, боясь опоздать, спешили с шляпными картонками в руках; по сходням тащили ящики, сундуки, тюки, катили бочки; конторщики, вооружившись блокнотами и карандашами, считали и записывали груз; все это свидетельствовало о скором отплытии парохода. Совершенно такая же сцена происходила и перед «Красавицей Запада».
Поглядев на эти приготовления, я вскоре заметил, что между командами пароходов происходит что-то не совсем обычное. Суда стояли у соседних причалов, и матросы, слегка повысив голос, могли переговариваться между собой, что они сейчас и делали. По некоторым долетевшим до меня фразам и презрительному тону, каким они были сказаны, я понял, что «Магнолия» и «Красавица Запада» были пароходами-соперниками. Вскоре я услышал, что они должны отчалить почти одновременно и собираются устроить гонки.
Я знал, что так называемые первоклассные пароходы нередко вступают здесь в подобные состязания, а «Магнолия» и ее соперница относились к этой категории. Оба были пароходами высшего класса и по величине, и по богатству отделки; оба совершали одинаковые рейсы от Нового Орлеана до Сент-Луиса, наконец, обоими командовали опытные и популярные речные капитаны. Все это неизбежно делало их соперниками, и чувства эти разделяли обе команды, от капитана до слуги-невольника.
Что касается судовладельцев и капитанов, то их соперничество основано на расчете. Победившее судно завоевывает себе популярность среди публики. Самый быстроходный пароход становится и самым модным, и хозяин может быть уверен, что списки его пассажиров будут всегда заполнены, несмотря на высокую плату за проезд, ибо у американца есть такая слабость: он готов истратить последний доллар, лишь бы потом говорить, что путешествовал на самом фешенебельном пароходе, так же как в Англии многие любят кстати и некстати упоминать о том, что они путешествовали первым классом. Тщеславие свойственно не одной какой-нибудь нации, это явление повсеместное.
Предстоящие гонки между «Красавицей Запада» и «Магнолией» разожгли дух соперничества не только среди команд этих судов, — возбуждение передалось и пассажирам. Кажется, многие из них так же увлекаются этими гонками, как англичане скачками. Некоторых, без сомнения, привлекал спортивный азарт, но скоро я заметил, что большинство держит денежные пари.
— «Красавица» должна победить! — кричал за моей спиной какой-то детина с золотыми запонками. — Ставлю двадцать долларов на «Красавицу»! Хотите пари, незнакомец?
— Нет, не хочу, — ответил я довольно сердито, так как он позволил себе бесцеремонно положить руку мне на плечо.
— Что ж, как хотите! — ответил он. — Ваше дело. — И, обращаясь к другому, закричал: — «Красавица» победит, ставлю двадцать долларов! Двадцать долларов на «Красавицу»!
Сознаюсь, в ту минуту я предавался довольно грустным размышлениям. Я первый раз пускался в плавание на американском пароходе, и мне вспомнились многочисленные рассказы про взорвавшиеся котлы, пробоины в корпусах и судовые пожары. Я слышал, что гонки нередко приводят к подобным катастрофам, и у меня были основания верить этим рассказам.
Некоторые из пассажиров, наиболее трезвые и рассудительные, разделяли мои опасения; кое-кто даже говорил, что надо попросить капитана не разрешать гонок. Однако они знали, что останутся в меньшинстве, и ничего не предпринимали.
Больше из любопытства, чем из боязни, я все же решил пойти к капитану и спросить, каковы его намерения. Оставив свое место под тентом, я спустился по сходням и поднялся на набережную, где находился капитан.
Глава 5
ПРЕЛЕСТНАЯ ПОПУТЧИЦА
Не успел я заговорить с капитаном, как заметил приближающуюся к пристани карету, выехавшую, по-видимому, из французского квартала города. Это был красивый экипаж, которым правил хорошо одетый плотный кучер-негр; когда экипаж подкатил поближе, я увидел, что в нем сидит молодая изящная дама.
Не знаю почему, но у меня появилось предчувствие, а может быть, и тайное желание, чтоб эта незнакомка оказалась моей попутчицей. Вскоре я узнал, что она и вправду хочет ехать на нашем пароходе.
Карета подкатила к берегу, и я увидел, как дама обратилась с вопросом к одному из стоявших поблизости пассажиров, а тот указал ей на нашего капитана. Догадавшись, что речь идет о нем, капитан подошел к экипажу и поклонился. Я стоял тут же рядом, и слышал каждое слово.
— Мсье, вы капитан «Красавицы Запада»? — спросила дама по-французски.
Капитан немного знал этот язык, так как постоянно общался с креолами.
— Да, мадам, — ответил он.
— Я хотела бы уехать на вашем пароходе.
— Я буду счастлив служить вам, мадам… Мистер Ширли, у нас найдется свободная каюта? — обратился он к подошедшему стюарду.
— Это не важно, — сказала дама, прерывая его. — Мне каюта не нужна. Вы дойдете до моих плантаций еще до полуночи, и я не собираюсь спать на пароходе.
Слова «мои плантации», по видимому, произвели впечатление на капитана. Человек вообще не грубый, он стал еще более любезным и внимательным. Владелец плантаций в Луизиане такое лицо, с которым нельзя обращаться небрежно, тем более, если это молодая и очаровательная дама. Кто мог быть с нею неучтивым! Во всяком случае, не капитан Б., командир парохода «Красавица Запада». Самое название его судна опровергало подобное предположение.
Вежливо улыбаясь, он спросил, куда должен доставить столь драгоценный груз.
— В Бринджерс, — ответила дама. — Мое поместье расположено немного ниже по течению, но там неудобная пристань, а у меня много груза, так что мне лучше высадиться в Бринджерсе.
И владелица кареты указала на вереницу груженных ящиками и бочками подвод, которые только что подъехали и остановились позади ее экипажа.
Вид этого груза произвел еще более благоприятное впечатление на капитана, который был частично и собственником судна. Он стал рассыпаться в любезностях перед своей новой пассажиркой и выразил готовность выполнить все, что она пожелает.
— Мсье капитан, — сказала прекрасная дама приветливым, но серьезным тоном, все еще не выходя из кареты, — я должна поставить вам одно непременное условие.
— Пожалуйста. Скажите, какое?
— Вот какое. Я слышала, что ваш пароход собирается устроить гонки с другим судном. Если это правда, я не могу быть вашим пассажиром.
У капитана вытянулось лицо.
— Однажды во время гонок я едва не погибла и твердо решила не подвергать себя больше такой опасности.
— Сударыня… — начал капитан и замялся.
— Ну что ж! — воскликнула дама. — Если вы не можете поручиться, что не устроите гонок, я подожду другого парохода.
Капитан стоял несколько секунд, опустив голову. Он, видимо, колебался. Принять условие — значило отказаться от предвкушаемого удовольствия и азарта гонки, от победы, на которую он рассчитывал, и от выгод, которые она ему сулила. Вдобавок все решат, что он не надеется на скорость своего судна и боится, что будет побежден, а это даст противнику возможность всюду хвастаться и уронит капитана в глазах команды и пассажиров, — все они уже слышали о предстоящих гонках. С другой стороны, как отказаться исполнить просьбу этой дамы, по правде говоря, далеко не безрассудную, а если вспомнить, что ей принадлежит большое количество груза, то даже очень благоразумную, тем более что дама — богатая владелица плантации на «французском берегу» и может осенью послать с его пароходом несколько сот бочек сахара и столько же тюков табака, когда он пойдет в Новый Орлеан. Все эти соображения, как я уже сказал, весьма подкрепляли просьбу дамы. Я думаю, что по зрелом размышлении капитан Б. пришел именно к такому выводу, ибо после минутного колебания обещал исполнить эту просьбу, хотя и без большой охоты. Решение это, видимо, стоило ему некоторой борьбы, но все же расчет победил, и он сказал:
— Я принимаю ваше условие, сударыня. Судно не будет участвовать в гонках. Даю вам слово!
— Довольно! Благодарю нас! Я вам очень обязана, господни капитан. Будьте добры принять на судно мой груз. Карету я тоже беру с собой. Вот мой управляющий… Подите сюда, Антуан!.. Он присмотрит за всем. А теперь скажите, пожалуйста, капитан, когда вы думаете отчалить?
— Минут через пятнадцать, не больше.
— Вы в этом уверены, капитан? — спросила она с лукавой улыбкой, показывающей, что ей известно, с какой точностью ходят здешние пароходы.
— Совершенно уверен, мaдaм, — ответил капитан, — вы можете на это положиться.
— Тогда я не буду мешкать.
Сказав это, она легко соскочила с подножки кареты и, опершись на руку, любезно предложенную капитаном, прошла с ним на пароход; он проводил ее в дамский салон, где она и скрылась от восхищенных взглядов, не только моих, но и других пассажиров.
Глава 6
УПРАВЛЯЮЩИЙ АНТУАН
Я был очень заинтересован появлением этой дамы. Меня не столько пора— зила ее красота, хотя она была замечательно красива, сколько что-то в ее манерах и осанке. Мне трудно передать свое впечатление, но в ее обращении сквозила какая-то прямота, говорившая о самообладании и смелости. В ее поведении не было ничего вызывающего, но чувствовалось, что это беспечное создание, веселое, как летний день, способно, если понадобится, проявить редкую силу воли и мужество. Эту женщину назвали бы красавицей в любой стране. С красотой у нее сочеталось изящество манер и одежды, говорившее о том, что она привыкла бывать в светском обществе. К тому же она казалась очень молодой — ей было не больше двадцати лет. Хотя в Луизиане климат способствует раннему созреванию, и креолка в двадцать лет часто выглядит как англичанка на десять лет старше ее.
Замужем ли она? Мне казалось это маловероятным; к тому же она вряд ли сказала бы «моя плантация» и «мой управляющий», будь у нее дома кто-то близкий, разве что она его очень мало уважала — вернее, даже если бы этот «кто-то» был для нее просто «никто». Она могла бы быть вдовой, очень молоденькой вдовой, но и это казалось мне малоправдоподобным. На мой взгляд, она совсем не походила на вдову, и не было никаких признаков траура ни в ее одежде, ни в выражении лица. Капитан, правда, называл ее «мадам», но он, очевидно, незнаком с ней, так же как и с французскими обычаями, иначе в таком неясном случае он назвал бы ее «мадемуазель».
Хотя я был в ту пору еще незрелым, зеленым юнцом, как говорят американцы, я все же относился к женщинам с некоторым интересом, особенно если находил их красивыми. В данном случае мое любопытство объяснялось многими причинами. Во-первых, дама была на редкость привлекательна; во-вторых, меня заинтересовали ее манера говорить и те факты, которые я узнал из ее беседы с капитаном; в-третьих, если я не ошибался, она была креолкой.
Мне еще очень мало приходилось общаться с этими своеобразными людьми и хотелось узнать их поближе. Я слыхал, что они не расположены раскрывать свои двери перед заезжими англосаксами, особенно старая креольская знать, которая и поныне считает своих англо-американских сограждан чем-то вроде захватчиков и узурпаторов. Такая неприязнь укоренилась с давних времен. В наши дни она постепенно отмирает.
Четвертой причиной, подстегнувшей мое любопытство, был брошенный на меня дамой пристальный взгляд, в котором светилось больше, чем простое внимание.
Не спешите осудить меня за эту догадку. Сначала выслушайте меня. Я ни одной минуты не воображал, будто в этом взгляде сквозило восхищение. Мне это и в голову не приходило! Я был слишком молод в то время, чтобы тешить себя такими выдумками. К тому же я находился в самом плачевном положении. Оставшись с пятью долларами в кармане, я чувствовал себя очень неважно. Мог ли я воображать, что такая блестящая красавица, звезда первой величины, богатая владелица плантации, управляющего и толпы рабов, снизойдет до меня и станет заглядываться на такого бесприютного бродягу, как я?
Говорю истинную правду: я не обольщал себя подобными надеждами. Я решил, что с ее стороны это простое любопытство и больше ничего.
Она заметила, что я иностранец. Моя наружность, светлые глаза, покрой одежды, быть может, какая-то неловкость в моих манерах подсказали ей, что я чужой в этой стране, и возбудили в ней минутный интерес, самый невинный интерес к иностранцу, вот и все.
Однако ее взгляд еще больше разжег мое любопытство, и мне захотелось узнать хотя бы имя этого необыкновенного создания.
«Разузнаю у ее управляющего», — подумал я и направился к нему.
Это был высокий, худощавый седой француз, хорошо одетый и такой почтенный с виду, что его можно было принять за отца молодой дамы. Он держался с большим достоинством, что свидетельствовало о его долгой службе в знатной семье. Подойдя к нему, я понял, что у меня очень мало надежды на успех. Он был непроницаем, как рак-отшельник. Наш разговор был очень короток, его ответы односложны.
— Мсье, разрешите спросить, кто ваша хозяйка?
— Дама.
— Совершенно верно. Это сказал бы всякий, кто имел удовольствие видеть ее. Но я спрашиваю, как ее имя.
— Вам незачем знать его.
— Конечно, если у вас есть причина держать его в тайне.
— Черт возьми!
Этими словами, которые он пробормотал про себя, закончился наш разговор, и старый слуга отвернулся, наверно называя меня в душе назойливым янки.
Затем я обратился к черному кучеру, но и тут потерпел неудачу. Он вводил своих лошадей на пароход и, не желая мне отвечать, ловко увертывался от моих вопросов, бегая вокруг лошадей и притворяясь, что поглощен своим делом. Я не сумел выведать у него даже имя его госпожи и отошел совсем обескураженный.
Однако скоро случай помог мне узнать ее имя. Я вернулся на пароход и, снова усевшись под тентом, принялся наблюдать за матросами, которые, засучив рукава своих красных рубах и обнажив мускулистые руки, перетаскивали груз на судно. Это был тот самый груз, который только что прибыл на подводах, принадлежащих незнакомой даме. Он состоял главным образом из бочек со свининой и мукой, большого количества копченых окороков и кулей с кофе.
«Припасы для ее большого поместья», — подумал я.
В это время на сходни стали вносить груз совсем иного рода: кожаные чемоданы, портпледы, шкатулки из розового дерева, шляпные картонки и т. д.
«Ага, вот ее личный багаж», — решил я, продолжая дымить сигарой. Следя за погрузкой этих вещей, я случайно заметил какую-то надпись на большом кожаном саквояже. Я вскочил с кресла и подошел поближе. Взглянув на надпись, я прочел:
«Мадемуазель Эжени Безансон».
Глава 7
ОТПЛЫТИЕ
Последний удар колокола… Члены клуба «Не можем уехать»[23] устремляются с парохода на берег, сходни втаскивают, кому-то из зазевавшихся провожающих приходится прыгать на берег, чалы втягивают на борт и свертывают в бухты, в машинном отделении дребезжит звонок, громадные колеса крутятся, сбивая в пену бурую воду, пар свистит и клокочет в котлах и равномерно пыхтит, вырываясь из трубы для выпускания пара, соседние суда покачиваются, стукаются друг о друга, ломая кранцы, их сходни трещат и скрипят, а матросы громко переругиваются. Несколько минут продолжается это столпотворение, и наконец могучее судно выходит на широкий простор реки.
Пароход берет курс на север; несколько ударов вращающихся плиц — и течение побеждено: гордый корабль, подчиняясь силе машин, быстро рассекает волны и движется вперед, словно живое существо.
Бывает иногда, что пушечный выстрел возвещает о его отплытии; порой его провожают в дорогу звуки духового оркестра; но чаще всего с парохода раздается живая мелодия старой матросской песни, исполняемой хором грубых, но стройных голосов его команды.
Лафанет и Карролтон скоро остаются позади; крыши невысоких домов и складов скрываются за горизонтом, и только купол храма Святого Карла, церковные шпили да башни большого собора еще долго виднеются вдалеке. Но и они постепенно исчезают, а плавучий дворец плавно и величаво движется меж живописных берегов Миссисипи. Я сказал — живописных, но этот эпитет меня не удовлетворяет, хоть я и не могу подобрать другого, чтобы передать мое впечатление. Мне следовало бы сказать «величественных и прекрасных», чтобы выразить свое восхищение этими берегами. Я смело могу назвать их самыми красивыми на свете.
Я не смотрел на них холодным взором равнодушного наблюдателя. Я не умею отделять пейзаж от жизни людей — не только далекой жизни прошлых поколений, но и наших современников. Я смотрел на развалины замков на Рейне, и их история вызывала во мне отвращение к прошлому. Я смотрел на построенные там новые дома и их жителей и снова чувствовал отвращение, теперь уже к настоящему. В Неаполитанском заливе я испытал то же чувство, а когда бродил за оградой парков, принадлежащих английским лордам, я видел вокруг лишь нищету и горе, и красота их казалась мне обманом.
Только здесь, на берегах этой величественной реки, я увидел изобилие, широко распространенное образование и всеобщий достаток. Здесь почти в каждом доме я встречал тонкий вкус, присущий цивилизованным людям, и щедрое гостеприимство. Здесь я мог беседовать с сотнями людей независимых взглядов, людей, свободных не только в политическом смысле, но и не знающих мещанских предрассудков и грубых суеверий. Короче говоря, я мог здесь наблюдать если и не совершенную форму общества — ибо такой она будет лишь в далеком будущем, — то наиболее передовую форму цивилизации, которая в наши дни существует на земле.
Но вот на эту светлую картину ложится густая тень, и сердце мое сжимается oт боли. Это тень человека, имевшего несчастье родиться с черной кожей. Он раб!
На минуту все вокруг словно тускнеет. Чем мы можем восхищаться здесь, на этих полях, покрытых золотистым сахарным тростником, султанами кукурузы и белоснежным хлопком? Чем восторгаться в этих прекрасных домах, окруженных оранжереями, среди цветущих садов, тенистых деревьев и тихих беседок? Все это создано потом и кровью рабов!
Теперь я больше не восхищаюсь. Картина утратила свои яркие краски. Передо мной лишь мрачная пустыня. Я задумываюсь. Но вот постепенно тучи рассеиваются, кругом становится светлей. Я размышляю и сравниваю. Правда, здесь люди с черной кожей — рабы; по они не добровольные рабы, и это, во всяком случае, говорит в их пользу.
В других странах, в том числе и моей, я вижу вокруг таких же рабов, причем их гораздо больше. Рабов не одного человека, но множества людей, целого класса, олигархии. Они не холопы, не крепостные феодала, но жертвы заменивших его в наше время налогов, действие которых столь же пагубно.
Честное слово, я считаю, что рабство луизианских негров менее унизительно, чем положение белых невольников в Англии. Несчастный чернокожий раб был побежден в бою, он заслуживает уважения и может считать, что принадлежит к почетной категории военнопленных. Его сделали рабом насильно. Тогда как ты, бакалейщик, мясник и булочник, — да, пожалуй, и ты, мой чванливый торговец, считающий себя свободным человеком! — все вы стали рабами по доброй воле. Вы поддерживаете политические махинации, которые каждый год отнимают у вас половину дохода, которые каждый год изгоняют из страны сотни тысяч ваших братьев, иначе ваше государство погибнет от застоя крови. И все это вы принимаете безропотно и покорно. Более того, вы всегда готовы кричать «Распни его!» при виде человека, который пытается бороться с этим положением и прославляете того, кто хочет добавить новое звено к вашим оковам.
И сейчас, когда я пишу эти строки, разве человек, который презирает вас, который в течение сорока лет — всю свою жизнь — был вашим постоянным врагом, не стал вашим самым популярным правителем? Когда я пишу эти строки, яркие фейерверки ослепляют ваши глаза, хлопушки и шутихи услаждают ваш слух, и вы вопите от радости по поводу заключения договора, единственная цель которого — лишь крепче стянуть ваши цепи. А всего год тому назад вы горячо приветствовали войну, которая была так же противна вашим интересам, так же враждебна вашей свободе. Жалкое заблуждение![24] И сейчас я с еще большей уверенностью повторяю то, что говорил себе тогда: честное слово, рабство луизианских негров менее унизительно, чем положение белых невольников в Англии!
Правда, здесь черный человек — раб, и три миллиона людей его племени находятся в таком положении. Мучительная мысль! Но горечь ее смягчает сознание, что в этой обширной стране все же живет двадцать миллионов свободных и независимых людей. Три миллиона рабов на двадцать миллионов господ! В моей родной стране как раз обратная пропорция. Быть может, мой вывод неясен, но я надеюсь, что кое-кто поймет его смысл.
* * *
Ах, как приятно оторваться от этих волнующих и горьких мыслей для спокойных размышлений, навеянных природой! Как отрадно мне было отдаться множеству новых впечатлений, наблюдая жизнь на берегах этой величавой реки! Даже теперь я с удовольствием вспоминаю о них; и когда я думаю о далеком прошлом, о местах, которые, быть может, мне никогда уже не придется увидеть, я нахожу утешение в своей верной и ясной памяти, и ее магическая сила вызывает перед моим умственным взором прежние знакомые картины со всеми их живыми красками, со всеми переливами изумруда и золота.
Глава 8
БЕРЕГА МИССИСИПИ
Как только мы отчалили, я поднялся на штормовой мостик, чтобы лучше видеть места, по которым мы проезжали. Здесь я был один, так как молчаливый рулевой, стоявший в своей стеклянной будке, вряд ли мог сойти за собеседника.
Вероятно, читателю будет интересно узнать, что ширину Миссисипи часто преувеличивают. Здесь она достигает примерно полумили, иногда и больше, случается — и меньше. (Эту среднюю ширину она сохраняет на расстоянии более тысячи миль от своего устья.) Скорость ее течения равна трем-четырем милям в час, вода желтоватая, с чуть красноватым оттенком. Желтую окраску дает ей Миссури, тогда как более темный оттенок появляется после впадения в нее Ред-Ривер — Красной реки.
Поверхность реки густо покрыта плывущим по течению лесом; тут и отдельные деревья и большие скопления вроде плотов. Наскочить на такой плот довольно опасно для парохода, и рулевой старается их обойти. Иногда плывущий под водой ствол ускользает от его взора, и тогда сильный удар в нос судна сотрясает весь корпус, пугая неопытных пассажиров. Но опаснее всего коряги. Это вырванные с корнем деревья, намокшие и отяжелевшие. Их тяжелые корни опускаются на дно и застревают в иле, который крепко держит их на месте. Более легкая вершина с обломанными ветвями всплывает на поверхность, но течение не дает дереву выпрямиться и держит его в наклонном положении. Если вершина выступает из воды, опасность невелика, разве лишь в очень темную ночь. Но если она опустилась на один-два фута под воду, тогда коряга очень страшна. Пароход, идущий над ней против течения, почти наверняка погиб. Корни дерева, прочно засевшие в тине, не дают ему сдвинуться с места, а острые крепкие сучья пробивают обшивку судна, и оно может затонуть буквально в несколько минут.
Есть еще так называемый «пильщик»: это дерево, застрявшее на дне подобно коряге, но качающееся вверх и вниз по воле течения и напоминающее движения пильщика за работой — отсюда и его название. Судно, напоровшееся на такое дерево, иногда застревает на его сучьях, а бывает, и разламывается пополам от собственной тяжести.
По течению плыло много предметов, заинтересовавших меня. Стебли сахарного тростника, видимо уже отжатые в давильне (в сотне миль выше по течению я бы их не встретил), листья и початки кукурузы, тыквенные корки, пучки хлопка, доски от забора, иногда труп какого-нибудь животного с сидящим на нем ястребом или летающим вокруг черным стервятником.
Я находился в широтах, где водятся аллигаторы, но здесь эти большие ящеры встречаются редко — они предпочитают болотистые заводи или реки с дикими берегами. В быстром течении Миссисипи и на ее возделанных берегах путешественник редко увидит крокодила.
Пароход приближался то к одному, то к другому берегу. Они тут наносного и сравнительно недавнего происхождения. Это полоса земли шириной от сотни ярдов до нескольких миль, которая постепенно понижается, так что иногда кажется, что река течет по вершине длинного гребня. Дальше лежит пойма — заболоченная равнина, каждый год затопляемая рекой и состоящая из озер и топей, покрытых осокой и камышом. В некоторых местах эти дикие болота и трясины простираются миль на двадцать, а то и больше. Там, куда весенние воды доходят только во время разлива, равнина покрыта темными, почти непроходимыми лесами. Между обработанной полосой земли вдоль берега и широкой поймой темной стеной тянутся леса, образуя как бы задний план всего пейзажа и заменяя собой горные цепи, характерные для других стран. Эти леса состоят главным образом из гигантских кипарисов. Однако здесь встречаются и другие деревья, распространенные в этих краях, как, например, стираксовое дерево, виргинский дуб, рожковое дерево, нисса, тополь и многочисленные виды магнолий и дубов. Подлесок из карликовых пальм и разные виды тростника образуют густые заросли, а с ветвей деревьев свешивается длинной бахромой испанский мох — странный паразит, придающий лесу мрачный характер.
Между лесом и рекой лежат обработанные поля. В некоторых местах река течет на несколько футов выше их уровня, но поля защищены дамбой — искусственной насыпью, возведенной на обоих берегах, которая тянется на несколько сот миль от устья.
Тут выращивают сахарный тростник, рис, табак, хлопок, индиго и кукурузу. На полях работают партии черных невольников в полосатых и ярких одеждах, чаще всего голубого цвета. Я вижу большие фургоны, запряженные мулами или быками: они выезжают с полей или медленно двигаются вдоль берега. Вижу, как стройный креол в хлопчатобумажной куртке и ярко-синих штанах скачет верхом на небольшой испанской лошадке по прибрежной дороге. Вон богатая усадьба плантатора, окруженная апельсиновыми рощами, большой дом с зелеными жалюзи, прохладными верандами и красивой оградой. Дальше — огромный сарай для сахарного тростника или навес для табака, или склад для хлопка; а возле них множество чистеньких деревянных хижин, сбившихся в кучу или растянувшихся в ряд, словно купальни на модном курорте.
Теперь мы плывем мимо плантации, куда съехались гости и идет шумное веселье — по-видимому, это местный праздник. В тени деревьев стоит много оседланных лошадей, среди них немало под дамскими седлами. На веранде, на лужайке перед домом и в апельсиновой роще гуляют мужчины и дамы в нарядных платьях. Слышится музыка, пары танцуют на открытом воздухе. И я невольно завидую этим счастливым креолам и их беззаботной жизни аркадских пастушков.
* * *
Картины одна другой живописнее проходят у меня перед глазами, разворачиваясь в красочную панораму. Захваченный этим зрелищем, я на время забыл про Эжени Безансон.
Глава 9
ЭЖЕНИ БЕЗАНСОН
Нет, неправда, я не забыл Эжени Безансон. Ее нежный образ не раз мелькал в моем воображении, и я невольно связывал его с местами, мимо которых мы проезжали и где она, наверно, родилась и выросла. А веселый праздник, в котором принимало участие много девушек-креолок, снова на— помнил мне о ней, и, спустившись со штормового мостика, я вошел в салон, надеясь опять увидеть заинтересовавшую меня незнакомку.
Однако сначала меня постигло разочарование. Большая стеклянная дверь в дамский салон была закрыта, и хотя в общем салоне было много дам, но среди них не оказалось прелестной креолки. Дамское отделение, расположенное на корме судна, считается святилищем, куда допускаются только те мужчины, у кого там есть знакомые, да и то лишь в определенные часы.
Я не принадлежал к числу таких счастливцев. Среди более сотни пассажиров судна я не знал ни одной души — ни мужчины, ни женщины: к счастью или к несчастью, но и меня никто не знал. При таких обстоятельствах мое появление в дамском салоне считалось бы нарушением приличий; поэтому я уселся в общем салоне и принялся наблюдать моих спутников.
Это была очень смешанная публика. Тут собрались богатые торговцы, банкиры, биржевые маклеры и комиссионеры из Нового Орлеана с женами и дочерьми, каждое лето уезжавшие на север, чтобы укрыться от желтой лихорадки и отдаться более приятной эпидемии — жизни на модном курорте. Были и владельцы хлопковых и кукурузных плантаций, расположенных выше по течению реки, возвращавшиеся домой, и мелкие торговцы из северных городов, и плотогоны. В холщовых штанах и красных фланелевых рубахах они сплавляли плоты за две тысячи миль вниз по течению и теперь возвращались обрат— но, разодетые в новенькие костюмы из черного сукна и белоснежные рубашки. Какими щеголями вернутся они домой, к истокам Солт-Ривер, Камберленда, Ликинга или Майами! Были здесь и креолы, старые виноторговцы из французского квартала, со своими семьями; костюмы их отличались живописностью: пышные жабо, собранные у пояса панталоны, светлые прюнелевые башмаки и массивные драгоценности.
Попадались тут и расфранченные приказчики, которым разрешили покинуть Новый Орлеан на жаркие месяцы, и еще более богато одетые молодые люди, в костюмах из тончайшего сукна, в белоснежных рубашках с кружевными жабо, особенно крупными брильянтами на запонках и толстыми перстнями на пальцах. Это были так называемые «охотники». Они собрались вокруг стола в курительной комнате; один из них вытащил уже из кармана новенькую колоду карт, выдававшую их истинную профессию.
Среди них я заметил и того детину, который так развязно предлагал мне держать пари. Он несколько раз прошел мимо меня, бросая в мою сторону взгляды, которые никак нельзя было назвать дружелюбными.
Наш знакомец управляющий тоже сидел здесь. Не думайте, что должность дворецкого или управляющего лишала его права находиться в салоне первого класса. На американских пароходах нет салона второго класса. Миссисипи — это далекий запад, и тут не знают такого разделения.
Надсмотрщики с плантаций обычно люди грубые, этого требует их профессия. Однако этот француз был явным исключением. Он казался очень почтенным старым господином. Мне нравилась его внешность, и я чувствовал к нему симпатию, хотя он, видимо, не разделял моих чувств.
* * *
Кто-то из присутствующих пожаловался на москитов и попросил открыть дверь в дамский салон. Несколько человек — и дамы и мужчины — поддержали эту просьбу. Это ответственное дело доверялось лишь стюарду. Обратились к нему. Просьба была обоснованна, а потому ее следовало удовлетворить, и вскоре двери в «рай» раскрылись. Легкий сквозной ветерок подул вдоль длинного салона от носа к корме судна; не прошло и пяти минут, как в нем не осталось ни одного москита, кроме тех, что укрылись от сквозняка в каютах. Для пассажиров это было большим облегчением.
Стеклянную дверь разрешили держать открытой, что было приятно для всех, но особенно для кучки расфранченных приказчиков, которые могли теперь беспрепятственно осматривать внутренность «гарема». Многие из них, как я заметил, воспользовались этой возможностью; они не глазели туда открыто, так как это сочли бы дерзостыо, но искоса посматривали в святилище или, делая вид, будто читают, бросали туда взгляд поверх книги, или ходили взад и вперед по салону и, приближаясь к запретной границе, как бы невзначай заглядывали внутрь. У некоторых там, видимо, были знакомые, однако не такие близкие, чтобы это давало им право войти; другие были не прочь завязать знакомство, если представится случай. Я перехватил несколько выразительных взглядов, а иногда и ответных улыбок, свидетельствующих о взаимном понимании. Часто нежная мысль передается без слов. Язык порой приносит нам горькое разочарование. Не раз бывал я свидетелем того, как он разрушал совсем уже созревший молчаливый договор двух любящих сердец.
Меня забавляла эта безмолвная пантомима, и я сидел несколько минут, наблюдая ее. Поддавшись общему любопытству, я и сам время от времени не— вольно заглядывал в дамский салон. Я вообще люблю наблюдать. Все новое интересует меня, а эта жизнь в салоне американского парохода была мне совершенно незнакома и казалась очень занятной. Мне хотелось ближе познакомиться с ней. Быть может, меня интересовало и еще кое-что: я надеялся снова увидеть молодую креолку Эжени Безансон.
Мое желание вскоре исполнилось: я увидел ее. Она вышла из своей каюты и прогуливалась по салону, изящная и оживленная. Теперь на ней не было шляпы; ее густые золотистые волосы были уложены на китайский манер — прическа, принятая и у креолок. Пышные волосы, собранные тяжелым узлом на затылке, оставляли открытыми благородный лоб и стройную шею, что ей очень шло. Белокурые волосы и светлая кожа почти не встречаются у креолов. Обычно волосы у них черные, а кожа смуглая; но Эжени Безансон составляла редкое исключение.
Несмотря на кокетливое, почти легкомысленное выражение ее лица, чувствовалось, что за этой внешностью скрывается сильный характер. Она была прекрасно сложена, а лицо ее хоть и не отличалось классической правильностью черт, однако принадлежало к тем лицам, на которые нельзя смотреть без восхищения.
По-видимому, она знала некоторых своих попутчиц, так как непринужденно разговаривала с ними. Впрочем, женщины быстро сходятся, а француженки — особенно.
Нетрудно было заметить, что говорившие с ней пассажирки относились к ней с уважением. Быть может, они уже знали, что ей принадлежит изящный экипаж с лошадьми. Весьма возможно!
Я продолжал следить за этой интересной дамой. Я не мог назвать ее девушкой, ибо, несмотря на свою молодость, креолка производила впечатление особы, имеющей жизненный опыт. Держалась она очень свободно и, казалось, могла распоряжаться собой и всем, что ее окружает.
«Какой у нее беззаботный вид! — подумал я. — Эта женщина не влюблена!»
Не могу объяснить, что привело меня к такому заключению и отчего оно доставило мне удовольствие, однако это было так. Почему? У нас с ней не было ничего общего. Она стояла настолько выше меня, что я едва осмеливался на нее взглянуть. Я считал ее каким-то высшим существом и лишь из— редка бросал на нее робкие взгляды, как смотрел бы на красавицу в церкви. Конечно, у нас с ней не было ничего общего. Через час уже стемнеет, а ночью она сойдет на берег, и я больше никогда ее не увижу. Я буду думать о ней еще час или два, а может, и день, и чем больше буду сидеть и смотреть на нее, как глупец, тем дольше буду думать. Я сам плел себе сети, зная, что стану вздыхать о ней и после того, как она сойдет на берег.
Тут я решил бежать от этих чар и вернулся к своим наблюдениям на штормовом мостике. Еще один взгляд на прелестную креолку — и я уйду.
В эту минуту она опустилась в кресло, так называемую качалку, и ее движения еще раз подчеркнули красоту и пропорциональность ее сложения. Оказавшись лицом к открытой двери, она в первый раз взглянула в мою сторону. И, клянусь, она опять посмотрела на меня так же, как и в первый раз! Что означал этот странный взгляд, эти горящие глаза? Она не сводила с меня пристального взора, а я не смел отвечать ей тем же.
* * *
С минуту ее глаза были прикованы ко мне и смотрели не отрываясь. Я был слишком молод в ту пору, чтобы понять их выражение. Позже я сумел бы его разгадать, но не тогда.
Наконец она встала со своего места с недовольным видом, словно досадуя не то на себя, не то на меня, круто повернулась и, отворив дверь, вошла в свою каюту.
Мог ли я чем-нибудь оскорбить ее? Нет! Ни словом, ни жестом, ни взглядом! Я не произнес ни звука, даже не пошевелился, и мой застенчивый взор никак нельзя было назвать дерзким.
Я был очень озадачен поведением Эжени Безансон и, в полной уверенности, что никогда больше ее не увижу, поспешил уйти из салона и снова забрался на штормовой мостик.
Глава 10
НОВЫЙ СПОСОБ ПОДНИМАТЬ ПАРЫ
Время близилось к закату; огненный диск опускался за черную стену кипарисов, опоясавшую равнину с запада, и бросал на реку золотистый отблеск. Прогуливаясь взад и вперед по обтянутой брезентом крыше, я смотрел на эту картину, любуясь ее сверкающей красотой.
Но вскоре мои мечтания были прерваны. Взглянув на реку, я увидел, что нас догоняет большой пароход. Густой дым, валивший из его высоких труб, и яркий огонь в топках показывали, что он идет на всех парах. Как его размеры, так и громкое пыхтенье говорили о том, что это первоклассный пароход. То была «Магнолия». Она шла очень быстро, и вскоре я увидел, что она нас нагоняет.
В ту же минуту до меня донесся снизу разноголосый шум. Громкие, сердитые выкрики сливались с шарканьем и топаньем многих ног, бегущих по дощатой палубе. К этой суматохе примешивались и более резкие женские голоса.
Я сразу догадался, что это значит. Переполох был вызван появлением парохода-соперника.
До этого времени о соперничестве пароходов почти забыли. Как команда судна, так и пассажиры уже знали, что капитан не собирается устраивать гонки, и хотя этот «выход из игры» вначале вызвал громкое осуждение, однако постепенно общее недовольство улеглось.
Команда была занята укладкой груза, кочегары — дровами и топками, игроки — картами, а пассажиры — своими чемоданами или свежими газетами. Второй пароход отплывал позже, его потеряли из виду, и мысли о гонке вы— летели у всех из головы.
Появление соперника сразу всех взбудоражило. Картежники бросили недосданную колоду карт, надеясь начать более азартную игру; читатели поспешно отложили книги и газеты; пассажиры, рывшиеся в своих чемоданах, быстро захлопнули крышки; а прелестные пассажирки, сидевшие в качалках, вскочили с мест; все выбежали из кают и столпились на корме.
Штормовой мостик, на котором я стоял, был лучшим местом для наблюдения за приближавшимся судном, и вскоре многие пассажиры присоединились ко мне. Но мне захотелось посмотреть, что делается на верхней палубе, и я спустился вниз.
Войдя в общий салон, я увидел, что он совсем опустел. Все пассажиры, и дамы и мужчины, высыпали на палубу и, столпившись вдоль бортов, с тревогой смотрели на подходившую «Магнолию».
Я нашел капитана под тентом, на носу парохода. Его окружала толпа чрезвычайно возбужденных пассажиров. Все они кричали наперебой, стараясь убедить его ускорить ход судна.
Капитан, видимо пытаясь отделаться от этих назойливых просителей, расхаживал взад и вперед по палубе. Бесполезно! Куда бы он ни направлялся, его тотчас окружала толпа людей, приставая все с той же просьбой; некоторые даже умоляли его «ради всего святого» не дать «Магнолии» их обогнать.
— Ладно, капитан! — кричал один. — Если «Красавица» сдрейфит, пусть не показывается больше в наших местах, так и знайте!
— Правильно! — кричал другой. — Уж я-то в следующий раз поеду только на «Магнолии»!
— «Магнолия» — вот быстроходное судно! — воскликнул третий.
— Еще бы! — подхватил первый. — Там не жалеют пара, сразу видно!
Я пошел вдоль борта по направлению к дамским каютам. Их владелицы теснились у поручней и были, видимо, не менее взволнованы происходящим, чем мужчины. Я слышал, как многие из них выражали желание, чтобы гонка состоялась. Всякая мысль о риске и опасности вылетела у всех из головы. И я уверен, что, если бы вопрос о гонке был поставлен на голосование, против нее не нашлось бы и трех голосов. Признаюсь, что я и сам голосовал бы за гонку; меня заразило общее возбуждение, и я уже не думал о корягах, «пильщиках» и взрывах котлов.
С приближением «Магнолии» общее возбуждение росло. Было совершенно ясно, что через несколько минут она догонит, а вскоре и опередит нас. Многие пассажиры не могли примириться с этой мыслью, кругом слышались сердитые возгласы, а иногда и злобные проклятия. Все это сыпалось на голову бедного капитана, так как пассажиры знали, что его помощники были за состязание. Один капитан праздновал труса.
«Магнолия» была уже у нас за кормой; ее нос слегка отклонился в сторону; она явно собиралась нас обойти.
Вся ее команда деловито сновала по палубе. Рулевой стоял наверху в рулевой рубке, кочегары суетились около котлов; дверцы топок накалились докрасна, и яркое пламя высотой в несколько футов вырывалось из громадных дымовых труб. Можно было подумать, что судно горит.
— Они топят окороками! — закричал один из пассажиров.
— Верно, черт побери! — воскликнул другой. — Смотрите, вон перед топкой их навалена целая куча!
Я посмотрел в ту сторону. Это была правда. На палубе перед пылающей топкой лежала гора каких-то темнокоричневых предметов. По их величине, форме и цвету можно было заключить, что это копченые свиные окорока. Мы видели, как кочегары хватали их один за другим и бросали в пылающие жерла топок.
«Магнолия» быстро догоняла нас. Ее нос уже поравнялся с рулевой рубкой «Красавицы». На нашем судне волнение и шум все увеличивались. С нагонявшего нас судна слышались насмешки пассажиров, и от этого страсти разгорались еще больше. Капитана заклинали принять вызов. Мужчины осаждали его; казалось, вот-вот начнется драка.
«Магнолия» продолжала идти вперед. Она шла уже с нами наравне, нос с носом. Прошла минута в глубоком молчании. Пассажиры и команды обоих судов следили за их движением, затаив дыхание. Еще минута — и «Магнолия» вырвалась вперед!
Громкий, торжествующий крик раздался с ее палубы, а затем на нас посыпались насмешки и оскорбления.
— Бросайте конец — мы возьмем вас на буксир!
— Где уж вашему ковчегу угнаться за нами!
— Да здравствует «Магнолия»! Прощай, «Красавица»! Прощай, старая развалина! — вопили пассажиры «Магнолии» среди взрывов оглушительного смеха.
Я не могу передать вам, какое унижение испытывали все, кто был на борту «Красавицы». Не только команда, но и пассажиры, все как один, переживали это чувство. Я и сам испытывал его гораздо сильнее, чем мог себе представить.
Никому не нравится быть в лагере побежденных, хотя бы он и оказался там случайно: кроме того, всякий невольно поддается общему порыву. Настроение окружающих — быть может, в силу какого-то физического закона, которому вы не можете противиться, — сразу передается и вам. Даже когда вы знаете, что ликование нелепо и бессмысленно, вас пронизывает какой-то ток, и вы невольно примыкаете к восторженной толпе.
Я помню, как однажды, охваченный таким порывом, присоединил свой голос к крикам толпы, во всю глотку приветствовавшей королевский кортеж. Прошла минута, возбуждение мое остыло, и я устыдился своей слабости и податливости.
И команда и пассажиры, видимо, считали, что капитан, при всем своем благоразумии, сделал большой промах. Кругом стоял ужасный шум, и крики: «Позор!» — неслись по всему судну.
Бедный капитан! Все это время я не сводил с него глаз. Мне было его очень жалко. Я был, вероятно, единственным пассажиром, кроме прелестной креолки, знавшим его тайну, и я не мог не восхищаться, с какой рыцарской стойкостью он держит свое слово.
Я видел, как пылали его щеки и гневно сверкали глаза. Если бы его попросили дать это обещание сейчас, он, надо думать, не согласился бы даже за все перевозки по Миссисипи.
В эту минуту, стараясь укрыться от осаждавших его пассажиров, он проскользнул на корму через дамский салон. Но и тут его сейчас же заметили и атаковали представительницы прекрасного пола, не уступавшие в настойчивости мужчинам. Некоторые насмешливо кричали, что никогда больше не сядут на его пароход, другие обвиняли его в неучтивости. Подобные обвинения могли хоть кого вывести из себя.
Я пристально следил за капитаном, чувствуя, что наступает решительный момент. Что-то должно было произойти.
Выпрямившись во весь рост, капитан обратился к толпе осаждавших его дам:
— Сударыни! Я и сам был бы счастлив, если бы мог удовлетворить вашу просьбу, но перед отъездом из Нового Орлеана я обещал… я дал честное слово одной даме…
Но тут любезная речь капитана была прервана молодой особой, которая бросилась к нему с криком:
— Ах, капитан! Дорогой капитан! Не позволяйте этому мерзкому пароходу обойти нас! Дайте больше пару и обгоните его! Умоляю вас, дорогой капитан!
— Как, сударыня?! — ответил пораженный капитан. — Ведь это вам я дал слово не устраивать гонок. А вы…
— Боже мой! — воскликнула Эжени Безансон, ибо то была она. — И правда! Я совсем забыла!.. Ах, дорогой капитан, я возвращаю вам ваше слово… Увы! Надеюсь, что еще не поздно! Ради всего святого, постарайтесь его обогнать! Слышите, как они издеваются над нами?
Лицо капитана просияло, но сразу опять омрачилось.
— Благодарю вас, сударыня, — возразил он. — К сожалению, должен сказать, что теперь уж нет надежды обогнать «Магнолию». Мы с ней в неравном положении. Она бросает в топки копченые окорока, которые заготовила на этот случай, а я после того, как обещал вам не участвовать в гонках, не погрузил ни одного. Бессмысленно начинать гонку только на дровах, разве что «Красавица» гораздо быстроходнее «Магнолии», но мы этого не знаем, так как никогда не испытывали ее скорость.
Положение казалось безвыходным, и многие дамы бросали на Эжени Безансон враждебные взгляды.
— Окорока! — воскликнула она. — Вы сказали — копченые окорока, дорогой капитан? Сколько вам нужно? Хватит двухсот штук?
— О, это больше, чем надо, — ответил капитан.
— Антуан! Антуан! Подите сюда! — закричала она старику-управляющему.
— Сколько окороков вы погрузили на пароход?
— Десять бочек, сударыня, — ответил управляющий, почтительно кланяясь.
— Десяти бочек хватит, правда? Дорогой капитан, они в вашем распоряжении!
— Сударыня, я уплачу за них, — сказал капитан с просветлевшим лицом, загораясь всеобщим воодушевлением.
— Нет, нет, нет! Расходы я беру на себя. Это я помешала вам сделать запасы. Окорока были куплены для моих людей на плантации, но они им пока не нужны. Мы пошлем за другими… Ступайте, Антуан! Идите к кочегарам! Разбейте бочки! Делайте с ними что хотите, только не дайте этой противной «Магнолии» нас победить!.. Смотрите, как они радуются! Ну ничего, мы их скоро обгоним!
С этими словами горячая креолка бросилась к поручням парохода, окруженная толпой восхищенных пассажирок.
Капитан сразу ожил. Рассказ об окороках мгновенно облетел весь пароход и еще больше разжег возбуждение и пассажиров и команды. В честь молодой креолки прогремело троекратное «ура», что очень удивило пассажиров «Магнолии», которые уже несколько минут наслаждались своим торжеством и обгоняли нас все больше и больше.
На «Красавице» все горячо взялись за работу. Выкатили бочки, выбили у них днища, окорока свалили на палубу перед топками и стали кидать их в огонь. Чугунные стенки топок скоро покраснели, давление пара увеличилось, пароход дрожал от усиленной работы машин, судовой звонок надрывался, давая сигналы, колеса вертелись все быстрей, и пароход заметно увеличил скорость.
Надежда на успех угомонила пассажиров. Крики смолкли, и наступила относительная тишина. Слышались отдельные замечания о скорости пароходов, заключались новые пари, а кое-кто еще вспоминал историю с окороками.
Все взоры были устремлены на реку и пристально следили за расстоянием между пароходами.
Глава 11
ГОНКА ПАРОХОДОВ НА МИССИСИПИ
Тем временем уже совсем стемнело. На небе не было ни луны, ни звезд. В низовьях Миссисипи ясные ночи выпадают не так-то часто. Туман, поднимающийся с болот, обычно заволакивает ночное небо.
Однако для гонки света было достаточно. Желтоватая вода блестела светлой полосой на фоне темных берегов. Фарватер был широкий, а рулевые обоих судов, старые речные волки, прекрасно знали каждый проток и каждую мель на реке.
Пароходы-соперники были на виду друг у друга. Можно было и не вывешивать никаких фонарей, хотя на гафеле каждого судна горел сигнальный огонь. Окна кают на обоих судах были залиты светом, а отблеск огня из топок, где ярко пылали окорока, ложился на водную гладь длинной сверкающей полосой.
На том и на другом пароходе пассажиры выглядывали из окон кают или стояли, свесившись за борт, всячески выражая свой живой интерес.
К тому времени, как «Красавица» развела пары, «Магнолия» опередила ее не меньше чем на полмили. Ничтожное расстояние, если один пароход значительно быстроходнее другого, но когда суда идут с почти равной скоростью, его очень трудно преодолеть. Поэтому прошло довольно много времени, прежде чем команда «Красавицы» убедилась в том, что мы нагоняем «Магнолию». Это довольно трудно определить на воде, когда одно судно следует за другим. Пассажиры поминутно задавали вопросы команде судна и друг другу и строили всевозможные предположения на эту интересную тему.
Наконец капитан заявил, что мы нагнали «Магнолию» на несколько сот ярдов. Его слова вызвали бурную радость, впрочем не вполне единодушную, так как на борту «Красавицы» нашлись и такие отступники, которые держали пари за «Магнолию».
Прошел еще час, и всем стало ясно, что наше судно нагоняет соперника, ибо между ними осталось уже меньше четверти мили. Четверть мили на спокойной воде — небольшое расстояние, и пассажиры обоих судов могли громко переговариваться между собой. Этим сейчас же воспользовались пассажиры «Красавицы», чтобы отплатить своим противникам. На них посыпались нас— мешки, и все их прежние оскорбления были возвращены с лихвой.
— У кого есть поручения в Сент-Луис? Мы скоро там будем и готовы вам услужить! — кричал один.
— Ура, «Красавица»! Вот это молодчина! — вопил другой.
— Хватит ли вам окороков? — спрашивал третий. — Мы можем дать вам взаймы несколько штук!
— Что отвечать, если нас спросят, где вы задержались? — кричал четвертый. — Мы скажем — в Черепашьей гавани!
Громкий взрыв хохота встретил эту шутку.
* * *
Приближалась полночь, но ни один человек на обоих пароходах и не помышлял об отдыхе. Увлеченные гонкой пассажиры и думать забыли о сне. Все, и мужчины и женщины, стояли на палубе или поминутно выходили из ка— ют взглянуть на ход состязания. От возбуждения у пассажиров, как видно, пересохло в горле, и многие уже были навеселе. Команда не отставала от них, и даже капитан был не совсем трезв. Никто не осуждал его за это, мысли об осторожности вылетели у всех из головы.
Приближается полночь. Машины лязгают и грохочут, а пароходы все идут вперед. Кругом стоит густой мрак, но никого это не смущает. Ярко пылают топки; над высокими трубами полыхает багровое пламя; пар гудит и воет в котлах; громадные плицы колес сбивают в пену темную воду; деревянный каркас судна дрожит и стонет от напряжения, а пароходы рвутся вперед.
Наступает полночь. Теперь между пароходами остается всего каких-нибудь двести ярдов. «Красавица» уже качается на волнах «Магнолии». Еще десять минут — и ее нос поравняется с кормой соперницы! Еще двадцать минут — и торжествующий крик на ее палубе прокатится вдоль берегов.
* * *
Я стоял около капитана и поглядывал на него с некоторой тревогой. Мне было неприятно, что он так часто спускается в буфет и уже сильно захмелел. Он только что вернулся на свое место у рулевой рубки и пристально смотрел вперед. На правом берегу реки, примерно в миле перед нами, показалось несколько мерцающих огоньков. Увидев их, он вздрогнул и воскликнул с сердцем:
— Черт возьми! Ведь это Бринджерс!
— Да-а, — протянул рулевой из-за его плеча. — Быстро мы добрались до него, прямо сказать.
— Боже мой! Теперь я проиграю гонку!
— Почему? — спросил тот, не понимая. — При чем здесь гонка?
— Я должен тут пристать. Мне придется… Я должен высадить даму, которая дала нам окорока!
— Вон оно что! — отозвался флегматичный рулевой. — А ведь чертовски жалко! — добавил он. — Ну что ж, раз надо, так надо… Ах, будь ты проклят! Ведь мы вот-вот обставили бы их. Верно, капитан?
— Ничего не поделаешь, — ответил капитан. — Поворачивай к берегу.
Отдав этот приказ, он быстро спустился вниз. Видя, как он возбужден, я последовал за ним. На палубе против рубки стояла кучка дам, среди которых была и молодая креолка.
— Сударыня, — сказал, обращаясь к ней, капитан, — несмотря ни на что, мы все-таки проиграем гонку!
— Почему? — спросила она удивленно. — Вам не хватает окороков?.. Антуан! Вы достали все, что было?
— Нет, сударыня, — возразил капитан, — не в этом дело. Благодарю вас за щедрость. Но вы видите эти огоньки?
— Вижу. Так что же?
— Это Бринджерс.
— Вот как! Уже?
— Да. Здесь я должен вас высадить.
— И из-за этого проиграете гонку?
— Конечно.
— Тогда, разумеется, я не сойду здесь на берег. Что для меня один день? Я не так стара, чтобы бояться потерять лишний день понапрасну. Ха-ха-ха! Я не допущу, чтоб вы из-за меня погубили репутацию вашего прекрасного судна! И не думайте приставать, дорогой капитан! Довезите меня до Батон Ружа, а утром я вернусь домой.
Вокруг послышались крики одобрения, а капитан бросился обратно к рулевому, чтобы отметить свое приказание.
* * *
«Красавица» по-прежнему следует за «Магнолией», и между ними по-прежнему около двухсот ярдов. Грохот машин, гудение пара, удары плиц по воде, треск обшивки и крики людей на палубе сливаются в оглушительный концерт.
Вперед мчится «Красавица», вперед, вперед — и, несмотря на все усилия «Магнолии», догоняет ее. Ближе, еще ближе — и вот ее нос сравнялся с кормой соперницы.
Вот он уже против рулевой рубки, вот уже против штормового мостика, вот против конца верхней палубы! Теперь их огни сливаются в одну линию и вместе отражаются в воде — они идут нос с носом!
Еще минута — «Красавица» вырывается еще на фут вперед, капитан машет фуражкой, и громкий крик торжества раздается над рекой.
* * *
Этот крик не успел отзвучать. Едва он разнесся в полуночной тиши, как его прервал оглушительный взрыв, словно целый пороховой склад взлетел на воздух. Он потряс небо, землю и воду! Раздался треск, во все стороны посыпались доски, люди с пронзительными криками взлетели вверх, дым и пар застлали все кругом, и ужасный вопль сотен голосов раздался во мраке ночи.
Глава 12
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОЯС
Сотрясение неслыханной силы сразу же объяснило мне причину катастрофы. Я решил, что у нас взорвались паровые котлы, и не ошибся.
В момент взрыва я стоял около своей каюты. Если бы я не держался за поручни, то, наверно, вылетел бы от толчка за борт. Сам не сознавая, что делаю, я вернулся, шатаясь, в каюту, а из нее прошел через другую дверь в общий салон.
Здесь я остановился и огляделся вокруг. Вся передняя часть судна была окутана дымом, и в салон врывался горячий, обжигающий пар. Боясь, что он настигнет меня, я бросился на корму, которая, к счастью, была обращена к ветру, сдувавшему с нее опасный пар.
Машина теперь умолкла, колеса не вращались, выпускная труба перестала пыхтеть, но вместо этого шума слышались другие ужасные звуки. Крики, ругань, проклятия мужчин, пронзительные вопли женщин, стоны раненых с нижней палубы, мольбы о помощи сброшенных в воду и тонущих людей — все сливалось в отчаянный вопль. Как он был не похож на тот ликующий крик, который только что звучал на устах тех же людей!
Дым и пар скоро начали рассеиваться, и я мог разглядеть, что делается на носу парохода. Там был полный хаос. Курительная комната, буфет со всем его содержимым, передний тент и правая сторона рулевой рубки совсем исчезли, как будто под ними взорвалась мина, а высокие трубы опрокинулись и лежали на палубе. С первого взгляда я понял, что капитан, рулевой и все, кто находился в этой части парохода, погибли.
Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и я не стал на них задерживаться. Я чувствовал, что остался цел и невредим, и моим первым естественным побуждением было постараться спасти свою жизнь. Я сохранил присутствие духа и понимал, что второго взрыва быть не может, но видел, что пароход серьезно поврежден и сильно накренился набок. Долго ли он продержится на воде?
Не успел я задать себе этот вопрос, как тотчас же получил ответ. Рядом послышался отчаянный крик:
— О Боже! Мы тонем! Тонем!..
Вслед за ним раздался другой крик: «Пожар!» — и в ту же минуту длинные языки пламени вырвались из глубины судна и взметнулись высоко вверх, до самого штормового мостика. Было ясно, что судно недолго будет нашим убежищем: нам предстояло либо сгореть на нем, либо пойти с ним ко дну.
Все мысли оставшихся в живых устремились к «Магнолии». Я тоже посмотрел ей вслед и увидел, что она дала задний ход и прилагает все усилия, чтобы скорей повернуть обратно: однако она уже была от нас на расстоянии нескольких сот ярдов. Когда наш пароход собирался пристать к Бринджерсу, он повернул в сторону от «Магнолии», и хотя в момент катастрофы они стояли на одной линии, их разделяла широкая полоса воды. Теперь «Магнолия» находилась от нас за добрую четверть мили, и было ясно, что пройдет немало времени, пока она приблизится к нам. Сможет ли искалеченная «Красавица» продержаться это время на воде?
С первого взгляда я убедился, что нет. Я чувствовал, как палуба опускается подо мной все ниже и ниже, а пламя уже угрожало ее корме; огненные языки лизали деревянную отделку роскошного салона, и она вспыхивала, как солома. Нельзя было терять ни минуты! Оставалось либо самому броситься в воду, либо пойти ко дну вместе с судном, либо сгореть. Иного выхода не было.
Вы, вероятно, думаете, что я был смертельно испуган. Однако вы ошибаетесь. Я совсем не боялся за свою жизнь. И не потому, что отличался необыкновенной храбростью, а потому, что надеялся на свои силы. Довольно беспечный по натуре, я никогда не был фаталистом. Мне не раз случалось спасаться от смерти благодаря присутствию духа, сильной воле и находчивости. Поэтому я не был суеверным, не верил в судьбу и не полагался на авось, и если не ленился, то принимал необходимые меры предосторожности, чтобы избежать опасности.
Именно так я и поступил на этот раз. В моем чемодане лежало очень простое приспособление, которое я обычно вожу с собой: спасательный пояс. Я всегда держу его сверху, под рукой. Требуется не больше минуты, чтобы надеть его, а в нем я не боялся утонуть в самой широкой реке и даже в море. Уверенность в этом, а вовсе не исключительная храбрость придавала мне спокойствие.
Я побежал обратно в свою каюту, открыл чемодан и через секунду уже держал в руках пробковый пояс. Еще секунда — и я надел его через голову и прочно завязал шнурки.
Надев пояс, я остался в каюте и решил не выходить из нее, пока судно не накренится еще ближе к воде. Оно погружалось очень быстро, и я был уверен, что мне недолго придется ждать. Дверь, ведущую в салон, я запер на ключ, а другую оставил приоткрытой, но крепко держал ее за ручку.
Я недаром прятался в каюте: мне не хотелось попадаться на глаза охваченным паникой пассажирам, которые, не помня себя, метались по палубе, — я боялся их гораздо больше, чем реки. Я знал, что стоит им увидеть спасательный пояс, как они тотчас окружат меня, и тогда у меня не останется никакой надежды на спасение: десятки несчастных бросятся за мной в воду, будут цепляться за меня со всех сторон и потащат за собой на дно.
Я знал это и, крепко придерживая дверь, стоял и молча смотрел в щель.
Глава 13
Я РАНЕН
Не прошло и нескольких минут, как перед моей дверью остановились какие-то люди и я услышал знакомые голоса.
Взглянув в щель, я тотчас узнал их: это были молодая креолка и ее управляющий.
Нельзя сказать, что они вели связный разговор, — это были лишь отрывочные восклицания смертельно испуганных людей. Старик собрал несколько стульев и трясущимися руками пытался связать их вместе, чтобы сделать какое-то подобие плота. Вместо веревки у него был носовой платок и несколько шелковых лент, которые его хозяйка сорвала со своего платья. Если бы ему и удалось связать плот, он, пожалуй, не выдержал бы и кошки. Это была жалкая попытка тонущего человека схватиться за соломинку. С первого взгляда я понял, что такой плот и на минуту не отсрочит их гибели. Стулья были из тяжелого палисандрового дерева и, вероятно, пошли бы ко дну от собственной тяжести.
Эта сцена привела меня в смятение. Она разбудила во мне самые противоречивые чувства. Передо мной стоял выбор — спасать себя или оказать помощь ближнему. Если бы я не надеялся при этом сберечь и свою жизнь, боюсь, что я послушался бы инстинкта самосохранения.
Но, как я уже говорил, за себя я не боялся, и передо мной стоял лишь вопрос: удастся ли мне, не рискуя собой, спасти жизнь и этой даме? Я быстро все обдумал. Спасательный пояс был очень мал, он не мог выдержать нас обоих. Что, если я отдам его ей, а сам поплыву рядом? Я мог бы иногда браться за него — мне этого достаточно, чтобы долго продержаться на воде. Ведь я хороший пловец. Далеко ли до берега?
Я посмотрел в ту сторону. Пылающее судно бросало вокруг яркий свет и далеко освещало реку. Я ясно видел темный берег. До него было не меньше четверти мили, да еще предстояло одолеть сильное течение.
«Конечно, я доплыву до берега, — подумал я. — И будь что будет, а я попытаюсь спасти ее».
Не скрою, что у меня были и другие соображения, когда я составил этот план. Должен сознаться, что к благородным побуждениям примешивалось и желание разыграть перед ней героя. Будь Эжени Безансон не молода и красива, а стара и безобразна, пожалуй… боюсь, что я оставил бы ее на попечение Антуана с его плотом из стульев. Так или иначе, а я решился, и мне было некогда раздумывать, из каких побуждений.
— Мадемуазель Безансон! — позвал я из-за двери.
— Кто-то зовет меня! — воскликнула она, быстро оборачиваясь. — Боже мой! Кто здесь?
— Сударыня, я хочу…
— Проклятие! — сердито пробормотал старик, когда увидел меня: он решил, что я хочу завладеть его плотом. — Проклятие! Плот не выдержит двоих, сударь.
— Он не выдержит и одного, — возразил я. — Сударыня, — продолжал я, обращаясь к его хозяйке, — эти стулья не спасут вас, а скорее потопят. Вот, возьмите. Это спасет вам жизнь. — Тут я снял и протянул ей спасательный пояс.
— Что это? — быстро спросила она, но сразу все поняла и воскликнула:
— Нет, нет, нет! Что вы, сударь! Спасайте себя! Себя!
— Я надеюсь доплыть до берега и без пояса. Наденьте его, сударыня! Скорей! Скорей! Время не ждет. Через несколько минут судно пойдет ко дну. «Магнолия» еще далеко, к тому же она побоится подойти вплотную к горящему судну. Смотрите, какое пламя! Огонь приближается к нам… Скорей! Позвольте завязать вам пояс.
— Боже! Боже! Благородный незнакомец…
— Ни слова больше! Вот так… Готово! Теперь прыгайте в воду! Не бойтесь! Прыгайте и держитесь подальше от судна. Вперед! Я прыгну вслед за вами и помогу вам. Скорей!
Испуганная девушка послушалась моих настойчивых уговоров и прыгнула в воду. В следующую секунду я увидел, как она показалась на поверхности реки: ее светлое платье выделялось на темном фоне воды.
Тут я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Я обернулся: это был Антуан.
— Простите меня, благородный юноша! Простите меня! — воскликнул он, и слезы потекли у него по щекам.
Я не успел ответить ему, как увидел, что какой-то человек бросился к борту, с которого только что спрыгнула креолка. Он пристально смотрел на нее и, наверно, заметил спасательный пояс. Его намерения были ясны для меня. Он уже собирался прыгнуть в воду, когда я подбежал к нему. Я схватил его за ворот и оттащил назад. Тут пламя осветило его лицо, и я узнал наглого молодчика, который предлагал мне держать пари.
— Не спешите, сэр, — сказал я ему, все еще крепко держа его за ворот.
В ответ он выкрикнул страшное проклятие, и в ту же секунду в его поднятой руке сверкнул охотничий нож. Он выхватил его так неожиданно, что я не успел увернуться и почувствовал, как холодная сталь вонзилась мне в руку. Однако удар был не смертелен, и прежде чем негодяй успел замахнуться второй раз, я, как говорят боксеры, двинул его по скуле так, что он перелетел через стулья, а нож выпал из его руки. Я поднял нож и секунду колебался, не отомстить ли этому головорезу, однако мои лучшие чувства взяли верх, и я выбросил нож за борт.
Не теряя времени, я и сам прыгнул в воду. Пламя уже охватило рулевую рубку, у которой мы стояли, и жара становилась невыносимой. Бросив последний взгляд на судно, я увидел, что Антуан и мой противник дерутся среди стульев.
Белое платье служило мне путеводным ориентиром, и я поплыл за ним.
Течение уже отнесло девушку довольно далеко от тонувшего судна.
Я быстро сбросил в воде пиджак и башмаки, а так как был одет очень легко, то остальная одежда не стесняла моих движений. Сделав несколько взмахов, я поплыл совершенно свободно вниз по течению, следуя за белым платьем. Иногда я поднимал голову над водой и оглядывался назад. Я еще опасался, как бы тот негодяй не поплыл вслед за нами, и готов был сразиться с ним в воде.
Через несколько минут я оказался уже возле моей подопечной.
Сказав ей несколько ободряющих слов, я взялся одной рукой за ее пояс, а другой греб, стараясь направить ее к берегу.
Таким образом мы двигались к суше по диагонали, так как течение довольно быстро сносило нас вниз. Этот путь показался мне долгим и тяжелым: если б он длился еще дольше, я, наверно, не добрался бы до берега. Наконец мы были уже недалеко: но, по мере того как мы приближались к цели, мои движения становились все слабее, и левая рука в последнем судорожном усилии сжимала пробковый пояс.
Однако я помню, как мы добрались до земли: как я с большим трудом карабкался по откосу, а моя спутница поддерживала меня: помню, как перед нами вырос большой дом, — мы вышли на берег как раз против него; помню, как я услышал слова:
— Вот удивительно! Ведь это мой дом! В самом деле, мой дом!
Я помню, как шел по дороге и легкая рука поддерживала меня, как вошел в ворота и попал в прекрасный сад со скамейками, статуями и благоухающими цветами; помню, как из дома выбежало много слуг с фонарями, и тут я увидел, что рука у меня в крови и с рукава капает кровь. Помню еще испуганный женский крик:
— Он ранен!..
И больше ничего не помню.
Глава 14
ГДЕ Я?
Когда я очнулся, было совсем светло. Яркое солнце заливало золотистым светом мою комнату, и косые тени на полу показывали, что сейчас либо раннее утро, либо скоро наступит вечер. Однако из сада слышалось пение птиц, и я решил, что должно быть утро.
Я лежал на низкой изящной кушетке без полога, но вместо него мою постель окружала тончайшая сетка от москитов. Белоснежные простыни из тон— кого полотна, блестящее шелковое покрывало, мягкий, покойный матрац подо мной — все свидетельствовало о том, что я лежу на роскошном ложе. Но я не мог наслаждаться его удобством и изяществом, так как пришел в себя от сильной боли.
Вскоре я припомнил все события прошлой ночи — они промелькнули передо мной одно за другим. До той минуты, когда мы достигли берега и выбрались из воды, я помнил все совершенно ясно. Но что было потом, я не мог восстановить в памяти. Какой-то дом, широкие ворота, сад, деревья, цветы, статуи — все смешалось у меня в голове.
Мне казалось, что среди всей этой путаницы передо мной встает необыкновенно прекрасное лицо — лицо молодой девушки. В нем было что-то чарующее. Но я не знал, видел ли я эту девушку наяву или она пригрезилась мне во сне. Черты этого лица стояли перед моими глазами так четко и ясно, что, будь я художником, я мог бы их нарисовать. Но я помнил только лицо
— больше ничего! Я вспоминал его, как куритель опиума вспоминает свои грезы или как человек, видевший во время опьянения прекрасное лицо и только его сохранивший в памяти. Как ни странно, но я не связывал этот образ со своей ночной спутницей: он ничем не напомнил мне Эжени Безансон!
Была ли среди пассажирок на судне хоть одна, похожая на это видение? Нет, я не мог припомнить ни одной. Ни одна из них не возбудила во мне даже мимолетного интереса, за исключением креолки. Но черты этого воображаемого или виденного мною лица не имели с ней ничего общего. Это был совершенно иной тип.
В моей памяти вставала волна блестящих черных волос, вьющихся на лбу и спадающих на плечи крупными кольцами. Из этой темной рамы выступали черты, достойные резца великого скульптора. Нежный, красиво очерченный пунцовый рот, прямой, изящный нос с тонкими ноздрями, темные дуги бровей, глаза, окаймленные длинными ресницами, — это лицо, как живое, стояло передо мной, и оно ничем не напоминало черты Эжени Безансон. Даже цвет лица был совсем другой. Кожа, не молочно-белая, как у креолки, хотя такая же прозрачная, отличалась смуглым оттенком, который придавал румянцу на щеках более теплую окраску. Лучше всего я запомнил или представлял себе глаза, большие, темно-карие, округлой формы; главная их прелесть заключалась в выражении, непонятном для меня, но пленительном. Они были очень блестящие, но не сверкали и не искрились, а скорее напоминали теплое сияние самоцвета. Их взгляд не обжигал, но светился.
Несмотря на ноющую боль в руке, я довольно долго лежал, любуясь этим очаровательным образом, и спрашивал себя: живая ли это девушка или только сон? Неожиданная мысль пришла мне в голову. Я подумал, что, если, бы это видение было живым существом, я мог бы забыть ради него Эжени Безансон, несмотря на романтическое приключение, с которого началось наше знакомство.
Однако боль в руке в конце концов отогнала чудный образ и вернула меня к действительности. Откинув покрывало, я с удивлением увидел, что рана моя перевязана, и, по-видимому, опытным хирургом. Успокоившись на этот счет, я осмотрелся вокруг, чтобы понять, где я нахожусь.
Комната, где я лежал, была невелика, и сквозь сетку от москитов мне нетрудно было разглядеть, что она обставлена богато и со вкусом. В ней стояла легкая, главным образом камышовая мебель, а пол устилали тонкие циновки из морской травы с яркими узорами. На окнах висели занавески из камки и муслина, под цвет стенам. Посреди комнаты стоял стол с богатой инкрустацией, а у стены — другой столик, поменьше, на котором возле узорной чернильницы лежали перья и бювар; рядом с ним стояли полки красного дерева, уставленные книгами. Камин украшали дорогие часы, а за его решеткой виднелись каминные щипцы с серебряными ручками тонкой чеканной работы. В это время года камин, конечно, не топили. Мне было бы душно даже под сеткой от москитов, но большая стеклянная дверь, а против нее широкое окно были открыты настежь, так что по комнате гулял легкий ветерок, проникавший и сквозь мою сетку.
Этот ветерок приносил в комнату чудесный аромат из сада. В окно и в открытую дверь я видел тысячи всевозможных цветов: красные, розовые и белые розы, редкостные камелии, азалии и жасмин, сладко пахнущее китайское дерево; а дальше я разглядел восковые листья и похожие на крупные лилии цветы американского лавра. Я слышал пение множества птиц и тихий равномерный плеск — по-видимому, журчание фонтана. Больше до меня не доносилось ни звука.
«Неужели я здесь один?» Я еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Да, должно быть, один, Я не увидел ни одного живого существа.
Меня удивила одна особенность моей комнаты. Казалось, она стоит на отлете и не сообщается ни с каким помещением. Единственная дверь, которую я видел, так же как и доходившее до полу окно, вела прямо в сад, полный цветов и кустарников. По-видимому, рядом со мной никто не жил.
Сначала мне это показалось странным, но, поразмыслив, я понял, в чем дело. Американские плантаторы часто строят в стороне от большого жилого дома маленький павильон или летний домик и обставляют его со всеми удобствами и даже с роскошью. Иногда он служит комнатой для гостей. Вероятно, я находился в таком домике.
Во всяком случае, я был под гостеприимным кровом и попал в хорошие руки. В этом не могло быть никакого сомнения. Моя постель и все, что меня окружало — например, приготовления к завтраку, замеченные мною на столе, подтверждали это. Но кто был моим хозяином? Или хозяйкой? Быть может, Эжени Безансон? Она, кажется, сказала что-то вроде: «Вот мой дом». Или мне это только померещилось?
Я лежал, размышляя и напрягая свою память, но так и не мог понять, чьим гостем я оказался. Однако у меня все же было смутное чувство, что я попал в дом к моей ночной спутнице.
Под конец я начал беспокоиться и, будучи очень слаб, почувствовал даже некоторую обиду, что меня оставили совсем одного. Я бы позвонил, но около меня не оказалось колокольчика. В эту минуту послышался звук приближающихся шагов.
Пылкие читательницы! Вы, наверно, вообразите, что шаги эти были легки и неслышны, что ножки в маленьких шелковых туфельках едва касались сыпучей гальки, чтобы не потревожить сон спящего больного: вы вообразите, что среди пения птиц, журчания фонтанов и упоительного аромата цветов в дверях появилось прелестное создание и я увидел нежное личико с большими кроткими глазами, устремленными на меня с немым вопросом. Вы, конечно, вообразите все это — не сомневаюсь! Но вы жестоко ошибетесь: на самом деле было совсем не так.
Шаги, которые я услышал, были тяжелы, и через минуту на пороге моей комнаты показалась пара грубых башмаков из крокодиловой кожи, больше фута длиной, и остановилась прямо перед моими глазами.
Я немного поднял глаза и увидел две ноги в широких синих холщовых штанах, а взглянув еще повыше, — могучую грудь под полосатой бумажной рубахой, затем две крепкие руки, широкие плечи и наконец лоснящуюся физиономию и курчавую голову черного, как смоль, негра.
Голову и лицо я увидел последними. Но на них мой взгляд задержался всего дольше. Я снова и снова всматривался в негра и наконец, несмотря на сильную боль в руке разразился неудержимым смехом. Если бы я умирал, я и то, кажется, не мог бы остаться серьезным.
В физиономии этого черного пришельца было что-то до крайности комичное.
Это был высокий, коренастый негр, черный, как уголь, с белыми, как слоновая кость, зубами и такими же сверкающими белками. Но меня поразило не это, а странная форма его головы, а также очертания и размеры его ушей. Голова у него была круглая, как шар, и густо обросла мелкими крутыми завитками черной шерсти, такими плотными, что казалось, будто они приросли к голове обоими концами, словно ворс. А по бокам этого шара торчало два громадных, оттопыренных, как крылья, уха, придававших голове невероятно забавный вид.
Вот что заставило меня рассмеяться; и хоть это было очень неучтиво, я не мог бы сдержаться даже под страхом смерти.
Однако мой посетитель, видимо, нисколько не обиделся. Наоборот, его толстые губы тотчас растянулись в широкую, добродушную улыбку, открыв два ряда ослепительных зубов, и он разразился таким же громким смехом, как и я.
Как видно, он был очень добродушен. И хоть его уши были похожи на крылья летучей мыши, но по характеру он ничем не напоминал вампира. Круглое черное лицо Сципиона Безансон, как звали моего посетителя, было воплощением доброты и веселья.
Глава 15
СТАРЫЙ ЗИП
Сципион заговорил первым:
— Добрый день, молодой масса! Старый Зип очень рад, что вы уже здоровы. Он очень рад!
— Сципион, так тебя зовут?
— Да, масса, — Зип, старый негр. Доктор велел ему ухаживать за белым господином. Тогда будет довольна молодая мисса, белые люди, черные люди — все будут довольны! Ух-х!
Последнее восклицание, один из тех гортанных возгласов, какие часто издают американские негры, больше всего напоминало фырканье гиппопотама. Оно значило, что мой собеседник кончил говорить и ждет от меня ответа.
— А кто это «молодая мисса»? — спросил я.
— Боже милостивый! Разве масса не знает? Та самая молодая дама, которую он спас, когда загорелся пароход. Боже ты мой! Как здорово масса плавает! Переплыли половину реки! Ух-х!
— А теперь я в ее доме?
— Ну конечно, масса, вы в летнем домике. Ведь большой-то дом в другом конце сада. Но это все равно, масса.
— А как я попал сюда?
— Бог мой! Неужто масса и этого не помнит? Да ведь старый Зип принес его сюда вот на этих самых руках! Масса и молодая госпожа вышли на берег прямо у ворот нашего дома. Мисса закричала, и черные люди выбежали и нашли их. Белый масса был весь в крови, он упал, а она приказала отнести его сюда.
— А потом?
— Зип вскочил на самую быструю лошадь, на Белую Лисицу, и поскакал за доктором, скакал, как дьявол! Ну, а доктор, конечно, приехал и перевязал руку молодому масса. Но как… — продолжал Сципион, вопросительно глядя на меня, — как молодой масса получил эту большую гадкую рану? Доктор то— же спрашивал, а молодая мисса сама ничего не знала.
По некоторым соображениям я решил пока не удовлетворять любопытства моей черной сиделки и лежал несколько минут, размышляя. Действительно, моя спутница не знала о моем столкновении с тем негодяем. Да, а как Антуан? Добрался он до берега? Или… Но Сципион предвосхитил вопрос, ко— торый я собирался задать.
— Ах, молодой масса, — сказал он, и лицо его омрачилось, — мисса Жени в большом горе сегодня, и все люди в большом горе. Масса Тони, бедный масса Тони!
— Ты говоришь об управляющем Антуане? Что с ним? Он не вернулся домой?
— Нет, масса, боюсь, что он никогда, никогда не вернется! Все люди боятся, что он утонул. Люди ходили в деревню, ходили по берегу вниз и вверх, всюду ходили. Нет Тони… Капитан взлетел кверху, прямо в небо, а пятьдесят пассажиров ушли на дно. Другой пароход вытащил нескольких человек, несколько доплыли до берега, как молодой масса. Но нет масса Тони, нигде нет масса Тони!
— Ты не знаешь, умел он плавать?
— Нет, масса, совсем не умел. Я знаю: он один раз упал в заводь, и старый Зип вытащил его. Нет, он совсем, совсем не плавал.
— Тогда боюсь, что он погиб.
Я вспомнил, что наше судно затонуло прежде, чем «Магнолия» подошла к нему. Я видел это, обернувшись, когда плыл. Те, кто не умел плавать, наверно, погибли.
— И бедный Пьер. И Пьер тоже.
— Пьер? Кто это?
— Кучер, масса. Вот кто.
— А, помню! Ты думаешь, и он утонул?
— Боюсь, что и он, масса. Старый Зип очень жалеет Пьера. Он был хороший негр, этот Пьер. Но масса Тони, масса Тони… все люди жалеют масса Тони!
— У вас любили его?
— Все любили его — белые люди, черные люди, — все его любили! Мисса Жени тоже любила. Он всю жизнь жил у старого масса Сансона. По-моему, он был опекуном мисса Жени, или как это называется… Боже милостивый! Что будет теперь делать молодая мисса? У нее нет больше друзей. А старая лиса Гайар — очень нехороший…
Тут Сципион внезапно умолк, словно спохватился, что слишком распустил язык.
Названный им человек и определение, которое дал ему негр, сразу возбудили мое любопытство, особенно его имя.
«Если это тот самый, — подумал я, — Сципион дал ему меткое прозвище. Но он ли это?»
— Ты говоришь про адвоката Доминика Гайара? — спросил я, помолчав.
Сципион вытаращил свои круглые глаза, сверкая белками, удивленный и испуганный, и сказал, запинаясь:
— Да, так зовут этого господина. Молодой масса знает его?
— Очень немного, — ответил я, и мой ответ, видимо, его успокоил.
По правде говоря, я никогда не видел Гайара, но, живя в Новом Орлеане, случайно слышал о нем. У меня было небольшое приключение, в котором он принял косвенное участие и, надо сказать, сыграл некрасивую роль. Я сохранил острую неприязнь к этому человеку, который, как уже упоминалось выше, был адвокатом в Новом Орлеане. Это был, несомненно, тот самый Гайар, о котором говорил Сципион. Фамилия слишком редкая, чтобы ее носили два столь похожих человека. Кроме того, я слышал, что у него плантация где-то выше по течению реки, — в Бринджерсе, как я теперь припомнил. Все говорило за то, что это он. Если у Эжени Безансон не осталось друзей, кроме него, тогда Сципион был прав, говоря, что у нее нет больше друзей.
Слова Сципиона не только затронули мое любопытство, но вселили в меня смутную тревогу. Незачем говорить, что я был сильно заинтересован юной креолкой. Человек, спасший жизнь другому, притом красивой женщине, да еще при таких необычайных обстоятельствах, не может оставаться равнодушным к ее дальнейшей судьбе. Любовь ли пробудила во мне этот интерес?
Сердце мое, к моему удивлению, ответило: нет! На пароходе мне казалось, что я почти влюблен в эту девушку, а теперь, после романтического приключения, которое должно было бы усилить это чувство, я совершенно спокойно вспоминал события прошлой ночи и сам удивлялся своей холодности. Я потерял много крови — уж не вытекло ли вместе с ней и мое зарождавшееся чувство? Я пытался объяснить себе это странное явление, но в то время я делал еще только первые шаги в познании человеческого сердца. Любовь была для меня неведомой страной.
Одно удивляло меня: когда я пытался представить себе лицо креолки, передо мной с необыкновенной четкостью вставали черты другого лица из мира моих грез.
«Как странно, — думал я, — опять это прелестное видение! Плод моей больной фантазии. Ах, чего бы я не дал, чтобы этот образ оказался живым существом!»
Теперь я не сомневался: я не был влюблен в Эжени Безансон, однако и не относился к ней равнодушно. Чувство мое было дружбой, и интерес, который я испытывал, — дружеским участием. Это чувство было так сильно, что я тревожился за нее и мне хотелось узнать побольше о ней и ее делах.
Сципион не отличался скрытностью; не прошло и получаса, как он рассказал мне все, что сам знал о ней.
Эжени Безансон была единственной дочерью и наследницей плантатора-креола, умершего около двух лет тому назад; некоторые считали его очень богатым, другие уверяли, что дела его сильно расстроены. Надзор за всем своим поместьем он завещал Доминику Гайару вместе с управляющим Антуаном. Обоих назначили опекунами молодой девушки. Гайар был адвокатом Безансона, а Антуан — его старым слугой. Антуан всегда пользовался исключительным доверием своего хозяина, а в последние годы стал скорее его другом и компаньоном, чем слугой.
Через несколько месяцев Эжени Безансон достигнет совершеннолетия, но велико ли будет ее наследство, этого Сципион не знал. Он знал только, что после смерти ее отца Гайар, главный распорядитель всего имущества, давал ей очень много денег, сколько бы она ни пожелала, и ни в чем ее не ограничивал; что она была очень щедра и даже расточительна и, как выразился Сципион, «швырялась золотыми долларами, словно это простые камешки».
И Сципион принялся рассказывать мне о блестящих балах, которые она давала на своей плантации, а также о том, как дорого обходилась жизнь «молодой мисса» в городе, где она проводила большую часть зимы. Всему этому можно было легко поверить. Судя по тому, что мне пришлось наблюдать на пароходе, у меня создалось впечатление, что Сципион совершенно правильно описал свою госпожу. Натура пылкая и увлекающаяся, великодушная и несдержанная, легкомысленная в своих тратах, живущая только настоящим, не думая о будущем, — такая наследница была находкой для недобро— совестного опекуна.
Я видел, что бедный Сципион очень привязан к своей хозяйке: при всем своем невежестве он подозревал, что все это расточительство не доведет ее до добра.
— Я очень боюсь, масса, — сказал он, качая головой, — что так не может продолжаться всегда, всегда. Даже сам Колониальный банк и тот лопнет, если вечно швырять деньги на ветер.
Когда Сципион дошел в своем рассказе до Гайара, он закачал головой еще выразительней. У него были, очевидно, какие-то подозрения насчет этого человека, но он не хотел их высказывать. Я узнал достаточно, чтобы убедиться, что этот Доминик Гайар и есть тот самый адвокат, который жил в Новом Орлеане на *** улице. У меня не осталось никаких сомнений, что это он. Юрист по профессии, но на самом деле биржевой спекулянт, дающий деньги в кредит, то есть попросту ростовщик, он был, кроме того, богатым плантатором, чье большое поместье граничило с поместьем Безансонов, и имел более сотни рабов, с которыми обращался крайне жестоко. Все это совпадало с тем, что я слышал о положении и характере известного мне Доминика Гайара. Несомненно, это он.
Сципиoн рассказал мне о нем еще кое-какие подробности. Он был советчиком и товарищем старика Безансона «на его беду», как выразился Сципион: верный негр думал, что Безансон сильно пострадал от этого знакомства.
— Масса Гайар не раз обманывал старого хозяина. Он надувал его много-много раз, можете поверить Зипу, — сказал он.
Еще я узнал от него, что Гайар проводит летние месяцы в своем поместье, что он каждый день бывает в «большом доме», где живет мадемуазель Безансон и где он чувствует себя как дома, а ведет себя так, «будто все принадлежит ему и он хозяин всей плантации».
Мне показалось, что Сципион еще что-то знает об этом человеке, что-то определенное, но не хочет мне говорить. Ну что ж, вполне понятно — мы были слишком мало знакомы. Я видел, что он терпеть не может Гайара, но мне трудно было решить, потому ли, что он хорошо его знает, или в нем говорит инстинктивное чувство, очень сильно развитое у несчастных рабов, которым запрещено рассуждать.
Однако в его рассказе было слишком много фактов, чтобы считать это чувство инстинктивным. Он, видимо, действительно многое знал. Кто-то должен был сообщить ему эти сведения. От кого он их получил?
— Кто рассказал тебе все это, Сципион?
— Аврора, масса.
— Аврора?!
Глава 16
ДОМИНИК ГАЙАР
Я сразу почувствовал сильное, почти страстное желание узнать, кто такая Аврора. Почему? Быть может, это необычное, красивое имя прозвучало особенно приятно для моего саксонского уха? Нет. Или это благозвучное слово вызвало у меня мифологические ассоциации, воспоминания о первых розовых лучах восходящего солнца или о нежном сиянии северной зари? Может быть, именно эти представления возбудили во мне такой
Однако прежде чем я успел разобраться в этом или задать Сципиону еще вопрос, в дверях показались два человека: не говоря ни слова, они вошли в комнату.
— Это доктор, масса, — прошептал Сципион и отошел в сторону, пропуская ко мне вошедших.
Мне нетрудно было догадаться, который из них доктор. Я сразу узнал его по внешности; я так же безошибочно определил, что высокий бледный человек, внимательно смотревший на меня, — врач, как если бы он держал в одной руке диплом, а в другой — дверную дощечку со своей фамилией.
Доктору было лет сорок; его приятное, спокойное лицо нельзя было назвать красивым, но зато оно выражало ум и сердечную доброту. Его предки, вероятно, прибыли сюда из Германии, но американская жизнь — вернее, политический строй смягчил жесткие черты — отпечаток, наложенный веками европейского деспотизма, — и возвратил его лицу врожденное благородство. Позже, когда я лучше узнал американцев, я сказал бы, что он житель Пенсильвании, и так оно и было. Передо мной был воспитанник одной из крупных медицинских школ Филадельфии — доктор Эдвард Рейгарт. Это имя подтвердило мое предположение о его немецком происхождении.
Как бы то ни было, мой доктор с первого же взгляда произвел на меня приятное впечатление.
Совсем иное чувство охватило меня, когда я взглянул на его спутника. Я сразу почувствовал к нему неприязнь, презрение, отвращение, ненависть! У него было чисто французское лицо, но не благородная внешность старого сурового гугенота; не был он похож и на таких наших современников, как Роллан или Гюго, как Араго или Пиа[25]; у него была одна из тех физиономий, какие сотнями встречаются возле биржи и за кулисами Оперы или злобно пялятся на вас из-под тысяч солдатских киверов. Чтобы кратко определить его внешность, я скажу, что он больше всего напоминал лисицу. Право, я не шучу: сходство было поразительное. Те же хитрые, бегающие глазки, тот же внезапный пронзительный взгляд, свидетельствующий о скрытом притворстве, о крайнем себялюбии и звериной жестокости.
Итак, спутник доктора был поистине лисой в человеческом образе со всеми ее ярко выраженными чертами. Мы со Сципионом полностью сошлись в его оценке, ибо у меня не было ни малейшего сомнения, что передо мной Доминик Гайар. Да, это был он.
Он был небольшого роста и худощав, но, видимо, из тех, кто может хорошо постоять за себя. В нем чувствовались гибкость и коварство хищника и такие же повадки. Свои хитрые раскосые глазки он почти все время держал опущенными. Черные и блестящие, как у ласки, они были выпуклы, но не круглы, а скорее конусообразны, и зрачок казался как бы вершиной тупого конуса. Лицо его постоянно кривилось в усмешке, и это придавало ему циничное и презрительное выражение. Тот, кто знал за собой какую-нибудь ошибку, слабость или вину, мог бы подумать, что она известна Доминику Гайару и что он насмехается над ним. Когда Гайар узнавал о каком-нибудь несчастье, случившемся с другим, его улыбка становилась еще более язвительной, а маленькие выпуклые глазки блестели с явным удовольствием. Он любил только себя и ненавидел своих ближних.
У него были жидкие прямые черные волосы и темные мохнатые брови; бороды он не носил, и на его мертвенно-бледном лице выделялся огромный нос, похожий на клюв попугая. Одежда Гайара говорила о его профессии и состояла из темного сюртука и черного шелкового жилета, а на шее вместо галстука у него был повязан широкий черный бант. На вид ему было лет пятьдесят.
Доктор пощупал у меня пульс, спросил, как я спал, посмотрел мой язык, снова пощупал пульс, а затем дружески посоветовал мне лежать как можно спокойнее. Он объяснил, что я еще очень слаб, так как потерял много крови, но он надеется, что через несколько дней я снова окрепну и буду здоров. Сципиону было поручено следить за моим питанием и приготовить мне на завтрак жареного цыпленка, чай и гренки.
Доктор не спросил меня, как я был ранен. Сначала мне это показалось странным, но потом я решил, что он просто не хочет меня тревожить. Он, верно, боялся, что воспоминания о событиях прошлой ночи взволнуют меня. Но я так беспокоился за Антуана, что не хотел молчать, и спросил, есть ли какие-нибудь известия о нем. Нет, они ничего не слыхали. Он, несомненно, погиб.
Я сообщил им, при каких обстоятельствах расстался с ним, и, конечно, рассказал о моем столкновении с наглым пассажиром, который ранил меня. При этом от меня не ускользнуло странное выражение, с каким Гайар выслушал мой рассказ. Он слушал меня чрезвычайно внимательно, а когда я упомянул о плоте из стульев и заметил, что Антуан и минуты не продержался бы на воде, мне показалось, что темные глазки адвоката сверкнули злобной радостью. Без сомнения, лицо его выражало скрытое торжество, на которое противно было смотреть. Быть может, я не заметил бы этого или, во всяком случае, не разгадал, если бы не рассказ Сципиона. Но теперь я безошибочно понимал Гайара, и хотя он несколько раз лицемерно воскликнул: «Бедный Антуан!» — я прекрасно видел, как он втайне торжествует при мысли, что старый управляющий утонул.
Когда я кончил свой рассказ, Гайар отвел доктора в сторону, и они несколько минут разговаривали вполголоса. До меня долетали лишь отдельные слова. Доктору было, видимо, все равно, слышу ли я его, тогда как его собеседник старался говорить тихо. По ответам доктора я понял, что Гайар хочет отправить меня в гостиницу ближайшего селения. Он ссылался на «неудобное положение», в котором окажется молодая девушка — Эжени Безансон — одна в доме с чужестранцем, молодым человеком, и так далее и тому подобное.
Доктор считал эти соображения неосновательными и не хотел меня увозить. Сама мадемуазель Безансон не хочет этого, даже и слышать не желает! Добрый доктор Рейгарт считал «неудобное положение» сущим вздором. В гостинице нет необходимых удобств; кроме того, она переполнена другими пострадавшими. Тут говоривший понизил голос, и я мог уловить только отдельные слова: ««иностранец», «не американец», «потерял все свое имущество», «друзья далеко», «в гостинице не примут постояльца без денег». На это Гайар ответил, что готов взять на себя все расходы.
Последнюю фразу он нарочно сказал громко, чтобы я ее услышал. Я был бы благодарен ему за подобное предложение, если бы не подозревал, что его великодушием кроется какое-то тайное намерение. Но доктор решительно возражал против этого плана.
— Это невозможно, — сказал он. — Начнется жар… Большой риск… Не возьму на себя такую ответственность! Скверная рана. Большая потеря крови… Должен остаться здесь, хотя бы первое время… Можно перевезти в гостиницу дня через два, когда он окрепнет.
Обещание перевезти меня через два дня как будто удовлетворило лису Гайара, или он убедился, что ничего другого сейчас нельзя сделать, и совещание закончилось.
Гайар подошел попрощаться со мной, и я снова заметил насмешливый блеск в его маленьких глазках, когда он сказал мне несколько притворно-любезных фраз. Он не подозревал, с кем он говорит. Если бы я назвал свое имя, его бледные щеки, быть может, окрасились бы в более яркий цвет и он поспешил бы удалиться. Но осторожность удержала меня, и когда доктор спросил, кого он имеет удовольствие лечить, я прибегнул к простительной хитрости, к которой прибегали многие славные путешественники, и назвался вымышленным именем. Я воспользовался девичьей фамилией моей матери и представился как Эдвард Рутерфорд.
Повторив, чтобы я лежал спокойно и не пытался вставать с постели, доктор прописал мне кое-какие лекарства и, указав, как их принимать, откланялся. Гайар вышел раньше него.
Глава 17
АВРОРА
Сципион отправился на кухню за чаем, гренками и цыпленком, а я остался на время один. Я лежал, думая об этом посещении и особенно о разговоре между доктором и Гайаром: некоторые из услышанных фраз встревожили меня. Доктор вел себя совершенно естественно и как истый джентльмен, но я не сомневался, что у его собеседника есть какой-то коварный замысел.
Откуда эта тревога, это горячее желание поскорее выпроводить меня в гостиницу? Очевидно, у него была очень веская причина, если он предлагает оплатить все расходы; насколько я слышал, этот человек никогда не отличался щедростью.
«Чем объяснить его желание поскорей избавиться от меня?» — спрашивал я себя.
«Ara, знаю! Догадался! Я понял его тайные замыслы! Эта хитрая лиса, коварный адвокат, так называемый опекун, наверно, сам влюблен в свою подопечную! Что из того, что она молода, богата, хороша собой, настоящая красавица, а он стар, уродлив, низок и противен! Он-то себя не считает таким. А она? Что ж! Он все-таки может надеяться. Иной раз сбываются и более безрассудные мечты. Он знает жизнь — он юрист. Ему известно все, что ее окружает, — он ее опекун. Все ее дела в его руках. Oн ее наставник, поверенный, казначей — словом, распоряжается всеми ее делами. С такой властью чего не добьешься! Он хочет одного: либо жениться на ней, либо ее ограбить. Бедная девушка! Как мне жаль ее!»
Странно, но я испытывал только жалость. У меня не было другого чувства к ней, и я не мог понять почему.
* * *
Но тут пришел Сципион и прервал мои размышления. За ним вошла девочка лет тринадцати; она несла тарелки и блюда с едой. Это была Хлоя, дочь Сципиона, но не такая черная, как ее отец. У нее были желтая кожа и миловидное личико. Как объяснил мне Сципион, мать «малютки Хло» — так он называл дочь — мулатка, а «наша Хло — вылитая мамаша. Ха-ха-ха!»
Веселый смех Сципиона показывал, что он очень доволен и горд своей хорошенькой светлокожей дочкой.
Хлоя, как и всякая женщина, была ужасно любопытна: ее круглые глаза, сверкая белками, все время бросали взгляды на белого чужестранца, спасшего жизнь ее госпоже, и она чуть не перебила все чашки и тарелки. Боюсь, что если бы я не вступился, Сципион выдрал бы ее за уши. Забавная болтовня и жесты отца и дочки, их своеобразные манеры, да и вообще все особенности жизни рабов живо заинтересовали меня.
Несмотря на слабость, у меня был хороший аппетит. Я ничего не ел на пароходе; увлеченные гонкой пассажиры почти все забыли про ужин, и я в том числе. Теперь, увидев приготовления к завтраку, я почувствовал сильный голод и отдал должное стряпне матушки Хлои, которая, по словам Сципиона, заправляла всей кухней. Чай подкрепил меня, а искусно поджаренный цыпленок с рисом, казалось, влил свежую кровь в мои жилы. Если бы не боль в руке, я чувствовал бы себя совсем здоровым.
Отец и дочь убрали со стола, и вскоре Сципион вернулся, так как ему велели находиться при мне.
— А теперь, Сципион, — сказал я, как только мы остались одни, — расскажи мне об Авроре.
— О Pope, масса?
— Да. Кто такая Аврора?
— Бедная невольница, масса, такая же, как и старый Зип.
Смутный интерес, который я чувствовал к Авроре, сразу угас.
— Невольница? — повторил я разочарованно.
— Это служанка мисса Жени, — продолжал Сципион. — Она причесывает ее, одевает, сидит с ней, читает ей вслух, все делает…
— Читает ей? Как! Невольница?
Мой интерес к ней снова ожил.
— Да, масса, она самая — Рора. Я сейчас объясню. Старый масса Сансон был очень добрый к нам, неграм, и многих научил читать. И Рору тоже. Он научил ее читать, писать и многим-многим вещам, а молодая мисса Жени научила ее музыке. Рора — ученая девушка, очень ученая! Она знает очень много вещей, совсем как белые люди. Играет на пьянине, играет на гитаре. Гитара — она похожа на банджо, и старый Зип тоже умеет на ней играть. Да, он тоже. Ух-х!
— А в остальном Аврора такая же бедная раба, как и все вы, Сципион?
— О нет, масса, она совсем не такая, как все. И живет она совсем не так, как другие негры. Она не делает тяжелой работы и стоит куда дороже — целых две тысячи долларов!
— Стоит две тысячи долларов?
— Да, масса, две тысячи, и ни центом меньше!
— Откуда ты знаешь?
— Да ведь многие хотели ее купить. Масса Мариньи хотел купить Рору, и масса Кроза — тоже, и еще американский полковник с того берега, — и все они давали две тысячи. А старый хозяин только смеялся. Он говорил, что не продаст ее ни за какие деньги.
— Это было еще при старом господине?
— Да-да… Но потом был еще один, хозяин речного судна, он хотел сделать Рору служанкой в дамском салоне. Он грубо говорил с ней. Мисса очень сердилась и прогнала его. Масса Тони очень сердился и прогнал его. И капитан очень сердился и ушел. Ха-ха-ха!
— А почему Аврору так дорого ценят?
— О-о! Она очень хорошая девушка, очень-очень хорошая девушка, но… — тут Сципион запнулся, — но…
— Да?
— Мне кажется, масса, что не в этом дело.
— А в чем же?
— Сказать по правде, масса, я думаю, те люди, что хотели ее купить, были плохие люди.
Он выразился очень деликатно, но я понял его намек.
— Если так, Аврора, должно быть, очень красива. Верно, друг Сципион?
— Старый негр ничего не смыслит в этом, масса, но люди говорят — и белые и черные люди, — что она самая красивая квартеронка[26] во всей Луизиане.
— Вот как! Она квартеронка?
— Да, это так, масса, так оно и есть. Она цветная девушка, но вы бы этого не сказали: она такая же белая, как сама мисса Жени. Мисса тоже говорила это много-много раз, но я вам скажу — между ними очень большая разница: одна — богатая госпожа, другая — бедная невольница, такая же, как старый Зип. Ай-яй, совсем как старый Зип! Купи ее, продай ее — все равно!
— Ты можешь описать мне Аврору, Сципион?
Я задал ему этот вопрос не из простого любопытства: у меня была на то серьезная причина. Мое ночное видение все еще преследовало меня, передо мной стояли загадочные черты этого прелестного лица, не принадлежащего по типу ни к кавказской, ни к индийской, ни к монгольской расе. Быть может… Возможно ли?..
— Ты можешь описать ее, Сципион? — повторил я.
— Описать ее, масса? Вы хотите, чтобы Зип описал ее? Мо… могу.
Я не рассчитывал на очень ясное описание, но думал, что по каким-нибудь отдельным чертам смогу определить, похожа ли эта девушка на мое видение. В моей памяти этот образ запечатлелся так отчетливо, как если бы я и сейчас видел его перед собой. Я сразу пойму, похожа ли Аврора на него.
— Так вот, масса, некоторые люди говорят, что она гордая, но это потому, что они завидуют ей. Это правда, есть такие негры. Но она совсем не гордая со старым Зипом, уж это правда. Она разговаривает с ним, и много рассказывает ему, и учит старого негра читать, старую Хлою — тоже, и малютку Хло, и…
— Я просил тебя описать ее наружность, Сципион.
— О! Описать ее наружность?.. Что значит — на кого она похожа?
— Ну да. Какие у нее волосы, например? Какого цвета?
— Черные, масса, черные, как сапог.
— Они прямые?
— Нет, масса, что вы! Ведь она квартеронка.
— Значит, вьющиеся?
— Не такие, как вот эти, — тут Сципион показал на собственную голову, покрытую крутыми завитками, — а длинные и, люди говорят, похожи на волны.
— Понимаю. Они спадают ей на плечи?
— Вот-вот, масса, на спину и на плечи.
— И пышные?
— Что это значит, масса?
— Густые, пушистые.
— Боже мой! Такие густые, как хвост старого енота!
— Ну, а глаза?
Глаза молодой квартеронки Сципион описал довольно сбивчиво, однако он сделал удачное сравнение, которое меня удовлетворило: «Они большие и круглые, а блестят, как у лани». Описание носа никак ему не давалось, но после нескольких наводящих вопросов я выяснил, что нос у нее маленький и прямой. Брови, зубы, цвет лица были описаны им очень правдоподобно, а про щеки он сказал: «Красные, как персик».
Как ни забавно было данное негром описание, мне совсем не хотелось смеяться. Я был слишком заинтересован и слушал каждую подробность с волнением, которое и сам не мог объяснить. Наконец портрет был закончен, и я пришел к выводу, что Сципион описал мое ночное видение. Когда он замолчал, я горел желанием увидеть эту прелестную, бесценную квартеронку.
Вдруг раздался звонок.
— Зипа зовут, масса. Ему звонят из дома. Он сейчас же вернется назад.
С этими словами Сципион вышел от меня и побежал к дому.
Я лежал и думал о странном, можно сказать — романтическом положении, в котором оказался. Еще вчера, даже этой ночью я был бедным странником, не имеющим и доллара за душой, и не знал, под чьим кровом найду себе приют. А сегодня я — гость прекрасной дамы, молодой, богатой, свободной, ее больной гость, уложенный в постель на неопределенное время: за мной ухаживают и обо мне заботятся.
Эти мысли вскоре сменились другими. Их вытеснили воспоминания о моем видении, и я стал сравнивать его с портретом квартеронки, данным Сципионом. Чем больше я думал, тем больше находил в них сходства. Да и как бы я мог так ясно представить себе ее лицо, если бы никогда его не видел? Это почти невозможно. Я должен был видеть ее. Почему бы и нет? Когда я потерял сознание и меня подобрали, разве она не могла находиться среди окружавших меня людей? Это было весьма возможно и все объясняло. Но точно ли она была там? Надо спросить Сципиона, когда он вернется.
Длинная беседа с ним утомила меня, так как я был еще слаб и истощен. Несмотря на яркое солнце, светившее в мою комнату, я начал дремать, а через несколько минут откинулся на подушку и крепко заснул.
Глава 18
КРЕОЛКА И КВАРТЕРОНКА
Я проспал, вероятно, около часа. Затем что-то разбудило меня, но я продолжал лежать неподвижно, еще в полузабытьи, и впечатления внешнего мира с трудом доходили до моего сознания. Это были приятные впечатления. В воздухе был разлит нежный аромат, я слышал слабый шелест шелка, что говорило о присутствии нарядных дам.
— Он просыпается, мадемуазель, — тихо произнес нежный голос.
Я открыл глаза и взглянул на говорившую. Первую минуту мне казалось, что сон мой продолжается. Передо мной стояло мое ночное видение: прелестное лицо, черные волнистые волосы, блестящие глаза, изогнутые брови, нежный, красиво очерченный рот, яркий румянец — я снова увидел ее!
«Это сон? Нет, она дышит, она шевелится, она говорит!»
— Видите, мадемуазель, он смотрит на нас! Он проснулся!
«Так это не сон, не видение! Это она — Аврора!»
Я, видимо, еще не совсем пришел в себя и спросонок разговаривал вслух. Но только последние слова я произнес так громко, что их можно было расслышать. Вслед за ними раздалось восклицание, которое окончательно разбудило меня. Тут я увидел две женские фигуры, стоявшие у моей постели. Они с удивлением смотрели друг на друга. Одна была Эжени, другая, без сомнения, Аврора.
— Он зовет тебя! — с удивлением сказала госпожа.
— Он зовет меня! — с таким же удивлением повторила невольница.
— Но откуда он знает твое имя?
— Не могу сказать, мадемуазель.
— Ты уже была здесь раньше?
— Нет, только сейчас…
— Очень странно! — сказала Эжени, поворачиваясь и вопросительно глядя на меня.
Теперь я совсем проснулся и понял, что невольно говорил вслух. Мне надо было объяснить, как я узнал имя квартеронки, но при всем желании я не знал, что сказать. Признаться, о чем я думал, когда эта фраза сорвалась с моих губ, — значило поставить себя в очень глупое положение; ничего не говорить — значило позволить мадемуазель Безансон строить всевозможные догадки. Надо было что-то выдумать, без маленькой хитрости никак не обойтись.
Надеясь, что мадемуазель Безансон заговорит первая и подскажет мне какой-нибудь ответ, я пролежал несколько минут, не разжимая рта. Я сделал вид, что рука беспокоит меня, и повернулся на постели. Но она как будто не заметила моего движения и, все так же удивленно глядя на меня, повторила:
— Как странно, что он знает твое имя!
Мои неосторожные слова произвели на нее сильное впечатление. Я не мог дальше молчать и, снова повернувшись к ней, сделал вид, что только теперь заметил ее. Я выразил радость, что ее вижу, и поблагодарил за гостеприимство.
Расспросив меня о моем здоровье, она сказала:
— Но откуда вы знаете имя Авроры?
— Авроры? — ответил я. — Вам кажется странным, что я знаю ее имя? Сципион так мастерски нарисовал мне ее портрет, что я узнал ее с первого взгляда. Вот она!
И я указал на квартеронку, которая немножко отступила назад и стояла молча, с удивлением глядя на меня.
— Вот как! Сципион говорил вам о ней?
— Да, сударыня. У нас с ним был сегодня очень длинный разговор. Он много рассказывал мне о жизни на плантации. Я уже познакомился и со старой Хлоей, и с малюткой Хло, и со многими вашими людьми. Ведь я новичок в Луизиане, и все это меня живо интересует.
— Я рада, что вы так хорошо себя чувствуете, мсье, — ответила Эжени, как будто удовлетворенная моим объяснением. — Доктор уверяет, что вы скоро совсем поправитесь. Благородный чужестранец! Я слышала, где вы получили вашу рану. Это из-за меня! Вы меня защищали! Ах, как мне отблагодарить вас? Чем отплатить за спасение моей жизни?
— Вам не за что благодарить меня, сударыня. Я только выполнил свой долг. Спасая вас, я не подвергался большой опасности.
— Не подвергались опасности, сударь? Вы дважды рисковали жизнью! Вам угрожал нож убийцы и смерть на дне реки. Но уверяю вас, моя благодарность не уступит вашему великодушию. Так велит мне сердце! Увы, мое бедное сердце полно благодарности и печали.
— Да, сударыня, я понимаю, — вы горюете о потере верного слуги.
— Нет, сударь, не слуги, а друга. Скажите лучше — верного друга! После смерти отца он стал мне вторым отцом. Все мои заботы были его заботами, все мои дела находились в его руках. Я не знала никаких тревог. А теперь — увы! — я не ведаю, что меня ждет.
Но тут голос ее изменился, и она взволнованно спросила:
— Вы говорили, что в последнюю минуту видели, как он боролся с ранившим вас негодяем?
— Да, и больше я не видел ни того, ни другого.
— Значит, нет никакой надежды! Через несколько минут пароход затонул. Ах! Бедный Антуан! Бедный Антуан!
Она горько заплакала; я и раньше заметил на лице ее следы слез. Я ничем не мог утешить ее. Да я и не пытался. Ей было лучше выплакаться. Только слезы могли принести ей облегчение.
— И кучер Пьер, один из моих самых преданных слуг, тоже погиб. Я очень жалею и его. Но Антуан был другом моего отца и моим другом. Ах, какое горе, какое горе! Одна, без друзей. А мне скоро будут так нужны друзья! Бедный Антуан!
Она плакала, говоря это. Аврора была тоже вся в слезах. И я, глядя на них, не мог удержаться, и, как бывало в детские годы, слезы закапали у меня из глаз.
Наконец Эжени прервала эту грустную сцену. Справившись со своим горем, она подошла ко мне и сказала:
— Мсье, боюсь, что теперь я буду очень невеселой хозяйкой. Мне нелегко забыть моего друга, но я уверена, что вы мне простите, если я иногда поддамся своей печали. А пока до свидания. Я скоро опять навещу вас и прослежу, чтобы за вами был хороший уход. В этом домике вы будете вдали от шума, и ничто вас не потревожит. Конечно, это нехорошо, что я сегодня ворвалась к вам. Доктор не велел вас беспокоить, но я… я не могла больше ждать… Я должна была увидеть моего спасителя и высказать ему свою благодарность. Прощайте, прощайте!.. Идем, Аврора!
* * *
Я остался один и задумался об этом посещении. Я чувствовал искреннюю дружбу к Эжени Безансон, даже больше, чем дружбу, — горячую симпатию, и я не мог отделаться от ощущения, что ей грозит какая-то беда и что над этой юной головкой, вчера еще такой беззаботной и веселой, сегодня собирается грозная туча.
Да, я чувствовал к ней расположение, дружбу, симпатию, но больше ничего. Почему я не полюбил ее, такую молодую, красивую, богатую? Почему?
Потому что я полюбил другую. Я полюбил Аврору!
Глава 19
ЛУИЗИАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Кому могут быть интересны подробности жизни больного, прикованного к своей постели? Никому, разве что самому больному. Моя жизнь была очень однообразна и наполнена всякими мелочами, ее скучное течение оживляло лишь появление любимой девушки. В эти минуты мое уныние сразу проходило, а постылая комната казалась мне раем..
Увы! Эти посещения длились всего несколько минут, а промежутки между ними тянулись часами. Эти долгие часы казались мне сутками… Дважды в день навещала меня моя прелестная хозяйка со своей служанкой. Но ни та, ни другая никогда не приходила одна.
Это очень стесняло меня, а порой приводило в отчаяние. Я разговаривал с креолкой, тогда как все мысли мои были заняты квартеронкой, с которой я мог лишь обмениваться взглядами. По здешним обычаям, мне не полагалось разговаривать с невольницей, однако все условности мира не могли помешать мне вести с ней безмолвный, но выразительный разговор.
Но и тут мне приходилось все время сдерживать себя. Я мог лишь украдкой бросать на нее восхищенные взгляды, так как боялся себя выдать. Во-первых, я опасался, что квартеронка неправильно истолкует их и не ответит на мою любовь, во-вторых, что креолка слишком хорошо поймет меня и это вызовет ее гнев и возмущение. Я совершенно не думал, что могу возбудить ее ревность, это мне и в голову не приходило. Эжени была серьезна, приветлива и дружелюбна со мной, но в ее спокойном поведении в сдержанном голосе не было никаких признаков любви. Трагическое происшествие и тяжелая утрата, по-видимому, резко изменили ее характер. Она как будто совсем потеряла свою беззаботность и жизнерадостность. Из веселой девушки она сразу же превратилась в серьезную женщину. Она была все так же красива, но я смотрел на нее, как на прекрасную статую. Ее красота ничего не говорила моему сердцу, занятому более редкой и своеобразной красотой. Креолка не любила меня, и, как ни странно, эта мысль не задевала моего самолюбия, а, наоборот, радовала меня.
Совсем другое дело, когда я думал о квартеронке! Любит ли она меня? Вот вопрос, на который я мучительно жаждал ответа. Она всегда сопровождала свою хозяйку, когда та навещала меня, но я не обменялся с ней ни единым словом, хотя сердце мое стремилось поведать ей свою тайну. Я даже боялся, что мои страстные взгляды выдадут меня. Если б мадемуазель Эжени узнала о моей любви, она была бы возмущена. Как! Влюбиться в невольницу! В ее невольницу!
Я понимал ее чувства — ведь она жила в стране, где черная кожа делала человека отверженным. Но что мне до этого? Что мне за дело до обычаев и предрассудков, которые я всегда презирал в душе? Тем более теперь. Ведь любовь всех равняет! Перед лицом Любви знатность теряет свое пустое обаяние, а громкие титулы становятся лишь пошлыми условностями. Одна только Красота достойна поклонения.
Что до меня, то я не побоялся бы сказать о своей любви всему свету; его презрение ничуть не трогало меня. Меня останавливало другое: учтивость, которой я должен был отплатить за гостеприимство и дружбу, и менее благородное, но очень разумное желание соблюдать осторожность. Я оказался в чрезвычайно сложном положении и прекрасно это понимал. Я знал, что, даже если квартеронка разделяет мое чувство, его нужно хранить в глубокой тайне. Если бы мне предстояло ухаживать за знатной молодой девушкой, наследницей громадного состояния, которая находится под неусыпным надзором строгой наставницы или целой армии сторожей, для меня было бы детской игрой справиться с окружающими ее препятствиями. Писать сонеты и карабкаться на стены — пустая забава по сравнению с борьбой против страстей и предрассудков целого народа.
Передо мной стояла очень трудная задача. Путь моей любви, по-видимому, будет тернистым путем.
* * *
Несмотря на однообразие жизни в четырех стенах, дни моего выздоровления прошли для меня довольно приятно. Меня окружали всеми удобствами, всем, что могло доставить мне удовольствие. Мороженое, прохладительные напитки, прекрасные цветы, редкие фрукты — я ни в чем не знал недостатка. Что касается моих трапез, то благодаря кулинарному искусству подруги Сципиона Хлои я познакомился с такими изысканными креольскими блюдами, как гумбо — отварная рыба с пряностями, жареные лягушки, горячие вафли, тушеные помидоры, а также со многими другими деликатесами луизианской кухни. Я даже не отказался съесть кусочек жареного опоссума, изготовленного собственными руками Сципиона, и однажды рискнул попробовать ломтик енота, но это было всего один раз, и то я почувствовал, что и одного раза более чем достаточно.
Сципион же без всяких колебаний поглощал этих своеобразных представителей лисьей породы и мог уничтожить добрую половину этого зверя за один присест.
Постепенно я познакомился с нравами и обычаями жителей луизианских плантаций. Старый Зип был моим наставником и постоянным собеседником. Когда мне надоедало болтать с ним, к моим услугам были книги, стоявшие на полках в моей комнате, главным образом французские. Среди них я нашел почти все, что было написано о Луизиане: по-видимому, составитель этой небольшой библиотеки был человеком весьма сведущим. Там же я нашел и прелестный роман Шатобриана[27], а также историю дю Пратца[28]. Прочитав роман, я убедился, что в нем не хватает той правдивости, которая составляет, по-моему, главную прелесть всякого художественного произведения и которой не может достигнуть автор, пытающийся изобразить события и нравы, известные ему только понаслышке.
Что касается историка, то его книга была полна наивных преувеличений, характерных для писателей того времени. Это можно сказать решительно обо всех старых авторах, писавших об Америке, будь то англичане, испанцы или французы, — они описывали двухголовых змей, крокодилов длиной в двадцать ярдов или удавов такой величины, что они заглатывали всадника вместе с лошадью. Трудно понять, как эти авторы, рассказывая подобные небылицы, пользовались доверием читателей. Однако не следует забывать, что естественные науки находились тогда еще в младенческом состоянии, и никто не мог проверить эти «рассказы очевидцев».
Больше всего заинтересовали меня приключения и печальная судьба Ла Салля, и я очень удивлялся, что американские писатели не постарались осветить жизнь этого доблестного рыцаря, а также один из самых ярких эпизодов в истории своей страны, такой же интересной, как и ее природа.
«Ах, до чего же тут красиво!» — воскликнул я, когда в первый раз сел у окна и окинул взглядом открывшийся передо мной пейзаж.
Окно в моей комнате, как и все окна в креольских домах, доходило до самого пола. Когда я уселся в низком кресле перед распахнутым окном и откинул тонкие занавески, передо мной открылся широкий вид на равнину.
Это была великолепная картина! Ее яркие краски показались бы неправдоподобными, если бы их воспроизвел живописец. Мое окно выходило на запад, и величественная река катила передо мной свои желтые воды, сверкавшие на солнце, как чистое золото. На том берегу реки тянулись обработанные поля, на которых плавно качались высокие стебли сахарного тростника, резко выделяясь на фоне более темной зелени табачных плантаций. На этом берегу, недалеко от меня, стоял красивый дом, похожий на итальянскую виллу, с зелеными жалюзи и широкими верандами. Он был окружен апельсиновыми и лимонными деревьями, и их желтовато-зеленая листва весело блестела на солнце. Вокруг не видно было гор — их нет в Луизиане, но высокая темная стена кипарисов, окаймлявшая западный край равнины, напоминала далекую горную цепь.
Я находился в очень живописном уголке — в обнесенном оградой парке поместья Безансонов. Здесь я мог рассмотреть ближайшие растения и определить породу деревьев и кустарников, окаймлявших аллеи. Я видел магнолию с большими белыми, словно восковыми цветами, напоминающую огромную гвианскую нимфу. Некоторые из ее цветов уже осыпались, и на их месте виднелись красные, как кораллы, шишки с семенами — пожалуй, не менее красивые, чем цветы.
Рядом с магнолией, королевой западных лесов, соперничая с ней красотой и благоуханием и не уступая ей в славе, росло другое иноземное дерево, привезенное сюда с Востока и давно прижившееся в этой стране. Его широкие перистые листья с двойной окраской — темного и светло-зеленого цвета, его сиреневые цветы, висящие длинными кистями на концах ветвей, его желтые, похожие на вишни плоды, кое-где уже заменившие цветы и даже созревшие, — все ясно говорило о том, что это за дерево. Оно принадлежало к породе медоносных деревьев и называлось «индийская сирень», или «гордость Китая». Названия, данные этому прекрасному дереву в разных странах, свидетельствуют о том, как высоко его ценят. «Дерево превосходства» — поэтично назвали его в Персии, на его родине; «райское дерево» — говорили в Испании, куда оно было привезено. Таковы многообразные названия этого дерева.
Я видел здесь еще много деревьев, и местных и иноземных. Раньше других я заметил катальпу с серебристой корой и трубчатыми цветами, маклюру с блестящими темными листьями, красное тутовое дерево с густой, тенистой листвой и длинными малиновыми плодами, похожими на шипы. Из экзотических деревьев я видел апельсины, лимоны, вест-индские и флоридские гуавы с листьями, похожими на листья самшита; тамариск, густо покрытый мелкими листиками и усеянный пышными метелками бледно-розовых цветов; гранаты, считающиеся символом демократии, «королеву, которая носит свою корону на груди», и знаменитое фиговое дерево, не имеющее цветов; здесь оно не нуждалось в подпорках и гордо поднималось вверх, достигая тридцати футов высоты.
Нельзя считать иноземными и такие растения, как юкка с пучками острых, торчащих во все стороны листьев, или разнообразные кактусы, ибо они не чужды луизианской земле и встречаются среди растительного мира соседних областей.
Пейзаж, который я наблюдаю из окна, оживляет присутствие людей. Поверх кустарника выступают белые ворота парка, а за ними видна дорога, идущая вдоль берега. Хотя деревья местами скрывают ее от меня, я все же вижу в просветы, как по ней идет и едет народ. Креолы обычно носят голубые костюмы: на них соломенные шляпы, так называемые пальметто, или более дорогие панамы с широкими полями, защищающими их от солнца. Время от времени скачет верхом негр; голова у него повязана чем-то вроде чалмы, ибо мадрасский клетчатый головной убор очень похож на турецкий, но куда легче и красивее. Иногда проезжает открытый экипаж, и я мельком вижу молодых дам в легких кисейных платьях. Я слышу их звонкий смех и знаю, что они едут на какой-нибудь веселый праздник. Мимо проходят и рабы с дальних сахарных плантаций, они часто поют хором; по реке иногда с шумом проплывет пароход, а чаще тихо скользит плоскодонная баржа или плот, на котором видны плотогоны в красных рубашках…
Все это проходит у меня перед глазами, доказывая, что жизнь здесь бьет ключом.
Еще ближе, перед моим окном, летает множество птиц. Пересмешник свистит на вершине высокой магнолии, а его родная сестра — красногрудка, опьяненная плодами мелии, — отвечает ему нежной песней. Иволга прыгает с ветки на ветку среди апельсинов, а красный кардинал, расправив свои пунцовые крылья, порхает среди зарослей кустарника. Иногда промелькнет маленькая «рубиновая шейка», или колибри, блеснув в воздухе, как драгоценный камень. Она чаще всего кружит над красными, не имеющими запаха цветами американского каштана или над крупными трубчатыми цветами бигнонии.
* * *
Такой вид открывался из окна моей комнаты. Мне казалось, что я никогда не видел более красивого пейзажа. Правда, я не был беспристрастным наблюдателем. Любовь туманила мне глаза, и, вероятно, все представлялось мне в розовом свете. Я не мог смотреть вокруг, не думая о прекрасной девушке, и не хватало только ее присутствия, чтобы все окружающее показа— лось мне верхом совершенства.
Глава 20
МОЙ ДНЕВНИК
Чтобы внести некоторое разнообразие в свою монотонную жизнь, я начал вести дневник. Дневник больного, не выходящего из своей комнаты, конечно, не богат событиями. В моем было больше размышлений, чем фактов. Я привожу несколько выдержек из него не ради их особого интереса, а потому, что, написанные в ту пору, они правдиво передают мои мысли и кое-какие мелкие происшествия, случившиеся за время моей жизни в поместье Безансонов.
* * *
12 июля. Сегодня я могу сидеть и даже немного писать. Стоит сильная жара. Она была бы невыносима, если бы не легкий ветерок, освежающий мою комнату и наполняющий ее ароматом цветов. Этот ветерок дует с Мексиканского залива и пролетает над озерами Борнь, Поншартрен и Морепа. Я нахожусь в сотне миль от залива, вверх по течению реки, но эти большие внутренние моря соединяются с дельтой Миссисипи, и во время прилива море катит свои волны почти до Нового Орлеана и даже еще дальше к северу. От Бринджерса можно быстро добраться до морской воды, если идти прямо через болота.
Морской ветер — большое благодеяние для населения Нижней Луизианы. Если бы не его освежающее дыхание, жить в Новом Орлеане летом было бы почти невозможно.
* * *
Сципион сказал мне, что на плантацию прибыл новый надсмотрщик. Очевидно, его прислал «масса Доминик», так как он явился с письмом от Гайара. Это весьма вероятно.
Новоприбывший произвел не очень приятное впечатление на Сципиона. По его словам, он из «белой голи», да притом еще янки. Я заметил, что негры часто относятся с неприязнью к «белой голи», как они называют людей, не имеющих ни земель, ни рабов. Самая кличка уже выражает пренебрежение, и когда негр называет так белого, тот считает это достаточным основанием для того, чтобы немедленно пустить в ход ременную плеть или «отполировать ему шкуру» палкой.
Среди рабов распространено убеждение, будто самые жестокие надсмотрщики — это уроженцы Новой Англии, или янки, как их называют на Юге. Это прозвище, которым иностранцы презрительно именуют всякого американца, в Соединенных Штатах имеет более узкое значение, и когда его употребляют как обидную кличку, оно обозначает только уроженцев Новой Англии. Обычно же ему придается шутливо-патриотический оттенок, и в этом смысле каждый американец с гордостью называет себя янки. Но у южных негров «янки» — бранное слово: в их представлении это человек без денег, низкий и злой. Для них это прозвище означает грубую брань, побои и всякие издевательства. Странно сказать, но для них слово «янки» — символ хлыста, колодок и бесчеловечного обращения. Это тем более удивительно, что штаты Новой Англии — колыбель пуританизма, где исповедуется самая суровая религия и строгая мораль.
Но странным это кажется только на первый взгляд. Один южанин так объяснил мне это явление: «Как раз в тех странах, где распространены пуританские взгляды, больше всего процветают всевозможные пороки. Поселения Новой Англии — оплот пуританизма — поставляют наибольшее число мошенников, шарлатанов и пройдох, позорящих имя американца, и это неудивительно: таково неизбежное следствие религиозного ханжества. Истинную веру подменяют чисто внешним благочестием и формальным соблюдением обрядности, и люди забывают о долге перед своим ближним; сознание долга отходит на второй план, и им пренебрегают».
Такое объяснение показалось мне убедительным.
* * *
14 июля. Сегодня мадемуазель Эжени два раза заходила ко мне; ее, как всегда, сопровождала Аврора.
Наши беседы нельзя назвать непринужденными, они всегда как-то натянуты и длятся очень недолго. Эжени по-прежнему грустна, в каждом ее слове слышится печаль. Сначала я думал, что она горюет по Антуану, но пора бы уж ей примириться с этой утратой. Мне кажется, дело не в этом. Ее гнетет еще какая-то забота. А я принужден постоянно себя сдерживать. Присутствие Авроры смущает меня, и я с трудом веду обычный незначительный разговор. Аврора не принимает в нем участия, она стоит возле двери или позади своей госпожи, почтительно слушая. Когда я пристально смотрю на нее, ее длинные ресницы тотчас опускаются и не дают мне заглянуть ей в душу. О, как мне высказать ей свое чувство?
* * *
15 июля. Сципиону недаром не понравился надсмотрщик. Первое впечатление его не обмануло. По двум-трем мелким фактам, которые мне рассказали, я убедился, что этот человек — плохая замена доброму Антуану.
Кстати, о бедном Антуане: пронесся слух, будто его тело было выброшено на берег вместе с плавучим лесом ниже нашей плантации, но оказалось, что это ошибка. Там действительно нашли тело, но не управляющего, а какого-то бедняги, которого постигла такая же участь. Интересно знать, утонул ли негодяй, ранивший меня.
В Бринджерсе нашли приют еще много пострадавших. Некоторые умерли от ран и ожогов, полученных на пароходе. Самая мучительная смерть — от ожогов паром. Иные думали, что отделались пустяком, а теперь они доживают последние дни. Доктор рассказал мне много страшных подробностей.
Один из кочегаров был ужасно изуродован: ему оторвало нос. Он понимал, что дни его сочтены, однако потребовал, чтобы ему дали зеркало. Когда его желание исполнили, он взглянул на себя, разразился дьявольским смехом и воскликнул: «Ах, будь ты проклят! Ну и безобразный же выйдет из меня покойник!»
Такая бесшабашность характерна для здешнего речного люда. Еще не перевелись потомки Майка Финка[29], много представителей этого дикого племени и до сих пор еще бороздят воды широких западных рек.
* * *
20 июля. Сегодня мне гораздо лучше. Доктор обещает, что через неделю я уже смогу выходить из комнаты. Это меня очень радует, хотя неделя кажется долгим сроком для того, кто не привык сидеть взаперти. Однако книги помогут мне скоротать время. Честь и слава людям, писавшим книги!
* * *
21 июля. Сципион не изменил своего мнения о новом надсмотрщике. Его зовут Ларкин. Негр говорит, что его прекрасно знают в Бринджерсе и называют Билл-бандит — прозвище, по которому можно судить о его характере. Многие невольники, работающие в поле, жаловались Сципиону на его жестокость и говорили, что он становится хуже с каждым днем. Он никогда не расстается с ременной плетью и уже раза два пускал ее в ход самым зверским образом.
Сегодня воскресенье, и, судя по шуму в негритянском поселке, там веселятся вовсю. Я вижу, как разодетые в пестрое платье негры гуляют по дороге вдоль реки. Мужчины — в белых касторовых шляпах, длиннополых синих сюртуках и белых рубашках с огромными жабо, а женщины — в цветастых ситцевых платьях, а иногда даже в пестрых шелках, словно они собрались на бал. У многих в руках шелковые зонтики, конечно, самых ярких оттенков. Глядя на них, можно подумать, что жизнь этих рабов не так уж тяжела; однако стоит посмотреть на ременную плеть мистера Ларкина, как это впечатление сразу исчезает.
* * *
24 июля. Сегодня мне особенно бросилась в глаза тайная печаль, которая омрачает лицо Эжени. Теперь я убежден, что ее грусть вызвана не смертью Антуана. Еще какая-то другая забота удручает ее. Нынче она снова бросила на меня такой же загадочный взгляд, какой я заметил в день нашей первой встречи. Но он был так мимолетен, что я не понял его значения, тем более что и глаза мои и сердце были заняты другой.
Аврора смотрит на меня уже не так робко и, кажется, с интересом прислушивается к моим словам, хотя они обращены не к ней. Так ли это? Если бы я мог с ней поговорить, это немножко успокоило бы мое сердце, которому все труднее переносить это вынужденное молчание.
* * *
25 июля. Несколько негров из поселка вчера проштрафились. Они получили разрешение побывать в городе и вернулись очень поздно. Билл-бандит все утро жестоко порол их всех подряд, и они ушли от него, обливаясь кровью. Для надсмотрщика-новичка он проявляет уж слишком большую прыть, но Сципион где-то слышал, что такая работа ему не внове. Их госпожа, конечно, ничего не знает об этой дикой расправе.
* * *
26 июля. Доктор обещает выпустить меня из дому через три дня. Я все больше уважаю этого человека, особенно с тех пор, как узнал, что и он недолюбливает Гайара. Он даже его и не лечит. В поселке есть другой доктор, который лечит Гайара и его рабов, а также негров с плантации Безансонов. Но он был в отлучке, поэтому ко мне позвали Рейгарта. В силу врачебной этики, а также по моей просьбе меня не передали другому врачу, и Рейгарт продолжает лечить меня. Я видел его коллегу, он как-то заходил ко мне с доктором Рейгартом и показался мне достойным другом Гайара.
Рейгарт не так давно приехал в Бринджерс и быстро завоевал уважение местных плантаторов. Правда, многие из них, особенно наиболее крупные, держат собственных медиков и платят им большие деньги. Им невыгодно пренебрегать здоровьем своих рабов, и поэтому здесь часто лечат их лучше, чем лечат «белую голь» во многих европейских странах.
Я попытался выведать у доктора что-нибудь об отношениях между Гайаром и Безансонами. Разумеется, я мог касаться этой темы только намеками и узнал очень немного. Доктор по характеру замкнутый человек, к тому же излишняя болтливость не вяжется с его профессией и могла бы повредить ему в глазах здешних жителей. Он либо очень мало знает об этих делах, либо делает вид, что мало знает; однако по некоторым его словам я заключил, что последнее вернее.
— Бедная молодая леди, — сказал он, — совсем одна на свете! У нее, кажется, есть тетка или какая-то родственница в Новом Орлеане, но нет мужчины, который занялся бы ее делами. По-видимому, все в руках у Гайара.
Я узнал от доктора, что отец Эжени считался прежде одним из самых крупных плантаторов на побережье, что он был известным хлебосолом и дом его был открыт для всех. В поместье балы и празднества постоянно сменяли друг друга, особенно в последние годы. Это расточительство продолжалось и после его смерти, и Эжени Безансон по-прежнему принимает гостей своего отца с отцовской щедростью. У нее очень много поклонников, но доктор не слышал, чтобы она кому-нибудь из них оказывала предпочтение. Гайар был близким другом Безансона. Почему — никто не мог сказать. Трудно было найти людей, столь противоположных по своему характеру. Некоторые считали, что их дружба похожа на отношения кредитора с должником.
Сведения, полученные мною от доктора, подтверждают рассказы Сципиона. Они также подтверждают мои догадки, что над головой молодой креолки собираются тучи, такие темные, какие никогда не омрачали ее юность, пострашнее даже, чем гибель Антуана.
* * *
28 июля. Сегодня у нас был Гайар, я хочу сказать — в большом доме. Впрочем, он бывает у мадемуазель Эжени почти каждый день; но сегодня Сципион рассказал мне нечто новое и очень странное. Несколько рабов, избитых новым надсмотрщиком, пожаловались своей госпоже, и она заговорила об этом с Гайаром. Он же ответил ей, что «эти негодяи получили по заслугам, да еще не все сполна», а затем решительно поддержал негодяя Ларкина, которому явно покровительствует. Эжени молча выслушала его.
Сципион узнал это от Авроры. Его рассказ очень знаменателен.
Бедный Сципион поделился со мной еще своей личной бедой. Он заметил, что надсмотрщик заглядывается на его малютку Хло. Каков негодяй! Неужели это правда? У меня кровь кипит от негодования! О рабство!
* * *
2 августа. Я снова услышал кое-что о Гайаре. Он был в большом доме и сидел у мадемуазель Эжени гораздо дольше, чем всегда. О чем они могли говорить? Неужели ей приятно его общество? Нет, быть не может! Зачем же эти частые посещения, эти долгие беседы? Если она выйдет замуж за этого человека, мне очень жаль ее. Бедная жертва — ибо она, конечно, станет его жертвой. Видно, у него какая-то власть над ней, если он смеет так себя вести. Он держится на плантации, как хозяин, говорит Сципион, и приказывает всем, словно господин. Все боятся его и «погонялу», как называют негры негодяя Ларкина. Больше всех боится его Сципион, который видел, как тот опять приставал к маленькой Хлое. Бедняга! Он просто в отчаянии. И вполне понятно, если даже закон лишает его права защитить честь собственной дочери. Я обещал ему поговорить с мадемуазель Эжени, но, судя по рассказам, боюсь, что она так же бессильна, как и сам Сципион.
* * *
3 августа. Сегодня я первый раз вышел из комнаты. Прошелся по плодовому саду и среди цветников. Под апельсиновыми деревьями я встретил Аврору, собиравшую золотистые плоды; но с ней была маленькая Хлоя, державшая корзинку. Чего бы я ни дал, чтобы встретить Аврору одну! Увы, я мог только обменяться с ней несколькими словами, а затем она ушла.
Аврора поздравила меня с тем, что я уже могу выходить, и как будто обрадовалась, увидев меня, — так мне показалось. Она была прелестна, как никогда. Срывая апельсины, она разгорячилась, яркий румянец играл на ее щеках, и темные глаза сияли, как сапфиры. Ее грудь вздымалась и опускалась, а легкое платье не скрывало благородных линий ее фигуры.
Я был очарован изяществом ее походки, когда она удалялась от меня. На ходу ее стан грациозно покачивался, что объяснялось характерной для женщин ее племени склонностью к полноте. Она очень женственна и прекрасно сложена. У нее маленькие, изящные руки, а легкие ножки, кажется, едва касаются земли. Восхищенный, я долго смотрел ей вслед. И когда я вернулся в свою одинокую комнату, любовь моя разгорелась еще сильнее.
Глава 21
ПЕРЕЕЗД В ГОСТИНИЦУ
Я думал о моем кратком свидании с Авророй, с радостью вспоминал несколько сказанных ею ласковых слов и был счастлив, предвкушая, что теперь, когда я могу выходить в сад, наши встречи участятся, как вдруг в разгар моих сладких мечтаний в дверях моей комнаты, загораживая свет, выросла чья-то темная фигура.
Я поднял глаза и увидел ненавистное лицо Доминика Гайара.
Это было его второе посещение с того дня, как я попал на плантацию. Что ему надо от меня?
Я недолго ждал разгадки, так как мой посетитель, не извинившись за свое внезапное вторжение, приступил прямо к делу.
— Сударь, — сказал он, — я отдал распоряжение о вашем переезде в гостиницу в Бринджерсе.
— Вот как? — ответил я с возмущением, таким же резким тоном, как и он. — А кто, позвольте вас спросить, поручил вам эту заботу?
— А… а… — пробормотал он, слегка смущенный моим суровым приемом.
— Простите, сударь, быть может, вы не знаете, что я доверенное лицо, друг и опекун мадемуазель Безансон и… и…
— Значит, мадемуазель Безансон желает, чтобы я переехал в Бринджерс?
— Гм… По правде сказать, это не совсем ее желание, но, видите ли, дорогой сэр, дело очень деликатное. Если вы останетесь здесь теперь, когда вы уже почти поправились, — с чем я вас, конечно, поздравляю, — вы… вы…
— Продолжайте, сэр!
— Ваше пребывание здесь при данных обстоятельствах дало бы, вы сами понимаете, сэр… дало бы повод для разных толков среди соседей. Оно могло бы показаться неприличным…
— Постойте, господин Гайар! Я уже вышел из возраста, чтобы слушать ваши наставления.
— Простите, сэр. Я не хотел вас учить, но я… Поймите меня, я, как опекун молодой девушки…
— Довольно, сэр! Я вас прекрасно понял. Ради своих личных целей, каковы бы они ни были, вы хотите, чтобы я поскорее покинул плантацию. Ваше желание будет исполнено. Я уеду отсюда, хотя и не затем, чтобы вам угодить. Уеду сегодня же вечером.
Поняв скрытое значение моих слов, он вздрогнул, как от электрического тока. Лицо его побледнело, а брови нахмурились. Я коснулся тайных струн его души, и это было ему явно неприятно. Однако старый пройдоха тут же овладел собой и, словно не заметив моих намеков, сказал с лицемерным огорчением:
— Сэр, я очень сожалею, но это необходимо. Вы понимаете, мнение общества… суетного, назойливого общества…
— Избавьте меня от нравоучений, сэр! Вы добились своего, и в вашем обществе здесь больше не нуждаются.
— Гм… — пробормотал он. — Мне очень жаль, что вы так отнеслись к моим словам, очень жаль… — И, сказав еще несколько бессвязных слов, он удалился.
Я подошел к двери, чтобы взглянуть, куда он пойдет от меня. Он направился прямо к дому. Я видел, как он в него вошел.
Это посещение застало меня врасплох, хотя и не было для меня полной неожиданностью. После слышанного мною разговора Гайара с доктором все это можно было предвидеть. Однако я не думал, что мне придется так скоро покинуть плантацию. Я собирался прожить здесь еще неделю-другую и переехать в гостиницу, когда окончательно поправлюсь.
Я был огорчен по многим причинам. Меня возмущало, что этот негодяй пользуется здесь такой властью, ибо я был уверен, что мадемуазель Безансон не причастна к моему изгнанию. Наоборот, она была у меня всего несколько часов назад и ни словом не обмолвилась о моем отъезде. Быть может, она знала о нем, но не хотела со мной говорить? Нет, вряд ли. Я не заметил никакой перемены в ее обращении. Она была так же приветлива, также беспокоилась о моем здоровье, так же заботилась о моих удобствах, пище, обо всех мелочах моей жизни, как и всегда. Она, конечно, не предвидела той внезапной перемены, о которой говорил Гайар. Подумав, я пришел к убеждению, что он даже не посоветовался с ней. Какова же власть этого человека, если он может заставить ее нарушить законы гостеприимства! Мне было больно думать, что это прелестное создание находится во власти такого негодяя.
Но другая мысль была для меня еще мучительней — мысль о разлуке с Авророй. Конечно, мне и в голову не приходило, что я расстаюсь с ней навсегда. Нет! Иначе я не уступил бы так легко. Гайару пришлось бы силой выгнать меня из дому. Разумеется, я не думал, что переезд в гостиницу лишит меня возможности бывать на плантации.
В сущности, переезд мало изменит мое положение. Навещая их как знакомый, я буду чувствовать себя более независимо, чем когда жил у них в доме. Быть может, мне станет даже легче встречаться с той, кого я люблю. Я могу приезжать сюда так часто, как мне вздумается. У меня останутся те же возможности увидеть ее. Я жаждал только одного — свидания наедине с Авророй, а затем — либо блаженство, либо разбитые надежды!
Однако в ту минуту меня тревожили и другие заботы. На что я буду жить в гостинице? Поверит ли хозяин мне на слово и захочет ли ждать, пока я получу деньги из дому? Платье у меня было, хоть я и получил его таинственным путем. Однажды, проснувшись утром, я нашел его у своей постели. Я не стал расспрашивать, откуда оно, предпочитая поговорить об этом позже. Но как мне быть с деньгами, откуда их достать? Неужели просить в долг у мадемуазель Безансон? Или занять у Гайара? Трудное положение!
Но тут я вспомнил о докторе Рейгарте. Я представил себе его спокойное, приветливое лицо.
«Вот выход! — подумал я. — Он мне поможет!» Казалось, мои мысли передались ему, так как в ту же минуту вошел мой милый доктор, и я поведал ему все свои затруднения.
Я не ошибся в нем. Он тотчас положил на стол свой кошелек, предложив взять из него столько денег, сколько мне нужно.
— Меня очень удивляет желание Гайара поскорее удалить вас отсюда, — сказал он. — Тут кроется не только беспокойство о репутации молодой девушки. Нет, здесь что-то другое. Но что?
Доктор говорил, словно обращаясь к самому себе и ища ответа в собственных мыслях.
— Я очень мало знаю мадемуазель Безансон, — продолжал он, — иначе я счел бы своим долгом докопаться, в чем тут дело. Но Гайар — ее опекун, и если он настаивает, чтобы вы уехали, то, пожалуй, вам следует исполнить его желание. Она, кажется, не вправе даже распоряжаться собой. Бедняжка! Боюсь, что за всем этим скрывается крупный долг. А если так, она скоро попадет в худшую неволю, чем все ее рабы. Бедная девушка!
Рейгарт был прав. Если бы я остался, это могло бы только повредить ей. Я согласился с ним.
— Я хотел бы сейчас же уехать, доктор.
— Моя коляска стоит у ворот. Пожалуйста, я могу доставить вас в Бринджерс.
— Спасибо! Это как раз то, о чем я хотел вас попросить. С радостью принимаю ваше предложение. У меня сборы короткие — через несколько минут я буду готов.
— А я, пожалуй, пойду в большой дом и предупрежу мадемуазель Безансон о вашем отъезде.
— Будьте так добры. Гайар, наверно, еще там?
— Нет. Я встретил адвоката недалеко от ворот, он шел домой. Думаю, она теперь одна. Я поговорю с ней и вернусь за вами.
Доктор оставил меня и направился к дому. Вскоре он вернулся и передал мне все, что узнал. Он был очень удивлен тем, что услышал от мадемуазель Безансон. Час тому назад Гайар сказал ей, что я заявил ему о своем желании переехать в гостиницу. Она очень удивилась, так как я ни словом не заикнулся об этом во время нашей последней беседы. Сначала она не хотела и слышать о моем отъезде, но Гайар привел веские доводы, чтобы убедить ее в разумности такого шага; доктор от моего имени тоже настаивал на этом. В конце концов она согласилась, хотя и очень неохотно. Сообщив мне все это, доктор прибавил, что она ждет меня.
Сципион провел меня в гостиную. Мадемуазель Эжени сидела на диване, но, когда я вошел, встала и пошла мне навстречу. Я увидел слезы на ее глазах.
— Правда ли, сударь, что вы собираетесь покинуть нас?
— Да, сударыня. Я уже совсем здоров. Я пришел поблагодарить вас за радушное гостеприимство и попрощаться с вами.
— Гостеприимство! Ах, сударь, какое же это гостеприимство, если я позволяю вам так скоро покинуть нас! Я хотела бы, чтобы вы остались, но… — Тут она смутилась. — Но вы не должны считать себя здесь чужим, даже если переедете в гостиницу. Бринджерс очень близко. Обещайте, что вы будете постоянно бывать у нас — каждый день!
Мне незачем говорить, что я охотно и с радостью дал это обещание.
— Теперь, когда вы дали слово, мне будет не так грустно с вами расстаться. До свиданья!
Она протянула мне руку на прощанье, а я взял ее нежные пальчики и почтительно поцеловал. Глаза ее снова наполнились слезами, и она отвернулась, чтобы их скрыть. Я был уверен, что, будь на то ее воля, она не разрешила бы мне уехать. Она была не из тех, кто боится сплетен и пересудов. Нет, тут крылась другая причина.
Я вышел в прихожую и с тревогой огляделся вокруг. Где она? Неужели я не услышу от нее ни слова на прощанье? В это время боковая дверь тихонько приоткрылась. Сердце бурно забилось у меня в груди. Аврора! Я не решался говорить громко, меня услышали бы в гостиной. Взгляд, шепот, быстрое пожатие руки — и я вышел. Но ее ответное пожатие, хотя очень слабое и робкое, наполнило мое сердце радостью, и я направился к воротам гордым шагом победителя.
Глава 22
АВРОРА МЕНЯ ЛЮБИТ!
«Аврора меня любит!»
К этому заключению я пришел значительно позже того дня, когда покинул плантацию и переселился в Бринджерс. А с того времени прошел уже целый месяц.
Жизнь моя за этот месяц вряд ли интересна для моего читателя, хотя каждый ее час, полный надежды и тревоги, до сих пор живет в моей памяти. Когда сердце полно любви, каждый пустяк, связанный с этой любовью, представляется важным и значительным, и память хранит мысли и события, которые в другое время скоро бы забылись. Я мог бы написать целый том о моей жизни за этот месяц, и каждая его строка была бы интересна для меня, но не для вас. Поэтому я и не написал его и даже не привожу здесь моего дневника за это время.
Я по-прежнему жил в гостинице в Бринджерсе и быстро набирался сил. Чаще всего я гулял по полям или по дороге вдоль реки, катался на лодке и удил рыбу в тихих заводях или охотился в зарослях камыша и кипарисовых лесах; иногда я проводил время, играя в бильярд, который вы найдете в каждой луизианской деревне.
Я подружился с доктором Рейгартом и, когда он не был занят практикой, проводил время с ним.
Его книги тоже стали моими друзьями, и по ним я впервые познакомился с ботаникой. Я стал изучать растительность окружающих лесов и вскоре научился с первого взгляда определять породу каждого дерева: исполинские кипарисы, символ печали, с высокими пирамидальными стволами и широко раскинувшимися мрачными темно-зелеными кронами; ниссы, эти водяные нимфы, с длинными нежными листьями и плодами вроде олив; персимон, или американский лотос, с ярко-зеленой листвой и красными, похожими на сливы плодами; величавая магнолия и ее сородич — высокое тюльпанное дерево; рожковое дерево и из того же семейства белая акация с тройными шипами и легкими перистыми листьями, почти не дающими тени; платаны с гладкими стволами и широко раскинутыми серебристыми ветвями; стираксовое дерево, по которому стекают золотистые капли; ароматный и целебный сассафрас и красный лавр с запахом корицы; различные породы дубов, во главе которых стоит величественный вечнозеленый виргинский дуб, растущий в южных лесах; красный бук с висячими кистями; тенистая крушина с широкими сердцевидными листьями и черными ягодами и, наконец, последнее, но не менее интересное дерево — любящий воду тополь. Таковы леса, покрывающие наносную почву луизианской равнины.
Область, изобилующая этими лесами, простирается выше тех мест, где растут пальмы, однако и здесь встречаются некоторые их разновидности — например, латании и саговые пальмы разных пород, так называемые пальметто; местами они образуют густой подлесок и придают всему лесу тропический характер.
Я изучал и паразитов этого растительного царства: огромные черные узловатые лианы толщиной с древесный ствол; стелющийся камыш с красивыми, похожими на звездочки цветами; мускатный виноград с темно-красными гроздьями; бигнонии с трубчатыми цветами; густые бамбуковые заросли; душистую сарсапариль и многие другие.
Меня интересовали и разные виды культурных растений — источник богатства этой страны, — такие, как сахарный тростник, рис, кукуруза, табак, хлопок и индиго. Все они были мне незнакомы, и я с интересом изучал их особенности и способы разведения.
Можно подумать, что весь этот месяц я бездельничал, но в действительности он был самым плодотворным за всю мою жизнь. За этот короткий месяц я получил больше полезных знаний, чем за многие годы обучения в колледже. Но, главное, я узнал то, что было для меня дороже всего на свете: я узнал, что Аврора меня любит!
Я узнал это не из ее уст — она ни слова не сказала мне, и все же я был уверен, что это так, уверен, как в том, что я живу. Никакие знания на свете не могли дать мне такой радости, как одна эта мысль!
* * *
— Аврора меня любит! — так воскликнул я однажды утром, отправляясь из Бринджерса на плантацию.
Я бывал там раза три в неделю, а случалось, и чаще. Иногда я встречал у них гостей, друзей мадемуазель Эжени, иногда заставал ее одну или вдвоем с Авророй. Но ни разу мне не удалось остаться с Авророй наедине. Ах, как я жаждал такого случая!
Официально я, конечно, приходил в гости к мадемуазель Эжени. Я не смел искать свидания с ее невольницей.
Эжени была по-прежнему грустна; теперь мне уж никогда не случалось видеть ее такой оживленной, как раньше. Она бывала подчас очень печальна и никогда не смеялась. Я не был поверенным ее тревог и потому мог только догадываться об их причинах. Однако я не сомневался, что виной всему Гайар.
Последнее время я мало слышал о нем. В общественных местах он явно избегал встреч со мной, а я никогда не заходил в его владения. Я заметил, что мало кто из соседей уважал его, кроме тех, кто преклонялся перед его богатством. Удалось ли ему добиться успеха в своих ухаживаниях за Эжени, я не знал. В обществе их союз считали вполне возможным, хотя никто его не одобрял. Я очень сочувствовал молодой креолке, но и только. Конечно, не будь я так влюблен в Аврору, судьба ее хозяйки волновала бы меня гораздо больше.
«Да, Аврора меня любит!» — повторял я про себя, выезжая на береговую дорогу.
Я ехал верхом. Великодушный Рейгарт отдал в мое распоряжение прекрасную верховую лошадь, и она горячилась подо мной, словно ей передавалось мое страстное нетерпение.
Мой хорошо выезженный конь и сам знал дорогу, так что я бросил поводья, предоставив ему бежать как вздумается, а сам отдался своим мыслям.
Я любил квартеронку, любил горячо и преданно. И она тоже любила меня. Она не высказывала своей любви словами, но я сумел ее разгадать. Мимолетный взгляд, движение, вздох — вот что убедило меня.
Любовь научила меня своему особому языку. Мне не надо было никаких посредников, никаких слов, чтобы понять, что я любим.
Эти мысли бесконечно радовали меня и наполняли мое сердце восторгом, но вскоре их сменили другие, гораздо менее приятные.
Кого я люблю? Невольницу! Правда, прекрасную невольницу, но все же рабыню. Весь мир поднимет меня на смех. Вся Луизиана будет смеяться надо мной — нет, не смеяться, а презирать и преследовать меня. Одно желание сделать ее моей женой вызовет насмешки и оскорбления: «Как! Жениться на невольнице! Этого не потерпят законы нашей страны!» Жениться на квартеронке, даже будь она свободна, — значило навлечь на себя гонения. Меня, вероятно, изгнали бы из страны, а может быть, засадили бы в тюрьму.
Все это я знал, но меня это нисколько не тревожило. Что значило для меня осуждение всего света по сравнению с любовью к Авроре? Ровно ничего. Конечно, я глубоко сокрушался, что Аврора — невольница, но совсем по другой причине. Как освободить ее? Вот вопрос, который волновал меня.
До сих пор я мало над этим задумывался. Пока я не убедился, что любим ею, мне казалось, что это дело далекого будущего. Но теперь, когда я поверил в ее любовь, все силы моей души сосредоточились на одной мысли: «Как освободить ее?» Будь она обыкновенной невольницей, ответ был бы очень прост. Хоть я и не был богат, однако у меня хватило бы средств на то, чтобы купить себе живого человека.
В моих глазах Авроре, конечно, цены не было. Но что думает об этом ее молодая хозяйка? До сих пор она никому не хотела продавать мою суженую. Но даже если можно оценить девушку на деньги, согласится ли мадемуазель Эжени продать ее мне? Какая нелепая просьба: продать мне ее невольницу, чтобы я мог жениться на ней! Как отнесется к этому Эжени Безансон?
Даже мысль о предстоящем разговоре пугала меня, но время для него еще не приспело.
«Надо прежде повидаться с Авророй наедине, спросить ее, любит ли она меня, а затем, если она согласна быть моей женой, я сумею всего до— биться. Я еще не знаю каким путем, но моя любовь преодолеет все препятствия. Она придаст мне несокрушимую силу, мужество и решимость. Я сломаю все преграды. Я уговорю или сокрушу всех моих противников. Я смету все, что станет между мною и моей любовью! Аврора, я спешу к тебе!»
Глава 23
НЕОЖИДАННОСТЬ
Вдруг лошадь моя громко заржала, прервав мои размышления. Я взглянул вперед, чтобы узнать, в чем дело, и увидел, что приближаюсь к плантации Безансонов. Из ворот выехала коляска. Лошади бежали рысью, экипаж свернул на дорогу и помчался прочь от меня; вскоре он скрылся в облаке пыли.
Я узнал коляску мадемуазель Безансон. Хоть я и не успел разглядеть, кто в ней сидел, однако заметил, что это были дамы.
«Наверно, мадемуазель Эжени с Авророй», — подумал я. Должно быть, они меня не заметили за высокой оградой, а выехав за ворота, сразу повернули.
Я был очень разочарован. Значит, я спешил напрасно, и мне оставалось только вернуться обратно в Бринджерс.
Я уже натянул поводья, собираясь повернуть, когда мне пришло в голову, что я мог бы догнать их и перекинуться с ними несколькими словами. Если мне удастся обменяться взглядом с Авророй, это уже вознаградит меня за мою скачку. Я пришпорил лошадь и помчался вперед.
Поравнявшись с воротами, я увидел Сципиона. Он запирал их, пропустив коляску.
«Ага! Вот у кого я узнаю, за кем собираюсь скакать», — решил я и, придержав лошадь, подъехал к нему.
— Боже милостивый! Как шибко скачет молодой масса! Словно всю жизнь не слезал с седла! Ух!
Не обращая внимания на этот комплимент, я торопливо спросил, дома ли его госпожа.
— Нет, масса, она только что уехала. Она отправилась к масса Мариньи.
— Одна?
— Да, масса.
— С ней, наверно, и Аврора?
— Нет, масса. Она уехала одна. Рора осталась дома.
Если бы Сципион следил за мной, он заметил бы, какое впечатление произвели на меня его слова, ибо я уверен, что изменился в лице. Сердце запрыгало у меня в груди, кровь прилила к щекам.
«Аврора дома, она одна!»
Впервые за все это время мне представился такой счастливый случай, и я невольно выдал свою радость.
К счастью, негр ничего не заметил, ибо даже верному Сципиону я не мог доверить своей тайны.
Не без труда овладев собой, я осадил свою лошадь, которая рвалась вперед, и нечаянно повернул слишком круто. Сципион подумал, что я собираюсь возвратиться в Бринджерс.
— Неужели масса хочет уехать и ни минутки не отдохнет у нас? Мисса Жени нет дома, но Рора — она осталась. Рора даст масса стакан кларета, а старый Зип приготовит прохладительное питье. Сегодня очень-очень жарко! Ух-х!
— Твоя правда, Сципион, — сказал я, делая вид, что сдаюсь на его уговоры. — Сведи мою лошадь на конюшню, я немного отдохну.
И, сойдя с лошади, я отдал поводья Сципиону, а сам прошел в ворота.
От ворот до дома было шагов сто, если идти по широкой аллее, ведущей прямо к подъезду. Но были еще две боковые дорожки, которые вились между кустарниками и небольшими деревьями — лаврами, миртами и апельсинами. Того, кто шел по одной из этих дорожек, нельзя было увидеть из дома, пока он не подойдет вплотную к окнам. Обе дорожки, минуя главный вход, вели к низкой веранде. Поднявшись на нее но нескольким ступенькам, вы могли войти прямо в дом, ибо окна, как это принято у креолов, доходили до самого пола.
Войдя в ворота, я свернул на одну из этих боковых дорожек н не спеша направился к дому. Я выбрал более длинный путь и шел медленно, чтобы успеть справиться с волнением. Я слышал громкие удары своего сердца, и мне казалось, что, торопясь к желанной цели, они обгоняют мои шаги. Наверно, я лучше владел бы собой даже под дулом пистолета.
Долгое ожидание этой встречи, непредвиденная удача, предвкушение великого счастья — свидания наедине с той, кого я любил, — все это привело в смятение мои чувства. Неудивительно, что я немного потерял голову.
Сейчас я увижусь с Авророй наедине, и только любовь будет нашим свидетелем. Я выскажу ей все свободно, без помех. Услышу ее голос, ее нежные признания… Я обниму ее и прижму к своей груди! Я буду пить слезы с ее глаз, целовать ее румяные щеки, ее коралловые губы! Я буду говорить и слушать слова любви! О, я упьюсь этими сладостными минутами!
Меня ожидало безграничное счастье. Неудивительно, что я был глубоко взволнован и тщетно пытался усмирить свои чувства.
Я подошел к дому сбоку и поднялся на веранду. Ее устилали циновки из морской травы, и я в своих легких башмаках двигался по ней почти неслышно. Я приближался к гостиной; ее два больших окна доходили, как я говорил, до самого пола.
Я поравнялся с одним из них, но тут что-то заставило меня остановиться. В гостиной слышались голоса, и я сразу узнал голос Авроры.
«Она с кем-то разговаривает. С кем же? С маленькой Хлоей? Или с ее матерью? А может, с кем-нибудь из слуг?»
Я прислушался.
«О Боже! Это говорит мужчина!.. Но кто же? Сципион? Нет, Сципион не мог еще вернуться из конюшни. Это не он. Кто-нибудь из слуг? Жюль — дровосек? Батист — рассыльный? Нет, говорит не негр. Это голос белого человека. Неужели надсмотрщик?»
Когда эта мысль мелькнула у меня в голове, я почувствовал словно укол в сердце; это была не ревность, но что-то похожее на нее. Скорее возмущение, чем ревность. Пока я ведь еще не услышал ничего такого, что могло бы вызвать у меня ревность. То, что он подле нее и разговаривает с ней, — еще не повод для ревности.
«Вот как, мой прыткий «погоняла», — подумал я, — твое увлечение маленькой Хлоей уже прошло! И неудивительно. Кто будет заглядываться на звезды, когда на небе светит полная луна? Хоть ты и грубый скот, однако не слепой. Я вижу, ты тоже не зеваешь и ждешь удобного случая прийти в гостиную».
Но — тсс…
Я снова прислушался. Сначала я остановился из деликатности, не желая внезапно появляться перед открытым окном, через которое было видно все, что делается в комнате. Я хотел дать знать о моем приближении каким-нибудь шумом — покашливаньем или шарканьем ног. Но теперь мои намерения изменились. Я не мог удержаться и стал подслушивать.
Говорила Аврора.
Она, должно быть, стояла далеко от окна или говорила очень тихо, ибо я не мог разобрать ее слов. До меня доносился лишь ее серебристый голос. «Она, наверно, на другом конце комнаты», — подумал я.
Но вот она замолчала. Я ждал ответа на ее слова. Может быть, по ответу я пойму, о чем она говорила. Мужской голос будет, наверно, громче, и мне удастся…
Но — тсс…
Я услышал только голос, но не слова. Этот голос был мне слишком хорошо знаком! Узнав его, я вздрогнул, как от укуса змеи. То был голос Доминика Гайара!
Глава 24
СОПЕРНИК
Не могу вам описать, как потрясло меня это открытие. Я стоял, словно пораженный громом, не в силах двинуться и как бы потеряв сознание. Если бы даже Гайар говорил очень громко, я все равно не услышал бы его: изумление оглушило меня.
Негодование, которое поднялось во мне при мысли, что это говорит грубиян Ларкин, было ничто по сравнению с тем чувством, какое охватило меня теперь. Пусть Ларкин молод и красив — правда, по описанию Сципиона этого нельзя было сказать, — но даже если это и так, я не боялся его соперничества. Я верил, что сердце Авроры принадлежит мне, и знал, что надсмотрщик не имеет никакой власти над ней. Он распоряжался рабами, трудившимися в поле и на усадьбе, и был их полновластным хозяином. Но на Аврору его власть не распространялась. Не знаю почему, но с квартеронкой всегда обращались совсем иначе, чем с другими рабами на плантации. Не светлая кожа и не красота были причиной особого отношения к ней. Красота, правда, часто облегчает тяжелое положение невольницы, но в то же время готовит ей еще более жестокую участь. Однако доброе отношение к Авроре, насколько я мог судить, не имело с этим ничего общего. Ее заботливо воспитывали вместе с мадемуазель Эжени, и она получила такое же образование, как и ее молодая хозяйка, которая обращалась с ней скорее как с сестрой, чем как с невольницей. Никто не мог приказывать ей, кроме ее госпожи. «Погоняла» не имел с ней ничего общего, поэтому я не боялся, что он будет преследовать ее.
Но когда я услышал голос Гайара, у меня возникли самые худшие опасения. В его власти была не только невольница, но даже и ее госпожа. Ухаживая за мадемуазель Эжени, как я думал до сих пор, он, конечно, не был равнодушен и к редкой красоте Авроры. Этому гнусному негодяю, вероятно, не чужды любовные увлечения. Низкое часто тянется к прекрасному. Чудовище может воспылать страстью к красавице.
Час, который Гайар выбрал для своего визита, тоже вызывал подозрение. Он явился как раз тогда, когда мадемуазель Эжени уехала! Быть может, он пришел еще при ней и остался в доме после ее отъезда? Едва ли. Сципион не подозревал, что он тут, иначе он сказал бы мне об этом. Негр знал, что я терпеть не могу Гайара и не хочу встречаться с ним. Он, конечно, предупредил бы меня.
«Нет, он, несомненно, пришел сюда украдкой, — подумал я. — Он пробрался окольным путем, через свою плантацию, и, дождавшись, когда коляска уехала, проскользнул в дом, чтобы застать квартеронку одну». Едва эти мысль промелькнула у меня в голове, как я уже не сомневался, что он был здесь не случайно, а пришел с тайной целью. Он явился сюда ради Авроры. Я был в этом уверен.
Когда я опомнился от первого потрясения, все чувства проснулись во мне с новой силой. Нервы мои были напряжены, слух обострился. Я подошел как можно ближе к открытому окну и стал слушать. Это было недостойно, я согласен, но когда имеешь дело с таким негодяем, то и сам невольно теряешь достоинство. Обстоятельства заставили меня совершить неблаговидный поступок, и я стал подслушивать. Но ведь это была простительная ревность влюбленного, и я прошу не судить меня слишком строго.
Я слушал. Усилием воли я сдерживал бешеные удары сердца и слушал, затаив дыхание. Возможно, что голоса стали громче или разговаривающие подошли ближе к окну, но теперь я различал каждое, слово. По-видимому, они были в нескольких шагах от меня. Говорил Гайар.
— А этот молодчик не вздумал ухаживать за твоей хозяйкой?
— Откуда мне знать, мсье Доминик? Во всяком случае, я никогда этого не замечала. Мне кажется, он очень скромный джентльмен, и мадемуазель Эжени такого же мнения. Я не слышала из его уст ни слова о любви. Нет, ни единого слова!
Послышался глубокий вздох.
— Пусть он только посмеет, — воскликнул Гайар с угрозой, — пусть только посмеет намекнуть мадемуазель Эжени о своей любви или даже тебе, Аврора, — и ему не поздоровится! Он живо забудет сюда дорогу, этот жалкий авантюрист! Можешь не сомневаться!
— Ах, мсье Гайар! Вы этим очень огорчите мою госпожу. Вспомните — ведь он спас ей жизнь! Она ему бесконечно благодарна. Она постоянно говорит об этом, и ее опечалит, если господин Эдвард перестанет бывать у нас. Я знаю, что это очень ее опечалит!
В голосе Авроры слышалось волнение, почти мольба, прозвучавшая музыкой в моих ушах. Казалось, ее тоже огорчит, если господин Эдвард перестанет бывать у них.
Должно быть, такая мысль пришла и Гайару, но ему она, видимо, не дос— тавила удовольствия. Он ответил вопросом, в котором слышались раздражение и насмешка:
— А может быть, это огорчит и еще кого-нибудь? Тебя, например? Ну, конечно! Ведь так? Ты влюблена в него? Проклятье!
Последнее слово он прошипел в ярости: он, видимо, бесился и страдал — страдал от жгучей ревности.
— Ах, сударь! — воскликнула Аврора. — Что вы говорите! Я влюблена? Ведь я только бедная рабыня! Увы!
И смысл ее слов и ее тон больно задели меня. Однако я надеялся, что это лишь уловка любви, хитрость, которую я охотно прощал ей. На Гайара ее слова произвели приятное впечатление, и голос его сразу смягчился и повеселел.
— Ты — рабыня, красавица Аврора? Нет, в моих глазах ты королева! Рабыня? Ты сама виновата, что осталась невольницей. Тебе известно, кто может дать тебе свободу. Может и хочет — хочет, Аврора!
— Пожалуйста, не говорите об этом, господин Гайар! Я уже сказала вам, что не могу слушать такие разговоры. Повторяю: не могу и не хочу!
Твердость ее голоса обрадовала меня.
— Что ты, прелестная Аврора! — взмолился Гайар. — Не сердись на меня! Я не могу иначе! Я не могу не думать о твоем счастье. Ты будешь свободна, перестанешь быть рабыней капризной хозяйки…
— Мсье Гайар, — воскликнула Аврора, прерывая его, — не говорите так о мадемуазель Эжени! Это неправда, она вовсе не капризна. Что, если бы она услыхала…
— Проклятье! — закричал Гайар, снова переходя на угрожающий тон. — Пускай слышит! Какое мне дело до нее? Все считают, что я ухаживаю за ней. Ха-ха-ха! И пусть себе считают! Дурачье! Скоро они узнают, что это совсем не так. Ха-ха-ха! Они думают, что я езжу сюда ради нее. Ха-ха-ха!.. Нет, Аврора, любимая моя, я приезжаю не ради нее, а ради тебя — тебя, Аврора, моя любовь, моя…
— Мсье Гайар, повторяю вам…
— Дорогая Аврора, скажи, что ты полюбишь меня, скажи только одно слово! Скажи — и ты не будешь больше рабыней! Ты будешь так же свободна, как твоя госпожа. У тебя будет все: платья, драгоценности, развлечения — все, что пожелаешь! Мой дом будет весь к твоим услугам, ты будешь распоряжаться в нем, как хозяйка, как если бы ты была моей женой…
— Довольно, сударь! Перестаньте! Вы оскорбляете меня! Я вас больше не слушаю!
Голос ее звучал решительно и возмущенно. Ура!
— Что ты, дорогая моя, любимая Аврора! Не уходи! Выслушай меня!..
— Я вас не слушаю, сударь. Я все расскажу мадемуазель Эжени…
— Скажи мне хоть слово, хоть одно слово любви! Один поцелуй, Аврора! На коленях молю тебя!..
Я услышал, как он упал на колени, а затем шум борьбы и громкое, возмущенное восклицание Авроры.
Тут я решил, что пришло время действовать, и в два прыжка очутился в комнате, посреди которой стоял на коленях пылкий кавалер. Он крепко держал девушку за руки и пытался привлечь к себе. Аврора же, стараясь вырваться — а она была довольно сильна, — быстро тащила за собой по ковру своего страстного обожателя. Вид у него был уморительный.
Когда я вошел, он не видел меня и узнал о моем присутствии по громкому смеху, который я не мог бы сдержать даже под страхом смерти. Я продолжал хохотать и после того, как он отпустил свою жертву и вскочил на ноги; я смеялся так громко, что не расслышал ругательств и угроз, которыми он осыпал меня в ответ.
— Что вам здесь надо? — были первые слова, которые я разобрал. — Что вам здесь надо?
— Ну, а мне незачем спрашивать вас об этом, мсье Гайар. Я и сам вижу, что вам надо. Ха-ха-ха!
— Я спрашиваю вас, — повторил он еще более злобно, — что вам здесь надо?
— Мне ничего не надо, мсье, — ответил я все так же насмешливо, — вернее, мое дело не похоже на ваше.
Мой намек, казалось, привел его в ярость.
— В таком случае, чем скорей вы уберетесь отсюда, тем лучше! — закричал он, свирепо сдвинув брови.
— Лучше для кого? — спросил я.
— Для вас! — ответил он.
Я уже начал терять терпение, хотя держал себя в руках.
— Сударь, — сказал я, подходя к нему вплотную, — я впервые слышу, что дом мадемуазель Безансон принадлежит Доминику Гайару. Если бы это было так, я гораздо меньше уважал бы святость этого крова. Вы же совсем не уважаете его. Вы оскорбили эту молодую девушку, эту молодую леди, так как она достойна этого звания не меньше, чем самая знатная особа в вашей стране, Я был свидетелем вашего низкого поведения и слышал ваши гнусные предложения…
Гайар вздрогнул, но не сказал ни слова. Я продолжал:
— Вы не джентльмен, сударь, и недостойны встретиться со мной, как равный, с оружием в руках. Хозяйки этого дома сейчас нет. Вы здесь такой же гость, как и я. Так вот, даю вам слово, что, если вы не уберетесь отсюда через десять секунд, я отстегаю вас хлыстом!
Я говорил решительно и хладнокровно.
Гайар видел, что я не шучу и готов сдержать свое слово.
— Вы мне дорого за это заплатите! — прошипел он. — И увидите, что в нашей стране нет места шпионам.
— Вон!
— А вы, достойный образец добродетельной квартеронки, — добавил он, бросая злобный взгляд на Аврору, — помните: наступит день, когда вы будете менее щепетильны. Тогда у вас не будет такого любезного защитника.
— Еще слово — и…
Я поднял хлыст, но Гайар не стал дожидаться удара и, поспешно юркнув в дверь, спустился с веранды. Я вышел за ним, желая убедиться, что он ушел. Дойдя до конца веранды, я посмотрел в сад. Поднявшийся вдруг птичий гомон указывал, что кто-то пробирается сквозь кустарник.
Тем не менее я подождал, пока не открылись ворота. Вскоре над оградой показалась голова человека, идущего по дороге. Я сразу узнал уличенного соблазнителя.
Но стоило мне отвернуться от него и направиться в гостиную, как я уже забыл о его существовании.
Глава 25
ЧАС БЛАЖЕНСТВА
Всегда приятно, если кто-нибудь выражает вам благодарность, но во сто крат приятнее читать ее в глазах любимой и слышать из любимых уст!
Когда я входил в комнату, сердце мое трепетало от радостного волнения. Аврора бросилась благодарить меня в самых трогательных и пылких выражениях. И не успел я ответить ей, не успел протянуть руку, чтобы удержать ее, как она подбежала и упала передо мной на колени. Она благодарила меня от всего сердца.
— Встаньте, дорогая Аврора! — воскликнул я и, взяв ее за руку, подвел к дивану. — Мой поступок того не стоит. Всякий на моем месте сделал бы то же самое.
— Ах, мсье, далеко не всякий! Вы не знаете этой страны. Кто станет здесь защищать бедную невольницу? Понятия о рыцарской чести, которыми тут так чванятся, не распространяются на нас. Мы, презираемое всеми племя, стоим вне законов чести и покровительства. Ах, благородный чужестранец! Вы даже не подозреваете, чем я вам обязана!
— Не называйте меня чужестранцем, Аврора! Правда, нам редко удавалось поговорить, но мы так давно знаем друг друга, что вы не должны считать меня чужим. Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне, как к близкому человеку.
— Близкому? Я не понимаю вас, сударь! — Ее большие карие глаза смотрели на меня с немым вопросом,
— Да, близкому… Я хочу сказать, Аврора, что вы не должны остерегаться меня, что вы можете быть искренни со мной и считать меня своим другом, братом.
— Что вы, сударь! Вас — моим братом? Вы белый, вы джентльмен, знатный, образованный! А я… О Боже! Кто я? Рабыня… Рабыня, которую каждый готов обидеть. Боже, Боже, за что ты послал мне такую тяжкую долю! — И она закрыла лицо руками.
— Аврора! — воскликнул я; ее отчаяние давало мне надежду. — Аврора, выслушайте меня. Выслушайте вашего друга, вашего…
Она отняла руки от лица и подняла голову. Ее полные слез глаза пристально посмотрели в мои, и я снова прочел в них вопрос.
В эту минуту у меня мелькнула мысль: «Долго ли мы будем одни? Нам могут помешать. И мне не представится другого случая объясниться с ней. Мне нельзя терять ни минуты. Я должен сейчас же сказать ей все».
— Аврора, — начал я, — мы в первый раз остались наедине. Я страстно ждал этой встречи. Я должен сказать вам несколько слов — только вам одной.
— Мне одной, сударь? О чем?
— Аврора, я вас люблю!
— Меня? Ах, сударь, это невозможно!
— Не только возможно, Аврора, — это правда. Выслушайте меня. Я полюбил вас с первого взгляда, даже еще раньше, потому что вы жили в моем сердце еще до того, как я осознал, что видел вас… С той минуты я полюбил вас чистой и горячей любовью, а не той низменной страстью, какую вы только что отвергли. Это чувство безраздельно владеет моим сердцем. Днем и ночью я думаю только о вас, Аврора! Я вижу вас во сне и целый день храню в душе ваш образ. Не думайте, что любовь моя холодна, потому что я сейчас так трезво говорю с вами. Я должен держать себя в руках. Я пришел к вам с твердым, обдуманным намерением, вот почему я могу спокойно говорить о своей любви. Я уже сказал вам, Аврора, что люблю вас. И повторяю: я вас люблю всем сердцем, всей душой!
— Вы любите меня? Ах, бедная девушка!
Ее последние слова прозвучали так странно, что я невольно замолчал. Казалось, что это горестное восклицание относится не к ней, а к кому-то другому.
— Аврора, — продолжал я, — я все сказал вам. Я был чистосердечен. Будьте и вы откровенны со мной. Скажите, вы любите меня?
Я задал бы этот вопрос с большей тревогой, если бы не был уже наполовину уверен в ответе.
Мы сидели рядом на низком диване. Я не успел еще договорить, как почувствовал, что ее легкие пальчики коснулись моей руки и нежно сжали ее. Когда я замолчал, ее головка опустилась ко мне на грудь, и она прошептала:
— Я тоже… с первого взгляда!
Мои руки обвились вокруг ее стана, и несколько минут мы сидели молча. Истинная любовь не нуждается в объяснениях. Горячий поцелуй, глубокий взгляд, нежное пожатие руки или объятие понятны без слов. Долгое время мы обменивались лишь бессвязными восклицаниями. Мы были слишком счастливы, чтобы говорить. Мы молчали — говорили наши сердца.
* * *
Однако сейчас было не время и не место слепо отдаваться радостям любви, и вскоре осторожность заставила меня прийти в себя.
Надо было о многом условиться и обсудить дальнейшие планы, чтобы упрочить наше только что расцветшее счастье. Мы знали, какая пропасть разделяет нас сейчас. Мы понимали, что нам предстоит долгий и тернистый путь, прежде чем мы достигнем вершины счастья. Несмотря на минутное блаженство, будущее наше было темно и полно опасностей. Тревожные мысли вскоре развеяли наши сладкие грезы.
Аврора теперь не боялась моей любви. Она никогда бы не заподозрила меня в обмане. Она не сомневалась, что я хочу жениться на ней. Любовь и благодарность внушили ей полное доверие ко мне, и мы говорили с такой откровенностью, какая возникает лишь после многолетней дружбы. Но надо было торопиться. Каждую минуту нас могли прервать. Мы не знали, когда снова встретимся. Приходилось быть очень краткими.
Я объяснил Авроре мое положение: через несколько дней я должен получить деньги, которых, надеюсь, хватит, чтобы осуществить мое намерение. Какое намерение? Выкупить мою невесту!
— А тогда, — закончил я, — нам остается только обвенчаться, Аврора!
— Увы! — ответила она со вздохом. — Даже будь я свободна, мы не могли бы обвенчаться здесь. Разве вы не знаете, что жестокий закон преследует нас, даже когда считается, что мы свободны?
Я отрицательно покачал головой.
— Мы не можем с вами пожениться, — продолжала она печально, — если вы не поклянетесь, что в ваших жилах тоже течет африканская кровь.
Трудно поверить, что такой закон существует в христианской стране.
— Не думайте об этом, Аврора, — сказал я, стараясь утешить ее. — Мне ничего не стоит дать такую клятву. Я возьму золотую шпильку из ваших волос, проколю эту голубую жилку на вашей прекрасной руке, выпью каплю вашей крови и дам нужную клятву!
Аврора улыбнулась, но через минуту ее лицо снова омрачилось.
— Полно, дорогая Аврора! Прогоните ваши грустные мысли! Зачем нам венчаться именно здесь? Мы можем уехать в другое место. Есть другие страны, такие же прекрасные, как Луизиана, и церкви, такие же красивые, как собор Архангела Гавриила, где мы можем обвенчаться. Мы уедем на север, в Англию, во Францию — все равно куда. Пусть это вас не тревожит!
— Меня тревожит не это.
— А что же, дорогая?
— Ах, я боюсь…
— Не бойтесь, скажите мне.
— Что вам не удастся…
— Что не удастся, Аврора?
— Стать моим хозяином… купить меня!..
И бедняжка опустила голову, словно стыдясь своего положения. Горячие слезы брызнули у нее из глаз.
— Почему вы так думаете?
— Потому что уже многие пытались меня купить. Они давали много денег, гораздо больше, чем вы предполагаете, но из этого ничего не вышло: им не продали меня. Ах, как я была благодарна мадемуазель Эжени! Она всегда была моей защитницей. Она не хотела расставаться со мной. Как я была счастлива тогда! Но теперь… теперь совсем другое дело. Теперь как раз наоборот.
— Ну, так я дам еще больше. Я отдам все мое состояние. Этого, наверно, хватит. Раньше вас хотели купить с дурными целями, такими, как у Гайара. Ваша хозяйка знала об этом и потому не соглашалась.
— Это правда. Но она откажет и вам. Я так боюсь!
— Нет, я во всем сознаюсь мадемуазель Эжени. Я скажу ей, что у меня самые честные намерения. Я вымолю у нее согласие. И я уверен, что она мне не откажет. Если она мне благодарна…
— Ax, — воскликнула Аврора, прерывая меня, — она вам очень благодарна, вы даже не знаете, как благодарна! И все же она никогда не согласится, никогда! Вы не знаете всего… Увы, увы!
Из глаз ее снова брызнули слезы, она склонилась на диван, и густые кудри скрыли от меня ее лицо.
Ее слова озадачили меня, и я уже хотел просить у нее объяснения, когда услышал шум подъезжающей коляски. Я бросился к открытому окну и взглянул поверх апельсиновой рощи. Над деревьями показалась голова, и я узнал кучера мадемуазель Безансон. Коляска подъехала к воротам.
Я был так взволнован, что не хотел встречаться с ней, и, наспех попрощавшись с Авророй, вышел из комнаты. С веранды я увидел, что если пойду по главной аллее, то могу столкнуться с мадемуазель Эжени. Я знал, что к конюшне можно пройти через боковую калитку и оттуда есть дорога в лес. Таким образом, я мог добраться до Бринджерса кружным путем. Спустившись с веранды, я прошел через эту калитку и направился к конюшне.
Глава 26
НЕГРИТЯНСКИЙ ПОСЕЛОК
Вскоре я вошел в конюшню, где моя лошадь приветствовала меня радостным ржаньем. Сципиона там не было.
«Он, наверно, занят, — подумал я. — Должно быть, встречает свою госпожу. Не беда, я не буду его звать. Лошадь оседлана, я сам взнуздаю ее. Жаль только, что Сципион не получит обычной мелочи на чай». Взнуздав лошадь, я вывел ее за ворота и вскочил в седло.
Дорога, которую я выбрал, вела в негритянский поселок, а затем через поля в густой кипарисовый лес. Там ее пересекала тропинка, которая снова выходила к береговой дороге. Я много раз ездил по этой тропинке и хорошо ее знал.
Негритянский поселок находился примерно в двухстах ярдах от господского дома: пятьдесят или шестьдесят небольших чистеньких хижин стояло по обе стороны широкой дороги. Все хижины были как две капли воды похожи одна на другую, и перед каждой из них росла большая магнолия или красивое китайское дерево с густой кроной и душистыми цветами. В тени этих деревьев множество негритят с утра до вечера возились в пыли. Они были всех возрастов, от крошечных ползунков до голенастых подростков, и всевозможных оттенков — от светлокожих квартеронов до черных бамбара, на коже которых, как острили американцы, «даже уголь оставляет светлые пятна». Если не считать толстого слоя пыли, ничто не прикрывало их наготу, ибо они целый день бегали голышом. Эти черные и желтые пострелята с утра до вечера копошились перед хижинами, играя стеблями сахарного тростника, арбузными корками и кукурузными кочерыжками, такие же счастливые и беззаботные, как какой-нибудь маленький лорд в своей увешанной коврами детской, среди дорогих заграничных игрушек.
В негритянском поселке вам бросаются в глаза воткнутые перед многими хижинами высокие шесты или крепкие стебли тростника, на которых насажены громадные пустые желтые тыквы с пробитой сбоку дырой.
Это домики красных стрижей, самой красивой породы американских ласточек, которых очень любят здешние негры, как когда-то любили их краснокожие обитатели этих мест.
Вы увидите, что на стенах хижин висят гирляндами длинные связки зеленого и красного стручкового перца, а кое-где и пучки сухих лекарственных трав, которыми пользуется «негритянская медицина». Их повесила сюда какая-нибудь тетушка Феба, или тетушка Клеопатра, или бабушка Филис; а при виде восхитительного кушанья, которое может изготовить любая из них, взяв описанные выше красные и зеленые стручки и сдобрив их разными пахучими травами, растущими в маленьком огороде возле хижины, у самого тонкого гурмана потекут слюнки.
На стенах некоторых хижин вы увидите и шкуры представителей животного царства: кролика, енота, опоссума или серебристой лисы, иногда мускусной крысы и даже болотной дикой кошки, или рыси. Хозяин хижины, на которой сушится шкура рыси, становится героем дня, ибо рысь — самый редкий зверь, встречающийся теперь на берегах Миссисипи. Вы не увидите здесь шкур кугуара и лани; хотя эти животные и водятся в ближних лесах, но они недоступны для негритянского охотника, которому запрещено пользоваться огнестрельным оружием. Более мелких животных, о которых мы говорили, можно изловить и без ружья, и шкуры, висящие около хижин, — это трофеи многих ночных охот, добыча, принесенная каким-нибудь Цезарем, Сципионом, Ганнибалом или Помпеем. Слыша в негритянском поселке все эти имена, вы можете вообразить себя в древнем Риме или Карфагене.
Однако этим носителям громких имен никогда не доверяют такого опасного оружия, как карабин. Своими успехами на охоте они обязаны только собственной ловкости; оружием им служат лишь палка да топор, а вместо гончей собаки — простая дворняжка. Многочисленные представители этой породы валяются в пыли вместе с негритянскими ребятишками и, видимо, чувствуют себя не менее счастливыми, чем они. Охотничьи трофеи развешаны на стенах домов не для украшения. Нет, их повесили просушить, а потом заменят другими, а эти отнесут на продажу. В воскресенье, когда дядя Сиз или Зип, дядя Хэнни или Помп в праздничной одежде отправятся в город, каждый из них захватит с собой сверток со шкурками. Они зайдут потолковать к лавочнику, а тот выложит им «пик»[30] за мускусную крысу, «бит» (испанский реал) за енота и четвертак за лису или «кошку», после чего четыре дяди-охотника обменяют полученные монеты на всякого рода гостинцы для четырех оставшихся дома тетушек; эти «излишества» служат дополнением к обычному рациону риса со свининой, который получают негры на плантации.
Такова нехитрая экономика негритянского поселка.
Войдя в негритянскую деревню (негритянский поселок при крупной плантации можно вполне назвать деревней), вы можете сами наблюдать эти мелкие подробности ее жизни. Они видны и невооруженному глазу.
Вы увидите также стоящий на отшибе дом надсмотрщика. В поместье Безансонов он находился на краю поселка, фасадом к проезжей дороге.
Дом был, конечно, совсем в другом роде, с претензией на архитектуру: двухэтажный, с жалюзи на окнах и с верандой.
Невысокая ограда оберегала его от вторжения негритянских ребятишек, однако страх перед ременной плетью делал эту предосторожность совершенно излишней.
Когда я подъехал к поселку, мне сразу бросилось в глаза его своеобразие; дом надсмотрщика, возвышавшийся над маленькими лачугами, казалось, сторожил и оберегал их, словно наседка выводок цыплят.
Большие красные ласточки стрелой носились взад и вперед, на минуту замирали у входа в свои домики-тыквы и с веселым щебетом — туить-туить-туить — улетали прочь. Весь поселок был наполнен ароматом китайских деревьев и магнолий, который далеко разносился вокруг.
Подъехав еще ближе, я услышал смутный гул голосов, мужских, женских и детских, с характерными для негритянской речи интонациями. Я заранее представлял себе уже не раз виденную мной картину: мужчины и женщины заняты разными домашними делами; одни, сидя перед своими хижинами в тени деревьев, отдыхают после полевых работ (в этот час они уже окончены) или, собравшись кучками, весело болтают между собой; другие чинят у порога рыболовные сети или силки, с помощью которых надеются поймать «большую кошку» или выловить в тихой заводи буйвол-рыбу; кое-кто из мужчин колет дрова, вытаскивая их из общей большой поленницы, а длинноногие подростки относят их в хижины, где черные тетушки готовят вечернюю трапезу.
Эта патриархальная картина навела меня на размышления о кое-каких преимуществах единовластия в деревне, если не в образе рабовладельца, то в духе Раппа[31] и социальных экономистов.
«Вот как при таком патриархальном строе можно обходиться без сложного государственного аппарата, — говорил я себе. — Как это просто и мило и вполне достигает цели!»
Да, конечно. Но я проглядел одно обстоятельство — несовершенство человеческой природы: проглядел возможность, даже вероятность, увы, чаще всего неизбежность превращения патриарха в деспота.
Но что это? Громкий голос… вернее, крик.
Крик радости? Нет, напротив, в нем слышится страдание. Болезненный стон, крик смертельной муки. Другие долетавшие до меня голоса звучали взволнованно, даже зловеще и не были похожи на обычный деревенский гомон.
Снова раздался этот крик смертельной муки, еще громче и протяжней. Он слышался из негритянского поселка. В чем дело?
Я пришпорил свою лошадь и галопом поскакал в деревню.
Глава 27
ДЬЯВОЛЬСКИЙ ДУШ
Через несколько секунд я выехал на широкую дорогу между двумя рядами хижин и, натянув поводья, осмотрелся вокруг.
Зрелище, которое я увидел, мигом развеяло мои мечты о патриархальной идиллии. Передо мной была картина тирании и пыток — сцена из трагической жизни рабов.
На самом краю поселка, в стороне от дома надсмотрщика, за оградой виднелось большое здание — сахароварня. Внутри ограды стоял огромный насос высотой в десять футов с водоотливом на верхнем конце. Насос снабжал водой сахароварню, куда вода стекала по узкому желобу. Под насосом был устроен помост высотой в два-три фута, чтобы человек, качающий воду, мог достать до его ручки.
Я сразу обратил внимание на этот помост, так как мужчины обступили его плотным кольцом, а женщины и дети, столпившись вдоль ограды, смотрели туда же.
Все собравшиеся казались мрачными и подавленными, их лица выражали жалость и испуг. Я слышал ропот, короткие восклицания и всхлипывания, свидетельствующие об общем сочувствии кому-то, кто страдает. Я видел сурово сдвинутые брови, говорившие о жажде мести. Но таких было немного; у большинства лица выражали лишь ужас и покорность.
Нетрудно было догадаться, что услышанный мною крик раздавался среди тех, кто стоял вокруг насоса, и, взглянув туда, я сразу понял, в чем дело. Здесь наказывали кого-то из рабов.
Сбившиеся в кучу люди заслоняли от меня несчастного раба, но я увидел над их головами обнаженного по пояс негра Габриэля, стоявшего на площадке и изо всех сил качавшего воду.
Габриэль был высокий и очень сильный негр-бамбара; на плечах у него было выжжено клеймо — королевская лилия. Этот человек свирепого вида отличался, как мне говорили, жестоким и грубым нравом; его боялись не только негры, но даже белые, которым приходилось иметь с ним дело. Сейчас наказывали не его — наоборот, он, видимо, служил орудием пытки.
Да, это наказание было настоящей пыткой, я хорошо знал его.
Желоб, проводящий воду, был отодвинут; жертва стояла под насосом, на том месте, куда падала струя воды. Несчастного крепко привязали к кольям, так что он не мог пошевелиться, и струя непрерывно лилась ему на темя.
«И это пытка?» — спросите вы. Вы, может быть, не верите? Вы думаете, что это вовсе не так мучительно? Просто купанье, холодный душ — и ничего больше!
Вы правы. Первые полминуты это просто холодный душ, но дальше… Поверьте, струя расплавленного свинца или частые удары обухом по голове причиняют не больше страданий, чем эта непрерывно падающая струя холодной воды. Это невыносимая пытка, жестокое истязание! Недаром его прозвали дьявольским душем!
Но вот снова раздался крик смертельной муки, от которого кровь застыла у меня в жилах.
Как я уже говорил, сначала я не видел жертвы этой пытки. Но когда я подъехал ближе, негры поспешно расступились, как будто хотели сделать меня свидетелем происходящего. Все они знали меня и, наверно, заметили, что я от души сочувствую их обездоленному народу.
Тут мне открылась ужасная сцена; увидев ее, я вздрогнул. Пытали высокого, очень темного негра. Рядом с ним стояли, обнявшись, пожилая мулатка и молоденькая девушка — мать и дочь — и горько рыдали. Я слышал их крики и причитания, несмотря на громкий плеск воды и отделявшее меня от них расстояние. Я узнал их с первого взгляда: это были малютка Хлоя и ее мать!
Я быстро перевел глаза на несчастную жертву. Струя воды падала ему на голову и плотной завесой закрывала лицо, но по большим, торчащим, как крылья, ушам я сразу узнал, кто он. Это был Сципион.
И снова я услышал крик смертельной муки, такой скорбный и долгий, словно он вырвался из глубины его души.
Я не стал дожидаться, чтобы он замолк. Меня отделяла от страдальца дощатая ограда. Ну так что ж? Ни минуты не раздумывая, я повернул лошадь, чтобы дать ей разбег, пришпорил ее, и она, как птица, перелетела через ограду. Не останавливаясь и не слезая с лошади, я подскакал к помосту, поднял хлыст и со всего размаха ударил Габриэля по обнаженной спине. Негр завопил, бросил ручку насоса, словно она была из раскаленного железа, и, спрыгнув с помоста, с воем бросился к своей хижине.
В толпе негров послышались одобрительные возгласы; но моя лошадь, разгоряченная неожиданным прыжком, храпела и рвалась вперед, так что прошло несколько минут, прежде чем я успокоил ее. Тут я заметил, что негры внезапно притихли и ропот одобрения сменила зловещая тишина. Я услышал, как те, что стояли ближе, бормотали, чтобы я поостерегся, как будто опасаясь за меня. Кто-то крикнул:
— Ларкин, Ларкин! Берегитесь, масса! Он идет сюда!
Тут за моей спиной послышалось отвратительное ругательство. Я обернулся. Да, это был надсмотрщик.
Он только что вышел из задних дверей своего дома; все это время он наблюдал за пыткой из своего окна.
Мне до сих пор не приходилось встречаться с ним. Ко мне приближался человек с грубым и жестоким лицом, франтовато, но безвкусно одетый, с тяжелым бичом в руке. Он весь побелел от ярости и, по-видимому, собирался напасть на меня. При мне не было другого оружия, кроме тонкого хлыста, но я приготовился к защите. Он бежал, выкрикивая страшные проклятия. Поравнявшись с моей лошадью, он остановился и проревел:
— Как ты смеешь, черт тебя дери, совать нос в мои дела? Кто ты такой, будь ты проклят?! Разве ты…
Вдруг он разом оборвал свой крик и уставился на меня. Я смотрел на него с таким же удивлением, так как узнал в нем моего противника на пароходе. Это был герой с охотничьим ножом! В то же мгновение и он узнал меня. Он остолбенел от неожиданности, но тут же пришел в себя.
— Провались ты к дьяволу! — закричал он, приходя в еще большее бешенство. — Так это ты? К черту бич! У меня есть для тебя кое-что получше!
С этими словами он выхватил из кармана пистолет и взвел курок, целясь мне в грудь.
Я был верхом, и лошадь моя не стояла на месте, иначе он, наверно, сразу выстрелил бы в меня; но когда пистолет блеснул в его руке, лошадь взвилась на дыбы и прикрыла меня своим телом.
Как я сказал, у меня не было никакого оружия, кроме хлыста. К счастью, это был крепкий хлыст с тяжелой кованой рукояткой. Я быстро перевернул его в руке и, когда передние копыта моей лошади вновь коснулись земли, глубоко вонзил ей шпоры в бока; она сделала громадный скачок вперед. Теперь я оказался прямо против моего противника; когда лошадь прыгнула, он отступил назад и не успел снова прицелиться. Прежде чем он навел на меня пистолет, я изо всей силы ударил его рукояткой хлыста по голове, и он, согнувшись, свалился на землю. Падая, он спустил курок, но пуля, к счастью, вонзилась в землю между копытами моей лошади, никого не задев. А пистолет отлетел в сторону и упал недалеко от него.
Поистине мне повезло: я вовремя пришпорил лошадь, а она сделала точный прыжок. Если бы я промахнулся, мне не удалось бы снова его ударить. Пистолет был двуствольный, притом позже оказалось, что у Ларкина есть и второй такой же.
Надсмотрщик лежал неподвижно, как мертвый, и я начал бояться, не убил ли я его. Это грозило бы мне тяжелыми последствиями. Хотя я и не нападал на него, а защищался, но кто бы это доказал? Свидетельства всех окружавших меня людей, вместе взятые, не стоили клятвы одного белого человека, а уж в данном случае они ровно ничего не стоили. Если принять во внимание, что было поводом нашего столкновения, их свидетельство могло скорее повредить мне, чем помочь. Да, трудное положение…
Сойдя с лошади, я подошел к лежавшему на земле Ларкину, которого окружили негры. Они расступились передо мной. Став на колени, я осмотрел его голову. Кожа была рассечена, и из раны сочилась кровь, но череп был не поврежден.
Убедившись в этом, я успокоился. И в самом деле, не успел я подняться с колен, как с облегчением увидел, что Ларкин, которого спрыснули холодной водой, начинает приходить в себя. Тут я заметил у него за пазухой второй пистолет. Я вытащил его, поднял тот, что лежал на земле, и взял их себе.
— Когда он очнется, передайте ему, — сказал я, — что, если он вздумает еще раз на меня напасть, у меня тоже будет оружие.
Затем я приказал отнести его домой, а сам занялся его жертвой. Бедный Сципион! Он перенес такую страшную пытку, что еще долго не мог объяснить мне, за что был так жестоко наказан. Но когда он наконец рассказал, в чем дело, кровь закипела во мне от возмущения.
Сципион застал Ларкина за деревней около сарая, куда тот тащил маленькую Хлою; девочка кричала и вырывалась. Возмущенный отец, понятно, заступился за дочку и ударил надсмотрщика. За это, согласно закону, негру могли отрубить руку. Но белый негодяй побоялся придать огласке это дело, чтобы не повредить себе, и предпочел заменить законное наказание доморощенной пыткой под насосом.
Первым моим побуждением, когда я услышал эту гнусную историю, было вернуться на плантацию, рассказать все мадемуазель Безансон и убедить ее в необходимости избавиться от этого негодяя, чего бы ей это ни стоило. Но, поразмыслив, я изменил свое намерение. Я подумал, что лучше поеду завтра утром, чтобы решить дело, гораздо более важное для меня. Завтра я хотел говорить с ней об Авроре.
«Я могу начать разговор с бедного Сципиона, — подумал я. — Это будет вступлением к более важной теме».
Пообещав моему старому приятелю заступиться за него, я вскочил в седло и тронулся в путь, провожаемый горячо благодарившими меня неграми.
Пока я ехал шагом по деревне, женщины и девушки-подростки выбегали из хижин и, хватаясь за стремена, целовали мне ноги.
На минуту я даже забыл о пылкой любви, все это время наполнявшей мое сердце. Ее место заняло спокойное, сладостное счастье — счастье от сознания, что я совершил доброе дело.
Глава 28
ГАЙАР И БИЛЛ-БАНДИТ
Покинув негритянский поселок, я раздумал ехать кружным путем. Теперь мадемуазель Безансон, наверно, узнает о моем посещении, и не важно, увидят ли меня из дома. Я был разгорячен не меньше, чем моя лошадь, и нам ничего не стоило преодолеть любое препятствие. Итак, я повернул обратно, перескочил через две-три ограды, пересек хлопковое поле и выехал на береговую дорогу.
Вскоре лошадь моя успокоилась, и я поехал медленней, размышляя о только что происшедших событиях.
Я был уверен, что Гайар устроил этого негодяя на плантацию с какой-то тайной целью. Знали ли они друг друга раньше, я не мог сказать, но подобные люди инстинктивно находят и с первого слова понимают друг друга; вполне возможно, что Гайар и подобрал его только после кораблекрушения.
На пароходе, судя по тому, с каким азартом Ларкин держал пари, я думал, что он просто шулер; возможно, что в последнее время он и занимался этим. Однако несомненно, что ему и раньше приходилось «погонять» негров; во всяком случае, он не был новичком в этом деле.
Странно, что он столько времени служил на плантации и ничего не знал обо мне. Впрочем, это объяснялось очень просто: пока я жил у мадемуазель Эжени, он ни разу не встречался со мной. Кроме того, он, вероятно, и не подозревал, что она — та самая дама, чьим спасательным поясом он хотел завладеть. Это предположение было вполне правдоподобным, так как на судне были и другие дамы, спасавшиеся при помощи стульев, кресел и пробковых поясов. Вероятно, он не видел мадемуазель Эжени до того, как она спрыгнула в воду, и потому не мог теперь ее узнать.
Причина моей болезни была известна только мадемуазель Эжени, Авроре и Сципиону, которому приказали не болтать об этом с неграми. Кроме того, надсмотрщик, будучи на плантации человеком новым, почти не видел свою хозяйку и получал все распоряжения от Гайара; к тому же это был невежественный и тупой детина.
Вероятнее всего, до нашей встречи он не подозревал, что я его бывший противник на судне, а Эжени Безансон — та дама, за которой он было погнался. Он, конечно, слышал, что я живу на плантации, но считал, что я просто пассажир с потерпевшего аварию парохода, раненый или ошпаренный, каких очень много подобрали на берегу; не было почти ни одного дома у реки, где не приютили бы какого-нибудь раненого или захлебнувшегося человека. Вдобавок он был очень занят своими делами или, вернее, делами Гайара, ибо я не сомневался, что между ними существует какой-то тайный сговор. Как он ни туп, у него есть качества, которые его хозяин мог оценить дороже ума и которыми сам не обладает: грубая сила и наглость. Он, конечно, нужен Гайару, иначе тот не держал бы его здесь.
Теперь он узнал меня и, видимо, не скоро забудет. Станет ли он искать случая мне отомстить? Да, несомненно, но, вероятно, каким-нибудь тайным, подлым способом. Я не боялся, что он нападет на меня открыто. Я был уверен, что он чувствует себя побежденным и трусит. Мне уже приходилось встречать таких людей, и я знал, что, потерпев поражение, они тотчас поджимают хвост. Это был не смельчак, а наглец.
Я не боялся открытого нападения. Но мне могла угрожать тайная месть, а может быть, и преследование закона. Вас, вероятно, удивит, что мне пришла в голову мысль о законе? Но это так, и у меня для этого были основания.
* * *
Узнав тайные цели Гайара, раскрыв его гнусные намерения завладеть Авророй и встретившись с Ларкином, я понял, что настало время действовать. Меня охватила тревога, и я решил, что должен как можно скорее поговорить с мадемуазель Безансон о том, что больше всего волновало меня, — о выкупе Авроры. Теперь, когда мы с Авророй открылись друг другу и, можно сказать, обручились, нельзя было терять даром и часа.
Я подумал было вернуться назад и уже повернул свою лошадь, но снова заколебался. Меня одолели сомнения. Я опять повернул лошадь и поехал в Бринджерс, решив, что возвращусь завтра рано утром.
Въехав в селение, я отправился прямо в гостиницу. На столе в своей комнате я нашел письмо с чеком на двести фунтов стерлингов. Его переслал мне Новоорлеанский банк, получивший для меня деньги из Англии. В письме сообщалось, что через несколько дней мне вышлют еще пятьсот фунтов. Я почувствовал большое облегчение, получив эти деньги, так как мог теперь уплатить свой долг Рейгарту, что и сделал с большим удовольствием в тот же день.
Я провел ночь в сильной тревоге и почти не сомкнул глаз. И неудивительно: завтра решалась моя судьба. Что принесет мне этот день — счастье всей жизни или отчаяние? Тысячи надежд и опасений осаждали меня; моя участь зависела от предстоящего разговора с Эжени Безансон. Я ждал этого разговора с еще большим волнением, чем вчерашнего свидания с Авророй, быть может, потому, что теперь я меньше надеялся на благоприятный исход.
Рано утром, как только можно было нанести визит, не нарушая приличий, я был уже в седле и скакал к плантации Безансонов.
Выезжая из селения, я заметил, что встречные смотрят на меня с каким-то особым интересом.
«Видно, им известно о моем столкновении с надсмотрщиком, — подумал я.
— Наверно, негры уже все разболтали. Такие вещи быстро узнаются».
Однако мне показалось, что люди глядят на меня отнюдь не дружелюбно. Неужели меня осуждают за то, что я защищался? Обычно победитель в подобном столкновении вызывает всеобщее сочувствие, тем более в верной рыцарским традициям Луизиане. Почему же эти люди косо смотрят на меня? В чем я провинился? Я ударил хлыстом человека, которого все считают наглецом, и сделал это лишь защищаясь. По местным понятиям, мой поступок должен был вызвать всеобщее одобрение.
Тогда почему же… Впрочем, понял! Вот в чем дело: я стал между белым и черным. Я заступился за негра и не дал наказать его. Вот что могло быть причиной этой враждебности. Возможно, была и другая, хотя и нелепая причина. В окрестностях ходили слухи, что я «в близких отношениях с мадемуазель Безансон» и будто в один прекрасный день «этот выскочка», которого никто не знает, похитит богатую наследницу.
Нет такого уголка на земле, где подобная удача не вызвала бы зависти. Соединенные Штаты не были исключением из общего правила, и я знал, что из-за этих глупых сплетен на меня косятся многие молодые плантаторы и щеголеватые торговцы, слоняющиеся по улицам Бринджерса.
Я ехал, не обращая внимания на эти враждебные взгляды, и скоро забыл и думать о них. Душа моя была полна тревоги перед предстоящим свиданием, и такие мелочи не трогали меня.
Эжени, конечно, уже знает о вчерашнем происшествии. Интересно, что она думает о нем? Я был уверен, что негодяя надсмотрщика навязал ей Гайар. Вряд ли он мог нравиться ей. Вопрос в том, хватит ли у нее смелости, вернее — будет ли в ее власти прогнать его даже после того, как она узнает, что он за негодяй. Вот в чем я сомневался.
Я горячо сочувствовал бедной девушке. Я был уверен, что она должна Гайару очень крупную сумму и этим он держит ее в руках. Все, что он говорил вчера Авроре, лишь подтверждало мои догадки. Кроме того, до Рейгарта дошли слухи, что Гайар недавно подал в суд ко взысканию долга и его иск удовлетворен новоорлеанским судом; ему не чинят никаких препятствий, и он может в любой момент потребовать наложения ареста на все ее имущество или на значительную его часть, покрывающую нужную сумму. Все это Рейгарт рассказал мне накануне вечером; его сообщение еще больше встревожило меня и заставило особенно спешить с выкупом Авроры.
Пришпоривая коня, я скакал галопом и вскоре подъехал к плантации. У ворот я спешился. Здесь никого не оказалось, чтобы принять у меня лошадь, но в Америке на это не обращают внимания, и садовая решетка или просто ветка часто заменяют конюха.
Вспомнив об этом обычае, я привязал лошадь к ограде и направился к дому.
Глава 29
«ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
Вполне понятно, что я снова вспомнил моего вчерашнего противника. Встречу ли я его? Вряд ли. Знакомство с моим хлыстом, вероятно, вызвало у него такую головную боль, что он несколько дней не выйдет из дому. Однако я был готов к неожиданной встрече. За пазухой у меня лежал его двуствольный пистолет, которым я решил воспользоваться, если он нападет на меня. Первый раз в жизни я носил запрещенное оружие, но в те времена таков был обычай в этой стране, обычай, которому следовали девятнадцать из двадцати встречных на улице — плантаторы, торговцы, адвокаты, врачи и даже священники! Итак, я приготовился, и меня не пугала встреча с Биллом-бандитом. И если сердце мое билось слишком часто, а походка была не очень уверенной, то это только из-за предстоящего разговора с его госпожой.
Я вошел в дом, изо всех сил стараясь подавить свое волнение. Мадемуазель Эжени была в гостиной. Она встретила меня спокойно и непринужденно. К моему удивлению и удовольствию, она казалась веселей, чем обычно, и я заметил многозначительную улыбку на ее лице. Я даже подумал, что она довольна вчерашним происшествием, ибо, несомненно, знала о нем. Я это ясно видел.
Авроры не было в гостиной, и я был рад, что ее нет. Я надеялся, что она совсем не придет или хотя бы не скоро. Я был смущен. Я не знал, как начать разговор, как приступить к вопросу, который так давно лежал у меня на душе. Мы перекинулись несколькими незначительными фразами, а затем заговорили о вчерашних событиях. Я все рассказал ей, все, за исключением сцены с Авророй. О ней я умолчал.
Некоторое время я колебался, говорить ли ей, кем оказался ее надсмотрщик. Когда она узнает, что это тот самый негодяй, который ранил меня и, если бы не мое вмешательство, погубил бы ее, она конечно, настоит на том, чтобы его прогнали, чего бы это ей ни стоило.
На минуту я задумался о последствиях такого шага. «Если этот негодяй останется подле нее, она никогда не будет в безопасности, — подумал я. — Лучше ей отделаться от него раз навсегда». И я решился рассказать ей все. Она была потрясена; несколько минут она сидела, сжав руки, в безмолвном отчаянии. Наконец она простонала:
— Гайар… Гайар… Это все он, все он… Боже мой! Боже мой! Где мой отец? Где Антуан? О Боже, сжалься надо мной!
Выражение ее прелестного, омраченного горем лица глубоко тронуло меня. Она была похожа на ангела скорби, печального, но прекрасного.
Я пытался успокоить ее, говоря обычные слова утешения. Конечно, я не знал всех причин ее горя, однако она внимательно выслушала меня, и, кажется, мои слова были ей приятны.
Тогда, набравшись храбрости, я решил спросить, что ее так угнетает.
— Мадемуазель Эжени, — сказал я, — простите мою смелость, но вот уже некоторое время я наблюдаю… вернее, замечаю, что какая-то тайная печаль удручает вас…
Она посмотрела на меня с молчаливым удивлением. Я немного растерялся, заметив этот странный взгляд, а затем продолжал:
— Простите меня, мадемуазель Эжени, если я слишком смело говорю с вами, но, уверяю вас, мои намерения…
— Продолжайте, сударь, — ответила она спокойным, печальным голосом.
— Я заговорил об этом потому, что, когда имел удовольствие впервые познакомиться с вами, вы держали себя иначе… можно сказать, совершенно не так, как сейчас…
Она взглянула на меня и ответила мне лишь печальной улыбкой. Я на минуту умолк, а потом продолжал:
— Когда я впервые заметил в вас эту перемену, мадемуазель Эжени, я объяснил ее горем из-за гибели верного слуги и друга.
Она снова грустно улыбнулась.
— Но с тех пор прошло уж много времени, а ваше горе…
— Вы замечаете, что горе мое все не проходит?
— Да.
— Вы правы, сударь, это так.
— Поэтому я и решил, что есть какая-то другая причина вашей печали, и невольно стал искать ее…
Я снова встретил ее удивленный, испытующий взгляд и замолчал. Но вскоре я опять заговорил, желая высказаться до конца:
— Простите, что я вмешиваюсь в ваши дела, но позвольте мне спросить вас… Мне кажется, что причина вашего несчастья Гайар?
Она вздрогнула, услышав мой вопрос, и сильно побледнела. Но в следующую минуту овладела собой и ответила спокойно, но со странным выражением лица:
— Увы, сударь, ваши подозрения справедливы лишь отчасти… О Боже, помоги мне! — вдруг воскликнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние. Затем, сделав над собой усилие, она продолжала другим, более спокойным тоном: — Пожалуйста, сударь, оставим этот разговор. Я обязана вам жизнью и глубоко благодарна. Если бы я знала, как отплатить вам за ваше великодушие и вашу… вашу дружбу! Быть может, когда-нибудь вы все узнаете… Я и сейчас сказала бы вам, но тут… тут есть еще причина, и я… нет, я не могу!
— Мадемуазель Эжени, умоляю вас, не думайте, что это лишь праздный вопрос. Я спросил не из пустого любопытства. Поверьте, у меня были благородные побуждения…
— Я знаю, сударь, знаю… Но лучше оставим эту тему. Прошу вас, поговорим о чем-нибудь другом.
О другом! Мне не нужно было искать новую тему для разговора — стоило только дать волю своему чувству. Это чувство, переполнявшее мое сердце, само просилось наружу. И в быстрых, бессвязных словах я поведал ей о своей любви к Авроре.
Я подробно описал историю моей любви с первой встречи, когда я принял ее за видение, до последнего объяснения, когда мы дали друг другу слово.
Эжени сидела на низком диване против меня, но из застенчивости я говорил, не поднимая глаз. Она слушала, не прерывая меня, и мне казалось, что это — добрый знак.
Но вот я кончил и с замиранием сердца ждал от нее ответа, как вдруг услышал глубокий вздох, затем глухой стук и сразу поднял глаза. Эжени лежала на полу. Она была в обмороке.
Быстро нагнувшись, я поднял ее и уложил на диван. Затем повернулся, собираясь позвать кого-нибудь на помощь, но в ту же минуту дверь отворилась, и кто-то вбежал в комнату. Это была Аврора.
— Боже мой! — воскликнула она. — Вы убили ее! Она вас любит! Она вас любит!
Глава 30
ТРЕВОЖНЫЕ ДУМЫ
Эту ночь я снова провел без сна. Что теперь с Эжени? Что с Авророй?
Всю ночь меня осаждали мысли, в которых радость причудливо переплеталась с грустью. Любовь квартеронки наполняла меня радостью, но, увы, при мысли о креолке меня охватывала глубокая грусть. Теперь я не сомневался, что Эжени меня любит, однако это чувство не только не радовало меня, но, напротив, вызывало во мне горячую жалость. Только низкая, тщеславная душа может упиваться такой победой, только жестокое сердце может радоваться любви, которую не в состоянии разделить! Я не способен на это. Я был глубоко огорчен.
Я старался восстановить в памяти все, что произошло между мной и Эжени Безансон со времени нашего знакомства. Я допрашивал свою совесть: был ли я в чем-либо виноват перед ней? Пытался ли я словом, взглядом или поступком вызвать ее любовь? Произвести на нее особое впечатление, которое в таком увлекающемся сердце часто переходит в глубокое чувство? Может быть, еще на пароходе? Или после? Я вспомнил, что, когда впервые увидел ее, я смотрел на нее с восхищением. Вспомнил, что заметил в ее взгляде странный интерес ко мне и приписал его простому любопытству или чему-то в этом роде. Тщеславие, которое не чуждо мне, как и всякому другому, не заговорило во мне тогда, не объяснило, что значит этот нежный взгляд, не подсказало, что это росток любви, который может превратиться в пышный цветок. Моя ли вина, что этот роковой цветок распустился?
Я подробно вспомнил все, что произошло между нами за это время. Вспомнил все события на пароходе и последнюю трагическую сцену. Но я не мог припомнить ни взгляда, ни слова, ни поступка, за который мог бы осудить себя. Я допросил свою совесть, и она сказала мне, что я не виноват.
И дальше — после той ужасной ночи, после того как таинственное лицо с блестящими глазами, словно видение, промелькнуло в моем затуманенном сознании, я был не повинен ни в одном низменном помысле. В дни моего выздоровления, за все время, проведенное на плантации, я ни в чем не мог себя упрекнуть. Я выказывал Эжени Безансон только глубокое уважение и больше ничего. Втайне я чувствовал к ней искреннюю симпатию, особенно после того, как заметил происшедшую в ней перемену и боялся, что зловещая туча грозит ее счастью, но не высказывал своих опасений. Бедная Эжени! Я и не подозревал, что это за туча! Не подозревал, как она черна.
Несмотря на то, что я не чувствовал за собой вины, я очень страдал. Если бы Эжени Безансон была заурядной женщиной, я отнесся бы к этому более легко. Но как перенесет боль неразделенной любви это благородное сердце, такое пылкое и чувствительное? Какой это для нее ужасный удар! Быть может, особенно тяжелый потому, что соперницей оказалась ее собственная невольница.
Так вот какой поверенной открыл я свою тайну! Вот кому поведал я историю моей любви! Ах, зачем я сделал это признание? Какую боль я причинил прекрасной и несчастной девушке!
Все эти печальные мысли осаждали меня; но были и другие, не менее горькие, хотя они и шли из другого источника. Каковы будут последствия моей откровенности? Как все это отразится на нашей участи — моей и Авроры? Как поступит Эжени? Как отнесется ко мне? И к Авроре, своей невольнице?
Она не ответила на мое признание. Ее безмолвные уста не произнесли ни слова на прощанье. С минуту я смотрел на ее неподвижное тело. Но Аврора кивнула мне, чтобы я уходил, и я покинул их в полном смятении, не сознавая, куда иду.
Что же будет теперь? Я с дрожью думал об этом. Гнев, вражда, месть?
Может ли эта чистая, благородная душа питать такие чувства?
«Нет, — думал я, — Эжени Безансон слишком добра, слишком женственна, она на это не способна. Могу ли я надеяться, что она пожалеет меня, так же как я жалею ее? Или не могу? Ведь она креолка и унаследовала горячую кровь своих предков. Если в ней вспыхнет ревность и жажда мести, ее благодарность может угаснуть, а любовь превратится в ненависть. Ее собственная невольница!»
Ах, я прекрасно понимаю все значение подобных отношений, но не сумею вам объяснить их до конца. Вам не понять этого страшного неравенства. Представьте себе унизительный брак помещика-аристократа с дочерью его холопа или знатной дамы с ее безродным лакеем и подумайте, какое возмущение, какой скандал вызовет этот редкий случай. По все это ничто в сравнении с отвращением и ужасом, которые вызовет белый, вступивший в законный брак с невольницей. Не важно, что у нее белая кожа, не важно, что она красавица, даже такая красавица, как Аврора — тот, кто захочет жениться на ней, должен увезти ее подальше от родины, подальше от тех мест, где ее знают. Взять ее в наложницы — другое дело! Подобная связь простительна. Южное общество готово признать рабыню-наложницу, но никак не рабыню-жену: это немыслимо, чудовищно, этого общество не потерпит.
Я знал, что умница Эжени стоит выше предрассудков своего класса, но даже и от нее трудно было ожидать, что она не посчитается с предрассудком, запрещающим жениться на рабыне. Да, надо поистине обладать сильным духом, чтобы сбросить с себя оковы, в которых держат человека воспитание, привычки, обычаи, весь жизненный уклад. Несмотря на характер Эжени, несмотря на ее привязанность к Авроре, я не мог на это надеяться.
Аврора была ее наперсницей, ее подругой, но все же и ее рабыней!
Я дрожал при мысли о будущем. Я дрожал, ожидая новой встречи с Эжени. Впереди я видел лишь опасности и мрак. У меня была только одна надежда, одна радость — любовь Авроры!
* * *
Я поднялся с постели после бессонной ночи. Быстро одевшись, я машинально проглотил свой завтрак. Но что было делать дальше? Ехать на плантацию и попытаться снова увидеть Эжени? Нет, не сейчас. У меня не хватало смелости. Пусть пройдет день-другой, и тогда я поеду. Быть может, Эжени пришлет за мной? Быть может… Во всяком случае, лучше переждать несколько дней. Ах, какими долгими будут они для меня!
Общество людей было мне невыносимо. Я избегал разговоров, хотя заметил, как и накануне, что привлекаю всеобщее внимание и, очевидно, служу предметом пересудов среди завсегдатаев бара и моих знакомых по биллиарду. Чтобы избежать их, я не выходил из своей комнаты и пытался убить время за книгой.
Но вскоре мне надоела эта жизнь отшельника, и на третье утро я взял ружье и отправился в лес.
Вскоре и шагал между рядами высоких пирамидальных кипарисов, густая, непроницаемая зелень которых смыкалась надо мной, закрывая небо и солнце. Сумрак, царивший в лесу, отвечал моему настроению, и я шел, погруженный в свои мысли, не замечая, куда иду.
Я не искал дичи. Я и не думал об охоте. Ружье болталось у меня за плечом. Енот, который обычно выходит только ночью, в этом темном лесу встречается и среди дня. Я видел, как этот зверек прятал свою добычу в заводи и скользил между стволами кипарисов. Я видел, как опоссум пробирался по упавшему тополю, а рыжая белка, мелькая, словно яркий огонек, прыгала, распушив хвост, на высоком тюльпанном дереве. Я видел крупного болотного зайца, скакавшего по краю густых камышовых зарослей, и еще более заманчивая дичь — быстрая лань дважды промелькнула передо мной, выскочив из темной чащи деревьев. Попался на моем пути и дикий индюк в пышном наряде из блестящих перьев: а когда я шел по берегу речной протоки, мне много раз представлялся случай подстрелить голубую или белую цаплю, дикую утку, тонкого ибиса или длинноногого журавля. Даже сам царь этого пернатого царства — белоголовый орел, с громким клекотом летавший над верхушками громадных кипарисов, был не раз на выстрел от меня.
Однако двустволка по-прежнему висела у меня за плечом, я даже ни разу не прицелился из нее. Никакая охота не шла мне на ум и не могла отвлечь от мыслей, занятых тем, что было для меня важнее всего на свете — квартеронкой Авророй.
Глава 31
СОН
Погруженный в свои думы и любовные мечты, я шел наугад, не отдавая себе отчета, куда и сколько времени я иду.
Я очнулся, увидев впереди широкий просвет, и вскоре, выйдя из тенистого леса, неожиданно оказался на красивой поляне, залитой солнечным светом и усыпанной цветами. В этом диком саду, пестревшем венчиками всех оттенков, бросались в глаза бигнонии и яркие головки диких роз. Деревья вокруг поляны тоже стояли все в цвету. Это были различные виды магнолий; на некоторых крупные, похожие на лилии цветы уже сменились не менее заметными ярко-красными шишками с семенами, и воздух был напоен их пряным, но приятным ароматом. Тут же росли и другие цветущие деревья, и их благоухание смешивалось с ароматом магнолий. Не менее интересны были и медовая акация с ее мелкими перистыми листьями и длинными красновато-коричневыми плодами, и виргинский лотос с продолговатыми янтарно-желтыми ягодами, и своеобразная маклюра с крупными, похожими на апельсины околоплодниками, такими же, как у многих тропических растений.
Осень начала уже понемногу хозяйничать в лесу, и яркие мазки ее палитры проступали на листве американского лавра, сумака, персимона, ниссы и других представителей американских лесов, которые любят наряжаться в пестрые уборы, прежде чем сбросить свою листву. Кругом все переливалось желтым, оранжевым, красным, малиновым цветами и всевозможными их оттенками. Эти сочные краски, пылая под яркими лучами солнца, создавали необыкновенно живописную картину. Она напоминала скорее пышную театральную декорацию, чем живую природу.
Несколько минут я стоял как зачарованный. На фоне этой природы мои любовные мечты как будто стали еще ярче. Если бы Аврора была здесь, если бы она могла любоваться природой, гулять со мной по цветущей поляне, сидеть подле меня в тени магнолий, я был бы бесконечно счастлив. На всей земле не найти лучшего уголка. Вот истинный приют любви!
Вскоре я и правда увидел влюбленную парочку: два прелестных голубка — символ нежной любви — сидели рядышком на ветке тюльпанного дерева, и их бронзовые шейки вздувались, издавая нежное воркованье.
Ах, как я завидовал этим милым созданиям! Как бы мне хотелось быть на их месте! Быть вдвоем среди ярких цветов и сладких ароматов, весь день посвящая любви, и так всю жизнь!
Им не понравилось мое вторжение, и, заметив меня, они взмахнули крылышками и упорхнули. Вероятно, они испугались блестевшего за моим плечом ружья. Но им ничего было бояться: я не собирался их обижать, не хотел нарушать их блаженство.
Впрочем, нет, они меня не боялись, а то улетели бы подальше. Они просто вспорхнули на соседнее дерево и там, снова усевшись рядом, продолжали свою нежную беседу. Занятые своей любовью, они совсем забыли обо мне. Я подошел поближе, чтобы понаблюдать за этими хорошенькими птичками — олицетворением преданности и любви. Я бросился на траву и смотрел, как они трогательно целуются и воркуют. Я завидовал их счастью.
Мои нервы были много дней в постоянном напряжении, и теперь наступила естественная реакция: я почувствовал страшную усталость. В прогретом солнцем воздухе было что-то усыпляющее, в нем был разлит дурманящий аромат цветов. Он успокоил мою тревогу, и я крепко уснул.
* * *
Я проспал, наверно, не больше часа, но за это время видел много снов. В моем дремлющем сознании одна картина сменяла другую… Не все они были одинаково отчетливы, но в них все время присутствовали два образа, очень ясные, с хорошо знакомыми мне чертами: Эжени и Аврора.
В этих снах появлялся и Гайар, и свирепый надсмотрщик, и Сципион, и приятное лицо Рейгарта, и кто-то, похожий на верного Антуана. Даже несчастный капитан погибшего парохода, и сама «Красавица Запада», и «Магнолия», и наша катастрофа — все проходило передо мной с мучительной четкостью.
Но не все мои видения были тягостны. Некоторые, напротив, наполнили меня радостью. Вдвоем с Авророй бродил я по цветущим лугам и говорил с ней о нашей любви. Та самая поляна, на которой я лежал, привиделась мне и во сне.
Но странно: мне снилось, будто Эжени тоже была с нами и что она тоже счастлива, что она дала согласие на мой брак с Авророй и даже помогла нам упрочить наше счастье.
В этом сне Гайар был моим злым духом, он пытался отнять у меня Аврору. Мы вступили с ним в поединок, но тут мой сон внезапно оборвался…
* * *
Передо мной возникла новая картина. Теперь моим злым духом была Эжени. Мне снилось, что она отвергла мою просьбу, отказалась продать Аврору. Я видел ее ревнивой, враждебной и мстительной. Она осыпала меня проклятиями, а мою невесту угрозами. Аврора рыдала… Это было мучительное видение.
Картина снова изменилась. Мы с Авророй были счастливы. Она была свободна, она стала моей, мы были женаты. Но наше счастье омрачала темная туча: Эжени умерла.
Да, умерла. Мне казалось, что я склонился над ней и взял ее за руку. Внезапно ее пальцы обхватили мою кисть и сжали в долгом пожатии. Ее прикосновение было мне неприятно, и я постарался высвободиться, но не мог. Холодная, липкая рука крепко схватила мои пальцы, и, как ни напрягал я свои силы, я не мог вырваться. Вдруг я почувствовал острую боль от укуса, и в ту же минуту холодная рука разжалась и выпустила мою.
Однако боль разбудила меня, и я невольно взглянул на свою руку, которая продолжала болеть. Да, несомненно, она была укушена, и с нее капала кровь!
Ужас охватил меня, когда я услышал рядом громкое «с-скр-р-р…» — звук, издаваемый гремучей змеей. Я оглянулся и увидел длинное, извивающееся тело, быстро уползающее от меня в густой траве.
Глава 32
УКУС ЗМЕИ
Моя боль не была сном, кровь на руке была настоящей. Теперь я не спал. Меня укусила гремучая змея!
В ужасе вскочил я на ноги. Еще не придя в себя, я машинально поднял руку и выдавил кровь из ранки. На кисти был лишь небольшой надрез, как от тонкого ланцета, и из него вытекло только несколько капель крови.
Такая царапина не испугала бы и ребенка, но я, взрослый человек, был в смертельном страхе: я знал, что этот маленький прокол сделан страшным инструментом — ядовитым зубом змеи — и что через час я должен умереть!
Первым моим побуждением было броситься за змеей и убить ее, но прежде чем я успел опомниться, она уже скрылась из виду. Неподалеку лежал толстый ствол огромного тюльпанного дерева с прогнившей сердцевиной. Без сомнения, тут и было убежище змеи, и прежде чем я успел подбежать к нему, я увидел, как ее длинное скользкое тело с ромбовидными пятнами скрылось в его темном отверстии. Я еще раз услышал громкое «с-скр-р-р…» — и змея исчезла. В ее треске слышалось торжество, словно она дразнила меня.
Теперь я не мог ее достать, но если бы даже я убил ее, это ничуть бы мне не помогло. Ее смерть не остановила бы действия яда, уже проникшего в мою кровь. Я прекрасно знал это, но мне все же хотелось ее убить. Я был взбешен и жаждал мести.
Но таково было лишь первое чувство. Вскоре оно перешло в ужас. Было что-то жуткое в поведении и остром взгляде этой гадины; ее непонятное нападение, затем бегство и исчезновение наполнили меня темным, суеверным страхом, словно это был перевоплотившийся злой дух.
Несколько минут я стоял как потерянный… Но, снова почувствовав боль от укуса и увидев на руке кровь, я пришел в себя. Надо было немедленно действовать, сейчас же достать противоядие. Но какое?
Я был полным невеждой в этой области. Ведь я учился в классическом колледже! Правда, последнее время я немного занимался ботаникой, но успел познакомиться только с деревьями, растущими в лесу, а из них ни одно не обладало такими целебными свойствами. О травах же, корнях или кустарниках, которые могли бы мне помочь, я ничего не знал. В лесу могло быть полно всяких средств от змеиного яда, а я умер бы, не воспользовавшись ими. Да, я мог бы лежать среди зарослей змеиного корня и умирать в страшных мучениях, до последнего своего вздоха не подозревая, что сок примятого мной скромного растения через несколько часов изгнал бы яд из моей крови и вернул бы мне жизнь и здоровье.
Но я не стал терять времени на размышления об этих средствах спасения. Я думал только об одном — как можно скорее добраться до Бринджерса. Вся моя надежда была на Рейгарта.
Я подхватил ружье и, вновь углубившись в темный кипарисовый лес, нервно зашагал обратно. Я шел так быстро, как только мог, но от пережитого мною ужаса, должно быть, ослабел — колени мои дрожали и ноги подкашивались.
Однако я стремился вперед, не обращая внимания на свою слабость и все, что было вокруг, и думая только, как скорей добраться до Бринджерса и до Рейгарта. Я перескакивал через поваленные деревья, пробирался сквозь заросли камыша, сквозь густой подлесок из пальметто; ветви преграждали мне путь, рвали на мне одежду, царапали лицо. Вперед, через тинистые ручейки, через вязкие болота, через топкие пруды, кишащие отвратительными тритонами и громадными лягушками, которые сопровождали каждый мой шаг хриплым кваканьем, казавшимся мне зловещим. Вперед!
«Но куда я иду? Где тропинка? Где мои прежние следы? Тут их нет. Здесь тоже нет. Великий Боже! Неужели я потерял дорогу? Потерял! Потерял!»
Эта мысль, как молния, сверкнула в моем мозгу. Я взволнованно осмотрелся по сторонам. Я внимательно оглядел землю кругом. Я не видел ни тропинки, ни других следов, кроме тех, что я только что оставил. Никаких признаков, напоминающих мой прежний путь! Я сбился с дороги. Сомненья нет — я заблудился!
Меня охватила дрожь отчаяния. При мысли о близкой гибели кровь леденела в жилах. И неудивительно: если я заблудился — значит, я погиб! Достаточно одного часа: за это время яд сделает свое дело. И меня найдут лишь волки да стервятники. О Боже!
Теперь я еще яснее понял весь ужас моего положения, так как вспомнил, что мне говорили, будто в это время года — в начале осени — змеиный яд особенно опасен и действует с наибольшей быстротой. Бывали случаи, что смерть наступала в течение часа.
«Боже милостивый! — подумал я. — Через час меня уже не станет!» Я невольно застонал.
Опасность подстегнула меня, и я снова бросился на поиски. Я повернул назад и пошел по своим следам; это лучшее, что я мог сделать, так как под темным сводом леса не было никакого просвета, который указал бы мне, что я приближаюсь к плантации. Я не видел ни клочка голубого неба, предвещавшего близость лесной опушки, такой желанной для заблудившегося в лесу. Даже небо над моей головой было скрыто словно темной завесой, и когда я обращался к нему с молитвой, глаза мои видели только густую, мрачную зелень кипарисов, с которых свисала траурная бахрома испанского мха.
Мне оставалось либо идти обратно и попробовать отыскать потерянную тропинку, либо идти вперед, положившись на волю случая.
Я выбрал первое. Снова я продирался сквозь заросли камыша и густой подлесок, снова переходил вброд топкие протоки и увязал в илистых болотах.
Но не прошел я назад и ста ярдов, как опять начал сомневаться. Я вышел на более высокое и сухое место, где не отпечатались мои следы, и не знал, куда идти. Я бросался то туда, то сюда, но не находил своего прежнего пути. Я растерялся и окончательно запутался. Увы, я снова заблудился!
Заблудиться в лесу при обыкновенных обстоятельствах было бы не так страшно; проблуждать час-другой, даже провести ночь под деревом, не подкрепившись на сон грядущий, это не испугало бы меня. Но теперь я был в совершенно ином положении, и мысль об этом не давала мне покоя. Скоро яд отравит мою кровь. Казалось, что я уже чувствую, как он растекается у меня по жилам.
Надо бороться, надо искать выход! Я снова бросился вперед, теперь уж наудачу. Я пытался идти все прямо, но тщетно. Толстые стволы хвойных деревьев вставали на моем пути, и мне приходилось все время обходить их, так что скоро я снова потерял направление. Но я все шел, то устало перебираясь через ручьи, то увязая в болотах, то перелезая через поваленные деревья. По пути я вспугивал тысячи обитателей дремучего леса, и они провожали меня разноголосым криком. Пронзительно пищала цапля; ухала болотная сова; громадные лягушки громко квакали; отвратительный аллигатор ревел, раскрывая свою длинную пасть, и сердито уползал с моей дороги; порой мне казалось, что он вот-вот повернется и бросится на меня.
«Ура! Я вижу свет! Вон небо!»
Пока только маленькое голубое пятнышко — круглое пятнышко не больше тарелки. Но вы не можете себе представить, как я обрадовался этому маленькому просвету! Он был для меня тем же, чем маяк для заблудившегося моряка.
Там, должно быть, опушка леса! Да, сквозь деревья уже проникал солнечный свет, и постепенно лес все расступался передо мною. Несомненно, впереди — плантации. Выйдя из лесу, я быстро пересеку поля и доберусь до селения. Тогда я спасен! Рейгарт, наверно, знает, как бороться с ядом, и даст мне нужное лекарство.
С бьющимся сердцем, напрягая зрение, я спешил к светлой прогалине. Голубое пятно становилось все больше, появились новые просветы, лес становился все реже, я уже был недалеко от опушки.
С каждым шагом почва становилась суше и тверже, а деревья меньше. Причудливо разросшиеся корни кипарисов теперь не мешали мне быстро двигаться вперед. Я шел среди тюльпанных деревьев, кизила и магнолий. Деревья росли не так часто, их зелень была светлее, а тень не такая густая. И вот наконец я миновал последние заросли подлеска и вышел на солнечную поляну.
Горестный крик сорвался с моих губ, крик отчаяния. Я вышел к тому месту, откуда ушел, — я снова очутился на той же поляне!
Теперь я уже не пытался идти дальше. Усталость, разочарование и горе сломили мои силы. Я подошел, шатаясь, к лежащему на земле стволу, тому самому, в котором скрылся мой пресмыкающийся враг, и сел, совсем убитый.
Казалось, мне суждено умереть на этой прелестной поляне, среди ярких цветов, среди живописной природы, которой я так недавно любовался, — на том самом месте, где я получил свою роковую рану…
Глава 33
БЕГЛЕЦ
Человек не хочет расставаться с жизнью, пока не испытает все средства спасти себя. Каким бы сильным ни было отчаяние, однако есть люди, дух которых оно не может сломить. Впоследствии при подобных обстоятельствах я не поддался бы отчаянию, но тогда я был еще молод и неопытен.
Однако мое подавленное состояние длилось недолго. Вскоре я снова овладел собой и решил еще раз попытаться спасти свою жизнь.
У меня не было никакого плана, я хотел просто еще раз попробовать выбраться из лабиринта зарослей и болот и выйти к селению. Я подумал, что мне удастся определить направление с того места, откуда я в первый раз вышел на поляну. Однако и в этом я не был уверен. Я забрел сюда, не обращая внимания, как и куда иду. Прежде чем лечь и заснуть, я обошел поляну кругом. Возможно, что я уже кружил возле нее, прежде чем ее увидел, — ведь я все утро бродил по лесу.
Когда эти мысли пронеслись у меня в голове, я готов был снова прийти в отчаяние, но вдруг вспомнил, что кто-то говорил мне, будто табак — сильное средство против змеиного яда. Странно, что это не пришло мне в голову раньше. Впрочем, это было понятно, так как до сих пор я думал только о том, как мне добраться до Бринджерса.
Сначала, не полагаясь на собственные знания, я надеялся лишь на доктора. И только увидев, что не могу рассчитывать на его помощь, стал думать о том, что в силах сделать сам. И тут я вспомнил про табак.
Я поспешно вытащил портсигар. К моей радости, в нем оставалась еще одна сигара, и вынув ее, я принялся разжевывать табак. Как я слышал, в таком виде его следовало приложить к ране. Во рту у меня пересохло, но от горького табака он скоро наполнился слюной, и, пересиливая тошноту, я быстро разжевал сухие листья в кашицу, пропитанную крепким никотином.
Положив эту влажную массу на свою кисть, я втер ее в ранку. Теперь я заметил, что рука моя сильно опухла до самого локтя и боль в ней все усиливалась. О Боже мой! Яд уже действовал, быстро и неотвратимо! Мне казалось, что я чувствую, как огонь разливается по моим жилам.
Хотя я и приложил никотиновую примочку к руке, я слабо верил в ее действие, так как только мельком слышал о ее целебных свойствах. Вероятно, думал я, это одно из тысячи народных средств, которыми пользуются доверчивые люди. Только отчаяние заставило меня пригнуть к нему.
Оторвав рукав своей рубашки вместо бинта, я обвязал руку, а затем по— вернулся и снова двинулся в путь. Но, не сделав и трех шагов, остановился как вкопанный. Прямо против меня на краю поляны стоял человек.
Он, очевидно, только что вышел из леса, к которому я направлялся, и теперь остановился, удивленный, увидев человека в таком глухом месте. Я встретил его радостным криком.
«Вот кто выведет меня отсюда! Вот мой спаситель!» — подумал я.
Каково же было мое удивление, огорчение, возмущение, когда он быстро отвернулся от меня, бросился в кусты и исчез.
Я был поражен его странным поведением. Я успел только мельком взглянуть на него и заметил, что это негр и что у него испуганное лицо. Но чем же я мог его напугать?
Я закричал ему, чтобы он остановился и вернулся назад. Я звал его сначала умоляющим, а потом строгим и угрожающим тоном. Но тщетно; он не остановился, не обернулся. Я слышал, как трещали ветки, когда он продирался сквозь чащу, и с каждой минутой эти звуки все удалялись.
В этом человеке я видел единственное свое спасение. Мне нельзя было его упускать, и я бросился следом за ним.
Если я могу положиться на что-нибудь, так это на быстроту моих ног. А в те годы даже индейский бегун не мог бы меня обогнать, не то что неуклюжий, большеногий негр. Я знал, что стоит мне только его увидеть, как он уже не уйдет от меня, но в зтом-то и заключалась трудность. Пока я раздумывал, он успел убежать довольно далеко и теперь скрылся из виду в чаще леса.
Но я слышал, как он, словно дикий кабан, ломится сквозь кустарник, и по этому треску продолжал гнаться за ним.
Я уже немного утомился от долгой ходьбы по лесу, но сознание, что жизнь моя зависит от того, настигну ли я негра, вливало в меня свежие силы, и я мчался за ним, как гончая собака. К несчастью, успех зависел не только от моего проворства, иначе эта гонка закончилась бы очень скоро. Трудность была в том, что мне приходилось продираться сквозь кусты, обегать толстые деревья, все время бороться с хлеставшими меня ветвями и то и дело пускаться в обход.
Но вот наконец я увидел его. Мелкий подлесок кончился. Из черной, топкой земли торчали только громадные стволы кипарисов, и далеко впереди под темными сводами деревьев я увидел негра, который по-прежнему со всех ног удирал от меня. К счастью, на нем была светлая рубашка, иначе я не разглядел бы его в густой тени. Впрочем, он только промелькнул передо мной далеко впереди.
Лес здесь был не такой частый и заросли не преграждали мне путь. Теперь все зависело от быстроты, и не прошло и пяти минут, как я уже нагонял его, умоляя, чтобы он остановился.
— Стой! — кричал я. — Стой, ради Бога!
Но негр ничего не отвечал. Он даже не повернул головы и продолжал бежать, разбрызгивая грязь.
— Стой! — продолжал я кричать во всю силу моих уставших легких, задыхаясь от бега. — Стой, друг! Что ты бежишь от меня? Я не сделаю тебе ничего плохого!
Но и эти слова не произвели на него никакого впечатления, он будто ничего не слышал. Мне показалось, что он еще ускорил свой бег или, может быть, вышел из болота и бежал теперь по твердой почве, а я как раз попал в топь. Расстояние между нами стало как будто увеличиваться, и я испугался, что он снова скроется от меня. Я знал, что от него зависит моя жизнь. Если он не выведет меня из леса, я погибну ужасной смертью. Он должен показать мне дорогу. Хочет он или не хочет, но я заставлю его!
— Стой! — крикнул я еще раз. — Стой, или я буду стрелять!
Я вскинул ружье. Оба ствола были заряжены. Это не было пустой угрозой: я действительно решил выстрелить, не для того, чтобы убить его, но чтобы остановить. Конечно, я мог ранить его, но что мне оставалось делать? У меня не было выбора, я не знал другого средства спасти свою жизнь. Я повторил свою угрозу:
— Стой, или я стреляю!
Я выкрикнул это с такой яростью, что негр не мог сомневаться в моем намерении. По-видимому, он понял это, так как внезапно остановился и круто повернулся ко мне лицом.
— Стреляй, проклятый белый! — крикнул он. — Но если промахнешься — берегись! Тогда прощайся с жизнью, черт тебя побери! Видишь этот нож? Стреляй же и будь ты проклят!
Он стоял прямо против меня, смело подставив под пулю свою широкую грудь; в его поднятой руке сверкал нож.
Я сделал несколько шагов и подошел к нему вплотную; тут я вдруг узнал этого человека: передо мной стоял негр Габриэль, жестокий бамбара.
Глава 34
НЕГР ГАБРИЭЛЬ
Могучая фигура негра, его угрожающая поза, горящие, налитые кровью глаза, выражение отчаянной решимости, белые, сверкающие зубы — все придавало ему свирепый вид. В другое время я побоялся бы встречи с таким страшным врагом; ведь я считал его врагом: я помнил, как ударил его, и не сомневался, что и он помнит об этом. Я был уверен, что сейчас он готовится мне отомстить — отчасти за тот удар, отчасти выполняя приказание своего трусливого хозяина. Он, наверно, выслеживал меня в лесу; возможно, ходил за мной весь день, выжидая удобного случая для нападения.
Но почему же тогда он бежал? Может быть, боялся напасть на меня открыто? Ну конечно, его пугала моя двустволка.
Однако он мог подкрасться ко мне, когда я спал, и… Ах! Это восклицание невольно вырвалось у меня, когда неожиданная догадка молнией мелькнула в моей голове. Габриэль, как я слышал, был заклинателем змей, он приручал даже самых ядовитых и подчинял своей воле. Не он ли подослал ко мне змею, когда я заснул, и заставил ее укусить меня?
Как ни странно, но такое предположение в ту минуту показалось мне возможным; больше того, я поверил, что это именно так. Я вспомнил странное поведение змеи, необыкновенную хитрость, с какой она скрылась от меня, и ее коварное, ничем не вызванное нападение, несвойственное гремучей змее. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове и убедили меня в том, что роковой укус был не случайным и что всему виной Габриэль — заклинатель змей.
Эти размышления не заняли и десятой, даже сотой доли того времени, которое я потратил, чтобы рассказать вам о них. Убеждение в виновности Габриэля возникло во мне мгновенно, тем более что все предшествующие события были еще совсем свежи в моей памяти. Пока я думал об этом, негр не успел даже переменить свою угрожающую позу, а я — свое удивленное выражение лица.
И почти с такой же быстротой я понял, что ошибаюсь. Я увидел, что мои подозрения несправедливы. Я напрасно обвинял человека, стоявшего передо мной.
Поведение его вдруг резко изменилось. Поднятая рука упала, с лица исчезло свирепое выражение, и он сказал самым мягким тоном, какой только мог придать своему грубому голосу:
— О-о! Это вы, масса — друг черных? Вот черт! А я-то думал — это проклятый янки-погоняла!
— Так вот почему ты бежал от меня?
— Ну да, масса, только потому.
— Значит, ты…
— Я беглый, масса, вот в чем дело: я беглый негр. Вам это можно сказать. Габриэль верит вам, он знает — вы друг бедных негров. Посмотрите-ка сюда!
Он приподнял желтую рубаху, висевшую на нем клочьями, повернулся и показал мне свою обнаженную спину.
Это было страшное зрелище! Рядом с клеймом — королевской лилией — и другими старыми шрамами виднелись совсем свежие раны. Темная спина была вся исполосована длинными вздувшимися багровыми рубцами, словно покрыта толстой сетью. Кожа была местами темно-фиолетового цвета от кровоподтеков, а кое-где, там, куда попадал скрученный конец ременной плети, выступало обнаженное мясо. Старую рубаху покрывали бурые пятна запекшейся крови, брызгавшей из его ран во время наказания. Мне было больно смотреть на него, и я невольно воскликнул:
— Ох, бедняга!
Мое сочувствие, видимо, тронуло суровое сердце негра.
— Да, масса, — продолжал он, — вы тоже ударили меня хлыстом, но это ничего! Габ не сердится на вас. Габ не хотел лить воду на старого Зипа. Он был очень рад, когда молодой масса прогнал его прочь!
— Как, тебя насильно заставили качать воду?
— Ну да, масса. Янки-погоняла заставил. И хотел заставить опять. А Габ отказался еще раз поливать старого Зипа. И вот что он сделал с моей спиной, будь он проклят!
— Тебя отстегали за то, что ты отказался наказывать Сципиона?
— Да. масса Эдвард, так оно и было. Видите, как отстегали! Но я… — Тут он остановился в нерешимости, и лицо его снова стало жестоким. — Но я отомстил этому янки, будь он проклят!
— Как — отомстил? Что ты ему сделал?
— Немного, масса: сбил его с ног. Он свалился, как бык под топором. Вот месть бедного негра. Теперь я беглый негр — и это тоже месть. Xa-xal Они потеряли хорошего негра: нет хорошего работника для хлопка, нет хорошего работника для сахарного тростника. Ха-ха!
Грубый смех, которым беглец выражал свою радость, удивил меня.
— Значит, ты сбежал с плантации?
— Да, масса Эдвард, так оно и есть. Габ никогда не вернется назад. — И он добавил с силой: — Никогда не вернется назад живой!
Он с суровым и решительным выражением прижал руку к своей широкой груди. Я понял, что неправильно судил об этом человеке. Я знал о нем только от его врагов — белых, которые его боялись. Несмотря на свирепое выражение лица, у него было благородное сердце. Его отстегали за то, что он отказался наказывать своего товарища — раба. Он возмутился против своего жестокого тирана и сбил его с ног. Поступая так, он рисковал заслужить еще гораздо более страшное наказание — он рисковал жизнью!
Для этого надо было иметь большое мужество. Только жажда свободы могла вдохнуть в него такое мужество, та жажда свободы, которая заставила швейцарского патриота прострелить шапку Геслера[32].
Глядя на негра, который стоял передо мной, скрестив на могучей груди сильные, мускулистые руки, выпрямив стан и откинув голову, с суровой решимостью во взоре, я был поражен величием его осанки и подумал, что у этого человека под рваной одеждой из грубого холста бьется мужественное и благородное сердце.
Глава 35
ЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗМЕИНОГО УКУСА
Несколько мгновений я с восхищением смотрел на смелого негра, на этого героического раба. Я мог бы долго любоваться им, но жгучая боль в руке напомнила мне о грозившей опасности.
— Ты проведешь меня в Бринджерс? — поспешно спросил я его.
— Не смею, масса.
— Не смеешь? Почему?
— Масса забыл. Я — беглый негр. Белые люди поймают Габа. Они отрубят мне руку.
— Как? Отрубят тебе руку?
— Да, верно, масса. Такой закон в Луизиане. Белый человек бьет негра
— все смеются, все кричат: «Бей проклятого негра! Бей его!» Негр бьет белого человека — ему отрубают руку. Габ очень-очень хочет помочь масса Эдварду, но он не смеет ходить на опушку. Белые люди два дня ищут его. Они послали по его следам собак и охотников за неграми. Я думал, масса из их шайки, вот почему я бежал.
— Если ты не выведешь меня из лесу, мне придется умереть.
— Умереть? Умереть?! Почему масса так говорит?
— Я заблудился и не могу найти дороги из лесу. Если я не отыщу доктора через двадцать минут, я погиб! О Боже!
— Доктора? Масса Эдвард болен? Что с вами? Скажите Габу. Если так надо, он отведет друга негров и не побоится рисковать жизнью. Что болит у молодого масса?
— Смотри, меня ужалила гремучая змея… И, развязав руку, я показал ему ранку и опухоль.
— О-о! Да, масса говорит правду. Это зубы гремучей змеи. Доктор не годится. Табак тоже не годится. Габ — лучший доктор от гремучей змеи. Идем скорей, молодой масса!
— Как! Значит, ты выведешь меня?
— Габ будет лечить вас, масса.
— Ты?
— Да, масса. Говорю вам — доктор не годится, он ничего не знает. Он не будет лечить, а будет убивать. Верьте мне, старый Габ — он знает, он вылечит. Идем скорей, масса, нельзя ждать!
В ту минуту я совсем забыл, что Габриэль славился как заклинатель змей и лекарь, спасавший от ядовитых укусов, хотя только что думал об этом. Теперь я снова все вспомнил, но с совсем иным чувством.
«Разумеется, — подумал я, — у него есть опыт, он знает противоядия и умеет их применять. Это тот самый человек, который мне нужен! Он сказал правду: доктор не поможет мне».
Я и сам не был раньше уверен, что доктор спасет меня, и бежал к нему, считая, что это моя последняя надежда.
«Габриэль, заклинатель змей, — вот нужный мне человек. Какое счастье, что я встретил его!»
Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и я сказал без колебаний:
— Веди меня! Я пойду за тобой.
Куда он меня поведет? Что будет делать? Где найдет противоядие? Как станет меня лечить?
На все эти лихорадочные вопросы я не получил ответа.
— Верьте мне, масса Эдвард, идите за мной! — вот все, что сказал негр, поспешно пробираясь между деревьями.
Мне оставалось только следовать за ним.
Пройдя несколько сот ярдов по болоту между кипарисами, я увидел впереди просвет. Значит, мы приближаемся к прогалине; к ней, верно, и направляется мой проводник. И я не удивился, когда, выйдя из лесу, мы снова оказались на поляне — на той же роковой поляне.
Как изменилась она теперь в моих глазах! Мне был неприятен заливавший ее яркий солнечный свет, пестрота цветов резала глаза, их аромат вызывал у меня тошноту, Впрочем, мне это, наверно, только казалось. Мне было дурно совсем по другой причине. Яд отравил мою кровь. Он огнем разливался у меня по жилам. Я чувствовал мучительную жажду, невыносимая тяжесть давила мне грудь, я дышал с трудом — все это были явные признаки отравления змеиным ядом.
Возможно, что я преувеличивал свои ощущения. Я знал, что меня укусила ядовитая змея, и моя фантазия разыгралась. Чувства мои обострились, и я страдал так, словно болезнь уже овладела мной.
Мой спутник велел мне сесть. Ходить нехорошо, сказал он. Надо ждать спокойно и терпеливо. И он снова просил меня «верить Габу». Я решил терпеть, хотя и не мог быть спокойным: мне угрожала слишком большая опасность.
Однако я послушался его. Я сел на ствол поваленного тюльпанного дерева, тот самый дуплистый ствол, в тени густого кизила. Собравшись с духом, я молча дожидался указаний моего черного лекаря. Он отошел от меня и медленно бродил по поляне, не отрывая глаз от земли, словно что-то разыскивая. Наверно, какую-нибудь траву, которая должна тут расти.
Нечего и говорить, что я следил за его движениями с напряженным вниманием. Ведь моя жизнь зависела от результата его поисков: его успех или неудача означали для меня жизнь или смерть.
Как у меня забилось сердце, когда я увидел, что он наклонился, что-то рассматривая, а затем нагнулся еще ниже, как будто хотел вырвать что-то из земли. Радостное восклицание сорвалось с его губ, и я невольно ответил ему радостным криком. Забыв его просьбу сидеть смирно, я вскочил с места и бросился к нему.
Когда я подбежал, он стоял на коленях и окапывал ножом какое-то растение, по-видимому, собираясь вытащить его с корнем. Это было небольшое травянистое растение с прямым стеблем, продолговатыми копьевидными листьями и небольшой кисточкой из малозаметных белых цветочков. Тогда я еще не знал, что это и есть знаменитый змеиный корень.
Негр быстро взрыхлил вокруг него почву и, вытащив его, отряхнул корни от земли. Я увидел, что на нем было много жестких кривых корневых разветвлений, чуть потолще корней сарсапарели. Они были покрыты черной корой и не имели запаха. В волокнах этих корней находилось противоядие от змеиного укуса, их сок должен был спасти мне жизнь!
Ни минуты не было потрачено на изготовление лекарства; в рецепте моего лекаря не было ни замысловатых иероглифов, ни латинских названий. Он просто сказал: «Жуйте!» — и положил мне в руку кусок очищенного от коры корня. Так я и сделал. Не прошло и минуты, как корень превратился у меня во рту в кашицу и я стал глотать его целебный сок.
Сначала у него был сладковатый привкус, который вызвал у меня легкую тошноту. Но по мере того как я жевал, он становился едким и обжигающим и начал щипать мне десны и горло.
Тем временем негр сбегал к ручью, наполнил один из своих грубых башмаков водой и, вернувшись, смыл с моей руки табачный сок. Он разжевал несколько листьев того же растения в мягкую массу, положил ее на ранку и снова завязал мне руку.
Теперь все, что можно было сделать, было сделано. И Габриэль сказал мне, чтобы я спокойно ждал и не боялся.
* * *
Очень скоро все мое тело покрылось испариной, и я стал дышать глубже и свободней. Кроме того, я чувствовал сильную тошноту, и если бы проглотил немного больше этого сока, меня бы, наверно, стошнило, так как змеиный корень, если принимать его в больших дозах, сильное рвотное средство.
Но из всех ощущений, которые я испытывал в ту минуту, самым сильным было радостное чувство, что я спасен.
Странно, но это чувство сразу охватило меня, и я был уверен, что оно меня не обманывает. Я больше не сомневался в искусстве моего лекаря.
Глава 36
ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ
Вскоре мне пришлось увидеть еще одно доказательство необыкновенных способностей моего нового приятеля.
Я ликовал, как всякий человек, неожиданно и почти чудом спасенный от смертельной опасности, как человек, который едва не утонул или уцелел на поле боя, — словом, вырвался из когтей смерти. Это было блаженное ощущение. Я чувствовал глубокую благодарность к моему спасителю и готов был обнять своего черного спутника, как родного брата, несмотря на его свирепый вид.
Мы уселись рядом на поваленном дереве и весело болтали, если можно так сказать о людях, чье будущее туманно и полно опасностей. Увы, таким оно было для нас обоих. Жизнь не баловала меня в последнее время, а его… Что ждало впереди беглого невольника?
Однако даже среди несчастий душа наша подчас отдается минутным радостям. Природа не допускает, чтобы горе длилось беспрерывно, и иногда человек должен стряхнуть с себя свои заботы. Такая минута наступила сейчас для меня. Радость и благодарность наполнили мое сердце. Я полюбил этого негра, этого беглого раба, и был в ту минуту счастлив в его обществе.
Мы, естественно, заговорили о змеях и средствах против их укусов, и он рассказал мне много интересного о жизни пресмыкающихся. Всякий натуралист мог бы позавидовать этому часу, проведенному мною в обществе негра Габриэля.
Во время нашего разговора мой собеседник вдруг спросил, убил ли я укусившую меня змею.
— Нет, — ответил я, — она уползла.
— Уползла? Как уползла, масса?
— Спряталась в пустом стволе, том самом, на котором мы сейчас сидим.
Глаза негра заблестели от удовольствия.
— Черт возьми! — воскликнул он, вскакивая. — Масса говорит — змея тут, в этом стволе? Вот тут? — повторил он. — Если эта гадина и вправду здесь, Габ мигом достанет ее!
— Но как? У тебя же нет топора.
— Этому негру не нужен топор.
— Так как же ты доберешься до змеи? Ты хочешь поджечь дерево?
— Хо! Огонь нехорошо. Этот чурбан будет гореть целый месяц. Огонь не— хорошо: дым увидят белые люди. Габ — беглый негр, за ним сразу прибегут собаки. Негру нельзя зажигать огонь!
— Как же тогда?
— Подождите, масса Эдвард, сейчас увидите. Негр позовет змею, и она сама выползет к нему. Пожалуйста, масса, сидите смирно и ничего не говорите: старая гадина слышит каждое слово.
Теперь негр говорил шепотом и неслышно скользил вокруг ствола. Я сидел, не двигаясь, и молча следил за движениями моего странного приятеля.
Неподалеку были молодые заросли американского бамбука. Габриэль срезал ножом несколько побегов и, заострив их концы, воткнул в землю против отверстия в стволе. Он поставил их в ряд, один к одному, словно струны на арфе, но тесней. Затем срезал в лесу молодое деревце и, очистив от веток, оставил только длинную палку с развилиной на конце. Взяв в одну руку эту палку, а в другую — расщепленный кусок тростника, он лег во всю длину на поваленный ствол, так что лицо его оказалось над самым отверстием. Частокол из бамбука был прямо против него, и, вытянув руку, он мог до него дотронуться. На этом закончились приготовления, и негр приступил к «колдовству».
Положив возле себя палку с развилиной, он стал водить взад и вперед расщепленным концом тростника поперек частокола из бамбуковых палок. Этим он производил звук, очень похожий на громкое «с-скр-р-р…» гремучей змеи, так что человек, не знающий, кто его производит, принял бы его за змеиный треск. Звук был так похож, что негр рассчитывал обмануть даже змею. Однако он, видно, не думал, что одного этого средства достаточно. При помощи наскоро сделанной свистульки из копьевидных листьев тростника он в то же время подражал писку и щебету, который издает красный кардинал, когда сражается со змеей, опоссумом или другим своим врагом.
Такой писк часто приходится слышать в чаще американского леса, когда страшная змея заберется в гнездо виргинского соловья.
Уловка оказалась очень удачной. Через несколько минут из отверстия выглянула ромбовидная голова змеи. Ее раздвоенное жало то и дело высовывалось из пасти, а узкие темные глазки сверкали от ярости. Слышался звук ее трещотки — по-видимому, она собиралась принять участие в схватке.
Она почти целиком выползла из норы, но тут заметила обман и повернулась, чтобы уползти обратно. Однако гремучие змеи на редкость неповоротливы, и прежде чем она успела скрыться, негр опустил раздвоенную палку ей на шею и пригвоздил ее к земле.
Ее длинное отвратительное тело беспомощно извивалось в траве, пытаясь высвободиться. Это была змея необычайной для своей породы величины, длиной около восьми футов, и такая толстая, как рука Габриэля. Даже он удивился ее размерам и сказал мне, что первый раз видит такую.
Я надеялся, что он сейчас же положит конец ее попыткам вырваться и убьет ее. Желая ему помочь, я взялся за ружье.
— Нет, масса! — воскликнул он умоляющим тоном. — Ради Бога, не надо стрелять! Масса забыл, что бедный негр — беглый!
Я понял его и опустил ружье.
— И потом, масса, я вам что-то покажу. Масса любит интересные вещи — он хочет посмотреть фокусы большой змеи?
Я ответил утвердительно.
— Тогда, пожалуйста, масса, подержите палку. Негр видел очень интересное растение, только что видел здесь очень редкое растение. Вон там, в тростнике. Держите крепко, масса, я пойду принесу его.
Взяв в руки палку, я плотно прижал ее к земле и не без страха смотрел на отвратительную гадину, которая корчилась и извивалась у моих ног. Мне нечего было бояться: развилина держала змею за шею, и она не могла поднять голову, чтобы ужалить меня. Хотя она и была очень велика, опасны были только ее зубы, так как гремучие змеи, в отличие от удавов, не обладают большой силой.
Габриэль вошел в кусты и вскоре вернулся обратно. Он держал в руке какое-то растение, также вырванное с корнем. Это была трава совсем другого вида. У нее были сердцевидные листья с острыми концами, изогнутый стебель и темно-красные цветы.
Когда негр подошел ко мне, я увидел, как он взял в рот несколько листьев и корешков этого растения и стал их жевать. Что он собирается делать?
Я недолго оставался в недоумении. Подойдя к змее, он нагнулся над ней и выплюнул ей на голову сок этой травы. Затем, взяв у меня из рук раздвоенную палку, поднял ее и отбросил в сторону.
К моему ужасу, змея была теперь свободна, и я не теряя времени, отскочил назад и вскарабкался на ствол.
Но мой спутник не двинулся с места; он снова наклонился над змеей, взял в руку отвратительную гадину, спокойно поднял с земли и обвил ее вокруг своей шеи, словно это была простая веревка.
Змея не пыталась его укусить. Она даже не пробовала вырваться у него из рук. Казалось, она замерла и была не в силах причинить ему ни малейшего вреда.
Поиграв со змеей несколько минут, негр бросил ее на землю. Но и теперь она не пыталась скрыться.
Наконец заклинатель змей с торжеством повернулся ко мне и сказал:
— Ну, масса Эдвард, теперь я за вас отомщу! Смотрите сюда!
С этими словами он поднял змею и сдавил ей шею большими пальцами так, что она широко разинула пасть. Мне были прекрасно видны ее страшные зубы и ядовитые железы. Затем, поднеся ее голову к своим губам, он выплюнул черный сок ей в самое горло и снова бросил ее на землю.
До сих пор он не причинил ей никакого вреда; все, что он проделывал с ней, не могло убить такую живучую тварь, как змея, и я думал, что она сейчас же уползет. Но нет, она не пыталась двинуться с места, кольца ее тела ослабли, и она лежала вытянувшись, без движения, только иногда по телу ее пробегала легкая судорога.
Не прошло и двух минут, как эта дрожь прекратилась; змея казалась мертвой.
— Она издохла, масса, — ответил негр на мой вопросительный взгляд, — совсем умерла.
— А что это за растение, Габриэль?
— О, это хорошая трава, масса, это редкая трава, очень редкая. Поешьте этой травы — и никакая змея вас не тронет. Вы видели? Это трава заклинателя змей.
Ботанические познания моего черного спутника дальше этого не шли. Через несколько лет мне, однако, удалось определить его «волшебную» траву; это оказалась Aristolochia Serpentaria — растение, прославленное в трудах Мутиса[33] и Гумбольдта[34].
Мой спутник велел мне разжевать несколько корешков; хотя он вполне полагался на первое средство, однако считал, что не вредно лишний раз застраховать себя от опасности. Он превозносил лечебные свойства новой травы и сказал, что дал бы мне ее вместо змеиного корня, но не надеялся ее найти, так как она очень редко встречается в этих краях.
Я охотно исполнил его просьбу и проглотил немного соку из этого растения. Как и у змеиного корня, он был едкий и немного обжигающий, с привкусом камфарного спирта. Но тогда как у первого не было никакого запаха, у второго был довольно сильный аромат, напоминающий валерианку.
Я сразу почувствовал себя лучше — облегчение наступило почти немедленно. Прошло немного времени, и опухоль моя совсем опала, так что, если бы не повязка на руке, я уже забыл бы, что меня укусила змея.
Глава 37
ЗАМЕТАЕМ СЛЕДЫ
С тех пор как мы вышли на поляну, прошло немного больше часа, но теперь она уже не казалась мне зловещей. Яркие цветы снова радовали глаз, и я с удовольствием вдыхал их аромат. Пение птиц и жужжание насекомых вновь ласкали мой слух, а на ветке по-прежнему сидели голубок и голубка, воркуя: «Ко-ко-а…», и повторяя нежные признания в любви.
Я мог бы еще долго просидеть на этой прелестной поляне, любуясь красотой природы; но дух наш бодр, плоть же немощна: я почувствовал, что проголодался, и вскоре голод начал не на шутку мучить меня.
Как мне помочь этой беде? Где бы найти чем подкрепиться? Я не мог просить моего спутника вывести меня на плантацию, после того как узнал, насколько это опасно для него. Габриэль говорил правду: он рисковал лишиться руки, а быть может, и жизни. Он не мог надеяться на снисхождение, тем более что у него не было влиятельного хозяина, который, ради собственной выгоды, чтобы не держать раба-калеку, заступился бы за него.
Если бы негр вышел на открытое место, его могли бы увидеть и, еще того хуже, спустить на него собак. Такой способ ловить беглых негров был тогда довольно распространен, и среди белых людей находились негодяи, которые сделали это своей профессией. Так утверждал мой спутник. И вскоре я на собственном опыте убедился, что он прав.
Мне очень хотелось есть, но что было делать? Я не мог найти дорогу сам. Я боялся, что снова заблужусь и буду вынужден ночевать в лесу. Как же быть?
Я повернулся к своему спутнику. Некоторое время он молчал, погруженный в свои мысли. Его беспокоило то же, что и меня. Верный товарищ, он не забыл обо мне.
— Вот, масса, о чем думает негр, — сказал он мне наконец. — Он думает: когда солнце зайдет, он проводит вас, тогда он не боится. Габ выведет вас прямо на береговую дорогу. Масса надо ждать, когда зайдет солнце.
— Но…
— Масса проголодался? — спросил он, перебивая меня.
Я кивнул.
— Да, Габ знает. Тут нечего есть, кроме этой старой змеи. Масса не станет есть змею, а Габ съест. Зажарит ее ночью, когда дыма от костра не видно над лесом. Есть место, где он жарит их, масса увидит. Габ верит масса Эдварду. Он сведет его в берлогу беглого негра.
Тем временем негр отрезал змее голову, связал тонким прутиком шею с хвостом, поднял скользкое тело и, перекинув его через плечо, встал, готовый идти.
— Теперь пойдем, масса, — сказал он. — Пойдем со старым Габом. Он даст вам поесть. — С этими словами он повернулся и пошел в кусты.
Я поднял ружье и последовал за ним. Мне больше ничего не оставалось. Пытаться отыскать дорогу самому было бесполезно, уже две мои попытки ни к чему не привели. А спешить мне было некуда. Будет даже лучше, если я вернусь домой ночью: благоразумнее не показываться на глаза в изорванном и испачканном кровью платье, чтобы не привлекать к себе внимания. Поэтому я охотно последовал за беглецом, готовый разделить с ним его убежище до захода солнца.
Мы прошли молча несколько сот ярдов. Негр озирался вокруг, словно что-то разыскивая. Но он не смотрел на землю, глаза его скользили по деревьям, и я понял, что он ищет не дорогу.
Вдруг он что-то пробормотал и свернул в сторону. Я пошел за ним. Вскоре он остановился под высоким деревом и стал внимательно разглядывать его ветви.
Это была скипидарная сосна, насколько я разбирался в ботанике. Я определил это по ее шишкам и светлозеленым иглам. Зачем он здесь остановился?
— Масса Эдвард скоро увидит, — ответил он на мой вопрос. — Пожалуйста, масса, подержите змею. Только чтобы она не касалась земли, а то проклятые собаки учуют ее.
Я взял у него ношу и, держа змею повыше над землей, как он просил, стоял и молча смотрел на него.
У скипидарной сосны прямой голый ствол и пирамидальная вершина; часто ветви у нее начинают расти на высоте пятидесяти футов от земли. Однако у этой сосны на высоте двадцати футов торчали из ствола небольшие отростки: на них висели крупные зеленые шишки длиной до пяти дюймов. По-видимому, их-то и хотел достать мой спутник, хоть я не мог понять, для чего.
Раздобыв длинный шест, он стал сбивать им шишки вместе с веточками, на которых они висели. Сбив столько шишек, сколько ему было нужно, он отбросил свой шест. Что же дальше? Я следил за ним с возрастающим интересом.
Он собрал в кучу и шишки и ветки, но, к моему удивлению, откинул шишки в сторону — видимо, они были ему не нужны — и оставил только молодые красновато-коричневые побеги, росшие на самом конце веток и густо покрытые смолой. Это наиболее смолистое из всех деревьев данной породы, у него очень сильный запах, а отсюда и его название.
Набрав полные руки молодых побегов, мой спутник сел и крепко натер ими подошвы и верх своих грубых башмаков. Затем он подошел ко мне, нагнулся и сделал то же самое и с моими.
— Теперь, масса, все в порядке. Проклятые собаки не учуют старого Габа. Идем, масса Эдвард! Идем со мной!
Сказав это, он снова перекинул змею через плечо и пошел вперед, предоставив мне следовать за ним.
Глава 38
ПИРОГА
Вскоре мы опять вошли в кипарисовый лес. Здесь уже почти не было подлеска. Темные деревья росли очень часто и вытеснили все другие растения; их зонтичные вершины были оплетены седоватым мхом, который свисал плотной бахромой и не пропускал солнечных лучей, иначе эту плодородную почву покрывал бы цветущий ковер. Но мы находились сейчас в местах ежегодных разливов, где выживают лишь немногие растения.
Между тем я почувствовал, что мы приближаемся к воде. Почва опускалась почти неприметно, но сырой, затхлый запах болота, громкое кваканье лягушек, крик болотной птицы и рев аллигатора указывали на близость стоячей воды — озера или пруда.
Чуть спустя мы и в самом деле вышли на берег пруда: перед нами была лишь небольшая часть его, так как, насколько хватал глаз, кипарисы росли прямо из воды и так густо, что местами их могучие стволы касались друг друга. Кое-где над водой торчали черные корни, их фантастические очертания напоминали каких-то страшных водяных чудовищ и придавали всей картине сказочно-жуткий характер. Затененная сверху вода казалась черной, как чернила, а тяжелый воздух был полон удушливых испарений. Такая картина могла бы дать Данте краски для его «Ада».
Дойдя до этого мрачного пруда, мой спутник остановился. Перед нами лежало громадное поваленное дерево, росшее раньше на самом берегу, а теперь протянувшее свою верхушку далеко в воду. Ветви его уцелели, и засохшие растения-паразиты густо обвивали их, напоминая разбросанные охапки сена. Некоторые ветки были под водой, но большая часть высоко торчала над ее поверхностью. Мой спутник остановился у корней этого дерева.
Минуту он поджидал меня; как только я подошел, он взобрался на поваленный ствол и, сделав знак рукой, чтобы я следовал за ним, двинулся по дереву к его верхушке.
Я тоже вскарабкался на ствол и, осторожно балансируя, чтобы не упасть в воду, пошел за ним.
У вершины было много толстых сучьев, и мы, с трудом перелезая через них, двигались вперед. Я думал, что мы уже подходим к нашему убежищу.
Но нет, мой спутник остановился, и тут, к своему удивлению, я увидел на воде маленькую пирогу; она была спрятана под мхом и так хорошо укрыта, что ее невозможно было увидеть ниоткуда, кроме того места, где мы стояли.
«Так вот зачем мы лезли по этому дереву!» — подумал я, поняв, что наш путь еще не окончен.
Негр отвязал челнок и кивком пригласил меня садиться.
Я шагнул в утлое суденышко и сел. Он последовал за мной и, хватаясь за ветви дерева, повел под ними лодку, пока не достиг чистой воды. Тогда он взялся за весло, и под его размеренные взмахи мы бесшумно заскользили по темной воде.
Первые двести-триста ярдов мы плыли очень медленно. Толстые корни и тесно стоявшие деревья то и дело преграждали нам путь, и приходилось пробираться между ними с большой осторожностью. Но я видел, что мой спутник ловко ведет свое суденышко и владеет веслом, как истый индеец. Он считался искусным охотником за енотами и рыбаком и в своих походах, должно быть, научился управлять пирогой.
Это было самое необыкновенное путешествие в моей жизни. Пирога плыла по воде, более похожей на чернила. Ни один солнечный луч не проникал сюда. Вокруг царил таинственный полумрак.
Мы скользили по темным коридорам между могучими черными стволами, которые вздымались, словно колонны, поддерживая высокий свод из тесно сплетенных ветвей. С этой живой кровли свешивались плакучие бромелии, иногда они спускались до самой воды и касались наших лиц.
Однако мы не были здесь единственными живыми существами, даже в этом ужасном месте имелись спои обитатели. Тут нашли себе надежное убежище аллигаторы; нам не раз попадались в полумраке эти чудовища, то ползущие вдоль поваленного дерева, то карабкающиеся на торчавшие из воды корни кипарисов, то медленно и бесшумно плывущие в черной воде. Были тут и большие водяные змеи, они переплывали от дерева к дереву, поднимая на воде легкую рябь, или лежали, свернувшись в клубок, на выступающих из воды корягах. Болотная сова бесшумно парила, распластав свои крылья, большие темные летучие мыши носились в погоне за добычей — комарами и мошками. Иногда они пролетали совсем близко, чуть не задевая наши лица, обдавая нас своим отвратительным запахом, и громко щелкали челюстями, что напоминало звуки кастаньет.
Эти не виданные мною картины природы захватили меня, но я не мог побороть какого-то смутного страха. Мне невольно вспомнились знакомые об— разы из классической литературы. Здесь воплотились видения римских поэтов. Мне казалось, будто я плыву по Стиксу и мой перевозчик — это страшный Харон[35].
Вдруг впереди мелькнул светлый луч. Еще несколько взмахов весла — и наша пирога была уже вся освещена солнцем. Я вздохнул с облегчением.
Теперь перед нами открылось широкое водное пространство, что-то вроде круглого озера. В действительности именно здесь и начиналось озеро, а та часть, которую мы проплыли, была лишь поймой, и все место, покрытое лесом, в другие времена года совсем высыхало. Этот же водоем был слишком глубок, чтобы в нем могли расти любящие болотистую почву кипарисы.
Озеро было не очень велико, всего около полумили в диаметре, и со всех сторон окружено замшелым лесом, который высился вокруг, как серая стена. Группа таких же деревьев на самой середине озера издали казалась островом.
Это уединенное место не отличалось тишиной. Наоборот, жизнь здесь била ключом. Очевидно, озеро служило излюбленным местом сбора самых разнообразных представителей пернатого царства, населяющих обширные луизианскне болота. Тут были белые цапли, белые и красные ибисы, журавли, красные фламинго и редко встречающаяся безобразная анхинга, которая плавает, глубоко погрузив в воду свое тело и выставив на поверхность узкую, словно змеиную, головку. Неуклюжий белый пеликан, владыка здешних мест, стоял, высматривая в воде свою добычу. Поверхность озера кишела водоплавающей птицей — там были утки, гуси, лебеди; над ними кружили стаями кроншнепы и чайки и, свистя крыльями, проносились кряквы.
Но не только водоплавающие птицы облюбовали это уединенное озеро. Рыболов, высоко поднявшись в воздух, камнем падал вниз, выхватывал из воды несчастную рыбешку, подплывшую слишком близко к ее поверхности, и уносил свою добычу, для того чтобы тут же уступить ее более сильному орлану. Вот те многочисленные пернатые создания, которых я видел, когда мы выплыли на это дикое озеро, и я с большим интересом наблюдал за ними. Эта яркая картина из жизни природы произвела на меня необыкновенное впечатление, чего нельзя было сказать про моего спутника. Для него все это было неново и неинтересно, и он плыл, не обращая внимания на привычное зрелище. Не останавливаясь и не глядя вокруг, он легко погружал в воду весло, направляя пирогу к островку.
Еще несколько взмахов весла, и, подплыв к нему, наша лодка снова скрылась в тени деревьев. Но, к моему удивлению, оказалось, что это совсем не остров. То, что я принял за группу деревьев, был один громадный кипарис, росший на мели посреди озера. Его раскидистые ветви заросли седоватым мхом, который длинной бахромой свисал до самой воды и затенял пространство величиной в пол-акра. Ствол кипариса был необыкновенно толст у основания; со всех сторон его поддерживали крепкие ответвления, словно подпоры, уходившие в воду, и одно это дерево занимало пространство величиной с небольшой дом. Между подпорами оставались свободные проходы, и когда мы приблизились к великану-кипарису, я увидел большое темное дупло — по-видимому, внутри ствол был пуст.
Мой спутник направил пирогу в один из этих проходов, и вскоре ее нос ударился о дерево. Я увидел вырезанные в стволе грубые ступеньки, ведущие к дуплу. Негр указал мне на них. Пронзительные крики испуганных птиц мешали мне расслышать его слова, но я понял, что он предлагает мне подняться по ним. Я послушался и, выйдя из лодки, стал карабкаться по стволу.
Так я добрался до отверстия, в которое мог пролезть человек, и, протиснувшись внутрь, оказался в дупле. Мы достигли нашей цели — тут было убежище беглого негра.
Глава 39
ДУПЛО
В дупле было темно, и вначале я ничего не мог разглядеть. Вскоре, однако, глаза мои немного привыкли к темноте, и я принялся осматривать это необыкновенное жилище.
Прежде всего меня удивили его размеры. В нем мог поместиться добрый десяток людей, и не только стоя, но даже сидя. От высокого пирамидального ствола остались только тонкие стенки, а вся его сердцевина прогнила. Из осыпавшейся трухи образовался пол; он приходился выше уровня воды и был твердый и сухой. Посередине дупла я увидел кучку золы и угли от костра; рядом лежала подстилка из мягкого сухого мха, как видно служившая постелью. Брошенное на нее старое одеяло подтверждало мою догадку.
Здесь не было никакой мебели. Грубый кипарисовый чурбан заменял стул, а стола вообще не было. Тот, кто сделал это дупло своим жилищем, по-видимому, не нуждался в удобствах. Однако он обзавелся самым необходимым. Когда глаза мои совсем освоились с полумраком, я увидел много предметов, которых сначала не заметил: глиняный горшок для стряпни, большую выдолбленную тыкву для воды, жестяную кружку, старый топор, снасти для рыбной ловли и кое-какую старую, поношенную одежду.
Но мое внимание больше привлекало другое — съестные припасы: изрядный кусок жареной свинины, громадная маисовая лепешка, несколько вареных кукурузных початков и почти целая жареная курица. Все это лежало на большом блюде, вырезанном из тюльпанного дерева, какие я часто видел в хижинах негритянского поселка.
Рядом с этим блюдом лежало несколько больших темно-зеленых шаров и желтых шаров поменьше — арбузов и дынь, которые могли оказаться очень недурным десертом, Все эти наблюдения я сделал, пока мой спутник привязывал пирогу к дереву. Я уже все разглядел, когда он вошел.
— Ну, масса, вот она — берлога старого Габа. Проклятым охотникам за неграми сюда не добраться!
— Да у тебя настоящий дом, Габриэль! Как тебе удалось отыскать такое место?
— Габ давно знает это место, масса, В старом кипарисе прятался не один беглый негр. И Габ тоже прятался тут. Он и раньше убегал. Он убегал, когда жил у прежнего хозяина — Хикса, раньше чем его купил масса Сансон. Но он никогда не бегал от масса Сансона. Старый хозяин был добрый с черными, и масса Антуан тоже добрый. А сейчас бедный негр совсем не может больше терпеть: новый надсмотрщик — он очень сильно бьет, он бьет, пока не польется кровь, он привязывает к столбу, ставит под насос, стегает ременной плетью и тяжелым бичом, он делает все, что захочет! Будь он проклят! Я никогда не вернусь назад, никогда!
— Но как же ты будешь жить дальше? Не можешь же ты всегда оставаться здесь! Где ты добудешь себе пищу?
— Ничего, масса Эдвард, не бойтесь! У Габа всегда хватит еды. У бед— ного беглеца есть друзья на плантации. Да вдобавок он и сам возьмет все, что нужно, чтобы не умереть с голоду. Ха-ха-ха!
— О-о!
— Но Габу незачем воровать сейчас. Он берет только дыни и кукурузу Смотрите, что старый Зип притащил ему. Прошлой ночью Зип пришел на опушку и принес все это добро… Ох, масса, простите меня! Я совсем забыл — вы очень голодный. Ешьте свинину, ешьте курицу. Ее сготовила Хлоя, очень вкусная курица. Ешьте, масса!
С этими словами он поставил передо мной деревянное блюдо со всем, что на нем было. Наша беседа на время прервалась, так как и я и мой спутник с большим рвением набросились на еду. С полчаса мы усиленно наполняли свои желудки, причем арбузы и дыни оказались восхитительным десертом. Наконец мы утолили голод, уничтожив большую часть припасов моего спутника.
После обеда мы долго беседовали, не отказав себе и в удовольствии покурить. Среди запасов Габа оказалось несколько пучков сухих листьев табака, а кукурузная кочерыжка с воткнутым в нее стеблем тростника служила нам трубкой, и мы с наслаждением затягивались, словно курили самую ароматную гаванскую сигару.
Я был глубоко благодарен моему спасителю и чувствовал горячий интерес к его судьбе, а потому заговорил с ним о его дальнейших намерениях. У него не было определенных планов, хотя он подумывал о том, чтобы как-нибудь добраться до Канады или Мексики, а не то бежать из Нового Орлеана на пароходе.
Мне пришла в голову одна мысль, но я не хотел говорить ему о ней, так как не был уверен, удастся ли мне ее осуществить. Все же я попросил его не покидать этого убежища, не повидавшись со мной, и обещал, что постараюсь найти ему доброго хозяина.
Он охотно согласился исполнить мою просьбу, и так как время близилось к закату, я стал готовиться к возвращению домой.
Мы сговорились о сигнале, которым я мог бы вызвать его с пирогой, когда захочу повидаться с ним; после чего сели в пирогу и тронулись в обратный путь.
Переплыв озеро и спрятав лодку под упавшим деревом, мы углубились в лес.
Но теперь мне было легко идти за Габриэлем; по пути он делал зарубки на деревьях и указывал на другие приметы, по которым я мог один найти дорогу к нему.
Не прошло и часа, как мы вышли на опушку. Тут негр отправился на ка— кое-то условленное свидание, а я повернул к деревне по дорожке, которая шла между двумя изгородями, так что мне уже не угрожала опасность сбиться с пути.
Глава 40
ПЕРЕСУДЫ В ГОСТИНИЦЕ
Когда я вернулся в деревню, было еще не очень поздно. Я осторожно пробирался по улицам к гостинице, стараясь никому не попадаться на глаза. К несчастью, чтобы подняться к себе в комнату, мне надо было пройти через бар. Время близилось к ужину, и постояльцы уже толпились у стойки и на крыльце.
Мое изорванное платье, закапанное кровью и перепачканное илом, привлекало всеобщее внимание. Прохожие бросали на меня удивленные взгляды, а иногда поворачивались и смотрели мне вслед. Постояльцы гостиницы останавливали меня и допытывались, где я был. Кто-то крикнул мне:
— Хэлло, мистер! Уж не сцепились ли вы с дикой кошкой?
Я ничего не отвечал. Быстро взбежав по лестнице, я заперся у себя в комнате и наконец отделался от любопытных.
В колючих зарослях я сильно исцарапался и нуждался в перевязке. Пришлось послать за доктором Рейгартом. К счастью, он оказался дома и тотчас же поспешил ко мне. Войдя а комнату, он остановился, с удивлением разглядывая меня.
— Дорогой мой Эдвард, где вы были? — спросил он наконец.
— В болотах.
— А что значит ваше изорванное платье, эти ссадины и кровь?
— Царапины от колючек — больше ничего.
— Но где же вы были?
— В болотах.
— В болотах? Но кто же привел вас в такой жалкий зид?
— Меня укусила гремучая змея.
— Как?! Гремучая змея? Вы шутите?
— Нет, истинная правда. Но я принял противоядие. Меня уже вылечили.
— Какое противоядие? Вылечили? Чем? Кто дал вам противоядие?
— Друг, которого я встретил на болотах.
— Друг на болотах! — воскликнул Рейгарт со все возрастающим удивлением.
Я чуть не забыл о том, что должен хранить тайну, и понял, что говорю слишком неосторожно. Любопытные глаза заглядывали в щель моей двери, жадные уши ловили каждое слово.
Хотя жители Миссисипи и не отличаются особым любопытством, что бы не рассказывали о них болтливые туристы, но мой растерзанный вид и нежелание объясниться могли возбудить любопытство и у самых равнодушных людей. Взволнованные постояльцы толпились в коридоре у дверей моей комнаты, спрашивая друг у друга, что со мной случилось, и делясь своими домыслами. Я ясно слышал их, хотя они этого и не знали.
— Он, верно, дрался с пантерой, — сказал один.
— С пантерой или с медведем, — заметил другой.
— Уж какой ни на есть дикий зверь, а он оставил на нем свою метку.
— Это тот самый парень, который свалил Билла-бандита?
— Тот самый.
— Он что, англичанин?
— Не знаю. Он из Англии, а уж англичанин ли, ирландец или шотландец — кто его знает! Лучше с ним не связываться. Черт возьми! Он уложил Билла-бандита на месте, можно сказать, голыми руками, каким-то хлыстом, и отобрал у него пару пистолетов. Ха-ха-ха!
— Здорово!
— Такой парень шутя справится с дикой кошкой. Я думаю, он убил рысь, вот что!
— Наверно, так оно и есть.
Я думал, что своей стычкой с Биллом-бандитом наживу себе врагов среди этих людей. Но по всему разговору и по тону собеседников было ясно, что это не так. Хотя, быть может, они и были немного задеты тем, что иностранец, да еще такой юнец, как я, победил одного из их приятелей, однако эти лесные люди не слишком держались друг за друга, а грубияна Ларкина явно недолюбливали. Если бы я отхлестал его по другому поводу, я, несомненно, заслужил бы всеобщее одобрение. Но я защищал негра — я, иностранец, и к тому же англичанин! Этого мне не могли простить. Вот что мешало моей популярности, вот почему меня считали в этих местах подозрительным человеком.
Все эти пересуды забавляли меня, пока я дожидался прихода Рейгарта, однако я не придавал им большого значения.
Но вдруг чье-то громкое замечание заставило меня насторожиться:
— Говорят, он увивается за мисс Безансон.
Теперь я заинтересовался. Я подошел к двери и, приложив ухо к замочной скважине, стал слушать.
— Вернее, за ее плантацией, — заметил другой, после чего раздался многозначительный смех.
— Ну что ж, — послышался третий голос, звучавший очень самоуверенно,
— тогда он гоняется за тем, чего не получит.
— Как? Почему? — раздалось несколько голосов.
— Он, может, и получит молодую леди, — продолжал тот же внушительный голос, — но плантации ему не видать, как своих ушей.
— Почему? Что вы хотите сказать, мистер Моксли? — снова спросило несколько голосов.
— То, что говорю, джентльмены, — ответил прежний голос и снова повторил свои слова тем же самоуверенным тоном: — Молодую леди он, может, и получит, но плантации ему не видать.
— О, значит это правда? — воскликнул новый голос. — Она несостоятельная должница? Да? А старик Гайар?..
— Скоро завладеет плантацией.
— Вместе с неграми?
— Со всеми потрохами. Завтра шериф наложит арест на все имущество.
В ответ раздались удивленные возгласы, в которых слышалось осуждение и сочувствие:
— Бедная девушка! Какая жалость!
— Нечего удивляться! После смерти старика она швыряла деньги направо и налево.
— Говорят, он ей вовсе не так много оставил. Большую часть имения он заложил сам…
Но тут приход доктора прервал этот разговор и избавил меня от жестокой пытки.
* * *
— Вы говорите, что встретили друга среди болот? — снова спросил он.
Я не решался ответить ему, помня о толпе за дверью, и сказал тихим, серьезным тоном:
— Дорогой друг, у меня было приключение в лесу. Как видите, я сильно поцарапан. Полечите мои ссадины, но не расспрашивайте меня о подробностях. По некоторым причинам я ничего не могу сказать вам сейчас. Потом я все расскажу. А пока…
— Хорошо! Хорошо! — прервал меня доктор. — Не волнуйтесь. Дайте мне взглянуть на ваши раны.
Добрый доктор замолчал и занялся моими царапинами.
В другое время перевязка этих болезненных ссадин была бы довольно мучительна, но только что услышанные новости так сильно взволновали меня, что я не чувствовал боли.
Я был в смертельной тревоге. Я горел нетерпением расспросить Рейгарта о делах на плантации, о судьбе Эжени и Авроры. Но я не мог, так как мы были не одни. Хозяин гостиницы и слуга-негр вошли в комнату, чтобы помочь доктору. Я не решался заговорить об этом в их присутствии, и мне пришлось сдерживать нетерпение, пока с перевязкой не было покончено и они не ушли.
— Скажите, доктор, что это толкуют о мадемуазель Безансон?
— Разве вы ничего не знаете?
— Только то, что услышал сейчас от этих болтунов за дверью. — И я передал Рейгарту слышанный мною разговор.
— А я думал, вам известны все эти новости. Я даже считал, что они-то и были причиной вашего долгого отсутствия, хотя и не представлял себе, какое вы имеете к ним отношение.
— Я ничего не знаю, кроме того, что случайно услышал здесь. Ради Бога, расскажите мне все! Значит, это правда?
— Совершенная правда, к сожалению.
— Бедная Эжени!
— У Гайара была закладная на все имение. Я давно это подозревал и боялся, что он ведет нечестную игру. Гайар подал ко изысканию и, говорят, уже введен в права владения. Теперь все принадлежит ему.
— Все?
— Все, что находится на плантации.
— А невольники?
— Тоже, разумеется.
— Все… все… и Аврора?
Я не сразу решился задать ему этот вопрос. Рейгарт не подозревал о моих чувствах к Авроре.
— Вы говорите о квартеронке? Конечно, и она вместе со всеми. Она такая же невольница, как и остальные. Ее продадут.
«Такая же невольница! Продадут вместе со всеми!» Однако я не высказал этого вслух.
Не могу выразить, в какое смятение повергли меня его слова. Кровь бросилась мне в голову, и я с трудом удержался от гневного восклицания. Но как я ни боролся с собой, я, видно, не мог скрыть своего волнения, ибо всегда спокойные глаза Рейгарта с удивлением остановились на мне. Однако если доктор и угадал мою тайну, он был великодушен и не задавал мне вопросов.
— Значит, все невольники будут проданы? — пробормотал я снова.
— Без сомнения, все пойдет с торгов — таков закон. Надо полагать, Гайар и купит плантацию, ведь она граничит с его землей.
— Гайар! О негодяй! А что же будет с мадемуазель Безансон? Неужели у нее нет друзей?
— Я слышал о какой-то тетке, у которой есть небольшое состояние. Она живет в городе. Должно быть, Эжени будет теперь жить у нее. У тетки, кажется, нет детей, и Эжени — единственная наследница. Впрочем, не могу поручиться, что это так. Знаю только по слухам.
Рейгарт говорил спокойным, сдержанным тоном. Мне даже сначала показался странным этот тон, но я понял причину его сдержанности. У него было ложное представление о моих чувствах к Эжени. Однако я не хотел разуверять его.
«Бедная Эжени! У нее двойное горе. Неудивительно, что она так изменилась в последнее время! Неудивительно, что она была так печальна!»
Все это я подумал про себя.
— Доктор, — сказал я вслух, — мне необходимо поехать на плантацию.
— Только не сегодня.
— Сейчас, сейчас!
— Дорогой мой Эдвард, вы не должны этого делать!
— Почему?
— Это невозможно, я не могу вам разрешить. У вас начнется горячка. Это может стоить вам жизни!
— Но…
— Нет, нет! Я и слушать вас не стану! Уверяю вас, вам грозит горячка. Вы не должны выходить из комнаты хотя бы до завтра. Утром — другое дело. Сегодня это невозможно.
Мне пришлось подчиниться, хотя я отнюдь не был уверен, что, оставшись дома, выбрал лучший способ спастись от горячки. Причина ее была во мне самом, а вовсе не в опасном ночном воздухе.
* * *
Сердце колотилось у меня в груди, кровь прилила к голове, сознание затуманилось.
«Аврора — невольница Гайара! Ха-ха-ха! Его рабыня! Гайар — Аврора! Ха-ха-ха! Это его я схватил за горло. Нет! Это змея! Ко мне! Помогите! Помогите! Воды, воды! Я задыхаюсь!.. Нет, это Гайар! Я держу его! Опять не он — это змея! О Боже! Она обвилась вокруг моей шеи! Она душит меня! Помогите! Аврора! Любимая! Не уступай ему!»
«Я умру, но не уступлю!»
«Я так и знал, благородная девушка! Я иду к тебе на помощь!»
Как она бьется в его руках! Прочь, дьявол, прочь! Аврора, ты свободна! Свободна! Ангелы небесные!
* * *
Таковы были мои сны в эту ночь — лихорадочный бред помутившегося рассудка.
Глава 42
ПИСЬМО
Всю ночь я то впадал в забытье, то просыпался, то бредил, то вновь приходил в себя.
Ночь не принесла мне отдыха, и утром я проснулся, почти не освеженный. Некоторое время я лежал, припоминая все события вчерашнего дня, и думал, что же теперь предпринять. Наконец я решил тотчас же ехать на плантацию и собственными глазами убедиться, что там происходит. С этим решением я встал.
Одеваясь, я случайно взглянул на стол и увидел письмо. На нем не было марки, и оно было подписано женским почерком: я сразу догадался, от кого оно.
Разорвав конверт, я прочел:
«Сударь!
Сегодня, по законам Луизианы, я стала совершеннолетней, но нет на свете женщины несчастнее меня. Солнце, осветившее день моего совершеннолетия, осветило и мое разорение!
Я собиралась устроить ваше счастье: доказать вам, что умею быть благодарной. Увы! Это уже не в моей власти. Я больше не владелица плантации Безансонов и не хозяйка Авроры. Я потеряла все: Эжени Безансон теперь нищая. Ах, сударь! Это печальная история, и я не знаю, к чему она приведет.
Но увы! Есть несчастья еще более тяжкие, чем потеря состояния. Такая потеря может со временем возместиться, но тоска неразделенной любви — любви сильной, единственной н чистой, как моя, — длится долго, быть может, вечно.
Знайте, сударь, что в горькой чаше, которую мне суждено испить, нет ни капли ревности или упрека. Я одна виновата в постигшем меня несчастье.
Прощайте, сударь! Прощайте и будьте счастливы! Нам лучше больше не встречаться. О, будьте счастливы! Ни одна моя жалоба никогда не коснется вашего слуха и не омрачит вашего светлого счастья. Отныне только стены монастыря Сакре-Кер будут свидетелями горя несчастной, но благодарной
Эжени».
Письмо было написано накануне. Я знал, что это день ее рождения: вчера она стала совершеннолетней.
«Бедная Эжени, — думал я, — ее счастье ушло вместе с беззаботной юностью! Бедная Эжени!»
Слезы катились у меня из глаз, когда я читал это письмо. Я поспешно вытер их и, позвонив слуге, приказал оседлать мою лошадь. Быстро одевшись, я вышел. Лошадь стояла уже у крыльца. Я вскочил на нее и поскакал к плантации.
Выехав из деревни, я вскоре нагнал двух всадников; они держали путь в том же направлении, что и я, но только не так спешили. Одеты они были, как обычно одеваются плантаторы, и неискушенный наблюдатель принял бы их за местных землевладельцев. Однако в их наружности было что-то, делавшее их не похожими ни на плантаторов, ни на торговцев, ни вообще на людей, которые занимаются одной из распространенных здесь профессий. Я судил не по одежде, а по тому особому отпечатку, который трудно определить словами, но по которому легко распознать служителей закона. Даже в Америке, где они не носят форменной одежды или специальных значков, я сразу замечал этот отпечаток и думаю, что мог бы узнать полицейского в любом штатском платье.
У людей, о которых я говорю, это особое выражение сразу бросилось мне в глаза, и я подумал, что это констебли или представители шерифа. А между тем, проезжая мимо, я успел только мельком взглянуть им в лицо и в другое время не обратил бы на них внимания.
Я не поклонился этим людям, но заметил, что мое появление их заинтересовало. Обернувшись назад, я увидел, что они подъехали вплотную друг к другу и о чем-то оживленно беседуют, а по их жестам догадался, что разговор идет обо мне.
Вскоре я ускакал далеко вперед и перестал о них думать. Я спешил на плантацию, еще не зная, что предпринять.
Я выехал по первому побуждению, надеясь только скорей узнать, что там делается, либо от Эжени, либо от самой Авроры.
Так ничего и не обдумав, я доехал почти до самой плантации. Теперь я немного придержал коня, чтобы собраться с мыслями. Я даже на минуту остановился. Здесь речной берег делал небольшой изгиб, и дорога как бы срезала его. Эта часть берега была не возделана и не огорожена. Свернув к реке, я остановил лошадь у воды и сидел, не слезая с седла, погруженный в раздумье.
Я старался составить какой-нибудь план действий. Что мне сказать Эжени? Что — Авроре? Захочет ли Эжени видеть меня после того, что она написала? В своем письме она сказала мне «прощайте», но сейчас было не время соблюдать какие-то церемонии. А если она не захочет, удастся ли мне повидаться с Авророй? Я должен видеть ее. Кто может мне помешать? Мне надо так много сказать ей! Сердце мое было переполнено. Только разговор с нареченной мог принести мне облегчение.
Так и не приняв никакого решения, я снова повернул коня и, пришпорив его, поскакал по береговой дороге.
Подъехав к плантации, я увидел у ворот двух верховых лошадей. Я сразу узнал лошадей тех всадников, которых обогнал на дороге. Они опередили меня, пока я стоял на берегу реки. Теперь седоков не было видно: они, должно быть, вошли в дом.
Лошадей держал негр. Это был мой старый друг Зип.
Я подъехал и заговорил с ним, не слезая с седла. Мне хотелось узнать, кто эти люди.
Его ответ меня не удивил. Предположение мое оправдалось. Это были блюстители закона — местный шериф и его помощник. Незачем было спрашивать, по какому делу они приехали, я и сам догадался.
Я только спросил Сципиона о подробностях. Он коротко рассказал мне все, что знал, а я слушал, не прерывая его. Шериф наложил арест на дом и все имущество; Ларкин пока по-прежнему управляет негритянским поселком, но скоро всех негров продадут; Гайар постоянно бывает здесь, а «мисса Жени уехала».
— Уехала? Куда?
— Не знаю, масса. Наверно, в город. Она уехала этой ночью.
— А…
Я на минуту остановился, сердце мое бешено колотилось.
— А Аврора? — спросил я с усилием.
— Рора тоже уехала, масса. Она уехала вместе с мисса Жени.
— Аврора уехала?!
— Да, масса, она уехала, истинная правда.
Я был крайне удивлен тем, что он мне сообщил, меня поразил этот таинственный отъезд. Эжени уехала ночью! Вместе с Авророй! Что это значит? Куда они поехали?
Но сколько я ни расспрашивал Сципиона, мне не удалось раскрыть эту тайну. Он ничего не знал о делах своей госпожи, ничего, кроме того, что касалось негритянского поселка. Он слышал, что его самого, его жену и дочь, малютку Хло, как и всех его товарищей-негров, отправят в город и продадут с торгов на невольничьем рынке. Отъезд был назначен на следующий день. О продаже с аукциона уже дали объявление в газетах. Вот и все, что он знал. Нет, не все. У него была еще новость для меня. Это истинная правда, он слышал, как об этом говорили белые люди — Ларкин, Гайар и работорговец, который теперь занимался их продажей. Речь шла о квартеронке. Ее должны были продать вместе со всеми.
Кровь закипела во мне, когда я услышал рассказ Сципиона. Нечего и говорить, что я верил ему. Все подробности разговора звучали в его передаче вполне правдоподобно. Не могло быть никаких сомнений, что он говорит правду.
Плантация Безансонов утратила для меня всякую привлекательность. Да и в Бринджерсе мне больше нечего было делать. Новый Орлеан — вот куда я теперь стремился.
Дружески простившись со Сципионом, я повернул коня и поскакал обратно. Благородное животное чувствовало мою тревогу и мчалось галопом. Эта бешеная скачка была под стать бушевавшим во мне чувствам.
Через несколько минут я уже передал свою лошадь конюху и, поднявшись к себе в комнату, стал готовиться к отъезду.
Глава 43
ПЛАВУЧАЯ ПРИСТАНЬ
Теперь я ожидал только парохода, который доставил бы меня в Новый Орлеан. Я знал, что долго ждать не придется. Ежегодная эпидемия пошла на убыль, в городе должна была возобновиться обычная деловая жизнь и начаться сезон развлечений. Пароходы, ушедшие на север, уже побывали на всех притоках Миссисипи и, нагруженные дарами щедрой долины этой могучей реки, устремились к великому южному пакгаузу американской торговли.
Пароход мог прийти со дня на день, вернее — с часу на час.
Я решил отплыть с первым же из них.
Гостиница, в которой я жил, да и сама деревня находились на порядочном расстоянии от пристани; ее отнесли подальше от реки из разумной предосторожности. Здесь, как и на тысячи миль вверх и вниз по течению, берега Миссисипи поднимаются всего на несколько футов над ее уровнем, вода день за днем подмывает грунт, и красноватый поток подчас уносит целые пласты прибрежной земли.
Казалось бы, что такая неустанная работа воды должна со временем непомерно расширить ложе реки. Но нет: под действием течения, образованно— го новой излучиной, то, что снесено на одном берегу, отлагается на другом, и река сохраняет свою первоначальную ширину. Это примечательное явление размыва и отложения наблюдается от устья Огайо до устья самой Миссисипи, хотя далеко не всюду в одинаковых масштабах. В иных местах размыв происходит столь стремительно, что в несколько дней вода может унести не только часть поселка, но и целую плантацию. Нередко также во время весеннего паводка своенравная река бросается наперерез собственной излучине и в течение нескольких часов образует новое русло, куда и устремляет свои воды. Представьте себе, что в глубине излучины расположена плантация, а иногда даже три-четыре, — и вот в один прекрасный день хозяин, который лег спать в полной уверенности, что он прочно обосновался на материке, утром просыпается на острове. В ужасе видит он перед собой красно-бурый поток, который мчится мимо, отрезая его от суши. Теперь без парома, который обойдется недешево, ему уже не попасть в соседнюю деревню; не попасть на рынок и фургонам, нагруженным гигантскими кипами хлопка и бочками с табаком и сахаром. Случись еще раз подобное вторжение — и свирепая река унесет, пожалуй, самого хозяина и дом, а заодно и несколько сот его полуголых негров. В страхе перед грозящей гибелью человек бросает родной очаг и переселяется куда-нибудь выше или ниже по течению, где, как ему кажется, он будет надежнее защищен от неожиданной напасти.
Из-за причуд Миссисипи трудно найти в ее низовьях безопасное место для жилья. На протяжении почти пятисот миль от устья только изредка встречаются небольшие, годные для заселения возвышенности, но искусственная насыпь восполняет этот недостаток и обеспечивает здешним го— родам и плантациям сравнительную безопасность.
Как я уже сказал, моя гостиница стояла несколько в стороне, и прибывший с верховьев пароход, подойдя к пристани, мог отчалить прежде, чем меня успели бы предупредить. Нагруженное и не заинтересованное во фрахте судно не станет здесь долго задерживаться, а харчевня на Миссисипи — не лондонская гостиница, где вы можете смело положиться на исполнительного коридорного. Шансов на то, что Самбо разбудит вас вовремя, не больше одного на сто, ибо сон его крепче вашего.
Я давно убедился в этом и теперь, боясь пропустить пароход, решил расплатиться и, забрав свои пожитки, заблаговременно отправился на пристань.
Мне не угрожала опасность провести ночь под открытым небом. Настоящей пристани здесь не было, зато стоял огромный остов давно уже отслужившего парохода.
Эта махина, пришвартованная к берегу крепкими канатами, представляла отличную пристань, а ее просторные палубы, салоны и каюты служили складом для всякого рода грузов. Старое судно с успехом выполняло и то и другое назначение и было известно под названием «плавучей пристани».
Было уже поздно, около полуночи, когда я поднялся на его борт. Даже последние замешкавшиеся здесь местные жители уже давно разошлись; ушел и хозяин складов. Сонный негр был единственным человеческим существом, которое попалось мне на глаза. Он сидел в отгороженном стойкой углу нижней палубы. Перед ним стояли весы с гирями, лежал большой моток толстой бечевки, кухонный нож и прочие необходимые для торговли предметы, которые вы можете встретить в любой мелочной лавке. Позади, на полках, были расставлены бутылки с разноцветными напитками, стаканы, ящики с галетами, сыр из «Западных резерваций», кадки с прогорклым маслом, пачки жевательного табака и дешевых сигар — словом, обычный ассортимент бакалейной лавочки. Остальная часть просторного помещения была завалена товарами в самой разнообразной таре: в кипах, мешках, бочках и ящиках. Одни грузы прибыли из дальних краев через Новый Орлеан и направлялись вверх по реке, другие — щедрые дары земли — шли в обратном направлении, к устью Миссисипи, чтобы переплыть через Атлантический океан в трюмах огромных кораблей. На нижней палубе буквально негде было ступить, и, озираясь кругом, я тщетно искал места, где бы улечься и хоть немного соснуть. При свете я, вероятно, нашел бы себе укромный уголок, но сальная свеча, вставленная в бутылку из-под шампанского, сильно оплыла и едва освещала царивший здесь хаос. Все же слабые отблески огня, игравшие на черном лице единственного здешнего обитателя, помогли мне до него добраться.
— Что, дядюшка, дремлете? — спросил я, подходя к стойке.
Американский негр никогда не позволит себе ответить вам грубо, тем более на вежливый вопрос. Мое приветливое обращение, видимо, затронуло чувствительную струнку в душе чернокожего, и в ответ на мои слова лицо его расплылось в благодушной улыбке. Он не спал, и мой вопрос был задан с единственной целью завязать разговор.
— Ах, Боже ты мой, да это масса Эдвард! Дядя Сэм знает вас. Вы не обижаете черный народ. Чем могу служить, масса Эдвард?
— Да вот еду вниз, в Новый Орлеан, и хочу дождаться здесь парохода. Говорили, какой-то будет сегодня ночью.
— Обязательно будет, масса Эдвард, обязательно! Хозяин тоже ждет. Как раз сегодня ночью должен прийти один пароход с Ред-Ривер — «Хоума» или «Чоктума».
— Отлично! Так вот, дядя Сэм, если у вас здесь найдется свободная половица футов в шесть длиною и вы не откажетесь разбудить меня, как только появится пароход, эти полдоллара будут ваши.
При виде серебряной монеты глаза дядюшки Сэма округлились от удовольствия и еще ярче засверкали его и без того яркие белки. Недолго думая, он схватил бутылку с торчавшей в ней свечкой и, лавируя между тюками и ящиками, повел меня к трапу. Мы поднялись на вторую, так называемую пассажирскую палубу и очутились в салоне.
— Вон как много места, масса Эдвард! Жаль, нет кровати. Но если масса не прочь поспать на мешках с кофе, Сэм очень рад, очень. Я вам свечу оставлю, у меня есть внизу другая. Доброй ночи, масса Эдвард, доброй ночи! Я разбужу, разбужу, не беспокойтесь.
С этими словами добродушный негр поставил свечу на пол и направился к трапу, а я остался один со своими мыслями.
При тусклом свете сальной свечи я оглядел свою спальню. Как сказал дядя Сэм, здесь и вправду места хватало. Когда-то это было помещение для пассажиров, но перегородку между дамским и общим салоном убрали, и сейчас оно представляло собой один огромный зал, более ста футов длиной. Я стоял почти на середине, и оба конца его, уходя вдаль, терялись где-то в темноте. Каюты по обе стороны зала и даже двери с узорчатым стеклом остались нетронутыми; одни были наглухо заколочены, другие прикрыты или распахнуты настежь. Роспись и позолота на потолке и стенах салона потемнели и облупились, и только над аркой входа в общий салон ярко блестела золотом надпись «Султанша», свидетельствовавшая о том, что я нахожусь в остове одного из самых прославленных пароходов, когда-либо бороздивших воды Миссисипи.
Странные мысли бродили в моей голове, когда я стоял, осматриваясь, в этом разоренном зале. Безмолвный и пустынный, он навевал такое гнетущее чувство одиночества, какого не испытаешь и в самой глухой лесной чащобе.
Не слышно было ни одного привычного звука — ни стука машин, ни пыхтенья вырывающегося пара, ни гула мужских голосов или звонкого смеха; не видно было привычных предметов — блестящих канделябров, длинных, сверкающих хрусталем столов, и эта тишина, это отсутствие праздничного убранства в когда-то роскошном зале усиливали впечатление заброшенности. Казалось, что стоишь среди развалин древнего монастыря или на старом кладбище.
Мебели тут не осталось никакой. На полу лежали только грубые джутовые мешки с кофе, любезно предложенные мне Сэмом вместо постели.
Осмотрев свою необычную спальню, давшую столь странное направление моим мыслям, я стал подумывать о том, чтобы лечь. Здоровье мое еще недостаточно окрепло, и я сильно устал. Мешки с кофе манили меня. Я притащил их с полдюжины, сложил в ряд и, растянувшись на спине, накрылся плащом. Кофейные зерна, подавшись под тяжестью моего тела, оказались довольно удобным ложем, и не прошло пяти минут, как я уснул.
Глава 44
КРЫСЫ
Спал я, должно быть, час, а то и больше. Когда я лег, мне не пришло в голову взглянуть на часы, а когда проснулся, было уже не до того. Но что прошло никак не меньше часа, я мог заключить по величине огарка.
Этот час был одним из самых страшных в моей жизни. Я видел отвратительный сон. Однако я неправ, называя это сном. То не было сновидением, хотя тогда мне казалось, что я сплю и все это мне лишь грезится.
Но слушайте!
Как уже было сказано, я лег на спину и натянул свой широкий плащ до самого подбородка. Открытыми оставались только лицо да сапоги. Один мешок я подложил себе вместо подушки под голову так, что мне хорошо было видно все мое распростертое на мешках тело и торчавшие из-под плаща носки сапог. Свечу я поставил прямо перед собой в ногах, и пол был мне виден на расстоянии нескольких ярдов. Я повторяю, что заснул сразу же. По крайней мере, так мне показалось, да и сейчас кажется, хотя глаза у меня были открыты и я ясно видел перед собой и свечу и ту часть пола, которую она освещала. Я старался закрыть глаза, но не мог; не мог и переменить положение и лежал, глядя на язычок пламени и светлый круг на полу. Вскоре мне представилось странное зрелище. В темноте предо мной вдруг заплясало несколько крохотных светящихся точек. Сперва я принял было эти точки за светлячков, которых множество в здешних местах, но как могли они попасть в закрытое помещение? И потом, они кружились у самого пола, а не в воздухе, что было уже совсем странно.
Огоньков становилось все больше и больше. Теперь их было не меньше сотни, и что всего удивительнее, они двигались как бы парами. Нет, это не могли быть светляки!
На меня напал страх, я вдруг почувствовал, что эти движущиеся над полом бесчисленные огненные точки таят в себе опасность. Но что бы это могло быть?
Едва я задал себе этот вопрос, как тут же получил на него ответ, нисколько, правда, меня не успокоивший. Меня вдруг словно осенило: каждая пара этих горящих точек — глаза!
Догадаться, что это глаза крыс, не представляло труда, но это было для меня слабым утешением. Вы, возможно, посмеетесь над моим страхом, но я скажу вам без шуток, что, если бы, проснувшись, я увидел перед собой готовую к прыжку пантеру, я испугался бы не больше. Я слышал немало рассказов, да и сам был очевидцем наглых набегов и кровожадных подвигов крыс в Новом Орлеане, где в то время они расплодились в неимоверном количестве, и теперь один вид их вызывал во мне чувство омерзения и ужаса. Но всего ужаснее было то, что они надвигались на меня все ближе и ближе, а бежать от них я не мог. Да, не мог! Мои руки и ноги как бы налились свинцом, и я не в силах был пошевельнуться.
Тогда-то я и подумал, что все это мне грезится.
«Ну конечно, — рассуждал я, ибо еще не лишился способности рассуждать, — это мне только снится. Но какой ужасный, отвратительный сон! Проснуться бы поскорей! Вот он, настоящий кошмар! Так всегда и бывает. Хоть бы я пальцем мог пошевельнуть! Господи!»
Эти мысли действительно мелькали в моем мозгу. Такое состояние бывало у меня и раньше, когда я находился во власти кошмара. Но с тех пор как я узнал способ отгонять эти мучительные сны, они уже меня не пугали.
Однако теперь я не мог этого сделать. Я лежал, как покойник, которому не закрыли глаза. Мне казалось, что я сплю. Но спал я или нет, самое страшное было еще впереди.
Продолжая вглядываться в темноту, я заметил, что количество мерзких животных продолжает быстро расти. Вот они достигли освещенного пространства, и я видел уже их тельца, покрытые бурой шерсткой. Они заполонили все кругом. Пол кишел ими, и они колыхались, как волны, гонимые ветром. Отвратительное зрелище!
Крысы подступали все ближе. Я уже различал их длинные мордочки с серыми щетинистыми усами, их острые зубы, видел их злобные, колючие глазки.
Все ближе!.. Они взбираются на мешки, они уже шныряют по моему телу… Они гоняются друг за другом в складках моего плаща, они грызут мои сапоги… Ужас! Ужас! Они хотят сожрать меня!..
Их мириады! Они всюду! Мне не видно, что делается справа и слева от меня, но я знаю, что они здесь. Я слышу их пронзительный писк, воздух пропитан запахом этих гнусных тварей. Я задыхаюсь от него. Ужас!.. Ужас!.. «О милосердный Боже, пробуди меня от этого страшного сна!..»
Таковы были мои мысли и чувства в эти минуты. Я прекрасно сознавал все, что происходило, и потому был уверен, что это сон.
Я делал нечеловеческие усилия, чтобы проснуться, чтобы пошевелить рукой или ногой. Но тщетно: ни один мускул не повиновался мне, каждый нерв моего существа оцепенел. Кровь застыла в жилах.
Мне казалось, что эта пытка длится уже целую вечность. Я леденел при мысли, что они съедят меня живьем. Правда, кровожадные зверьки пока накинулись только на мой плащ и сапоги, но ужас мой не знал пределов. Я ждал, что вот-вот они вопьются мне в горло…
Но что-то отпугивало их от моего лица. Уж не пристальный ли взгляд моих широко открытых глаз? Не это ли удерживало их от нападения? Несомненно! Крысы копошились вокруг меня, взбираясь даже на грудь, но не решаясь приблизиться к моему лицу.
Не знаю, как долго удерживал бы их этот спасительный для меня страх, потому что мучения мои неожиданным образом кончились.
Свеча догорела, огарок с громким шипеньем провалился в горлышко бутылки, и наступила темнота.
Омерзительные животные, испуганные внезапным переходом от света к тьме, со страшным писком бросились врассыпную. Я слышал только торопливый топот лапок по дощатому полу.
Можно было подумать, что именно свет магически действовал на меня и держал в железных тисках кошмара. Как только свеча погасла, ко мне вернулись силы. Вскочив на ноги, я схватил плащ, стал неистово размахивать им вокруг себя и закричал во весь голос.
Я обливался холодным потом и чувствовал, что волосы у меня встали дыбом. Но я все еще был уверен, что видел сон. Только когда перепуганный Сэм со свечой в руках явился на мой крик, я по плачевному состоянию своего плаща и сапог убедился в том, что меня в самом деле посетили эти мохнатые гости и что все это происходило наяву.
Я бросился вон из салона и, завернувшись в плащ, как мог устроился на палубе.
Глава 45
«ХОУМА»
Я недолго сидел на пристани. Вскоре до меня донеслось хриплое пыхтенье, вдали показались огни топок, бросавшие на воду багровый отсвет, затем послышалось хлопанье пароходных плиц, бьющих по бурой воде Миссисипи, звон колокола, громкие слова команды, передаваемой от капитана его помощнику, а от него — матросам, и минут через пять пароход «Хоума», идущий с Ред-Ривер, подошел вплотную к старой «Султанше».
Я взбежал по сходням, бросил на палубу свой багаж, поднялся наверх и уселся под тентом.
Десятиминутная суматоха, тяжелое топанье ног по сходням и палубе — одни пассажиры спешили сойти на берег, другие торопились на пароход, — пронзительные гудки, грохот огромных поленьев, бросаемых в топку; в промежутке — громкая команда, взрыв раскатистого смеха в ответ на грубую шутку и сдержанный шепот прощанья… Десять минут шума и суеты, и снова звон большого колокола, возвещающий об отплытии.
Я уселся в кресло возле стойки тента, почти у самого борта. Отсюда видны были сходни, соединявшие пароход с плавучей пристанью, которую я только что покинул.
Рассеянно и равнодушно смотрел я на суматоху внизу. Если я и думал о ком-нибудь, то предмет моих мыслей был не здесь, и самое воспоминание о нем заставляло меня отворачиваться от этих суетящихся людей и устремлять свои взоры на левый берег реки. Быть может, эти мимолетные взгляды сопровождались вздохами, но когда я отводил глаза, мои мысли не останавливались ни на чем определенном, и мелькавшие передо мной люди казались мне тенями.
Вдруг что-то вывело меня из глубокой апатии. Мой взгляд случайно упал на две человеческие фигуры, стоявшие на плавучей пристани, но не вблизи мостков, где фонарь бросал яркий свет на торопливо бегущих пассажиров, а в отдаленном углу, под тентом. Я не различал ни их лиц, ни фигур под черными плащами, но по их позам, по тому, что они старались держаться подальше от света, и по их явно взволнованному шепоту я решил, что это влюбленные. Сердце подсказало мне это заключение, и я уже не искал другого.
«Да, это влюбленные! Счастливые влюбленные! Впрочем, нет, не такие уж счастливые: их ждет разлука. Очевидно, юноша — начинающий конторщик или торговец — уезжает в город на зимний сезон. Ну так что ж! Весной он вернется и снова пожмет эти тонкие пальчики, обнимет этот прелестный стан, повторит те же ласковые слова, которые после долгого молчания прозвучат еще нежнее… Счастливый юноша! Счастливая девушка! Что значит печаль вашего прощания перед той жестокой разлукой, что выпала на мою долю! Аврора! Аврора!.. О, если бы ты была свободна! Если бы ты была дочерью знатных людей! Не потому, что я любил бы тебя больше — больше, чем я люблю, любить невозможно! — но я мог бы смелее домогаться твоей любви, лелеял бы надежду… А сейчас — увы! — между нами разверзлась бездна, нас разделяет пропасть социального неравенства! Но и она не разъединит наши сердца! Любовь преодолеет все!..» Ах!..
— Хэлло, мистер! Что случилось? Кто-нибудь упал за борт?
Я не обратил внимания на этот грубый окрик. Жгучая боль сжала мое сердце, из груди вырвался невольный крик, который и дал повод к этому вопросу.
Пожав друг другу руки и обменявшись поцелуем, молодая чета рассталась. Юноша быстро взбежал по сходням. Я даже не посмотрел на него, когда он прошел мимо, освещенный ярким светом фонаря. Он меня не интересовал. Я не мог отвести глаз от девушки. Мне хотелось увидеть, как поведет она себя в последнюю минуту расставанья.
Убрали сходни. Прозвучал колокол. Мы отчаливали.
В это мгновение закутанная в плащ женская фигура выступила из тени, отбрасываемой тентом. Девушка хотела поймать прощальный взгляд возлюбленного. Сделав несколько шагов, она очутилась у самого края плавучей пристани, там, где горел фонарь. Соломенная шляпка, завязанная под подбородком на манер капора, съехала на затылок. Луч света упал на ее лицо, скользнул по волнам черных волос, сверкнул в чудесных глазах.
Боже милосердный, глаза Авроры!..
Неудивительно, что я крикнул отчаянным голосом:
— Это она!
— Что вы сказали? Женщина за бортом? Где? Где?
Человек был встревожен не на шутку. Услышав мой крик, он, очевидно, счел его ответом на свой предыдущий вопрос, а мой взволнованный вид подтверждал его предположение, что какая-то женщина упала в воду.
Стоявшие поблизости пассажиры расслышали его слова и передали их соседям. Тревога распространилась по судну с быстротой лесного пожара. Пассажиры выбегали из кают и салонов и мчались к переднему тенту с криком: «Кто? Как? Где?» Кто-то громко крикнул: «Человек за бортом! Женщина!»
Я-то знал причину этой нелепой тревоги и потому даже не оглянулся. Мои мысли были заняты другим. Первая вспышка отвратительного чувства — ревности — поглотила все мое существо, и я не обращал внимания на то, что творится вокруг.
Не успел я разглядеть лицо девушки, как судно, развернувшись против течения, заслонило ее от меня. Я кинулся вперед, к трапу. Но тут рулевая рубка загородила мне вид на берег. Это меня не остановило. Я решил залезть на нее. Взбудораженные пассажиры оттеснили меня, и прошло немало времени, прежде чем мне удалось забраться на покатую крышу рубки. А когда мои усилия увенчались наконец успехом, было поздно: пароход отошел на несколько сот ярдов. Я видел издали плавучую пристань с ярко горящими фонарями, различал даже фигуры стоящих на ней людей, но уже не видел той, которую искал мой взор.
Разочарованный, я перешел на штормовой мостик, который почти соприкасался с крышей рулевой рубки. Там я надеялся остаться наедине со своими горькими мыслями.
Но и в этом было мне отказано. Снова послышались громкие голоса, топот тяжелых сапог и быстрые шаги женщин, и в то же мгновение поток пассажиров хлынул на штормовой мостик.
— Вот этот джентльмен! Вот он! — раздался чей-то голос.
В один миг возбужденная толпа окружила меня.
— Кто упал за борт? Кто? Где? — посыпались вопросы.
Я, разумеется, сразу понял, что вопросы относятся ко мне и что пора наконец объясниться и прекратить эту беспричинную панику.
— Леди и джентльмены! — сказал я. — Мне ничего не известно о том, что кто-то упал за борт. Почему вы обращаетесь ко мне?
— Хэлло, мистер! — вскричал виновник переполоха. — Разве вы не сказали…
— Ничего я не говорил.
— Но я же спрашивал вас, не упал ли кто за борт?
— Спрашивали.
— И вы ответили мне…
— Ничего не ответил.
— Будь я проклят, если вы не сказали не то: «Вот она!», не то: «Это она!» или что-то в этом роде.
Я повернулся к говорившему, который, как я заметил, начинал уже терять доверие пассажиров.
— Мистер, — произнес я ему в тон, — очевидно, вы никогда не слыхали о человеке, который нажил огромное состояние, занимаясь исключительно своими собственными делами.
Моя реплика положила конец переполоху. Она была встречена взрывом хохота, который нанес моему противнику полное поражение, и он, немного покипятившись и покричав, отправился в бар, чтобы утопить обиду в стаканчике спиртного.
Публика постепенно разошлась по каютам и салонам, и я снова остался один на штормовом мостике.
Глава 46
РЕВНОСТЬ
Любили вы когда-нибудь девушку простого звания? Прелестную юную девушку, которой предназначен самый скромный удел, но чья блистательная красота уничтожает всякую мысль о социальном неравенстве? Пословица «Перед любовью все равны» стара, как мир. Любовь смиряет гордые сердца, учит высокомерных снисхождению, но главное ее свойство — все возвышать и облагораживать. Она не превратит принца в простолюдина, но зато превратит простолюдина в принца.
Взгляните на вашу богиню, когда она хлопочет по дому. Вот она возвращается от колодца с кувшином воды. Босая, идет она по хорошо знакомой тропинке, и эти нежные ножки в их целомудренной наготе не могли бы быть прекраснее даже в самых изящных атласных или шелковых туфельках. И разве не тускнеют перед блеском ее черных растрепавшихся кудрей золотые шпильки и драгоценные диадемы, венки из цветов и жемчужные нити, украшающие затейливые прически светских дам, гордо восседающих в ложах бельэтажа? Она несет свой глиняный кувшин с такой грацией, будто ее голову венчает золотая корона, и каждый ее жест, каждое движение достойны резца ваятеля или кисти художника. Ее простое холщовое платьице в ваших глазах милее самого роскошного туалета из лионского бархата. Но что вам ее наряд! Вас привлекает не оправа, а жемчужина, заключенная в ней.
И вот девушка исчезает в хижине, в своем убогом жилище. Убогом? В ваших глазах оно уже отнюдь не убого. Эта маленькая кухонька с табуретами и столом из некрашеного дерева, с сосновой полкой, где в порядке выстроились кружки, чашки и расписные тарелки, с выбеленными стенами, увешанными дешевыми литографиями — на одной изображен солдат в красном мундире, на другой матрос в синей рубашке, — эта хижина, крошечный храм, посвященный пенатам бедняка, вдруг озаряется светом, придающим ей такой блеск и великолепие, перед которыми меркнут раззолоченные гостиные богачей. Маленький, увитый зеленью домик с низкой кровлей превратился во дворец. Свет любви преобразил его! Это рай, и рай запретный. Да, при всем вашем богатстве и власти вы с вашей изысканной внешностью, громкими титулами, безукоризненным костюмом и лаковыми сапожками не посмеете переступить его порога.
И как вы завидуете смельчаку, отважившемуся войти туда! Как вы завидуете и франтоватому подмастерью и этому детине в холщовой рубахе, который громко хлопает кнутом и беспечно насвистывает, будто идет за плугом, хотя благоговейный трепет перед прекрасным видением должен был бы сковать его уста! Пусть он неуклюж, как медведь, но вас гложет ревность, и вы готовы убить его за милые улыбки, которые, как вам кажется, она расточает именно ему.
Возможно, что эти улыбки ничего не значат, что они выражают только доброту ее сердца, дружбу и невинное кокетство, но вы не можете подавить в себе зависть и подозрение. А если она улыбается не без причины, если это улыбка любви и простая девушка сделала своим избранником молодого подмастерья или этого увальня с кнутом — вас ждут самые ужасные страдания, какие только знает человеческое сердце. Это не простая ревность. Это гораздо более мучительное чувство, потому что оно отравлено ядом уязвленного самолюбия. О, его нелегко пережить!
Такие именно муки испытывал я, шагая взад и вперед по штормовому мостику. Счастье еще, что пассажиры все разошлись. Я не в силах был скрывать обуревавшие меня чувства. Мой вид и дикая жестикуляция выдали бы меня и дали бы повод к насмешкам и шуткам. Но я был один. Рулевой в своей стеклянной будке меня не замечал. Он сидел ко мне спиной, устремив пристальный и зоркий взгляд на воду, и был слишком поглощен песчаными отмелями, корягами и плывущими по реке бревнами, чтобы обращать внимание на мои безумства.
То была Аврора! В этом я нисколько не сомневался. Я не мог ошибиться, не мог спутать ее ни с кем. Только она одна на свете обладала столь пленительной, но, увы, пагубной красотой!
Но кто же он? Какой-нибудь городской сердцеед? Молодой приказчик? Служащий на плантации? Кто? Быть может, — при этой мысли сердце во мне дрогнуло, — он тоже принадлежит к гонимой расе? Может быть, это негр, мулат или квартерон — словом, раб? Иметь соперником раба! Соперником? Он — ее счастливый избранник! Подлая кокетка! Как мог я поддаться ее чарам, принять ее лукавство за простодушие, ее лицемерие — за искренность.
* * *
Но кто же он? Я обыщу весь пароход и найду его? К сожалению, я не видел его лица и не заметил, как он одет. Когда они расстались, я смотрел только на нее. В темноте я не мог хорошенько его разглядеть, а когда он проходил мимо фонаря, я даже не взглянул в его сторону. Нелепо думать, что я разыщу его. Как узнаешь его в толпе пассажиров?
Я спустился вниз, прошел через салон к переднему тенту, обошел палубу. Я всматривался в каждое лицо с таким вниманием, что это могло показаться дерзостью. Все молодые, красивые мужчины возбуждали во мне ревность, и я пристально изучал их. Таких среди пассажиров оказалось несколько человек, и я старался угадать, кто сел в Бринджерсе. Некоторые, судя по всему, сели недавно, но это было, в сущности, лишь предположение, и мои поиски счастливого соперника не увенчались успехом.
Расстроенный своей неудачей, я вернулся обратно на штормовой мостик, но едва я туда поднялся, как меня осенила новая мысль. Я вспомнил, что всех невольников должны были отправить на рынок с первым пароходом. Не с нашим ли они едут? Я видел, как целую толпу негров — мужчин, женщин и детей — гнали вверх по сходням. Тогда я не обратил особого внимания на эту картину, так как ее можно было наблюдать ежедневно и ежечасно. Мне и в голову не приходило, что это могли быть невольники с плантации Безансонов.
Если это действительно они, еще не все потеряно. Пусть Аврора не с ними, но это ничего не значит. Хотя она такая же рабыня, ее вряд ли могли заставить ехать на палубе. Когда я увидел ее на плавучей пристани, сходни были уже убраны — значит, она осталась. Мысль, что невольники Безансонов находятся на нашем пароходе, успокоила меня. Я стал надеяться, что мои опасения напрасны.
«Почему?» — спросите вы. Да просто потому, что юноша, который так нежно прощался с Авророй, мог быть ее братом или близким родственником. Я не знал, есть ли у нее родные, но это было возможно, к тому же истерзанное ревностью сердце жадно цеплялось за любую догадку.
«Надо положить конец мучительным сомнениям», — решил я и, прервав свою прогулку, поспешил вниз, на пассажирскую палубу, а оттуда по главному трапу на нижнюю, где стояли котлы. Ловко лавируя между грудами мешков с кукурузой и бочками с сахаром, то ныряя под колесный вал, то карабкаясь на гигантские кипы хлопка, я добрался до кормы, отведенной для палубных пассажиров, где бедные ирландские и немецкие иммигранты ютятся бок о бок с чернокожими рабами юга.
Я не ошибся. Вот их добродушные черные лица. Здесь были все: и старый Зип, и тетушка Хлоя, и малютка Хло, и новый кучер Ганнибал, и Цезарь, и Помпей — словом, все, кого ждал страшный невольничий рынок.
Я не сразу подошел к ним. Свет падал в ту сторону, и, пользуясь этим, я несколько мгновений рассматривал их, прежде чем они заметили меня. Это было печальное сборище. Не слышно было ни смеха, ни задорных шуток, как бывало, когда они после долгого дня работы усаживались отдохнуть на порогах своих лачуг. Здесь царили печаль и уныние. Даже маленькие дети, которые обычно не задумываются над тем, что их ждет, казалось, прониклись тревожным настроением старших. Они не возились, не шалили. Они даже не играли, а сидели притихшие и молчаливые. Эти маленькие рабы уже знали достаточно, чтобы страшиться за свое будущее и трепетать при словах «невольничий рынок».
Все были подавлены. И немудрено: они привыкли к доброму обращению и теперь боялись очутиться во власти жестокого надсмотрщика. Никто не знал, где он окажется завтра и какой деспот будет его господином. Но это еще не все, их ждало горшее испытание. Друга разлучат с другом, родных разметают по разным плантациям, и кто знает, суждено ли им будет когда-нибудь свидеться! С болью в сердце, с мучительной тоской глядел теперь муж на жену, брат — на сестру, отец — на сынишку, мать — на своего беспомощного малютку.
Как тяжело было смотреть на этих несчастных, видеть их страдания, читать следы душевной тревоги на каждом лице, думать о той несправедливости, которую один человек, прикрываясь законом, вправе причинять другому, попирая все законы человеческого сердца! О, как тяжело было смотреть на эту картину!
Единственное, что смягчало мою боль, — это сознание, что я своим появлением хоть ненадолго рассеял их печаль. Меня встретили радостными возгласами и улыбками, и эти улыбки согнали с их лиц суровую тень. Будь я даже их спасителем, и тогда я не мог бы рассчитывать на более горячий прием.
Среди пылких изъявлений радости слышались и страстные мольбы купить их, стать их господином, и торжественные обещания преданно служить мне. Увы, они не знали, какие муки доставляла мне в эту самую минуту мысль о том, удастся ли мне спасти ту, которую я так страстно мечтал выкупить.
Я старался казаться веселым, ободрить и утешить их, тогда как сам нуждался в утешении.
Между тем я напряженно всматривался в окружавшие меня лица. Здесь горело два фонаря, так что было довольно светло. Среди молодых мужчин оказалось несколько мулатов, и я подозрительно приглядывался к каждому. Как трепетало при этом мое сердце! О радость! Я не находил никого, кто был бы достоин ее любви. Но все ли здесь? Сципион уверял, что все — все, кроме Авроры.
— А где Аврора? — спросил я. — Ты слышал что-нибудь о ней?
— Нет, масса! Говорят, Рора уехала в город. Ее отправили туда в карете, не на пароходе. Так мне рассказывали.
Мне показалось это странным. Отведя негра в сторону, я спросил:
— Скажи, Сципион, нет ли среди вас каких-нибудь родственников Авроры? Сестер, братьев, родных или двоюродных?
— Нет, масса, нету! Ей-богу, никого нету! Рора почти такая же белая, как мисса Жени, а здесь все чернокожие или смуглые. Рора — она квартеронка, а у нас все мулаты. Родных у Роры никого нет.
Я был удивлен и испуган. Ко мне вернулись прежние подозрения, и вновь вспыхнула ревность.
Сципион не мог мне объяснить этой тайны. Его ответы на другие мои вопросы тоже не помогли ее разгадать, и я вернулся наверх с тяжелым чувством растерянности.
Меня поддерживала только мысль, что я ошибся. Вероятно, это все-таки была не Аврора.
Глава 47
ДЖУЛЕП ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ НАУКИ
Люди пьют, чтобы потопить в вине заботы и горе. Спиртные напитки, принятые в надлежащей дозе, способны заглушить и физическую и нравственную боль — правда, только на время. Но нет таких физических и нравственных мук, которые было бы труднее укротить, чем терзания ревности. Надо много и долго пить, прежде чем смоешь этот разъедающий сердце яд.
Однако и бокал вина может принести какое-то облегчение, и я прибегнул к этому средству. Я знал, что действие его кратковременно и что мученья мои скоро возобновятся, но даже такая недолгая передышка была мне желанна. Уж слишком тяжело было оставаться наедине со своими мыслями.
Я не из тех, кто мужественно переносит боль. Сколько раз я прибегал к вину, желая успокоить ноющий зуб! Таким же точно способом я решил успокоить и жестокие страдания сердца. Лекарство было под рукой, и притом любое — на выбор.
В одном углу курительного салона помещалась роскошная буфетная стойка, уставленная шеренгами графинов и бутылок с этикетками и серебряными пробками, стаканами, горками лимонов; тут же стояли ступки для сахара и пряностей, висели пучки благоухающей мяты, красовались душистые ананасы, бокалы с соломинками, через которые тянут мятный джулеп, кобблер с хересом и другие не менее изысканные напитки.
И над всем этим великолепием царил бармен. Но не подумайте, что это был какой-нибудь субъект из породы официантов, испитой, с землистыми щеками и нечистой кожей, это сомнительное украшение всех английских отелей, которое одним своим видом способно отбить всякий аппетит. Напротив: представьте себе щеголя, одетого по последней моде — разумеется, по моде своей страны и своего сословия, то есть людей на Миссисипи. При исполнении обязанностей он не носит ни сюртука, ни жилета, но рубашка его достойна особого описания; она из тончайшего полотна ирландских мануфактур, слишком тонкого, чтобы его могли носить те, кто ткет, а такой прекрасной работой не может похвалиться даже первоклассный лондонский поставщик с Бонд-стрит. В манжетах золотые запонки, в пышных складках жабо на груди сверкают брильянты. Из-под отложного воротничка виднеется черная лента, повязанная спереди бантом а ля Байрон; впрочем, тут уж скорее повинно жаркое тропическое солнце, чем желание подражать поэту-мореплавателю. Поверх рубашки он носит шелковые, искусно вышитые подтяжки с массивными золотыми пряжками. Шляпа-панама, сплетенная из ценной травы с островов Океании, венчает его напомаженные кудри. Таков наш бармен с парохода. О нижней половине его туловища говорить не стоит: эта часть бармена не видна, она закрыта стойкой.
Словом, это отнюдь не подобострастно ухмыляющийся холуй, а франтоватый, весьма самоуверенный модник; ему нередко принадлежит буфет со всем его содержимым, и ведет он себя столь же независимо, как стюард или даже сам капитан.
Я еще не подошел к буфету, а уж на стойке оказался стакан, и молодой человек бросил в него несколько кусочков льда. А ведь мы еще не обменялись с ним ни единым словом. Он не стал дожидаться заказа, прочтя в моих глазах твердое намерение выпить.
— Кобблер?
— Нет, — сказал я, — мятный джулеп.
— Прекрасно! Я приготовлю вам такой джулеп, что на ногах не устоите.
— Спасибо. Вот это как раз мне и нужно.
Тут бармен поставил рядом два больших бокала. В один он насыпал ложку сахарной пудры, бросил туда ломтик лимона, ломтик апельсина, несколько веточек зеленой мяты, затем пригоршню толченого льда, добавил треть стакана воды и наконец большую стеклянную стопку коньяку. Покончив с этим, он взял в обе руки по бокалу и стал переливать содержимое из одного в другой с такой скоростью, что лед, коньяк, лимон и все прочее находились как бы во взвешенном состоянии между двумя сосудами. Заметим, что расстояние между бокалами было по меньшей мере два фута. Это искусство, которое дается лишь долгой практикой, составляло, как видно, предмет особой профессиональной гордости бармена и неотъемлемую принадлежность его ремесла. После многократных эволюций джулепу наконец разрешено было остаться в одном из двух бокалов и украсить собою стойку.
Теперь надлежало завершить творение. От ананаса был отрезан тонкий ломтик, затем этот ломтик зажали между большим и указательным пальцами, перегнули его пополам и ловким круговым движением протерли им края бокала.
— Новейшая орлеанская мода, — заметил с улыбкой бармен, заканчивая манипуляцию.
Последняя процедура имела двоякое назначение. Ломтик ананаса не только снимал налипшие на стекло остатки сахара и кусочки мяты, но, пуская сок, добавлял свой аромат к напитку.
— Новейшая орлеанская мода, — повторил бармен. — Последнее слово науки.
Я кивнул в знак одобрения.
Наконец джулеп был готов — это явствовало из того, что бокал пододвинули ко мне по мраморной стойке.
— Соломинку? — последовал краткий вопрос.
— Да, пожалуйста.
В бокал была опущена соломинка, и, зажав ее губами, я стал жадно втягивать в себя, быть может, самый упоительный из всех алкогольных напитков — мятный джулеп.
После первого же глотка я почувствовал его действие. Пульс стал ровнее, лихорадка улеглась, кровь спокойнее потекла по жилам, а сердце будто погрузилось в струи Леты[36]. Облегчение наступило почти мгновенно, и я не понимал, как раньше до этого не додумался. На душе у меня, правда, все еще было скверно, по теперь я знал, что нашел безотказное средство утешения. Пусть действие его будет временным, но я был рад и этому. И, припав к соломинке, я стал жадно, большими глотками втягивать в себя божественный напиток и втягивал его до тех пор, пока звон потревоженных соломинкой кусочков льда о дно бокала не оповестил меня о том, что джулеп иссяк.
— Еще один, пожалуйста!
— Вам понравилось?
— Чрезвычайно!
— Я же вам говорил. Смею вас уверить, сударь, что на нашей посудине вам смешают мятный джулеп не хуже, если не лучше того, что подают в Сент-Чарльзе или на Веранде.
— Великолепная штука!
— Могу вам предложить кобблер с хересом — тоже язык проглотите.
— Не сомневаюсь, но я не люблю хереса, предпочитаю вот это.
— Вы правы. Я лично — тоже. А ананас — это новинка, и я нахожу — новинка удачная.
— И я нахожу.
— Возьмите другую соломинку.
— Спасибо.
Бармен был на редкость любезен. Я полагал, что любезность эта вызвана моими похвалами его джулепу. Но, как я установил потом, дело было не в этом. В Луизиане люди не так-то податливы на дешевую лесть. Я был обязан его хорошему мнению о моей особе совершенно иной причине — тому, что я так ловко осадил назойливого пассажира! Возможно также, что ему стало известно, как я проучил подлеца Ларкина. Весть о подобного рода «подвигах» очень быстро распространяется на Миссисипи, где такие качества, как сила и мужество, ценятся превыше всего. Посему в глазах бармена я был лицом, которое можно удостоить внимания, и за дружеской беседой с ним я проглотил второй джулеп, а затем попросил и третий.
Аврора была на время забыта, а если образ ее вдруг всплывал в моем воображении, то не вызывал уже прежней горечи. Иногда я снова видел сцену прощания, но поднимавшаяся в душе боль постепенно притуплялась, была не так невыносима, как прежде.
Глава 48
ПАРТИЯ В ВИСТ
Посередине курительного зала стоял стол, за которым сидели человек пять-шесть. Примерно столько же стояло позади, заглядывая им через плечо.
Жесты и сосредоточенные лица этих людей, а также характерное хлопанье по столу, звон долларов и частые возгласы: «туз», «валет», «козырь» — свидетельствовали о том, что здесь идет карточная игра. То был юкр.
Мне давно хотелось узнать эту весьма распространенную в Америке игру, поэтому я подошел поближе и стал наблюдать за игроками. Один из них был мой давешний приятель, поднявший ложную тревогу. Он сидел ко мне спиной и не сразу меня заметил.
Двое или трое игроков были превосходно одеты. На них были сюртуки из тончайшего сукна, жабо из самого дорогого батиста, в манишках сверкали драгоценные запонки, на руках — драгоценные перстни. Но руки выдавали их. Они яснее всяких слов говорили, что эти господа не всегда носили столь изящные безделушки. Никакое туалетное мыло не могло ни смягчить грубую, шершавую кожу, ни уничтожить мозолей — следов тяжелого труда.
Что из того! Мозоли на руках не мешают быть джентльменом. На далеком Западе происхождение не играет большой роли, и простой деревенский парень может здесь стать президентом.
Но что-то во внешности этих джентльменов, чего я не могу даже определить словами, заставляло усомниться в том, что они джентльмены. А между тем в их манерах не чувствовалось ни высокомерия, ни глупого чванства. Напротив, из всех сидящих за столом они казались наиболее благовоспитанными. Играли они необычайно сдержанно и спокойно. И, возможно, именно эта чрезмерная сдержанность, невозмутимость и внушили мне какие-то неясные подозрения. Настоящие джентльмены из Теннесси или Кентукки, а также молодые плантаторы из долины Миссисипи и французские креолы из Нового Орлеана вели бы себя иначе. Хладнокровие и выдержка, полное спокойствие при объявлении козыря, ни тени досады при проигрыше доказывали, во-первых, что это люди бывалые, а во-вторых, что юкр для них не новинка. Вот и все, что мне удалось заключить по их внешнему виду. Это могли быть врачи, адвокаты или просто праздные люди — категория, нередко встречающаяся в Америке.
В то время я еще слишком плохо знал далекий Запад, чтобы отнести их к определенной общественной группе. Кроме того, в Соединенных Штатах и, в частности, на Западе нет того различия в одежде и внешности, которая в Старом Свете выдает принадлежность к той или иной профессии. Вы встретите священника в синем фраке с блестящими пуговицами: судью в таком же фраке, но зеленом; врача в белом полотняном пиджаке, а булочника — одетым с ног до головы в тонкое черное сукно. Там, где каждый человек притязает на звание джентльмена, он старается не подчеркивать свою профессию ни одеждой, ни чем-либо еще. Даже портной никак не выделяется в толпе своих сограждан-клиентов. Страна характерной одежды лежит дальше на юго-запад — я имею в виду Мексику.
Некоторое время я стоял и присматривался к игрокам и игре. Если бы я не был знаком с особенностями денежного обращения на Западе, я бы пред— положил, что игра идет на огромные суммы. По правую руку каждого игрока рядом с небольшими столбиками серебра достоинством в один, половину и четверть доллара лежала груда банковских билетов. Так как мой глаз привык к купюрам в пять фунтов стерлингов, то куши могли показаться мне огромными, но я уже знал, что эти внушительных размеров банкноты с эффектной гравировкой и водяными знаками — всего-навсего обесцененные ассигнации стоимостью от одного доллара до шести с четвертью центов. Тем не менее ставки были далеко не маленькие, и часто за одну партию из рук в руки переходили суммы в двадцать, пятьдесят и даже сто долларов.
Я заметил, что виновник ложной тревоги тоже участвовал в игре. Он сидел ко мне спиной и, казалось, был так поглощен юкром, что даже не оборачивался. Как одеждой, так и всем своим видом он сильно отличался от остальных. На нем была белая касторовая шляпа с широкими полями и просторная, со свободными рукавами куртка. Он походил не то на зажиточного фермера из Индианы, не то на торговца свининой из Цинциннати. Чувствовалось, однако, что ему не впервые совершать путешествия по реке и он уже не раз бывал на Юге. Вероятно, мое второе предположение было правильно — он и впрямь был торговцем свининой.
Одни из описанных мною элегантных джентльменов сидел против меня. Он все время проигрывал крупные суммы, которые переходили в карман моему торговцу свининой или фермеру. Отсюда следовало, что в картах везет не тому, кто лучше одет, и это внушало простым людям желание, в свою оче— редь, попытать счастья.
Я даже невольно проникся сочувствием к элегантному джентльмену — уж очень ему не везло. Да и трудно было не восхищаться самообладанием, с каким он принимал очередной проигрыш.
Но вот он поднял глаза и испытующе посмотрел на стоящих вокруг. Он, видимо, решил выйти из игры. Его взгляд встретился с моим:
— Не желаете ли, молодой человек, сыграть? Если угодно, можете занять мое место. Мне сегодня не везет, и я уж ни за что не отыграюсь. Придется бросить.
При этих словах его партнеры, в том числе и торговец свининой, оглянулись в мою сторону. Я ждал, что он сейчас же накинется на меня, но ошибся. К моему удивлению, торговец свининой дружески меня окликнул.
— Хэлло, мистер! — закричал он. — Надеюсь, вы на меня не сердитесь?
— Нисколько! — ответил я.
— И хорошо делаете. Я ведь не хотел вас обидеть. Думал, кто-то за борт свалился. Будь я проклят, если вру!
— Я и не обиделся, — подтвердил я, — и в доказательство прошу вас выпить со мной.
Несколько бокалов джулепа и желание забыться настроили меня на общительный лад; к тому же этот искренний тон подкупил меня, и я простил торговцу свининой его невольную вину.
— Идет! — согласился обладатель белой шляпы. — К вашим услугам, незнакомец! Но только разрешите мне угостить вас. Видите ли, я тут малость выиграл, так это уж мое дело — вспрыснуть мировую.
— Не возражаю.
— Ну, значит, опрокинем по стаканчику. Плачу за всех. Что вы на это скажите, друзья? — обратился он к присутствующим.
Ему ответили одобрительными возгласами.
— Вот и отлично! А ну-ка, буфетчик, поднеси всей честной компании!
С этими словами торговец свининой подошел к буфету и бросил на стойку несколько долларов. Все, кто стоял поближе, последовали за ним, причем каждый старался как можно громче выкрикнуть название своего любимого напитка. Кто требовал джинслингу, кто коктейля или кобблера, джулепа и прочих замысловатых смесей.
В Америке не принято пить вино маленькими глотками, сидя за столом: здесь пьют стоя, вернее — на ходу. Будь вино холодным или горячим, смешанным или неразбавленным — американец глотает его залпом, а потом возвращается на место и там курит сигару или жует табак до нового приглашения: «Ну-ка, опрокинем по стаканчику!»
Все выпили, и игроки снова уселись вокруг стола. Джентльмен, предложивший уступить мне свое место, отказался участвовать в игре. Ему сегодня не везет, повторил он, больше он не намерен играть.
Может быть, кто-нибудь сядет вместо него? И все игроки повернулись ко мне.
Я поблагодарил своих новых знакомых, но отказался наотрез. В юкр я никогда не играл и не имею о нем никакого представления, объяснил я, ес— ли не считать того, что я успел усвоить, наблюдая за их игрой.
— Ну, это никуда не годится! — заявил торговец свининой. — Как же это мы останемся без партнера? Пожалуйста, мистер Чорли, — так вас, кажется, зовут? (Эти слова были обращены к джентльмену, покинувшему свое место.) Что же вы нас подводите? Вы расстраиваете всю игру.
— Если я снова сяду, — возразил Чорли, — я окончательно проиграюсь. Нет, не желаю рисковать.
— Но, может быть, этот джентльмен играет в вист? — предложил другой, указывая на меня. — Ведь вы, сэр, англичанин, а ваши соотечественники все мастера играть в вист.
— Да, в вист я играю, — ответил я довольно опрометчиво.
— Вот и прекрасно!.. Что вы скажете насчет виста? — спросил тот же джентльмен, обратившись к сидящим за столом.
— Ну, в вист я не игрок, — недовольно заявил торговец свининой. — Да уж, так и быть, рискну, просто чтобы не расстраивать компанию.
— А я уверен, что вы играете не хуже меня, — сказал предложивший вист.
— Да я и не помню, когда играл. Но раз нельзя составить партию в юкр — пожалуй, попробую…
— Однако позвольте… Если вы затеваете вист… — прервал его джентльмен, отказавшийся от юкра, — если вы затеваете вист, я не прочь примкнуть к вам — может быть, хоть сейчас повезет. И если джентльмен не возражает, я буду рад иметь его своим партнером. Как вы правильно изволили заметить, сэр, англичане — знатоки по части виста. Их национальная игра, насколько мне известно.
— Это нам, пожалуй, невыгодно, мистер Чорли, — заметил специалист по окорокам. — Но поскольку вы предлагаете и мистер Хэтчер… Хэтчер, если не ошибаюсь?
— Да, меня зовут Хэтчер, — ответил поклонник виста, к которому относился этот вопрос.
— Если мистер Хэтчер согласен, — продолжала белая шляпа, — то и я не пойду на попятный, черт меня побери!
— О! Мне решительно все равно, — сказал Хэтчер, махнув рукой, — лишь бы играть.
Надо заметить, что я никогда особенно не увлекался картами, а тем более не играл систематически, но в силу некоторых обстоятельств сносно играл в вист и знал, что не всякий меня обыграет. Если партнер у меня достойный, то, уж конечно, мы сильно не пострадаем, а, судя по всему, этот знал свое дело. Кто-то из стоявших рядом успел шепнуть мне, что он дока по этой части.
Потому ли, что на меня нашел какой-то бесшабашный стих, потому ли, что меня толкало тайное побуждение, которое особенно окрепло впоследствии, потому ли, что меня попросту одурачили и приперли к стене, но я дал согласие, и мы с Чорли стали играть против Хэтчера и торговца свининой.
Партнеры сели за стол друг против друга, карты перетасовали, раздали, и игра началась.
Глава 49
ИГРА ПРЕРВАНА
Первые две или три партии мы играли по маленькой — всего по доллару. Это предложение исходило от Хэтчера и торговца свининой, которые не желали рисковать, ибо давно не играли в вист. Зато оба усиленно бились об заклад с моим партнером Чорли и любым желающим. Спорили, на какой будет открыт козырь, на масть, на «онер» и на «решающую взятку».
Первые две партии мы с Чорли выиграли без труда. Я заметил, что наши противники допустили несколько грубых промахов, и решил, что мы их заткнем за пояс. Чорли не преминул заявить об этом, словно мы играли не на интерес, а ради того, чтобы отличиться друг перед другом. Немного погодя, когда мы выиграли еще одну партию, он снова стал бахвалиться.
Торговец свининой и его партнер начинали мало-помалу злиться.
— Не идет карта, и все! — с обиженным видом оправдывался последний.
— Что это за карта! — подтвердила касторовая шляпа. — Хоть бы раз сдали что-нибудь путное. Ну, вот опять!
— Опять дрянь? — с мрачным видом осведомился его партнер.
— Хуже нельзя! Тут и на картофельные очистки не выиграешь.
— А ну, джентльмены! — вмешался мой партнер Чорли. — Нельзя ли без разговоров? Неудобно все-таки!
— Эх! — воскликнул торговец свининой. — Если на то пошло, хотите, я вам свои карты открою? Все равно ни одной взятки.
И опять выиграли мы!
Это еще больше раздосадовало наших противников, и они предложили удвоить ставку. Мы согласились, и игра продолжалась.
Снова мы с Чорли оказались в выигрыше, и торговец свининой спросил своего партнера, согласен ли он повысить ставку. Тот поколебался немного, словно сумма показалась чересчур уж высокой, но в конце концов согласился. Нам, выигрывавшим раз за разом, тем более неловко было отказываться, и мы снова, по образному выражению Чорли, загребли всю казну.
Ставку опять удвоили и, возможно, продолжали бы и дальше увеличивать в той же пропорции, если бы я наотрез не отказался играть на таких условиях. Я знал, сколько у меня денег, и понимал, что, если ставки будут расти с такой головокружительной быстротой, а счастье вдруг переменится, я сяду на мель. Все-таки я согласился увеличить ставку до десяти долларов, и мы продолжали игру.
Хорошо, что мы вовремя остановились, потому что с этой минуты счастье от нас отвернулось. Мы чуть ли не всякий раз проигрывали, и это при ставке в десять долларов! Кошелек мой заметно съежился. Еще немного, и я проигрался бы в пух.
Мой партнер, который до сего времени играл хладнокровно, вдруг начал горячиться, проклинал карты и ту несчастную минуту, когда сел за этот паршивый вист. То ли от волнения, то ли по другой причине, но играл он теперь из рук вон плохо. Несколько раз с непонятной опрометчивостью скидывал не ту карту и делал неправильные ходы. По всей видимости, наши неудачи так обескуражили его, что он зарывался, играл все небрежнее и, казалось, совсем не думал, к каким плачевным результатам может привести подобная невнимательность. Признаюсь, я удивился, так как всего час назад он на моих глазах с завидным спокойствием проигрывал в юкр куда более значительные суммы.
Я бы не сказал, что нам не везло. Карта нам шла неплохая, и несколько раз мы, несомненно, могли бы выиграть, если бы мой партнер проявил большее искусство. Но из-за его промахов мы продолжали проигрывать, и вскоре более половины имевшихся у меня денег благополучно перекочевало в карманы Хэтчера и торговца свининой.
Вероятно, туда последовали бы и остатки моих капиталов, если бы наш вист не был прерван, и притом весьма загадочным образом.
Мы услышали вдруг какие-то возгласы, идущие, по-видимому, с нижней палубы, потом два пистолетных выстрела, словно на выстрел ответили выстрелом, и секунду спустя кто-то закричал:
— Господи, человека застрелили!
Карты выпали у нас из рук, каждый, вскакивая из-за стола, схватил свою ставку, и игроки, и те, кто ставил на на них, и просто зрители — все повалили к передним и боковым дверям салона. Одни побежали вниз, другие полезли на штормовой мостик, кто кинулся на корму, кто на нос, и все наперебой кричали: «Что такое? Что случилось? Кто стрелял?.. Убит?» А в этот шум еще врывался отчаянный визг дам, забившихся в свои каюты. Тревога, вызванная криком «Женщина за бортом», не шла ни в какое сравнение с теперешним переполохом. Но странно: ни убитого, ни раненого так и не удалось обнаружить. Не удалось отыскать и того, кто стрелял или хотя бы видел стрелявшего. Выходило, что никто не стрелял и никого не застрелили!
Что все это могло означать? И кто же тогда крикнул, что кого-то застрелили? Никто ничего не знал. Чудеса, да и только! Осмотрели с фонарем все уголки и закоулки парохода, но нигде не нашли ни убитого, ни раненого, ни даже следов крови. Кончилось тем, что пассажиры посмеялись и решили, что кто-то над ними подшутил. Во всяком случае, так уверял торговец свининой, довольный, что на этот раз всех всполошил не он.
Глава 50
«ОХОТНИКИ» НА МИССИСИПИ
Тайна загадочного происшествия открылась мне задолго до того, как улеглась суматоха. Только я один да непосредственный виновник переполоха знали, что произошло на самом деле.
Когда поднялась стрельба, я выбежал под тент и перегнулся через перила. Мне показалось, что крики, предшествовавшие стрельбе, донеслись с носовой части нижней палубы, где помещались котлы, хотя выстрелы прозвучали как будто гораздо ближе.
Большинство пассажиров устремились в боковые двери и стояли теперь, сбившись в кучу, на палубе, так что я, окруженный непроницаемой завесой мрака, был здесь один или, во всяком случае, почти один. Несколько секунд спустя какая-то темная фигура оперлась на перила подле меня и дотронулась до моего локтя. Я повернулся и спросил, с кем имею честь говорить и чем могу служить. Мне ответили по-французски:
— Я ваш друг, мсье, и хочу оказать вам услугу.
— Мне знаком ваш голос. Так, значит, это кричали вы…
— Да, это я крикнул.
— И вы же…
— Я же и стрелял.
— Так, значит, никто не убит?
— Насколько мне известно, никто. Я стрелял в воздух и к тому же холостыми патронами.
— Рад слышать это, мсье. Но чего ради, позвольте вас спросить, вы…
— Единственно для того, чтобы оказать вам услугу, как я уже говорил.
— Но, помилуйте, какая же это услуга: палить из пистолета, насмерть перепугать всех пассажиров?
— Ну, беда невелика. Они быстро оправятся от испуга. Мне нужно было поговорить с вами наедине, и я не мог придумать иного способа оторвать вас от ваших новых знакомых. Стрельба из пистолета была лишь маленькой военной хитростью. Как видите, она удалась.
— А, так, значит, это вы, мсье, шепотом предостерегали меня, когда я садился играть в карты?
— Да. И разве мое предсказание не оправдалось?
— Пока что — да. И, значит, это вы стояли напротив меня в углу салона?
— Я.
Последние мои два вопроса нуждаются в некотором пояснении. Когда я уже согласился сесть за вист, кто-то дернул меня за рукав и шепнул по-французски:
— Не играйте, мсье! Вас наверняка обыграют.
Я обернулся и увидел, что от меня отошел какой-то неизвестный мне молодой человек. Но я не был уверен, что именно он дал мне этот благой совет, и, как известно, ему не последовал.
Потом, во время игры, я заметил того же самого молодого человека; он стоял против меня, держась самого отдаленного и темного угла салона. Несмотря на полумрак, я видел, что он не спускает с меня глаз и внимательно следит за игрой. Уже одно это могло привлечь внимание, но еще больше заинтриговало меня выражение его лица; и всякий раз, когда сдавали карты, я пользовался случаем, чтобы взглянуть на загадочного незнакомца.
Это был хрупкий с виду юноша чуть ниже среднего роста, лет, вероятно, не более двадцати, однако разлитая по его лицу грусть несколько его старила. Черты лица у него были мелкие, тонко очерченные, нос и губы, пожалуй, даже чересчур женственные. На щеках играл слабый румянец, черные шелковистые волосы, по тогдашней излюбленной креолами моде, ниспадали пышными локонами на шею и плечи. И склад лица, и манера одеваться, и французская речь, — я был уверен, что именно он обратился ко мне в салоне, — говорили о том, что юноша — креол. Во всяком случае, костюм его был именно таким, какие носят креолы: блуза из сурового полотна, но сшитая не на обычный французский лад, а на манер креольской охотничьей куртки, со множеством складок на груди и красиво драпирующаяся на бедрах. К тому же качество ткани — тончайшее неотбеленное льняное полотно — показывало, что юноша скорее заботился об изысканности туалета, чем о его практичности. Панталоны молодого человека были из великолепной голубой хлопчатобумажной материи производства опелузских мануфактур. Собранные у пояса в крупную складку, они кончались у щиколоток разрезом, украшенным длинным рядом пуговиц, которые при желании можно было застегнуть. Жилета на нем не было. Вместо этого на груди топорщилось пышное кружевное жабо. Обут он был в прюнелевые, отделанные лаком светло-коричневые башмаки на шелковой шнуровке. Широкополая панама завершала этот поистине южный наряд.
Но ни в головном уборе, ни в обуви, ни в блузе и панталонах не было ничего кричащего. Все гармонировало друг с другом, и все полностью отвечало требованиям моды, принятой тогда на Нижней Миссисипи. Так что не наряд юноши привлек мое внимание — такие костюмы мне приходилось видеть чуть ли не ежедневно. Значит, дело было не в этом. Нет, не платье пробудило во мне интерес к нему. Может быть, тут сыграло роль то обстоятельство, что он — или во всяком случае, мне так почудилось — подал мне шепотом совет. Но и это было не главное. Что-то в самом его лице приковало мое внимание. Я даже подумал было: уж не встречал ли я его раньше? При более ярком свете я, возможно, в конце концов вспомнил бы, но oн стоял в тени, и мне никак не удавалось его хорошенько рассмотреть.
Когда же я снова поднял глаза, его уже не было в углу салона, и несколько минут спустя раздались выстрелы и крики на палубе…
— А теперь, мсье, разрешите узнать, почему вы непременно желаете говорить со мной и что вы имеете мне сообщить?
Непрошеное вмешательство юнца начинало меня раздражать. Да и кому приятно, чтобы его ни с того ни с сего отрывали от партии виста, даже проигранной!
— Я желаю говорить с вами, ибо принимаю в вас участие. А что имею вам сообщить, вы сейчас узнаете.
— Принимаете во мне участие! Но чем я обязан, позвольте вас спросить?
— Хотя бы уже тем, что вы иностранец, которого собираются обобрать, что вы — «карась».
— Как вы сказали, мсье?
— Нет, нет, не сердитесь на меня! Я сам слышал, что вас называли так между собой ваши новые знакомые. И если вы опять сядете играть с ними, боюсь, что вы оправдаете этот почетный титул.
— Это, в конце концов, нестерпимо, мсье! Вы попросту вмешиваетесь не в свое дело!
— Вы правы, мсье, это не мое дело, но оно ваше и… ах!
Я уже собирался было покинуть несносного юношу и вернуться к прерванной партии виста, но грустная нотка, вдруг прозвучавшая в его голосе, заставила меня изменить мое решение, и я остался.
— Но вы так мне ничего и не сказали.
— Нет, сказал. Я предупредил вас, чтобы вы не садились за карты, если не хотите проиграться. И могу лишь повторить свой совет.
— Правда, я проиграл какие-то пустяки, но ведь отсюда вовсе не следует, что счастье не переменится. Тут уж скорее можно винить моего партнера — он играет из рук вон плохо.
— Ваш партнер, насколько я понимаю, одни из опытнейших картежников на Миссисипи. Если не ошибаюсь, я уже встречал этого джентльмена.
— А, так вы его знаете?
— Немного. Вернее, знаю кое-что о нем. А вы-то его знаете?
— Впервые вижу.
— А остальных?
— Я никого из них не знаю.
— Значит, вам неизвестно, что вы играете с «охотниками»?
— Нет, но я рад это слышать. Я и сам немного охотник и, вероятно, не меньше, чем они, люблю собак, лошадей, хорошие ружья.
— Мсье, вы, как видно, меня не поняли. Охотник в вашей стране и «охотник» на Миссисипи — это не одно и то же. Вы охотитесь на лисиц, зайцев, куропаток. А дичью для таких господ, как эти, служат «караси», или, вернее, их кошелек.
— Так, стало быть, я играю с…
— С профессиональными картежниками — пароходными шулерами.
— Вы в этом уверены, мсье?
— Совершенно уверен. Мне часто приходится ездить в Новый Орлеан, и я не раз встречал эту компанию.
— Позвольте, но один из них — бесспорно фермер или торговец — скорее всего, торговец свининой из Цинциннати, у него и выговор такой.
— Фермер… торговец… Ха-ха-ха! Фермер без земли, торговец без товара! Мсье, этот нарядившийся под фермера старикан — самый дошлый, как выражаются янки, то есть самый ловкий шулер на всей Миссисипи, и таких здесь немало, могу вас уверить.
— Но они просто случайные попутчики, а один из них даже мой партнер. Я не представляю, как…
— Случайные попутчики! — перебил мой новый знакомец. — Вы думаете, они только что встретились? Да я сам видел всех троих дружков и за тем же занятием почти всякий раз, как плавал по реке. Конечно, они разговаривают между собой, будто впервые видят друг друга. Но это у них заранее условлено, чтобы лучше обманывать таких, как вы.
— И вы в самом деле думаете, что они жульничали?
— Когда ставки поднялись по десяти долларов, несомненно.
— Но как?
— Да очень просто: иногда ваш партнер нарочно ходил не с той карты…
— Так вот оно что! Теперь понимаю. Пожалуй, вы правы.
— Впрочем, это даже необязательно. Будь у вас честный партнер, все равно кончилось бы тем же. У ваших противников разработана, целая система знаков, с помощью которых они сообщают друг другу, какие у них карты — масть, достоинство и так далее. Вы не обратили внимания, как они держали руки, а я обратил. Когда они кладут один палец на край стола, это значит один козырь, два пальца — два козыря, три — три, и так далее. Согнутые пальцы указывают, сколько среди козырей онеров, поднятый большой палец — туз. Таким образом, оба ваших противника знали, какие карты у них на руках. Чтобы обыграть вас, третьего помощника, собственно, и не требовалось.
— Какая подлость!
— Конечно, подлость, и я бы предостерег вас раньше, будь хоть малейшая возможность. Сделать это в открытую я не мог. И я прибег к хитрости. Господа эти не какие-нибудь мелкие плуты. Каждый из них счел бы себя оскорбленным и вступился бы за свою честь. Двое из этих господ — известные бретеры. По всей вероятности, меня бы завтра же вызвали на дуэль и пристрелили. Да и вы вряд ли поблагодарили бы меня за мое вмешательство.
— Я вам чрезвычайно признателен, сударь. Вы меня окончательно убедили. Но как вы посоветуете мне поступить теперь?
— Примириться с проигрышем и бросить игру, только и всего. Все равно вам не отыграться.
— Как! Позволить им насмеяться над собой? Дать себя безропотно ограбить? Я сяду с ними снова, я буду следить и…
— Это неблагоразумно. Я повторяю, мсье, — они не только шулеры, но известные бретеры, и не трусливого десятка. Один, как раз ваш партнер, это уже доказал, отправившись за триста миль, чтобы драться с джентльменом, который якобы оклеветал его, на самом же деле сказал о нем чистую правду. И в довершение всего убил своего «обидчика». Уверяю вас, мсье, что вы ничего не добьетесь, затеяв с ними скандал, разве только, что вас продырявят пулей. Вы иностранец и не знаете здешних нравов. Послушайтесь доброго совета и сделайте, как я вам сказал. Оставьте им эти деньги. Время уже позднее. Ступайте к себе в каюту и не думайте больше о проигрыше.
Возможно, на меня подействовало волнение, вызванное ложной тревогой, или же наша несколько необычная беседа, а также прохладный речной воздух, но, так или иначе, хмель прошел, и в голове у меня прояснилось. Я не сомневался теперь, что молодой креол говорит правду. Его манеры, тон, приведенные им доказательства окончательно меня убедили.
Я был ему очень признателен за услугу, которую он оказал мне, рискуя очень и очень многим, ибо даже самая хитрость, к которой он прибег, могла иметь для него неприятные последствия, если бы кто-нибудь видел, как он разряжал свой пистолет в воздух.
Но почему он это сделал? Почему он принял во мне такое живое участие? Открыл ли он мне истинную причину? Действовал ли он из рыцарских побуждений? Я много слышал о великодушии и благородстве французских креолов в Луизиане, и вот яркое тому доказательство. Как уже сказано, я был глубоко благодарен юноше и решил последовать его совету.
— Я поступлю, как вы сказали, мсье, но при одном условии, — ответил я.
— Каком, разрешите полюбопытствовать?
— Дайте мне ваш адрес, чтобы в Новом Орлеане я мог возобновить зна— комство с вами и доказать вам свою признательность.
— Увы, мсье, у меня нет адреса.
Я смутился. Печаль, с которой он произнес эти слова, не оставляла сомнений; я почувствовал, что какое-то большое горе гнетет это юное и великодушное сердце.
Не мне было спрашивать о причине, да еще сейчас. Однако, терзаемый собственным тайным горем, я теперь глубже сочувствовал горю других и видел, что передо мной стоит человек, над головой которого сгустились тучи. Ответ его смутил меня и поставил в довольно затруднительное положение. Наконец я сказал:
— Тогда, может быть, вы окажете мне честь посетить меня? Я остановлюсь в отеле «Сен-Луи».
— Очень буду рад.
— Завтра.
— Завтра вечером.
— Я буду вас ждать. Спокойной ночи, мсье.
Мы раскланялись и разошлись по своим каютам. Я повалился на койку и через десять минут уже спал, а еще через десять часов пил кофе в отеле «Сен-Луи».
Глава 51
ГОРОД
Мне по душе сельская жизнь. Я страстный охотник и страстный рыболов. Но если поглубже вникнуть, весьма вероятно, окажется, что страсть моя имеет более чистый источник — любовь к самой природе. Я выслеживаю лань, потому что следы приводят меня в чащу леса. Я иду за форелью вдоль ручья, потому что она ведет меня по краю тенистых заводей в тихие уголки, где редко ступает нога человека. Но едва я попадаю в их уединенный приют, как мой охотничий пыл гаснет: удочка так и остается воткнутой в землю, ружье в небрежении валяется рядом со мной, и я отдаюсь высокой радости — созерцанию природы. Ибо мало кто любит лес, как люблю его я.
И все же не стану отрицать, что первые часы, проведенные в большом городе, всегда имели и будут иметь для меня неизъяснимую прелесть. Вам становится вдруг доступен целый мир новых удовольствий, вам открывается бездна еще не испытанных наслаждений. Душу очаровывают изысканные утехи. Красота и пение, вино и танцы расточают перед вами свои соблазны. Любовь, а то и страсть вовлекает вас в самые сложные и запутанные романтические приключения, ибо романтика живет и в городских стенах. Ее подлинная родина — человеческое сердце, и лишь донкихотствующие мечтатели могут воображать, что пар и цивилизация враждебны высоким взлетам поэзии. Благородство дикаря — лишь бессодержательный софизм. Как ни живописны его лохмотья, они часто прикрывают продрогшее тело и пустой желудок. Хоть я и веду жизнь солдата, но предпочитаю веселый грохот фабрики грому пушечной канонады, и заводская труба с султаном черного дыма, на мой взгляд, неизмеримо прекраснее, чем крепостная башня с горделиво реющим над ней, но недолговечным флагом. Шум бьющих по воде пароходных плиц — самая сладостная для меня музыка, и для моего слуха гудок железного коня прекраснее ржанья холеной кавалерийской лошади. Палить из пушек может и племя мартышек, но чтобы управлять могучей стихией пара, нужны люди.
Я предвижу, что подобные мысли не найдут отклика в надушенных будуарах и пансионах для благородных девиц. Современные дон-кихоты будут поносить грубого писаку, который осмелился поднять руку на рыцаря в доспехах и пытался его обесчестить, сорвав у него с головы украшенный перьями шлем. Даже с самыми нелепыми предрассудками и предубеждениями человек расстается неохотно. Да и автору, признаться, пришлось выдержать жестокую внутреннюю борьбу. Нелегко было ему отказаться от гомеровской иллюзии и поверить, что греки были обыкновенные люди, а не полубоги; нелегко было признать в шарманщике и оперном певце потомков героев, воспетых Вергилием[37]; и тем не менее, когда я в дни своей мечтательной юности устремился на Запад, я был глубоко убежден, что меня ждет страна прозы, а страна поэзии остается позади.
Счастье еще, что любовь к охоте и звон золота, звучащий в слове «Мексика», привели меня в эти края. Однако не успел я высалиться на прославленный берег, где ступала некогда нога Колумба[38] и Кортеса[39], как сразу же понял, что это и есть истинная родина поэзии и романтики. В этой стране — стране долларов, которую называют прозаической, — я ощутил дух истинной поэзии, но не в книгах, а в самых совершенных образах человеческого тела, в благороднейших порывах человеческой души, в горах и реках, в птице, дереве, цветке.
В том самом городе, который по вине недобросовестных и предубежденных путешественников всегда представлялся мне каким-то лагерем отщепенцев, я обнаружил чудесных людей, прогресс, не чурающийся наслаждений, культуру, увенчанную духом рыцарства. Прозаическая страна! Народ, жадный до долларов! Смею утверждать, что на ограниченном пространстве, где расположился полумесяцем Новый Орлеан, можно найти большее разнообразие человеческих типов и характеров, нежели в любом равном ему по населению городе земного шара. Под благодатным небом этого края человеческие страсти достигают наивысшего и полного развития. Любовь и ненависть, радость и горе, скупость, честолюбие расцветают здесь пышным цветом. Но и нравственные добродетели вы встретите во всей их чистоте. Ханжеству тут не место, и лицемерие должно прибегать к самой тонкой игре, чтобы избежать разоблачения и суровой кары. Талант встречается здесь на каждом шагу, так же как и неутомимая энергия. Глупый и ленивый не уживаются в этом водовороте кипучей деятельности и наслаждений.
Не меньшее разнообразие представляет этот любопытный город и по своему этническому составу. Пожалуй, нигде в мире вы не увидите на улицах такой пестрой толпы. Заложенный французами, перешедший к испанцам, «аннексированный» американцами, Новый Орлеан представляет конгломерат этих трех наций. Однако здесь встречаются представители почти всех цивилизованных и так называемых диких народов. Турок в тюрбане, араб в бурнусе, китаец с обритым теменем и длинной косой, черный сын Африки, краснокожий индеец, смуглый метис, желтый мулат, оливковый малаец, изящный креол и не менее изящный квартерон заполняют его тротуары и сталкиваются с мужественными северянами — немцем и галлом, русским и шведом, фламандцем, янки, англичанином. Население Нового Орлеана — это удивительная человеческая мозаика, пестрая и разномастная смесь.
И вправду, Новый Орлеан — крупнейший современный город и больше похож на столицу, чем многие города Европы и Америки со значительно превосходящим населением. В Новом Орлеане нет ничего захолустного, как легко убедиться, пройдясь по его улицам. В витринах магазинов выставлены только первоклассные товары самой лучшей выработки. На его проспектах возвышаются похожие на дворцы отели. Роскошные кафе гостеприимно распахивают перед вами свои двери. Его театры — это величественные по архитектуре храмы, на сцене которых вы можете посмотреть хорошо исполненную драму на французском, немецком или английском языках, а с открытием зимнего сезона послушать выразительную музыку итальянской оперы. Если же вы поклонник Терпсихоры[40], Новый Орлеан особенно придется вам по вкусу.
* * *
Я знал, сколько возможностей предоставляет Новый Орлеан любителю развлечений. Знал, где искать эти удовольствия, и все же не искал их. После долгого пребывания в деревне я приехал в город, не помышляя о городских удовольствиях, — случай, редкий даже для самых солидных и степенных людей. Маскарады, квартеронские балы, драма, сладостные мелодии оперы утратили для меня всю свою прелесть. Никакое развлечение не способно было меня развлечь. Одна мысль владела мною безраздельно — Аврора! И эта мысль вытеснила все прочие. Я не знал, на что решиться. Поставьте себя на мое место, и вы согласитесь, что положение мое и в самом деле было незавидным. Во-первых, я был влюблен, влюблен без памяти в прекрасную квартеронку! Во-вторых, ее, предмет моей страсти, должны были продать с публичных торгов! В-третьих, я ревновал — и еще как ревновал! — ту, что могли продать и купить, словно кипу хлопка или мешок сахара! В-четвертых, я даже не был уверен, в моей ли власти будет ее купить. Кто знает, пришло ли уже письмо моего банкира в Новый Орлеан! Океанских пароходов тогда еще не существовало, и почту из Европы доставляли весьма неаккуратно. Если письмо запоздает, я пропал! Кто-нибудь другой завладеет тою, что мне дороже всего на свете, станет ее господином и полновластным повелителем. Я холодел при одной этой мысли и гнал ее прочь от себя.
А потом, если даже письмо придет вовремя, хватит ли присланной суммы? Пятьсот фунтов стерлингов — пятью пять — это две с половиной тысячи долларов. Оценят ли в две с половиной тысячи то, чему нет цены?
Я сомневался. Мне было известно, что примерная цена негра была в то время тысяча долларов. Заплатить вдвое большую сумму могли разве только за какого-нибудь сильного мужчину — искусного механика, хорошего кузнеца, умелого цирюльника.
Но то была Аврора! Я слышал немало историй о поистине фантастических суммах, которые платили за такой «товар», о мужчинах с тугими кошельками и дурными намерениями, которые, не считаясь ни с чем, все набавляли и набавляли цену, чтобы перебить его у другого такого же развратника.
Подобные мысли были бы мучительны и для стороннего наблюдателя. Каково же было мне! Трудно выразить, что я испытывал. А если деньги и прибудут вовремя, если даже их окажется достаточно, если мне в самом деле посчастливится стать хозяином Авроры, что из того? Что, если мои ревнивые подозрения оправдаются? Что, если она меня не любит? В самом деле, было от чего лишиться рассудка. Мне будет принадлежать лишь ее тело, а сердце и душа будут отданы другому. Страшный удел — быть рабом рабыни!
Но зачем вообще помышлять о ее покупке? Зачем лелеять в душе мучительную страсть, когда, сделав над собой героическое усилие, я мог бы навсегда избавиться от муки? Аврора недостойна жертвы, которую я готов принести ей. Нет, она обманула меня, бесстыдно обманула! Зачем же хранить верность клятве, пусть даже скрепленной словами горячей любви? Почему не бежать отсюда, не попытаться скинуть с себя наваждение, терзающее ум и сердце? Почему?
В спокойные минуты, быть может, и стоит задуматься над такими вопросами, но сейчас это было для меня невозможно. Я не задавал их себе, хотя они и проносились тенями в моем мозгу. В том состоянии, в каком я пребывал, меньше всего думают об осторожности. Благоразумию нет места. Я все равно не внял бы холодным советам рассудка. Тот, кто страстно любил, поймет меня. Я решил поставить на карту все: свое состояние, доброе имя и самую жизнь, лишь бы владеть той, которую я боготворил.
Глава 52
КРУПНАЯ РАСПРОДАЖА НЕГРОВ
— «Пчелу», сударь?
Официант, поставив на столик чашку ароматного кофе, подал мне свежий номер газеты.
На одной стороне широкой газетной полосы название было набрано по-французски: «L'Abeille», а на оборотной — по-английски: «The Bee». Текст тоже печатался на двух языках — французском и английском.
Я машинально взял из рук официанта газету, не собираясь, да и не испытывая ни малейшего желания читать, и так же машинально стал скользить взглядом по колонкам. И вдруг выделенное жирным шрифтом объявление бросилось мне в глаза. Оно попалось мне на французской стороне газетного листа:
ANNONCE!
VENTE! IMPORTANTE DE NEGRES!
Вне всякого сомнения, это были они. Объявление меня не удивило, я ждал этого.
Я обратился к переводу на оборотной стороне, чтобы лучше понять его смысл. Да, там тоже зловеще чернели слова:
КРУПНАЯ РАСПРОДАЖА НЕГРОВ!
Я стал читать дальше:
ИМУЩЕСТВО ПРОДАЕТСЯ ЗА ДОЛГИ.
ПЛАНТАЦИЯ БЕЗАНСОНОВ!
Бедная Эжени!
И дальше:
«Сорок сильных и здоровых негров различного возраста, знающих полевые работы. Несколько хорошо обученных слуг, кучер, повара, горничные, возчики. Партия миловидных мальчиков и девочек мулатов в возрасте от десяти до двадцати лет»… и т. д. и т. п.
Далее следовал подробный перечень. Я прочел его:
«№ 1. С ц и п и о н. 48 лет. Сильный негр, рост 5 футов 11 дюймов. Может вести хозяйство, ходить за лошадьми. Здоров, физических изъянов не имеет.
№ 2. Г а н н и б а л, 40 лет. Темный мулат, рост 5 футов 9 дюймов. Хороший кучер. Здоров. Не пьет.
№ 3. Ц е з а р ь. 43 года. Негр. Пригоден для полевых работ. Здоров…» и т. д.
У меня не хватило терпения читать эти возмутительные подробности. Я лихорадочно пробежал глазами всю колонку. Вероятно, я нашел бы ее имя быстрее, если бы у меня так не тряслись руки; лист газеты прыгал, строки расплывались. Но вот и оно, самое последнее в списке. Почему же ее поместили последней? Не все ли равно! Вот ее описание:
«№ 65. А в р о р а, 19 лет, квартеронка. Миловидна, умелая экономка и швея».
Вот уж поистине тонкий портрет — коротко и выразительно!
«Миловидна»! Ха-ха-ха! «Миловидна»! Невежественный скот, автор перечня, и самое Венеру назвал бы миловидной девчонкой. Проклятье! Но мне было не до шуток. Это осквернение самого прекрасного, самого для меня священного, самого дорогого не могло сравниться ни с какой самой жестокой пыткой. Кровь закипала в жилах, грудь теснило от страшного волнения.
Газета выпала у меня из рук, и я низко склонился над столом, до боли сцепив пальцы. Будь я один, я наверно бы застонал. Но вокруг были люди — я сидел в ресторане большого отеля. И если бы окружающие знали причину моих страданий, они, конечно, подняли бы меня на смех.
Прошло несколько минут, прежде чем я собрался с мыслями. Оглушенный прочитанным, я сидел в каком-то отупении.
Наконец я очнулся, и первая моя мысль была: действовать! Теперь, больше чем когда-либо, я хотел купить красавицу-рабыню и избавить ее от гнусного рабства. Куплю ее и отпущу на волю. Верна она мне или нет — все равно. Мне не нужна ее благодарность. Пусть выбирает сама. Пусть признательность не неволит ее сердца и она распорядится собой по собственной воле. Любви из благодарности я не приму. Такая любовь недолговечна. Пусть она повинуется велению своего сердца. Если я завоевал его — хорошо. Если нет, если она отдала его другому, — я примирюсь со своим горем. Но зато Аврора будет счастлива.
Сила любви меня преобразила и подсказала это благородное решение.
Так будем же действовать!
Но когда состоится это отвратительное торжище, эта «крупная распродажа»? Когда выведут на аукционный помост мою нареченную и я буду свидетелем этого позорного зрелища?
Я схватил газету, желая выяснить время и место аукциона. Оказывается, я хорошо знал это место — ротонду биржи Сен-Луи. Она непосредственно примыкала к отелю и находилась всего в двух десятках шагов от ресторана, где я сейчас сидел. Там помещался невольничий рынок. Но на какое число назначен аукцион — вот что важно, вот что всего важнее! Странно, как я об этом раньше не подумал! Что, если распродажа состоится в один из ближайших дней и письмо к тому времени еще не придет? Я старался отогнать от себя мрачные мысли. Вряд ли такую крупную распродажу назначат раньше чем через неделю или хотя бы через несколько дней. А если объявление печатается уже не в первый раз? Негров ведь могли привезти и в самую последнюю минуту.
Еле сдерживая дрожь, я стал искать глазами объявление. Но вот и оно. И я с ужасом прочел:
«Завтра, в двенадцать часов дня!»
Я посмотрел, от какого числа газета. Да, это был утренний выпуск. Посмотрел на висевшие на стене часы: стрелки стояли на двенадцати. В моем распоряжении оставались только сутки!
Боже мой, что будет, если письмо еще не пришло!
Я вытащил кошелек и машинально пересчитал его содержимое. Не знаю даже, почему я это сделал. Мне было хорошо известно, что в кошельке всего-навсего сто долларов: «охотники» сильно меня пообчистили. Закончив счет, я горько усмехнулся: «Сто долларов за квартеронку! Миловидна, хорошая экономка и так далее и тому подобное! Сто долларов! Кто больше?» Аукционист вряд ли даже пожелает объявить такую сумму.
Все теперь зависело от почты из Англии. Если она еще не прибыла или не прибудет до утра, я буду бессилен что-либо сделать. Без письма к моему новоорлеанскому банкиру я не добуду и пятидесяти фунтов, если даже продам или перезаложу все, что у меня есть, — часы, драгоценности, платье. О займе я и не помышлял. Кто даст мне в долг? Кто ссудит незнакомцу такую крупную сумму? Разумеется, никто. У Рейгарта не могло быть таких денег, даже если бы и оставалось время снестись с ним. Нет, не было никого, кто бы захотел и мог прийти мне на помощь. Во всяком случае, такого человека я не знал.
Стой! А мой банкир? Блестящая мысль — банкир Браун! Добрый, велико— душный Браун из английского банкирского дома «Браун и К°», который с любезной улыбкой выплачивал мне деньги по переводам. Он мне поможет! Он не откажет мне! Как я не подумал об этом раньше? Ну конечно, если письмо не пришло, я скажу, что жду со дня на день, сообщу ему сумму перевода, и он ссудит меня деньгами.
Но уже первый час. Нельзя терять ни минуты! Сейчас он у себя в конторе. Прямо отсюда пойду к нему.
Схватив шляпу, я выбежал из отеля и поспешил к банкирскому дому «Браун и К°».
Глава 53
БРАУН и К°
Банкирский дом «Браун и К°» находился на Кэнел-стрит. От биржи Сен-Луи на Кэнел-стрит можно пройти через рю Конти, идущую параллельно рю Рояль. Последняя — излюбленное место прогулок веселых креолов-французов, совершенно так же, как Сент-Чарльз-стрит — американцев.
Вас, быть может, удивит это смешение французских и английских названий улиц. Дело в том, что Новый Орлеан имеет одну довольно редкую особенность: он состоит из двух различных городов — французского и американского. Точнее сказать, даже трех, ибо там имеется еще и испанский квартал, совершенно отличный от двух других, на перекрестках которого вы прочтете слово «калье», что по-испански значит «улица», как, например: калье де Касакальво, калье дель Обиспо и т. д. Эта особенность объясняется историческим прошлым Луизианы. Французы колонизировали ее в начале восемнадцатого столетия, и, в частности, Новый Орлеан был основан в 1717 году. Луизиана принадлежала французам вплоть до 1762 года, затем была уступлена Испании, во владении которой оставалась почти полвека — до 1798 года, после чего снова перешла к французам. Пять лет спустя, в 1803 году, Наполеон продал эту богатейшую страну американскому правительству за пятнадцать миллионов долларов — выгодная сделка для братца Джонатана[41] и, по-видимому, не столь удачная для Наполеона. Впрочем, Наполеон не прогадал. Дальновидный корсиканец, вероятно, понимал, что Луизиана недолго останется собственностью Франции. Рано или поздно американцы водрузили бы свой флаг над Новым Орлеаном, и уступчивость Наполеона только избавила Соединенные Штаты от войны, а Францию — от унижения.
Этой сменой хозяев и объясняется своеобразие Нового Орлеана и его населения. Черты всех трех наций ощущаются в его улицах и зданиях, в облике, обычаях и одежде жителей. И ни в чем национальные особенности не проявились столь резко, как в архитектурных стилях. В американской части города вы видите высокие, в несколько этажей, здания с рядами окон по всему фасаду — здесь легкость и изящество сочетаются с прочностью и удобством, что типично для англо-амернканцев. А для французского характера столь же типичны небольшие одноэтажные деревянные домики, выкрашенные в светлые тона, с зелеными балюстрадами и открывающимися, как двери, окнами, за которыми колышутся воздушные тюлевые занавески.
Угрюмой торжественности испанцев отвечают массивные и мрачные здания из камня в пышном мавританском стиле, которые и поныне встречаются на многих улицах Нового Орлеана. Великолепным образцом этого стиля может служить собор — памятник испанского владычества, который будет стоять и тогда, когда испанское и французское население города давно уже будет поглощено и растворится, пройдя обработку в перегонном кубе англо-американской пропаганды. Американская часть Нового Орлеана лежит выше по течению реки и известна под названием предместья Святой Марии и Благовещения. Кэнел-стрит отделяет это предместье от французского квартала, так называемого старого города, где живут по большей части креолы — французы и испанцы.
Еще несколько лет назад численность французского и американского населения была примерно одинакова. Теперь англо-американский элемент явно преобладает и быстро поглощает все остальное. Со временем ленивый креол должен будет, как видно, уступить свое место более энергичному американцу — иными словами, Новый Орлеан американизируется. Прогресс и цивилизация от этого выиграют, хотя, быть может, на взгляд ревнителей сентиментальной школы, в ущерб поэтическому и живописному.
Итак, Новый Орлеан распадается на два совершенно не схожих между собой города. И в том и в другом имеется своя биржа, свой особый муниципалитет и городские власти: и в том и в другом есть свои кварталы богачей и любимый проспект, или променад, для щеголей и бездельников, которых немало в этом южном городе, а также свои театры, бальные залы, отели и кафе. Но что всего забавнее— достаточно пройти несколько шагов, и вы уже переноситесь из одного мира в другой. Пересекая Кэнел-стрит, вы как бы попадаете с Бродвея на парижские бульвары.
И по своим занятиям жители этих двух кварталов резко отличаются друг от друга. Американцы торгуют предметами первой необходимости. Это владельцы складов продовольствия, хлопка, табака, леса и всевозможного сырья. Тогда как предметы роскоши — кружева, драгоценности, туалеты и шляпки, шелк и атлас, ювелирные изделия и антикварные редкости — проходят через искусные руки креолов, унаследовавших сноровку и вкус своих парижских предков. Во французском квартале немало и богатых виноторговцев, составивших себе состояние ввозом вин из Бордо и Шампани, ибо красное вино и шампанское особенно щедро льются на берегах Миссисипи.
Между двумя этими нациями идет глухое соперничество. Стильный, энергичный кентуккиец делает вид, что презирает веселых, легкомысленных французов, а те, в свою очередь — особенно старая креольская знать, — смотрят свысока на чудачества северян, так что стычки и столкновения между ними не редкость. Новый Орлеан по праву может именоваться городом дуэлей. В разрешении вопросов чести кентуккийцы встречают в креолах достойных противников, не уступающих им ни в мужестве, ни в искусстве. Я знаю немало креолов, имеющих на своем счету несметное число дуэлей. Оперная дива или танцовщица в зависимости от своих достоинств или, вернее, недостатков сплошь и рядом становится причиной десятка, а то и больше поединков. Маскарады и балы квартеронов тоже часто служат ареной ссор между разгоряченными вином молодыми повесами — завсегдатаями подобных увеселений. Словом, не думайте, что жизнь в Новом Орлеане бедна приключениями. К этому городу меньше всего подходит эпитет «прозаический».
* * *
Но такого рода мысли не шли мне на ум, когда я направлялся к банкирскому дому «Браун и К°». Голова моя была занята другим, и я с бьющимся сердцем невольно все ускорял и ускорял шаг.
До банка было довольно далеко, и я мог на досуге взвесить все возможности. Если письмо и перевод прибыли, я сразу же получу деньги, и, как я полагал, сумму достаточно крупную, чтобы выкупить свою невесту-невольницу. Ну, а если нет, что тогда? Ссудит ли меня Браун деньгами? И каждый раз на этот вопрос отвечало тревожное биение сердца. Положительный или отрицательный ответ означал для меня жизнь или смерть.
И все-таки я был почти уверен, что Браун меня выручит. Неужели широко улыбающееся лицо добродушного Джона Буля[42] вдруг омрачится и я услышу суровый отказ? Я не мог себе этого представить. Слишком многое зависело от его ответа. И потом, он ведь может не сомневаться, что деньги будут возвращены ему не далее как через несколько дней, даже, возможно, через несколько часов. Нет, он не откажет! Что значит для него, человека, ворочающего миллионами, ссуда в пятьсот фунтов! Он, конечно, не откажет. Не может отказать.
Переступая порог дома, хозяин которого ворочал миллионами, я был исполнен самых радужных надежд, а уходил от него с горьким разочарованием. Письмо еще не прибыло, и Браун отказал.
Я был молод и неопытен и не знал ни корыстного расчета, ни холодной учтивости делового мира. Что банкиру моя неотложная нужда? Что ему мои горячие просьбы? Открой я ему, почему и для какой цели мне понадобились деньги, это ничего бы не изменило. Он отказал бы мне с той же холодной улыбкой, даже если бы от его ответа зависела моя жизнь.
Стоит ли передавать во всех подробностях наш разговор? Он был достаточно краток. Мне с вежливой улыбкой сообщили, что письмо еще не получено. А когда я заикнулся о займе, со мной не стали церемониться. Добродушная улыбка мигом сошла с кирпичной физиономии Брауна. «Нет, так дела не делаются. К сожалению, ничем не могу помочь». И это все! По его тону я понял, что беседа окончена. Я мог бы умолять. Мог бы открыть ему, для чего мне нужны деньги, но лицо Брауна не располагало к откровенности. Впрочем, это и к лучшему. Браун только посмеялся бы над моей сердечной тайной, и сегодня же весь город смаковал бы за чашкой чая забавную историю.
Но, так или иначе, письмо не пришло, и Браун отказался ссудить меня нужной суммой.
Надежды мои рухнули, и я с отчаянием в душе поспешил обратно в отель.
Глава 54
ЭЖЕН Д'ОТВИЛЬ
Весь остаток дня я потратил на розыски Авроры. Но мне ничего не удалось узнать о ней, даже приехала ли она в город.
Я заглянул в бараки, где временно поместили негров, но там Авроры тоже не оказалось. Ее либо еще не привезли, либо устроили в другом месте. Никто ее не видел, никто о ней ничего не знал.
Разочарованный и усталый от бесплодной беготни по раскаленным и пыльным улицам, я возвратился в свой отель.
Я ждал вечера. Ждал Эжена д'Отвиля — так звали моего нового знакомого.
Этот молодой человек меня сильно заинтересовал. Наша короткая встреча пробудила во мне удивительное чувство доверия. Он доказал мне свое дружеское расположение и поразил знанием жизни. Несмотря на свою молодость, он представлялся мне человеком необыкновенно проницательным. И мне почему-то казалось, что он придет мне на помощь. Не было ничего удивительного в том, что он так молод и вместе с тем многоопытен: американцы рано развиваются, особенно уроженцы Нового Орлеана. В пятнадцать лет креол — уже взрослый мужчина. И, конечно, д'Отвиль — по-видимому, мой сверстник — знал жизнь неизмеримо лучше, чем знал ее я, чья юность прошла в стенах старинного колледжа.
Тайное предчувствие подсказывало мне, что он хочет и может мне помочь. Как? — спросите вы. — Ссудив мне нужную сумму?
Нет! У меня сложилось впечатление, что у него самого совсем нет или очень мало денег — слишком мало, чтобы выручить меня. Иначе на мой вопрос, где найти его в Новом Орлеане, он не дал бы такого ответа. Что-то в его интонации говорило мне, что он остался не только без средств, но да— же без крова. Может быть, это уволенный клерк, решил я, или бедный художник. Одет он, правда, хорошо, даже изысканно, но одежда ровно ничего не значит, тем более на пароходах, курсирующих по Миссисипи.
Итак, я нисколько не обольщался на его счет, и все же, как это ни странно, мне казалось, что он может выручить меня. И мне не терпелось сделать его поверенным своей тайны — тайны своей любви, своих мучений.
Быть может, не только это побуждало меня открыться ему.
Тот, кто сам испытал горе, знает, какое облегчение приносит искреннее слово участия. Дружеское участие целительно и сладко. Как бальзам, смягчает душевную боль добрый совет друга.
Слишком долго таил я свою печаль и теперь жаждал излить кому-нибудь душу. Кто в чужой стране разделит горе иностранца? Я не посмел ничего сказать даже доброму Рейгарту. Кроме самой Авроры, одной только Эжени, бедной Эжени была известна моя тайна. Но лучше бы она не знала ее!
Теперь я решил облегчить свое сердце, доверившись юному Эжену, — какое странное совпадение! Может быть, беседа с ним хоть немного утешит меня, хоть немного облегчит мое сердце.
Я ждал вечера. Вечером обещал он прийти. Ждал с нетерпением, не сводя глаз со стрелки часов и негодуя на маятник, неторопливо отбивающий секунды.
Д'Отвиль не обманул меня. Наконец он пришел, Я услышал его серебристый голос… вот и он сам передо мной.
Когда он вошел в комнату, меня снова поразили его печальный вид, бледность и сходство с кем-то, кого я знал раньше.
В комнате было душно и жарко. Лето медлило уходить. Я предложил прогуляться. Беседовать можно и на открытом воздухе, а ярко сиявшая луна осветит нам путь.
Когда мы выходили из отеля, я протянул своему гостю портсигар. Но он отказался от сигары, заявив, что не курит.
«Удивительно! — подумал я. — Креолы все, как правило, заядлые курильщики. Еще одна странность в характере моего нового приятеля!»
Мы прошли пo рю Рояль и свернули по Кэнел-стрит в сторону болота. Потом пересекли рю де Рампар и вскоре очутились за чертой города.
Впереди показались какие-то строения, но не дома — во всяком случае, не жилища живых. Бесчисленные купола с крестами, разбитые колонны, белевшие в свете луны памятники свидетельствовали о том, что перед нами город мертвых. Это было знаменитое новоорлеанское кладбище, то самое кладбище, где покойников-бедняков топят в жидкой грязи, а богатеев — что, впрочем, вряд ли лучше — провяливают в горячем песке.
Ворота были отворены. Мрачная торжественность этого места манила меня, она гармонировала с моим настроением. Спутник мой не возражал, и мы вошли.
Долго бродили мы среди могильных плит, статуй, памятников, миниатюрных часовенок, колонн, обелисков, саркофагов, высеченных из белоснежного мрамора, огибали свеженасыпанные холмики, говорившие о недавней утрате и недавнем горе, и старые могилы, украшенные свежими цветами — символ не увядшей еще любви и привязанности, — и наконец уселись на замшелую могильную плиту, над которой печально раскачивала длинные свои ветви вавилонская ива.
Глава 55
УЧАСТИЕ ВЗАМЕН ЛЮБВИ
По дороге мы говорили о самых незначительных предметах: о моей встрече с шулерами на пароходе, об «охотниках» Нового Орлеана, о лунной ночи.
Пока мы не забрели на кладбище, пока не уселись рядом на могильной плите, я молчал о том, что владело всеми моими помыслами. Но теперь пришло время открыться, и полчаса спустя Эжен д'Отвиль уже знал историю моей любви. Я поведал ему все, что произошло со мной, начиная с моего отъезда из Нового Орлеана и вплоть до нашей встречи на пароходе. Подробно рассказал о своей беседе с банкиром Брауном и о долгих и бесплодных поисках Авроры.
Он терпеливо выслушал мою исповедь до конца и прервал меня только один раз, когда я стал описывать мое объяснение с Эжени и драматическую развязку этой сцены. Мой рассказ, видимо, не только сильно заинтересовал его, но и глубоко тронул. Я слышал, как он всхлипывал, видел при свете луны его залитое слезами лицо.
«Великодушный юноша, — думал я. — Как близко принимает он к сердцу горе совершенно чужого ему человека!»
— Несчастная Эжени! — прошептал он. — Неужели вам ее не жаль?
— Не жаль! Ах, мсье, вы не представляете себе, как я ее жалею! Никогда эта сцена не изгладится из моей памяти! С какой радостью я предложил бы Эжени свое сочувствие, дружбу, принес бы любую жертву, если бы они могли что-нибудь возместить и что-нибудь поправить! Одно только не в моей власти — дать ей свою любовь. Всей душой сокрушаюсь я об этой благородной девушке, мсье д'Отвиль. И я отдал бы все, лишь бы залечить рану, которую нанес невольно. Но она, конечно, забудет свою несчастную страсть и со временем…
— О нет, никогда! Никогда! — прервал д'Отвиль с горячностью, которая поразила меня.
— Но почему вы так думаете?
— Почему? Потому что знаю по собственному опыту. Хоть я и молод, но пережил уже нечто подобное… Бедная Эжени! Такие раны не залечиваются. Она никогда не оправится! Никогда!
— Бедняжка! Мне жаль ее, жаль ото всей души.
— Тогда почему бы вам не разыскать ее и не сказать ей об этом?
— Зачем? — спросил я, несколько удивленный подобным предложением
— Быть может, ваше сочувствие хоть немного утешило бы ее.
— Что вы! Напротив. Мне кажется, это было бы жестоко.
— Вы ошибаетесь, мсье. Неразделенную любовь легче перенести, если встречаешь теплое участие. Ведь сердце исходит кровью, натолкнувшись на высокомерное презрение и злорадную жестокость. Для ран любви дружеское участие — подлинный бальзам. Поверьте мне! Я чувствую, я знаю, что это так.
Последние слова он произнес с убежденностью, показавшейся мне даже несколько странной.
«Загадочный юноша! — подумал я. — Такой нежный, чувствительный и вместе с тем так искушен!»
Мне представлялось, что я разговариваю с существом высшего порядка — человеком выдающегося ума, который все видит и все понимает.
Его взгляды были мне внове и противоречили общепринятому мнению, но впоследствии я убедился в их справедливости.
— Если бы я мог рассчитывать, что мое дружеское участие будет приятно Эжени, я попытался бы разыскать ее, предложить ей…
— Это вы еще успеете сделать, — перебил д'Отвиль, — а сейчас у вас есть другое дело, не терпящее отлагательства. Вы намерены выкупить квартеронку?
— Намеревался еще сегодня утром. Увы, теперь исчезла и эта надежда! Выкупить ее не в моей власти.
— Сколько денег соблаговолили оставить вам шулеры?
— Немногим более ста долларов.
— Да, этого недостаточно. Судя по вашему описанию, за нее дадут в десять раз больше. Как досадно, что я не богаче вас! У меня не наберется и ста долларов. Как все это, право, печально!
Д'Отвиль сжал голову руками и несколько секунд сидел молча, в глубоком раздумье. Глядя на него, я невольно проникся убеждением, что он искренне сочувствует моему горю и ищет способа помочь мне.
— А если ей не удастся? — пробормотал он про себя, но настолько громко, что я расслышал. — Если она не найдет бумаг, тогда и она жестоко поплатится. Это рискованно! Может быть, лучше не пробовать?..
— Сударь, о чем это вы? — перебил я его.
— Ax, да… Простите! Я думал об одном деле… Но не важно. Не лучше ли нам вернуться? Мне холодно. Я озяб среди этих мрачных могильных плит и памятников.
Вид у него был смущенный, словно он невольно высказал вслух свои затаенные мысли.
Хотя меня и удивили его слова, я не счел возможным требовать объяснения и молча поднялся. Я совсем пал духом. Видимо, он не в силах мне помочь.
И тут у меня вдруг мелькнула мысль, сулившая надежду, вернее — слабый отблеск надежды. Я поделился ею со своим спутником.
— У меня есть эти сто долларов, — сказал я. — Для покупки Авроры это все равно что ничего. Не попытать ли мне счастья за зеленым столом? Все-таки какой-то шанс.
— Боюсь, это бесполезно. Вы проиграете, как уже проиграли.
— Это еще неизвестно. У меня столько же шансов проиграть, как и выиграть. Совершенно необязательно садиться играть с профессиональными картежниками, как на пароходе. В Новом Орлеане достаточно игорных домов, где процветает чистый азарт: фараон, кости, лото, рулетка — выбор богатый. Счастье здесь зависит от того, как ляжет карта или упадет кость. А это дело случая. Ну как, сударь? Что вы мне посоветуете?
— Вы правы, — ответил он. — Здесь все зависит от удачи. И можно надеяться на выигрыш. Если даже вы проиграете, это ничего не изменит в отношении завтрашнего дня. Зато если выиграете…
— Вот-вот!.. Если я выиграю…
— В таком случае, нельзя медлить ни минуты. Уже поздно. Игорные дома давно открыты. Игра сейчас в самом разгаре. Пойдемте!
— Вы пойдете со мной? Благодарю, д'Отвиль! Благодарю!
И мы торопливо зашагали по дорожке, ведущей к выходу, и, очутившись за воротами кладбища, повернули к городу.
Мы направились к тому самому месту, откуда начали свою прогулку, — к рю Сен-Луи, ибо по соседству с ней сосредоточены крупнейшие игорные притоны Нового Орлеана.
Разыскать их было нетрудно: в ту пору им не приходилось скрываться. Страсть к азартным играм, унаследованная креолами от основателей города, была слишком распространена, чтобы полиция могла с ней бороться. Муниципальные власти американского квартала, правда, предприняли кое-какие шаги для пресечения этого зла, но законы их не распространялись по ту сторону Кэнел-стрит, а у креольской полиции были на сей счет совершенно другие взгляды и другие инструкции. Во французском предместье азартная игра не почиталась преступлением, игорные дома содержались открыто и с благословения властей.
Проходя по рю Конти, или Сен-Луи, или по рю Бурбон, вы не преминули бы заметить большие позолоченные фонари с надписями: «Фараон», «Крапе», «Лото» или «Рулетка» — диковинные слова для непосвященных, но хорошо понятные тем, на чьей обязанности лежало следить за порядком на улицах «Первого муниципалитета». Скоро мы очутились перед входом в одно из таких заведений, фонарь которого недвусмысленно оповещал, что здесь играют в фараон.
Этот притон попался нам первым, и мы без колебаний вошли туда.
Когда мы поднялись по широкой лестнице, нас остановил какой-то субъект в бакенбардах, не то швейцар, не то слуга. Я ожидал, что он потребует с нас плату за вход. Но я ошибся: вход был свободный. Нас остановили, чтобы отобрать оружие, а взамен выдали квитанции, по которым, уходя, мы могли получить его обратно. Швейцар вставлял отобранное оружие в гнезда специально для этого предназначенной полки в углу прихожей и, судя по количеству торчащих пистолетных прикладов, черенков охотничьих ножей и рукоятей кинжалов, успел обезоружить уже немало народу.
Вся эта процедура весьма напоминала знакомую всем картину сдачи на хранение зонтов и тросточек в гардеробе музея или галереи. Впрочем, благодаря этой разумной предосторожности удавалось предотвратить немало кровопролитий за игорным столом.
Мы отдали свое оружие: я — пару пистолетов, а мой спутник — маленький серебряный кинжал. На них наклеили этикетки, дубликаты которых выдали нам на руки, после чего нас наконец допустили в зал.
Глава 56
ОБ ИГРАХ И АЗАРТЕ
Страсть к игре широко распространена. Каждая нация в большей или меньшей степени подвержена ей, и каждый народ, цивилизованный или дикий, играет в свою игру, будь то вист и криббидж в фешенебельных клубах Лондона или «орлянка» и «чет и нечет» в пустынных прериях.
Добродетельная Англия почитает себя свободной от этого порока. И брюзжащий путешественник-англичанин не прочь кинуть камешек в огород со— седа. Французов, немцев, испанцев, мексиканцев — всех поочередно обвиняет он в чрезмерном пристрастии к азартным играм. Но это лицемерие и ханжество! В добродетельной Англии азарт процветает сильнее, чем в любой другой стране. Я не говорю уж о картежной игре в окрестностях Пикадилли. Поезжайте-ка в Эпсом на скачки в день дерби — там вы получите истинное представление о масштабах азартных игр в Англии, потому что иначе как азартом, и притом азартом самого низкого пошиба, это зрелище не назовешь. Пусть не толкуют о благородном спорте, о любви к лошадям, этим прекраснейшим из всех животных. Вздор! Какое уж там благородство! Могут ли испитые, обшарпанные плуты, которые тысячами и десятками тысяч стекаются на скачки в сопровождении распутных своих подруг, иметь какое-то понятие о красоте и благородстве! Из всех живых существ на ипподроме благородна одна только лошадь, и нет ничего более подлого, чем то, что ее окружает.
Нет, добродетельная Англия! Не тебе служить в этом примером для других наций. И ты не без греха, что бы ты ни утверждала. Ни у одного народа, смею уверить, нет такого полчища азартных игроков, как у тебя, и как бы ни был благороден скаковой спорт, твои игроки — самая жалкая, пресмыкающаяся и гнусная разновидность игроков из всех существующих на свете. Есть что-то донельзя низменное в нравах и повадках с виду вечно голодных стервятников, которые с продранными локтями и в стоптанных башмаках маячат на углах Ковентри-стрит и Хей-маркета, шныряя из кабака к букмекеру[43] и от букмекера в кабак. По сравнению с ними смелый игрок в кости представляется почти благородной личностью. Беспечный испанец, вытряхивающий свои последние унции золота ради одного броска костей, или мексиканский игрок в монте, ставящий на карту золотые дублоны, в какой-то степени облагорожены смелостью и риском. У них азарт — подлинная страсть, их привлекают сильные ощущения: но Браун, и Смит, и Джонс не вправе ссылаться на страсть — у них нет за душой даже этого.
Из всех профессиональных игроков картежники Миссисипи, быть может, наиболее красочны. Я уже говорил об их изысканной манере одеваться, но, помимо этого, в них несомненно есть что-то от подлинного джентльмена, что-то рыцарское в характере, отличающее их от прочих их собратьев. В пору моей бурной юности иные из этих господ удостаивали меня своим знакомством, и я считаю долгом замолвить за них словечко. Кое-кто из них блистал высокими добродетелями, впрочем не вполне отвечающими требованиям пуританской морали. Другие отличались великодушным и благородным сердцем, способны были на самые прекрасные поступки и хотя попрали законы общества, но не попрали законов человеческой природы и умели отстоять свою честь от любых посягательств. Конечно, встречались и другие, подобные Чорли и Хэтчерам, которые не соответствуют моему описанию, но мне кажется, что они скорее исключение, чем правило.
Несколько слов об американских играх. Подлинно национальной игрой Соединенных Штатов, безусловно, являются выборы. Местные выборы или выборы в представительные учреждения штатов дают не меньше возможностей для заключения пари, чем скачки в Англии, а избрание президента, раз в четыре года, по праву можно назвать американским днем дерби. Трудно себе представить, какие огромные суммы переходят тогда из рук в руки и какое несметное число пари заключается в эти дни. Если бы на этот счет существовала статистика, данные ее удивили бы даже самых «просвещенных» граждан Соединенных Штатов. Иностранцу не понять ажиотажа, которым сопровождаются выборы во всех уголках страны. Да это и трудно объяснить в государстве, где люди, в общем, знают, что успех или провал того или иного кандидата мало отразится на их собственном материальном благополучии. Правда, дух соперничества между членами победившей партии в какой-то мере объясняет интерес к результатам, но все же не целиком. Мне лично кажется, что возбуждение вызывается главным образом азартом. Чуть ли не каждый второй человек, с которым я встречался, заключал пари на исход президентских выборов, и даже не одно, а множество.
Словом, выборы — это подлинная национальная игра американцев, которой с одинаковой страстью предаются и в верхах и в низах, и богатые и бедные.
Держать пари о результатах выборов не считается зазорным. Выборы к азартным играм не причисляются. Для этого существует немало других самых разнообразных игр, где дело решают карты. Кости и биллиард тоже в большом ходу, особенно последний. Почти в каждой деревушке Соединенных Штатов, особенно на Юге и Западе, вы найдете биллиардный стол, а то и два, а среди американцев встретите поистине замечательных игроков. Креолы Луизианы, можно сказать, стяжали в биллиарде пальму первенства.
Кегли тоже очень распространены, и даже самый захудалый городишко имеет свой кегельбан. Но и биллиард и кегли, в сущности, не азартные игры: первая — скорее развлечение, а вторая — вид спорта. Карты и кости — вот подлинное оружие любителей азарта; карты в первую очередь. Помимо английских виста и криббиджа, а также французских игр «двадцать одно» и «красное и черное», американцы играют в покер, юкр, «семерку» и множество других игр. В Новом Орлеане среди креолов пользуется особой любовью игра в кости, именуемая крапс, а также процветают кено, лото и рулетка. Далее к югу, у испанцев Мексики, в большом ходу монте — игра, отличающаяся от всех названных нами выше. Монте — национальная игра мексиканцев.
Однако всем прочим способам выкачивания денег юго-западные профессиональные картежники предпочитают фаро, или фараон. Как показывает само название, игра эта испанского происхождения; да она и в самом деле мало чем отличается от монте и, вероятно, была завезена в Новый Орлеан испанцами. Но вне зависимости от того, коренного ли она или пришлого происхождения, игра эта превосходно прижилась во всех городах и селениях долины Миссисипи, и нет на Западе ни одного картежника, который не был бы любителем фараона.
К тому же фараон очень несложен. Дадим краткое его описание.
Стол накрывают зеленым сукном или байкой и выкладывают лицом вверх в два ряда все тринадцать карт какой-нибудь одной масти. Обычно карты приклеивают, чтобы они не сдвигались с места.
Затем в руках банкомета появляется прямоугольная коробочка, с виду похожая на большую табакерку. Размеры ее невелики — ровно на две колоды карт. Делается такая коробочка обычно из серебра. Любой другой материал годился бы не хуже, но банкомет счел бы унизительным пользоваться дешевенькой принадлежностью своего ремесла. Назначение этой коробки в том, что она помогает сдавать вложенные в нее карты. Я не берусь толком объяснить ее таинственный внутренний механизм, могу сказать лишь одно: крышки у нее нет, с одной стороны она открыта, и туда вдвигают колоды, а имеющаяся внутри пружина позволяет банкомету выбрасывать карты подряд одну за другой в том порядке, в каком они лежат в колоде. Между прочим, это приспособление вовсе не обязательно для игры в фараон; с таким же успехом можно играть и без всякой коробки. Но такое устройство гарантирует честную игру: тут уж никак не отличишь одной карты от другой по знаку на рубашке или каким-либо другим приметам — карт просто не видно. Изящная коробочка для игры в фараон — гордость каждого уважающего себя банкомета, и ни один из них не сядет без нее за игорный стол.
Две хорошо стасованные колоды вкладывают в коробку, и банкомет, поло— жив на нее левую руку и держа наготове правую с оттопыренным большим пальцем, ждет, пока несколько игроков поставят на карту. Банкомет — единственный ваш противник в этой игре; он выплачивает вам все ваши выигрыши и забирает все ваши проигрыши. Ставить на карту может любой сидящий или стоящий у стола, но ставят все они против одного банкомета. Что— бы вести такую игру, банкомет, несомненно, должен быть своего рода предпринимателем и иметь капитал в несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. Все же случается, что при сильном невезении банк лопается, и тогда могут пройти годы, прежде чем банкомет соберется с силами и вернется к старой профессии. Рядом с банкометом обычно сидит его помощник, или крупье. В его обязанности входит обмен фишек на деньги и выплата выигрышей; он же загребает лопаточкой суммы, выигранные банком.
Фишки, которыми пользуются в этой игре, представляют собой плоские костяные кружочки величиной с доллар и разных цветов — белые, красные, голубые, с обозначенной на них суммой. Пользуются ими вместо денег, ради удобства. Если игрок бросает игру, он обменивает свои фишки на деньги.
Самый простой способ понтировать в фараон — это ставить деньги на одну из лежащих на столе карт. Вы можете выбрать любую из тринадцати. Предположим, ваш выбор пал на туза и вы поставили деньги на эту карту. Банкомет начинает метать карты из коробки одну за другой. Всякий раз, выложив две карты, он останавливается. И пока не выйдут подряд два туза, исход неизвестен. Если же вышли два туза, объявляется выигрыш. В том случае, если оба туза вышли вместе, ваши деньги достаются банкомету. Если же вышел только один туз, а второй пришелся на следующую выкладку, выиграли вы. Тогда вы можете опять поставить на туза, при желании удвоив ставку, или передвинуть деньги на другую карту. Все эти манипуляции вы вправе производить в любой момент игры, при условии, что банкомет еще не выложил первой карты.
Игра, понятно, продолжается вне зависимости от того, ставите вы или нет. Стол окружен понтирующими; одни ставят на одну карту, другие — на другую, третьи — одновременно на две и больше, так что постоянно кому-то что-то выплачивают, постоянно стучат фишки и слышится звон долларов.
Для игры в фараон никакого умения не требуется: все здесь зависит от удачи. Поэтому вы, чего доброго, решите, как и полагают многие, что шансы банкомета и понтирующих равны. Но это не так. Определенные комбинации карт обеспечивают банкомету известный процент, иначе кому бы пришла охота связываться с таким делом. И хотя случается, что банкомета упорно преследует невезение, он все равно обыграет вас, если только ему удастся продержаться.
Этот процент обеспечивается банкомету во всех азартных играх — в фараоне, монте, крапсе и прочих. Конечно, банкомет и не станет этого отрицать, но на ваш вопрос ответит, что этот небольшой процент идет на «покрытие расходов». И будьте покойны, расходы покрываются с лихвой.
Вот каков тот самый фараон, садясь за который, я решил спустить последний цент или выиграть нужную сумму для выкупа моей нареченной.
Глава 57
ФАРАОН
Мы вошли в зал. Так вот он, знаменитый фараон! В дальнем конце зала стоял стол, за которым и шла игра. Но ни карт, ни банкомета не было видно: двойное кольцо сидящих и стоящих игроков окружало стол, скрывая его от нас. Были здесь и женщины, они тоже сидели или стояли, веселые и красивые женщины, разряженные по последней моде, однако некоторая развязность в манерах обличала в них особ легкого поведения.
Д'Отвиль угадал: игра была в самом разгаре. Вид и позы игроков, мелькание рук, раскладывающих ставки, стук костяных фишек, звон долларов говорили о том, что здесь времени не теряют.
Подвешенная над столом огромная люстра бросала яркий свет на зеленое сукно и на лица игроков.
В середине зала стоял большой стол, уставленный разнообразными закусками. Тут были холодная индейка, ветчина, язык, салат из цыплят, омары, вина в хрустальных графинах, коньяк, ликеры. Часть тарелок и рюмок уже побывала в употреблении, другие стояли нетронутыми, в ожидании желающих закусить. По существу, это был бесплатный ужин, которым потчуют всех посетителей. Таков обычай американских игорных домов.
Однако это обильное угощение не привлекало ни меня, ни моего спутника. Мы прошли прямо к столу, где играли в фараон.
Подойдя поближе, мы заглянули через плечи игроков. Что за наваждение! Чорли и Хэтчер!
Да, оба шулера сидели рядышком за зеленым столом и не в качестве простых игроков, а в роли банкомета и крупье! Чорли держал в руках коробочку с картами, Хэтчер сидел справа от него, и перед ним лежала на столе груда фишек, долларов и банкнот. Обведя взглядом игроков, мы обнаружили также и торговца свининой. Все в той же просторной куртке и широко— полой белой шляпе, он сидел как ни в чем не бывало, будто в глаза никогда не видел банкомета и крупье, и лихо понтировал, по обыкновению пересыпая свою речь простонародными словечками.
Мы с моим спутником изумленно переглянулись.
Но изумляться было, собственно, нечему. Чтобы держать банк в фараоне, не требуется патента; вполне достаточно зажечь люстру над столом, расстелить зеленое сукно и начать метать. Шулеры чувствовали себя здесь, как рыба в воде. Поездка по реке была для них чем-то вроде летней увеселительной прогулки, но в Новом Орлеане начинался сезон, и они поспешили вернуться, поэтому не было ничего удивительного, что мы встретили их здесь.
Однако в первую минуту мы с д'Отвилем оцепенели. Я уже хотел предложить своему спутнику покинуть зал, но тут меня заметил торговец свининой.
— Э, да это незнакомец с парохода! — воскликнул он, изобразив на своем лице удивление. — И вы тут?
— Как видите, — отвечал я небрежно.
— Ну и ну! Вы тогда как сквозь землю провалились. Куда вы пропали? — осведомился он с грубой фамильярностью и так громко, что все обернулись в нашу сторону.
— Куда пропал? — отозвался я, стараясь сохранить спокойствие, хотя меня возмутил его наглый тон.
— Ну да! Это самое я и хотел узнать.
— Очень бы хотели? — спросил я.
— Да нет… не так чтоб очень.
— Рад за вас, — отвечал я. — Потому что я не намерен вам об этом докладывать.
Я с удовольствием убедился, что взрыв общего хохота, которым была встречена моя неожиданная реплика, поубавил спеси наглецу.
— Не понимаю, чего вы ершитесь! — сказал он полупримирительным-полураздраженным тоном. — Я вовсе не к тому веду, чтобы вас обидеть, но вы тогда как в воду канули… Впрочем, это меня не касается. Думаете попытать счастья в фараон?
— А почему бы и нет?
— Игра как будто неплохая. Я сам сегодня первый раз сел. Тут, как в «чет и нечет», все зависит от удачи. Пока что мне везет. — С этими словами он повернулся к столу и стал раскладывать ставки.
Банкомет начал новую сдачу, и игроки, которых на время отвлек наш разговор, опять обратились к тому, что представляло для них главный интерес, — к кучкам денег, лежащих на картах.
И Чорли и Хэтчер тоже, конечно, узнали меня, но ограничились дружеским кивком головы и взглядом, который весьма красноречиво говорил:
«Так, значит, он здесь! Великолепно! Этот-то отсюда не уйдет, не попытавшись отыграть своих ста долларов. Как пить дать, поставит!»
Если и в самом деле эта мысль пришла им в голову, то они были не так уж далеки от истины. Ибо я в это время думал:
«Можно, в конце концов, попытать счастья и здесь. Фараон есть фараон, кого ни посади в банкометы. Когда карты мечут из такой вот коробочки, плутовать немыслимо. Да и сама игра не позволяет жульничать. Один проигрывает банку, а другой выигрывает у него, так что банкомету нет расчета передергивать, будь даже у него такая возможность. В самом деле, почему бы мне не сыграть против господ Чорли и Хэтчера, тем более что выиграть мне будет вдвойне приятно: я поквитаюсь с ними за свой прежний проигрыш. Сяду играть!»
— Что вы на это скажете, сударь?
С некоторыми из этих соображений и с последним вопросом я обратился вполголоса к молодому креолу.
Д'Отвиль согласился со мной и посоветовал остаться. Он тоже держался того мнения, что я могу с одинаковым успехом рискнуть и здесь.
Итак, я вынул из кошелька золотой и поставил его на туза.
Ни банкомет, ни крупье даже бровью не повели, даже мельком не взглянули на мою ставку. Жалкая монета в пять долларов, конечно, не могла произвести впечатления на этих бывалых игроков, через чьи руки проходили десятки, сотни и даже тысячи долларов.
Чорли метал с тем непроницаемо-хладнокровным видом, который отличает всех людей его профессии.
— Выиграл туз! — воскликнул чей-то голос, когда вышло два туза подряд.
— Угодно получить фишками? — осведомился крупье.
Я сказал, что фишками, и крупье положил на мой золотой красный костяной кружочек с цифрой пять посередине. Все десять долларов я решил оставить на тузе.
Банкомет продолжал метать, и вскоре опять вышли два туза, и я получил еще две красные фишки.
Я и тут не взял своего выигрыша, так что у меня на карте набралось уже двадцать долларов. Ведь я пришел сюда не развлекаться. У меня была совсем иная цель, и я не собирался попусту тратить время. Если фортуна пожелает быть ко мне благосклонной, почему бы ей сразу же не улыбнуться мне? И, кроме того, когда я думал о той, что была истинной ставкой в этой игре, я желал одного — положить конец неизвестности. К тому же мне претила грубая и распущенная компания, теснившаяся за игорным столом.
Игра продолжалась, и спустя некоторое время опять вышли два туза. Но на этот раз я проиграл.
Не говоря ни слова, крупье сгреб фишки и золотой и спрятал их в свою лакированную шкатулку.
Я снова вынул кошелек, поставил десять долларов на даму и выиграл. Я удвоил ставку и снова проиграл. Потом опять выиграл десять долларов, опять их проиграл, и так снова и снова — то выигрывая, то проигрывая, то ставя фишками, то золотом, я опустошил свой кошелек!
Глава 58
ЧАСЫ И КОЛЬЦО
Я встал с места и с отчаянием взглянул на д'Отвиля. Мне незачем было сообщать ему печальную весть: взгляд мой был красноречивее слов, к тому же юноша следил за игрой, наклонившись через мое плечо.
— Что ж, пойдемте, мсье? — сказал я.
— Нет еще, постойте минутку, — ответил он, кладя руку мне на плечо.
— Но зачем? У меня ничего не осталось. Я проиграл все — все до последнего доллара! Это надо было предвидеть. Нам нечего тут делать!
Возможно, я произнес эту фразу слишком резко. Сознаюсь, я был взбешен. Помимо страшной перспективы завтрашнего дня, я вдруг усомнился в своем новом друге. Его знакомство с этими людьми, совет играть здесь, наша по меньшей мере странная встреча с пароходными шулерами, быстрота, с какой опустел мой кошелек, — все эти соображения молнией пронеслись в моей голове, и я невольно подумал: уж не обманщик ли д'Отвиль? Я старался припомнить наш последний разговор. Навел ли он меня на мысль посетить именно этот притон, сделал ли что-нибудь для этого? Играть он мне, во всяком случае, не предлагал, а скорее отговаривал, и я не мог припомнить, чтобы он убеждал меня сесть играть в фараон. Кроме того, он не меньше моего удивился, заметив этих господ за столом.
Но что из того? Разве так трудно разыграть удивление? Что, если, подобно торговцу свининой, который так ловко меня провел, мсье д'Отвиль тоже состоит пайщиком в достойной фирме Чорли, Хэтчера и Кo? Я повернулся к нему, с моих губ готова была сорваться ядовитая фраза, но тут я сразу понял, что заблуждался. Устремив на меня свои чудесные глаза, молодой креол снизу вверх глядел мне в лицо — он был ниже меня ростом — и ждал, когда я приду в себя. Что-то сверкало в его протянутой руке. Это был вязаный кошелек. Сквозь его шелковую сетку поблескивали желтые монеты. Он протягивал мне свой кошелек с золотом!
— Возьмите! — проговорил он нежным, серебристым голосом.
Сердце у меня болезненно сжалось. Я с трудом выдавил из себя ответ. Если б он знал, о чем я думал всего секунду назад, он понял бы, почему щеки мои внезапно залила краска стыда.
— Нет, сударь, — пробормотал я. — Вы слишком великодушны! Я не могу принять этих денег.
— Ну, ну, пустяки! Возьмите, прошу вас, и рискните еще раз. Фортуна была к вам сурова в последнее время, но ведь она — богиня непостоянная и еще, может быть, улыбнется вам. Берите же кошелек.
— Право, сударь, я не могу после того… Простите меня!.. Если бы вы знали…
— Так, значит, мне придется играть за вас. Вспомните, ради чего вы пришли сюда! Вспомните Аврору!
— О!
Это «о», вырвавшееся из моей груди, было единственным ответом молодому креолу, который уже повернулся к столу и поставил свои золотые.
Я смотрел на него с изумлением и восторгом, к которому примешивалась тревога за исход игры.
Какие маленькие белые руки! Какой великолепный перстень с алмазом сверкает на его безымянном пальце! Игроки, словно зачарованные, смотрят на драгоценный камень при каждом движении руки, щедро рассыпающей по столу золотые. И Чорли с Хэтчером тоже заметили перстень. Я видел, как они многозначительно переглянулись. Оба отменно вежливы с молодым креолом. Он сразу же завоевал их уважение своими крупными ставками. Они с особой почтительностью и вниманием называют карту, когда он выигрывает, и вручают ему фишки. Весь стол любуется им, дамы кидают на него вкрадчивые и коварные взгляды. Каждая готова броситься ему на шею ради сверкающего брильянта.
Я стоял возле него, с волнением следя за игрой, с большим волнением, чем если бы ставил сам. Но ведь это была и моя ставка. Он играл для меня. Для меня этот великодушный юноша рисковал своими последними деньгами.
Но я недолго томился неизвестностью. Вот он ставит и проигрывает — и еще повышает ставку. Он занял мое место у стола, и вместе с местом к нему перешло и мое невезение. Почти каждую ставку сгребал крупье, пока наконец последняя монета не была поставлена на карту. Еще немного — и вот она звякнула, падая в шкатулку.
— Идемте, д'Отвиль! Идемте отсюда! — шепнул я, наклоняясь к нему и беря его за руку.
— Во сколько вы оцените это? — спросил он банкомета, не обращая на меня внимания.
И с этими словами он снял через голову золотую цепочку с часами.
Этого я и боялся, когда предлагал ему уйти. Я повторил свою просьбу, я молил его, но он не желал ничего слушать и торопил Чорли с ответом.
Чорли, видно, не любил тратить слов на ветер.
— Сто долларов за часы, — отрезал он, — и пятьдесят за цепочку.
— Великолепно! — воскликнул кто-то из игроков.
— Они же стоят вдвое больше, — пробормотал другой.
В огрубевших сердцах собравшихся здесь людей все же сохранились человеческие чувства. Тот, кто проигрывает, не вешая головы, неизменно вызывает общее сочувствие, и возгласы, сопровождавшие каждый проигрыш юного креола, свидетельствовали о том, что все симпатии на его стороне.
— Правильно, часы и цепочка стоят значительно больше, — вмешался высокий человек с черными бакенбардами, сидевший в конце стола.
Внушительный и твердый тон, каким были сказаны эти слова, возымел свое действие.
— Разрешите, я еще раз взгляну, — сказал Чорли, перегибаясь через стол к д'Отвилю, который сидел с часами в руке.
Д'Отвиль снова вручил часы шулеру, а тот, открыв крышку, внимательно осмотрел механизм. Это были изящные часы с цепочкой, какие обычно носят дамы. И стоили они, разумеется, много больше той суммы, что предложил за них Чорли, хотя торговец свининой придерживался на этот счет иного мнения
— Сто пятьдесят долларов — немалые деньги, — протянул он. — Шутка сказать — сто пятьдесят долларов! Я, правда, мало что смыслю в таких финтифлюшках, но мне сдается, полтораста долларов — красная цена за часы с цепкой.
— Вздор! — закричали несколько человек. — Одни часы стоят никак не меньше двухсот. Взгляните на камни!
Чорли положил конец пререканиям.
— Вот что! — сказал он. — Не думаю, чтобы часы стоили больше того, что я за них назначил, сударь, но поскольку вы хотите отыграться, пусть будет двести за часы и цепочку. Это вас устраивает?
— Мечите! — кратко ответил пылкий креол; он выхватил часы из рук Чорли и поставил их на одну из карт.
Дешево обошлись часы Чорли.
Он открыл с полдюжины карт, и часы перешли к нему.
— А во сколько вы оцените это?
Д'Отвиль снял с пальца перстень и протянул его Чорли, который так и впился глазами в брильянт.
Я снова попробовал вмешаться, но д'Отвиль опять не стал меня слушать. Нечего было и пытаться обуздать пламенного креола.
Перстень был алмазный, вернее — в филигранную золотую оправу было вделано несколько брильянтов. Так же как часы, кольцо походило на те, что носят дамы, и я расслышал, как перешептывались остряки: «У молодого повесы, видать, богатая зазноба!», «Спустит этот — другой подарят», и так далее и тому подобное.
Перстень был, вероятно, ценный, потому что Чорли после внимательного осмотра предложил посчитать его в четыреста долларов. Высокий человек с черными бакенбардами опять вступился и заявил, что он стоит все пятьсот. Его поддержали игроки, и банкомет в конце концов согласился дать за кольцо эту сумму.
— Прикажете выдать фишками? — спросил он д'Отвиля. — Или поставите всю сумму сразу?
— Сразу! — последовал ответ.
— Нет, нет! — раздались голоса доброжелателей д'Отвиля.
— Сразу! — решительно повторил д'Отвиль. — Поставьте перстень на туза.
— Как вам будет угодно, сударь, — невозмутимо ответил Чорли, возвращая перстень владельцу.
Д'Отвиль взял перстень в свою тонкую белую руку и положил на середину облюбованной карты. Это была единственная ставка. Другие игроки бросили игру — каждому любопытно было увидеть, чем кончится этот поединок. Чорли начал метать. Каждую карту ожидали с лихорадочным волнением, и когда из коробки показывался край туза, двойки или тройки с широким белым полем, напряжение достигало высшего предела.
Прошло немало времени, прежде чем наконец вышли два туза, словно при такой крупной сумме игра должна была длиться вдвое больше, чем обычно.
Но вот исход решен. Вслед за часами и перстень перешел к Чорли.
Я схватил д'Отвиля за руку и потащил его к выходу. На этот раз он беспрекословно последовал за мной — у него не осталось ничего, ровно ничего, что бы поставить на карту.
— Ах, не все ли равно! — беспечно бросил креол, выходя из зала. — Впрочем, нет, — спохватился он и добавил уже совсем другим тоном: — Нет, не все равно! Вам и Авроре это не все равно!
Глава 59
НАПРАСНАЯ НАДЕЖДА
Как приятно было вырваться из душного зала на свежий воздух, увидеть над собой ночное небо и мягкое сияние луны! Вернее, было бы приятно при иных обстоятельствах, но сейчас самая роскошная южная ночь и самая восхитительная природа не произвели бы на меня никакого впечатления.
Мой спутник, казалось, разделял мое чувство. Слова утешения, которые он говорил мне, смягчали мою душевную боль; я знал, что они идут от чистого сердца. Тому доказательством были его поступки.
Ночь и вправду была чудесная. Светлый диск луны то исчезал, то снова показывался из-за пушистых облачков, разбросанных по темно-синему небу Луизианы, легкий ветерок резвился на затихших улицах города. Чудесная ночь, но слишком мягкая, слишком идиллическая. Мне больше пришлась бы по душе гроза. Как радовался бы я черным тучам, огненной молнии, грохочущим в небе раскатам грома! Как радовался бы завыванию ветра, барабанной дроби дождя! Ураган был бы сродни бушевавшей в моей душе буре.
До отеля было всего несколько шагов, но мы прошли мимо. Куда лучше думать и беседовать на свежем воздухе. Ни я, ни мой спутник не помышляли о сне, поэтому, снова миновав окраину города, мы машинально направились в сторону болот.
Некоторое время мы шагали бок о бок в глубоком молчании. Оба мы думали об одном — о завтрашнем аукционе. Завтрашнем? Нет, уже сегодняшнем: большие часы на соборной башне только что пробили полночь. Через двенадцать часов состоится аукцион, через двенадцать часов мою невесту выведут на помост и продадут с молотка.
Шоссе вело к Ракушечной дороге, и скоро под ногами у нас захрустели двустворчатые и одностворчатые, целые и битые раковины и ракушки. Природа здесь больше гармонировала с нашими мыслями. Вокруг высились темные торжественные кипарисы — эмблема печали, которые казались еще мрачнее под саваном седого испанского мха, свисавшего с их ветвей. Да и здешние звуки тоже успокаивали наши смятенные души. Унылое уханье болотной совы, скрипучий стрекот древесных сверчков и цикад, кваканье лягушек, хриплый трубный глас жабы и высоко над головой пронзительный писк гигантских летучих мышей — все эти голоса смешивались в нестройный концерт, который при других обстоятельствах терзал бы слух, но теперь казался мне чуть ли не музыкой и даже навевал сладкую грусть.
И все же я еще не испил до дна чаши страданий. Еще горшие муки ждали меня впереди. Хоть положение было безнадежно, я все еще цеплялся за смутную надежду. И как бы ни была призрачна эта надежда, она все же поддерживала меня. Возле дороги лежал поваленный кипарис, мы присели на него.
С тех пор как мы вышли из игорного притона, мы не сказали друг другу и двух слов. Я был поглощен мыслью о завтрашнем дне; мой юный спутник, которого я теперь считал верным и испытанным другом, думал о том же самом.
Какое великодушие! Ведь я ему совершенно чужой человек. Какое самопожертвование! Ах, я и не подозревал тогда всей глубины, всего величия этой жертвы!
— Теперь остается последний шанс, — сказал я. — Будем надеяться, что с завтрашней или, вернее, с сегодняшней почтой прибудет мое письмо. Может быть, оно еще поспеет вовремя: почта обычно приходит в десять утра.
— Да, конечно, — рассеянно отвечал д'Отвиль, занятый, видимо, собственными мыслями.
— А если нет, — продолжал я, — остается еще одна надежда — перекупить ее у того, кому она сегодня достанется на торгах. Я уплачу любую сумму, лишь бы…
— Ах! Вот это-то меня и тревожит, — перебил д'Отвиль, выйдя из своей задумчивости. — Об этом-то я и думал сейчас. Боюсь, сударь, очень боюсь, что…
— Говорите!
— Боюсь, что тот, кто купит Аврору, не захочет ее уступить.
— Но почему же? Даже за большие деньги?..
— Да, боюсь, что тот, кто купит Аврору, не захочет уступить ее ни за какие деньги.
— О! Но почему же вы так думаете, д'Отвиль?
— У меня есть основания предполагать, что одно лицо намеревается…
— Кто же?
— Доминик Гайар.
— О Боже! Гайар? Гайар?
— Да, я заключаю это из того, что вы мне говорили, и из того, что знаю сам, ибо я тоже кое-что знаю о Доминике Гайаре.
— Гайар! Гайар! Господи! — бессмысленно твердил я. Страшное известие оглушило меня. Я весь застыл, охваченный каким-то оцепенением, будто грозная опасность нависла надо мной и ничто уже не в силах отвратить ее.
Удивительно, как эта мысль не пришла мне раньше в голову? Я почему-то предполагал, что квартеронка попадет в руки обычного покупателя, который охотно переуступит ее мне за хорошую цену, пусть даже за огромную цену, но ведь со временем я буду в состоянии уплатить любую сумму. Удивительно, как я не подумал, что Гайар захочет купить Аврору! Впрочем, с той минуты, как я узнал о банкротстве Эжени Безансон, я совсем растерялся и не мог рассуждать хладнокровно. А теперь у меня открылись глаза. Это были уже не пустые домыслы и догадки. Несомненно, Гайар станет господином Авроры. Еще до вечера он будет распоряжаться ею, как своей собственностью. Но душа ее… О Боже! Уж не сплю ли я?
— Я и раньше подозревал нечто подобное, — продолжал д'Отвиль. — Я знаю кое-что о семейных делах Безансонов — об Эжени, об Авроре, об адвокате Гайаре. Я и раньше подозревал, что Гайар захочет приобрести Аврору. А теперь, когда вы рассказали мне о сцене в гостиной, я не сомневаюсь в его гнусных намерениях. О, какая низость!.. Мое предположение подтверждает и то, — продолжал д'Отвиль, — что на пароходе находилось доверенное лицо Гайара. Этот человек обычно обделывает для адвоката все подобные делишки — вы его, вероятно, не заметили. Он работорговец — самая подходящая фигура для этой цели. Конечно, он ехал в город, чтобы присутствовать на аукционе и купить эту несчастную для Гайара.
— Но почему… — спросил я, хватаясь как утопающий за соломинку, — почему, если он хотел купить Аврору, он не заключил обычной сделки? Зачем ему понадобилось посылать ее на невольничий рынок?
— Этого требует закон. Невольники обанкротившегося землевладельца должны быть проданы с публичных торгов тому, кто даст за них самую высокую цену. А потом, сударь, хотя Гайар негодяй и мерзавец, но он дорожит общественным мнением и не смеет действовать в открытую. Он лицемер и, творя свои грязные дела, желает сохранить уважение общества. Ведь многие искренне считают Гайара порядочным человеком! Поэтому он и не смеет идти напролом и держится в тени. Во избежание лишних разговоров Аврору купит подставное лицо, этот самый работорговец. Какая мерзость!
— Невообразимая мерзость! Но что, что же делать, чтобы спасти ее от этого ужасного человека? Что делать для моего спасения?..
— Над этим-то я и ломаю голову. Не падайте духом, мсье! Еще не все потеряно. Есть еще одна возможность спасти Аврору. Есть еще одна надежда. Увы! Я тоже изведал горе — я тоже перенес немало… да, немало! Но не в том дело. Не будем говорить о моих печалях, пока несчастны вы. Может быть, когда-нибудь потом вы узнаете больше обо мне и моих горестях, но сейчас довольно об этом! Есть еще одна надежда, и вы и Аврора — вы оба будете счастливы. Так должно быть. Я так решил. Безумный шаг, но ведь и все это разве не безумие? Однако хватит! У меня нет ни минуты времени, надо спешить. Ступайте к себе в отель. Отдохните. Завтра в двенадцать я буду с вами. Итак, в двенадцать в ротонде. Спокойной ночи! Прощайте!
И не успел я попросить объяснения или сказать слово, как креол быстро отошел от меня, повернул в узкую улочку и скрылся из виду.
Размышляя о бессвязных словах д'Отвиля, о его туманных обещаниях и странном поведении, я медленно направился к отелю.
Очутившись в своем номере, я, не раздеваясь, повалился на постель. Но мне было не до сна.
Глава 60
РОТОНДА
Всю эту бессонную ночь в моем мозгу проносились тысячи мыслей, тысячи раз надежда, сомнение и страх сменяли друг друга, и я строил сотни всевозможных планов. Но когда настало утро и в глаза мои ударил яркий свет солнца, я так ничего и не придумал. Все надежды я возлагал на д'Отвиля, ибо я понял, что рассчитывать на почту бесполезно.
Однако, чтобы удостовериться в этом, я, как только наступило утро, еще раз отправился в банк Брауна и Кo. Получив отрицательный ответ, я не почувствовал разочарования — я его предвидел. Когда человек попадает в беду, бывало ли хоть раз, чтобы деньги пришли вовремя? Медленно катятся золотые кружочки, медленно переходят они из рук в руки, и никто не расстается с ними по доброй воле. Почта должна была доставить деньги в срок, но друзья, которым я доверил управление моими делами, видимо, опоздали с отправкой.
«Никогда не доверяйте своих дел друзьям! Никогда не надейтесь получить деньги в обещанный срок, если вы поручили отправку их другу!» — так сетовал я, покидая Брауна и Кo.
Было уже двенадцать часов, когда я вернулся на рю Сен-Луи. Но я не пошел в гостиницу, а направился прямо в ротонду.
Перо не в силах описать мрачные чувства, терзавшие мою душу, когда я ступил под ее высокие своды. Сколько я себя помню, никогда не испытывал я ничего подобного.
Мне случалось стоять под сводами кафедрального собора, и благоговейный трепет охватывал меня перед его величием; я бывал в раззолоченных залах королевского дворца, и два чувства боролись во мне — жалость и презрение: жалость к рабам, на чьих костях воздвигались эти хоромы, и презрение к теснившимся вокруг низкопоклонникам и льстецам: я посещал темные тюремные камеры, и сердце мое сжималось от сострадания, но ни одно из этих зрелищ не произвело на меня такого удручающего впечатления, как то, которое теперь представилось моим глазам.
Это место не было священным. Наоборот, оно было осквернено самым гнусным кощунством. Здесь был знаменитый новоорлеанский невольничий рынок, где людей, их тело и даже душу, продавали и покупали с торгов!
Эти стены были свидетелями многих жестоких и мучительных разлук. Здесь мужа отрывали от жены, дитя — от матери. Как часто горькие слезы орошали эти мраморные плиты, как часто под высокими сводами раздавались тяжкие вздохи, и не только вздохи, но и крики разбитых сердец!
Я уже сказал, что, когда вошел под своды этого обширного зала, душа моя была полна самых мрачных чувств. И неудивительно, что сердце у меня сжалось при виде открывшейся передо мной картины.
Вы, вероятно, надеетесь, что я подробно опишу ее вам. Но вас ждет разочарование: я не в силах этого сделать. Если бы я пришел сюда как праздный зритель, как холодный репортер, которого не трогает то, что происходит перед его глазами, я заметил бы все подробности и пересказал бы их вам. Но дело обстояло совсем не так. Меня преследовала одна-единственная мысль, мои глаза искали только одно лицо, и это мешало мне следить за тем, что происходит вокруг.
Кое-что все-таки сохранилось у меня в памяти. Так, я помню, что ротонда, отвечая своему названию, была большим круглым залом с полом, выложенным мраморными плитами, со сводчатым потолком и белыми стенами. Окон в ней не было, и она освещалась сверху. В глубине на помосте стояло что-то вроде кафедры, а возле нее большая каменная глыба кубической формы. Я сразу отгадал назначение этих предметов.
Вдоль стены тянулся выступ в виде каменной скамьи. Назначение его я также понял без труда.
Когда я вошел, в зале собралось уже много народу. Публика пришла самая разношерстная, всех возрастов и сословий. Люди стояли кучками, непринужденно разговаривая, точно собрались для какой-то церемонии или забавы и ждут начала. По поведению присутствующих было видно, что предстоящее дело не настраивает их на торжественный лад; наоборот, судя по грубым шуткам и взрывам громкого смеха, поминутно раздававшимся в зале, можно было предположить, что они ждут какого-то развлечения.
Однако здесь была группа людей, резко выделявшаяся среди шумной толпы. Эти люди теснились на каменной скамье или возле нее, сидели на корточках или стояли, прислонившись к стене во всевозможных позах. Их черная или бронзовая кожа, густые курчавые волосы, грубые красные башмаки, одежда из дешевых хлопчатобумажных тканей, окрашенных в коричневый цвет соком катальпы, — все эти характерные черты отличали их от остальных людей, собравшихся в зале; это были существа из другого мира.
Но даже независимо от различия в одежде или цвета кожи, от толстых губ, широких скул и курчавых волос можно было сразу сказать, что люди, сидевшие на каменной скамье, были в совсем ином положении, чем те, что расхаживали по залу. Одни громко разговаривали и весело смеялись, тогда как другие сидели молчаливые и удрученные. Одни выступали с видом победителей, другие застыли с безнадежностью пленников, устремив в одну точку унылый взгляд. Одни были господа, другие — рабы! Это были невольники с плантации Безансонов.
Все молчали или переговаривались шепотом. Большинство казались встревоженными. Матери сидели, нежно прижимая к груди своих малюток, шептали им ласковые слова и старались их убаюкать. Порой, когда материнское сердце сжималось от страха, крупная слеза скатывалась по смуглой щеке. Отцы смотрели на них застывшими от скорби глазами, с выражением беспомощности и отчаяния на суровых лицах; они знали, что не в силах изменить свою участь, не в силах отвратить удар, какое бы решение ни приняли окружавшие их бессердечные негодяи.
Впрочем, не все были печальны и напуганы. Кое-кто из молодых невольников, юношей и девушек, разоделся в яркие костюмы и платья с оборками, складочками и лентами. Эти, по-видимому, не тревожились о будущем и даже казались довольными; они весело смеялись, переговариваясь друг с другом, а иногда даже перекидывались словечком с кем-нибудь из белых. Перемена хозяина не казалась им такой уж страшной после того обращения, какому они подвергались последнее время. Некоторые из них ожидали перемены даже с радостной надеждой. Так были настроены молодые франты и светлокожие красавицы с плантации. Быть может, они останутся в этом городе, о котором они столько слышали; быть может, их ждет здесь более светлое будущее. Трудно представить, что оно будет безотраднее, чем их недавнее прошлое.
Я окинул беглым взглядом всю группу, но сразу же увидел, что Авроры там нет. Трудно было спутать ее с кем-либо из этих людей. Ее здесь не было. Благодарение Небу! Оно избавило меня от этого унижения. Аврора, наверно, где-нибудь поблизости, и ее приведут, когда до нее дойдет очередь.
Я не мог примириться с мыслью, что ее выставят напоказ, что ее коснутся грубые и оскорбительные взгляды, а может, и оскорбительные замечания толпы. Однако это испытание еще предстояло мне.
Я решил не подходить к невольникам: я знал их непосредственность и предвидел, какую это вызовет сцену. Они встретят меня приветствиями и мольбами, и их громкие голоса привлекут ко мне внимание всех присутствующих.
Чтобы этого избежать, я стал позади кучки людей, загородившей меня от невольников, и, наблюдая за входом в зал, поджидал д'Отвиля. Теперь он был моей последней и единственной надеждой.
Я невольно следил за всеми, кто входил или выходил из зала. Тут были, конечно, только мужчины, но самой разнообразной внешности. Вот, например, типичный работорговец, долговязый детина с грубым лицом барышника, одетый как попало, в свободной куртке, в широкополой, свисающей на глаза шляпе, грубых башмаках и с арапником из сыромятной кожи — эмблемой его профессии.
Ярким контрастом ему служил молодой, изящно одетый креол в парадном костюме: в сюртуке вишневого или голубого цвета с золотыми пуговицами, в присобранных у пояса брюках, в прюнелевых башмаках, в рубашке с кружевным жабо и брильянтовыми запонками.
Был там и образец креола постарше — в широких светлых панталонах, нанковом жакете того же цвета и в шляпе из манильской соломы или в панаме на белоснежных, коротко остриженных волосах.
Был и американский торговец во фраке из черного сукна, блестящем черном атласном жилете, в брюках из той же материи, что и фрак, в опойковых башмаках и без перчаток.
Был и расфранченный стюард с парохода или приказчик из магазина — в полотняном сюртуке, белоснежных парусиновых брюках и палевой касторовой шляпе с длинным ворсом. Здесь можно было увидеть выхоленного толстяка-банкира; самодовольного адвоката, не такого надутого и чинного, как у себя в конторе, а пестро разодетого; речного капитана, утратившего свой суровый вид; богатого плантатора из долины Миссисипи; владельца хлопкоочистки. Все эти типы и другие, но столь же выразительные фигуры составляли толпу, заполнившую ротонду.
В то время как я стоял, рассматривая их разнообразные лица и костюмы, в зал вошел рослый коренастый человек с красным лицом, в зеленом сюртуке. В одной руке он держал пачку бумаг, а в другой — небольшой молоток слоновой кости с деревянной ручкой, указывавший на его профессию.
При его появлении толпа загудела и зашевелилась. Я услышал слова. «Вот он!», «Он пришел!», «Вон идет майор!»
Присутствующим не надо было объяснять, кто этот человек. Жители Нового Орлеана прекрасно знали майора Б. — знаменитого аукциониста. Он являлся такой же достопримечательностью Нового Орлеана, как прекрасный храм Святого Карла.
Через минуту круглое, благодушное лицо майора появилось над кафедрой, несколько ударов его молотка восстановили тишину, и торги начались.
* * *
Сципиона поставили на каменную глыбу первым. Толпа покупателей обступила его; ему щупали ребра, хлопали его по ляжкам, как если бы он был откормленным быком, открывали ему рот и разглядывали зубы, словно лошади, и называли цену.
В другое время я почувствовал бы жалость к несчастному малому, но сейчас сердце мое было переполнено, в нем не осталось места для бедного Сципиона, и я отвернулся от этого возмутительного зрелища.
Глава 61
НЕВОЛЬНИЧИЙ РЫНОК
Я снова уставился на дверь, пристально рассматривая каждого входящего в зал. Д'Отвиль все не появлялся. Он, конечно, скоро придет. Он сказал, что будет в двенадцать, но пробило час, а его все нет.
Наверно, он скоро явится, он не опоздает. В сущности, мне было рано тревожиться: имя Авроры стояло последним в списке. Оставалось еще много времени. Я вполне полагался на моего нового друга, хотя и мало мне знакомого, но уже испытанного. Своим поведением прошлой ночью он полностью завоевал мое доверие. Он не обманет меня. Его опоздание не поколебало моей веры. Очевидно, когда он доставал деньги, ему встретились какие-то затруднения, ведь я надеялся, что он выручит меня. Он сам намекал на это. Вот что задержало его, но он еще подоспеет. Он знает, что ее имя стоит последним в списке — под № 65.
Несмотря на мое доверие к д'Отвилю, я был очень встревожен. Да это и понятно. Я не спускал глаз с двери, каждую минуту надеясь его увидеть.
Позади меня раздавался тягучий голос аукциониста, монотонно повторявший все те же фразы; время от времени его прерывал резкий стук молотка. Я знал, что торги уже в полном разгаре, а частые удары молотка говорили о том, что они неуклонно подвигаются вперед. Хотя пока было продано только с полдюжины рабов, я с тревогой думал, что список быстро уменьшается и скоро — увы, слишком скоро! — наступит и ее черед. При этой мысли сердце бешено колотилось у меня в груди. Только бы д'Отвиль не обманул меня!
Неподалеку стояла кучка хорошо одетых молодых людей; все они, по-видимому, происходили из знатных креольских семей. Они весело болтали, и я ясно слышал их разговор.
Я, наверно, не обратил бы внимания, если бы один из них не назвал фамилии Мариньи, которая показалась мне знакомой. У меня сохранилось неприятное воспоминание об этой фамилии: Сципион рассказывал мне, что какой-то Мариньи хотел купить Аврору. Я сразу вспомнил это имя.
Теперь я стал прислушиваться.
— Итак, Мариньи, вы решили купить ее? — спрашивал один из собеседников.
— Да, — отвечал молодой щеголь, одетый по последней моде и с некоторым фатовством. — Да-а, да-а, — продолжал он, томно растягивая слова, и, поправив сиреневые перчатки, стал помахивать тросточкой. — Это верно… Я думаю ее купить…
— Сколько же вы за нее дадите?
— Гм… Не слишком большую сумму, дорогой мой.
— За небольшую сумму вы ее не получите, — возразил первый. — Я знаю уже человек пять, которые будут добиваться ее, и все они чертовски богаты.
— Кто они такие? — спросил Мариньи, сразу теряя свое томное равнодушие. — Кто такие, позвольте вас спросить?
— Кто? Пожалуйста! Гардет — зубной врач, он прямо сходит по ней с ума. Затем старый маркиз. Потом плантаторы Виларо и Лебон из Лафурша, да еще молодой Моро — винный торговец с рю Дофин. А кто знает, сколько богатых янки-хлопководов захотят взять ее себе в экономки! Ха-ха-ха!
— Я могу назвать еще одного, — заметил третий собеседник.
— Кого? — спросило несколько голосов. — Может, себя самого, Ле Бер? Вам, кажется, нужна швея, чтобы пришивать пуговицы к вашим рубашкам?
— Нет, не себя, — возразил тот. — Я не собираюсь покупать швею за такие бешеные деньги. Она стоит не меньше двух тысяч долларов, друзья мои. Нет, нет! Я найду себе швею подешевле.
— Кого же тогда? Скажите!
— С полной уверенностью могу назвать старого сморчка Гайара.
— Гайара — адвоката?
— Как, Доминик Гайар?
— Не может быть! — возразил третий. — Гайар — человек строгих правил, уравновешенный, скупой.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Ле Бер. — Я вижу, господа, вы совершенно не представляете себе характера Гайара. Я знаю его получше вас. Он, конечно, скупец, вообще говоря, но есть вещи, на которые он не жалеет денег. У него было, наверно, с десяток любовниц. Кроме того, вы знаете, что он холостяк и ему нужна хорошая экономка или служанка. Да, друзья мои, я кое-что слышал об этом. И готов биться об заклад, что этот скупец перебьет цену каждого из вас, даже самого Мариньи!
Мариньи стоял, кусая губы. Но он чувствовал лишь досаду или разочарование, я же испытывал смертельную муку. Я не сомневался, о ком идет речь.
— Банкротство было объявлено по иску Гайара? — спросил первый собеседник.
— Так говорят.
— Но ведь он считался старым другом семьи, доверенным лицом старика Безансона?
— Ну да, его советчиком и адвокатом. Xa-xal — многозначительно рассмеялся другой.
— Бедная Эжени! Теперь она уж не будет первой красавицей в округе. И ей не придется корчить из себя разборчивую невесту.
— Это послужит вам утешением, Ле Бер, ха-ха!
— О, последнее время у Ле Бера было мало шансов, — вставил третий. — Говорят, ее фаворитом стал молодой англичанин, тот самый, что приплыл с ней к берегу после взрыва на «Красавице». Так мне, по крайней мере, передавали. Это правда, Ле Бер?
— Вы бы лучше спросили у Эжени Безансон, — ответил Ле Бер с раздражением, и все засмеялись.
— Уж я бы спросил, — продолжал его собеседник, — да не знаю, как ее найти. Где она сейчас? Ее нет на плантации. Я заезжал туда, но мне сказали, что два дня назад она уехала. Нет ее и у тетки. Где же она, господа?
Я с интересом ждал ответа на этот вопрос. Я тоже не знал, где находится Эжени, и еще сегодня пытался ее разыскать, но тщетно! Говорили, что она приехала в город, но никто не мог сказать, где она остановилась. Я вспомнил, что она писала мне о монастыре Сакре-Кёр. Быть может, думал я, она действительно ушла в монастырь? Бедная Эжени!
— В самом деле, господа, где же она? — спросил другой.
— Очень странно! — заметил третий. — Где она может быть? Ле Бер, вы, наверно, знаете?
— Я понятия не имею о действиях мадемуазель Безансон, — ответил молодой человек с досадой и недоумением; по-видимому, он и вправду ничего не знал о ней и был оскорблен замечаниями своих собеседников.
— Тут кроется какая-то тайна, — сказал один из них. — Я был бы очень удивлен, если бы это касалось кого-нибудь другого, но с Эжени Безансон ничему не приходится удивляться.
Нечего и говорить, что этот разговор очень заинтересовал меня. Каждое слово жгло меня будто каленым железом, и я готов был броситься и задушить этих болтунов. Они и не подозревали, что «молодой англичанин» стоял возле них и слышал их беседу, не знали, какое ужасное впечатление производят на него их слова.
Меня терзали не их рассуждения об Эжени, но нескромные отзывы об Авроре. Я не стану повторять здесь грубые шутки на ее счет, непристойные намеки, низкие предположения и язвительные насмешки над ее невинностью.
Один из собеседников, некий Севинье, был особенно отвратителен, и раза два я чуть не бросился на него. С большим трудом мне удалось себя побороть. Не знаю, долго ли я выдержал бы эту пытку, но тут произошло событие, которое сразу вытеснило у меня из головы и этих сплетников и их гнусную болтовню: в зал вошла Аврора.
Они как раз снова заговорили о ней — о ее скромности и необыкновенной красоте. Они спорили о том, кому она достанется, и уверяли, что, кто бы ни стал ее хозяином, он сделает ее своей наложницей. Они разгорячились, описывая ее прелести, и начали заключать пари, чем кончатся торги, как вдруг спор их прервали слова:
— Смотрите, смотрите! Вот она!
Я невольно обернулся. В дверях стояла Аврора.
Глава 62
МОЮ НЕВЕСТУ ПРОДАЮТ С ТОРГОВ
Да, Аврора показалась в дверях этого проклятого зала и робко остановилась на пороге.
Она была не одна. Рядом с ней стояла девушка-мулатка, тоже невольница и, как Аврора, тоже приведенная на продажу.
С ними вместе вошел еще один человек — вернее, он ввел их в зал, так как шел впереди, — и сразу направился к месту торгов. Это был не кто иной, как Ларкин, жестокий надсмотрщик.
— А ну, пошевеливайтесь! — грубо сказал он, оборачиваясь к ним. — Живее, девушки! Идите за мной!
Они послушались его грубого окрика и, войдя в зал, направились за ним к помосту.
Я стоял, опустив голову и надвинув шляпу на глаза. Аврора меня не видела. Как только они прошли мимо, я повернулся и посмотрел им вслед. О прекрасная Аврора! Прекрасная, как всегда!
Не я один восхищался ею. Появление квартеронки произвело сенсацию. Гомон стих, как по сигналу. Громкие разговоры смолкли, и все глаза были прикованы к ней, пока она шла через зал. Кто стоял далеко, спешил протиснуться поближе, чтобы лучше разглядеть ее; другие почтительно расступались перед ней, будто перед королевой. И так вели себя те, кто никогда не стал бы оказывать уважение другой женщине ее расы, хотя бы девушке-мулатке, что шла с ней рядом. О красота! Никогда твое могущество не проявлялось с такой силой, как при появлении этой бедной невольницы.
Я слышал удивленный шепот, видел восхищенные и наглые взгляды, которые следили за ней и ловили каждое движение ее стройного тела, когда она проходила мимо.
Все это терзало меня сильнее, чем муки ревности, которые я недавно испытал. Грубость моих соперников удесятеряла мои страдания.
Аврора была очень скромно одета. Она не постаралась принарядиться, как ее более смуглая спутница, платье которой украшало множество оборок и лент. Такое кокетство противоречило бы выражению гордой печали на ее прекрасном лице.
Платье из светлого муслина, сшитое просто и со вкусом, с длинной юбкой и узкими рукавами, какие носили в то время, подчеркивало женственные очертания ее фигуры. Мадрасский клетчатый платок, повязанный в виде тюрбана — головной убор всех квартеронок, — казался короной над ее высоким лбом. Его красные, зеленые и желтые клетки красиво оттеняли ее черные, как смоль, волосы. На ней не было никаких драгоценностей, кроме двух золотых колец в ушах, которые своим блеском подчеркивали ее яркий румянец, а на пальце золотое колечко — знак ее помолвки. Как хорошо я знал его!
Я спрятался в толпу и надвинул шляпу так, что лицо мое не было видно со стороны помоста. Мне не хотелось, чтобы она меня заметила, но сам я не мог оторвать от нее глаз. В то же время я продолжал следить за дверью в зал. Отсутствие д'Отвиля начинало меня сильно тревожить.
Аврору поставили около помоста. Поверх толпы я видел краешек ее тюрбана, а если становился на цыпочки, то видел и лицо; к счастью, она стояла ко мне вполоборота. Ах, как больно сжималось мое сердце, когда я старался понять выражение ее лица, когда пытался прочесть ее мысли!
Она казалась печальной и встревоженной, и это было вполне естественно. Но мне хотелось увидеть на ее лице другое выражение — нетерпеливое ожидание, в котором страх сменяется надеждой.
Глаза ее блуждали по толпе. Она всматривалась в окружавшие ее лица. Она кого-то искала. Не меня ли?
Когда она смотрела в мою сторону, я опускал голову. Я не решался встретить ее взгляд. Я боялся, что не удержусь и заговорю с ней. Любимая Аврора!
Я опять взглянул на нее. Глаза ее по-прежнему искали кого-то. Ах, конечно, меня! Я снова скрылся в толпе, и взгляд ее скользнул мимо.
Но тут я вновь посмотрел на нее. Лицо ее омрачилось. Глаза словно потемнели — в них светилось отчаяние.
«Мужайся, Аврора! — шепнул я про себя. — Взгляни сюда еще раз, любимая! Теперь я встречу твой взор. Мои глаза будут говорить с тобой. Я отвечу на твой призыв».
Она смотрит… Она узнала меня! Радость блеснула в ее глазах. Улыбка тронула уголки ее губ. Глаза ее больше не блуждают — они смотрят в мои… О, верное сердце! Она искала меня!
Да, глаза наши встретились наконец и засветились горячей любовью. На минуту я потерял власть над собой, я не мог оторвать взгляда от нее и весь отдался своему чувству. И она — тоже. Я не сомневался в этом. Я почувствовал, как между нами протянулся луч любви, и сразу забыл, где я нахожусь.
Ропот и движение толпы заставили меня очнуться. Окружающие заметили ее пристальный взгляд, и многие, умеющие читать подобные взгляды, поняли его значение. Они стали оборачиваться, отыскивая того, кто был ее избранником. Я вовремя заметил это движение и отвернулся.
По-прежнему я смотрел на дверь и ждал д'Отвиля. Почему его все нет? Моя тревога усиливалась с каждой минутой.
Правда, пройдет еще час, а может, и два, пока настанет ее очередь… Но что это?..
Внезапно наступила тишина — по-видимому, толпу что-то заинтересовало… Я взглянул на помост, чтобы узнать, в чем дело. Какой-то чернявый человек поднялся на ступеньки и шептался с аукционистом.
Они говорили очень недолго. Казалось, человек о чем-то попросил и, получив согласие, отошел на свое прежнее место в толпе.
Прошла минута, и вдруг, к своему удивлению и ужасу, я увидел, что надсмотрщик взял Аврору за руку и помог ей подняться на камень. Все было ясно: следующей будут продавать ее.
Я не могу теперь припомнить, что делал в первые минуты.
Как безумный бросился я к выходу и высунулся за дверь. Я глядел направо и налево, всматриваясь в прохожих. Д'Отвиля не было.
Я кинулся обратно, пробиваясь сквозь толпу, окружавшую помост.
Торги уже начались. Я не слышал вступительных фраз, но когда подошел, над ухом у меня прозвучали ужасные слова:
— Тысячу долларов за квартеронку! Дают тысячу долларов!
«О Небо! Д'Отвиль обманул меня! Она погибла! Погибла!»
В отчаянии я хотел прервать торги. Я решил громко объявить, что они незаконны, так как нарушен порядок продажи, указанный в объявлении. В этом я видел последнюю надежду. Это была соломинка, за которую хватается утопающий, но я решил попытаться.
С губ моих чуть не сорвался возглас протеста, но тут я почувствовал, что кто-то тянет меня за рукав, и обернулся. Это был д'Отвиль. Слава Создателю, это был д'Отвиль!
Я едва удержался от радостного крика. Взгляд его сказал мне, что он принес деньги.
— Еще не поздно, но нельзя терять ни минуты, — прошептал он, всовывая мне в руку бумажник. — Здесь три тысячи долларов, их должно хватить. Это все, что мне удалось достать. Я не могу оставаться с вами: тут есть люди, с которыми я не хочу встречаться. Увидимся после торгов.
Я едва успел поблагодарить его. Я не видел, как он ушел: глаза мои были заняты другим.
— Тысячу пятьсот долларов за квартеронку, прекрасную экономку и швею! Тысячу пятьсот долларов!
— Две тысячи! — крикнул я хриплым от волнения голосом.
Такая большая надбавка привлекла ко мне внимание толпы. Люди обменивались многозначительными взглядами, улыбками и отпускали шутки по моему адресу.
Я не замечал их, вернее — не обращал на них никакого внимания. Я видел только Аврору, стоявшую на возвышении, как статуя на пьедестале, — воплощение печали и красоты. Чем скорее я уведу ее отсюда, тем лучше. Вот почему я сразу назвал большую сумму.
— Дают две тысячи долларов! Две тысячи! Две тысячи сто? Дают две тысячи сто. Кто больше? Две тысячи двести? Две тысячи двести!
— Две тысячи пятьсот! — снова крикнул я как можно тверже.
— Две тысячи пятьсот долларов! — повторил аукционист, монотонно растягивая слова. — Две тысячи пятьсот! Кто больше? Шестьсот, сэр? Хорошо, благодарю вас. Две тысячи шестьсот долларов за квартеронку! Две шестьсот!
«О Боже! Они могут дать больше трех тысяч, и тогда…»
— Две тысячи семьсот! — крикнул щеголь Мариньи.
— Две тысячи восемьсот! — отозвался старый маркиз.
— Две тысячи восемьсот пятьдесят! — добавил молодой торговец Моро.
— Девятьсот! — бросил чернявый человек, который шептался с аукционистом.
— Дают две тысячи девятьсот! Две девятьсот!
— Три тысячи! — крикнул я в отчаянии, сдавленным голосом.
Это была моя последняя ставка.
Я ждал, что будет дальше, как приговоренный ждет, когда на шею ему опустится топор или когда палач выбьет скамью у него из-под ног. Сердце мое не вынесло бы долго такого напряжения. Но ждать пришлось недолго.
— Три тысячи сто долларов! Дают три тысячи сто!
Я бросил взгляд на Аврору. В нем было безнадежное отчаяние, и повернувшись, я, шатаясь, побрел через зал.
Не успел я дойти до дверей, как услышал, что монотонный голос аукциониста, все так же растягивая слова, прокричал:
— Три тысячи пятьсот за квартеронку!
Я остановился и стал слушать. Торг, по-видимому, близился к концу.
— Три тысячи пятьсот — раз! Три тысячи пятьсот — два! Три тысячи пятьсот — три!
Раздался резкий удар молотка. Он прозвучал одновременно со словом «продана», которое смертельной болью отдалось в моем сердце.
В зале поднялись шум и суета; слышались взволнованные и сердитые возгласы разочарованных покупателей. Кто же был счастливый победитель?
Я взглянул поверх толпы. Высокий чернявый человек разговаривал с аукционистом. Аврора стояла возле него.
Теперь я вспомнил, что видел его на пароходе: это был тот самый агент, о котором говорил д'Отвиль. Молодой креол предвидел, чем все это кончится. Он был прав. Прав был и Ле Бер.
Гайар перебил ее у всех прочих претендентов!
Глава 63
НАЕМНЫЙ ЭКИПАЖ
Некоторое время я стоял как потерянный, без мысли, без цели. Закон, всеми признанный позорный закон отнял у меня ту, кого я любил и которая меня любила. Ее безжалостно оторвали от меня, похитили на моих глазах, и я, быть может, никогда ее больше не увижу. Да, очень возможно, что я больше не увижу Аврору! Она потеряна для меня, более безнадежно потеряна, чем если бы стала невестой другою. Тогда она, по крайней мере, была бы свободна в своих мыслях и поступках. Тогда я мог бы надеяться снова встретить ее, увидеть хотя бы издали, безмолвно поклоняться ей в своем сердце, утешать себя мыслью, что она еще любит меня. Да, будь она невестой, даже женой другого, я перенес бы это спокойнее. Но теперь она ста— нет не женой другого, а его рабыней, он насильно сделает ее своей наложницей. И будет ее господином… О! Сердце мое разрывалось от этих дум.
Что же делать? Как мне поступить? Покориться судьбе? Оставить всякие попытки помочь ей… вернее, спасти ее?
Нет, еще не все потеряно! Как ни мрачно было наше будущее, все же оставался слабый луч надежды; этот луч поддерживал меня и вливал в меня новые силы для дальнейшей борьбы.
У меня еще не было готового плана, но зато была ясная цель: освободить Аврору и соединиться с ней, несмотря ни на какие опасности. Я больше не надеялся выкупить ее. Я знал, что ее хозяином стал Гайар, и понимал, что теперь купить ее невозможно. Он заплатил за нее огромную сумму и ни за какие деньги не расстанется с ней. Да на это не хватило бы и всего моего состояния. Я даже не стал и думать о выкупе, зная, что это бесполезно.
У меня в голове созревало теперь новое решение, воскрешая угасшую было надежду. Я сказал — созревало! Нет, к тому времени, когда голос аукциониста замолк, произнеся заключительные слова, оно уже созрело. Когда прозвучал удар молотка, я уже принял его. Цель была ясна, оставалось только наметить план действий. Я решил нарушить закон и стать вором или разбойником — кем угодно будет судьбе сделать меня. Я задумал похитить мою невесту!
Мне грозили позор, лишение свободы, даже смерть. Но позор не пугал меня, и я не думал об опасностях. Выбор мой был сделан, решение принято.
Я недолго раздумывал, прежде чем принять его, тем более что оно и раньше приходило мне в голову, а теперь я понимал, что у меня нет иного средства спасти Аврору. Это было единственное, что мне оставалось, иначе мне пришлось бы уступить без борьбы ту, кого я любил больше всего на свете. А я никому не собирался ее уступать. Позор, даже самая смерть меньше меня страшили, чем разлука с ней.
У меня еще не было никакого плана. Об этом можно будет подумать потом, но действовать надо немедленно. Мое бедное сердце разрывалось от горя при мысли, что Аврора проведет хотя бы одну ночь под кровлей этого негодяя.
Где бы она ни была сегодня ночью, я твердо решил находиться поблизости от нее. Пускай нас разделяют стены, но Аврора должна знать, что я тут, недалеко. Это решение заменило пока всякий план.
Отойдя в сторону, я вынул записную книжку и быстро написал:
«Жди меня сегодня вечером. Эдвард».
У меня не было времени вдаваться в подробности; ее каждую минуту могли увезти. Вырвав листок, я сложил его и стал у выхода из ротонды.
К дверям подкатил наемный экипаж и остановился прямо против входа. Поняв его назначение, я, не теряя времени, нанял себе другой у ближайшей стоянки и поспешил обратно. Я вернулся как раз вовремя. Когда я входил в зал, Аврору уводили с помоста.
Смешавшись с толпой, я стал в таком месте, где Аврора должна была пройти мимо меня. Когда она поравнялась со мной, руки наши встретились, и я сунул ей записку. Я не успел шепнуть ни слова, ни даже нежно пожать ей руку — ее быстро провели через толпу, и дверца кареты захлопнулась.
Аврору сопровождали девушка-мулатка и еще одна невольница. Все они сели в карету. Работорговец вскарабкался на козлы к кучеру, и экипаж запрыгал по камням мостовой.
Я кивнул своему вознице, и он, взмахнув кнутом, последовал за ним.
Глава 64
В БРИНДЖЕРС
Извозчики в Новом Орлеане достаточно сообразительны, и звон лишней серебряной монеты звучит для них заманчиво и убедительно. Им приходится быть свидетелями разнообразных романтических похождений и хранителями многих любовных тайн. В ста ярдах от нас ехал экипаж, увозивший Аврору, то поворачивая за угол, то обгоняя фуры, груженные кипами хлопка или бочками с сахаром, но мой возница зорко следил за ним, и мне нечего было беспокоиться.
Он поехал по рю Шартр и вскоре свернул в один из переулков, идущих от нее под прямым углом к набережной. Сначала я подумал, что экипаж направляется к пристани, но, добравшись до угла, увидел, что, проехав пол-улицы, он остановился. Мой возница, с которым я заранее обо всем договорился, придержал лошадей и стал за углом, ожидая дальнейших приказаний.
Экипаж, за которым мы следили, остановился против какого-то дома; выглянув из-за угла, я увидел, как несколько человек пересекли тротуар и исчезли в подъезде. Несомненно, все ехавшие в экипаже, в том числе и Аврора, вошли в этот дом.
Затем из дома вышел человек и, заплатив кучеру, вернулся обратно. Кучер подобрал вожжи, взмахнул кнутом, экипаж повернул снова выехал на рю Шартр. Когда он проезжал мимо меня, я заглянул в окно: там никого не было. Значит, Аврора вошла в дом вместе со всеми.
Теперь я знал, куда ее привезли. На углу я прочитал: «Рю Бьенвиль». Дом, перед которым остановился экипаж, был городским жилищем Доминика Гайара.
Несколько минут я сидел в карете, раздумывая о том, что мне делать дальше. Будет ли она теперь жить здесь? Или ее привезли сюда на время, а затем снова отправят на плантацию?
Внутренний голос подсказывал мне, что ее не оставят на рю Бьенвиль, а отправят в старый, унылый дом в Бринджерсе. Нe знаю, почему я так думал. Быть может, потому, что мне этого хотелось.
Я решил, что мне нужно караулить здесь, чтобы ее не увезли без моего ведома. Куда бы ее ни отправили, я решил следовать за ней.
К счастью, я мог пуститься в любое путешествие. При мне были три тысячи долларов, данные мне д'Отвилем. С такими деньгами можно ехать хоть на край света.
Я жалел, что со мной нет молодого креола. Мне не хватало его советов и его общества. Как теперь его найти? Он не сказал, где мы увидимся, только обещал встретиться со мной после торгов. У выхода из ротонды я его не видел. Хотел ли он прийти за мной туда или в гостиницу? Но сейчас я не мог покинуть свой пост, чтобы пойти его разыскивать.
Я все раздумывал, как мне дать знать д'Отвилю. Но тут мне пришло в голову, что мой возница мог бы последить за домом, пока я пойду на поиски креола. Стоит мне только заплатить ему, и он охотно согласится.
Я уже начал объяснять ему свои намерения, когда услышал стук колес по мостовой. Оглянувшись, я увидел, что на рю Бьенвиль въезжает старомодная карета, запряженная парой мулов. На козлах сидел кучер-негр.
Это было обычным явлением в Новом Орлеане; подобные колымаги, запряженные либо лошадьми, либо мулами, с неграми на козлах, постоянно встречались на здешних улицах. Но этих мулов и этого негра я сразу узнал.
Да, я узнал эту упряжку. Я часто встречал ее на дороге возле Бринджерса. Она принадлежала Доминику Гайару!
Я тут же убедился в этом, увидев, что колымага остановилась перед его домом. Сразу отказавшись от намерения разыскивать д'Отвиля, я забился в угол кареты, чтобы наблюдать в окно за тем, что происходит на рю Бьенвиль.
По-видимому, в этой колымаге кто-то собирался уехать. Дверь в дом осталась открытой, и слуга разговаривал с кучером. По движениям негра было видно, что он намерен скоро трогать.
Снова появился слуга, нагруженный вещами, и стал укладывать их на крышу кареты; за ним вышел мужчина — я узнал работорговца — и взобрался на козлы; вскоре появился еще мужчина, но он так поспешно перебежал тротуар и скрылся в карете, что я не успел его разглядеть; однако я дога— дался, кто он. Потом из дома вышли две женщины: пожилая мулатка и девушка; несмотря на то что она была тщательно закутана в плащ, я узнал Аврору. Мулатка усадила Аврору в карету, а затем и сама села с ней. В эту минуту на улице показался верховой; он подъехал и остановился возле кареты. Поговорив с кем-то, сидевшим внутри, он снова тронул лошадь и ускакал вперед. Этот верховой был надсмотрщик Ларкин.
Дверца захлопнулась, щелкнул кнут, карета, громыхая, покатила по улице и вскоре свернула вправо, на береговую дорогу.
Мой кучер, следуя данному ему приказанию, хлестнул лошадь и двинулся следом, держась на некотором расстоянии.
Мы проехали длинную Чупитулас-стрит, миновали предместье Мариньи и уже оставили за собой полдороги до местечка Лафайет, когда я наконец подумал: куда же я еду? До сих пор я только старался не потерять из виду карету Гайара. Теперь я спросил себя: зачем я еду за ним? Не собираюсь же я преследовать его в наемном экипаже до самого дома, за тридцать миль от города?
Если бы я даже и принял такое решение, еще неизвестно, как отнесется к этой затее мой возница и выдержит ли его заморенная кляча столь долгий путь.
Зачем же я гонюсь за ними? Чтобы напасть на них по дороге и отнять Аврору? Но ведь их трое мужчин, и, вероятно, они хорошо вооружены, а я один!
Но я успел уже проехать несколько миль, прежде чем понял, как нелепа эта погоня. Теперь я приказал кучеру остановиться. Некоторое время я сидел в экипаже, продолжая следить из окна за удалявшейся каретой, пока она не скрылась из глаз за поворотом.
«А все же, — сказал я себе, — я правильно сделал, что последовал за ней. По крайней мере, я знаю, куда ее повезли».
— А теперь — назад, в гостиницу «Сен-Луи»!
Последние слова относились к кучеру, который повернул лошадь и поехал обратно.
Я пообещал хорошо заплатить ему, если он поторопится, и вскоре колеса моего экипажа уже гремели по мостовой на pю Сен-Луи.
Расплатившись с возницей, я вошел в гостиницу. К своей радости, я застал там д'Отвиля, который дожидался меня. Не прошло и нескольких минут, как я уже посвятил его в свое намерение похитить Аврору.
Верный и преданный друг! Он одобрил мое решение и предложил мне свою помощь.
Тщетно предупреждал я его об опасности этого предприятия. С непонятной горячностью, очень меня удивившей, он настаивал на том, что будет сопровождать меня и разделит со мной все опасности.
Быть может, отговаривая его, мне следовало бы проявить большую твердость, но я понимал, насколько мне необходима его помощь.
Не могу передать, какую уверенность придавало мне одно присутствие этого юного, но мужественного креола. Я против собственного желания убеждал его отказаться от своего намерения. В душе я жаждал, чтобы он поехал со мной, и был счастлив, когда он все же настоял на своем.
В этот вечер не отплывал ни один пароход, однако нам удалось найти выход из положения. Мы достали верховых лошадей, лучших, каких можно было нанять, и к заходу солнца, миновав городские предместья, уже скакали по дороге, ведущей в Бринджерс.
Глава 65
ДВА НЕГОДЯЯ
Мы быстро двигались вперед. На пути нам не встречалось никаких подъемов, которые могли бы нас задержать. Мы скакали по береговой дороге, идущей от Нового Орлеана все время вдоль реки, мимо плантаций и поселков, разбросанных в нескольких сотнях ярдов друг от друга. Дорога эта такая же ровная, как беговая дорожка; копыта лошадей мягко ступали по толстому слою укатанной пыли, и мы ехали без всяких затруднений. Наши лошади — мустанги из техасских прерий — бежали легкой иноходью, как и все верховые лошади в юго-западных штатах. Это были прекрасные иноходцы, и до наступления ночи мы уже проскакали больше половины дороги.
Все это время мы почти не разговаривали. Я молчал, обдумывая дальнейший план действий: мой юный спутник был, видимо, тоже занят своими мыслями.
Когда стало темнеть, мы подъехали ближе друг к другу, и я поделился с ним составленным мною планом.
Впрочем, какой же это был план! Я просто хотел пробраться на плантацию Гайара, незаметно проскользнуть к дому и через кого-нибудь из слуг передать записку Авроре. Если мне это не удастся, я попытаюсь выяснить, в какой части дома она должна провести ночь, и, когда все заснут, проникну в ее комнату, предложу ей бежать и тем или иным путем уведу ее.
Только бы выбраться из дома! Я мало думал о дальнейшем. Дальше все казалось мне несложным. Наши лошади доставят нас в город. Там мы можем скрываться, пока какой-нибудь пароход не увезет нас из этой страны. Таков был мой план, и, сообщив его д'Отвилю, я ждал от него ответа.
Поразмыслив несколько минут, он сказал, что считает его правильным. Как и я, он не мог придумать ничего более разумного. Прежде всего надо было во что бы то ни стало вырвать Аврору из лап Гайара.
Теперь оставалось обсудить подробности. Мы старались предусмотреть каждую мелочь, которая могла бы нам помешать.
Мы оба считали, что труднее всего будет снестись с Авророй. Удастся ли это нам? Надо надеяться, ее не будут держать под замком. При всей своей подозрительности Гайар вряд ли станет запирать или охранять ее. Теперь он полновластный хозяин сокровища, которого так долго домогался, и всякий, кто попытается завладеть его невольницей, нарушит закон и рис— кует подвергнуться тяжкому наказанию. Возможно, он и подозревает, что между мной и Авророй существуют какие-то отношения, но не представляет себе силы моей любви, не знает, что ради нее я готов пожертвовать всем, даже жизнью.
Где уж ему! Судя по себе, по своей собственной низменной натуре, Гайар мог подумать, что меня, как и его, увлекла лишь красота квартеронки и что я готов был заплатить изрядную сумму — три тысячи долларов, — чтобы завладеть ею. Но то, что я не пошел дальше этой суммы, — а его агент, конечно, обо всем доложил ему, — убедило его, что любовь моя имеет свои границы и что на этом она кончилась. Он больше не считает меня своим соперником. Нет! Доминик Гайар даже не подозревает, что существует такая любовь, как моя, и не может себе представить, на что она способна. Мой романтический план показался бы ему просто невероятным. Поэтому (так рассуждали мы с д'Отвилем) вряд ли Аврору будут запирать или охранять. Но даже если она свободна, каким образом нам дать ей знать о себе? Это очень трудно.
Я возлагал все надежды на клочок бумаги со словами: «Жди меня сегодня вечером». Конечно. Аврора не ляжет спать. Так говорило мне сердце, и это вливало в меня мужество и уверенность. Этой же ночью я попытаюсь увезти ее. Мне была невыносима мысль, что она проведет хотя бы одну ночь под кровлей своего владыки.
А ночь обещала быть для нас благоприятной. Едва зашло солнце, как небо сразу омрачилось и словно налилось свинцом. Короткие сумерки быстро сгустились, и весь небесный свод так потемнел, что мы не могли различить на нем очертаний леса. Не видно было ни одной звезды: низкие, темные тучи скрывали их от нас. Даже желтоватую воду реки было трудно отличить от берегов, и только пыльная дорога слегка белела впереди, указывая нам путь.
В лесу или среди темных полей мы ни за что бы не нашли дороги, ибо густая мгла покрыла все кругом.
Можно было опасаться, что в таком мраке мы собьемся с пути, но я ничего не боялся. Я был уверен, что меня ведет сама звезда любви.
Темнота благоприятствовала нам. Под ее дружеским покровом мы могли незаметно подкрасться к дому, тогда как в лунную ночь нам грозила бы опасность, что нас обнаружат.
Я считал это изменение погоды не дурным знаком, а залогом успеха.
В воздухе чувствовалось приближение грозы. Но к чему нам хорошая погода? Пусть будет ливень, буря, ураган — что угодно, только не ясная ночь!
Когда мы добрались до плантации Безансонов, было не очень поздно, полночь еще не наступила. Мы мчались во весь опор, чтобы поспеть на место до того, как в доме Гайара все улягутся спать. Мы надеялись, что найдем способ дать о себе знать Авроре через невольников. Я знал одного из них. Когда я жил в Бринджерсе, я оказал ему небольшую услугу. Он доверял мне настолько, что я мог его подкупить. Он нам поможет, лишь бы удалось его найти.
На плантации Безансонов царило безмолвие. Большой дом, казалось, опустел. Нигде не видно было света: только слабый огонек мерцал вдалеке, в окне надсмотрщика. В негритянском поселке стояла тишина, из мрака не доносилось обычного в этот час говора. Те, чьи голоса еще так недавно звучали у хижин, были теперь далеко. Их дома опустели. Песни, шутки и веселый смех умолкли; только вой брошенных хозяевами собак нарушал ночную тишину.
Мы молча проехали мимо ворот, пристально всматриваясь в дорогу перед нами. Мы двигались вперед с величайшей осторожностью. Здесь мы могли встретить того, кого больше всего опасались, — надсмотрщика, работорговца, а может быть, и самого Гайара. Даже встреча с кем-нибудь из его невольников могла расстроить все наши планы. Я так боялся подобной встречи, что, если бы не глубокий мрак, свернул бы с дороги и выбрал какую-нибудь знакомую тропинку в лесу. Но тьма стояла такая, что, пробираясь по тропинке, мы потеряли бы много времени. Поэтому мы пока держались дороги, думая свернуть с нее, когда подъедем к плантации Гайара.
Между двумя плантациями шла проселочная дорога, по которой возили дрова из леса. На нее я и собирался свернуть. Здесь нам вряд ли кто-нибудь встретится, а лошадей мы спрячем под деревьями, недалеко от полей сахарного тростника, В такую ночь даже негритянские охотники за енотами не рискнут отправиться в лес. Тихонько продвигаясь вперед, мы уже собирались свернуть на эту дорогу, как вдруг услышали впереди голоса.
Мы натянули поводья и прислушались. Голоса были мужские и становились все громче — значит, люди приближались к нам. Они двигались от поселка. По стуку копыт мы поняли, что они едут верхом, — следовательно, это белые.
На обочине рос громадный тополь. С его ветвей почти до самой земли свешивались длинные кисти испанского мха. Дерево могло служить прекрасным убежищем, и мы едва успели скрыться под его ветвями со своими лошадьми, как всадники поравнялись с нами.
Хотя было очень темно, мы разглядели их, когда они проезжали мимо нас. Их было двое: силуэты четко выделялись на желтоватой поверхности реки. Если бы они ехали молча, мы, быть может, не узнали бы, кто они, но голоса их выдали. Это были Ларкин и работорговец.
— Отлично! — прошептал д'Отвиль, когда мы их узнали. — Они выехали от Гайара и направляются домой, в поместье Безансонов.
То же самое подумал и я. Они, видимо, возвращались домой: надсмотрщик
— на плантацию Безансонов, а работорговец — к себе; я знал, что он живет ниже, у реки. Теперь я вспомнил, что нередко видел этого человека в обществе Гайара.
Эта мысль пришла мне в голову одновременно с д'Отвилем. Но откуда он знал? Должно быть, он не раз бывал в здешних местах.
Однако я не мог сейчас раздумывать или задавать ему вопросы. Все мое внимание сосредоточилось на разговоре этих двух негодяев, ибо, несомненно, оба были негодяями. Они, видимо, были в прекрасном настроении и громко хохотали, обмениваясь грубыми шутками. Надо думать, их грязную работу щедро оплатили.
— Ну, Билл, — сказал работорговец, — в жизни своей я не платил таких бешеных денег за негра!
— Черт подери! Ишь, старый греховодник! Дорого же обошлась ему новая игрушка! Он обычно не любит раскошеливаться. Проклятый скряга!
— А ведь красотка хороша, что говорить! На нее не жалко денег, если у человека водятся лишние доллары. Такую аппетитную штучку не найдешь во всей Луизиане. Я бы и сам не прочь…
— Ха-ха-ха! — громко захохотал надсмотрщик. — Ну что ж, попробуй, если есть охота, — добавил он многозначительно.
— Сознайся, Билл, только без уверток: может, ты и сам уже пытался?..
— Сказать по правде — нет, не пришлось. Уж я бы сумел, если бы взялся за дело. Да только я слишком мало пробыл на плантации. К тому же она чертовски задирает нос, гордится своей ученостью и прочим и думает, что она не хуже белой. Сдается мне, что старая лисица быстро собьет с нее спесь. Девочка немножко побудет с ним — и тогда будет рада погулять в лесу с каждым, кто ее позовет. Тут уж мы не упустим своего, будь покоен!
Работорговец что-то пробормотал в ответ, но они уже отъехали довольно далеко, и мы не расслышали продолжения их разговора. Как ни нелепа была эта болтовня, все же она причинила мне новую боль и еще усилила мое желание скорее спасти Аврору от грозившей ей жестокой участи.
Я подал знак своему спутнику, и мы выехали из-под дерева, а через несколько минут уже свернули на дорогу, ведущую в лес.
Глава 66
В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ
По этой дороге нам пришлось ехать очень медленно. На ней не было белой пыли, которая указывала бы нам путь. Мы чуть ли не ощупью пробирались между извилистыми изгородями. Лошади спотыкались в глубоких колеях, оставленных тяжелыми возами, и мы насилу заставляли их идти вперед. Мой спутник, казалось, ориентировался лучше меня: он так уверенно правил лошадью, словно дорога была ему хорошо знакома, или же он был еще безрассуднее, чем я. Я удивлялся ему, но ничего не говорил.
После получаса очень тяжелой езды мы добрались до конца изгороди; дальше начинался лес. Еще сотня ярдов — и мы въехали под высокие деревья, где остановились передохнуть и посоветоваться, что делать дальше. Я вспомнил, что видел поблизости густые заросли папайи.
— Хорошо бы найти их и привязать там лошадей, — сказал я моему спутнику.
— Ну что ж, это совсем нетрудно, — ответил он, — хотя и необязательно искать чащу. Сейчас так темно, что можно не прятать лошадей… Впрочем, нет! Смотрите!
Яркая голубая вспышка озарила темный небосвод. Она осветила черную глубину леса, и мы ясно увидели стволы и ветви обступивших нас могучих деревьев. Несколько мгновений этот свет трепетал, словно гаснущая лампа, и вдруг потух, после чего окружавший нас мрак стал как будто еще гуще.
Но за вспышкой не последовало грома — это была беззвучная зарница. Вслед за ней, однако, послышался гомон диких обитателей леса. Свет разбудил белоголового орлана, взобравшегося на вершину высокого тюльпанного дерева, и его дикий смех резко прозвучал в ночной тиши. Он разбудил и жителей болот — уток, кроншнепов и больших голубых цапель, которые закричали все разом. Не спавший филин заухал еще громче, упорно повторяя все ту же ноту, а из глубины леса послышался вой волка и более резкий крик кугуара.
Казалось, вся природа дрогнула от этой ослепительной вспышки. Но через минуту все снова стихло и погрузилось во мрак.
— Скоро начнется гроза, — заметил я.
— Нет, — возразил мой спутник, — грозы не будет: не слышно грома, значит, не будет и дождя. Нас ожидает темная ночь с редкими зарницами. Вот опять!
Это восклицание было вызвано новой вспышкой, ярко осветившей окружавший нас лес; как и первая, она не сопровождалась громом. За ней не послышалось никаких раскатов, никакого гула, только дикие обитатели леса вновь ответили на нее разноголосым криком.
— Да, нам придется спрятать лошадей, — сказал мой спутник, — По дороге может пройти какой-нибудь бродяга, и при таком свете он издали увидит их. Заросли папайи — самое подходящее место. Сейчас мы их разыщем, они должны быть вон в той стороне…
Д'Отвиль ехал между стволами деревьев, а я послушно следовал за ним. Я видел, что он знает местность лучше меня. Он, конечно, бывал здесь раньше, подумал я.
Мы проехали всего несколько шагов, когда снова вспыхнула зарница. Прямо перед собой мы увидели гладкие блестящие ветви и широкие зеленые листья папайи, образующие здесь густой подлесок.
Когда зарница вспыхнула еще раз, мы уже углубились о их густую чащу.
Спешившись среди зарослей, мы привязали лошадей к ветвям и, предоставив их самим себе, направились к опушке.
Через десять минут мы уже подошли к изгороди, огибавшей плантации Гайара. Двигаясь вдоль нее, мы вскоре оказались против его дома. В свете зарниц мы ясно видели его очертания сквозь листву окружавших его высоких тополей.
Здесь мы снова остановились, чтобы осмотреться и решить, как действовать дальше.
За изгородью тянулось широкое поле, доходившее почти до самого дома. От поля дом отделялся садом, вокруг которого шла невысокая ограда. В стороне виднелись крыши многих хижин — там находился негритянский поселок. Неподалеку возвышалась сахароварня и еще кое-какие постройки: тут же стоял и домик надсмотрщика.
Это место нам следовало обойти стороной. Надо было избегать и негритянского поселка, чтобы не поднялась тревога. Самыми страшными врагами для нас будут собаки. Я знал, что Гайар держит много собак, и часто видел, как они бегали по дорожкам вокруг дома. Это были громадные злые псы. Как нам избежать встречи с ними? Чаще всего они слонялись вокруг негритянских хижин, поэтому лучше подойти к дому с противоположной стороны.
Если нам не удастся узнать, в какой комнате находится Аврора, тогда мы еще успеем пойти на разведку к негритянскому поселку и попытаемся отыскать невольника Катона.
Мы видели, что в доме горят огни. Многие окна в нижнем этаже были ярко освещены. Значит, люди разбрелись по дому. Это укрепляло наши надежды. В одной из этих комнат должна находиться Аврора.
— А теперь, мсье, — сказал д'Отвиль, когда мы обсудили все подробности, — предположим, что мы потерпим неудачу, что поднимется тревога и нас обнаружат до того, как…
Я обернулся, посмотрел моему юному другу прямо в лицо и, прервав его, сказал:
— Д'Отвиль, быть может, мне никогда не удастся отплатить вам за вашу великодушную дружбу. Вы сделали для меня больше, чем самый преданный друг. Но я не допущу, чтобы ради меня вы рисковали жизнью. Этого я не могу позволить.
— Разве я рискую жизнью, мсье?
— Если я потерплю неудачу, если поднимется тревога, если нас увидят и будут преследовать… — Я распахнул куртку и показал ему пистолеты. — Да, — продолжал я, — я не остановлюсь ни перед чем. Если понадобится, я воспользуюсь ими. Я готов убить всякого, кто станет на моем пути! Я решился на все. Но вы не должны подвергать себя такой опасности. Вы останетесь здесь, я войду в дом один.
— Нет! — поспешно ответил он. — Я пойду с вами.
— Этого я не допущу. Останьтесь лучше здесь. Вы можете подождать у изгороди, пока я не вернусь к вам… пока мы не вернемся, хочу я сказать, так как твердо решил, что не вернусь без нее.
— Не будьте опрометчивы, мсье!
— Нет, но я буду действовать решительно. Я готов на все. Вам нельзя идти дальше.
— А почему? Меня это тоже близко касается.
— Вас? — спросил я, удивленный как его словами, так и его тоном. — Касается вас?
— Конечно, — спокойно ответил он. — Я люблю приключения. Это так увлекательно! Вы должны позволить мне пойти с вами.
— В таком случае, как хотите, мсье. Не бойтесь, я буду очень осторожен. Идемте!
Я перескочил через изгородь, д'Отвиль последовал за мной.
Не произнося больше ни слова, мы двинулись через поле по направлению к дому.
Глава 67
ПОХИЩЕНИЕ
Мы шли через поле сахарного тростника. Это был раттан, особый сорт тростника, прошлогодней посадки; его срезанные старые стебли и молодые побеги скрывали нас с головой. Даже при дневном свете мы могли бы подойти к дому незамеченными.
Скоро мы были у садовой ограды. Здесь мы остановились, чтобы осмотреться. С одного взгляда мы определили, с какой стороны удобнее незаметно подойти к дому.
Дом был старый и запущенный, но построенный с претензиями. Это было двухэтажное деревянное здание с фронтонами, широкими окнами и открывающимися наружу жалюзи. И стены и жалюзи были когда-то покрашены, но краска выцвела и порыжела; жалюзи были, видимо, зелеными, но теперь их было трудно отличить от серых стен. Вокруг всего дома шла открытая галерея, или веранда, поднимавшаяся на три-четыре фута над землей. На эту веранду, обнесенную невысокой балюстрадой, выходили окна и двери дома. Небольшая лестница в пять-шесть ступеней вела к главному входу, но вокруг дома, ниже пола, веранда была не огорожена, так что немного нагнувшись, можно было залезть под нее.
Подкравшись к самой веранде, мы увидим сквозь балюстраду все выходящие на нее окна; а в случае тревоги — спрячемся под нее. Здесь мы будем в безопасности, если только нас не учуют собаки.
Мы шепотом сговорились, что делать дальше. Решили дойти до угла веранды, пристально всматриваясь в окна, пока не найдем комнату Авроры; тогда мы постараемся подать ей знак и увести ее. Все зависело от случая, от благосклонности судьбы.
Судьба, по-видимому, к нам благоволила, ибо не успели мы двинуться вперед, как в одном из окон, прямо против нас, появилась женская фигура. С первого взгляда мы узнали квартеронку.
Как я уже говорил, окно доходило до самого пола веранды, и когда она подошла к нему, мы увидели ее всю, с ног до головы. Мадрасский платок на черных волосах, изящные очертания фигуры, резко выделявшейся на фоне ярко освещенной комнаты, не оставляли никаких сомнений.
— Это Аврора! — шепнул мой спутник.
«Откуда он знает? Разве он видел ее? Ах, да! — вспомнил я. — Он видел ее сегодня утром в ротонде».
— Да, это она! — пробормотал я, и сердце мое забилось так сильно, что я не мог больше произнести ни слова.
Окно было завешено, но она приподняла занавеску одной рукой и смотрела в сад. Взгляд ее был устремлен вперед, как будто она старалась разглядеть что-то во мраке. Я заметил это даже издали, и сердце у меня запрыгало от радости. Она поняла мою записку. Она ждет меня!
Д'Отвиль тоже так думал. Это укрепляло нашу надежду. Если ей понятны наши намерения, тем легче нам будет их осуществить.
Но она пробыла у окна всего две-три секунды. Затем отошла, и занавеска снова опустилась; однако мы все же успели заметить темную тень мужчины на дальней стене. Без сомнения, это был Гайар!
Я не мог больше сдерживаться и, перескочив через садовую ограду, пробрался к веранде, сопровождаемый д'Отвилем.
Через несколько секунд мы заняли намеченную позицию — прямо против окна, от которого нас теперь отделяла деревянная балюстрада веранды. Если мы немного нагибались, наши глаза приходились как раз над полом. За— навеска опустилась не до конца и неплотно закрывала окно, так что сквозь небольшую щель мы могли видеть почти все, что делалось в комнате. В ночной тиши далеко разносился каждый звук, и мы ясно слышали разговор находившихся там людей.
Наше предположение оказалось правильным: Аврора разговаривала с Гайаром.
Я не стану описывать вам эту сцену. Я не могу повторять слова, которые мы услышали. Я не хочу воспроизводить гнусные речи этого негодяя, сначала льстивые и заискивающие, а потом все более грубые, наглые и оскорбительные. Под конец, не добившись успеха уговорами, он перешел к угрозам.
Д'Отвиль удерживал меня и шепотом умолял не горячиться.
Раза два я уже готов был броситься вперед, выбить окно и уложить негодяя на месте. Но благодаря настояниям моего осторожного спутника я все-таки сдержался.
Сцена закончилась тем, что Гайар ушел взбешенный, но все же немного присмиревший. Смелый отпор, данный ему квартеронкой, которая, во всяком случае, была не слабее своего тщедушного поклонника, по-видимому, на время охладил его пыл, иначе он, наверно, прибег бы к насилию.
Однако его угрозы перед уходом не оставляли сомнений в том, что он скоро возобновит свои грубые домогательства. Он был уверен, что справится со своей жертвой: она его рабыня и должна будет покориться. У него достаточно времени и средств, чтобы принудить ее. Ему незачем сразу прибегать к крайним мерам. Он может подождать, когда к нему вернется утраченная храбрость и вдохновит его на новое нападение.
Уход Гайара давал нам возможность сообщить Авроре, что мы тут. Я собирался подняться на веранду и постучать в окно, но мой спутник удержал меня.
— Не делайте этого, — прошептал он. — Она знает, что вы должны быть здесь. Она, наверно, скоро подойдет к окну. Терпение, мсье! Неосторожный шаг может все погубить. Помните о собаках!
Совет был благоразумен, и я послушался его. Через несколько минут все выяснится. Мы оба прильнули к балюстраде, следя за каждым движением Авроры.
Мы обратили внимание на комнату, в которой она находилась. Это была не гостиная и не спальня, а скорее библиотека или кабинет, о чем свидетельствовали полки с книгами и письменный стол, на котором лежало много бумаг. По-видимому, это был рабочий кабинет адвоката, в котором он занимался делами.
Почему Аврору поместили тут? Этот вопрос занимал нас, но нам было некогда задерживаться на нем. Мой спутник предположил, что по приезде ее привели сюда на время, пока ей готовят другое помещение. На эту мысль его навели голоса слуг и звуки передвигаемой мебели в верхнем этаже. Очевидно, какую-то комнату приводили в порядок.
Тут мне пришла в голову новая мысль: Аврору могут неожиданно увести из библиотеки и отправить наверх, тогда нам будет гораздо труднее дать ей знать о себе. Лучше попробовать сейчас же увести ее.
Несмотря на советы д'Отвиля, я уже готов был двинуться к окну, когда поведение Авроры остановило меня.
С того места, где мы стояли, была видна дверь, в которую вышел Гайар. Аврора осторожно подошла к ней, как будто с каким-то тайным намерением. Взявшись за ключ, она тихонько повернула его. Зачем она это сделала?
Мы подумали, что она собирается бежать из дома через окно, и заперла дверь, чтобы задержать погоню. Если так, нам лучше остаться на месте и не мешать ей выполнять ее намерение. Мы успеем дать ей знак, когда она подойдет к окну. Так советовал д'Отвиль.
В углу комнаты стояла конторка красного дерева со множеством полочек. На них лежало много бумаг — наверно, всякие закладные, расписки и другие документы адвоката.
К моему большому удивлению, Аврора, заперев дверь, поспешно подошла к этой конторке и, остановившись против полочек, стала внимательно разглядывать бумаги, словно стараясь найти какой-то документ.
Таково, видно, и было ее намерение, ибо она протянула руку, вытащила связку каких-то листков и, быстро присмотрев их, спрятала у себя на груди.
«Боже мой! — воскликнул я про себя. — Что это значит?»
Не успел я подумать об этом, как Аврора подошла к окну. Она подняла занавеску, и яркий свет упал на мое лицо и на лицо моего спутника, так что она сразу увидела нас. У нее вырвалось легкое восклицание — не удивления, а радости, но она тут же сдержалась. Впрочем, восклицание было такое тихое, что его не могли бы услышать в соседней комнате.
Окно тихонько открылось, она бесшумно проскользнула на веранду, и в следующую минуту моя невеста была уже у меня в объятиях. Я перенес ее через балюстраду, и мы быстро пересекли сад.
Мы вышли в поле, никем не замеченные, и, пробираясь в густом тростнике, направились к лесу, который вырисовывался вдали темной стеной.
Глава 68
СБЕЖАВШИЕ МУСТАНГИ
Зарницы по-прежнему вспыхивали в небе, и нам было нетрудно найти дорогу. Мы вышли около того места, где свернули в тростниковое поле, и, двигаясь вдоль изгороди, поспешно направились к зарослям папайи, в которых оставили своих лошадей.
Мой план состоял в том, чтобы ехать сейчас же и постараться прискакать в город до рассвета. Я надеялся, что в городе мне удастся скрыться с моей невестой до того времени, когда мы сможем уехать за море или вверх по реке, в один из свободных штатов. О том, чтобы прятаться в лесу, я не помышлял. Правда, я случайно знал о прекрасном убежище, в котором мы, без сомнения, могли бы укрыться на некоторое время. Но хотя эта мысль мелькнула у меня, я даже не остановился на ней. Такое убежище могло быть только временным; нам все равно пришлось бы его покинуть, и тогда было бы так же трудно выехать из этих краев, как и сейчас.
Для гонимого, как и для преступника, нет лучшего убежища, чем густо населенный город с его разношерстной толпой, а в Новом Орлеане, где половину населения составляют приезжие, особенно легко скрыться под вымышленным именем.
Поэтому я решил — и д'Отвиль поддержал меня — сейчас же сесть на лошадей и скакать прямо в город.
Нашим бедным лошадям предстоял тяжелый труд, особенно той, которой достанется двойная ноша. Правда, эти выносливые животные бодро пробежали путь до Бринджерса, но теперь им придется напрячь все свои силы, чтобы вернуться обратно до рассвета.
При вспышках зарниц мы легко находили дорогу между деревьями и вскоре увидели заросли папайи, которые выделялись своими большими продолговаты— ми листьями; при свете они казались белесыми. Радуясь тому, что достигли цели, мы ускорили шаг. Когда мы сядем на коней, нам не страшна будет никакая погоня!
— Странно что лошади не ржут и никак не дают о себе знать! А ведь наше приближение могло бы их встревожить… Но нет, не слышно ни ржанья, ни стука копыт, хотя мы, кажется, совсем близко. Быть не может, чтобы лошади стояли так тихо. Что с ними случилось? Где они?
— В самом деле, где они? — повторил д'Отвиль. — Вот то место, где мы их оставили.
— Да, конечно, здесь. Постойте!.. А вот тот самый сук, к которому я привязал свою лошадь. Видите, вот и следы копыт… О Боже! Лошади пропали!
Я убедился, что это так. Не могло быть никаких сомнений. Вот истоптанная земля там, где они стояли. Вот то самое дерево, к которому мы их привязывали, — я сразу узнал его, оно было выше всех.
«Кто их увел?» — вот первый вопрос, который мы себе задали. Может, кто-нибудь выслеживал нас? Или кто-то случайно проходил мимо и увидел их? Последнее предположение было наименее вероятно. Кто мог бродить по лесу в такую ночь? А если бы даже здесь кто-то и проходил, зачем ему было забираться в эти заросли?.. Ба! Мне пришла в голову новая мысль: быть может, лошади сбежали сами?
Весьма возможно. Как только снова блеснет зарница, мы увидим, сами ли они сорвались с привязи или чья-то неизвестная рука отвязала повода. Мы стояли у дерева, дожидаясь зарницы. Ждать пришлось недолго; вскоре вспышка света рассеяла наши сомнения. Мое предположение оказалось правильным: лошади сорвались сами, об этом говорили обломанные ветви. Быть может, их напугала зарница, а верней — какой-нибудь рыскавший поблизости дикий зверь, и они умчались в лес.
Теперь мы упрекали себя за то, что так небрежно привязали их и что выбрали для этого папайю — дерево заведомо менее прочное, чем любое другое дерево в лесу. Все же я почувствовал некоторое облегчение, когда обнаружил, что животные сбежали сами. У нас оставалась надежда их отыскать. Быть может, они щиплют траву где-нибудь поблизости, волоча за собой повода, и мы их еще поймаем.
Не теряя времени, мы пошли на поиски: д'Отвиль в одну сторону, я — в другую, а Аврора осталась в зарослях. Я осмотрел все ближние места, повернул обратно, к изгороди, прошел вдоль нее до дороги и даже осмотрел часть дороги. Я обшаривал каждый уголок, обходил каждое дерево, забирался в кусты и в заросли тростника, а когда вспыхивали зарницы, осматривал землю, отыскивая следы. Несколько раз я возвращался назад, но лишь для того, чтоб убедиться, что поиски д'Отвиля столь же безуспешны.
Прошло около часа в бесплодных розысках, и я решил прекратить их. Я больше не надеялся найти лошадей и направился обратно с отчаянием в душе. Д'Отвиль вернулся еще раньше меня.
Когда я подходил, я увидел при свете зарницы, что он стоит возле Авроры и непринужденно разговаривает с ней. Мне показалось, что он с ней очень любезен, а она благосклонно слушает его. Эта мелькнувшая передо мною сцена произвела на меня неприятное впечатление.
Д'Отвиль тоже не нашел следов наших исчезнувших лошадей. Теперь уж было бесполезно их разыскивать, и мы решили прекратить поиски и провести ночь в лесу.
Я согласился на это с тяжелым сердцем, однако у нас не оставалось выбора. За ночь мы не могли добраться пешком до Нового Орлеана; если же нас увидят утром на дороге, то сейчас же поймают. Такие люди, как мы, не могли пройти незамеченными, и я не сомневался, что на рассвете за нами уже вышлют погоню и что искать нас будут по дороге в город.
Самое благоразумное провести ночь на месте и возобновить поиски, как только рассветет. Если нам удастся найти лошадей, мы спрячем их в зарослях до вечера, а когда стемнеет, отправимся в город. Если же мы их не найдем, то пустимся в путь сразу после заката, иначе до рассвета нам в город не добраться.
Пропажа лошадей поставила нас в чрезвычайно трудное положение. Она очень уменьшила наши шансы на успех и увеличила грозившую нам опасность.
Я сказал — опасность. Да, нам грозила смертельная опасность. Вам трудно понять, как трагично было наше положение. Вам, вероятно, кажется, что вы читаете описание обычного побега влюбленных, какие часто изображают в романах.
Но вы глубоко заблуждаетесь. Знайте, что все мы совершили поступок, за который должны были ответить перед судом. Знайте, что я совершил преступление, которое сурово каралось по законам этой страны, и что я мог подвергнуться еще более жестокому наказанию до применения этих законов. Все это я знал, Я знал, что за свой поступок могу поплатиться жизнью.
Вспомните об угрожавшей нам опасности — и вы поймете, с какими чувствами вернулись мы назад после тщетной попытки отыскать наших лошадей.
У нас не было выбора — приходилось оставаться на месте до утра.
Мы потратили полчаса на то, чтобы нарвать побольше испанского мха и мягких листьев папайи; я уложил на них Аврору и накрыл ее своим плащом.
Сам я не нуждался в ложе. Я сел возле своей невесты и прислонился спиной к дереву. Мне хотелось положить ее голову себе на грудь, но присутствие д'Отвиля стесняло меня. Впрочем, это меня не удержало бы, но когда я об этом заикнулся, Аврора отклонила мою просьбу. Она даже мягко, но решительно отняла свою руку, когда я хотел удержать ее в своей.
Признаться, меня немного удивила и обидела эта сдержанность.
Глава 69
НОЧЬ В ЛЕСУ
Я был легко одет, и ночная сырость не давала мне уснуть, однако, будь у меня перина из гагачьего пуха, я все равно не сомкнул бы глаз.
Д'Отвиль великодушно предложил мне свой плащ, но я отказался. Он тоже был одет в легкую полотняную одежду, но не это явилось причиной моего отказа. Даже если бы я сильно страдал от холода, я не принял бы услуги от него. Я начинал его опасаться.
Аврора вскоре уснула. При свете зарниц я видел, что глаза ее закрыты, а ее спокойное, ровное дыхание свидетельствовало о том, что она спит. Это тоже огорчило меня. Я ждал каждой новой зарницы, чтобы взглянуть на нее. Каждый раз, как вспышка света озаряла ее прелестное лицо, я вглядывался в ее черты со смешанным чувством любви и боли. О, может ли коварство скрываться под этой прекрасной внешностью? Может ли таиться обман в этой благородной душе? Разве я не уверен, что она любит меня?
Как бы то ни было, у меня теперь отрезаны пути к отступлению. Я должен довести до конца начатую игру хотя бы ценой моей жизни или моего счастья. Я должен думать только о той цели, которая привела меня сюда.
Когда я немного успокоился, я опять принялся думать о том, как нам выбраться. Лишь только рассветет, я снова пойду на поиски лошадей, постараюсь найти их по следам и поймать, а затем спрячу в лесу, где нам придется укрываться до следующего вечера.
А если мы не найдем лошадей?
Долгое время я не мог решить, как нам тогда поступить. Наконец мне пришел в голову новый, вполне осуществимый план, и я поспешил поделиться им с д'Отвилем, который тоже не спал. Мой план был так прост, что я удивлялся, как не додумался до этого раньше. Д'Отвиль отправится в Бринджерс, наймет новых лошадей или экипаж и на следующий вечер встретит нас на береговой дороге.
Что могло быть проще? В Бринджерсе ничего не стоило нанять лошадей, а тем более экипаж. Д'Отвиля там не знают, и, конечно, никто не заподозрит, что он связан со мной. Я не сомневался, что в похищении квартеронки станут обвинять меня. Гайар, во всяком случае, это подумает — значит, разыскивать будут меня одного. Д'Отвиль согласился, что так и нужно сделать, если мы не найдем сбежавших лошадей; договорившись о подробностях, мы уже с меньшей тревогой стали дожидаться рассвета.
* * *
Наконец рассвело. Первые бледные лучи медленно проникали сквозь густые вершины деревьев, но все же было настолько светло, что мы могли возобновить поиски. Аврора осталась на месте, а мы с д'Отвилем снова разошлись в разные стороны. Он направился в глубину леса, а я — к дороге.
Вскоре я подошел к изгороди, окружавшей поля Гайара, ибо мы все еще находились очень близко от его плантации. Затем я двинулся вдоль изгороди к тому месту, где проселочная дорога углублялась в лес. Я решил снова проделать путь, по которому мы ехали прошлой ночью, так как думал, что лошади могли убежать по знакомой дороге.
И я оказался прав. Когда я подошел к этому месту, я увидел на земле следы подков двух лошадей, направлявшихся к реке. Там же виднелись и следы, оставленные нами прошлой ночью. Я сравнил: несомненно, это были одни и те же лошади. У одной из них была сломана подкова, и я с первого взгляда узнал ее след. Я заметил еще одну подробность: рядом с отпечатками подков виднелись полосы, прочерченные обломками сучьев, к которым были привязаны повода. Это подтвердило мои догадки о том, что лошади сами сорвались с привязи.
Теперь вопрос был в том, далеко ли они убежали. Стоит ли мне идти за ними и пытаться их поймать? Уже совсем рассвело, и это было бы очень опасно. Гайар и его люди уже, наверно, давно на ногах и рыщут по окрестностям. Отдельные группы, конечно, скачут вдоль береговой дороги и обшаривают проселки между плантациями. На каждом шагу я могу встретить кого-нибудь из его шайки.
По следам лошадей было видно, что они неслись во весь опор. Они нигде не останавливались, чтобы пощипать траву. Вероятнее всего, они выскочили на береговую дорогу и помчались прямо в город. Лошади были наемные и, наверно, хорошо знали дорогу домой. Кроме того, это были мексиканские мустанги, которым нередко случается после долгого путешествия возвращаться домой без седоков.
Пытаться догнать их значило бы бессмысленно подвергать себя опасности: я сразу отказался от этой мысли и повернул обратно к лесу.
Подходя к нашему лагерю, я старался ступать неслышно — мне стыдно сознаться, из каких побуждений: в моем сердце шевелились недостойные чувства.
Мне послышались звуки голосов.
«Боже мой! Опять д'Отвиль поспел раньше меня!»
Несколько секунд я боролся с собой, но не устоял и стал приближаться к ним, крадучись, как вор.
«Д'Отвиль снова оживленно и дружески разговаривает с ней! Они стоят так близко, что лица их почти соприкасаются. Как они поглощены разговором! Они говорят очень тихо, они шепчутся, как влюбленные! О Боже!»
В эту минуту я вспомнил сцену на пристани. Вспомнил, что на юноше был такой же плащ и что он был небольшого роста…
Это он стоял передо мной! Теперь загадка объяснилась. Я был лишь ширмой, жалкой игрушкой в руках этой кокетки!
Вот он, настоящий возлюбленный Авроры!
Я остановился как пораженный громом. Острая боль пронзила сердце, будто отравленная стрела впилась глубоко в мою грудь и застряла в ней, терзая меня. Ноги у меня подкосились, и я чуть не потерял сознание.
«Она что-то вынула из-за корсажа. Она что-то протягивает ему! Залог любви!.. Нет, я ошибся. Это — бумаги, те самые, что она взяла с конторки у Гайара. Что это значит? Здесь скрыта какая-то тайна. О! Я потребую объяснений у вас обоих! Я все узнаю! Терпение, сердце! Терпение!»
Д'Отвиль взял бумаги и спрятал их под блузу. Затем он повернулся, и взгляд его упал на меня.
— А, мсье! — воскликнул он, направляясь ко мне. — Ну, как дела? Вы не нашли лошадей?
Я сделал над собой усилие и ответил спокойно:
— Только их следы.
Но даже произнося эту короткую фразу, голос мой дрогнул от волнения.
Д'Отвиль должен был заметить мое состояние, однако не показал и виду.
— Только следы, мсье? Куда же они вели?
— К береговой дороге. Больше нечего рассчитывать на них.
— Значит, мне надо сейчас же отправляться в Бринджерс?
Он интересовался моим мнением.
Его вопрос обрадовал меня. Мне хотелось, чтобы он ушел: я жаждал остаться наедине с Авророй.
— Я думаю, это было бы лучше всего, если вы не считаете, что еще слишком рано.
— О нет! Кроме того, у меня есть дела в Бринджерсе, и они займут весь день.
— Вот как!
— Будьте спокойны, я вовремя приеду за вами. Не сомневаюсь, что достану лошадей или экипаж. Через полчаса после того, как стемнеет, я буду ждать вас у проселочной дороги. Не бойтесь, мсье! Я твердо верю, что для вас все кончится благополучно. А для меня, увы!..
Вместе с последними словами у него вырвался глубокий вздох.
«Что это значит? Уж не смеется ли он надо мной? Нет ли у этого странного юноши еще тайны, кроме моей? Он, верно, знает, что Аврора, любит его! Неужели он так уверен в ее любви, что, не колеблясь, оставляет нас наедине? Или он играет мной, как тигр своей жертвой? Может, они оба играют мной?..»
Все эти ужасные мысли теснились у меня в голове и помешали мне ответить на его последнее замечание. Я только пробормотал, что не теряю надежды, но он не обратил внимания на мои слова. По какой-то причине он, видимо, хотел скорей уйти и, попрощавшись с Авророй и со мной, резко повернулся и пошел быстрым, легким шагом через лес.
Я глядел ему вслед, пока он не скрылся за деревьями, и почувствовал облегчение, когда он ушел. Хотя нам была нужна его помощь, хотя от нее зависело наше спасение, в ту минуту мне хотелось никогда больше не видеть его.
Глава 70
УПРЕКИ ВЛЮБЛЕННОГО
Теперь я объяснюсь с Авророй. Теперь я дам волю мучительной ревности, облегчу свое сердце в горьких упреках и упьюсь сладостной местью, осыпая ее обвинениями.
Я не мог больше сдерживать свое волнение, не мог скрывать свои чувства. Я должен был высказать все!
Пока д'Отвиль не исчез из виду, я нарочно стоял, отвернувшись от Авроры. И даже долее того. Я старался сдержать бешеные удары своего сердца, старался казаться спокойным и равнодушным.
Тщетное притворство! От ее глаз не укрылось мое состояние, в таких вещах инстинкт никогда не обманывает женщин.
Так было и на этот раз. Она все поняла. Вот почему в ту минуту она дала волю своему порыву.
Я повернулся, чтобы заговорить с ней, но тут почувствовал, что руки ее обвились вокруг моей шеи; она нежно прильнула ко мне, а лицо поднялось навстречу моему. Ее большие, ясные глаза смотрели в мои с нежным вопросом.
В другое время этот взгляд успокоил бы меня: ее глаза светились горячей любовью. Так могли смотреть только глаза истинно любящей девушки.
Но сейчас я не знал жалости. Я пробормотал:
— Аврора, ты не любишь меня!
— Ах, почему ты так жесток со мной? Я люблю тебя, Бог свидетель, люблю всем сердцем!
Но и эти слова не рассеяли моих подозрений. Обвинения мои были слишком обоснованны, ревность пустила слишком глубокие корни, чтобы ее могли успокоить пустые уверения. Только доказательства или признания могли убедить меня.
Раз начав, я уже не мог остановиться. Я припомнил ей все: сцену, которую видел на пристани, дальнейшее поведение д'Отвиля, мои наблюдения прошлой ночью и то, чему я только что был свидетелем. Я ничего не забыл, но ни в чем не упрекал ее. У меня впереди было достаточно времени для упреков, я хотел сначала услышать ее ответ.
Она отвечала мне со слезами. Да, она знала д'Отвиля раньше, она сразу мне в этом призналась. В их отношениях была какая-то тайна, но она умоляла меня не спрашивать у нее объяснений. Она просила меня быть терпеливым. Эта тайна принадлежит не ей. Скоро я все узнаю. Пройдет немного времени, и все раскроется.
С какой готовностью мое сердце впитывало эти утешительные слова! Я больше не сомневался. Как мог я не верить этим чистым, омытым слезами глазам, сияющим глубокой любовью?
Сердце мое смягчилось. Я снова нежно обнял мою невесту, и горячий поцелуй скрепил нашу клятву верности.
* * *
Мы могли бы долго пробыть на этом месте, освященном нашей любовью, но осторожность требовала его оставить. Опасность была слишком близка. В двухстах ярдах от нас тянулась изгородь, отделявшая плантацию Гайара от леса; оттуда можно было даже видеть его дом, стоявший вдали, среди полей. Густые заросли служили нам укрытием, но, если бы погоня направилась в нашу сторону, люди прежде всего стали бы обыскивать эту чащу. Нам надо было найти себе другое убежище, поглубже в лесу.
Я вспомнил о цветущей поляне, где меня ужалила змея. Вокруг нее рос густой, тенистый подлесок, там мы могли найти укромное место, где нас не обнаружил бы и самый зоркий глаз. В ту минуту я думал только о таком убежище. Мне не приходило в голову, что есть способ отыскать нас в самой густой чаще или в непроходимых зарослях тростника. И я решил спрятаться на этой поляне.
Чаща папайи, в которой мы провели ночь, находилась близ юго-восточного края плантации Гайара. Чтобы добраться до поляны, нам надо было пройти около мили к северу. Если бы мы пошли напрямик через лес, мы почти наверное сбились бы с пути и, возможно, не нашли бы надежного убежища. Кроме того, мы могли бы заблудиться в лабиринте болот и проток, изрезавших лес по всем направлениям.
Поэтому я решил идти вдоль плантации, пока мы не выйдем на тропинку, которая когда-то привела меня на поляну, — я хорошо ее запомнил. Конечно, это было немного рискованно, пока мы не дойдем до северного края плантации, но мы могли держаться подальше от изгороди и по возможности не выходить из подлеска. К счастью, по опушке леса параллельно изгороди тянулась к северу широкая полоса пальметто, отмечавшая границу ежегодного паводка. Эти причудливые растения с широкими веерообразными листьями могли служить отличным прикрытием: человека, пробирающегося среди них, нельзя было увидеть издали. Их густая решетчатая тень становилась совсем непроницаемой благодаря высоким стеблям алтея и других цветов из семейства мальв, густо разросшихся вокруг.
Мы осторожно пробирались сквозь эти заросли и вскоре вышли к тому месту, где прошлой ночью перелезли через изгородь. Тут лес ближе всего подходил к дому Гайара. Как я уже говорил, здесь нас отделяло от него только поле в милю шириной. Однако его ровная поверхность сильно скрадывала расстояние, и, подойдя к изгороди, можно было ясно разглядеть дом.
Сейчас я не собирался доставлять себе это удовольствие и уже двинулся прочь, когда мне послышался звук, от которого кровь застыла в моих жилах.
Моя спутница схватила меня за руку и тревожно взглянула мне в лицо.
Я только кивнул ей, чтобы она молчала, нагнулся и, приложив ухо к земле, стал слушать.
Вскоре я снова услышал этот звук. Мое предположение оправдалось: это был собачий лай! Я не мог ошибиться. Я был достаточно опытным охотником, чтобы сразу узнать в нем лай длинноухой ищейки. Хоть он слышался издалека и казался не громче жужжания пчелы, я больше не сомневался в его зловещем значении.
Почему же меня так испугал лай собаки? Ведь было время, когда собачий лай и крики «Ату его! Держи!» звучали для меня, как и для многих других, самой приятной музыкой на свете. А теперь?.. Ах, вспомните, в каком положении я находился, вспомните о часах, проведенных мною с заклинателем змей, обо всем, что он рассказал мне в своем темном дупле: о беглецах, о собаках-ищейках, белых охотниках, охоте за неграми, об обычаях, которые считались возможными разве что на Кубе, но на деле процветали и в Луизиане, — вспомните все это, и вы поймете, почему я затрепетал, услышав вдали собачий лай.
Этот лай раздавался очень далеко, где-то около дома Гайара. Он звучал с перерывами и не был похож на голос собаки, бегущей по следу, а скорее напоминал разноголосый лай выпущенной из псарни своры, радующейся предстоящей охоте.
Мои худшие опасения подтвердились: они спустят на нас собак!
Глава 71
ТРАВЛЯ
О Боже! Они спустят на нас собак! Скоро спустят или уже спустили — этого я не мог определить, но я не решался двинуться дальше, пока не узнаю наверное. Я оставил Аврору под деревьями и бросился к изгороди, у которой кончался лес. Добежав до нее, я схватился за сук и подтянулся: теперь поверх макушек сахарного тростника мне виден был весь дом, ярко освещенный лучами взошедшего солнца.
С первого взгляда я понял, что не ошибся. Как ни далеко было до дома, я разглядел вокруг него людей; многие из них сидели на лошадях, их головы двигались над тростником. А раздававшийся время от времени громкий лай указывал, что собак там целая свора. Со стороны могло показаться, что партия охотников готовится к охоте на оленя, и если бы не время, место и прочие обстоятельства, я, может быть, и принял бы их за обыкновенных охотников. Но сейчас они произвели на меня совсем иное впечатление. Я прекрасно понимал, зачем они собрались вокруг дома Гайара. Я знал, какую охоту они затевают.
Поглядев на них не дольше минуты, я понял, что погоня уже готова двинуться в путь.
С сильно бьющимся сердцем я бросился назад к своей спутнице, которая дожидалась меня, дрожа от волнения.
Мне незачем было рассказывать ей, что я увидел, — она прочла это по моему лицу. Она тоже слышала лай собак. Она родилась в здешних местах и знала обычаи этой страны. Знала, что с собаками охотятся на оленей, лисиц и пантер, но ей было также известно, что на многих плантациях держат собак и для совсем других целей, собак-ищеек, обученных охоте на людей!
Будь она менее проницательна, я, может быть, попытался бы скрыть от нее то, что увидел, но она сразу все поняла.
Сначала нас охватило полное отчаяние. Казалось, у нас нет никакой надежды спастись. Где бы мы ни укрылись, собаки, приученные выслеживать людей, везде сумеют нас найти. Нет никакого смысла прятаться в болотах или зарослях. Ни самое высокое дерево, ни самый густой подлесок не могут спасти нас от он навевал такое гнетущее чувство одиночества, какого не Итак, первым нашим чувством была полная безнадежность, первым бессознательным побуждением — никуда не двигаться, остаться на месте и дать себя схватить. Быть может, нам и не грозила смерть, хотя я знал, что, если меня поймают, я должен быть готовым ко всему.
Я знал, как относились здесь к аболиционистам[44]: в то время их бешено ненавидели. Я слышал о свирепых расправах ярых рабовладельцев с этими «фанатиками», как они их называли. Я не сомневался, что и меня отнесут к их числу, а может быть, и того хуже — обвинят в краже негров. Во всяком случае, меня ждет расправа, и, вероятно, очень жестокая.
Но мой страх перед наказанием был ничем в сравнении с уверенностью, что, если нас поймают, Аврора снова попадет в руки Гайара.
Вот какие думы сильнее всего терзали меня и заставляли колотиться мое сердце. Эти думы вновь наполнили меня решимостью не сдаваться, пока мы не испробуем все средства, какие в наших силах.
С минуту я стоял, размышляя о том, что же нам предпринять. И тут мне пришла в голову мысль, которая спасла меня от отчаяния: я вспомнил беглого негра Габриэля.
Не думайте, что до этой минуты я забыл о нем и о его убежище или что я не вспоминал о нем раньше. С тех пор, как мы вошли в лес, я много раз думал о беглом негре и его дупле. И я бы сразу направился к нему, но меня удерживала дальность пути. Решив после заката выйти на береговую по— рогу, я выбрал поляну, так как она была ближе.
Теперь, когда я узнал, что по нашему следу пустят собак, я снова подумал об убежище Габриэля, но отбросил эту мысль, считая, что собаки всюду отыщут нас и, спрятавшись у Габриэля, мы его невольно выдадим.
Все эти мысли вихрем проносились у меня в голове, и в первую минуту я не сообразил, что собаки не могут преследовать нас по воде. И только когда я стал искать способ скрыть наши следы и подумал о негре и его сосновой смоле, я вспомнил про воду.
Вот где для нас еще оставалась надежда! Теперь я оценил, как умно он выбрал себе жилище. Да, это было именно такое место, где его не могли отыскать проклятые собаки.
Как только я подумал об этом, я решил бежать к Габриэлю.
Я был уверен, что найду дорогу. Недаром я старался запомнить ее. В тот день, когда меня ужалила змея, у меня были какие-то смутные мысли, скорее неясное предчувствие, что убежище негра еще может мне пригодиться. Последующие события, в частности мое намерение сразу бежать с Авророй в город, вытеснили эти мысли у меня из головы. Во всяком случае, я хорошо запомнил путь, по которому меня вел Габриэль, и мог быстро найти его, хотя в лесу не было ни дорожек, ни тропинок, а только еле заметные стежки, протоптанные дикими лесными обитателями.
Но я был уверен, что не собьюсь с пути. Я запомнил знаки и зарубки на деревьях, которые мне показывал мой спутник. Я помнил, где нужно пересечь большую протоку по стволу поваленного дерева, который служил негру мостиком. Помнил, где он вел меня по болотцу, по которому не прошла бы лошадь, где пробирался сквозь заросли камыша, между громадными стволами и корнями кипарисов, где спустился вниз, к воде. Помнил, где лежит огромное упавшее дерево, протянувшее над озером свой толстый ствол с ветвями, густо заросшими мхом — тайную гавань для маленькой пироги, — и был уверен, что найду его.
Я не забыл и условного сигнала, которым должен был известить беглеца о своем приходе. Он научил меня особому свисту и сказал, сколько раз я должен просвистеть.
Я не тратил времени на размышления. Все это я обдумал уже дорогой. Едва я вспомнил об озере, как сразу принял решение. Я только сказал своей спутнице несколько ободряющих слов, и мы сразу двинулись в путь.
Глава 72
СИГНАЛ
Изменение наших планов не изменило направления, в котором мы двигались. Мы продолжали идти в ту же сторону. Дорога к озеру лежала через поляну, где мы сначала думали дождаться темноты, — это был кратчайший путь к убежищу беглого негра.
В памятную мне встречу с Габриэлем он вечером вывел меня к северо-восточной окраине плантации Гайара. Мы находились как раз на том месте, где проселок углублялся в лес. Зарубка на стираксовом дереве, которую я хорошо запомнил, указала мне направление. И я поспешил свернуть из кустов в чащу, тем более что, когда мы добрались до этого места, до нас ясно донесся громкий и протяжный лай собак. Прислушавшись, я заключил, что псы уже отыскали в поле сахарного тростника наш вчерашний след.
Нам предстояло пройти еще несколько сот ярдов по вырубке. Множество торчащих вокруг пней свидетельствовало, что здесь поработал топор дровосека. Тут рубили лес для нужд плантации, и справа и слева от тропы возвышались аккуратно сложенные поленницы дров. Ужасаясь при мысли, что мы можем столкнуться с дровосеком или возчиком, мы прибавили шагу. Такая встреча оказалась бы для нас роковой: любой заметивший нас человек непременно навел бы погоню на наш след.
Впрочем, будь я способен тогда спокойно рассуждать, я понял бы, что эти страхи мои излишни. Если собаки выследят нас здесь, никаких указаний от лесорубов и возчиков не потребуется. Но тогда я об этом не подумал и вздохнул с облегчением, когда вырубка осталась позади и нас скрыл густой шатер девственного леса.
Теперь все зависело от быстроты наших ног: успеем ли мы добраться до озера, вызвать негра с пирогой и скрыться из виду, прежде чем собаки примчатся туда? Если нам посчастливится — мы спасены или, во всяком случае, можем надеяться на спасение. Собаки, конечно, приведут погоню к тому месту, где мы сядем в лодку, — к поваленному дереву, но дальше и люди и собаки потеряют след. Угрюмое лесное озеро представляло собой подлинный лабиринт. Зеркало воды было очень невелико, но зато с места нашей посадки ни это оконце, ни дерево, росшее посередине и похожее на островок, не были видны, а кроме того, затопленный участок занимал значительную площадь леса. Даже если Гайар и другие догадаются, что мы бежали по воде, они дважды подумают, прежде чем рискнуть нас разыскивать в этих зарослях, особенно в такое время года, когда пышная листва не пропускает солнечных лучей и в лесу всегда царит полумрак.
Однако вряд ли им придет в голову, что мы скрылись от них таким путем. На поваленном дереве, под ветвями которого пряталась пирога, не останется ни следа, ни знака. Да и кто подумает, что в таком отдалении от человеческого жилья, в какой-то стоячей луже, не соединенной протокой ни с рекой, ни с одним из ее заболоченных рукавов, может быть укрыта пирога? Следов, которые удалось бы разглядеть в лесном мраке, мы за собой не оставляли — за этим я тщательно смотрел.
Погоня решит, что собаки напали на след медведя, пумы или болотной рыси, — все эти звери, уходя от охотников, имеют обыкновение бросаться вплавь. Такими рассуждениями я старался подбодрить себя и свою спутницу, в то время как мы торопливо продолжали наш путь.
Скоро ли Габриэль откликнется на наш сигнал? — эта мысль терзала меня. Услышит ли он его сразу? Поспешит ли на мой зов? Подоспеет ли вовремя? Вот что занимало меня сейчас.
Все теперь зависело от быстроты. О, почему я не вспомнил о Габриэле раньше? Почему мы сразу же не пустились в дорогу?
Сколько времени потребуется нашим преследователям, чтобы нагнать нас? Я боялся даже подумать об этом.
Верховой всегда обгонит пешего, а собаки, как известно, бегут по следу во весь дух.
Одна надежда поддерживала меня. Место нашего ночлега они обнаружат без труда: сложенные в кучу листья папайи и мох укажут им, где мы провели ночь. Ну, а дальше? Когда мы искали пропавших лошадей, мы рыскали по лесу во всех направлениях. Я вернулся на проселок и прошел по нему порядочный кусок. Все это, несомненно, хоть на время запутает собак. Кроме того, д'Отвиль вышел из зарослей папайи другой дорогой. Ищейки могут погнаться по его следу. О, если бы это было так!
Все эти предположения проносились в моем мозгу, в то время как мы спешили вперед. Мне даже пришла в голову мысль сбить собак со следа. Я вспомнил о побегах скипидарной сосны, к помощи которой прибегал негр. Но, к сожалению, ни одна нам ни попалась, а тратить время на поиски я побоялся. Кроме того, я не очень-то верил в это средство, хотя Габриэль и клялся мне, что так можно провести любую собаку. Обыкновенная красная луковица, по его словам, тоже убивала всякий запах. Но красный лук не растет в лесах, а скипидарную сосну я так и не нашел.
Однако я принимал все доступные мне меры предосторожности. Несмотря на свою молодость, я был старый охотник и кое-чему научился, выслеживая оленей и другую дичь в родных горах. Да и три четверти года, проведенные мною в Новом Свете, не все прошли в городе, и я до известной степени уже приобщился к тайнам здешних чащоб. Поэтому мы не бежали вперед очертя голову. Там, где было можно, я старался запутать след.
В одном месте нам предстояло пересечь болотце — участок со стоячей водой, заросший тростником и растением, носящим название болотного дерева. Воды в болоте было по колено, и его ничего не стоило перейти вброд. Я знал это, так как недавно перебирался через него. Итак, взявшись за руки, мы пустились прямо через болото и благополучно выбрались на другую сторону; но чтобы не оставлять в грязи отпечатков наших ног, я сначала отыскал на берегу сухое местечко, откуда можно было прямо ступить в воду; то же самое я проделал при выходе из болотца.
Знай я, что среди участников погони имеются опытные следопыты, я, пожалуй, не стал бы напрасно стараться. Я думал, что Гайар и его подручные наспех собрали кое-кого из окрестных плантаторов и жителей поселка, людей неопытных, которых легко обманут мои незамысловатые уловки.
Если бы я догадывался, что их ведет человек, о котором мне рассказывал Габриэль, — известный всей округе следопыт, сделавший охоту на негров своей профессией, я не стал бы трудиться. Но я не подозревал, что за нами гонится этот негодяй со своими натасканными на людей собаками, и потому старался сбить погоню со следа.
Перейдя болотце, мы скоро очутились перед большой протокой и переправились на другую сторону по стволу повисшего над водой дерева. О, если бы в моих силах было разрушить этот мост, сбросить его в воду! Но я утешался тем, что если даже собаки и пройдут за нами по этой переправе, то верховые потеряют время, разыскивая брод.
Вот наконец и поляна: но я не стал мешкать ни секунды. Мы даже не кинули взгляда на яркий ковер цветов, не заметили их благоухания. Когда-то я мечтал побывать здесь с Авророй. Вот мы и попали в этот земной рай, но при каких обстоятельствах! Страшные мысли теснились в моем мозгу, когда мы почти бегом пересекали залитую солнцем и усыпанную цветами прогалину, чтобы снова углубиться в призрачный полумрак леса.
Тропу я запомнил хорошо и шел по ней без колебаний. Однако время от времени я все же останавливался, чтобы послушать, не приближается ли погоня, и дать своей спутнице отдышаться. От непривычного напряжения грудь Авроры тяжело вздымалась, но в глазах ее светилась непоколебимая решимость, а улыбка подбадривала меня.
Наконец мы очутились среди болотных кипарисов, окаймлявших озеро, и, обходя их толстые стволы, вскоре добрались до поваленного дерева. Еще несколько секунд — и нас скрыли огромные ветви, опутанные мхом. По пути я запасся дудочкой, которую, вспомнив уроки негра, вырезал из тростника, росшего здесь в изобилии. Дудка эта издавала очень своеобразный пронзительный свист, слышный даже в самых отдаленных уголках озера.
Ухватившись покрепче за ветку, я нагнулся к самой воде и, приложив тростинку к губам, подал условный сигнал.
Глава 73
ИЩЕЙКИ
Пронзительный звук далеко разнесся по воде и, казалось, проник в самые глухие закоулки леса. Он всполошил пернатых обитателей озера, и они ответили на непривычный свист нестройным и крикливым концертом. Отчаянное курлыканье журавлей и луизианских цапель, хриплое уханье сов и еще более хриплый крик пеликана слились в сплошной гомон, но всех заглушали рыболов и белоголовый орлан, чей резкий голос удивительно напоминает металлический скрежет напильника, которым точат зубья пилы.
Шум долго не стихал, и я подумал, что если придется повторить сигнал, то негр его не услышит — даже самый пронзительный свист потонет в этом содоме.
Спрятавшись среди ветвей, мы ждали дальнейшего развития событий. Мы не разговаривали. Опасность была слишком велика, чтобы в эти секунды напряженного ожидания испытывать какое-либо чувство, кроме чувства величайшей тревоги. Брошенное время от времени слово утешения, высказанная вполголоса надежда — вот и весь наш разговор.
В мучительном ожидании смотрели мы на воду и с опаской озирались на берег. С надеждой ждали плеска весла и со страхом — воющего лая собаки. Никогда не забуду я этих минут — минут тягостного, мучительного ожидания! До самой смерти не изгладятся они из моей памяти.
Все, что я передумал в эти мгновения, все, даже самые мельчайшие подробности того, что я пережил, встают передо мной так живо, будто это произошло только вчера.
Помню, раз или два нам показалось, что в тени деревьев пробежала легкая рябь. Сердце у нас радостно забилось — мы подумали, что это пирога.
По радость наша была недолгой. Волнение поднял аллигатор, и минуту спустя отвратительное животное, почти одной длины с челном, проскользнуло мимо нас, с необыкновенной быстротой рассекая воду.
Помню, я подумал тогда, что негра может и не быть в его убежище. Что, если он охотится в лесу? Да мало ли куда он мог отлучиться! Но в таком случае я нашел бы возле дерева его пирогу. А если у него есть и другие потайные стоянки — например, по другую сторону озера? Он ничего мне та— кого не говорил, но это было весьма возможно. Все эти догадки лишь усиливали мою тревогу.
Но тут у меня возникло еще одно предположение, более страшное, ибо оно было более вероятным: негр мог попросту спать! Более вероятное потому, что ночь была для него днем, а день — ночью. По ночам он выбирался из своего убежища, бродил по лесу, охотился, а днем прятался в дупле и спал.
«О Боже! Неужели он в самом деле спит и не слышал моего сигнала?» — в ужасе спрашивал я себя.
Следовало бы повторить сигнал, хотя я и понимал, что, если предположение мое верно, он все равно меня не услышит. Негр спит, как залегший в берлогу медведь, его и пушками не разбудишь. Как же мог я надеяться раз— будить его своей жалкой дудкой, тем более что птичий концерт все продолжался?
— А если Габриэль и услышит, — обратился я к Авроре, — вряд ли он отличит мой свисток от… Боже милостивый!
Это восклицание сорвалось у меня помимо моей воли, и я не успел договорить начатой фразы. Протяжный и полный значения звук, который я услышал сквозь птичий гомон и, услышав, тотчас узнал, был заливистый лай собаки, идущей по следу, Я нагнулся и прислушался. Вот опять! Эту мелодию ни с чем не спутаешь. Недаром у меня слух охотника и я не раз наслаждался этой музыкой.
Но этот лай отнюдь не казался мне музыкальным. Он звучал, как крик мести, как грозное предзнаменование гибели.
Я уже не помышлял о том, чтобы повторить сигнал. Даже если негр меня услышит, будет уже поздно. Отшвырнув тростинку, как бесполезную игрушку, я привлек к себе Аврору и, поставив ее за собой, выпрямился во весь рост и повернулся к берегу. Снова прокатившийся по лесу заливистый собачий лай прозвучал на этот раз так близко, что я невольно нагнулся, думая увидеть пса.
Ждать пришлось недолго. В сотне метров зеленели заросли тростника. Я заметил, как тростник зашевелился. Верхушки заколыхались, полые стебли затрещали, клонясь под напором подминавшего их живого существа. Какой-то зверь продирался сквозь их гущу.
Но вот тростник заколыхался еще сильнее, последний ряд его подался, и я увидел то, чего ждал, — пегую рубашку огромной собаки! Одним прыжком она выскочила из зарослей, на мгновение замерла на открытом пространстве, потом, глотнув воздух, протяжно взвыла и понеслась вперед.
За ней выскочила вторая, потревоженный тростник сомкнулся за ними, и обе побежали в сторону поваленного дерева.
Кустарника здесь не было, поэтому я хорошо их видел. Несмотря на царивший вокруг полумрак, я даже разглядел их породу и масть: это были огромные ирландские борзые, так называемые дирхаунды, серо-черный и рыжий. По тому, как они приближались, видно было, что они хорошо натасканы, и натасканы не на оленей, а на людей. Ни одна охотничья собака не шла бы так по человеческому следу, как шли они по нашему.
Увидев собак, я сразу приготовился к схватке. Их величина, широкие и тяжелые челюсти, злобный вид указывали на свирепость этих тварей. Можно было не сомневаться в том, что они кинутся на меня, едва только заметят. Поэтому я вытащил пистолет и, ухватившись за ветку, чтобы удержать равновесие, ждал их приближения.
Я не ошибся. Добежав до поваленного дерева, собака приостановилась лишь на долю секунды, потом вскочила на ствол и побежала к нам. Она уже не принюхивалась к следу; я видел ее горящие яростью глаза и с минуты на минуту ждал нападения.
Если бы я готовился к этой встрече заранее и искал наиболее выгодной позиции, то и тогда не выбрал бы удачнее. Вынужденный приближаться ко мне по прямой, мой враг не мог метнуться ни вправо, ни влево, так что мне оставалось только твердой рукой направить на него пистолет и, когда нужно, нажать гашетку. Даже новичок, впервые взявший в руки огнестрельное оружие, и тот бы не промахнулся.
Гнев напряг мои нервы, в груди горело чувство беспредельного негодования, которое придало мне твердость стали. При мысли, что меня травят, как волка, я пришел в бешенство, но то было холодное бешенство.
Я выждал, пока морда собаки не оказалась на расстоянии нескольких дюймов от дула пистолета, и нажал гашетку. Собака рухнула в воду.
За ней почти вплотную следовала вторая. Не дожидаясь, когда облако дыма рассеется, я прицелился и снова нажал гашетку.
Добрый мой пистолет не подвел меня. За выстрелом я услышал громкий всплеск падающего в воду тела.
Собак уже не было на стволе. Одна свалилась направо, другая — налево, в черную воду озера.
Глава 74
ОХОТНИК ЗА ЛЮДЬМИ
Собаки упали в воду — одна была убита наповал, другая тяжело ранена. Но эта собака уже была обречена: пулей ей перешибло ногу, и хотя она судорожно билась в воде, пытаясь выплыть, это ей никак не удавалось. Через несколько минут она камнем пошла бы ко дну, но, как видно, ей не суждено было утонуть. Рок уготовил ей иную кончину, и предсмертный вой ее пресекся довольно необычным образом.
Визг собаки — сладчайшая музыка для аллигатора. Для него собака — самая лакомая добыча, и, услышав вой гончей или даже простой дворняжки, он готов проплыть любое расстояние.
Натуралисты объясняют это любопытное явление иначе. Они утверждают — и это в самом деле соответствует истине, — что вой собаки имеет отдаленное сходство с криком молодого аллигатора, и взрослые кидаются на этот вой якобы по двум причинам: самка — чтобы защитить свое детище, а самец — чтобы его пожрать.
Наблюдение это еще оспаривается наукой, одно лишь неоспоримо — аллигатор никогда не упустит случая полакомиться собакой. Схватив добычу страшными челюстями, он утаскивает ее в свои подводные владения. При этом он действует с такой жадностью, которая красноречиво говорит о том, что собачье мясо и впрямь его любимое блюдо.
Поэтому я нисколько не удивился, когда с полдюжины этих гигантских пресмыкающихся вдруг вынырнули среди темных стволов деревьев и быстро поплыли к раненой собаке.
Они устремились к тому месту, откуда слышался непрерывный визг, окружили барахтающуюся борзую плотным кольцом и ринулись на свою жертву.
Стая акул и та уступила бы им в проворстве. Удар хвостом одного из аллигаторов пресек вой пса, три или четыре пары грозных челюстей одновременно щелкнули, последовала недолгая борьба, потом длинные костлявые головы разомкнулись, и чудовища поплыли в разные стороны, каждое унося в зубах по куску. Только несколько пузырей да красная пена, выступившая на чернильной поверхности воды, указывали место, где еще недавно билась собака.
Примерно такая же сцена разыгралась и по ту сторону поваленного дерева — озеро здесь едва достигало нескольких футов глубины, и на дне было хорошо видно тело убитой собаки. Три или четыре аллигатора, приблизившихся к дереву с этой стороны, заметили собачий труп и, кинувшись вперед, разделались с ним так же ловко, как их сородичи с другим псом. Пара ирландских борзых исчезла в пасти этих прожорливых тварей быстрее, чем крошка хлеба, брошенная в стаю голодных пескарей. Но как ни поразительно было это зрелище, я почти не обратил на него внимания. Мысли мои были заняты другим.
После выстрела я продолжал стоять на поваленном дереве, устремив взгляд в ту сторону, откуда появились собаки.
Я пристально всматривался в просветы между стволами, в темную глубину леса. Я следил за зарослями тростника, стараясь уловить малейшее движение, прислушивался к каждому звуку и шороху, но сам хранил молчание и жестом велел молчать своей дрожащей спутнице.
Надежды почти не оставалось. Вот-вот появятся еще собаки, другие, отставшие ищейки, а с ними верховые — охотники за людьми. Они близко и скоро подойдут — скоро, потому что мои выстрелы укажут им путь. Оказывать сопротивление отряду разъяренных людей бессмысленно. Оставалось одно — сдаться.
Аврора, видя, что я выхватил второй пистолет, умоляла меня сдаться, не пуская в ход оружия. Но я и не собирался стрелять в людей — я приготовил пистолет, чтобы защищаться от нападения собак, если они появятся.
В лесу стояла тишина, и ничто не указывало на приближение моих преследователей. Что могло их задержать? Может быть, переправа через протоку или болотце? Я знал, что лошадям там не пройти и всадники вынуждены будут искать объезд. Но все ли они верхом?
Я даже начал надеяться, что Габриэль подоспеет. Если он не слыхал моего сигнального свиста, то не мог же он не слышать выстрелов! Но потом мне пришло в голову, что это еще, чего доброго, его отпугнет. Он не поймет, кто и зачем стрелял, и побоится выехать на своей пироге.
Хорошо, если он услышал первый сигнал и находится в пути! Прошло не так много времени, и еще оставалась надежда. Пусть здесь было немало пережито, но пришли мы сюда совсем недавно. Если Габриэль услышал выстрелы по пути сюда, то он решит, что я стрелял из своей двустволки, стрелял в какую-нибудь дичь, и не оробеет. Может быть, он еще подоспеет вовремя и мы благополучно доберемся до его дупла.
Кроме двух-трех пятен крови на шероховатой коре дерева, ничто не указывало на то, что здесь побывали собаки, да и эти пятна вряд ли видны с берега. Если у охотников нет других собак, которые доведут их до меня, им нелегко будет обнаружить эти следы в царящем тут полумраке, и, может быть, нам все-таки удастся ускользнуть.
С новой надеждой я повернулся к воде и стал глядеть в ту сторону, откуда, как мне казалось, должна была появиться пирога. Увы, ничто не говорило о ее приближении. Кроме крика потревоженных птиц, ни звука не доносилось с озера.
Я снова повернулся к берегу.
Заросли тростника колыхались. Длинные стебли гнулись и трещали под тяжелой поступью человека. Вот он уже показался из зарослей и вразвалку пошел к воде.
Он шел один, лошади и собак с ним не было, но перекинутый через плечо длинноствольный винчестер и охотничье снаряжение указывало на то, что это хозяин ирландских борзых.
Густая черная борода, гетры и куртка из оленьей кожи, красный шейный платок и енотовая шапка, а главное, свирепое выражение лица не оставляли сомнений в том, кто этот субъект. Он в точности соответствовал описанию, которое я слышал от беглого негра. Это мог быть только Рафьен — охотник за людьми!
Глава 75
ВЫСТРЕЛ ЗА ВЫСТРЕЛ
Да, субъект, который вышел из зарослей, был действительно Рафьен, охотник за людьми, и пристреленные мною собаки принадлежали ему. Это была пара хорошо известных всей округе ищеек, специально обученных выслеживать несчастных негров, когда, не выдержав зверского обращения надсмотрщика, те бежали в леса. Не меньшую известность снискал и их хозяин — распутный и грубый малый, добывавший себе пропитание отчасти охотой, отчасти кражей свиней. Жил он в лесу, как дикарь, и изредка нанимался к окрестным плантаторам, нуждавшимся в его услугах и услугах его омерзительных псов.
Как я уже говорил, мне никогда не приходилось встречаться с этим субъектом, хотя я достаточно слышал о нем и от Сципиона, и от Габриэля. Последний весьма подробно описал мне наружность Рафьена и сообщил немало поистине потрясающих историй, свидетельствующих о его злобном и лютом нраве: нескольких беглых негров он убил, а других затравил своими свирепыми псами.
Его ненавидели и боялись во всех негритянских поселках побережья, а матери-негритянки пугали именем Рафьена своих малышей, когда они капризничали, и те сразу затихали. Да и имя-то какое! Ведь Рафьен означает «головорез»!
Такая слава шла о Рафьене, охотнике за людьми, среди черных рабов на плантациях. Его имя внушало больше страха, чем пытка и ременная плеть. По сравнению с ним какой-нибудь палач-надсмотрщик вроде Билла-бандита показался бы ангелом.
При виде этого человека я сразу же оставил всякую мысль о побеге.
Уронив руку, сжимавшую пистолет, я ждал, когда он подойдет, чтобы сразу сдаться. Сопротивление не привело бы ни к чему, кроме бессмысленного кровопролития. Поэтому я стоял молча и посоветовал своей спутнице тоже хранить молчание.
Выйдя из зарослей, Рафьен не сразу нас заметил. Меня наполовину скрывали густые фестоны испанского мха, а Аврору за зеленью и вовсе не было видно. Кроме того, охотник не смотрел в нашу сторону, глаза его были устремлены на землю. Он, конечно, слышал выстрелы, но больше полагался на свое чутье следопыта. По тому, как он шел, низко пригнувшись к земле, я понял, что он идет по следу собственных псов почти так, как шла бы собака.
Когда он приблизился к озеру, на него вдруг пахнуло затхлым запахом воды. Он остановился, поднял голову и посмотрел вперед. То, что перед ним оказалось озеро, видимо, его озадачило, и он выразил свое удивление коротким ругательством:
— Черт!
Затем взгляд его упал на поваленное дерево и, следуя дальше по стволу, остановился на мне.
— Лопни мои глаза! — воскликнул он. — Так это вы? А где мои собаки?
Я тоже смотрел на него в упор, но молчал.
— Я вас спрашиваю, черт бы вас побрал, где мои собаки?
Я все молчал.
Взгляд его упал на ствол дерева. Он заметил пятна крови на коре, вспомнил про выстрелы.
— Проклятье! — прорычал он. — Ты убил моих собак!
И вслед за тем полился нескончаемый поток угроз и брани, сопровождаемой такой дикой жестикуляцией, что я подумал — уж не сошел ли он с ума.
Но вскоре он прекратил свои бессмысленные прыжки и кривлянья, широко расставил ноги, вскинул к плечу винчестер и закричал:
— Слезай с дерева и тащи свою черномазую! Живо, черт тебя побери! Слезай, говорят! Будешь долго раздумывать — пристрелю!
Я уже говорил, что при первом взгляде на этого человека я оставил всякую мысль о сопротивлении и намеревался сразу же сдаться, но его наглое требование и оскорбительный тон задели меня за живое, и я решил защищаться.
Злоба придала мне новые душевные и телесные силы, мой дух и моя рука обрели утраченную было твердость. Этот негодяй травит меня, как дикого зверя, но я ему не поддамся!
К тому же, против ожидания, Рафьен явился сюда один. Он шел за своими собаками пешком, тогда как другие ехали верхами и, должно быть, задержались у протоки или болота. Если бы преследователи подошли все вместе, я волей-неволей вынужден был бы покориться. Но охотник за людьми, каким бы опасным противником он ни был, явился сюда в единственном числе, а безропотно сдаваться одному человеку не позволяли мне понятия чести, унаследованные от моих воинственных предков. Как-никак, в моих жилах текла кровь вольных горцев, и я решил сразиться, а там будь что будет!
Крепко сжав в руке пистолет, я прямо посмотрел в налитые кровью глаза наглеца и крикнул:
— Стреляйте! Но смотрите не промахнитесь, потому что я-то уж не промахнусь!
Направленное на него дуло пистолета поколебало решимость Рафьена, и будь у него малейшая возможность, я не сомневаюсь, что он уклонился бы от поединка. Он не ждал такой встречи.
Но он зашел уже слишком далеко, и отступать было поздно. Винтовка была вскинута к плечу, и в ту же секунду я увидел вспышку и услышал выстрел. Услышал я и щелчок пули, ударившейся в ветку, на которую я опирался. Хоть Рафьен по праву слыл метким стрелком, вид моего пистолета помешал ему хладнокровно прицелиться, и он промахнулся.
Зато я не промахнулся: Рафьен упал с диким воплем, и когда дым от выстрела рассеялся, он уже барахтался в черной тине.
Я хотел было послать вдогонку вторую пулю, чтобы прикончить негодяя, — такая меня душила злоба, но в эту минуту услышал позади себя плеск весла и мужской голос. Обернувшись, я увидел негра.
Габриэль пригнал пирогу почти к тому самому месту, где мы стояли среди ветвей, и теперь жестами и словами торопил нас садиться в нее:
— Скорее, масса! Скорее, Popal Прыгайте! Прыгайте скорей! Верьте старому Габу — он умрет, а будет биться до последнего вместе с молодым массой.
Машинально, не отдавая себе отчета в том, что делаю, я послушался беглеца, хотя почти не верил в успех нашего предприятия, и, усадив Аврору в челн, спрыгнул сам и сел с ней рядом. Несколько сильных взмахов весла — и берег остался далеко позади, а через пять минут мы уже подплывали к огромному кипарису, возвышавшемуся на середине озера.
Глава 76
ЛЮБОВЬ В ЧАС ОПАСНОСТИ
Лодка скользнула в тень дерева, и мы подплыли под свисающие с него гирлянды испанского мха. Еще мгновение — и нос пироги уткнулся в ствол. Все так же машинально я вскарабкался на широкий комель и помог взобраться Авроре.
И вот мы в дупле, потаенном убежище беглеца, и на время вне опасности. Но мы не радовались. Мы понимали, что это всего лишь краткая передышка и нам не укрыться здесь от погони.
Встреча с Рафьеком погубила все. Умер ли охотник или остался жив, он приведет сюда остальных. Догадаться, куда мы бежали, не так уж трудно, и наше убежище очень скоро обнаружат.
То, что произошло, лишь усилит ярость наших врагов, и они еще настойчивее будут продолжать поиски. До появления Рафьена могла быть еще какая-то надежда ускользнуть. Большинство наших преследователей вышли в погоню за нами, как на обычную охоту за беглым негром, и, коль скоро наш след будет затерян, утратят свой боевой пыл. Да и Гайар не пользовался такой популярностью, чтобы ради него особенно старались; кровно заинтересован в успехе был лишь он сам да его подручные. Если бы около поваленного дерева не осталось следов нашего пребывания, мрачный лабиринт затопленного леса, возможно, отпугнул бы наших преследователей, большинство махнули бы рукой на безнадежную затею и разошлись по домам. Тогда, отсидевшись до вечера в нашем дупле, мы с наступлением темноты вновь переплыли бы озеро, высадились в другом месте, и негр вывел бы нас к береговой дороге, где нас должен был ждать д'Отвиль с лошадьми. А оттуда мы, как и предполагали раньше, двинулись бы в город.
Таков был придуманный мною наспех план действий, и до появления Рафьена, возможно, его удалось бы осуществить.
Даже после того, как я пристрелил собак, мы не отчаивались: кое-какие шансы на успех все же оставались. Задержавшись у протоки и потеряв из виду собак, наши преследователи могли сбиться со следа или, во всяком случае, продвигались бы много медленнее. Если даже они догадаются об участи, постигшей собак, то ни пешему, ни конному все равно не добраться до нашего убежища. Им потребуются лодки или пироги. Доставить сюда лодки с реки не так-то просто, а там наступит ночь. Единственной моей надеждой были ночная мгла и д'Отвиль.
Но перестрелка с Рафьеном спутала все карты.
После нашего поединка положение изменилось. Живой или мертвый, Рафьен приведет погоню к нашему убежищу. Если он жив, — теперь, когда гнев мой улегся, я дорого бы дал, чтобы он остался жив, — охотник сразу направит погоню за нами.
Мне казалось, что он жив, что я только ранил его. Смертельно раненный человек не мог бы так барахтаться. Я думал и надеялся, что он жив, но не потому, что испытывал угрызения совести, а лишь из чувства самосохранения. Если Рафьен мертв, тело его не замедлят найти у поваленного дерева, и оно будет свидетельствовать против меня. Поймать нас все равно поймают, но только последствия будут самые трагические.
Словом, встреча с этим негодяем оказалась для нас роковой. Она коренным образом изменила все. В защиту беглой невольницы была пролита кровь белого! Весть эта быстро дойдет до поселка, облетит все плантации. Вся округа поднимется на ноги, и число преследователей утроится. За мной станут охотиться как за человеком, совершившим двойное преступление, и рвение моих врагов будет подогреваться яростью и жаждой мести. Все это я знал и уже не рассчитывал на спасение. У нас не оставалось теперь и тени надежды.
Я привлек к себе свою нареченную, обнял ее и прижал к своей груди. Нас разлучит только смерть! В этот грозный и мрачный час она дала мне клятву. Только смерть разлучит нас!
Любовь Авроры вдохнула в меня мужество, и я бесстрашно ждал того, чего не в силах был предотвратить.
* * *
Прошел еще час.
Несмотря на грозившую нам опасность, мы не заметили, как пролетело время. Вы, вероятно, удивитесь, если я скажу, что это был один из счастливейших часов в моей жизни. Впервые после дня помолвки с Авророй я беседовал с ней без свидетелей. Мы остались наедине — преданный негр стоял на страже возле пироги.
Недавние ревнивые подозрения еще сильнее разожгли мои чувства, ибо таков закон природы, и, воспламененный любовью, я почти забыл о нашем отчаянном положении.
Снова и снова давали мы друг другу обеты верности, снова и снова повторяли клятвы любви с горячностью и красноречием, подсказанными истинной страстью. О, то были счастливые минуты!
Увы, нашему счастью, скоро пришел конец! Конец горестный, но не неожиданный. Когда в лесу затрубил рог, когда там стали громко перекликаться десятки людей, я ничуть не удивился. Не удивился я и тогда, когда услышал гулко разносящиеся по воде голоса, выкрикивавшие ругательства и проклятья, скрип уключин и плеск весел. И когда Габриэль сообщил, что несколько лодок с вооруженными людьми приближаются к нашему дереву, известие не застало меня врасплох: я это предвидел.
Я спустился вниз по стволу дерева и, наклонившись, выглянул из-под завесы свисающего мха. Отсюда мне было видно все озеро. Я хорошо различал людей в пироге и яликах, как они гребли и жестикулировали.
Дойдя примерно до середины озера, они бросили весла и принялись совещаться. Немного погодя они разбились на группы и стали объезжать дерево, как видно, решив нас окружить.
Задуманный маневр был выполнен в несколько минут, и теперь лодки со всех сторон приближались к нам, пока не очутились среди низко склонившихся к воде ветвей болотного кипариса. Торжествующий крик оповестил о том, что убежище наше обнаружено, и сквозь фестоны испанского мха я увидел настороженные лица.
Нас заметили; заметили пирогу и стоящих у ее носа Габриэля и меня.
— Сдавайтесь! — раздался чей-то повелительный голос. — А станете сопротивляться — пеняйте на себя!
Но, несмотря на предложение сдаться, лодки не трогались с места. Сидевшие в них знали, что я ношу при себе пистолеты и умею ими пользоваться — они имели случай убедиться в этом, — и, боясь, как бы я снова не пустил в ход оружие, они не слишком спешили подойти.
Но страхи их были напрасны — я и не думал стрелять. Пытаться оказать сопротивление двум десяткам хорошо вооруженных людей, — а в лодках сидело никак не меньше, — было бы чистейшим безумием. Я и не помышлял о том. Однако, решись я на такой шаг, не сомневаюсь, что Габриэль дрался бы бок о бок со мной до последнего. Смелый негр, отвагу которого удесятеряла весть о грозящей ему каре, сам предложил дать бой. Но смелость его граничила с безумием, и я молил его не сопротивляться, потому что его наверняка уложат на месте.
Я не собирался пускать в ход оружие, но медлил с ответом.
— Мы хорошо вооружены, — продолжал парламентер, по-видимому, пользовавшийся авторитетом у остальных. — Сопротивляться бессмысленно, лучше вам сразу сдаться…
— Что с ними долго разговаривать! — прервал его другой грубый голос.
— Подпалим дерево и выкурим их оттуда. Мох сразу же вспыхнет!
Я узнал этот голос. Бесчеловечное предложение исходило от бандита Ларкина.
— Я и не собираюсь сопротивляться, — ответил я их предводителю, — и готов следовать за вами. Никакого преступления я не совершил. За свои поступки я готов ответить перед законом.
— Вы ответите нам! — рявкнул кто-то с другой лодки. — Мы здесь закон!
В его словах прозвучала скрытая угроза, которая заставила меня насторожиться, но наши переговоры на этом закончились. Ялики и челны устремились к дереву. Я увидел направленный на меня десяток винчестеров и пистолетов, и десяток голосов хором скомандовал нам сесть в лодки.
По свирепому и решительному виду этих грубых людей я понял, что нам не остается ничего другого, как покориться или умереть.
Я отвернулся, чтобы попрощаться с Авророй: она выбралась из дупла и, рыдая, стояла подле меня.
Воспользовавшись этим, несколько человек влезли на дерево, набросились на меня сзади, скрутили мне руки за спиной и крепко связали.
Я едва успел сказать последнее прости Авроре, которая уже не плакала, а взирала на суетившихся вокруг меня людей с нескрываемым презрением. А когда меня втолкнули в лодку, смелая девушка крикнула дрожащим от негодования голосом:
— Трусы! Жалкие трусы! Ни один из вас не осмелился встретиться с ним в открытом бою! Ни один! — И в этих словах прозвучало все благородство ее души.
Этот порыв моей невесты восхитил меня, он явился лучшим доказательством ее любви. Я восторгался ею и с наслаждением выразил бы ей свой восторг, если бы моя стража, явно пристыженная словами Авроры, не поспешила отчалить. В следующую секунду пирога, в которую меня поместили, вы— летела из-под низко нависших ветвей и заскользила по озеру.
Глава 77
СТРАШНАЯ УЧАСТЬ
Аврору я больше не видел. Не видел и беглого негра. Но из разговоров сопровождавших меня людей я понял, что обоих должны были увезти в одной из оставшихся лодок и что высадят их где-то в другом месте. Понял я так— же, что несчастного негра ждало страшное наказание, которого он так боялся: ему отрубят правую руку!
Как ни горько мне было это узнать, еще тяжелее было выслушивать их грубые шутки. Я даже не могу повторить те оскорбления, которыми они осыпали меня и мою возлюбленную.
Но я не пытался защищать ни ее, ни себя. Я не отвечал им. Я сидел молча, устремив мрачный взгляд на воду, и почувствовал даже какое-то облегчение, когда пирога снова поплыла среди поднимавшихся из воды стволов кипарисов и темная тень их скрыла мое лицо от посторонних взглядов. Меня везли к поваленному дереву.
Подъезжая, я увидел на берегу толпу людей и среди них свирепого Рафьена с обмотанной кровавой тряпкой рукой, висевшей на перевязи, которой служил красный шейный платок. Как ни в чем не бывало стоял он вместе с остальными.
«Слава Богу, я не убил его! — мысленно воскликнул я. — Хоть за это не придется быть в ответе!»
К тому времени подоспели остальные ялики и пироги, за исключением лодки с беглым негром и Авророй, и все высадились. На берегу собралось человек тридцать или сорок взрослых мужчин и подростков. Большинство были вооружены пистолетами или винчестерами и на фоне темной зелени леса представляли довольно живописную группу. Но в ту минуту я не склонен был любоваться картинами такого рода.
Меня высадили и под надзором двух вооруженных конвоиров, из которых один шагал впереди, а другой — сзади, повели куда-то. Толпа повалила за нами; кто забежал вперед, кто отстал, а мальчишки и кое-кто из мужчин шли рядом и глумились надо мной.
Я не стерпел бы подобного издевательства, но понимал, что, дав волю своему гневу, ничего этим не достигну, разве только доставлю лишнее удовольствие моим мучителям. Поэтому я упорно молчал и старался глядеть в сторону или в землю.
Мы шли быстро, насколько позволял густой кустарник, через который приходилось продираться окружавшей меня толпе, и я был рад этому. Я полагал, что меня ведут к какому-нибудь должностному лицу или мировому судье, как их здесь обычно называют. Во всяком случае, под стражей закона и его блюстителей я буду огражден от издевательств и оскорблений, которые градом сыпались на меня со всех сторон. Единственное, чего мне не пришлось испытать, — это побоев, хотя среди моего эскорта находились и такие, которые не прочь были бы пустить в ход кулаки.
Но вот лес поредел, между стволами засинело небо. Я решил, что мы каким-то ближним путем дошли до лесосеки. Но я ошибся, ибо несколько мгновений спустя мы выбрались на поляну. Снова эта поляна!
Здесь шествие остановилось, и в ярком сиянии солнечных лучей мне представилась возможность разглядеть моих мучителей. С первого же взгляда я понял, что попал в руки разнузданного сброда.
Тут был Гайар собственной персоной со своим надсмотрщиком, работорговцем и негодяем Ларкином.
С ними пришли человек пять или шесть креолов-французов из собственников победнее — владельцы двух-трех ткацких станков — и мелкие плантаторы. В остальном же здесь собрались одни отбросы общества — пьяные лодочники, которых я часто видел ораторствующими у бакалейной лавочки, местные буяны и отъявленные головорезы. И ни одного мало-мальски уважаемого землевладельца, ни одного уважаемого человека!
Но почему мы остановились на поляне? Я торопился поскорее попасть к судье и возмутился задержкой.
— Почему мы стали здесь? — раздраженно осведомился я.
— Потише, мистер! Больно уж ты прыток! — ответили мне из толпы. — Не торопись, скоро все узнаешь.
— Я протестую и требую, чтобы меня немедленно отвели к судье! — продолжал я возмущенно.
— Не бойся, отведут! Идти недалеко: судья-то — он здесь!
— Кто? Где? — спросил я, оглядываясь и полагая, что судья в самом деле находится в толпе.
Я слышал о дровосеках, исполняющих обязанности мировых судей, даже сам встречался с одним таким судьей, и теперь, обводя взглядом грубые лица, надеялся найти среди них представителя закона.
— Где же судья? — повторил я.
— Тут, тут, не беспокойся! — ответил один.
— Где судья? — гаркнул другой.
— Судья! Куда ты запропастился? Судья! — закричал третий, словно обращаясь к кому-то в толпе. — Валяй сюда, ваша милость! Прошу покорно, тут вас желают видеть!
Сначала я подумал, что он говорит всерьез и что в толпе действительно стоит судья.
Единственное, что меня поразило, — это слишком вольное обращение с представителем закона.
Но мое заблуждение длилось недолго, ибо в то же мгновение ко мне почти вплотную подскочил перевязанный и перепачканный тиной Рафьен и, пронзив меня взглядом своих злых, налитых кровью глаз, пригнулся к самому моему лицу и прошипел:
— Неужто, пускаясь воровать негров, мистер никогда не слыхал о судье Линче?
Кровь застыла у меня в жилах. Только теперь я понял страшную правду: меня собираются линчевать!
Глава 78
ПРИГОВОР СУДЬИ ЛИНЧА
У меня и раньше мелькало подобное подозрение. Я вспомнил, как мне крикнули из лодки: «Вы ответите нам! Мы здесь закон!» Я слышал какие-то загадочные обрывки фраз, пока мы шли лесом, а когда мы выбрались на поляну, обратил внимание на то, что все обогнавшие нас чего-то ждали, но я не мог понять причины этой остановки.
Теперь я увидел, что мужчины отошли в сторону и стали в круг; их торжественный вид указывал на то, что они готовятся к какому-то важному делу. Возле меня остались одни только подростки да негры, ибо и негры участвовали в моей поимке. Рафьен же подошел ко мне, желая, очевидно, насладиться местью и помучить меня.
Все это пробудило во мне страшные подозрения, которые были сначала только подозрениями. Я даже намеренно гнал прочь подобные мысли; мне представлялось, что если я стану думать об этом, то непременно накликаю на себя беду. Но теперь это уже были не подозрения — это была уверенность. Они линчуют меня!
Многозначительный и ехидный вопрос Рафьена о судье Линче был встречен дружным взрывом смеха собравшихся возле меня подростков. И Рафьен продолжал:
— Нет, видно, ты не слышал о таком судье — ведь ты приезжий, англичанин. А среди ваших париков такого нет. Он-то уж не станет тебя мариновать двадцать лет под следствием. Нет, лопни мои глаза! Живо рассудит. Оглянуться не успеешь!
Не довольствуясь словами, этот мерзавец сопровождал свою речь издевательскими ужимками и жестами, к вящему удовольствию нетребовательной аудитории, которая буквально покатывалась со смеху.
Если бы меня не связали, я кинулся бы на него, но, даже связанный и даже зная, с каким грубым человеком я имею дело, я не удержался от искушения и крикнул ему:
— Ты не посмел бы так глумиться надо мной, негодяй, если б у меня не были скручены руки! А пока что не мне досталось, а тебе! На всю жизнь останешься калекой! Впрочем, что за беда: стрелок ты все равно неважный.
Слова мои привели Рафьена в ярость, тем более что мальчишки принялись теперь хохотать уже над ним. Было бы несправедливо назвать их всех испорченными вконец. В их глазах я был аболиционистом и, по их понятиям, просто воровал негров, а пример и прямое поощрение старших пробуждали в них самые темные инстинкты. Однако в основе своей это были незлые ребята. Простые мальчуганы, выросшие в лесной глуши, они оценили смелость моего ответа и больше уже не насмехались надо мной.
Иное дело Рафьен. Он разразился потоком ругательств и угроз и уже потянулся было, чтобы схватить меня здоровой рукой за горло, но тут его позвали на совет, и, помахав несколько раз кулаком перед моим носом и выругавшись на прощанье, он оставил меня в покое.
Несколько минут я провел в томительном ожидании. Я не знал ни того, что обсуждает толпа, ни того, что собираются со мной сделать, одно только было мне ясно — к судье меня не поведут. Из долетавших до меня обрывков фраз, как, например: «Выпороть его, подлеца!», «Обвалять в дегте и перьях!», я понял, какое наказание меня ждет. Но, вслушавшись внимательно, я убедился, что очень многие из моих судей считают эту кару еще чересчур мягкой. Некоторые прямо утверждали, что за нарушение закона я должен поплатиться жизнью.
На эту точку зрения стало большинство, и они призвали Рафьена себе на подмогу.
Постепенно мною начал овладевать страх, вернее — ужас, который достиг предела, когда я увидел, как кольцо мужчин разомкнулось и двое из них, взяв веревку, подошли к стираксовому дереву, росшему на краю поляны, и перекинули конец через толстый сук.
Судебное разбирательство кончилось, теперь оставалось вынести приговор. Даже у судьи Линча была своя процедура.
Когда веревку закрепили, один из мужчин — это был работорговец — подошел ко мне и в подражание судье огласил обвинение и приговор.
Я нарушил закон, совершив два тягчайших преступления: украл двух рабов и покушался на жизнь своего ближнего. Присяжные в числе двенадцати человек, рассмотрев обвинение, признали меня виновным и приговаривают меня к смерти через повешение. Он даже в точности повторил принятую в судопроизводстве формулу: меня «повесят за шею, пока я не буду мертв — мертв!»
Вы сочтете мой рассказ преувеличенным, даже невероятным. Вы подумаете, что я шучу. Вы не поверите, что подобное беззаконие может твориться в христианской — в цивилизованной — стране. Вы решите, что люди эти просто хотели подшутить надо мной и что у них и в мыслях не было меня вешать.
Ваше право сомневаться, но клянусь, что таково действительно было их намерение, и тогда я был так же убежден в том, что они меня повесят, как теперь убежден в том, что остался жив.
Хотите — верьте мне, хотите — нет, но не забывайте, что я был бы не первой жертвой суда Линча, и, слушая приговор, я хорошо помнил это. А кроме того, передо мной были такие вещественные доказательства, как веревка, дерево и судьи, один вид которых мог бы убедить любого. Ни проблеска милосердия не отражалось на их лицах!
Не знаю, что я говорил и что делал в эту страшную минуту. Помню только, что негодование пересиливало страх, что я возмущался, угрожал, слал им проклятия, а мои беспощадные судьи лишь смеялись в ответ.
Приговор должен был быть с минуту на минуту приведен в исполнение, и меня уже потащили к дереву, как вдруг послышался топот копыт, и несколько мгновений спустя из леса выскочила группа всадников.
Глава 79
В РУКАХ ШЕРИФА
Первое, что мне бросилось в глаза, было спокойное, решительное лицо скакавшего впереди Рейгарта, и сердце у меня затрепетало от радости. За ним ехал окружной шериф в сопровождении отряда добровольной полиции — десятка полтора человек, среди которых были наиболее уважаемые местные землевладельцы. Они на всем скаку ворвались на лужайку, и эта спешка доказывала, что прибыли они сюда неспроста. Все они были вооружены винчестерами либо пистолетами.
Да, сердце мое затрепетало от радости. Настоящий преступник, стоя у подножия виселицы, не обрадовался бы гонцу, принесшему ему весть о помиловании, больше, чем обрадовался я. В приехавших я сразу узнал друзей, на их лицах прочел свое спасение. Поэтому я нимало не огорчился, когда шериф, спешившись, подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, объявил, что арестовывает меня «именем закона». Не огорчила меня ни резкость тона, ни даже грубоватый жест. Эта внешняя грубость была явно намеренной, и арест я принял с ликованием, ибо он сохранял мне жизнь. Я понял, что спасен!
Но то, что так обрадовало меня, отнюдь не пришлось по вкусу моим самозванным судьям, и они стали громко выражать свое недовольство. Меня уже осудил суд присяжных из двенадцати свободных граждан, кричали они, суд признал меня виновным в краже негров, двух негров; когда меня хотели задержать, я оказал сопротивление и «малость продырявил» одного человека, и поскольку вина моя доказана, нечего тут рассусоливать: вздернуть преступника на первом дереве, и все тут!
Шериф ответил, что это незаконно, что нужно уважать правосудие, что если я совершил преступления, в которых меня обвиняют, то я буду наказан со всей строгостью закона, но что сперва меня нужно отвести к судье, где мне будет предъявлено обвинение по всей форме, и наконец выразил свое намерение доставить меня к мистеру Клейборну, здешнему мировому судье.
Толпа начала громко пререкаться с отрядом шерифа, и нельзя сказать, чтобы этому высокому должностному лицу оказывали подобающее почтение; некоторое время я даже опасался, как бы негодяи не настояли на своем. Но американский шериф мало похож на вялого джентльмена, обычно отправляющего эту должность в Англии. В девяти случаях из десяти это человек решительный и смелый, и шериф Хикмен, с которым пришлось столкнуться моим судьям, не составлял исключения из общего правила. Кроме того, на мое счастье, в наспех собранном моим другом Рейгартом отряде оказались люди такого же склада. Сам Рейгарт, хотя и мирный человек, был известен своим хладнокровием и отвагой, а хозяин гостиницы и несколько сопровождавших шерифа плантаторов славились как люди надежные, ревнители закона и справедливости. Вооруженные до зубов, они положили бы жизнь в защиту шерифа и его требований. Правда, численно их было меньше, но на их стороне был закон, и это давало им преимущество.
В одном мне сильно повезло — моих обвинителей недолюбливали. Хотя Гайар, как уже говорилось раньше, всячески старался создать себе репутацию человека высоконравственного, он не пользовался уважением окрестных плантаторов, особенно плантаторов американского происхождения. Кроме того, все понимали, что главных крикунов тайно подбил против меня адвокат. Что касается Рафьена, которого я ранил, то участники моей поимки слышали выстрел его винчестера и знали, что стрелял первым он.
В спокойную минуту они признали бы за мной законное право защищаться, во всяком случае по отношению к этому субъекту.
Однако, если бы обстоятельства сложились иначе, если бы «оба негра» были украдены у всеми уважаемого землевладельца, а не у мсье Доминика Гайара, если бы Рафьен был человеком достойным, а не жалким пропойцей и бродягой, и если бы присутствующие сразу не почувствовали, что здесь речь идет не о простой краже, — тогда дело могло обернуться для меня плохо, несмотря на вмешательство шерифа и его отряда.
Но и тут не обошлось без длительной и гневной перебранки; и та и другая сторона орала, грозила друг другу кулаками, защелкали даже взводимые курки винчестеров и пистолетов.
Но храбрый шериф не дрогнул, Рейгарт держался весьма мужественно, хозяин гостиницы и несколько молодых плантаторов выказали должную отвагу — и закон восторжествовал.
Да, волею судеб и благодаря вмешательству десятка благородных людей закон восторжествовал, иначе мне ни за что не уйти бы живым с этой поляны.
Судья Линч вынужден был отступить перед судьей Клейборном, и жестокий приговор первого был на время отменен.
Одержавший победу шериф и его отряд окружили меня, и мы тронулись в путь.
Но хотя мои кровожадные судьи уступили, они могли еще передумать и попытаться вырвать меня из рук правосудия. Поэтому шериф велел дать мне лошадь и сам ехал рядом со мной, а с другой стороны меня охранял его испытанный помощник. Рейгарт и плантаторы старались держаться поближе к нам, а кричащая и ругающаяся толпа замыкала шествие, кто на лошадях, а кто и просто пешком.
В таком порядке мы проследовали через лес и поле, спустились по дороге, ведущей в Бринджерс, и наконец прибыли в резиденцию сквайра Клейборна — мирового судьи округа.
К дому его примыкала большая комната, где сквайр имел обыкновение отправлять правосудие. Этот «судебный зал» сообщался с домом простой дверью, и, кроме двух-трех скамеек да стоящей в углу невысокой кафедры, ничто не указывало на его назначение.
За этой кафедрой судья улаживал мелкие ссоры, снимал за четверть доллара показания под присягой и вершил прочие гражданские дела. Но чаще всего его судейская деятельность сводилась к тому, чтобы назначать строптивому негру соответствующее количество плетей по жалобе совестливого хозяина, ибо несчастный раб, хотя бы теоретически, находился под защитой закона.
В эту-то комнату и ввел меня шериф и его помощники; толпа ввалилась за нами, и скоро там яблоку негде было упасть.
Глава 80
РАЗВЯЗКА
Как видно, судья был оповещен заранее, ибо мы застали сквайра Клейборна в его судейском кресле готовым выслушать стороны. В худом седовласом и благообразном старце я сразу признал достойного представителя закона — одного из тех почтенных судей, которые внушают уважение не только в силу преклонного возраста и занимаемого поста, но прежде всего своими высокими добродетелями. Несмотря на окружавший меня шумный сброд, я прочел в ясном и твердом взгляде судьи решимость оставаться до конца беспристрастным.
Теперь я уже не боялся. В пути Рейгарт успел сказать мне, чтобы я не падал духом. Он шепнул мне что-то о новом, неожиданном повороте дела, но я плохо расслышал его и не понял, что он имел в виду, а в спешке и сумятице мне не представилось случая его переспросить.
— Не падайте духом! — сказал он, когда, подстегнув свою лошадь, поравнялся со мной. — И не бойтесь. Все будет хорошо. Это довольно необычное дело, и кончится оно необычно и кое для кого весьма неожиданно. Ха-ха-ха!
К моему удивлению, Рейгарт захохотал — казалось, он чему-то искренне радовался. Я с недоумением взглянул на него.
Но мне так ничего и не удалось узнать, потому что в эту минуту шериф повелительным тоном запретил вести разговоры с арестованным, и нас раз— лучили. Как ни странно, но я не рассердился на шерифа. Что-то подсказывало мне, что грубость его притворная и что шериф Хикмен прибег к этой уловке, желая умиротворить толпу.
Когда меня подвели к кафедре, шериф и судья не без труда водворили в зале порядок. Судья, воспользовавшись относительным затишьем, наконец приступил к делу.
— Итак, джентльмены! — произнес он твердым официальным тоном. — Я готов выслушать выдвинутые против этого молодого человека обвинения. В чем он обвиняется, полковник Хикмен? — обратился он к шерифу.
— В краже негров, насколько я понимаю, — ответил тот.
— Кто предъявляет обвинение?
— Доминик Гайар! — раздался голос из толпы, и я узнал его: это был голос самого адвоката.
— Присутствует ли здесь мсье Гайар лично? — осведомился судья.
Голос ответил утвердительно, и лисья физиономия моего врага вынырнула из толпы.
— Мсье Доминик Гайар, — произнес судья, — в чем обвиняете вы арестованного? Изложите ваше обвинение подробно и под присягой.
Покончив с формулой присяги, Гайар изложил свой иск со всеми тонкостями и вывертами, достойными прожженного крючкотвора.
Мне незачем здесь воспроизводить все его юридические хитросплетения. Достаточно сказать, что обвинение состояло из нескольких пунктов.
Во-первых, я будто бы подстрекал к мятежу и пытался взбунтовать невольников плантации Безансонов, помешав «справедливому» наказанию одного из негров. Во-вторых, я подучил другого невольника ударить надсмотрщика, после чего склонил его бежать в лес и помог ему скрыться. Имелся в виду тот самый Габриэль, который сегодня был пойман вместе со мной. В-третьих — и тут Гайар дошел до самого выигрышного пункта своего обвинения…
— В-третьих, — продолжал он, — проникнув в мой дом в ночь на восемнадцатое октября, арестованный выкрал оттуда невольницу Аврору Безансон…
— Ложь! — прервал его чей-то голос. — Ложь! Аврора Безансон не невольница!
Гайар вздрогнул, словно его ударили ножом.
— Кто смеет это утверждать? — осведомился он, но уже без прежнего апломба.
— Я! — отвечал тот же голос, и в то же мгновение молодой человек вскочил на скамью; теперь он на голову возвышался над толпой. Это был д'Отвиль!
— Я утверждаю! — повторил он так же твердо. — Аврора Безансон не невольница, а свободная квартеронка! Судья Клейборн, — продолжал д'Отвиль, — сделайте милость, прочтите этот документ! — С этими словами он передал стоявшему рядом человеку сложенный вчетверо пергамент, а тот передал его дальше.
Шериф вручил документ судье; тот развернул бумагу и прочел ее вслух.
Это оказалась «вольная» квартеронки Авроры — свидетельство о том, что она отпускается на волю, составленное по всем правилам и подписанное ее покойным хозяином Огюстом Безансоном. Старик приложил его к своему завещанию.
Толпа окаменела от изумления, никто не мог вымолвить ни слова. Настроение в зале явно переменилось.
Все глаза обратились к Гайару. А он, запинаясь от смущения, произнес только:
— Я протестую!.. Эту бумагу выкрали из моего секретера и…
— Тем лучше, мсье Гайар! — снова прервал его д'Отвиль. — Тем лучше! Признавая, что бумагу выкрали у вас, вы этим самым признаете ее подлинность. Но скажите, сударь, почему, имея на руках этот документ и зная его содержание, вы осмеливаетесь утверждать, что Аврора Безансон — ваша невольница?
Гайар был сражен. Его мертвенно-бледное лицо сделалось зеленовато-серым, и обычно злобное выражение уступило место растерянности и страху. Чувствовалось, что он дорого бы дал, чтобы очутиться за тридевять земель отсюда, да и сейчас он уже прятался за спины стоявших возле него мужчин.
— Постойте, мсье Гайар! — продолжал неумолимый д'Отвиль. — Я еще не кончил. Вот, пожалуйста, судья Клейборн, еще один документ, который не лишен для вас интереса. Попрошу вас уделить ему внимание.
С этими словами д'Отвиль вынул из кармана другой сложенный лист пергамента, который передал судье, и тот, развернув бумагу, огласил ее содержание.
Это было дополнительное распоряжение к завещанию Огюста Безансона, по которому тот оставлял своей дочери, Эжени Безансон, пятьдесят тысяч долларов, каковые, по достижении совершеннолетия, должны были быть выплачены ей обоими опекунами — господином Домиником Гайаром и Антуаном Лере, причем существование этих денег должно было храниться от подопечной в тайне до дня их выплаты.
— А теперь, мсье Доминик Гайар, — продолжал д'Отвиль, лишь только судья дочитал бумагу, — я обвиняю вас в присвоении этих пятидесяти тысяч долларов, равно как и других сумм, о которых будет сообщено особо. Я обвиняю вас в том, что вы утаили самый факт существования этих денег и не показали их в активе состояния Безансонов, в том, что вы попросту украли их!
— Это весьма тяжкое обвинение! — произнес судья Клейборн; он, видимо, не сомневался в истинности всего сказанного и намеревался дать ход делу.
— Но позвольте узнать ваше имя, сударь? — мягко осведомился он у д'Отвиля.
Я впервые видел д'Отвиля при дневном свете. До сих пор мы встречались с ним лишь в ночных сумерках или при искусственном освещении. Правда, сегодня утром мы провели несколько минут вместе, но нас окутывал полумрак леса, и я лишь смутно различал его черты.
Теперь, когда из окна на него лился яркий свет солнечного дня, я мог хорошенько его разглядеть. И снова мне показалось, что я уже встречал его где-то. Чем пристальнее я в него вглядывался, тем больше убеждался в этом, и когда он ответил на вопрос судьи, ответ его не так уж потряс меня, как можно было предположить.
— Позвольте узнать ваше имя, сударь, — повторил судья.
— Эжени Безансон!
В то же мгновение шляпа и черный парик были сорваны с головы, и на плечи прекрасной креолки упала волна золотых волос.
Зал отвечал дружным «ура», в котором не участвовали лишь Гайар и двое или трое отпетых головорезов из его шайки. Я понял, что свободен!
Все изменилось, как по мановению волшебного жезла: обвинитель стал обвиняемым. Волнение в зале еще не улеглось, как шериф, побуждаемый Рейгартом и другими, направился к Гайару и, положив руку ему на плечо, объявил, что он арестован.
— Это все ложь! — кричал Гайар. — Все это подстроено, нарочно подстроено! Документы подложные! Подпись подделана!
— Нет, господин Гайар, — веско произнес судья, — документы не подложные. Это почерк Огюста Безансона. Я имел честь хорошо знать его и могу засвидетельствовать это лично.
— И я! — отозвался низкий строгий голос, заставивший всех обернуться.
Если превращение Эжена д'Отвиля в Эжени Безансон удивило толпу, то теперь всех ждало еще большее чудо — воскрешение считавшегося погибшим управителя Антуана!
* * *
Читатель! История моя окончена. Над этой маленькой драмой опускается занавес. Я мог бы предложить, конечно, вашему вниманию картины, рисующие дальнейшую судьбу действующих лиц, но достаточно будет и краткого итога. Пусть фантазия ваша дополнит остальное.
Вам, несомненно, приятно будет узнать, что Эжени Безансон вернули ее имение, которое заботами верного Антуана скоро опять пришло в прежнее цветущее состояние.
Но есть, увы, невозвратимые утраты — разве вернешь юные надежды, жизнерадостность, очарование первой любви!
Не думайте, однако, что Эжени Безансон поддалась отчаянию, что она навсегда осталась жертвой своей несчастной любви. Нет, у нее была твердая воля, и она употребила все усилия, чтобы вырвать из сердца роковую страсть.
Время и чистая, спокойная жизнь залечивают такие раны, но несравненно большее облегчение может принести участие того, кого любили. Это у ч а с т и е в з а м е н л ю б в и Эжени познала в полной мере.
Ее юные надежды рухнули, веселость померкла, но ведь есть иные радости в жизни, помимо игры страстей, и, может быть, не на стезе любви находим мы истинное счастье.
О, если бы я мог этому поверить! Если бы я мог убедить себя, что это безмятежное спокойствие, эта светлая улыбка говорят о душевном мире! Увы, я не хочу кривить душой. Року нужны жертвы. Бедная Эжени! Бог да смилостивится над тобой! О, если бы я мог погрузить твое сердце в струи Леты!
А Рейгарт? Читатель, вероятно, обрадуется, узнав, что честный доктор преуспел и, отложив ланцет, стал знатным землевладельцем и, более того, выдающимся законодателем, одним из тех, кому принадлежит честь составления нынешнего кодекса законов штата Луизиана, наиболее прогрессивного в цивилизованном мире.
Вам приятно будет также узнать, что Сципион с Хлоей и малюткой Хло вернулись в свое старое и теперь счастливое гнездо, что заклинатель змей сохранил обе свои мускулистые руки и уже никогда больше не должен был искать прибежища в дупле.
И вас не огорчит известие о том, что Гайар провел несколько лет в батонружской тюрьме, а потом куда-то бесследно исчез. Говорят, что под вымышленным именем он вернулся к себе на родину, во Францию. Доказать его виновность не составило труда. Антуан давно подозревал коварного адвоката в том, что он замыслил ограбить их подопечную, и решил его испытать. Плот из стульев все-таки не потонул, и верный управитель добрался до берега, но много ниже по течению. Никто не знал, что он спасся, и чудаковатый старик решил на время скрыться, что дало ему возможность быть не— видимым свидетелем всех неблаговидных дел Доминика Гайара.
Как только адвокат уверовал в его гибель, он стал действовать смелее и вскоре довел дело до известной нам распродажи. Все произошло так, как и предвидел Антуан, и, выступив в качестве истца, он быстро добился осуждения адвоката. Приговоренный к пяти годам заключения в исправительной тюрьме, Гайар уже более не встречался с действующими лицами этой истории.
Вряд ли также вы будете сожалеть, узнав, что бандита Ларкина постигла примерно такая же участь, что Рафьен — охотник за людьми — утонул во время наводнения и что торговец неграми сделался впоследствии похитителем негров, и за это преступление суд Линча приговорил обвалять его в дегте и перьях.
«Охотников» Чорли и Хэтчера я никогда больше не встречал, но мне известна их судьба. Отважный, но беспутный шулер-джентльмен Чорли был убит на дуэли креолом из Нового Орлеана, с которым он повздорил за картами. Банк Хэтчера вскоре «лопнул», и после долгой полосы невезения игрок окончательно превратился в мелкого жулика.
«Торговца свининой» я встретил много лет спустя в Мексике как удачливого банкомета. Он отправился туда следом за американской армией и составил себе огромное состояние, держа игорный притон для офицеров. Но ему недолго пришлось наслаждаться своим добытым нечестными путями богатством. В Веракрусе он схватил тропическую лихорадку, и прах его давно смешался с песками этого унылого побережья.
Итак, дорогие читатели, мне как автору выпало счастье воздать по заслугам всем действующим лицам, которые прошли перед вами на страницах этой книги.
Но я уже слышу, как вы восклицаете: а куда он девал героя и героиню? Позабыл о них?
Нет, я о них не забыл. Неужели вы хотите, чтобы я описывал свадебный обряд, его великолепие и пышность, ленты и бутоньерки и последующее неземное блаженство?
Упаси меня Гимен![45] Все это я предоставляю восполнить вашей фантазии, если только она пожелает. Но весь интерес к приключениям влюбленного обычно утрачивается с достижением заветной цели, рассказ даже не всегда доводится до алтаря, а читатель вряд ли пожелает приподнять завесу, скрывающую мою мирную супружескую жизнь с прекрасной квартеронкой.
ОЦЕОЛА, ВОЖДЬ СЕМИНОЛОВ (роман)
Историко-приключенческий роман, рассказывающий о борьбе индейского племени семинолов против американских колонизаторов. М. Рид изобразил мужественное сопротивление семинолов, сумел глубоко прочувствовать трагедию индейских народов Америки. В центре романа образ реального исторического лица, вождя семинолов — Оцеолы.
Глава 1
СТРАНА ЦВЕТОВ
LINDA FLORIDA! Прекрасная Страна Цветов! Так приветствовал тебя смелый испанец, искатель приключений, впервые увидевший твои берега с носа своей каравеллы[46].
Было вербное воскресенье, праздник цветов, и благочестивый кастилец усмотрел в этом совпадении доброе предзнаменование. Он нарек тебя Флоридой, и поистине ты достойна этого гордого имени.
С тех пор прошло триста лет[47]. Миновало целых три столетия, но, как и в первый день открытия, ты достойна носить это нежное имя. Ты так же покрыта цветами, как и три века назад, когда Хуан де Леон впервые ступил на твои берега. Да и сейчас ты так же прекрасна, как в дни сотворения мира!
Твои леса все еще девственны и нетронуты, твои саванны полны зелени, твои рощи благоухают ароматами аниса, апельсинового дерева, мирта и магнолии. Голубая иксия сверкает на твоих равнинах, золотистая нимфея отражается в твоих водах. На твоих болотах возвышаются огромные кипарисы, гигантские кедры, эвкалипты и лавры. Сосны окаймляют твои холмы, покрытые серебристым песком, и смешивают свою хвою с листвой пальм. Странная прихоть природы: в этом мягком, благодатном крае встречаются все виды растительности — деревья севера и юга растут бок о бок, сплетая свои ветви.
Прекрасная Флорида! Кто может смотреть на тебя без волнения, кто может отрицать, что ты благословенная страна, кто может, подобно первым путешественникам, не поверить, что из твоего лона бьют волшебные источники, которые возвращают юность и даруют бессмертие?! Неудивительно, что эта сладостная и пленительная мечта овладела умами многих — в нее уверовали. Эта слава, гораздо больше, чем серебро Мексики или золото Перу, привлекала сюда тысячи искателей приключений, стремившихся вернуть себе молодость в твоих прозрачных водах. Не один смельчак, в погоне за призрачными иллюзиями, нашел в этих опасных путешествиях преждевременную старость и даже гибель. Но можно ли удивляться таким безумным поступкам! Даже и в наше время вряд ли можно назвать это иллюзией, а в тот романтический век поверить в эту мечту было еще легче. Если открыт новый мир, почему же не открыть и новый способ жить? Люди увидели страну, где вечно шелестит листва, где не вянут цветы, где неумолчно поют птицы, где никогда не бывает зимы, где ничто не напоминает о смерти. Не эти ли чудеса заставили людей поверить, что, вдыхая ароматы такой благословенной земли, они станут бессмертными?
Эта наивная мечта давно исчезла, но красота, породившая ее, продолжает жить. Прекрасная Флорида, ты осталась все той же Страной Цветов! Твои рощи по-прежнему зеленеют, твое небо безоблачно, твои воды прозрачны, ты по-прежнему блистаешь красотой! И все же здесь что-то изменилось. Природа осталась все той же. А люди?
Где тот народ с медным цветом лица, который был вскормлен и вспоен тобой? На твоих полях я вижу теперь только белых и негров, но не краснокожих; европейцев и африканцев, но не индейцев. Неужели исчез древний народ, который некогда населял эти земли? Где же индейцы? Их нет! Они больше не бродят по тропам, поросшим цветами, их челны не скользят по твоим прозрачным рекам, их голосов не слышно в твоих лесах, полных ароматной прохлады, тетива их луков не звенит больше среди деревьев. Они ушли — ушли далеко и навсегда.
Но не по доброй воле ушли они. Ибо кто покинет тебя добровольно? Нет, прекрасная Флорида, твои краснокожие дети остались верны тебе, и тяжко им было расставаться с тобой. Долго отстаивали они любимую землю, где прошла их юность; долго вели они отчаянную борьбу, прославившую их навеки. Бледнолицым удалось вытеснить их из пределов родной земли только после жестоких битв и ценой гибели целых армий. Да, они ушли не добровольно. Они были насильно оторваны от тебя, как волчата от матери, и оттеснены далеко на Запад. Тоска терзала их сердца, медленны были их шаги, когда они удалялись вслед заходящему солнцу. Молча, со слезами на глазах шли они вперед. Среди них не было ни одного, кто отправился бы в изгнание добровольно.
Неудивительно, что им не хотелось расставаться с тобой. Я прекрасно понимаю всю глубину их горя. Я тоже наслаждался красотой Страны Цветов и расставался с тобой, Флорида, с такой же неохотой. Я гулял в тени твоих величественных лесов и купался в твоих прозрачных потоках не с надеждой на возвращение молодости, а с ясным и радостным ощущением жизни и здоровья. Часто я лежал под широкой листвой твоих пальм и магнолий или отдыхал в зеленых просторах твоих саванн. И, устремив взоры в голубой эфир неба, я повторял про себя слова поэта:
О, если существует рай земной, То вот он здесь, он здесь перед тобой!Глава 2
ПЛАНТАЦИЯ ИНДИГО
Мой отец был владельцем плантации индиго. Его звали Рэндольф, и меня зовут так же, как и его: Джордж Рэндольф.
В моих жилах есть примесь индейской крови, так как мой отец принадлежал к семье Рэндольф с реки Роанок и вел свое происхождение от принцессы Покахонтас[48]. Он гордился своим индейским происхождением — почти кичился этим. Быть может, европейцу это покажется странным, однако известно, что в Америке белые, у которых есть индейские предки, гордятся своим происхождением. Быть метисом[49] не считается позором, особенно если потомок туземцев имеет приличное состояние. Многие тома, написанные о благородстве и величии индейцев, менее убедительны, чем тот простой факт, что мы не стыдимся признать их своими предками. Сотни белых семейств утверждают, что они происходят от виргинской принцессы. Если их притязания справедливы, то прекрасная Покахонтас была бесценным кладом для своего мужа.
Я думаю, что мой отец действительно был ее потомком. Во всяком случае, он принадлежал к старой гордой колониальной семье. В молодости он владел сотнями черных рабов, но гостеприимство, граничащее с расточительностью, свело на нет его богатое наследство. Он не мог примириться с таким унизительным для него положением, собрал остатки своего состояния и уехал на юг, чтобы начать там новую жизнь.
Я родился еще до этой перемены в жизни отца и моя родина — Виргиния, но впервые я помню себя на берегах прекрасной реки Суони, во Флориде. Здесь протекало мое детство, здесь я узнал первые радости юности, первый пламень юношеской любви. Мы всегда отчетливо и на всю жизнь запоминаем места, где протекало наше детство.
Я снова вижу перед собой красивый дубовый дом, выкрашенный в белый цвет, с зелеными жалюзи на окнах. Его окружает широкая веранда с крышей, которую поддерживают резные деревянные колонны. Низкая балюстрада с легкими перилами отделяет дом от лужайки с цветником. Направо от дома находится апельсиновая роща, налево раскинулся огромный сад. За лужайкой простирается зеленая поляна, покато спускающаяся почти к самой реке. В этом месте река образует излучину, похожую на большое озеро, с лесистыми берегами и маленькими островками, которые как бы висят в воздухе. Кругом летает и плавает множество птиц. В озере плещутся белые лебеди, а дальше расстилается лес, где также порхают и щебечут самые разнообразные птицы.
На поляне растут большие пальмы с длинными остроконечными листьями и маленькие пальметто с широкими веерообразными листьями. Тут цветут магнолии и благоухающий анис, там — радужная корона юкки. Все это местные растения. На поляне возвышается еще один уроженец этих мест — огромный дуб, с горизонтальными ветками и плотными, как кожа, вечнозелеными листьями, бросающими широкую тень на траву.
В тени я вижу прелестную девушку в легком летнем платье. Из-под белой косынки, покрывающей ее голову, выбиваются длинные локоны, сверкающие всеми оттенками золота. Это моя младшая, моя единственная сестра Виргиния. Золотые волосы она получила в наследство от матери, и по ним никак нельзя судить об ее индейском происхождении. Она играет со своими любимцами — с ланью и маленьким пестрым олененком. Она кормит их мякотью сладкого апельсина, и это им очень нравится. Около нее на цепочке сидит еще одна ее любимица — это черная белка с глянцевитой шерсткой и подвижным хвостом. Ее резвые прыжки пугают олененка, заставляя его удирать от белки и прижиматься к матери или искать защиты у моей сестры.
Кругом звенят птичьи голоса. Слышен переливчатый посвист золотистой иволги, гнездо которой находится в апельсиновой роще, а на веранде в клетке ей вторит пересмешник. Веселым эхом откликается он на песни алых кардиналов и голубых соек, порхающих среди магнолий. Он передразнивает болтовню зеленых попугаев, клюющих семена на высоких кипарисах, растущих на берегу реки. Время от времени он повторяет резкие крики испанских кроншнепов, сверкающих серебряными крыльями высоко в небе, или свист ибисов, доносящийся с далеких островков на озере. Лай собак, мяуканье кошек, крик мулов, ржанье лошадей, даже человеческие голоса — самые разнообразные звуки воспроизводит этот несравненный певец.
Позади дома открывается совершенно иное зрелище — может быть, не столь привлекательное, но не менее оживленное. Здесь кипит работа. К дому примыкает обширное пространство, огороженное решеткой. В центре его возвышается огромный навес, занимающий пол-акра земли. Его поддерживают крепкие деревянные столбы. Под навесом виднеются громадные продолговатые чаны, выдолбленные из кипарисовых стволов. Три чана, установленные один над другим, сообщаются между собой посредством кранов. В этих чанах размачивается драгоценное растение — индиго, и из него извлекается краска синего цвета.
Поодаль рядами стоят одинаковые маленькие домики. Это хижины негров. Каждая из них как бы спрятана в роще из апельсиновых деревьев. Спелые плоды и белые восковые цветы наполняют воздух своим ароматом. Здесь, то возвышаясь над крышами домиков, то склоняясь над ними, растут те же самые величественные пальмы, которые украшают лужайку перед домом.
Внутри ограды находятся другие здания. Это постройки, грубо сколоченные из неотесанных бревен, с дощатыми крышами. В них находятся конюшни, зернохранилище и кухня. Последняя сообщается с главным зданием открытой галереей, крыша которой покрыта дранкой и опирается на столбы из ароматного кедра.
За оградой простираются широкие поля, окаймленные темным поясом кипарисовых лесов, скрывающих горизонт. На этих полях и растет индиго. Впрочем, здесь есть и другие культуры: маис, сладкий картофель, рис и сахарный тростник. Но они предназначены не для продажи, а для собственного употребления.
Индиго сеют прямыми рядами с промежутками. Растения развиваются неодновременно: некоторые только что распустились, и их листочки похожи на молодые трилистники; другие уже в полном цвету, более двух футов высотой, и напоминают папоротники. Они отличаются светло-зелеными перистыми листьями, характерными для всех стручковых, — индиго принадлежит к этому семейству. Иногда распускаются цветы, похожие на бабочку, но им редко дают достигнуть полного расцвета. Их ожидает иная судьба: пурпурные цветы безжалостно срезают.
Внутри ограды и на полях индиго движутся сотни людей. Кроме одного-двух, все они африканцы, все рабы. Большая часть их — негры, хотя они и не все чернокожие. Здесь есть и мулаты[50], и самбо[51], и квартероны[52]. Даже у тех, в ком течет чистая африканская кровь, кожа не черного, а бронзового цвета. Некоторые из них довольно уродливы — у них толстые губы, низкие лбы, плоские носы, и они отнюдь не отличаются стройностью. Другие сложены хорошо, иные даже привлекательны. Есть там и почти белые женщины — квартеронки. Многие из них миловидны, а некоторые просто красивы.
Все одеты в рабочее платье. На мужчинах легкие полотняные штаны, ярко окрашенные рубашки и шляпы из пальмовых листьев. Немногие могут похвастаться своим нарядом. Некоторые обнажены до пояса, и их черная кожа сверкает под солнцем, как эбеновое дерево. Женщины одеты более пестро — в полосатые ситцевые платья, на головах у них мадрасские платки из яркой клетчатой ткани. У некоторых платья сшиты со вкусом и очень красивы. Прическа, похожая на тюрбан, придает женщинам особую живописность.
И мужчины и женщины работают на плантации индиго. Некоторые срезают растения и связывают их в снопы; другие тащат эти снопы с полей под навес; там их бросают в верхнее корыто — «бучильный чан», третьи отводят воду и «выжимают». Остальные работники лопатами сгребают осадок в спускные каналы, а несколько человек занято просушкой и формовкой краски. Все выполняют определенную работу и, надо сказать, довольно весело. Люди смеются, болтают, поют, перекидываются шутками, и веселые голоса все время звенят у вас в ушах. Однако все они рабы — рабы моего отца. Он обращается с ними хорошо, здесь редко взвивается плеть, и, может быть, поэтому у рабочих веселое настроение и бодрый вид.
Вот какие приятные картины запечатлелись в моей памяти.
Здесь прошло мое детство, здесь началась моя сознательная жизнь.
Глава 3
ДВА ДЖЕКА
На каждой плантации есть свой «злой демон», иногда их даже несколько, но один из них всегда самый страшный злодей. Таким демоном у нас был Желтый Джек.
Это был молодой мулат, не очень уродливый, но отличавшийся мрачным и сварливым нравом. Иногда он проявлял самую свирепую злобу и жестокость.
Люди с таким характером чаще встречаются среди мулатов, чем среди негров. Эта психологическая особенность объясняется тем, что мулаты гордятся своей желтой кожей и ставят себя «выше» негров как в умственном, так и в физическом отношении, а потому более остро ощущают несправедливость своего униженного положения.
Что касается чистокровных негров, то они редко бывают бесчувственными дикарями. В трагедии человеческой жизни они жертвы, а не злодеи. Где бы то ни было — в своей родной стране или в чужой, — везде им приходится страдать, но в их душах нет мстительности и жестокости. Во всем мире не найти сердца добрее, чем то, которое бьется в груди у африканского негра.
Желтый Джек всегда отличался жестокостью. Она была врожденной чертой его характера — без сомнения, наследственной. Он был испанским мулатом, то есть испанцем по отцу и негром по матери. Его собственный отец продал его моему отцу!
Если мать рабыня, сын ее тоже раб. Если отец свободный человек, это не имеет никакого значения для его потомства. В Америке, среди краснокожих и черных, ребенок разделяет судьбу матери. Только белая женщина может быть матерью белых детей!
На плантации жил и другой Джек, которого, в отличие от первого, звали Черным Джеком. Между ними не было ни малейшего сходства, кроме того, что они были одних лет и одинакового роста. Характером они отличались друг от друга еще больше, чем наружностью и цветом лица. У Желтого Джека кожа была светлее, но зато Черный Джек обладал добрым сердцем. Даже в выражении их лиц бросалась в глаза существенная разница: у одного был веселый, довольный вид, а другой смотрел исподлобья. Белые зубы негра всегда сверкали в улыбке, а Желтый Джек улыбался только тогда, когда замышлял какую-нибудь злую проделку.
Черный Джек был уроженцем Виргинии. Он жил у нас еще на старой плантации и приехал оттуда вместе с нами. Он был очень привязан к моему отцу; так нередко складываются отношения между господином и рабом. Он считал себя членом нашей семьи и гордился тем, что носит наше имя. Подобно всем неграм, родившимся в «старой колонии», он гордился и своим местом рождения. Среди наших негров «виргинские» пользовались уважением.
Черный Джек был недурен собой, чертами лица он скорее походил на мулата, чем на негра. Для негров характерны толстые губы, плоский нос, покатый лоб. Никаких этих признаков у Джека не было. Я встречал чистокровных негров с правильными чертами лица. Таков был и Черный Джек. По телосложению он мог вполне сойти за эфиопского Аполлона.
Кроме меня, еще кое-кто у нас считал, что Джек гораздо привлекательнее, чем его желтый тезка. Это была квартеронка Виола, первая красавица на нашей плантации. Оба Джека давно соперничали из-за Виолы. Оба усердно добивались ее улыбок, а завоевать их было не так-то легко, потому что Виола была капризной и ветреной девчонкой. Нечего и говорить, что оба ревновали ее. Наконец она стала оказывать явное предпочтение негру. За это мулат возненавидел своего соперника лютой ненавистью. Не раз обоим Джекам приходилось мериться силой, и всегда негр выходил победителем. Быть может, именно поэтому, а не из-за его наружности Виола награждала его своими улыбками. Во всем мире, во все времена красота преклоняется перед мужеством и силой.
Желтый Джек был нашим дровосеком, а Черный Джек выполнял обязанности конюха и кучера.
В жизни нашей плантации история любви и ревности двух Джеков была самым обыкновенным явлением. Она не представляет особого интереса, и я упомянул о ней только потому, что она повлекла за собой целый ряд событий, оказавших важное влияние на мою последующую жизнь.
Вот первое из них. Желтый Джек, видя, каким успехом пользуется его соперник, начал открыто преследовать Виолу. Встретив ее как-то случайно в лесу, вдали от дома, он осмелился сделать ей гнусное предложение. Презрительный отказ Виолы заставил его решиться на отчаянный поступок. Только неожиданное появление моей сестры помешало мулату. Его наказали главным образом по настоянию моей сестры.
Желтый Джек был наказан впервые, хотя и не в первый раз заслуживал кары. Мой отец был очень снисходителен к нему; все говорили, что даже слишком. Он часто прощал ему не только проступки, но и преступления. Отец был человеком по природе очень добрым и с большой неохотой прибегал к плети, но на этот раз моя сестра решительно настояла на наказании. Виола была ее служанкой, и гнусное поведение мулата нельзя было оставить безнаказанным.
Заслуженная кара не излечила его от наклонности к злым проделкам.
Вскоре произошло еще одно событие, показавшее, что Желтый Джек был мстителен.
Любимицу сестры, хорошенькую лань, нашли мертвой на берегу озера. Она не могла погибнуть естественной смертью: еще час назад видели, как она прыгала на лужайке. Ни волк, ни аллигатор ее не трогали. На ней не оказалось ни царапин, ни ран — никаких признаков крови!
Как выяснилось вскоре, она была задушена. Ее задушил мулат, а Черный Джек видел это. Он работал в апельсиновой роще и был свидетелем преступления. Желтого Джека второй раз наказали плетьми.
Затем случилось и третье событие — ссора между негром и мулатом, перешедшая в настоящее побоище. Желтый Джек решил воспользоваться удобным случаем и сразу отомстить негру и как сопернику в любви и как свидетелю его недавнего преступления.
Столкновение не ограничилось простой дракой. Мулат, руководясь инстинктом, унаследованным от испанских предков, вытащил нож и нанес им опасную рану своему невооруженному противнику.
На этот раз его наказали еще строже. Я просто рассвирепел — ведь Черный Джек был моим «телохранителем» и любимцем.
Благодаря своему веселому нраву и жизнерадостности негр был очень приятным товарищем. В дни моего детства он неотлучно сопровождал меня повсюду — и на реке и в лесу.
Справедливость требовала наказания, и Желтый Джек получил его в полной мере. Но это оказалось бесполезным: мулат был неисправим. В него словно вселился злой дух.
Глава 4
ФЛОРИДСКИЙ КОЛОДЕЦ
За апельсиновой рощей в почве было своеобразное углубление — эта особенность присуща, как я полагаю, только Флориде.
Круглый водоем, имевший форму опрокинутой сахарной головы диаметром ярдов в сорок, уходил на много футов в глубину земли. На дне этого водоема было несколько углублений, или колодцев, правильной цилиндрической формы, отделенных друг от друга скалистыми перегородками. Это было очень похоже на улей с разломанными сотами.
Такие колодцы иногда бывают сухими, но чаще всего там на дне стоит вода, которая порой заполняет всю впадину.
Подобные естественные водохранилища хотя и расположены на равнинах, но всегда окружены холмами или обломками скал, покрытыми вечнозелеными зарослями магнолий, розового лавра, дуба, шелковицы и пальметто. Такие колодцы часто попадаются среди сосновых лесов, а иногда, как маленькие островки в океане, они возникают среди зеленых саванн.
Это и есть «хоммоки» — флоридские колодцы, знаменитые в истории индейских войн.
Один из них был расположен как раз за апельсиновой рощей. Рядом полукругом возвышались бурого цвета скалы, покрытые темной листвой вечнозеленых деревьев. Вода в нем была чиста и прозрачна, и в ее кристальной глубине резвились стаи золотых и красных рыбок, лещей и пестрых окуней. Бассейн снабжал нас рыбой, и здесь же мы все купались. В жарком климате Флориды купанье не только удовольствие, но попросту необходимость.
Из дома к водоему через апельсиновую рощу была проложена песчаная дорожка и устроено несколько каменных ступенек, по которым было удобно спускаться в воду. Конечно, наслаждаться купаньем разрешалось только белым.
За бассейном простирались возделанные поля, окаймленные вдали высокими кипарисовыми и кедровыми лесами. Вокруг на многие и многие мили тянулась непроходимая трясина.
С одной стороны плантации лежала широкая равнина, поросшая густой травой. Это была саванна — естественный луг, где паслись лошади и домашний скот. Здесь часто появлялись олени и стаи диких индеек.
Я был как раз в таком возрасте, когда юноши увлекаются охотой. Как и у большинства молодежи из Южных штатов, не очень занятой делом, охота была моим главным развлечением. Отец подарил мне свору великолепных гончих.
Моей самой любимой забавой было спрятаться в колодце и ждать приближения оленя или индейки, а затем гнаться за ними по зеленой равнине. Мне уже удалось поймать много оленей и индеек; собаки отлично берут и тех и других. За дикими индейками легко можно охотиться с гончими.
Я обычно уходил из дому рано утром, когда все еще спали. Это самое лучшее время для охоты.
Однажды утром я отправился в свое укрытие у колодца и залез на скалу, где для меня и собак было достаточно места. С этой вышки передо мной открывалась вся равнина, и я мог наблюдать за всем, что там происходило, тогда как меня никто не видел. Широкие листья магнолии образовали над моей головой подобие беседки, а сквозь просветы между листьями я мог вести наблюдения.
В этот день я пришел туда до восхода солнца. Лошади стояли еще в конюшнях, а скот в хлеву. Саванна была совершенно пустынна. На ее широком просторе не виднелось ни одного оленя.
Я несколько огорчился. Сегодня мать ждала гостей и просила принести ей к обеду дичи. Я, конечно, обещал и теперь, глядя на пустынную саванну, был сильно разочарован.
Признаться, я очень удивился — настолько это было необычно. Каждое утро на широкой равнине появлялись олени. Но, может быть, здесь охотились раньше меня? Вполне вероятно. Может быть, это молодой Ринггольд с соседней плантации или кто-нибудь из охотников-индейцев, которые, кажется, вообще никогда не спят. Ясно только, что кто-то уже побывал здесь и распугал дичь.
Саванна не считалась частным владением и не составляла собственности ни одной из плантаций: каждый мог свободно охотиться на ее просторах. Эта земля принадлежала государству и еще никому не была продана.
Итак, я не принесу к обеду оленины. Правда, я мог еще подстрелить индейку, они обычно появлялись позднее. Я слышал, как они курлыкали на вершинах деревьев. Громкие звуки отчетливо разносились в тихом утреннем воздухе. Но накануне мне удалось убить целый выводок, и наша кладовая была уже забита ими. Теперь мне нужна была оленина.
У меня была при себе винтовка, и я мог отправиться за оленем в лес. Или лучше всего зайти в хижину старого Хикмэна, он мог бы помочь мне. Если он уже охотился сегодня, то у него есть оленина, и я возьму у него немного.
Солнечный диск только что показался над горизонтом, его лучи золотили вершины далеких кипарисов, а их светло-зеленые листья сверкали всеми оттенками золота.
Прежде чем спуститься со своей вышки, я еще раз оглядел саванну и увидел нечто, заставившее меня изменить мое намерение и остаться на скале.
Стадо оленей показалось на опушке кипарисового леса, там, где изгородь отделяет саванну от возделанных полей.
«Ara! — подумал я. — Они сумели пробраться через маисовое поле».
Я взглянул на то место, откуда, как мне казалось, вышли олени. Я знал, что там в углу изгороди был пролом, обычно закрытый досками. Я ясно видел этот пролом, но все доски были на своих местах. Значит, олени пришли не с этой стороны. Вряд ли они могли перепрыгнуть через изгородь. Это был высокий забор со столбами и подпорками; доски закрывали пролом на всю высоту забора. Следовательно, олени появились из лесу?
Я заметил и кое-что другое. Олени не шли, а быстро бежали, как будто потревоженные присутствием врага.
Вероятно, кто-нибудь гонится за ними. Но кто же? Старый Хикмэн или Ринггольд? Я не сводил глаз с лесной опушки, но никого не было видно.
А что, если оленей спугнул медведь или рысь? Тогда они далеко не уйдут, и я с собаками еще смогу их догнать. Быть может…
Мои размышления были прерваны появлением того, кто испугал оленей. Оказалось, что это человек, а вовсе не медведь и не рысь.
Он выступил из густой тени кипарисов. Лучи солнца пока еще озаряли лишь вершины деревьев, но было уже достаточно светло, чтобы рассмотреть человека. Это был не Рингтольд, не Хикмэн и не индеец. На нем были синие холщовые штаны, полосатая рубашка и шляпа из листьев пальметто. По одежде я сразу узнал нашего дровосека. Это был Желтый Джек.
Глава 5
МУЛАТ И ЕГО СПУТНИК
Это открытие несколько удивило меня. Что делал мулат в лесу в такой ранний час? Запасливость и бережливость не были свойственны ему; наоборот, стоило большого труда заставить его приняться за обычную дневную работу. По природе он не был охотником. Я никогда не видел, чтобы он гонялся за дичью, хотя, постоянно бывая в лесу, он хорошо знал все укромные места и лазейки, а также повадки и привычки животных. Что же привлекло его сегодня утром в лес?
Я остался на вышке и продолжал наблюдать за ним, в то же время не теряя из виду оленей. Скоро выяснилось, что мулат их не преследовал. Выйдя из лесу, он не пошел за стадом, а повернул совсем в другую сторону, на дорожку, ведущую к маисовому полю.
Я заметил, что он шел медленно, пригнувшись к земле. Мне показалось, что у его ног вертится какое-то животное — по-видимому, маленькая собака или опоссум. Оно было светлое, как опоссум, но на таком расстоянии я не мог отличить опоссума от щенка. Я подумал, что Желтый Джек поймал в лесу зверька и тащит его за собой на веревке.
Ничего странного в его поведении не было. Мулат мог еще вчера найти нору опоссума и поставить там ловушку. Ночью опоссум попался, и теперь он тащил его домой. Меня удивило только, что мулат вдруг стал охотником, но и этому я нашел объяснение. Я вспомнил, что негры очень любят мясо опоссума, и Желтый Джек не был исключением.
Сообразив, что зверька можно легко поймать, он решил раздобыть себе жаркое.
Но почему он не нес свою добычу, а вел ее или, скорее, тащил за собой? Время от времени он нагибался к зверьку, как бы для того, чтобы его погладить. Я недоумевал: значит, это был не опоссум!
Я следил за мулатом, пока он не подошел к пролому в изгороди. Я думал, что он просто перепрыгнет через нее, так как ближайший путь к дому лежал через маисовое поле. Конечно, он пойдет полем. Но, к моему удивлению, мулат начал снимать одну жердь за другой. Затем он отшвырнул их в сторону и оставил пролом открытым.
Он вошел в пролом, согнувшись, пробрался через поле и скрылся за широкими листьями маиса. На некоторое время я совсем потерял его из виду вместе с белым зверьком, которого он волок за собой таким странным образом. Я снова стал следить за оленями, которые уже успокоились и мирно паслись посреди саванны.
Но мысль о странном поведении мулата не оставляла меня, и я снова посмотрел вслед ему. Он все еще не показывался из зарослей маиса. Но тут я заметил нечто такое, что весьма меня удивило. Как раз там, где Желтый Джек вышел из лесу, появилось существо, двигавшееся прямо к саванне. Это была какая-то темная фигура, похожая на человека, ползущего на руках и волочащего ноги по земле.
В первую минуту мне показалось, что это человек, но не белый, а негр или индеец. По ухваткам он напоминал индейца, но с индейцами мы были в мире. С какой же стати мирному индейцу нужно было выслеживать мулата? Я говорю «выслеживать», потому что и поза и движения странного существа ясно говорили о том, что оно идет по следу Желтого Джека.
«Может быть, это Черный Джек?» — подумал я. Я вспомнил вендетту[53], которая существовала между негром и мулатом, и драку, в которой Желтый Джек пустил в ход нож. Конечно, он был наказан, но ведь не самим Черным Джеком. Не пытался ли обиженный сам отомстить обидчику?
Так можно было бы объяснить зрелище, которое приводило меня в недоумение. Но трудно представить себе, что негр способен на это, — он был слишком благороден. Как ни пылал гневом Черный Джек против своего низкого врага, я был убежден, что он не способен на коварную и гнусную месть из-за угла. Это не в его характере. Нет, это не мог быть он.
Не он, и никто другой!
В эту минуту золотое солнце озарило саванну. Его лучи скользнули по зелени, освещая деревья от макушки до самых корней. Темное тело выползло из тени и двинулось к маисовому полю. Под солнцем оно сверкало чешуей, похожей на броню. Теперь уже ясно было видно, что это не негр, не индеец и вообще не человек. Это был аллигатор.
Глава 6
АЛЛИГАТОР
Для уроженцев Флориды аллигатор не представляет ничего замечательного и ничего особенно ужасного. Дело в том, что при всем своем безобразии — а из всех животных аллигатор самый отвратительный, — он не внушает особенного страха тем, кто его хорошо изучил. Тем не менее к нему все же приближаются с опаской. Человек, незнакомый с повадками и привычками аллигатора, весь дрожа от страха, убегает от него. И даже местные жители — краснокожие, белые или черные, — живущие вблизи от болот и лагун, с осторожностью приближаются к этой гигантской ящерице.
Некоторые кабинетные ученые-натуралисты утверждают, что аллигатор не нападает на человека. Однако они признают, что он уничтожает лошадей и рогатый скот. То же самое они утверждают и относительно ягуара и летучей мыши — «вампира». Странные утверждения, особенно когда имеются тысячи доказательств, свидетельствующих о противоположном.
Действительно, аллигатор не всегда нападает на человека, когда ему представляется случай. Впрочем, так же поступают и лев и тигр. Но даже и Бюффон[54], который и вообще-то ошибается, едва ли осмелился бы заявить, что аллигатор — безобидное животное. Если сосчитать всех людей, ставших жертвами прожорливости аллигаторов со времен Колумба, то число получилось бы огромное. Оно было бы не меньше, чем количество жертв индийского тигра или африканского льва за тот же период. Гумбольдту[55], во время его короткого пребывания в Южной Америке, рассказали много таких случаев; что же касается меня, то мне известен не один случай гибели от зубов аллигатора, и я видел немало людей, искалеченных этим чудовищем.
В водах тропической Америки встречается много разновидностей кайманов, аллигаторов и настоящих крокодилов. Одни из них более свирепы, другие менее, отсюда и проистекают разногласия в рассказах путешественников. Даже одинаковые виды в двух разных реках не всегда абсолютно похожи друг на друга. На аллигаторов, как и на других животных, воздействуют внешние причины. Климат, близость людей, величина животного — все оказывает свое влияние, и, что может показаться еще более странным, на свойствах аллигаторов отражается характер той расы людей, которая обитает вблизи них.
На берегах некоторых рек Южной Америки живут плохо вооруженные, апатичные индейцы, и здесь кайманы чрезвычайно смелы, к ним опасно подходить близко. Такими же были и их сородичи, северные аллигаторы, пока отважные жители лесов, у которых всегда в одной руке топор, а в другой — винтовка, не научили их бояться человека — доказательство того, что эти пресмыкающиеся все же обладают известной долей разума. Даже и теперь во многих болотах и потоках Флориды водятся крупные аллигаторы, к которым приближаться далеко не безопасно, особенно в период весенних игр и в местах, отдаленных от человеческого жилья. Во Флориде есть такие реки и лагуны, где у пловца столько же шансов остаться в живых, как если бы он нырнул в море, кишащее акулами.
Можно легко относиться даже к действительной опасности, особенно когда эта опасность становится почти постоянной. Жители болот, поросших кипарисами и белыми кедрами, не слишком тревожатся, когда видят безобразного аллигатора. Его появление не вызывает интереса у обитателей Флориды, он привлекает внимание только негров, которые употребляют в пищу хвост животного, да охотников, для которых его кожа является источником дохода.
Появление аллигатора на краю саванны не возбудило бы во мне никаких подозрений, если бы не его необычные движения, напоминавшие движения мулата. Я не мог отделаться от мысли, что между аллигатором и мулатом существует какая-то связь. Во всяком случае, было несомненно, что отвратительное пресмыкающееся следовало за человеком.
Видело ли оно мулата или следовало за ним, влекомое чутьем, — я не мог сказать. Последнее представлялось мне более вероятным, так как аллигатор появился из леса гораздо позже мулата и вряд ли мог видеть его в маисовом поле.
Аллигатор, пересекая луг, полз вперед прямо по следу к тому месту, где Джек разобрал изгородь. По временам он останавливался, ложился плашмя, прижимаясь к земле, и оставался в таком положении несколько секунд, как бы отдыхая. Затем он приподнимал свое тело приблизительно на ярд от земли и снова начинал ползти, как будто повинуясь силе, влекущей его вперед. По суше аллигатор движется очень медленно — не быстрее, чем утка или гусь. Его настоящая стихия — вода, где он скользит почти с быстротой рыбы.
Наконец он приблизился к изгороди, остановился ненадолго и затем втащил свое длинное темное тело в отверстие. Я увидел, что он появился на маисовом поле как раз в том месте, где исчез мулат.
Я больше не сомневался, что чудовище следовало за человеком и что человек это знал. И то и другое было очевидно. Первое я видел сам, а для второго у меня были убедительные доказательства. Странное поведение и поступки мулата, то, что он снял жерди и оставил свободный пролом, и то, что он постоянно оглядывался назад, — вот доказательства того, что он знал, кто следует за ним. Несомненно, он это знал!
Но моя уверенность ни в какой степени не помогала мне разгадать тайну. Было ясно, что мулат заманивал пресмыкающееся чем-то таким, против чего оно не могло устоять. Что это могло быть? Уж не колдовство ли какое-нибудь? Суеверная дрожь пробежала по моему телу, когда я задал себе этот вопрос. Я был воспитан среди негров и вскормлен негритянкой — неудивительно, что мой юный ум был полон всяческих суеверий. Я знал, что в болоте, окруженном кипарисами, в самых отдаленных его уголках, водились аллигаторы — иногда огромных размеров. Но как Желтый Джек ухитрился выманить одного из них из болота и заставил его следовать за собой по суше — вот загадка, которую я был не в силах разгадать. Я не мог найти никакой естественной причины, поэтому мой ум невольно устремился в область таинственного и сверхъестественного.
Я долго стоял, недоумевая, позабыв об оленях. Они продолжали спокойно пастись на лугу. Я был слишком поглощен таинственными действиями мулата и его земноводного спутника.
Глава 7
ЧЕРЕПАШИЙ САДОК
Пока мулат и аллигатор оставались на маисовом поле, я не видел ни того, ни другого. Маис достиг полной высоты, и его высокие стебли и широкие копьевидные листья могли бы скрыть и всадника. Даже чаща вечнозеленых деревьев не была бы столь непроницаемой для взора. Подвинувшись немного вправо, я сумел бы обозреть большее пространство, но тогда вышел бы из укрытия и мулат мог заметить меня. По некоторым причинам мне не хотелось этого, и я продолжал оставаться в своем убежище.
Я был уверен, что мулат идет по маисовому полю и что скоро я увижу его — как только он появится на открытом месте.
Между бассейном и маисовым полем простирался участок, засеянный индиго. Чтобы приблизиться к дому, необходимо было пройти через индиговое поле, где растения возвышались на два фута. Я не мог прозевать мулата и с нетерпением ждал, когда он покажется. Мои мысли все еще блуждали на грани таинственного и сверхъестественного.
Он шел медленно, очень медленно, но я знал, что он движется вперед. Я мог следить за его движениями по колыханию листьев и початков маиса. Утро было тихое, в воздухе — ни дуновения. Колышущиеся листья позади мулата свидетельствовали, что аллигатор не отставал от него.
Я напряженно следил за листьями маиса. Было очевидно, что мулат шел не по рядам, а пересекал их по диагонали. С какой целью? Я никак не мог догадаться. Идя вдоль любой борозды, он попал бы прямо к дому. Зачем же ему идти более трудным путем, пересекая борозды? Но вскоре я понял, в чем заключалась цель этого зигзагообразного движения.
Он подошел теперь почти к краю поля. Участок индиго был не очень широкий, и мулат находился так близко от меня, что я мог слышать даже шелест раздвигаемых стеблей.
Но теперь до меня донесся и другой звук, напоминавший собачий вой. Я прислушался — это была не взрослая собака; скорее — слабо завывал щенок.
Сперва мне показалось, что такой звук издает аллигатор. Но эти пресмыкающиеся визжат, как щенки, только в младенческом возрасте, а тот, который полз за мулатом, был уже вполне взрослый. Он не мог так визжать. Кроме того, вскоре я выяснил, что визг доносился оттуда, где шел человек. Я вспомнил белое животное, которое Джек тащил за собой. Значит, это был не опоссум, а собака.
Я снова услышал тот же звук — несомненно, скулил щенок. Если слух меня и обманывал, то глаза подтвердили, что я прав. Я увидел, как мулат вышел из маиса. Он тащил за собой на веревке маленького белого щенка. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что это был наш слуга, Желтый Джек.
Прежде чем выйти из маиса, он на минуту остановился, как бы для того, чтобы осмотреться кругом. Он стоял, выпрямившись во весь рост. В маисе ему было нетрудно спрятаться, но индиго не представляло такого хорошего укрытия, и мулат, очевидно, соображал, как ему двигаться дальше незамеченным. Вероятно, он не желал, чтобы его видели. Но почему? Я не мог догадаться.
Этот сорт индиго назывался «ложная Гватемала». На плантации разводили несколько его видов, но этот был самый высокий. Некоторые растения, находившиеся сейчас в полном цвету, возвышались почти на три фута от земли. Когда человек идет по такому полю, его видно. Но если согнуться, то можно проползти незамеченным. Эта же мысль, по-видимому, мелькнула и у мулата. После некоторого раздумья он стал на четвереньки и пополз через индиговое поле. Ему не нужно было перебираться через какую-нибудь изгородь — все возделанное поле было окружено одной оградой, и только небольшое открытое пространство служило границей между двумя рядами индиго. Если бы я находился на одном уровне с полем, то крадущийся вороватый мулат был бы совсем скрыт от меня, но я стоял на вышке и мог следить за всеми его движениями. По временам он останавливался и притягивал к себе щенка, который начинал тогда отчаянно визжать, как от сильной боли. Когда мулат подполз ближе, я увидел, что он дергал щенка за уши.
В пятидесяти шагах от мулата из маиса показалась огромная ящерица и поползла по плантации индиго. В эту минуту меня как будто озарило, и я понял все. Я больше не думал о злых демонах и духах. Тайна была раскрыта: мулат просто приманивал аллигатора щенком!
Я удивился, как эта мысль не пришла мне в голову раньше. Ведь я уже слышал об этом от людей, которым можно было верить, — от самих охотников за аллигаторами. Они часто ловили их с помощью такой приманки и рассказывали, что пресмыкающиеся готовы следовать за визжащей собакой по лесу целыми милями, особенно старые самцы. Хикмэн полагал, что они принимают визг собаки за крик собственного детеныша, которого эти безжалостные родители обычно с удовольствием пожирают.
Но, помимо этой чудовищной особенности аллигаторов, хорошо известно, что их излюбленной добычей являются собаки. У несчастной гончей, которая в пылу погони за дичью отважится поплыть через поток или лагуну, есть все шансы угодить в пасть этого безобразного зверя.
Тайна раскрылась — по крайней мере, стала ясна причина, которая заставляла аллигатора следовать за мулатом. Но одно оставалось неясным: с какой целью мулат проделывал этот странный маневр?
Когда я увидел, как он пополз на четвереньках, я решил, что он хочет добраться до дому незаметно. Но затем у меня мелькнула другая мысль. Я обратил внимание на то, что он часто и с беспокойством оглядывался назад, как будто хотел скрыться от аллигатора.
Я заметил также, что мулат часто менял направление, как будто желая создать преграду из растений между собой и аллигатором.
Ну что ж, просто-напросто ему взбрела в голову какая-то дикая фантазия. Он узнал о забавном способе приманивать аллигаторов — может быть, старый Хикмэн показал ему, как это делается. Или он сам додумался до этого, наблюдая за аллигаторами во время рубки леса вблизи болот. Он вел за собой к дому аллигатора с какой-то странной целью — может быть, он хотел показать его своим товарищам, или просто сыграть с ними шутку, или устроить бой между аллигатором и собаками, или вообще что-нибудь в этом роде.
Я не мог разгадать его намерения и, вероятно, не стал бы об этом и думать, если бы два-три незначительных обстоятельства не привлекли моего внимания. Меня поразила та особенная настойчивость, с которой мулат стремился к успешному достижению своей цели. Он не щадил ни сил, ни времени. Правда, день был не рабочий, а праздничный, и Желтый Джек мог свободно располагать собой. Но не в обычае мулата было вставать так рано, и к тому же затраченные им усилия отнюдь не соответствовали его обычной беззаботной лени. Что-то важное побуждало его действовать. Но что именно? Я просто терялся в догадках.
Наблюдая за ним, я чувствовал, что мне как-то не по себе. Это ощущение невозможно передать, и я могу объяснить его разве только тем, что мулат был злым, нехорошим человеком. Я знал, что он способен на любую подлость. Но какой вред собирался он причинить с помощью аллигатора? Ведь на суше никто не боится аллигаторов, здесь они никому не опасны.
Если бы не это чувство, я бросил бы наблюдать за ним и снова занялся бы оленями, которые тем временем подошли почти к самому моему укрытию. Но я преодолел искушение и снова стал следить за мулатом.
Вскоре мое недоумение разрешилось. Желтый Джек приблизился к краю бассейна, но не вошел в него. Обогнув заросли, он направился к апельсиновой роще. В этом месте была калитка; мулат вошел в нее и оставил открытой. Время от времени он снова заставлял щенка визжать, хотя в этом не было особой нужды, так как аллигатор теперь находился совсем близко.
Я мог хорошо рассмотреть чудовищного зверя. Он не принадлежал к разновидности крупных аллигаторов, хотя от морды до конца хвоста было футов двенадцать. Продвигаясь, аллигатор цеплялся за землю когтями широких перепончатых лап. Его шероховатая синевато-коричневая кожа была покрыта скользкой слизью, поблескивавшей на солнце, а между ромбовидными чешуйками налипли большие комья болотной тины. Аллигатор был, по-видимому, очень возбужден и при каждом движении собаки обнаруживал явные признаки ярости. Он приподнимался на своих мощных лапах, вскидывал вверх голову, как бы желая разглядеть добычу, рассекал хвостом воздух и раздувался почти вдвое по сравнению со своей обычной толщиной. В то же время он издавал звуки, напоминавшие отдаленный гром, а запах мускуса, исходивший от него, наполнял воздух душными испарениями. Трудно представить себе что-нибудь более отвратительное, чем это чудовище! Даже легендарный дракон не мог бы выглядеть ужаснее.
Аллигатор, не останавливаясь, проволок свое длинное тело через калитку, но дальше зеленые листья скрыли от меня омерзительное пресмыкающееся.
Я обернулся в сторону дома, продолжая наблюдать за мулатом. Отсюда я мог видеть почти весь бассейн. Между апельсиновой рощей и большим бассейном находился искусственный пруд, всего несколько ярдов в длину. Дно его покрывала вода, которую накачивали насосом из главного бассейна. Это был так называемый «черепаший садок», где специально откармливали черепах для стола. Мой отец сохранил свое виргинское гостеприимство, а во Флориде такое редкое лакомство раздобыть нетрудно.
Черепаший садок непосредственно сообщался с бассейном. Я видел, как Желтый Джек приближается к пруду. Он держал щенка в руках и все время заставлял его визжать.
Подойдя к ступенькам, ведущим в бассейн, он остановился и оглянулся назад. Я заметил, что он посмотрел сначала в сторону дома, а затем, с видимым удовольствием, в ту сторону, откуда пришел. Несомненно, аллигатор был очень близко от него, так как мулат без колебания швырнул щенка в воду. Затем, пройдя по краю черепашьего садка, он вошел в апельсиновую рощу и скрылся из виду.
Щенок, попав в холодную воду, все время продолжал визжать и отчаянно барахтаться, взбивая воду лапами. Но ему недолго пришлось бороться за жизнь. Аллигатор, привлеченный всплеском воды и собачьим визгом, быстро приближался к пруду. Не колеблясь ни минуты, он бросился в воду, с молниеносной быстротой ринулся на середину и, схватив жертву своими страшными зубами, мгновенно скрылся под водой.
Несколько минут я следил за движениями чудовища в прозрачной воде. Но скоро, руководясь инстинктом, аллигатор нырнул в одну из глубоких ям и исчез.
Глава 8
КОРОЛЕВСКИЕ КОРШУНЫ
«Так вот что ты придумал, мой желтый дружок! Это все-таки в конце концов месть. Но ты за это поплатишься, презренный негодяй! Ты не знаешь, что за тобой наблюдают! Ты пожалеешь об этой дьявольской затее раньше, чем наступит ночь!»
Так рассуждал я, разгадав, как мне казалось, намерение мулата. В пруду плавало много красивых рыбок — золотых и серебряных — и красных форелей. Это были любимцы моей сестры. Обычно она ежедневно навещала их, кормила и смотрела, как они резвятся. Она забавлялась их танцами и прыжками в воде. Они хорошо знали ее, стайкой плыли за ней вокруг всего бассейна и даже брали корм из ее рук. Сестра очень любила сама кормить рыбок.
В этом-то и заключалась месть мулата! Он прекрасно знал, что аллигатор питается рыбой, — это его естественная пища. Он знал, что вскоре все население пруда станет добычей аллигатора. Такое страшное чудовище опустошит весь заповедный пруд и уничтожит сотни бедных созданий. Это доставит большое огорчение владелице рыбок, а Желтому Джеку — радость.
Я знал, что мулат ненавидел мою сестру. Особенно сильно разжигало его ненависть воспоминание о ее вмешательстве в историю с Виолой, после которой он был наказан плетьми. Были и другие причины. Виргиния благосклонно относилась к его сопернику, который ухаживал за квартеронкой, а Желтому Джеку она запретила даже приближаться к Виоле.
И хотя мулат внешне не выказывал своих чувств — он не осмеливался на это, — я все же знал, что он ненавидит сестру. Убийство лани уже говорило об этом, а то, что произошло сегодня, служило лишним доказательством неукротимой ярости мулата.
Он рассчитывал, что аллигатор изрядно опустошит рыбный садок. Конечно, он понимал, что со временем страшного зверя обнаружат и убьют, но до этого будет уничтожено много красивых рыбок.
Никому и в голову не могло прийти, чтобы кто-нибудь вздумал заманить сюда аллигатора. Уже не раз они заходили в пруд из реки или из соседних лагун, вероятно привлекаемые сюда необъяснимым инстинктом, который заставляет их направляться прямо к воде.
Таковы были, по моему мнению, замыслы и расчеты Желтого Джека. Впоследствии оказалось, что я угадал только наполовину. Я был еще настолько молод и неопытен, что не мог представить себе, до каких пределов способна дойти человеческая злоба.
Первым моим побуждением было последовать за мулатом домой, объявить там о том, что он совершил, и наказать его, а затем вернуться с людьми к пруду, чтобы уничтожить аллигатора, прежде чем тот успеет произвести опустошение среди рыб.
Но в эту минуту мое внимание отвлекли олени. Стадо, состоявшее из оленя с ветвистыми рогами и нескольких самок, паслось невдалеке от бассейна. Олени находились в двухстах ярдах от меня. Искушение было слишком велико. К тому же я вспомнил, что обещал матери доставить жаркое к обеду. Обещание надо выполнить. Я должен добыть оленину!
Теперь можно было рискнуть. Аллигатор уже позавтракал, проглотив целого щенка. В течение нескольких часов он вряд ли будет тревожить весело плавающих обитателей пруда. А Джек, как я видел, вернулся домой — стало быть, его в любой момент можно будет найти, и он не избегнет наказания.
Эти соображения заставили меня отказаться от первоначального плана, и все мое внимание сосредоточилось на оленях. Тем временем они опять несколько удалились, так что я уже не мог стрелять в них. И я терпеливо ждал, надеясь, что олени снова подойдут.
Но я ждал напрасно. Олени боятся прудов. Они считают вечнозеленый островок опасным местом и обычно держатся от него поодаль. И это вполне понятно: именно оттуда оленей чаще всего приветствует звенящий звук индейского лука или похожий на удар бича треск винтовки охотника. Именно оттуда настигает их смертельная стрела или пуля. Видя, что олени не приближаются, а, наоборот, отходят дальше, я решил натравить на них гончих собак и спустился со скалы через рощу в равнину.
Там, очутившись на открытом месте, я сразу спустил с привязи собак и с криком помчался вперед.
Это была великолепная охота! Никогда еще олени не бежали с такой быстротой, как это стадо под предводительством старого вожака. Собаки почти настигали их. Саванну в милю шириной они пересекли чуть ли не в несколько секунд. Все это я прекрасно видел, так как трава на этом участке прерии была съедена скотом и на всем пространстве не росло ни одного куста. Это было бешеное состязание на скорость между собаками и оленями. Олени мчались так стремительно, что я уже начинал сомневаться в том, что добуду желанную дичь. Мои сомнения, однако, быстро разрешились. На краю саванны охота наконец закончилась. Одна из собак вдруг сделала скачок и впилась в горло самке, другие собаки подоспели и окружили ее. Я поспешил к собакам, и через десять минут самка была прикончена и освежевана. Довольный собаками, охотой и своими собственными подвигами, взвалив убитую самку оленя на спину, я с триумфом поспешил домой, радуясь, что сумел выполнить свое обещание.
Внезапно я увидел на залитой солнцем саванне тень от движущихся крыльев. Я поднял голову. Надо мной носились две большие птицы. Они летели не особенно высоко и не стремились подняться выше. Наоборот, они описывали широкие спирали, опускаясь все ниже и ниже с каждым кругом. Сначала солнечные лучи ослепляли меня, и я не мог различить, какие это птицы шумели крыльями надо мной. Повернувшись, я стал против солнца и теперь уже мог ясно рассмотреть ярко освещенное желтовато-белое оперение птиц. По нему я определил, что это были грифы, или так называемые «королевские коршуны», — самые красивые птицы из породы коршунов. Я даже склонен считать, что это красивейшие птицы в мире. Во всяком случае, грифы занимают одно из самых почетных мест в мире орнитологии.
Эти птицы — уроженцы Страны Цветов — не улетают далеко на север. Они обитают в зеленых болотистых низменностях, поросших высокой травой, так называемых «эверглейдз», в диких саваннах Флориды, в льяносах[56] реки Ориноко и в равнинах Апуре. В некоторых местах Флориды они встречаются довольно редко. Появление их вблизи плантаций всегда возбуждает интерес, так же как появление орла; между тем на другую породу коршунов — катартов, столь же обыкновенную, как вороны, — никто не обращает никакого внимания.
В доказательство того, что грифы редкость, могу сказать, что моя сестра никогда не видела вблизи ни одного из них, хотя ей было уже двенадцать лет и она родилась во Флориде. Правда, она еще никогда не уезжала далеко от дома и даже редко покидала пределы плантации. Я вспомнил, что сестра не раз выражала желание посмотреть на этих прекрасных птиц вблизи, и решил доставить ей это удовольствие.
Птицы спустились так низко, что ясно были видны их желтые шеи, кораллово-красный гребень на голове и оранжевые складки под клювом. Они находились достаточно близко от меня, на расстоянии прицела моей винтовки. Но они летели так быстро, что нужен был гораздо более меткий стрелок, чем я, чтобы сбить их пулей. Я не решался выстрелить, боясь промахнуться. Тут у меня блеснула другая мысль, и я немедля выполнил задуманное. Я заметил, что грифов привлекает туша самки, лежавшая у меня на плечах. Вот почему они и кружили надо мной. План мой был весьма прост. Я положил тушу на землю, а сам отбежал к группе деревьев, ярдах в пятидесяти оттуда. Долго ждать мне не пришлось. Ничего не подозревая, грифы стали снижаться. Как только один из них коснулся земли, я выстрелил, и великолепная птица мертвой упала на траву. Другой гриф, испуганный выстрелом, взвился над вершинами кипарисов и скрылся у меня из глаз.
Я снова взвалил самку на плечи и, неся птицу в руках, направился к дому. Сердце мое было полно тайного ликования. Я предвкушал двойное удовольствие — от двойной радости, которую должен был доставить. Я обрадую двоих — тех, кто был мне дороже всех на свете: любимую мать и милую сестру.
Скоро я миновал саванну и очутился в апельсиновой роще. Я не пошел через калитку, а перелез через забор. Я был так счастлив, что мой груз казался мне легким, как перышко. Я радостно шел напрямик, раздвигая сгибавшиеся под тяжестью плодов ветви и сбивая по пути золотые шары. Кто же заботится во Флориде о нескольких сбитых апельсинах!
Когда я подошел к клумбам, мать была на веранде и приветствовала меня радостным восклицанием. Я бросил добычу к ее ногам.
— Что это за птица? — спросила она.
— Это королевский коршун — подарок для Виргинии. Где она?.. Еще не вставала? Ах, маленькая лентяйка! Я пойду и разбужу ее. Стыдно спать в такое прекрасное утро!
— Нет, Джордж, она уже больше часу как встала, немного поиграла в саду и ушла.
— Но где она? В гостиной?
— Нет, она пошла купаться.
— Купаться?
— Да, вместе с Виолой. А что?
— О мама, мама!..
— Что такое, Джордж?
— Боже мой! Аллигатор!!!
Глава 9
КУПАНЬЕ
— Желтый Джек! Аллигатор!
Вот и все, что я мог произнести. Мать умоляла меня объяснить ей, что случилось, но я не в силах был вымолвить ни слова. Охваченный безумным страхом, я бросился бежать, оставив мать в таком же ужасе, в каком находился сам.
Я мчался к бассейну не по извилистой тропинке, а самой краткой дорогой, перепрыгивая через все препятствия, встречавшиеся на пути. Я перемахнул через изгородь и как вихрь понесся через апельсиновую рощу. Слышался только хруст ветвей, да на землю летели сшибаемые мною апельсины. Мои уши чутко ловили каждый звук.
Шум позади меня все усиливался. Я слышал голос матери, полный отчаяния. Ее крики всполошили весь дом, сбежались слуги и служанки. Собаки, встревоженные внезапной суматохой, начали лаять. Домашние и певчие птицы подняли пронзительный крик.
Все эти звуки доносились с плантации. Но не это меня беспокоило, я прислушивался к звукам у бассейна. И вот я услышал всплеск воды и ясный серебристый голосок сестры! «Ха-ха-ха!» — звонко смеялась она. Слава богу, сестра была еще невредима!
Я остановился и громко закричал:
— Виргиния! Виргиния!
Я нетерпеливо ждал ответа. Но ответа не было: может быть, плеск воды заглушал мой голос?
Я позвал еще раз, уже громче:
— Виргиния! Сестра! Виргиния!
На этот раз меня услышали:
— Кто зовет меня? Это ты, Джордж?
— Да, это я, Виргиния.
— Что тебе надо, братец?
— Сестра, выходи скорей из воды!
— А зачем? Разве приехали гости?.. Так рано? Ну, пусть подождут, милый Джордж. Пойди к ним и займи их чем-нибудь. А я еще поплаваю — утро прекрасное и вода просто прелесть!.. Правда, Виола? А ну-ка, поплывем еще раз вокруг пруда!
Снова раздался всплеск и веселый смех сестры и ее служанки.
Я закричал изо всех сил:
— Виргиния, дорогая! Ради бога, выходи скорей!
Вдруг веселые голоса смолкли, послышалось короткое, отрывистое восклицание, а затем, почти мгновенно, отчаянный крик. Я понял, что это не ответ на мой призыв.
Моя просьба могла встревожить сестру, но теперь в ее голосе слышался ужас. Я расслышал слова Виргинии:
— Виола, смотри! Какое чудовище! Боже мой, оно плывет сюда! На помощь! Джордж, на помощь! Спаси, спаси меня!
Я очень хорошо понял смысл этих бессвязных слов и отчаянных воплей и закричал:
— Иду, сестра, иду!
С быстротой молнии я бросился через кусты, отделявшие меня от бассейна. Но не поздно ли? Может быть, это крик агонии и сестра уже в пасти аллигатора?
Десять прыжков, и я выскочил из рощи. Скатившись с берега черепашьего садка, я очутился на краю бассейна. Моим глазам представилась ужасная картина.
Сестра плыла от середины бассейна к берегу, возле которого по колени в воде стояла квартеронка, визжа от ужаса и в отчаянии ломая руки. Позади сестры виднелась гигантская ящерица; ее тело, передние лапы и когти ясно обозначались в прозрачных волнах, из воды выступали чешуйчатая спина и плечи, еще выше торчали морда и хвост. Хвостом аллигатор взбивал на поверхности бассейна белую пену. До намеченной жертвы ему оставалось не более десяти футов. Ужасные челюсти почти касались зеленой шерстяной юбки, которая, как шлейф, тянулась за сестрой по воде. Каждую секунду аллигатор мог рвануться вперед и схватить ее.
Сестра плыла изо всех сил. Она хорошо плавала, но вряд ли это могло ей помочь. Купальный костюм только мешал ей. Аллигатор мог схватить сестру в любой момент — стоило ему только сделать самое незначительное усилие. Но пока он ее не трогал.
Это до сих пор удивляет меня. Поведение аллигатора так и осталось загадочным. Быть сможет, он был уверен, что жертва целиком в его власти, и, как кошка, играющая с мышью, наслаждался сознанием своей силы.
Все это я сообразил в одно мгновение — пока взводил курок.
Я прицелился и выстрелил. На теле аллигатора есть только два места, где пуля может оказаться смертельной, — глаз и место около сердца, под передней лапой. Я метил в глаз, но попал в плечо. От жесткой чешуйчатой кожи пуля отскочила, как от гранитной скалы. В ромбовидных чешуйках она оставила только беловатую царапину — вот и все!
Игра надоела чудовищу. Выстрел, по-видимому, причинил ему боль. Во всяком случае, он побудил его к более решительным действиям и заставил сделать последний прыжок.
Ударив по воде широким хвостом, аллигатор ринулся вперед. Его огромная челюсть вертикально поднялась кверху, так что открылась огромная красная глотка, и в следующее мгновение юбка сестры оказалась в его ужасной пасти.
Я кинулся в воду и поплыл с винтовкой в руке. Но она мне мешала. Я отшвырнул ее прочь, и она пошла ко дну.
Я схватил Виргинию как раз вовремя — в тот момент, когда аллигатор готов был утащить ее под воду.
Я изо всех сил старался удержаться вместе с сестрой на поверхности воды. Оружия у меня не было. А если бы и было, я не мог бы пустить его в ход: ведь обе руки у меня были заняты.
Я кричал изо всех сил, надеясь напугать аллигатора и заставить его выпустить добычу. Но все было бесполезно: он крепко держал свою жертву.
О боже! Аллигатор утащит нас обоих под воду, утопит и растерзает!
Но вдруг послышался всплеск. Кто-то с большой высоты смело прыгнул в пруд — смуглое лицо с длинными черными волосами, грудь, сверкающая яркими блестками, расшитая бусами одежда. Мужчина? Мальчик?
Кто же был этот незнакомый юноша, кинувшийся к нам на помощь?
Он плыл уже около нас и нашего страшного врага. Взор юноши был полон энергии и решимости. Он не произнес ни слова. Одной рукой он уперся в плечо огромной ящерицы и внезапно прыгнул ей на спину. Он сделал это более ловко, чем всадник, вскакивающий в седло.
В его руке сверкнул нож, лезвие которого вонзилось в глаз аллигатора.
Чудовище взревело от боли. Вода вспенилась под ударами его хвоста, и целый фонтан брызг взметнулся над нами. Аллигатор выпустил свою добычу, и я поплыл с сестрой к берегу.
Обернувшись, я увидел невероятное зрелище: аллигатор нырнул на дно вместе с отважным всадником на спине. Этот юноша погиб! Погиб!
С такими горькими мыслями я продолжал плыть. Выбравшись на берег, я положил на землю сестру, находившуюся в глубоком обмороке. Затем… снова оглянулся.
О радость! Незнакомый юноша вынырнул из воды и направился к берегу. На противоположной стороне пруда появилось отвратительное тело чудовища. Аллигатор яростно и неистово бился в предсмертной агонии.
К счастью, сестра оказалась невредимой. Вздувшаяся на воде юбка спасла ее. Лишь незначительные царапины виднелись на нежной коже Виргинии. Теперь она была в заботливых руках, на нее смотрели любящие глаза, ей говорили ласковые слова; ее осторожно подняли и унесли с того места, где она чуть было не погибла.
Глава 10
МЕТИС
Аллигатора вскоре добили и, к величайшему удовольствию всех негров плантации, вытащили на берег.
Никто не мог понять, каким образом он попал в пруд, так как я не сказал никому ни слова. Все думали, что аллигатор забрел в пруд из реки или из лагуны, как это иногда случалось и раньше. И Желтый Джек, принявший самое деятельное участие в уничтожении страшного зверя, несколько раз высказал это предположение. Негодяй и не подозревал, что его тайна раскрыта! Я считал себя единственным человеком, знавшим ее. Однако я ошибался.
Слуги вернулись домой, волоча на веревках огромное тело аллигатора и оглашая воздух победными криками. Я остался наедине с нашим храбрым избавителем, желая выразить ему свою благодарность.
Мать, отец — все благодарили его и восхищались его мужеством. Даже сестра, придя в сознание, сказала ему несколько теплых слов, выражая свою признательность.
Он молчал. Лишь улыбкой и легким поклоном отвечал он на благодарность и поздравления. По возрасту он был еще мальчик, но держал себя серьезно, как мужчина.
Он был примерно моего возраста и роста, прекрасно сложен и очень красив. По цвету лица его нельзя было принять за чистокровного индейца, хотя он носил индейскую одежду. Кожа у него была скорее смуглая, нежели бронзовая, — очевидно, это был метис.
Орлиный нос придавал ему сходство с этой птицей — такова отличительная особенность некоторых североамериканских племен. Его глаза, обычно мягкие и кроткие, быстро загорались. Когда он был возбужден, они, как я уже заметил, пылали грозным огнем.
Примесь крови белой расы смягчила его резкие, но совершенно правильные черты индейского типа, хранившие выражение героического величия. Его черные волосы были красивее, чем у индейца, но такие же блестящие и густые. Короче говоря, весь облик странного незнакомца свидетельствовал о том, что этот благородный и обаятельный юноша года через два превратится в мужчину замечательной красоты. Даже сейчас он отличался таким неповторимым своеобразием, что, раз увидев, его уже нельзя было забыть.
Я сказал, что одет он был как настоящий индеец. Но его костюм был сделан не из шкур, добытых на охоте. Штаны из оленьей кожи уже давно исчезли во Флориде. На нем были штаны из красного сукна и рубашка из пестрой хлопчатобумажной материи. Только мокасины были сделаны из дубленой оленьей кожи. Все это было богато украшено вышивками и бисером. Еще на нем выделялся шитый пояс — бампум, а на голове повязка, украшенная тремя перьями грифа, который пользуется у индейцев таким же почетом, как орел. Шею метиса обвивало ожерелье из разноцветных бус, а на груди сверкали один над другим три серебряных полумесяца.
Вот и весь наряд юноши. Несмотря на то, что индеец промок насквозь, вид у него был благородный и живописный.
— Вы уверены, что не ранены? — спросил я его еще раз.
— Конечно, уверен. Ни единой царапины.
— Но вы насквозь промокли. Позвольте предложить вам переодеться. Мне кажется, что мое платье придется вам впору.
— Благодарю. Я не привык к такой одежде. Солнце сильно печет, и я скоро обсохну.
— Зайдите к нам подкрепиться!
— Я недавно ел.
— Может быть, вы выпьете вина?
— Нет, благодарю. Я пью только воду.
Я не знал, что и сказать своему новому знакомому. Он отказывался от гостеприимства, но все еще стоял возле меня. Он не хотел посетить наш дом и в то же время не обнаруживал желания уйти от меня.
Так чего же он ждал? Награды за свою услугу? Чего-нибудь более существенного, чем похвалы и любезности?
Мне это показалось весьма вероятным. Как ни обаятелен юноша, он все же индеец. Он уже достаточно наслушался похвал. Индейцы не любят праздных слов. Может быть, он ждал чего-то еще — вполне естественно. Так же естественно было, что и я подумал об этом.
Я быстро вынул из кармана кошелек и положил ему в руку. Но в следующее мгновение кошелек оказался на дне пруда.
— Я не просил у вас денег! — сказал он, с негодованием швырнув доллары в воду.
Мне было обидно и совестно — главным образом совестно. Я бросился в пруд и нырнул. Но не за кошельком, а за винтовкой, которая, как я видел, лежала на каменистом дне.
Я достал ее и, выбравшись на берег, подал метису.
Он как-то особенно улыбнулся, и я понял, что исправил свою ошибку и сломил его своевольную гордость.
— Теперь очередь за мной, — сказал он. — Позвольте мне достать ваш кошелек и попросить прощения за грубость.
И прежде чем я успел помешать ему, он кинулся в воду и нырнул. Вскоре он появился с кошельком и подал его мне.
— Это великолепный подарок, — промолвил он, рассматривая винтовку. — Для того чтобы предложить вам ответный дар, мне надо побывать дома. У нас, индейцев, не много теперь найдется того, что ценят белые люди, кроме нашей земли! (Эти слова он произнес с особым ударением.) Наши изделия, — продолжал он, — по сравнению с вашими ничего не стоят. Для вас это в лучшем случае любопытные безделушки. Но постойте… ведь вы охотник? Может быть, вы возьмете мокасины и патронташ? Маюми делает их очень хорошо.
— Маюми?
— Моя сестра. Вы увидите, что в мокасинах гораздо удобнее охотиться, чем в тяжелых сапогах, которые вы носите. В мокасинах можно двигаться бесшумно.
— Важнее всего то, что я получу мокасины в подарок от вас!
— Я очень рад, что это доставит вам удовольствие. Маюми сделает вам и мокасины и патронташ.
«Маюми! — повторил я про себя. — Прелестное, незнакомое имя! Неужели это она?»
Я вспомнил о прекрасной девушке, которую однажды встретил на тропинке в лесу. Это была мечта, небесное видение — она казалась слишком красивой, чтобы быть земным созданием.
Это видение явилось мне в облике девушки-индианки, когда я бродил в лесах и ароматных, благоухающих рощах. Я увидел ее на цветущей зеленой лужайке. Это было одно из тех мест южного леса, которые природа украсила с особенной щедростью. Девушка казалась неотъемлемой частью этой великолепной картины.
Не успел я взглянуть на нее, как она уже исчезла. Я помчался за ней, но напрасно старался отыскать ее. Как легкий призрак, ускользнула она по запутанному лабиринту тропинок в роще, и больше я ее не видел. Но, скрытый от моего взора, образ ее не изгладился в моей памяти, и с тех пор я все время мечтал о прелестном видении. Не была ли это Маюми?
— Как вас зовут? — спросил я юношу, который уже собрался уходить.
— Белые зовут меня Пауэлл, по имени моего покойного отца. Он был белый. Мать моя жива. Нет нужды говорить, что она индианка… Мне пора идти, — добавил он, помолчав. — Но прежде позвольте мне задать вам один вопрос. Он может показаться вам дерзким, но у меня есть свои причины. Нет ли среди ваших рабов такого, который очень зол и враждебно относится к вашей семье?
— Пожалуй, да. По крайней мере, у меня есть основания подозревать его.
— Сумеете ли вы узнать его следы?
— Думаю, что узнаю.
— Тогда пойдемте со мной!
— Не надо. Я догадываюсь, куда вы хотите вести меня. Я знаю все: он заманил сюда аллигатора, чтобы погубить мою сестру.
— Уф! — воскликнул молодой индеец с некоторым удивлением. — Откуда вы могли узнать это?
— Я видел все вон из-за той скалы. А вы как узнали?
— Я шел по следу — человека, собаки и аллигатора. Я охотился на болоте и увидел следы. Я заподозрил что-то неладное и пошел через поле. Добрался до зарослей и услышал крики. И вот подоспел как раз вовремя. Уф!
— Да, в самый последний момент, иначе негодяю удался бы его гнусный замысел. Но не беспокойтесь, друг мой, он будет наказан!
— Хорошо. Он должен быть наказан. Надеюсь, что мы еще встретимся с вами!
Мы обменялись еще несколькими словами и простились, крепко пожав друг другу руки.
Глава 11
ОХОТА
Я уже больше не сомневался в виновности мулата. Уничтожение рыбы не могло быть его единственным намерением. Ради такого пустяка он не стал бы прилагать столько усилий. Нет, он замышлял нечто более ужасное, это был глубоко продуманный план мести: он стремился уничтожить мою сестру или Виолу, а может быть, и обеих сразу!
Подобное предположение казалось чудовищным, но сомнений не было: все подтверждало это. И молодой индеец сразу разгадал намерение мулата. В это время года сестра купалась почти каждый день, и все на плантации знали ее привычки. Я забыл об этом, когда увлекся погоней за оленями, иначе, конечно, действовал бы совершенно по-иному. Но кто мог думать о таком ужасном злодеянии? Коварство мулата соответствовало его злобному нраву. Если бы не нашлось случайных свидетелей, замысел мог бы осуществиться, и сестра стала бы его жертвой. Кто мог бы назвать виновника преступления? Все считали бы, что аллигатор — единственная причина гибели сестры. Никому бы и в голову не пришло подозревать мулата. Ведь желтый негодяй придумал все с дьявольской ловкостью.
Я пылал негодованием. Моя бедная, невинная сестра! Она и не ведала о гнусном замысле, из-за которого ее жизнь подвергалась такой смертельной опасности. Виргиния знала, что мулат недолюбливает ее, но она и не подозревала, что он питает к ней такую сатанинскую ненависть. Я был уже не в состоянии дольше сдерживать свои чувства. Преступника следует покарать, и немедленно! Его надо лишить возможности повторить подобное покушение в дальнейшем. Как нужно его наказать — об этом я сейчас не думал. Этот вопрос пусть решат старшие. Плети не помогли; может быть, его исправят кандалы… во всяком случае, он должен быть изгнан с плантации. Мысль о смертной казни не приходила мне в голову, хотя негодяй и заслужил ее. Воспитанный гуманным отцом, я не мог дойти до такой крайности, хотя был вне себя от ярости. Я считал, что достаточно наказать преступника плетьми, заковать его в кандалы и отправить в тюрьму, в форт Святого Марка или Святого Августина.
Я знал, что этот вопрос будет решать не только мой отец, что в нем примут участие все окрестные плантаторы и что необходимо скорее собрать их на совет. Рассмотрением этого преступления, безусловно, займутся более строгие судьи, чем снисходительный хозяин мулата. Я больше не раздумывал и решил, что суд должен состояться немедленно. Поэтому я, прямо через чащу, поспешил домой, чтобы все рассказать отцу.
Не успел я сделать и нескольких шагов, как услышал около себя какой-то шелест. Кругом не было ни души, но, очевидно, кто-то пробирался между деревьями. Может быть, кто-нибудь из рабов, пользуясь общим смятением, вздумал полакомиться апельсинами.
Все это показалось мне сущим пустяком по сравнению с тем, что меня заботило, и я не счел даже нужным остановиться. Я только окликнул незнакомца и, не получив ответа, пошел дальше. Подойдя к дому, я увидел отца и надсмотрщика над рабами под большим навесом. Тут же был и охотник за аллигаторами старик Хикмэн и несколько соседей, случайно заехавших к отцу по делам. Я подробно рассказал об утреннем происшествии. Все стояли как пораженные громом. Хикмэн сразу же объявил, что, вероятно, все так и было, хотя никто и не сомневался в справедливости моих слов. Единственное сомнение могло быть относительно намерений мулата. Неужели он хотел погубить человеческую жизнь? Трудно было поверить в такую неслыханную жестокость. Однако в тот же миг все сомнения были разрешены. Нашелся свидетель, подтвердивший и дополнивший мои показания. Этот свидетель был Черный Джек.
В это утро — всего полчаса назад — он заметил, как Желтый Джек взбирался на один из высоких дубов, откуда хорошо виден пруд. Это было как раз в тот момент, Когда «белая мисс» и Виола пошли купаться. Желтый Джек видел, как они вошли в воду.
Возмущенный таким недостойным поведением, негр крикнул мулату, чтобы тот слез с дерева, и пригрозил, что пожалуется на него. Но мулат ответил, что собирает желуди — любимое лакомство всех обитателей плантации. И только после того, как негр повторил свою угрозу, Желтый Джек наконец спустился на землю, но в руках у него не было ни одного желудя.
— Он не за желудями полез туда, масса Рэндольф: этот желтый бездельник замышлял плохое дело, — так закончил свои показания Черный Джек.
Теперь уже нельзя было сомневаться в преступном намерении мулата. Он влез на дерево, желая убедиться, что злодеяние, задуманное им, совершилось; он видел, как девушки вошли в бассейн; он знал об опасности, таящейся в воде, и он даже пальцем не пошевельнул, чтобы помочь им или поднять тревогу. Наоборот, он одним из последних прибежал к пруду, когда девушки призывали на помощь. Это подтверждали многие свидетели. Все улики против него были налицо.
Рассказ Черного Джека взволновал всех. Белые и черные, хозяева и рабы — все были одинаково возмущены ужасным преступлением. Со всех сторон раздавались крики: «Где Желтый Джек?»
Негры, белые, мулаты — все бросились на поиски, все жаждали поймать Желтого Джека, чтобы наказать это чудовище.
Но куда же он скрылся? Его громко звали, ему приказывали, ему угрожали. Но все напрасно: ответа не было. Где же он? Обыскали все: конюшни, пристройки, кухню, хижины негров, даже амбар для зерна, но мулата нигде не оказалось. Куда же он скрылся? Его видели совсем недавно, когда он помогал тащить аллигатора. Люди принесли убитого зверя к загону и бросили на съедение свиньям. Желтый Джек вертелся тут же и усердно помогал в работе, но где он был теперь — никто не знал.
В эту минуту я вспомнил, что слышал шорох в апельсиновой роще. Не там ли прятался Желтый Джек? В таком случае он, вероятно, подслушал мой разговор с молодым индейцем или, по крайней мере, последнюю часть его и теперь был уже где-нибудь далеко.
Начали искать его в апельсиновой роще и в зарослях вокруг бассейна, но напрасно: мулат как сквозь землю провалился. Тогда мне пришла мысль взобраться на вершину скалы, на мой наблюдательный пункт; и я сразу увидел беглеца, пробиравшегося ползком через плантацию индиго по направлению к маисовому полю. Дальше я не стал следить за ним, спрыгнул со скалы и помчался в погоню. Мой отец, Хикмэн и другие последовали за мной.
Погоня велась отнюдь не втихомолку, и по нашим крикам Желтый Джек скоро понял, что его преследуют. Скрываться дальше уже не было никакой возможности, и, вскочив, он пустился бежать со всех ног. Вскоре он достиг маисового поля; крики преследователей раздавались у него за спиной.
Хотя я был еще мальчишкой, но бежал быстрее всех. Я знал, что обязательно догоню его, если только ему не удастся скрыться из виду. По-видимому, он надеялся добежать до болота и там нырнуть в заросли пальметто, где ему уже легко было бы спрятаться так, чтобы его не нашли.
Чтобы помешать этому, я пустился бежать во весь дух и пересек беглецу дорогу как раз у края леса. Мне удалось схватить его за полу куртки.
Это была, конечно, безрассудная попытка. Мной владела только одна мысль: схватить его! Я и не подумал о том, что он будет сопротивляться, хотя от человека, доведенного до отчаяния, этого вполне можно было ожидать. Привыкший к тому, чтобы мне повиновались, я в ослеплении полагал, что, как только схвачу его, он покорно остановится. Но я ошибался. От быстрого бега я совершенно запыхался и настолько ослабел, что был бы не в состоянии удержать даже кошку. Желтый Джек без труда вырвался у меня из рук. Я думал, что он удерет, но вместо этого он обернулся и, выхватив нож, вонзил его в мою руку. Он метил в сердце, но в этот момент я случайно поднял руку и тем отвратил от себя роковой удар.
Мулат снова занес нож и вторично вонзил бы его в меня, если бы в борьбу не вмешался третий участник. Прежде чем смертоносное лезвие коснулось меня, сильные руки Черного Джека обхватили мулата. Мерзавец яростно отбивался, стараясь вырваться на свободу, но железные объятия его старого соперника не разжимались, пока не подоспели Хикмэн и все другие. Вскоре мулат был опутан крепкими ремнями и теперь лежал перед нами — беспомощный и безвредный.
Глава 12
СУРОВЫЙ ПРИГОВОР
Все эти события, само собой разумеется, вызвали большое волнение и за пределами нашего дома. Вдоль реки тянулся ряд плантаций, составлявших один поселок. Весть о том, что произошло у нас, разнеслась с невероятной быстротой, и примерно через час к нам со всех сторон стали съезжаться белые соседи. Некоторые из них — бедные охотники, жившие на окраинах больших плантаций, — пришли пешком, а другие — сами плантаторы и их надсмотрщики — прискакали верхом. Все они были вооружены винтовками и пистолетами. Посторонний наблюдатель принял бы их за отряды милиции, съехавшиеся на сбор, хотя по серьезному выражению их лиц можно было скорее подумать, что они собрались отражать нападение индейцев на границе.
В течение часа прибыло около пятидесяти человек — почти все жители поселка. Для разбора дела Желтого Джека был назначен суд. Судебный процесс проводился не в соответствии со строгими положениями закона, хотя некоторые юридические формальности в очень грубой форме все же соблюдались. Эти люди пользовались здесь полной властью, они были владельцами земли и в случаях, подобных этому, могли без труда организовать своеобразный судебный трибунал. Из своей среды они избрали присяжных и судью — нашего ближайшего соседа, Ринггольда. Мой отец отказался принять участие в суде.
На предварительное следствие много времени не понадобилось — факты говорили сами за себя. Я стоял перед судьями с повязкой на раненой руке. Все было ясно — вина была доказана. Мулат покушался на жизнь белых. Значит, он заслуживал смертной казни.
Но какой смертью его казнить? Одни предлагали повесить; другие находили этот приговор слишком мягким. Большинство одобрили предложение сжечь преступника живым. К этому зверскому приговору присоединился и судья.
Отец мой просил смягчить приговор — по крайней мере, не мучить преступника. Но жестокие судьи его не слушали. У всех плантаторов было много случаев бегства рабов, что объяснялось близостью индейцев. И вот рабовладельцы, обвиняя отца в излишней мягкости, решили, что беглые рабы должны получить жестокий урок. Первой жертвой будет Желтый Джек, которого сожгут живым.
Так они рассуждали, таков был произнесенный ими приговор!
Обычно думают, что североамериканские индейцы всегда пытают своих пленников. Это явное заблуждение! В большинстве достоверно засвидетельствованных случаев жестокость индейцев была ответом на какую-нибудь вопиющую несправедливость, ранее совершенную по отношению к ним, и пытка пленников являлась лишь возмездием. В любые эпохи человеческая природа поддавалась искушению мести. Белых можно с таким же основанием обвинять в жестокости, как и краснокожих. Если бы индейцы сами писали историю пограничных войн и захватов их территории, то весь мир, вероятно, изменил бы свое мнение об их так называемом «жестокосердии».
Сомнительно, чтобы во всей истории войн между белыми и индейцами можно было найти примеры жестокости, равные тем, с которыми белые относились к неграм. Многие из негров-рабов были искалечены, подвергались пытке, приговаривались к смерти даже за простую обиду, нанесенную словом, и, уж конечно, за оскорбление действием — например, пощечину или удар. Ибо таков был закон, начертанный белыми людьми.
Жестокость индейцев почти всегда была только возмездием. Но когда цивилизованные тираны пытали людей, то месть вовсе не являлась поводом, которым можно оправдать их действия. Если же это даже была месть, то не естественная жажда отмщения, которая находит себе приют в человеческом сердце в ответ на несправедливость, а просто низменная злоба, которую часто проявляют подлые и трусливые тираны по отношению к слабым созданиям, находящимся в их власти.
Желтый Джек совершил тяжкие преступления и безусловно заслуживал смерти. Но судьи решили еще и пытать его. Мой отец и несколько других соседей протестовали против этого, но большинство голосов одержало верх, и ужасный приговор был утвержден. И те, кто вынес его, сразу же начали готовиться привести его в исполнение.
Владения джентльмена — неподобающее место для казни. Поэтому решили отойти подальше от дома, к озеру. В двухстах ярдах от берега нашли подходящее дерево, и вся толпа направилась туда вслед за осужденным. Желтого Джека привязали к дереву и начали разводить костер.
Отец отказался присутствовать при казни. Из всего нашего семейства один я последовал за толпой. Мулат увидел меня и осыпал градом ругательств, торжествуя, что нанес мне рану. Видимо, он считал меня своим злейшим врагом. Правда, я оказался невольным свидетелем преступления Желтого Джека и его осудили главным образом благодаря моим показаниям, но я не был мстителен и готов был избавить его от ужасной участи, которая ему угрожала, по крайней мере от пыток.
Мы подошли к месту казни. Люди уже суетились там: одни собирали хворост и складывали его вокруг дерева, другие разводили огонь. В толпе раздавались смех и шутки, но слышались и возгласы, в которых ясно сквозила ненависть ко всей расе цветных людей. Особенно усердствовал в этом отношении молодой Ринггольд, необузданный, жестокий юноша, унаследовавший худшие черты своего семейства.
Я знал, что ему нравится моя сестра. Я часто замечал, что он оказывал ей особые знаки внимания и не скрывал своей ревности к ее молодым друзьям. Его отец был самым богатым плантатором во всем поселке, и надменный сынок считал себя повсюду желанным гостем. Я не думаю, чтобы он нравился Виргинии. Впрочем, наверное не могу сказать — вопрос был слишком деликатный, чтобы задать его девочке-подростку, которая только воображала себя взрослой девушкой. Ринггольд не отличался ни красотой, ни благородством.
Он был, пожалуй, неглуп, но заносчив по отношению к людям, стоявшим ниже его, — обычная черта сыновей богатых родителей. Про него говорили, что характер у него мстительный. Вдобавок он был расточителен, слонялся по кабачкам самого низшего пошиба, устраивал петушиные бои.
Я не любил его и никогда не искал его общества. Он был немного старше меня, но дело не только в этом — мне не нравились его характер и склонности. Но совсем не так относились к нему мои родители. Они приветливо принимали Ринггольда в доме, по-видимому считая его своим будущим зятем. Они не замечали его недостатков — блеск золота часто ослепляет наши взоры.
Этот молодой человек был в числе тех, кто настойчиво требовал смерти мулата. Он принимал самое деятельное участие в приготовлениях к казни. Это объяснялось отчасти и природной бесчеловечностью — молодого Ринггольда и его отца считали жестокими плантаторами, и для всех рабов нашей колонии самой страшной угрозой было обещание продать их «массе Ринггольду».
Однако поведение молодого Ринггольда объяснялось и другой причиной: он воображал, что поступает по-рыцарски, проявляя дружеские чувства к нашей семье — а главное, к Виргинии. Но он ошибался: такая жестокость не могла вызвать у нас одобрения. Да и вряд ли моя добрая сестра наградила бы его за это приветливой улыбкой.
Молодой метис Пауэлл также был здесь. Услышав шум погони, он вернулся и теперь стоял в толпе, но ни в чем не участвовал.
Ринггольд увидел индейца, и странное выражение промелькнуло в его глазах. Он уже знал, что смуглый юноша спас Виргинию, но благодарности к нему отнюдь не испытывал.
Наоборот, в его груди вспыхнуло другое чувство: это было ясно видно по презрительной улыбке, игравшей на его губах.
Это стало еще заметнее, когда он грубо обратился к Пауэллу.
— Эй! Краснокожий! — крикнул он. — А ты не приложил руки к этому делу? Слышишь, ты, краснокожий!
— Это я краснокожий? — с негодованием воскликнул метис, бросив гордый взгляд на обидчика. — Однако цвет моей кожи лучше, чем вашей, трусливый болван! У Ринггольда цвет лица был несколько желтоватый. Удар был нанесен метко. Оскорбление дошло до сознания Ринггольда молниеносно, но он был так изумлен подобным обращением со стороны индейца и пришел в такую ярость, что на несколько мгновений утратил дар речи. Прежде чем он мог что-нибудь промолвить, послышались восклицания:
— Черт возьми! Что там болтает этот индеец?
— Повтори, что ты сказал! — закричал, опомнившись, Ринггольд.
— Если угодно, пожалуйста: трусливый болван! — крикнул метис, особенно подчеркнув последние слова.
Едва он успел вымолвить это, как Ринггольд выстрелил, но пуля пролетела мимо метиса. В следующую минуту противники ринулись вперед и вцепились друг другу в горло.
Оба упали на землю, но преимущество оказалось на стороне метиса. Он очутился наверху, нож сверкнул у него в руке, и Ринггольду, наверно, пришлось бы отправиться на тот свет, если бы кому-то из толпы не удалось вышибить нож из рук метиса. Несколько человек бросились к ним и розняли противников.
Некоторые возмущались поведением индейца и требовали для него смертной казни. Но нашлись люди с более благородными представлениями о справедливости, они были свидетелями того, как вызывающе вел себя Ринггольд, и, несмотря на влияние и силу семейства Ринггольдов, стали возражать против этого убийства. Я был исполнен решимости защищать метиса до последней возможности.
Трудно сказать, чем бы все это кончилось… Но вдруг кто-то крикнул:
— Желтый Джек бежал!
Глава 13
ПОГОНЯ
Я оглянулся. Действительно, мулат бежал! Люди были поглощены схваткой Ринггольда с индейцем и забыли про мулата. Нож, который кто-то выбил из рук Пауэлла, упал к ногам Желтого Джека. Воспользовавшись суматохой, он поднял его, разрезал веревки, которыми был привязан к дереву, и бросился бежать. Кое-кто пытался схватить мулата, но он выскользнул из рук. В несколько прыжков он обогнал толпу людей и помчался к озеру.
Это была безумная попытка. Его или застрелят, или догонят. Да, но пытаться спастись от верной смерти — и какой смерти! — разве это безумие?
Вслед беглецу загремели выстрелы, сначала из пистолетов, потом из ружей. Винтовки лежали в стороне или стояли, прислоненные к деревьям и заборам. Все помчались за ними. Стрелки прицеливались один за другим — слышался сухой треск, похожий на учебную стрельбу отряда пехотинцев. Среди белых было много метких стрелков, но трудно попасть в человека, спасающего свою жизнь и мечущегося из стороны в сторону между пнями и кустами. Ни один выстрел, по-видимому, не попал в цель. По крайней мере, когда дым рассеялся, мы увидели, что мулат бросился в озеро и поплыл.
Некоторые снова принялись заряжать винтовки, другие же, видя, что времени терять нельзя, бросали оружие, поспешно сбрасывали с себя шляпы, куртки, сапоги и прыгали в воду вслед за беглецом.
Через три минуты картина совершенно изменилась. Место казни опустело. Одни толпились на берегу, крича и жестикулируя, а другие — человек двадцать — молча плыли, и только их головы торчали из воды. Далеко впереди — футах в пятидесяти от них — виднелись черные курчавые волосы, желтые плечи и шея одинокого пловца, прилагавшего отчаянные усилия, чтобы спастись от преследователей.
Это была странная сцена! Как будто идет охота за оленем — окруженный со всех сторон, он бросается в воду, а собаки с лаем смело ныряют за ним. Только здесь царило еще большее возбуждение, и люди и собаки охотились не за дичью, а за человеком. Борзые и легавые вместе со своими хозяевами бросились в яростную погоню. Право же, это была очень странная сцена!
С берега продолжали греметь выстрелы: те, кто оставался там, снова зарядили свои ружья. Пули то и дело шлепали по воде недалеко от пловца, но ни одна не настигла его. Он уже находился за пределами попадания.
Все это казалось мне каким-то сном. События сменялись так быстро, что я почти не доверял собственным чувствам и сомневался в действительности всего происходящего. За миг перед этим преступник, связанный и беспомощный, лежал перед грудой хвороста, который собирались поджечь. Теперь же он был свободен и плыл вперед, а его палачи безнадежно отстали от него. Перемена произошла настолько быстро, что в нее трудно было поверить. А между тем все это совершилось у меня на глазах.
Прошло немало времени. Погоня на воде во многом отличается от погони на суше. Несмотря на то что это был вопрос жизни и смерти, беглец и его преследователи двигались вперед очень медленно. В течение приблизительно получаса мы, оставшиеся на берегу, были зрителями этого необычайного состязания. Ярость первых минут улеглась, но тем не менее интерес зрителей не ослабевал; люди еще продолжали стрелять и волноваться, хотя ни стрельба, ни крики, конечно, не могли привести к желаемым результатам. Никакие поощрительные возгласы не помогали преследователям. Никакие угрозы не нужны были, чтобы беглец плыл скорее…
Пока мы стояли на берегу, у нас было достаточно времени для размышлений. Нам было ясно, почему мулат бросился в воду. Попытайся он бежать полем, он стал бы добычей собак или его догнали бы те, кто бегал быстрее. В воде же немногие могли состязаться с ним. Поэтому он решил переплыть озеро и добраться до леса.
Однако совершенно скрыться он не мог. Остров, к которому он плыл, находился на расстоянии полумили от берега, но за ним простиралась полоса воды более мили в ширину. Мулат мог спрятаться от преследователей на острове. Но что дальше? Не мог же он рассчитывать на спасение, спрятавшись в чаще! Там всего на нескольких акрах густо росли высокие деревья. Некоторые стояли у самого берега, ветви их были украшены серебристой тилландсией и свисали над водой. Но что из этого? Здесь мог найти укрытие и спасение медведь или загнанный волк, но не преследуемый человек, не раб, который осмелился поднять нож на своего хозяина. Нет, нет! На острове обыщут каждый куст, и скрыться нет никакой возможности.
Может быть, мулат только собирался отдохнуть на острове и, переведя дух, снова пуститься вплавь к противоположному берегу? Хороший пловец мог бы рискнуть на это, но для мулата этот путь был отрезан. На реке было много лодок и пирог, люди уже пошли за ними, и, прежде чем мулату удалось бы отплыть от берега, за ним уже погналось бы несколько челноков. Нет, нет, ему не спастись! Куда бы он ни бросился, в воде или на острове, — его схватят везде! Так рассуждали зрители на берегу, наблюдавшие за погоней.
По мере того как пловец приближался к острову, возбуждение все больше усиливалось. Развязка была недалека, но она оказалась совершенно иной, нежели мы предполагали. Все думали, что беглец, достигнув острова, выйдет на берег и скроется среди деревьев, а за ним по пятам пойдут преследователи и, может быть, изловят его даже раньше, чем ему удастся добраться до леса. Люди были уверены, что все произойдет именно так, — ведь мулат находился уже около самого острова: еще несколько сильных взмахов, и он был бы у берега. Он уже плыл под темной тенью деревьев, ветви как бы склонялись над его головой; казалось, ему достаточно было поднять руки и схватить их. Большинство пловцов все еще отставали от него ярдов на пятьдесят, но некоторые, опередив других, были уже в двадцати пяти ярдах от него. С берега казалось, что они плывут чуть ли не рядом с беглецом и в любой момент могут его схватить.
Развязка приближалась, но не такая, какой мы ожидали. Ни зрители, ни преследователи и не догадывались, чем кончится погоня. Даже сам мулат не подозревал, какая новая страшная опасность ему грозила. Тень деревьев на берегу острова уже падала на пловца, и каждую минуту мы ждали, что он скроется в ней. Но вдруг он круто повернул и поплыл вдоль берега.
Мы с удивлением смотрели на этот маневр, не понимая, к чему он может привести, ибо преследователи как раз плыли по диагонали к беглецу и могли вот-вот настигнуть его. Какова была его цель? Может быть, ему не удалось найти удобное место, чтобы выйти на берег? Даже если это было так, он мог уцепиться за ветви и выбраться на сушу. Но недоумевать нам пришлось недолго: мы заметили, что темный предмет, плававший в воде, оказался вовсе не стволом сухого дерева; бревно было живое и двигалось и скоро приняло очертания огромной ящерицы — отвратительного аллигатора.
Его страшные челюсти были широко раскрыты, чешуйчатый хвост поднялся, только туловище находилось в воде. Он повертывался то в одну, то в другую сторону, время от времени бил хвостом, и брызги летели фонтаном. Его рев отдавался эхом на противоположном берегу, все озеро как бы колебалось от его хриплого голоса. Лесные птицы с криком порхали кругом, а белый журавль с испуганным курлыканьем взвился в воздух.
Зрители застыли от ужаса, пловцы перестали плыть. Только один мулат прилагал все усилия, чтобы спасти свою жизнь. Аллигатор так и впился в него глазами. Почему он уставился на него, а не на других? Все пловцы были одинаково близко. Может быть, это рука бога поднялась для мщения? Еще одно движение, еще удар мощного хвоста — и громадный аллигатор ринется на свою жертву…
Я забыл о преступлениях мулата — я почти сочувствовал ему: неужели для него нет надежды на спасение? Вот он ухватился за ветку дерева, пытаясь подняться из воды и избавиться от грозной опасности. Боже, укрепи его руку! Слишком поздно! Уже аллигатор разинул пасть… Вдруг раздался треск — сук обломился! Мулат упал, скрылся под водой и пошел ко дну, а за ним, так и не сомкнув челюстей, нырнула гигантская ящерица. Оба скрылись из виду. Волны вспенились, захлестывая листья обломанного сука.
Затаив дыхание, мы следили за этой сценой. Ни малейшая зыбь на волне не ускользала от нашего взора. Но на поверхности воды не было заметно никакого движения. Из ее глубин не показывались очертания ни человека, ни чудовища, и вскоре озеро снова стало спокойным и гладким. Аллигатор, несомненно, закончил свое дело. Не послужил ли он орудием божьей мести! Так говорили окружавшие меня люди.
Наши пловцы повернули обратно. Никто не рискнул подплыть к берегу острова, под темную тень деревьев. Люди долго находились в воде, и силы оставляли их. Некоторые едва ли могли бы добраться до берега, но на помощь им спешили лодки и пироги. Некоторые пловцы увидели лодки и поплыли медленнее, другие остановились и ждали их приближения. Всех их поспешно подобрали одного за другим. Теперь и люди и собаки были благополучно доставлены на берег.
Решено было продолжать поиски с помощью собак, так как судьба беглеца все еще оставалась неясной. Преследователи высадились, собаки начали рыскать по кустам, а люди пошли вдоль берега к месту, где все это случилось.
Однако на острове не оказалось ни малейших следов мулата. Но зато кое-что обнаружилось в воде: нашли красную пену и решили, что это кровь мулата.
— Все в порядке, ребята! — раздался чей-то грубый голос. — Держу пари, что это кровь чернокожего. Он пошел ко дну, в этом нет сомнения. Черт побери эту гадину! Она испортила нам всю забаву.
Эта шутка была встречена взрывом оглушительного хохота. Продолжая беседу в том же духе, охотники за людьми постепенно разошлись по домам.
Глава 14
МЕСТЬ РИНГГОЛЬДА
Только самые черствые люди среди белых говорили oб этом происшествии с неподобающим легкомыслием; другие более тонкие и благородные, отнеслись к нему с должной серьезностью, а в некоторых оно даже пробудило какой-то страх. Как будто десница божья вмешалась и наказала преступника той самой смертью, которую он готовил другим. Ужасная смерть, но казнь, назначенная мулату людьми, была еще ужаснее. Небо, смягчив наказание преступнику, оказалось к нему милосерднее, чем земные судьи.
* * *
Я оглянулся, ища индейца, и был доволен, что его нет в толпе. Его стычка с Ринггольдом внезапно закончилась, но я боялся, что так просто это не обойдется. Слова метиса разозлили плантаторов, отвлекли их внимание от Джека, и благодаря этому преступник бежал. Если бы мулату действительно удалось спастись, это наверняка повело бы к дальнейшим неприятностям. Но и теперь я не был вполне уверен в том, что индейцу не угрожает опасность. Он находился не на своей земле — владения индейцев простирались по ту сторону реки, и поэтому местные жители могли рассматривать его приход как вторжение. Правда, мы были в мире с индейцами, но, несмотря на это, в глубине души обе стороны относились друг к другу крайне враждебно. Старые раны, полученные в войне 1818 года[57], еще не зажили.
Я знал, что Ринггольд мстителен. Он был унижен в глазах приятелей — в короткой схватке метис одержал верх. Ринггольд не простит этого и, конечно, будет искать случая отомстить ему.
Вот почему я обрадовался, что метис ушел. Быть может, он сам почувствовал опасность и вернулся за реку, где ему уже ничто не могло грозить. Даже Ринггольд не рискнул бы последовать туда за ним, так как договор нельзя было нарушать безнаказанно, и самые отчаянные из скваттеров[58] это знали. Могла снова вспыхнуть война с индейцами, а правительство, вообще не отличавшееся чрезмерной щепетильностью, в настоящее время имело другие планы.
Я собрался было идти домой, как вдруг мне пришла в голову мысль подойти к Ринггольду и сказать ему, что я не одобряю его поведения. Я был так возмущен, что решил выложить ему все, что о нем думал. Ринггольд был старше меня и выше ростом, но я не боялся его. Напротив, я знал, что внушаю ему страх. Ринггольд оскорбил того, кто час назад рисковал ради нас своей жизнью, и я хотел упрекнуть его за это. Я стал искать Ринггольда в толпе, но его нигде не было.
— Вы не видели Аренса Ринггольда? — спросил я старого Хикмэна.
— Он только что уехал, — ответил старик.
— В каком направлении?
— Вверх по реке. Он ускакал с Биллем Уильямсом и Недом Спенсом. У них был такой вид, как будто там их ждет какое-то неотложное дело.
У меня мелькнуло страшное подозрение.
— Хикмэн, — обратился я к охотнику, — не одолжите ли вы мне на часок свою лошадь?
— Мою старушку? С удовольствием! Хоть на целый день, если нужно. Но как же вы поедете с пораненной рукой?
— Ничего! Только помогите мне сесть в седло.
Старый охотник исполнил мою просьбу, и, обменявшись с ним еще несколькими словами, я поехал вверх по берегу реки. Немного выше через реку ходил паром, и там же, вероятно, молодой индеец оставил свой челнок. Следовательно, чтобы вернуться домой, ему надо было идти в этом направлении, между тем как Ринггольду не следовало ехать туда — его плантация лежала в противоположной стороне. Поэтому-то мне и показалось подозрительным, что Ринггольд поехал вверх по реке, да еще в такой компании. Во всех окрестных плантациях не было молодчиков хуже тех приятелей Ринггольда, которых упомянул Хикмэн. Я знал также, что они полностью находились под влиянием своего вожака.
Я подозревал, что они поскакали вдогонку за индейцем и, конечно, не с добрыми намерениями. Подъехав к реке, я убедился в основательности своих предположений. На сыром песке ясно виднелись отпечатки лошадиных копыт и след индейских мокасин, ведущий к переправе. Я знал, что одежда метиса еще не высохла и что его мокасины были пропитаны водой. Я пришпорил лошадь.
Однако, подъехав к переправе, я ничего не увидел, так как от воды меня отделяли деревья. Но я услышал сердитые голоса. Это доказывало справедливость моего предположения.
Я не стал терять времени и прислушиваться, а поехал прямо на звук голосов. На повороте дороги я увидел трех лошадей, привязанных к дереву. Я проскакал мимо и действительно, как и следовало ожидать, увидел у воды трех белых и метиса между ними. Он был у них во власти! Они оставили лошадей у дерева, подкрались к нему незаметно и схватили его как раз в тот момент, когда он собирался прыгнуть в челнок.
Метис оказался безоружным. Винтовка, которую я подарил ему, была еще влажная, а мулат утащил с собой его нож. Вот почему метис не мог оказать им сопротивления и его сразу удалось связать по рукам и ногам.
Не теряя времени, они сняли с индейца охотничью рубашку и привязали его к дереву. Улучив момент излить наконец свою накопившуюся ярость, они собирались исхлестать бичами его обнаженную спину. Если бы я не подоспел вовремя, ему пришлось бы плохо.
— Стыдитесь, Аренс Ринггольд! — крикнул я, подъезжая к ним. — Стыдитесь! Так поступать подло и достойно труса, и я расскажу об этом всем в поселке.
Я появился так внезапно, что Ринггольд был ошеломлен. Он пробормотал какое-то извинение.
— Проклятый индеец заслуживает этого! — проворчал Уильямс.
— За что, мистер Уильямс? — спросил я.
— За то, что он так нагло разевает пасть на белых людей!
— Ему тут нечего делать! — вмешался Спенс. — По какому праву он разгуливает на этом берегу реки?
— А вы не имеете права истязать его ни на этом, ни на том берегу, точно так же как не имеете права трогать меня.
— Хо, хо, хо! Мы и с вами справимся! — насмешливо воскликнул Спенс.
Кровь во мне так и закипела.
— Ну, это не так-то легко! — вскричал я, спрыгнув с коня и подбегая к ним.
Моя правая рука была невредима. Заранее предвидя неприятные осложнения, я взял у Хикмэна пистолет и теперь поднял его и прицелился.
— Ну, джентльмены, — сказал я, став рядом с пленником, — теперь вы можете истязать его! Только предупреждаю вас, что пущу пулю в лоб первому, кто посмеет его ударить.
Хотя все трое были почти мальчишки, но, по обычаю того времени, они носили при себе оружие — ножи и пистолеты. Спенс, казалось, больше всех был расположен выполнить свою угрозу. Но, видя, что Ринггольд, их вожак, отступил, он и Уильямс также последовали его примеру. Ринггольд отступил, так как, ссорясь с нашей семьей, он мог потерять то, чего не могли потерять его приятели. Кроме того, что он боялся за свою собственную шкуру, у него были и другие планы. Все трое в конце концов ушли, недовольные моим непрошеным вмешательством в ссору, которая, как они полагали, меня совершенно не касалась. Пылая злобой, они постыдно оставили поле битвы.
Я немедленно освободил индейца. Он сказал мне всего несколько слов, но его взгляд выразил всю его признательность, когда он на прощанье пожал мне руку:
— Приходите на ту сторону реки, когда вам вздумается. Ни один индеец не тронет вас. Вы всегда будете желанным гостем в наших владениях!
Глава 15
МАЮМИ
Такое знакомство не могло просто прекратиться. Чем же оно должно было закончиться, как не дружбой! Метис был благородный юноша, со всеми задатками джентльмена. Я решил принять его приглашение и побывать в его лесном домике. Хижина его матери, как он объяснил мне, стояла недалеко отсюда, по ту сторону озера, на берегу небольшой речушки, впадающей в широкую реку Суони.
Я слушал эти указания с затаенной радостью. Я хорошо знал речку, о которой он говорил. Еще недавно я плыл по ней в лодке, и именно на ее берегах я впервые увидел прелестное существо — лесную нимфу, красота которой произвела на меня такое сильное впечатление.
Но была ли это Маюми? Мне хотелось поскорее увериться в этом. Если бы моя рука зажила настолько, чтобы я мог владеть веслами! Эта задержка мучительно томила меня. Но время шло, и я наконец выздоровел.
Для своей поездки я выбрал чудесное, ясное утро и собрался в путь, захватив собак и ружье. Усевшись в лодку, я уже приготовился отчалить, как вдруг кто-то меня окликнул. Обернувшись, я увидел сестру.
Бедная маленькая Виргиния! В последнее время она очень изменилась, потеряла свою прежнюю веселость и стала гораздо задумчивее. Она еще полностью не оправилась от страшного потрясения после истории с аллигатором.
— Куда ты едешь, Джордж? — спросила она, подходя ко мне.
— Тебе хочется знать, Виргиния?
— Да, скажи мне или возьми меня с собой!
— Как? Взять тебя в лес?
— А почему бы и нет? Я давно не была в лесу. Какой ты нехороший, братец, ты никогда не берешь меня с собой!
— Но раньше, сестричка, ты никогда не просила меня об этом.
— Ну и что же, ты мог бы и сам догадаться, как мне это приятно. А мне так хотелось бы погулять в лесу! Как хорошо было бы стать вольной птицей, или бабочкой, или каким-нибудь другим крылатым существом! Тогда я путешествовала бы одна по этим чудным лесам и не упрашивала бы эгоистичного брата взять меня с собой.
— В другой раз, Виргиния, только не сегодня!
— Отчего же не сегодня? Смотри, какое прекрасное утро!
— По правде говоря, сегодня я держу курс не совсем в лес.
— А куда ты держишь курс, Джорджи? «Держать курс» — так, кажется, говорят о кораблях?
— Я еду к молодому Пауэллу. Я обещал навестить его.
— Ах, вот что! — воскликнула сестра, вдруг меняясь в лице и задумавшись.
Имя Пауэлла напомнило ей об ужасной сцене, и я раскаивался уже, что назвал его.
— Вот что я скажу тебе, братец! — начала она, помолчав. — Больше всего на свете я хотела бы посмотреть индейскую хижину. Милый Джордж, возьми меня с собой!
Просьба была высказана так горячо, что я был не в силах устоять, хотя, конечно, предпочел бы поехать один. У меня была тайна, которой я не мог поделиться даже с любимой сестрой. Кроме того, смутное чувство подсказывало мне, что не следовало бы брать сестру с собой так далеко от дома, в место, с которым я сам был знаком очень мало. Она снова принялась упрашивать меня.
— Ну ладно, если мама позволит…
— Ничего, Джордж, мама не рассердится. Зачем возвращаться домой? Ты видишь, я готова, даже шляпу надела. Мы успеем вернуться прежде, чем нас хватятся. Ведь это недалеко…
— Ну хорошо, сестренка, садись на корме, у руля. Хэйхо! Мы отваливаем!
Течение было не сильным, и через полчаса мы доехали до устья речки и продолжали плыть по ней вверх. Это была неширокая речка, но достаточно глубокая для лодки или индейского челнока. Солнце стояло высоко, но его лучи не палили нас — им преграждали путь густые деревья, ветви которых как бы сплетались в зеленый свод над волнами реки. В полумиле от устья маисом и засаженные бататом — сладким картофелем, — стручковым перцем, дынями и тыквами. Невдалеке от берега возвышался довольно большой дом, окруженный оградой и группой домиков поменьше. Это было деревянное здание с портиком, колонны которого покрывала примитивная резьба. На полях трудились рабы — негры и индейцы.
Это не могла быть плантация белого — на этой стороне реки белые не жили. Мы решили, что поместье принадлежит какому-нибудь богатому индейцу, владельцу земли и рабов.
Но где же хижина нашего друга? Он сказал, что она стоит на берегу реки, не дальше чем в полумиле от ее устья. Может быть, мы прошли, не заметив хижины, или ее надо было искать где-то дальше?
— Давай-ка пристанем к берегу, Виргиния, и спросим.
— А кто это там стоит на крыльце?
— Ого, ты видишь лучше меня! Ведь это он сам — молодой индеец! Но не может быть, чтобы он жил здесь… Разве это хижина? А знаешь что? Он, наверно, пришел сюда в гости. Смотри-ка, он идет к нам навстречу!
Пока я говорил, индеец вышел из дому и поспешно направился к нам. Через несколько секунд он уже очутился на берегу и показал нам, где пристать. Как и в день нашего знакомства, он был в ярком, богато вышитом платье и с убором из перьев на голове. Его стройная фигура четко вырисовывалась на берегу на фоне неба, он походил ни миниатюрную статуэтку воина; метис был еще почти мальчиком и выглядел очень живописно. Я почти завидовал его дикому великолепию.
Сестра смотрела на него, как мне показалось, с восхищением, хотя иногда в ее взгляде проскальзывало что-то вроде страха. Она то краснела, то бледнела; я решил, что облик индейца напоминает ей ту страшную сцену в бассейне. И я снова пожалел, что взял ее с собой.
Наше появление, по-видимому, вовсе не смутило молодого индейца. Он держал себя спокойно и сдержанно, словно ожидал нас. Но он, конечно, не мог предполагать, что мы приедем вдвоем. В его обращении отнюдь не чувствовалось холодности. Как только мы причалили, он схватил нос лодки, подвел ее вплотную к берегу и с вежливостью образцового джентльмена помог нам высадиться.
— Добро пожаловать! — сказал он и, взглянув на Виргинию, добавил: — Надеюсь, что сеньорита поправилась?.. А о вас, сеньор, нечего и говорить: раз вы сумели грести против течения, значит, вы вполне здоровы!
Слова «сеньор» и «сеньорита» указывали на следы испанского влияния, еще сохранившиеся от тех отношений, которые издавна существовали между семинолами и испанцами. И на нашем новом знакомом были надеты вещи, которые носят в Андалузии, — серебряный крест на шее, ярко-алый шелковый пояс и длинный треугольный клинок за поясом. Даже самый ландшафт напоминал испанский: здесь были хаотические растения — китайские апельсины, великолепные тыквы-папайи, стручковый перец и томаты. Все это характерно для усадеб испанских колонистов. Архитектура дома носила отпечаток кастильского стиля. И резьба на нем была не индейская.
— Это ваш дом? — спросил я, слегка смутившись.
Дело в том, что он приветствовал нас как хозяин, но я не видел никакой хижины. Его ответ успокоил меня. Он сказал, что это его дом, вернее — дом его матери. Отец его уже давно умер, и они жили втроем — мать, сестра и он.
— А это кто же? — спросил я, указывая на работников.
— Это наши рабы, — отвечал он с улыбкой. — Вы видите, что мы, индейцы, тоже постепенно начинаем приобщаться к цивилизации.
— Но ведь не все они негры! Я заметил здесь и индейцев. Неужели они тоже рабы?
— Да, так же как и все остальные. Я вижу, вы удивлены? Это индейцы не из нашего племени. Наш народ когда-то покорил племя ямасси, и многие из пленников остались у нас рабами.
Мы подошли к дому. Мать юноши, чистокровная индианка, встретила нас в дверях. Она была в национальном индейском костюме. В молодости она, по-видимому, была замечательной красавицей и произвела на нас самое приятное впечатление. Особенно привлекало в ней сочетание тонкости ума с нежной материнской заботой.
Мы вошли в дом. Во всем — в обстановке, охотничьих трофеях, конской сбруе — чувствовалось испанское влияние. Мы увидели даже гитару и книги. Эти признаки цивилизации под индейской крышей поразили нас с сестрой.
— Как я рад, что вы приехали! — воскликнул юноша, как бы вспомнив что-то. — Ваши мокасины уже готовы… Где они, мама?.. А где Маюми?
Он как бы облек мои мысли в слова, отразившие эти мысли, как эхо.
— Кто это Маюми? — шепотом спросила меня Виргиния.
— Девушка-индианка. Кажется, это, его сестра.
А вот и она сама!
Крохотная ножка в вышитом мокасине, стройный стан необычайной гибкости, бронзовое лицо с прозрачной кожей, румяные щеки, алые губы, черные глаза, оттененные длинными, загнутыми вверх ресницами, густые брови и прекрасные черные волосы…
Представьте себе девушку, одетую со всем изяществом и изысканностью, на которые способна индейская изобретательность, представьте себе ее походку, соперничающую с неуловимой грацией арабской лошадки, — и вы только в отдаленной степени получите представление о Маюми.
Бедное мое сердце! Это была она — моя лесная нимфа!
* * *
Мне не хотелось уходить из этого гостеприимного дома, но сестре было как будто не по себе. Ее словно преследовало воспоминание о злополучном происшествии.
Мы пробыли в гостях около часа. За это короткое время я превратился в мужчину. Когда я взмахнул веслами на обратном пути, я почувствовал, что мое сердце осталось там, позади…
Глава 16
ОСТРОВ
Мне очень хотелось еще раз побывать у индейцев, и я не замедлил удовлетворить свое желание. Вообще я жил как хотел, пользуясь неограниченной свободой. Ни отец, ни мать не вмешивались в мои дела, и никто не интересовался моими длительными отлучками. Все считали, что я отправляюсь на охоту. Подтверждением этому служили винтовка и собаки, всегда сопровождавшие меня, и дичь, которую я приносил домой.
Мои охотничьи походы всегда увлекали меня только в одном направлении — легко догадаться, в каком! Я переправлялся через большую реку, снова и снова киль моей лодки резал воды маленькой речки — ее притока. Скоро я знал каждое дерево на их берегах.
Наше знакомство с молодым Пауэллом постепенно перешло в тесную дружбу. Мы встречались почти каждый день на озере или в лесу, вместе охотились и подстрелили немало оленей и диких индеек. Мой друг был уже опытным охотником, и я узнал от него много лесных тайн. Впрочем, охота теперь не так уж привлекала меня.
Я предпочитал тот час, когда она кончалась. На обратном пути я заходил к индейцам и выпивал у них из резной тыквы несколько глотков подслащенного медом «конте». Этот напиток казался мне еще слаще от улыбки той, которая мне его подносила, — от улыбки Маюми!
Несколько недель — как быстро они промелькнули! — я провел будто во сне. Никакая радость в дальнейшей жизни не могла сравниться с этим блаженным временем. Слава и власть дают лишь удовлетворение, одна любовь дарует блаженство — самое чистое и сладостное в ее первом расцвете.
Виргиния часто сопровождала меня в этих прогулках по диким лесам. Она полюбила леса и говорила мне, что с наслаждением блуждает в зеленых чащах. Иногда я предпочел бы пойти один, но не хватало духу ей отказать. Она привязалась к Маюми, и в этом не было ничего удивительного.
Маюми тоже полюбила сестру, хотя между девушками не было ни малейшего сходства ни по характеру, ни по наружности. Виргиния была блондинка с золотистыми волосами, Маюми — смуглянка с черными косами. Сестра была робка, как голубка; индианка — смела, как сокол. Впрочем, такой контраст, быть может, еще больше укреплял их дружбу. Это часто встречается в жизни.
В моем отношении к обеим девушкам не было никакой логической последовательности: я любил сестру за ее мягкость и нежность, а Маюми, наоборот, привлекала меня своей дерзкой отвагой. Конечно, эти чувства были совершенно различны, как не похожи были и те, кто их вызывал.
Пока мы с Пауэллом охотились, наши сестры оставались дома или гуляли в поле, в роще или в саду. Они играли, пели и читали. Маюми, несмотря на свою одежду, вовсе не была дикаркой. У нее были книги и гитара (вернее, нечто вроде мандолины), оставшаяся после ухода испанцев. Маюми умела читать и играла на гитаре. По своему умственному развитию она была достойной подругой даже для дочери гордого Рэндольфа. Молодой Пауэлл получил такое же, как и я, если даже не лучшее, образование. Их отец не пренебрегал своим родительским долгом.
Ни мне, ни Виргинии и в голову не приходила мысль о каком-нибудь неравенстве. Мы жаждали, мы стремились к дружбе с молодыми индейцами. Мы оба были слишком юны, чтобы иметь хоть какое-нибудь представление о кастовых предрассудках, и следовали только побуждениям своей неиспорченной натуры. Мы и не думали о том, что делаем что-то непозволительное.
Девушки часто ходили с нами в лес, и мы, охотники, не возражали. Не всегда мы гонялись за быстрыми оленями, часто мы охотились на белок и других мелких зверьков. И тогда наши сестры, конечно, могли сопровождать нас. Что касается Маюми, то она была прирожденной охотницей и смелой наездницей. Она любила мчаться на коне сломя голову. Зато моя сестра только еще робко начинала учиться верховой езде.
Увлекшись охотой на белок, я стал часто оставлять собак дома и редко приносил домой дичь. В своих походах мы не ограничивались только лесом: часто и водяная птица на озере — ибисы, цапли и белые журавли становились жертвами нашего охотничьего пыла.
На озере был чудесный островок — не тот, который стал ареной недавней трагедии, а другой, подальше, недалеко от устья реки. Он был довольно большой, холмистый посередине и весь порос вечнозелеными деревьями — дубами, магнолиями, звездчатым анисом и дикими апельсиновыми деревьями. Все это были уроженцы Флориды. Там можно было встретить кусты желтодревника с яркими желтыми цветами, ароматный ярко-красный дерен и много других благоухающих растений.
Величественные пальмы высоко поднимались над всеми деревьями, и их широкие зонтикообразные кроны как бы создавали второй ярус густой зелени.
Однако, как тесно ни росли деревья, здесь не было непроходимой чащи. Правда, кое-где ползучие лианы и чужеядные растения — эпифиты, или паразиты, — преграждали путь, а между ними вились огромные изглоданные лозы дикого винограда, переплетались кусты хинина и сарсапариллы, цвели бегонии, бромелии и пахучие орхидеи. Но самые большие деревья стояли поодиночке, а между ними расстилались красивые лужайки, усыпанные цветами и покрытые травой.
Чудесный островок лежал как раз на полпути между нашими домами, и мы с Пауэллом часто встречались и охотились именно здесь. В ветвях мелькали белки, взлетали дикие индейки, иногда через прогалины пробегали олени, а с берегов озера мы охотились на водоплавающую дичь, которая беззаботно резвилась на озере. Несколько раз мы встречались на этой нейтральной земле, и наши сестры всегда сопровождали нас. Они полюбили этот восхитительный уголок. Обыкновенно, взобравшись на пригорок, они скрывались в тени какой-нибудь высокой пальмы, тогда как мы, охотники, бродили внизу, где было больше дичи, и тогда в лесу гремело эхо наших выстрелов. Обычно, когда нам надоедало охотиться, мы тоже поднимались на холм, чтобы похвастать перед девушками своей добычей, особенно если нам удавалось подстрелить какую-нибудь редкую птицу, вызывавшую у них любопытство и восторг.
Эта охота — успешная или неудачная — надоедала мне раньше, чем моему другу. Мне больше нравилось отдыхать на мягкой траве возле наших девушек. Голос Маюми звучал для меня слаще винтовочных выстрелов, а любоваться ее глазами было куда приятнее, чем высматривать дичь.
Сидеть возле нее, слушать ее, смотреть на нее — только в этом и проявлялась моя любовь. Мы не обменялись с Маюми ни одним нежным словом, и я даже не знал, любим ли я. Не всегда суждены мне были часы блаженства, не всегда небо любви было окрашено в розовые цвета. Сомнение в любви Маюми было облаком на этом небе и часто тревожило меня.
Вскоре я был огорчен и еще одним обстоятельством. Я заметил, или это мне так показалось, что Виргиния увлеклась братом Маюми и что он отвечает ей взаимностью. Я был удивлен и опечален. Почему все это заставляло меня удивляться и страдать, я и сам не могу объяснить.
Я уже говорил, что мы с сестрой были еще слишком молоды, чтобы разделять предубеждения привилегированных слоев и рас. Однако это было не совсем верно. Хотя и смутно, но я уже, по-видимому, чувствовал, что, дружа с молодыми индейцами, мы поступаем нехорошо. Иначе что бы еще могло омрачать мое настроение? Мне казалось, что это чувство разделяет со мной и Виргиния. Нам обоим было как-то не по себе, а между тем мы ничего не говорили друг другу. Я опасался, что мои мысли станут известны хотя бы даже моей сестре, а она, без сомнения, также неохотно согласилась бы поведать мне свои тайны.
К чему могла бы привести эта юная любовь, если бы ей предоставили свободно развиваться? Погасла ли бы она сама собой, или пережила бы момент пресыщения и измены, или, наконец, перешла бы в вечную привязанность? Кто знает, как дальше расцветало бы это чувство, если бы ничто не прервало его? Но ему не суждено было расцветать беспрепятственно.
Наша дружба оборвалась совершенно внезапно. Ни сестра, ни я ни разу не проговорились о нашем знакомстве ни отцу, ни матери, хотя мы не прибегали ни к каким уловкам, чтобы скрыть нашу тайну. Обычно мы во всем советовались с ними. Если бы они спросили нас, куда мы так часто уходим, мы сказали бы правду. Но никому и в голову не приходило удивляться нашим отлучкам, и мы сами не отдавали себе ясного отчета в их значении. Я уходил охотиться, и это было вполне естественно. Немного удивляло родителей то, что Виргиния очень полюбила прогулки в лесу и часто сопровождала меня. Но скоро они к этому привыкли, и мы свободно уходили из дому, пропадали надолго и возвращались, и никто ни о чем нас не спрашивал. Я уже сказал, что мы и не думали скрывать тех, кто были нашими спутниками в странствованиях по диким лесам, но это не совсем верно. Самое наше молчание было своеобразной хитростью. Мы втайне чувствовали, что поступаем нехорошо и что наше поведение не может быть одобрено родителями. Иначе зачем бы мы старались сохранить это в тайне?
Итак, нашему безмятежному блаженству не суждено было вечно продолжаться, ему совершенно неожиданно пришел конец.
Однажды мы все четверо были на острове. После охоты Пауэлл и я вернулись к сестрам и болтали с ними. Одновременно мы разговаривали и взглядами на немом языке любви. Кроме глаз Маюми, я не замечал ничего, что делалось вокруг. Я не замечал, что сестра и молодой индеец обмениваются такими же взглядами. В эту минуту для меня, кроме улыбки Маюми, не существовало ничего на свете…
Но нашлись глаза, которые следили за нами, которые подметили наши взгляды, слова и движения. Внезапно наши собаки вскочили и с рычанием бросились в чащу. Хруст ветвей возвестил нам о том, что близко люди. Собаки перестали рычать и, виляя хвостами, повернули обратно. Значит, это были знакомые, друзья… Кто же это?
Из-за деревьев показались отец и мать. При их появлении Виргиния и я вскочили, объятые страхом. Мы предчувствовали что-то зловещее. Несомненно, мы сознавали, что поступаем неправильно. И отец и мать — оба нахмурились и казались раздраженными и сердитыми. Мать первая подошла к нам, ее губы были презрительно сжаты. Она гордилacь своим происхождением еще больше, чем потомки Рэнгольфов.
— Что это такое? — воскликнула она. — Мои дети в обществе индейцев!
Пауэлл встал, но ничего не ответил. В его взгляде отразились его чувства. Он безошибочно понял намек.
Гордо взглянув на моих родителей, он кивком приказал сестре следовать за собой и удалился вместе с нею. Виргиния и я словно лишились дара речи и не посмели даже сказать друзьям ни одного слова на прощанье. Мы пошли за родителями к их лодке. В ней, кроме негров-гребцов, оказались и оба Ринггольда — отец и сын.
Виргиния поехала вместе с родителями. Я возвращался домой один в своей лодке. Когда челнок метиса входил в устье маленькой речки, я оглянулся и увидел, что индеец и его сестра тоже смотрят на меня. Они не спускали с меня глаз, но я не осмелился послать им прощальный привет, хотя на сердце у меня было тяжело от предчувствия, что мы расстаемся надолго… может быть, навсегда.
Увы! Предчувствие не обмануло меня. Через три дня я уже ехал на далекий север, в военное училище в Уэст-Пойнте. А Виргинию отправили в одну из женских школ, какие есть почти в каждом городе Северных штатов. Много, много времени прошло, прежде чем мы снова увидели родную Страну Цветов…
Глава 17
УЭСТ-ПОЙНТ
Военное училище в Уэст-Пойнте — одно из лучших учебных заведений в Соединенных Штатах. Ни руководители государства, ни отцы церкви не властны над ним. Там преподаются подлинные знания, и они должны быть усвоены, иначе грозит исключение. Окончивший это училище выходит оттуда образованным человеком, однако отнюдь не похожим на оксфордского или кембриджского попугая, бойко болтающего на мертвых языках, знающего все стихотворные ритмы и размеры, механического виршеплета идиллических строф. Нет, окончивший Уэст-Пойнт основательно знает живые иностранные языки. Овладев основами науки, он не пренебрегает искусством, и в то же время он — ботаник, чертежник, геолог, астроном, инженер, солдат — все, что хотите! Короче говоря, он — человек, способный занимать высшие должности в государстве, способный руководить и командовать и при этом способный к повиновению и точному выполнению порученного дела.
Если бы я даже и не имел особой склонности к наукам, то в этом училище я не мог бы позволить себе отлынивать от ученья. В Уэст-Пойнте нет отстающих и «тупиц», и там не благоволят к знатным или богатым. Даже сын президента был бы исключен из училища, если бы он плохо учился. Под страхом исключения, под угрозой позора я поневоле сделался усердным учеником и со временем выдвинулся в первые ряды кадетов.
Подробности жизни кадетов не представляют особого интереса. Это обычное ежедневное выполнение однообразных военных обязанностей, только в Уэст-Пойнте царит более суровая дисциплина. Все это мало отличается от рабской жизни обычного солдата. Я не могу сказать, чтобы мной владело желание сделать военную карьеру. Нет, это было скорее стремление к соревнованию с товарищами, мне не хотелось быть в числе отстающих. Правда, бывали минуты, когда эта жизнь, так резко отличавшаяся от свободы, которой я пользовался дома, казалась мне тяжелой. Я тосковал о родных лесах и саваннах, а еще больше о покинутых друзьях.
В моем сердце еще продолжала жить любовь к Маюми, и разлука не угасила ее. Мне казалось, что ничто не могло заполнить душевную пустоту, порожденную этой разлукой. Ничто не могло заменить в моем сердце или изгладить из памяти воспоминание о моей юношеской любви. Днем и ночью прелестный образ этой девушки стоял у меня перед глазами: днем — в мечтах, ночью — во сне. Так продолжалось долгое время — мне казалось, что это будет длиться вечно. Никакая радость не принесет мне больше блаженства. Даже Лета[59] не принесет мне забвения. Если бы мне сказал об этом крылатый вестник небес, я не поверил бы ему, я не мог бы ему поверить.
Однако я плохо знал человеческую природу. В этом отношении я был похож на остальных людей. В известный период жизни большинство допускают подобную ошибку. Увы, это верно! Время и разлука часто уничтожают любовь. Она не живет одними воспоминаниями. Непостоянство человека сказывается и в том, что он, восторгаясь идеалом, все же обычно предпочитает реальное и вещественное. Красиных женщин в мире немного, но нет такой, которая была бы прекраснее их всех. Нет мужчины, который был бы красивее всех остальных мужчин. Но из двух одинаково прекрасных картин все-таки лучше та, на которую вы смотрите в данный момент. Не случайно влюбленные с ужасом думают о разлуке.
То ли учебники, где речь шла только о геометрических линиях, углах, бастионах и амбразурах, то ли вечная муштра днем да мучительно жесткая койка и еще более мучительный караульный наряд ночью, — то ли все это вместе начало постепенно вторгаться в мои воспоминания о Маюми и по временам изгонять их из моих мыслей. Или это были хорошенькие личики девушек из Саратоги и Балльстона, которые иногда появлялись в Уэст-Пойнте с визитом?.. Или это белокурые дочки наших офицеров — ближайшие соседки, которые часто посещали нас и в каждом слушателе, одетом в мундир, видели как бы личинку будущего героя, эмбрион будущего генерала? Может быть, кто-нибудь вытеснил образ Маюми из моей памяти? Не важно кто — важно, что это случилось. Образ юной возлюбленной начал тускнеть в моей памяти. С каждым днем он становился все бледнее и бледнее, пока, наконец, не превратился в туманный призрак прошлого.
Ах, Маюми! По правде говоря, на это потребовалось очень много времени. Эти веселые, улыбающиеся лица долго мельками перед моими глазами, прежде чем затмилось твое лицо. Долго сопротивлялся я обольстительным напевам этих сирен, но я был простым смертным, и мое сердце легко поддалось соблазну сладостных чар.
Я не хочу сказать, что моя первая любовь совсем исчезла: она застыла, но не умерла. Несмотря на светский флирт в часы досуга, она по временам возвращалась ко мне. Часто воспоминание о доме и прежде всего о Маюми просыпалось во мне, когда я дежурил, среди ночной тишины. Моя любовь к ней оледенела, но не умерла. И будь Маюми здесь, моя любовь, я уверен, вспыхнула бы с прежней силой. Даже если бы я узнал, что Маюми забыла обо мне, отдала свое сердце другому, я уверен, что моя юношеская любовь ожила бы со всем своим пылом и цельностью. Одна мелодия вытесняет другую, но прекрасные дочери Севера так никогда и не изгладили в моем сердце образ смуглой красавицы Юга.
А я не только не видел Маюми, но за все время своего пребывания в училище даже ни разу не слыхал о ней.
Пять лет мы прожили с сестрой вдали от дома. Время от времени нас навещали отец и мать. Каждый год летом они ездили на дачу, на многолюдные северные курорты — в Балльстон, Спа, Саратогу или Ньюпорт. Они брали нас туда на каникулы, но, несмотря на все просьбы позволить нам провести лето дома, родители оставались непреклонны: мать была сталь, а отец — камень!
Я догадывался о причине их отказа. Наши гордые родители боялись неравного брака: они не могли забыть сцену на острове.
На курорте мы встретились с Ринггольдами. Аренс, как и раньше, ухаживал за Виргинией. Он стал заядлым фатом и широко сорил деньгами, не уступая в этом бывшим портным и маклерам, ныне представителям «первой десятки» финансовых дельцов Нью-Йорка. У меня по-прежнему не лежало к нему сердце, но симпатии матери были явно на его стороне.
Как относилась к нему Виргиния, я не знаю. Сестра стала взрослой девушкой, настоящей светской красавицей, и в совершенстве научилась владеть собой и скрывать свои чувства — один из отличительных признаков хороших манер в наши дни. Иногда она бывала очень веселой, хотя ее оживление казалось мне несколько искусственным и внезапно исчезало. Временами она становилась задумчивой, даже холодной и надменной. Я опасался, что, став такой обаятельной внешне, она утратила то, что казалось мне самым ценным в человеке, — доброе и отзывчивое сердце. Впрочем, может быть, я был неправ.
Мне хотелось расспросить ее о многом, но наша детская доверчивость пропала, а деликатность не позволяла мне грубо вторгаться в ее сердечные дела. О прошлом — то есть об этих вольных прогулках по лесам, о катанье на озере, о встречах на островке под тенью пальм — мы никогда не говорили.
Я часто спрашивал себя: вспоминает ли сестра о прошлом и чувствует ли она то же, что и я? В этом я никогда не был вполне убежден. И хотя мне была свойственна наряду с недоверчивостью некоторая проницательность, я все-таки оказался невнимательным стражем и беспечным опекуном.
Конечно, мои предположения были справедливыми, иначе почему бы ей молчать о том, чем мы оба так наслаждались? Может быть, ей сковало уста запоздавшее чувство вины перед родителями? Или, кружась в вихре светских удовольствий, она с презрением вспоминала скромных друзей своих детских лет?
Я часто думал: жила ли в ее сердце любовь? И если да, то продолжала ли она жить до сих пор? Вот чего я никогда не мог окончательно понять. Время для взаимных признаний безвозвратно ушло.
«Маловероятно, — рассуждал я, — чтобы чувство нежности к юному индейцу, если оно и было вообще, сохранилось. Оно уже забылось, изгладилось из ее сердца и, может быть, из памяти. Маловероятно, чтобы оно сохранилось в ней теперь, когда ее окружают новые друзья — эти напыщенные и надушенные кавалеры, которые ежечасно ей льстят. Она должна забыть скорее, чем я. А разве я не забыл?»
Нас было четверо, и странно, что я знал только о своей любви. Я не замечал, смотрел ли молодой индеец восторженным взглядом на мою сестру и отвечала ли она ему тем же. Я только предполагал, подозревал это, догадывался. И, что еще удивительнее, я никогда не знал, какое чувство таилось в том сердце, которое интересовало меня больше всех. Правда, в мечтах я представлял себе, что я любим. Доверяясь мимолетным взглядам и жестам, незначительным поступкам, а не словам, я таил в груди сладостную надежду… Но в то же время меня часто одолевали сомнения. В конце концов, Маюми, может быть, вовсе и не любила меня!
Эти горькие мысли заставляли меня немало страдать. Но, как ни странно, именно они чаще всего будили во мне воспоминания о Маюми, и моя любовь вновь вспыхивала с прежней силой.
Уязвленное самолюбие! Оно так же могущественно, как сама любовь. И ранит так же сильно, как муки любви. Сияние свечей в канделябрах становилось тусклым, хорошенькие лица, мелькавшие передо мною в вихре бала, бледнели… Мои мысли снова уносились в Страну Цветов, к озеру, на остров, к Маюми!
* * * *
Прошло пять лет, и срок моего обучения в училище Уэст-Пойнт закончился. Я с честью выдержал последние трудные экзамены и получил высокие отметки и диплом с отличием. Это позволило мне выбрать род оружия для дальнейшей службы. Я всегда отдавал предпочтение винтовке, хотя имел возможность выбирать между пехотой, артиллерией, кавалерией и инженерными войсками. Итак, я выбрал пехоту и был зачислен в стрелковый полк. В газетах было опубликовано, что мне присвоено звание лейтенанта. Вскоре я получил отпуск, чтобы навестить родных.
Сестра тоже окончила курс в женской школе с отличием. Мы поехали домой вместе.
Отец уже не встретил нас, только овдовевшая мать со слезами приветствовала наш приезд.
Глава 18
СЕМИНОЛЫ
Когда я вернулся во Флориду, над моей родиной нависли грозовые тучи. Моим первым военным испытанием оказалась защита родного крова. Я уже отчасти был подготовлен к этому. В стенах военного училища война — самая интересная тема, и мы во всех подробностях обсуждали возможности и перспективы будущей войны.
В течение десяти лет Соединенные Штаты жили в мире со всеми остальными странами. Железная рука «старика Хикори»[60] внушала ужас индейцам на границах. Уже более десяти лет, как они перестали мстить, и все было тихо и спокойно. Но в конце концов мирное status quo[61] пришло к концу.
Индейцы еще раз поднялись для защиты своих прав, и притом там, где этого не ожидали, — не на далекой границе Запада, а в самом центре Страны Цветов. Да, Флориде отныне суждено было стать театром военных действий, сценой, на которой разыгралась новая военная драма.
Надо сказать несколько слов о прошлом Флориды, ибо эта повесть основана на подлинных исторических фактах.
В 1821 году испанский флаг перестал развеваться на бастионах фортов святого Августина и святого Марка. Испания отказалась от притязаний на эту прекрасную область — одно из своих последних владений в Америке. Правда, у испанцев во Флориде был лишь плацдарм, за который они продолжали цепляться. Индейцы постепенно вытеснили испанцев из широких просторов страны в крепости. Испанские асиенды[62] превратились в руины. Лошади и коровы одичали и бродили по саваннам; некогда процветавшие плантации поросли сорными травами. В продолжение столетий испанцы владели страной и за это время построили много великолепных зданий. Развалины этих зданий, гораздо более внушительных, чем те, которые пытались строить англосаксы, пришедшие им на смену, и поныне свидетельствуют о прежней славе и силе Испании.
Но индейцам не суждено было долго владеть землей, которую они отвоевали. Другое племя белых людей, равное им по храбрости и силе, наступало с севера. Краснокожие видели, что рано или поздно им придется уступить свои владения.
Уже раз им пришлось столкнуться с бледнолицыми захватчиками, которые шли вперед под предводительством сурового солдата, теперь занимавшего президентское кресло[63]. Тогда они потерпели поражение и принуждены были отступить дальше на юг, в центр полуострова. Здесь, однако, их неприкосновенность была обеспечена договором. Соглашение, заключенное в торжественной обстановке и скрепленное торжественными клятвами, гарантировало им права на землю, и семинолы были удовлетворены.
Увы! Договоры между сильными и слабыми — всегда вещь условная, и нарушаются они по желанию первых. И в этом случае условие было постыдно нарушено.
Белые искатели приключений пришли и поселились около индейской границы. Они бродили по земле индейцев — и неспроста. Они осматривали земли и видели, что земли превосходны, что на них можно выращивать рис и хлопок, сахарный тростник и индиго, оливки и апельсины. В них зажглось непреодолимое желание овладеть этой землей. Более того: они твердо решили, что она будет принадлежать им.
Правда, существовал договор, но какое им было дело до договоров! Рыцари легкой наживы, голодные плантаторы из Джорджии и Каролины, торговцы неграми со всех концов Южных штатов — что значил договор в их глазах, особенно договор, заключенный с краснокожими? Договор должен быть расторгнут! От него надо избавиться!
«Великий Отец»[64], едва ли более щепетильный, чем они, одобрил этот план.
«Да, — сказал он, — прекрасно! Землю у семинолов надо отобрать. Они должны уйти в другие места. Мы найдем им новую родину на Западе, на огромных равнинах. Там у них будут широкие просторы для охоты. Эти места останутся за ними навсегда».
«Нет, — отвечали семинолы, — мы не хотим переселяться. Мы довольны своей землей, мы любим нашу родину и не хотим покидать ее. Мы не уйдем!»
«Значит, вы не согласны уйти добровольно? Пусть будет так! Но мы сильны, а вы слабы. Мы заставим вас уйти силой!»
Если это были и не буквальные слова ответа Джексона семинолам, то смысл их был именно таков.
Но в мире существует общественное мнение, и оно должно быть удовлетворено. Даже тираны не любят открыто нарушать договоры. В данном случае интересы политической партии играли даже более важную роль, чем мировое общественное мнение, и необходимо было придать действиям этой партии хотя бы видимость законности.
Индейцы продолжали упорствовать — они любили свою родную землю. Они отказывались покинуть ее — что ж тут удивительного?
Надо было найти повод, чтобы вытеснить индейцев из их страны. Старое оправдание, что индейцы были только праздными лентяями-охотниками и не возделывали свои земли, не годилось. Это была просто ложь. Семинолы были не только охотниками, но и земледельцами. Их способы обработки земли, может быть, и считались грубыми и примитивными, но разве это достаточный повод для того, чтобы изгнать их?
Этот предлог не годился, зато легко нашлись другие. Хитрый уполномоченный, который был послан к индейцам «Великим Отцом», вскоре придумал разные уловки. Это был один из тех людей, которые в совершенстве изучили искусство «мутить воду», и он применил это искусство самым блестящим образом.
Скоро повсюду пошли слухи о бесчинствах индейцев: о краже скота, лошадей, о разгроме плантаций, об убийствax и ограблении путешественников — все это якобы была работа «диких семинолов».
Продажная пограничная пресса, всегда готовая вызвать всеобщее чувство ярости и ненависти, не упустила случая и сочла своим долгом преувеличить эти слухи. Но кто именно писал в газетах о провокациях, мстительности, несправедливостях и жестокостях, чинимых другой стороной, то есть индейцами? Все эти темные личности тщательно скрывались.
Вскоре в стране были вызваны враждебные чувства к семинолам.
«Уничтожить дикарей!.. Затравить их!.. Выгнать их прочь из страны! Прогнать их на Запад!» — в таких словах выражалось это чувство, так кричали повсюду.
Когда граждане Соединенных Штатов выражают какое-нибудь желание, оно имеет шансы быть быстро выполненным, особенно если это совпадает с точкой зрения правительства. Так было и в данном случае. Само правительство принялось за это дело.
Все полагали, что выполнить общее желание — лишить индейцев права на землю, затравить их, изгнать их — не так уж сложно. Но ведь существовал договор. На Америку были обращены взоры всего мира. А кроме того, существовало еще и мыслящее меньшинство, которым нельзя было пренебречь и которое противостояло этим крикам и воплям. Нельзя же было нарушить договор среди бела дня, на глазах у всех! Так как же все-таки избавиться от этого соглашения?
А вот как! Соберите вместе старейшин племен и постарайтесь уговорить их расторгнуть договор. Вожди племени — тоже люди, они бедны, некоторые из них склонны к пьянству. Тут поможет и подкуп, а еще больше поможет «огненная вода». Составьте им новый договор с двусмысленной аргументацией, и невежественные дикари не сумеют разобраться во всех этих тонкостях. Останется заполучить их подписи — и дело сделано!
Ловкий агент президента, ты создал этот хитроумный план, ты и осуществишь его! Так и поступили. 9 мая 1832 года вожди семинолов в полном составе собрались на совет на берегу реки Оклаваха и отдали землю своих отцов!
Так возвестили всему миру газеты. Но это была ложь. Это был не полный совет вождей, а собрание предателей, подкупленных и вероломных, собрание слабых людей, запуганных или поддавшихся хитрой лести. Неудивительно, что семинолы отказались признать этот заключенный тайком договор. Неудивительно, что они не приняли его условий. Надо было собирать еще один совет — для более свободного и полного подтверждения желания народа.
Скоро стало очевидно, что огромное большинство семинолов отвергли договор. Многие из вождей отрицали, что они подписали его. Отрицал это и главный вождь, Онопа. Некоторые вожди признались в том, что подписали акт, но заявили, что они сделали это под влиянием других вождей. Только самые могущественные предводители племен — братья Оматла, Черная Глина и Большой Воин открыто заявили, что действительно подписали этот документ.
Все племена отнеслись к ним с недоверием, считали их изменниками, и вполне справедливо. Жизнь этих вождей была в опасности: даже их собственные приспешники не одобряли того, что они совершили.
Чтобы понять положение дел, необходимо сказать несколько слов о политическом строе семинолов. Их форма правления была чисто республиканской, подлинно демократической.
Быть может, ни в каком другом государстве на свете не существовало лучших условий для создания свободного общества. Я мог бы добавить: и счастливого общества, ибо счастье — лишь естественное следствие свободы.
Политическое устройство семинолов сравнивали с шотландскими горными кланами. Эта параллель верна только в одном отношении. Как и гэлы — шотландцы, — семинолы не имели общей государственной организации. Они жили отдельными племенами, далеко друг от друга, политически независимые от своих соседей. И хотя отношения между племенами были вполне дружественными, общей власти, обладающей силой повелевать, у них не существовало. У семинолов был «главный вождь», но его нельзя назвать королем, ибо «мико» — его индейский титул — вовсе не означает «король». Гордый дух семинолов никогда не согласился бы унизиться до этого. Они еще не отказались от естественных прав человека. Только после того как понятие об этих правах было извращено и человечество подверглось унижению, идея «монархии» стала властвовать над народами.
Глава семинолов — «мико» — только называется главой. Власть его чисто номинальная, он не имеет права распоряжаться жизнью или имуществом семинолов. Иногда вождь принадлежал не к самой богатой, а, напротив, к беднейшей части населения. Более отзывчивый, чем другие, к требованиям благотворительности, он всегда готов был щедрой рукой раздавать блага, принадлежавшие не народу, а ему лично. Поэтому он редко бывал богатым. Он не был окружен свитой, варварской роскошью и великолепием, его не сопровождали подобострастные и льстивые придворные, как это бывает у восточных раджей или у еще более расточительных коронованных властителей Запада. Наоборот, его одежда не бросалась в глаза, часто она была даже хуже, чем облачение тех, кто окружал его. Многие простые воины бывали гораздо более пышно одеты, чем вождь.
Так же обстояло дело и с вождями отдельных племен. Они не имели власти над жизнью и собственностью своих подданных, они не могли налагать наказания. Это право принадлежало только суду присяжных.
Я беру на себя смелость утверждать, что наказания у этих людей находились в более справедливом соотношении с преступлениями, чем те приговоры, которые выносятся высшими судебными инстанциями цивилизованного мира.
Это была система чистейшей республиканской свободы, но без одной идеи — а именно, идеи всеобщего равенства. Почет и авторитет приобретались исключительно заслугами. Собственность не считалась общей, хотя труд частично и был таковым. Но эта общность труда была основана на взаимном согласии. Семейные узы считались самым священным и нерушимым из всего того, что существует на земле.
Таковы были в действительности дикари, краснокожие дикари, которых хотели лишить их прав, которых хотели изгнать из их домов, с их родной земли, которых хотели сослать из их прекрасной страны в дикую, бесплодную пустыню, которых хотели затравить и уничтожить, как хищных зверей!
В буквальном смысле — как хищных зверей, ибо за ними гонялись и их преследовали со сворами охотничьих собак.
Глава 19
ИНДЕЙСКИЙ ГЕРОЙ
По ряду причин договор, заключенный на берегах Оклавахи, не мог считаться для семинолов обязательным. Во-первых, он не был подписан большинством вождей: только шестнадцать старших и младших вождей подписали его. Во всем же племени их было в пять раз больше.
Во-вторых, это, собственно говоря, был вовсе не договор, а условный контракт. Условность его заключалась в том, что от семинолов будет послана делегация на земли, отведенные на Западе (на Уайт Ривер), которая осмотрит эти земли и вернется с отчетом к народу.
Самый характер такого условия показывает, что никакое соглашение об уходе семинолов не могло считаться вступившим в силу, пока не будут осмотрены земли.
Итак, обследование началось. Семь вождей в сопровождении правительственного агента отправились на далекий Запад осматривать земли.
Теперь обратите внимание на хитрость агента. Эти семь вождей были избраны из числа тех, кто стоял за переселение семинолов. Среди них были братья Оматла и Черная Глина. Правда, там был еще и Хойтл-мэтти (Прыгун) из числа патриотов, но над этим храбрым воином тяготело проклятие многих индейцев — он любил «огненную воду», и эту слабость его хорошо знал Фэгэн, агент, который сопровождал их.
Эта уловка была обдумана и приведена в исполнение. Выборных гостеприимно встретили и угостили в форте Гибсон, на реке Арканзас. Хойтл-мэтти был навеселе. Договор о переселении развернули перед семью вождями, и все они подписали его. Фокус удался!
Но даже и это еще не означало, что договор, заключенный на берегах Оклавахи, полностью вступил в силу. Делегация должна была вернуться с отчетом и узнать волю народа. А для того чтобы народ мог высказаться, надо было еще раз собрать вождей и воинов. Конечно, это была пустая формальность, так как все хорошо знали, что народ не одобряет этих семерых покладистых вождей и не поддержит их. Народ вовсе и не думал переселяться.
Это было тем более ясно, что другие пункты условия ежедневно нарушались. Например, статья о возврате беглых рабов, которых вожди, подписавшие Оклавахский договор, обязались выдавать их владельцам. Теперь семинолы перестали выдавать их белым. Наоборот, негры находили самое надежное убежище среди индейцев. Агент все это знал. Он созвал новый совет, хотя и считал его лишь пустой формальностью. Может быть, ему удастся убедить индейцев подписать договор; если же нет, то он намерен был запугать их или принудить их к этому с помощью штыков. Так он и заявил. Тем временем правительственные войска стягивались со всех сторон к месту жительства агента — форту Кинг[65], а другие подкрепления ежедневно прибывали в бухту Тампа. Правительство приняло меры, и решено было в случае необходимости применить насилие.
Я знал настоящее положение вещей. Мои товарищи, кадеты военного училища, прекрасно разбирались в делах индейцев. Эти вопросы вызывали у всех живейший интерес, особенно у тех, кто стремился скорее удрать из стен училища. «Война Черного Ястреба»[66], только что закончившаяся на Западе, уже дала возможность многим отличиться в сражениях, и жаждавшие подвигов юноши обращали свои взоры на Флориду.
Однако мысль добыть себе славу в такой войне почти всем казалась просто смешной. Уж слишком легко достанется победа в этой войне: противник не заслуживает серьезного внимания, утверждали они. Вряд ли горстка дикарей устоит против роты солдат. Индейцы или будут уничтожены, или взяты в плен в первой же стычке — нет ни малейших шансов на то, чтобы они оказали сколько-нибудь длительное сопротивление. К несчастью, на это нет никаких шансов! Таково было убеждение моих товарищей по училищу, и таково же в то время было общее мнение всей страны. В армии разделяли эти взгляды. Один офицер, например, хвастался, что он может пройти через всю индейскую территорию, имея с собой только одного капрала. Другой высказал пожелание, чтобы правительство дало ему право вести войну на свой счет. Он закончит войну, потратив на нее не более десяти тысяч долларов.
Таково было настроение в те дни. Никто не верил, что индейцы захотят или смогут долго воевать с нами. Очень немногие считали, что они вообще окажут сопротивление. Индейцы только надеются выторговать себе лучшие условия и уступят, как только дело дойдет до вооруженного столкновения.
Что касается меня, то я держался другого мнения. Я знал семинолов лучше, чем большинство тех, кто рассуждал о них. Я лучше знал их страну и, несмотря на неравенство сил и явную безнадежность борьбы, считал, что они не согласятся на позорные условия, а одолеть их будет не так-то легко. Все же это было только мое личное предположение — я мог и ошибаться. Вероятно, я заслужил те насмешки, которыми осыпали меня товарищи, когда я принимался спорить с ними.
Все подробности мы узнавали из газет. Мы также постоянно получали письма от товарищей, окончивших Уэст-Пойнт и теперь служивших во Флориде. От нас не ускользала ни одна деталь, и мы знали имена многих индейских вождей, так же как и внутреннюю политику племен. По-видимому, между ними были разногласия. Партия, возглавлявшаяся одним из братьев Оматла, соглашалась пойти на уступки правительству. Это была партия изменников, и она представляла собой меньшинство. Патриоты были более многочисленны. К ним принадлежал сам главный «мико» и могущественные вожди — Холата, Коа-хаджо и негр Абрам.
Среди патриотов был один, о котором в то время трубила крылатая молва и имя которого стало все чаще и чаще упоминаться в печати и в письмах наших друзей. То было имя молодого воина, одного из младших вождей, который за последние месяцы оказывал сильное влияние на свое племя. Он был одним из самых горячих противников переселения и вскоре стал душой партии сопротивления, увлекая за собой более старых и могущественных вождей.
Мы, кадеты Уэст-Пойнта, восхищались этим молодым человеком. Ему приписывали все качества, присущие герою, — у него благородный вид, он смелый, красивый, умный… Вообще о его физических и умственных достоинствах были такие восторженные отзывы, что это казалось преувеличением. Говорили, что он сложен, как Аполлон, что он красив, как Адонис[67] или Эндимион[68]. Он был первым во всем — самым метким стрелком, самым опытным пловцом, самым искусным наездником, самым быстрым бегуном, самым удачливым охотником. Он был выдающимся человеком и в мирное и в военное время — короче говоря, подобен Киру[69]. И чтобы увековечить его славу, нашлось достаточное количество Ксенофонтов[70].
Народ Соединенных Штатов долго жил в мире с индейцами. Романтические дикари были где-то далеко на границах страны. В поселках редко приходилось видеть индейцев или слышать о них что-нибудь интересное. Депутации от племен давно уже не появлялись в городах. Теперь эти дети лесов возбудили у всех острое любопытство. Недоставало только индейского героя, и вот явился этот молодой вождь. Его звали Оцеола.
Глава 20
ПРАВОСУДИЕ НА ГРАНИЦЕ
Мне недолго пришлось наслаждаться жизнью в родном доме. Через несколько дней после приезда я получил приказ отправиться в форт Кинг, где находилось управление по делам семинолов и где помещался главный штаб флоридской армии. Ею командовал генерал Клинч, и меня прикомандировали к его штабу.
Я был крайне огорчен, но пришлось готовиться к отъезду. Грустно было расставаться с теми, кто любил меня так нежно и с кем я так долго был в разлуке. Мать и сестра тоже очень горевали. Они уговаривали меня выйти в отставку и навсегда остаться дома.
Я не прочь был бы послушаться, ибо не сочувствовал делу, которое долг призывал меня выполнять. Но в такой критический момент я не мог последовать их совету: меня заклеймили бы как предателя, как труса. Отечество требовало, чтобы я взялся за оружие. За правое дело или за неправое, добровольно или против воли, но я должен был сражаться с оружием в руках. Это называлось патриотизмом.
Я неохотно расставался с домом и по другой причине. Вряд ли надо объяснять ее. С тех пор как я вернулся, я частенько посматривал на противоположный берег озера, задерживаясь взглядом на чудесном зеленом островке. О, я не забыл Маюми!
Едва ли я сам мог правильно разобраться в своих чувствах — настолько они были противоречивы. Любовь моей юности снова вспыхнула во мне, торжествуя над новыми увлечениями, вспыхнула из-под пепла, под которым она столько времени тлела… Любовь, к которой примешивалось и раскаяние, и угрызения совести, и сомнение, и ревность, и опасения… Все это кипело и боролось в моем сердце.
Со времени приезда я ни разу не осмелился посетить те места, куда меня так влекло. Я видел, что мать постоянно следит за мной, и даже не решился задать ни одного вопроса, чтобы рассеять свои сомнения. Но я не мог отделаться от тяжелого предчувствия, что не все обстоит благополучно.
Жива ли Маюми? Помнит ли она меня? Да имею ли я, собственно, право претендовать на ее верность, если не знаю, любила она меня или нет?
На первый вопрос я мог бы получить ответ. Но я не решался прошептать ее имя даже самым близким мне людям.
Простившись с матерью и сестрой, я собрался в путь. Они жили не одни — наша плантация была под охраной и защитой дяди с материнской стороны. Уверенность, что я скоро вернусь домой, скрашивала мне горечь разлуки. Кроме того, если бы предполагаемая кампания и затянулась, то места военных действий находились так недалеко, что я всегда имел бы возможность побывать дома. Дядя, как и все остальные, полагал, что военных действий вообще не будет. «Индейцы, — говорил он, — сдадутся на условиях, предложенных уполномоченным. А если нет — то поступят очень глупо, пусть пеняют на себя». Форт Кинг находился недалеко от нас. Он был расположен на индейской территории, в четырнадцати милях от границы и несколько дальше от нашей плантации. До форта было не больше дня пути. В обществе моего веселого Черного Джека дорога не должна была показаться мне долгой. Мы оседлали пару самых лучших лошадей из конюшни и вооружились с головы до ног.
Переправившись через реку, мы вступили в индейские владения, так называемую резервацию[71].
Тропинка шла по лесу вдоль речки, хотя и не по самому берегу, недалеко от поместья матери Пауэлла. Доехав до просеки, я взглянул на развилку тропинок. По одной из них я не раз бродил с волнением в груди. Я остановился в нерешимости. Странные мысли нахлынули на меня. Я то принимал решение, то отказывался от него, то опускал поводья, то снова натягивал их. Несколько раз я собирался пришпорить лошадь, но не делал этого.
«Не поехать ли мне туда и еще раз взглянуть на нее? Еще раз пережить радостное волнение нежной любви! Еще раз… Но, может быть, уже поздно? Может быть, теперь я уже не буду желанным гостем? Может быть, меня встретят враждебно? Что ж, возможно!»
— Что с вами, масса Джордж? Ведь мы едем совсем не по той дороге, — прервал Джек мои размышления.
— Знаю, Джек. Но я хотел ненадолго заехать к госпоже Пауэлл.
— К мэм Пауэлл? Господи! Да неужто вы ничего не слыхали, масса Джордж?
— О чем? — спросил я с замирающим сердцем.
— Да уж два года, как никого из Пауэллов здесь больше нет.
— А где же они?
— Никто не знает. Может быть, уехали в другое имение, а может быть, и еще куда-нибудь.
— А кто же сейчас живет здесь?
— Никто. Весь дом пустой.
— Отчего же госпожа Пауэлл уехала отсюда?
— Да это длинная история… Неужто вы ничего не слыхали, масса Джордж?
— Нет, ничего не слышал.
— Тогда я вам расскажу А теперь поедемте. Уже поздно, и ехать ночью по лесу не годится.
Я повернул лошадь, и мы поехали рядом по большой дороге. С болью в сердце слушал я рассказ негра.
— Видите ли, масса Джордж, все это дело затеял старый босс[72] Ринггольд, только я думаю, что и молодой тут приложил руку вместе со стариком. У мэм Пауэлл украли нескольких рабов. Это сделали белые. Говорят, что Ринггольд знал лучше всех, кто тут постарался. Обвиняли еще Неда Спенса и Билля Уильямса. И тогда мэм Пауэлл пошла к адвокату Граббу, который живет немного ниже по реке. А масса Грабб большой друг массы Ринггольда. Вот они вдвоем и сговорились обмануть индейскую женщину.
— Каким образом?
— Не знаю, правда ли это, масса Джордж. Я слышал это только от негров. Белые говорят совсем другое. А я слышал это от негра Помпа, дровосека массы Ринггольда. Вы знаете его, масса Джордж? Он говорил, что они вдвоем решили обмануть бедную индейскую женщину.
— Каким образом, Джек? — нетерпеливо повторил я.
— Видите ли, масса Джордж, адвокат хотел, чтобы она подписала какую-то бумагу. Кажется, «доверенность» или как она там у них называется. Вот Помп и говорил мне, что они заставили ее подписать эту бумагу. Она не умеет читать и подписала. Вуф! А это была вовсе не доверенность а, как законники говорят, «расписка». Вот и вышло, что мэм Пауэлл продала всех своих негров и всю плантацию массе Граббу.
— Какой мерзавец!
— Масса Грабб потом клялся на суде, что заплатил все наличными долларами, а мэм Пауэлл клялась вовсе наоборот — но ничего не вышло. Суд решил в пользу массы Грабба, потому что масса Ринггольд был свидетелем, на его стороне. Люди говорят, что масса Ринггольд теперь сам владеет этой бумагой. Он-то и подстроил все это.
— Презренный мерзавец! О, негодяй! Но скажи мне Джек, что же было дальше с госпожой Пауэлл?
— Сама мэм Пауэлл, и этот прекрасный молодой человек, которого вы знаете, и молодая индейская девушка, которая слыла здесь такой красавицей, — да, масса Джордж, все они уехали неизвестно куда.
В эту минуту сквозь просвет в лесной чаще я увидел старый дом. По-прежнему великолепный, он стоял среди апельсиновых и оливковых деревьев, но сломанная решетка, густая трава, выросшая у стен, и крыша с кое-где выломанными черепицами — все это говорило об унылом одиночестве и разрушении.
Тоска сжала мне сердце, и я грустно отвернулся.
Глава 21
РАБЫ-ИНДЕЙЦЫ
Я нисколько не сомневался в том, что рассказал мне Черный Джек. То, что говорили негры, всегда оказывалось правдой. Всего этого вполне можно было ожидать от Ринггольдов и адвоката Грабба. Последний был наполовину плантатор, наполовину официальный юрист с весьма сомнительной репутацией.
Далее Джек рассказал мне, что Спенс и Уильямс во время судебного следствия куда-то исчезли. Когда оно окончилось, они снова появились, но уже не было тех, кто мог бы привлечь их к ответственности.
Что касается украденных рабов, то их больше никогда уже не видели в этой части страны. По-видимому, их отправили на рынок рабов в Мобил или Новый Орлеан и там продали за достаточно высокую цену, чтобы вознаградить Грабба за его услуги, а заодно и Уильямса и Спенса. В этом и заключался смысл продажи рабов. Ринггольд только и ждал, когда индейцев выгонят из Флориды, чтобы завладеть землей.
Подобного рода сделка между двумя белыми считалась бы крупным мошенничеством, преступлением. А тут белые сделали вид, что не верят этому. Несмотря на то, что нашлись свидетели, всю эту историю расценили лишь как «хитроумную проделку».
У меня не было причин не верить Джеку. Именно так и поступали белые авантюристы на границах с теми несчастными туземцами, с которыми им приходилось сталкиваться. Но так поступали не только авантюристы. Правительственные агенты, представители флоридских законодательных органов, генералы, богатые плантаторы вроде Ринггольда — все принимали участие в подобных спекуляциях.
Я мог бы назвать их имена. Я пишу правду и не боюсь опровержений. Мое повествование нетрудно подтвердить фактами. Этот случай был одним из двадцати подобных, о которых я сам слышал. Акты о продаже земли, совершенные агентом по индейским делам полковником Гэдом Хемфри, майором Фэгэном, известным похитителем негров Декстером, Флойдом, Дугласом, Робинсоном и Милльбэрном, — все это исторические факты, и все они говорят о насилиях, совершенных над несчастными семинолами. Можно было бы заполнить целый том описанием проделок таких обманщиков, как Грабб и Ринггольд. В конфликте между белыми и индейцами не было надобности прибегать к адвокату; можно было заранее определить, какая сторона останется неотомщенной и невознагражденной за понесенную обиду. Нет никакого сомнения в том, что жертвами всегда оказывались только индейцы.
Нужно ли добавлять, что они стремились отомстить за это? Иначе и быть не могло!
Приведу один примечательный факт из жизни Флориды того времени. Известно, что украденные у индейцев рабы всегда при первой возможности возвращались к своим хозяевам. Чтобы воспрепятствовать этому, разным декстерам и дугласам приходилось отправлять краденый «товар» на дальние берега Миссисипи — в Натчез или Новый Орлеан.
Этот поразительный факт из области социальных отношений можно объяснить только тем, что рабы семинолов, по существу, не были настоящими рабами. Индейцы обращались с ними с мягкостью, которой не знают рабы у белых. Рабы обрабатывали землю, и их хозяин бывал вполне доволен, если они доставляли ему столько хлеба, овощей и фруктов, сколько требовалось для его скромного стола. Рабы жили отдельно, вдали от домов своих господ. Они работали всего несколько часов в день, и вряд ли эти часы можно было считать принудительными. Весь излишек продуктов принадлежал им. В большинстве случаев они богатели и становились гораздо состоятельнее своих собственных владельцев, менее искусных в ведении хозяйства. Откупиться на волю было нетрудно, и большинство рабов фактически являлись свободными людьми. Впрочем, от таких цепей едва ли стоило бежать. Если это можно назвать рабством, то это была самая мягкая его форма из всех известных на земле. Она резко отличалась от того грубого и жесткого принуждения, в котором сыны Сима и Иафета держат потомков Хама[73].
Возникает вопрос: каким образом приобрели семинолы этих черных рабов? Может быть, это были беглецы из штатов Джорджии, Северной и Южной Каролины, Алабамы и с плантаций Флориды? Несомненно, были и такие, но в небольшом количестве. Немногие из этих негров официально числились «в бегах». Большинство беглых рабов, попав к индейцам, становились свободными. Было время, когда, по жестоким условиям договора в форте Моултри, этих «укрывающихся» рабов следовало возвращать их владельцам. Но, к чести семинолов, надо сказать, что они стремились уклониться от выполнения этого позорного условия. Да и не всегда представлялась возможность выдать беглого негра. В некоторых местах на индейской территории негры создали под начальством собственных вождей свободные и достаточно сильные для самозащиты колонии. Там беглецы обычно находили радушный прием и убежище. Таковы были колонии «Гарри» в болотах Пиз-Крика, «Абрама» в Микосоки, «Чарльза» и «короля мулатов».
Таким образом, рабы семинолов не были беглыми неграми с плантаций, хотя белые всегда старались доказать, что это именно так. Настоящих беглых рабов было очень немного. Большинство рабов семинолов являлись «подлинною собственностью» индейцев, если только раба вообще можно назвать собственностью. Во всяком случае, они были либо юридически законно приобретены ими, либо перешли к индейцам вместе с землей от первых поселенцев — испанцев, либо куплены у американских плантаторов. Каким образом куплены? — спросите вы. Что могло дать дикое племя в обмен на такой ценный товар? Ответить на это очень легко: лошадей и рогатый скот. Семинолы владели большими стадами. После ухода испанцев в саваннах остались табуны одичавших лошадей и стада быков андалузской породы. Индейцы ловили их и снова приручали. Получалось своеобразное qui pro quo[74]: четвероногих обменивали на двуногих.
Главным преступлением, в котором обвиняли индейцев, являлась кража скота, так как белые имели свои стада. Семинолы не отрицали, что и среди них были плохие люди — отщепенцы, которых нелегко обезвредить. Но где вы найдете такое общество, в котором нет бездельников?
Одно было несомненно: когда к индейским вождям обращались с жалобой на похищение скота, они всегда старались сделать все возможное, чтобы возместить утрату, и карали нарушителя закона со строгостью, неслыханной у их соседей по ту сторону границы.
Однако белые вовсе не считались с этим. Уж если собаку решили повесить, значит, надо было признать ее бешеной. Любой грабеж на границе приписывался индейцам. Стоило только белым грабителям вымазать себе лицо коричневой краской, и правосудие не могло разглядеть, кто скрывается под этой краской.
Глава 22
ХИТРАЯ ПРОДЕЛКА
Таковы были мои размышления, пока я ехал. Их вызвал печальный рассказ негра. И как будто нарочно, чтобы подтвердить мои выводы, с нами произошел следующий случай.
Невдалеке от покинутого дома мы напали на следы рогатого скота. Здесь прошло голов двадцать — по-видимому, в том же направлении, в котором ехали и мы, то есть к индейской резервации. Следы казались почти свежими. Как опытный охотник, я определил, что с того времени, когда здесь прогнали скот, не прошло еще и часа. Хотя я и долго был заперт в стенах военного училища, но все же не забыл науку лесной жизни, которой научил меня молодой Пауэлл.
След домашнего скота, будь он свежий или старый, не произвел бы на меня особого впечатления, в этом не было ничего замечательного. Просто какие-нибудь индейские пастухи гнали домой свое стадо; по отпечаткам мокасин в грязи я видел, что это действительно были индейцы. Правда, и некоторые белые, жившие около границы, носили мокасины, но это были не их следы. Косолапые ступни[75], высокий подъем и другие едва заметные признаки, которые я безошибочно различал и умел объяснить благодаря своей тренировке в ранней юности, — все доказывало, что это были следы индейцев.
И Джек согласился со мной. А в лесу он отнюдь не был разиней и увальнем. Всю жизнь он был искусным охотником на енотов, болотных зайцев, опоссумов и диких индеек. Вместе с ним я охотился на оленей, на серебристых лисиц и диких полосатых кошек. За время моего отсутствия он стал гораздо опытнее. Теперь он был дровосеком вместо своего бывшего соперника, и ему приходилось ежедневно работать в лесу и постоянно наблюдать за привычками и повадками обитателей лесов; благодаря этому он стал еще более искусным охотником. Глубоко ошибаются те, кто думает, что мозг негра не способен мыслить с той остротой, которая необходима для хорошего охотника. Я знавал негров, которые могли ориентироваться в лесу по различным признакам и идти по следу, проявляя такое же чутье и сообразительность, как любой индеец или белый. И Черный Джек обладал этой способностью.
Вскоре я понял, что по этой части он теперь значительно превосходил меня. И почти сразу же мне пришлось удивиться его проницательности.
Я уже сказал, что мы не обратили бы внимания на следы, если бы не одно обстоятельство. Едва мы отъехали в сторону, как вдруг мой спутник придержал коня и вскрикнул каким-то особенным образом — это восклицание свойственно только неграм: что-то похожее на звук «вуф», который можно услышать от испуганного кабана.
Я взглянул на Джека и по выражению его лица понял, что он сделал какое-то открытие.
— Что такое, Джек?
— Господи! Да неужели вы не видите, масса Джордж?
— Да что именно?
— А вот здесь, на земле?
— Я вижу, что прошло стадо, и больше ничего.
— А вот этот большой след?
— Да, правда, один след немного больше остальных.
— Вот те на! Ведь это же след нашего большого быка Болдфэйса. Я узнаю его среди тысячи других. Сколько кипарисовых бревен перетаскал этот бык для старого хозяина!
— Да, я теперь вспоминаю Болдфэйса. Ты думаешь, Джек, что здесь прошло наше стадо?
— Нет, масса Джордж. Я думаю, что это скот адвоката Грабба. Старый масса продал Болдфэйса массе Граббу. Уж я-то знаю следы своей скотины!
— Каким же образом быки мистера Грабба могли забрести на индейскую территорию, так далеко от его плантации, да eщe с погонщиками-индейцами?
— Вот этого-то я и не могу в толк взять, масса Джордж.
Обстоятельство действительно странное. Тут было над чем задуматься. Сам по себе скот не мог зайти так далеко, к тому же надо было переплыть реку. По-видимому, он не шел куда глаза глядят, а его, очевидно, гнали, и притом в определенном направлении. Его гнали индейцы. Может быть, это набег? Или быки украдены?
Подозрение возникало само собой, но достаточных улик все же не было. Быков гнали по проезжей дороге, где стадо вскоре могли бы нагнать его владельцы, и грабители — если они были таковыми — не приняли, как видно, никаких предосторожностей, чтобы замести свои следы.
Это было и похоже и не похоже на кражу и так разожгло наше любопытство, что мы решили поехать по следу и выяснить наконец, в чем тут дело.
Примерно на протяжении мили след совпадал с нашей дорогой, но затем, вдруг круто свернув влево, он повернул прямо в лесную чащу.
Мы решили не отказываться от своего намерения. Стадо, по-видимому, прошло так недавно, что догнать его можно было очень быстро. Поразмыслив, мы решили продолжать погоню.
Вскоре после того, как мы въехали в чащу, до нас отчетливо донеслись голоса людей и мычанье быков.
Сойдя с лошадей и притязав их к дереву, мы отправились дальше пешком. Мы шли крадучись и молча в том направлении, откуда доносились голоса и рев стада, сливавшиеся в непрерывный гул. Было ясно, что мычали те же самые быки, которые только что прошли по дороге. Но разговаривали не те люди, которые пригнали их сюда.
Речь индейца очень легко отличить от речи белого. Люди, голоса которых доносились до меня, были несомненно белые. Они говорили по-английски, уснащая свою речь непристойными выражениями. Мой спутник узнал даже, кто это такие.
— Господи, масса Джордж, ведь это два проклятых негодяя — Спенс и Билль Уильямс!
Джек был совершенно прав. Мы подошли ближе. Вечнозеленые деревья скрывали нас, но мы ясно видели все происходящее. На небольшой поляне толпилось стадо, а рядом стояли два индейца, угнавшие его и вышеупомянутые достойные личности.
Мы стояли в тени, наблюдая и прислушиваясь. И уже через несколько минут благодаря некоторым намекам, брошенным вскользь Джеком, я полностью уяснил себе, в чем дело.
Когда мы прибыли на место происшествия, сделка была уже закончена и индейцы как раз передавали свою добычу в руки белых. А их хозяева, которые дальше должны были сами гнать стадо, как раз вручали индейцам (безусловно, презренным отщепенцам своего племени) их награду — несколько бутылок виски и горсточку безделушек. Это была плата за ночную работу — угон скота с пастбища адвоката Грабба.
Индейцы, выполнив свое дело, могли удалиться и вволю предаться пьянству у себя дома. Они больше не были нужны. А Спенс и Уильямс теперь могли угнать скот куда-нибудь подальше и продать его за кругленькую сумму. Или, что еще более вероятно, они могли пригнать стадо обратно к Граббу, прихвастнув, что храбро отбили его у шайки индейцев-грабителей. Превосходный рассказ у пылающего камина где-нибудь на плантации!
Это было бы как раз на руку полиции и правительству. О, эти дикие разбойники семинолы — с ними давно пора разделаться, давно пора вышвырнуть их прочь из Флориды!
Так как стадо принадлежало адвокату Граббу, я не стал вмешиваться в эту историю. Я мог рассказать обо всем этом в другом месте и при других условиях. Поэтому, ничем не обнаружив себя, мы с Джеком вернулись к лошадям и продолжали свой путь, углубившись в размышления. Я ничуть не сомневался в том, что пьяные индейцы были наняты Уильямсом и Спенсом. А те в свою очередь, служили Граббу в этой гнусной проделке. Словом, была круговая порука.
Надо было как-то замутить воду, надо было довести несчастных индейцев до отчаяния.
Глава 23
О ЧЕМ Я ДУМАЛ ПО ДОРОГЕ
В училище, да и за его пределами надо мной часто насмехались за то, что я защищаю индейцев, и попрекали меня, замечая, что кровь древней Покахонтас, после того, как она двести лет смешивалась с кровью белых и должна была бы едва струиться в моих жилах, внезапно вновь вскипела и забурлила. Утверждали, что я не патриот, поскольку не присоединялся к крику и вою толпы, столь характерному для наций, когда речь заходит об их врагах.
Нации подобны отдельным людям. Чтобы угодить им, вы должны быть такими же порочными, как они сами, испытывать те же чувства или высказывать их, что, в сущности, одно и то же, разделять их любовь и ненависть, — короче говоря, отказаться от независимости взглядов и убеждений и вопить «Распни!» вместе с большинством.
Таков человек, живущий в современном обществе, и он считается патриотом! А тот, кто черпает свои суждения из источника истины и пытается преградить путь бессмысленному потоку человеческих предрассудков, — тот не получит признания в течение всей своей жизни. После смерти, может быть, но не в этой жизни! Такой человек не должен стремиться к «прижизненной славе», которой жаждал завоеватель Перу[76] — он не обретет ее. Если подлинный патриот желает получить в награду славу, он должен ждать ее лишь от потомства, когда его скелет превратится в пыль и прах в гробнице.
К счастью, есть и другая награда. Чистая совесть человека — это не пустая фраза. Есть люди, которые высоко ценят ее и которым ее сладостный шепот дарует новые силы и утешение.
Хотя выводы, к которым я вынужден был прийти не только после эпизода, который случайно наблюдал, но и после того, как недавно наслушался многих других историй, были довольно безотрадны, я все же поздравил себя с тем, что избрал такой путь. Ни одним словом, ни одним поступком не добавил я даже перышка на весах несправедливости. У меня не было причин винить себя. Совесть моя была совершенно чиста перед несчастным народом, с которым мне вскоре предстояло встретиться как с противником в войне.
Я недолго раздумывал над этим главным вопросом — скоро на меня нахлынули еще более мрачные мысли, навеянные воспоминаниями о дружбе и любви. Я думал о разоренной вдове, о ее детях, о Маюми. По правде говоря, больше всего о ней, хотя я был привязан ко всей семье. Все ее родные были мне дороги, но дороже всех была она сама. Я сочувствовал всем, печалился обо всех, но ещe более жгучей была печаль об утрате моих самых светлых надежд.
Где теперь эта семья? Куда она уехала? Догадки, опасения, страх все сильнее овладевали моим воображением. Оно рисовало мне самые мрачные картины. Люди, совершившие это преступление, были способны и на любое другое — на самое страшное преступление, когда-либо занесенное в анналы правосудия. Какая судьба выпала на долю друзей моей юности?
Мой спутник ничего не знал об их участи, после того как на них обрушились эти удары судьбы. Он полагал, что они уехали в «какое-нибудь другое индейское поселение, потому что никто из соседей ничего о них потом не слышал». Но это было только предположение.
Быстро меняющиеся картины природы отвлекали меня от тяжелых мыслей и как бы приносили мне некоторое облегчение. Сначала наша дорога шла по сосновому лесу. Около полудня мы выехали на широкое пространство, где справа и слева встречались хоммоки — флоридские колодцы. Дорога шла как раз посередине между ними. Весь ландшафт, как бы по волшебству, совершенно изменился. Все стало совсем иным — и земля под ногами и листва над головой. Сосны сменились зарослями вечнозеленых деревьев с широкими, твердыми, как кожа, глянцевитыми, блестящими листьями. Таковы были, например, магнолии, достигавшие здесь полного роста. Вокруг нас толпились дубы, шелковицы, лавры, железные деревья, а над ними возвышались тыквенные пальмы, гордо покачиваясь и как будто свысока приветствуя своих скромных друзей, шелестящих внизу.
Некоторое время мы ехали в густой тени, которую отбрасывали деревья и паразитические растения, вившиеся вокруг них; огромные виноградные лозы, отягощенные листьями, ползучие лианы, серебряные кустики тилландсии — все это скрывало небо от наших взоров. Извилистая тропинка петляла по лесу; ее преграждали рухнувшие стволы и переплетающиеся шпалеры виноградных лоз. Их ветви перекидывались через дорогу с дерева на дерево, как корабельные тросы.
Ландшафт носил несколько мрачный характер, но зато он производил величественное впечатление. Он как-то удивительно подходил к моему настроению и действовал на меня более успокоительно, чем открытый, полный воздуха сосновый лес.
Выехав из темного леса, мы очутились на дороге, ведущей к одному из описанных мной выше флоридских колодцев — круглому бассейну, окруженному холмиками и скалами кирпичного цвета. По-видимому, это был кратер когда-то потухшего вулкана. На варварском жаргоне англосаксонских поселенцев они называются «клоаками». Название это абсолютно неподходящее, ибо если в них есть вода, то она всегда кристально прозрачна и чиста. Бассейн, к которому мы подъехали, также был полон прозрачной влаги. И мы сами и наши лошади хотели пить, так как это было самое жаркое время дня. Леса за нами казались теперь не такими густыми и тенистыми. Мы решили сделать привал, чтобы отдохнуть и немного закусить.
У меня с собой был объемистый мешок для провизии, раздувшиеся бока которого — с горлышками двух-трех бутылок, выглядывавших из него, — свидетельствовали о нежной заботливости, которой мы были окружены дома. От верховой езды у меня разыгрался аппетит, а жара вызвала невыносимую жажду. Содержимое мешка быстро насытило нас, а стакан красного вина, смешанного с водой из холодного источника, великолепно утолил жажду. Все это пиршество на открытом воздухе завершила сигара. Закурив ее, я улегся под ветвями тенистой магнолии. Я наблюдал, как синий дымок вьется вверх между глянцевитыми листьями и заставляет мошкару разлетаться прочь. Волнение мое утихло, мысли стали расплываться. Сильный запах, струящийся от коралловых шишек и больших белых цветов магнолии, подействовал на меня одуряюще, и я уснул.
Глава 24
СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Я пробыл, по-видимому, несколько минут в таком бессознательном состоянии. Но вдруг меня разбудил всплеск воды, как будто кто-то кинулся в бассейн. Я не очень испугался и не только не оглянулся, но даже не открыл глаза.
«Наверно, это Джек нырнул в воду, — решил я. — Превосходная мысль! Я тоже потом выкупаюсь».
Но я ошибся. Негр и не думал прыгать в воду, он стоял на берегу, невдалеке от того места, где улегся спать. Его также разбудил шум, и он вскочил. Я услышал голос Джека:
— Смотрите, масса Джордж, вот так громадина! Вуф!
Я приподнялся и посмотрел в сторону бассейна. Оказалось, что Джек тут ни при чем: это вынырнул огромный аллигатор. Он подплыл к тому месту, где мы лежали, и, выставив вперед свою огромную грудь с мощными лапами, с явным любопытством разглядывал нас. Голова его возвышалась над поверхностью воды, а хвост был лихо задран вверх. Аллигатор производил одновременно и комическое и отвратительное впечатление.
— Дай-ка сюда ружье, Джек, — сказал я шепотом. — Только ступай потише, а то мы спугнем его.
Джек тихонько двинулся вперед, чтобы принести ружье. Но аллигатор как будто разгадал наше намерение. Прежде чем я успел протянуть руку к оружию, он внезапно перевернулся в воде и с быстротой молнии нырнул на дно. Некоторое время с ружьем в руке я ожидал, что он появится еще раз, но напрасно. Видимо, он уже раньше подвергался нападению и распознал в нас опасных врагов. Так как бассейн находился близко от проезжей дороги, то это предположение было весьма правдоподобно.
Конечно, ни мой спутник, ни я не обратили бы внимания на этот эпизод, если бы нам не вспомнилась ужасная сцена, которая произошла в бассейне на нашей плантации. Вся обстановка: бассейн, скалы, деревья вокруг, даже размер, очертания и свирепый, отвратительный вид пресмыкающегося — все напоминало нам того аллигатора, о котором теперь на нашей плантации сложились целые легенды. Я отчетливо вспомнил все дикие и страшные происшествия того знаменательного дня; все подробности возникали у меня в памяти, как будто это было вчера: приманка мулатом чудовищного аллигатора, смертельная схватка в бассейне, погоня, захват мулата в плен, суд и приговор к сожжению на костре, побег, долгое преследование в озере и внезапная страшная развязка. Мне даже почудилось, что я снова слышу отчаянный крик жертвы, когда она скрывалась под водой. Воспоминание было для нас обоих не очень приятным, и вскоре мы совсем прекратили разговор на эту тему. И как бы для того, чтобы отвлечь наши мысли, вблизи послышалось курлыканье дикой индейки. Джек попросил разрешения поохотиться за ней, взял мое ружье и ушел.
Я снова зажег свою «гавану», растянулся на мягкой траве, наблюдая за круглыми кольцами синеватого дымка, и, поддавшись опьяняющему аромату магнолий, опять заснул. На этот раз я увидел сон, в котором передо мной вновь прошли все события того страшного дня. Однако этот сон отличался от действительности: мне снилось, что мулат снова карабкается из воды на берег острова, что ему удалось удрать невредимым, что он вернулся отомстить за себя, что я попал к нему в руки и он готов убить меня!
В этот критический момент меня вновь разбудил уже не всплеск воды, а выстрел, прогремевший где-то поблизости.
«Ага, значит, Джек вспугнул индейку, — подумал я. — Надеюсь, что он не промахнулся. Я не прочь был бы захватить с собой в форт хотя бы одну индейку. Она очень пригодилась бы нам к столу. Я слыхал, что там не слишком-то жирно кормят. Джек — стрелок хороший и вряд ли промахнется. А если…»
Мои размышления были внезапно прерваны вторым выстрелом. По резкому звуку я определил, что он был произведен из винтовки.
«Что же это может быть? — спросил я сам себя с тревогой. — У Джека мое одноствольное ружье, он не мог успеть зарядить его вторично».
Неужели первый выстрел я услышал во сне? Да нет же, я его явственно слышал наяву. Он-то меня и разбудил. Несомненно, прозвучали два выстрела, я не мог ошибиться.
В изумлении я вскочил на ноги. Я беспокоился за своего товарища. Не было никакого сомнения, что выстрелы были сделаны из двух ружей. Кто же этот второй стрелок? Может быть, враг? Мы находились в опасной зоне.
Я окликнул Джека и несколько успокоился, когда он откуда-то отозвался мне. Но в следующее мгновение меня снова охватила тревога, потому что в голосе Джека ясно чувствовался ужас.
Недоумевая и волнуясь, я схватил пистолет и бросился в чащу. Голос негра был отчетливо слышен вблизи, но за густой зеленью я не мог рассмотреть его темное тело. Он продолжал кричать, и теперь я различил слова.
— Боже милостивый, — вопил он с выражением крайнего ужаса, — масса Джордж, вы не ранены?
— Да какой же дьявол мог ранить меня?
Не будь двух выстрелов, я подумал бы, что он стрелял в ту сторону, где я лежал, и ему показалось, что он случайно попал в меня.
— Вы не убиты? Слава богу, что вы не убиты, масса Джордж!
— Послушай, Джек, что все это значит?
В эту минуту он показался из-за деревьев, и я хорошо разглядел его. Я понял, что случилось что-то страшное. Джек представлял собой воплощение ужаса. Он дико вращал глазами, и белки их сверкали так, что почти не видно было ни зрачка, ни радужной оболочки. Губы его стали бледными и бескровными. Темное лицо посерело, зубы стучали. По его жестам видно было, что он объят паническим страхом.
Увидев меня, Джек побежал ко мне навстречу и схватил за руку, тревожно поглядывая в ту сторону, откуда только что примчался, как будто сзади его подстерегала смертельная опасность.
Я знал, что Джек, вообще говоря, не трус — совсем наоборот. Значит, была какая-то опасность… Какая же? Я напряженно всматривался, но в темной глубине леса мог разглядеть только коричневые стволы деревьев. Тогда я снова начал расспрашивать Джека.
— Господи! Это был… это был он! Я уверен, что он!
— Да кто это он?
— Ах, масса Джордж, значит, вы в самом деле не ранены? Он стрелял в вас. Я видел, как он прице…це… целивался… Я выстрелил в него, он промахнулся, и… он убежал…
— Да кто стрелял? Кто убежал? Объясни ты, ради бога, кто он такой!
— При… привидение убежало.
— Какое привидение? Уж не самого ли дьявола ты увидел?
— Верно, масса Джордж, верно! Я видел дьявола. Это был Желтый Джек!
— Желтый Джек?!
Глава 25
КТО СТРЕЛЯЛ?
— Желтый Джек? — машинально повторил я, конечно отнюдь ие веря заявлению моего спутника. — Ты говоришь, что видел Желтого Джека?
— Да, масса Джордж, — ответил мой оруженосец, понемногу оправляясь от страха. — Вот так же ясно, как солнце на небе, я видел его самого или его привидение.
— Какая чушь! Привидений не бывает. Тень деревьев застлала твои глаза. Это все тебе попросту почудилось.
— Боже ты мой, масса Джордж! — возразил негр с горячей убежденностью. — Клянусь, что я видел его, это мне не почудилось. Я видел — это был Желтый Джек или его дух.
— Да это невозможно!
— Ну и пусть невозможно, только все равно правда. Клянусь евангелием! Желтый Джек стрелял в вас из-за этого эвкалипта. Потом и я пальнул в него. Вы ведь слышали два выстрела?
— Да, я слышал два выстрела, но, может быть, мне это показалось.
— Нет, вам не показалось. Буф! Проклятый мерзавец! Это он, конечно, стрелял!.. Посмотрите-ка сюда!
Мы подошли к бассейну и остановились возле магнолии, под тенью которой я спал. Джек нагнулся и показал мне на стволе место, где кора, по-видимому, была содрана пулей. Пуля прошла сквозь дерево. Рана была зеленая и свежая, и сок еще струился из нее. Несомненно, кто-то стрелял в меня и промахнулся лишь на какой-нибудь дюйм. Пуля прожужжала как раз над моей головой, когда я отдыхал, положив под голову свой дорожный мешок. Она пролетела почти у самого уха, потому что я вспомнил теперь, что почти одновременно с первым выстрелом я услышал жужжанье пули.
— Теперь вы верите мне, масса Джордж? — спросил негр, весьма довольный собственной сообразительностью. — Вы видите, что это вам не почудилось?
— Да, теперь я понимаю, что в меня кто-то стрелял.
— Желтый Джек, масса Джордж, Желтый Джек! Клянусь богом! — с волнением воскликнул мой спутник. — Я видел желтого негодяя так же ясно, как вижу вот это дерево.
— Ну, кто бы ни стрелял, краснокожий или желтокожий, чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Давай-ка мне винтовку. Я покараулю, пока ты оседлаешь лошадей.
Пока негр седлал лошадей и укладывал наши вещи, я быстро зарядил ружье и встал за ствол дерева, пристально вглядываясь в ту сторону, откуда могли стрелять. Нечего и говорить, что я ждал с волнением и страхом. Покушение на мою жизнь говорило о том, что против меня ведет борьбу смертельный враг, кто бы он ни был. Предположение негра, что стрелял Желтый Джек, казалось мне просто нелепым, и я посмеялся над ним. Ведь я своими глазами видел, как мулат погиб ужасной смертью. Чтобы поверить в появление его призрака или его самого, мне нужны были более веские доказательства, нежели свидетельство Джека. Когда негр увидел неизвестного врага в этой угрюмой лесной чаще, едва освещенной солнцем, фантазия у него разыгралась, и ему почудилось, что стреляет Желтый Джек. Но выстрел-то не был фантазией! И почему именно в эту минуту я видел во сне мулата? И почему такой сон? Мне пригрезилось то же самое, что почудилось негру. Мороз пробежал у меня по коже и кровь застыла в жилах, когда я подумал об этом странном совпадении. В нем таилось нечто ужасное и столь дьявольски вероятное, что я начал склоняться к мысли, что в торжественных уверениях негра действительно была какая-то доля правды. Чем больше размышлял я обо всем этом, тем скорее готов был поверить в то, что сначала показалось мне абсолютно неправдоподобным.
Почему например, индейцу без всякого видимого повода вздумалось бы избрать меня своей мишенью? Правда, между индейцами и белыми отношения были враждебные, но война-то все-таки не началась. До этого дело пока не дошло. Совет старейшин еще не собирался, он был назначен на следующий день. Пока решения его не станут известны, вряд ли с какой-нибудь стороны начнутся враждебные действия. Это могло бы серьезно повлиять на будущие решения совета. Индейцы были так же заинтересованы в сохранении мира, как и их противники, и даже в гораздо большей степени. Они не могли не знать, что неуместная и несвоевременная демонстрация такого рода отнюдь не пойдет им на пользу. Наоборот, это могло бы оказаться подходящим предлогом для партии сторонников переселения. Мог ли индеец при таких условиях посягать на мою жизнь?
А если целился не индеец, то кто же тогда пытался убить меня и почему? Я не припоминал ни одного случая, когда бы я кого-нибудь обидел настолько, что это могло бы вызвать ко мне смертельную ненависть. Вдруг мне пришли на память пьяные погонщики быков. Какое было им дело до договоров или решений совещания? Лошадь, седло, ружье, любая безделушка могли иметь для них большее значение, чем судьба целого племени. По-видимому, оба они были настоящими бандитами. Грабители встречаются и среди индейцев, так же как среди белых.
Но нет, это не погонщики. Они не видели нас, когда мы проезжали мимо, а если даже и видели, то вряд ли могли так быстро добраться сюда. Мы скакали на лошадях, а они шли пешком и, значит, не могли догнать нас.
Что касается Спенса и Уильямса, которые ехали верхом и, судя по рассказам Джека, были негодяями, то ведь они тоже не видели нас. Кроме того, они не могли отлучиться от стада.
Aга! Наконец мне показалось, что я нашел объяснение. Наверно, в меня выстрелил какой-нибудь беглый раб, поклявшийся вечно мстить белым и изливший свою ненависть на первого, кто попался ему на пути. Может быть, это был мулат, имевший некоторое сходство с Желтым Джеком (все люди с желтым цветом кожи, как и негры, очень похожи друг на друга). Вероятно, это и ввело в заблуждение моего спутника. На том я пока и успокоился.
Между тем у Джека уже все было готово. Оставив попытки разгадать эту тайну, мы вскочили на лошадей и поскакали. Некоторое время мы неслись во весь опор. Дорога шла редким лесом, где все было хорошо видно впереди и позади нас, но ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый враг не появлялся ни перед нами, ни с тыла. Мы не встретили ни одного живого существа, пока не добрались до форта Кинг. Мы въехали в форт как раз в ту минуту, когда солнце скрылось за темными вершинами леса на горизонте.
Глава 26
ПОГРАНИЧНЫЙ ФОРТ
Слово «форт» вызывает у нас представление о массивной постройке с выступами и амбразурами[77], бастионами и зубчатыми стенами, валами, казематами и гласисом[78] — одним словом, о мощном укреплении. Испанцы действительно строили такие форты во Флориде и в других местах. Многие из этих фортов еще существуют, а развалины остальных свидетельствуют о величии и славе тех времен, когда флаг с изображением леопарда гордо развевался над их стенами. Но между колониальной архитектурой испанцев и других европейских народов есть большое различие. В Америке испанцы строили свои укрепления, не обращая внимания на труды и денежные затраты, как будто они думали, что их владычество будет продолжаться вечно. Им и в голову не приходило, что во Флориде их господство будет столь кратковременным и что им скоро предстоит изгнание.
В конце концов, эти огромные крепости сослужили им хорошую службу. Без них смуглые ямасси, а потом победоносные семинолы уже давно вытеснили бы испанцев с цветущего полуострова, задолго до того, как индейцев передали под власть другой страны[79].
У Соединенных Штатов во Флориде есть свои большие каменные крепости, но упоминаемые в истории пограничных войн «форты» совсем не похожи на них. Эти постройки как бы гигантской цепью опоясывают всю территорию Соединенных Штатов. Здесь мы не увидим зубчатых стен, высеченных в скалах, дорогостоящих казематов и ненужных архитектурных украшений. Это большей частью грубые временные деревянные постройки, которые стоят дешево и которые не жаль покинуть, когда в период стремительного отступления линия границы все время изменяется.
Чтобы создать надежную защиту против враждебно настроенных индейцев, надлежит действовать следующим образом: найдите несколько сотен деревьев, срубите их и распилите на балки в восемнадцать футов длиной, расщепите их посередине, установите четырехугольниками вплотную одна к другой, плоской стороной внутрь, сколотите их поперечными досками вместе, заострите их верхние концы, устройте бойницы на высоте восьми футов от земли, под бойницами установите леса и подмостки, снаружи выройте ров, постройте на противоположных углах бастионы и на них разместите ваши пушки, навесьте крепкие ворота — и вы построите пограничный форт!
Это может быть треугольник, или четырехугольник, или любой другой многоугольник, который наилучшим образом будет соответствовать условиям данной местности.
Далее вам нужны помещения для солдат и запасов провианта. Внутри ограды постройте крепкие блокгаузы; если угодно, на углах у них тоже возведите бойницы — на тот случай, если наружная ограда будет взята приступом. Когда все это будет закончено, можете считать, что форт готов.
Сосны — наилучший строительный материал. Их высокие стволы без ветвей легко срубить и распилить на балки нужной длины. Но во Флориде есть порода деревьев, еще более пригодная для постройки форта, — это тыквенная пальма. Плотная древесина ее не так легко раскалывается от обстрела, и пули попросту застревают в ней. Из таких деревьев и был построен форт Кинг.
Представьте себе подобный укрепленный форт и населите его несколькими сотнями солдат; одни из них в полинялых голубых мундирах с грязными белыми отворотами (пехота), другие — в темно-синих мундирах с красными кантами (артиллерия), третьи — в темно-зеленых мундирах (карабинеры), некоторые облечены в более эффектные мундиры желтых оттенков (драгуны). Представьте себе, как эти неряшливо одетые солдаты слоняются по форту или стоят группами в неуклюжих позах; и лишь у немногих опрятный вид: ремни начищены белой глиной, штыки примкнуты — это часовые на посту. Среди них бродят неряшливо одетые женщины — их жены и прачки, в их числе несколько смуглых скво[80], тут же пронзительно визжат младенцы. Иногда торопливо проходят офицеры, которых легко узнать по темно-синим тужуркам. А рядом джентльмены в штатском — это приезжие или вольнонаемные служащие форта. Далее следует менее благородная публика — маркитанты[81], торговцы быками, погонщики, мясники, проводники, охотники, игроки или просто бродяги и бездельники. Кое-где мелькают слуги — негры и дружественно настроенные индейцы. Наконец, вы можете натолкнуться на важного правительственного агента… Вообразите, что над всем этим развевается американский флаг — белые звезды на голубом поле, — и перед вами предстанет картина, которую я увидел, когда въехал в ворота форта Кинг.
* * *
За последнее время я отвык от верховой езды, и поездка очень утомила меня. Хотя я и слышал сигнал побудки, но так как еще не приступил к своим служебным обязанностям, то не обратил на него никакого внимания и проспал. Вторично меня разбудили доносившиеся в открытое окно звуки труб и барабанный бой. Я узнал мелодию парадного марша и сразу вскочил с постели. В это время вошел Джек помочь мне одеться.
— Смотрите-ка, масса Джордж! — воскликнул он, показывая на окно. — Кажется, собрались семинолы со всей Флориды! Вуф, сколько их тут!
Я выглянул в окно. Зрелище было живописное и внушительное. Внутри ограды форта со всех сторон сбегались солдаты и строились в роты, готовясь к параду. Теперь все они были аккуратно одеты и в своих наглухо застегнутых мундирах, лихо сдвинутых набок шапках, с начищенными до снежной белизны ремнями, с винтовками, штыками и пуговицами, сверкавшими на солнце, представляли собой великолепное зрелище военной мощи. Среди солдат расхаживали офицеры в роскошных мундирах и блистающих эполетах. Поодаль стоял генерал, окруженный офицерами штаба. Их можно было отличить по черным шляпам с красными и белыми петушиными перьями. Тут же находился и уполномоченный в чине генерала, одетый в полную парадную форму.
Весь этот парад был рассчитан на то, чтобы произвести впечатление на индейцев. Кроме военных, здесь присутствовало и несколько штатских в хороших костюмах. Это были окрестные плантаторы; среди них я увидел Ринггольдов — отца и сына. Но за оградой форта зрелище было куда живописнее.
На обширной равнине, которая простиралась на несколько сот ярдов перед фортом, небольшими группами расположились индейские воины в своем великолепном военном одеянии. Все они были в головных уборах из перьев и украшены татуировкой. Хотя в их военном облачении и чувствовался некий общий стиль, но все они были одеты по-разному. На одних — охотничьи рубашки, штаны и мокасины из оленьей кожи, богато расшитые бахромой, бусами и блестками. На других — одеяния из пестрого ситца, полосатого или цветного, и суконные штаны — синие, зеленые или красные, застегнутые ниже колена; концы украшенных бусами гетр, вышитых блестками и мишурой, свисали с ног. Вампумы[82] самой яркой расцветки охватывали талии, за них были заткнуты длинные ножи, томагавки, а у некоторых и пистолеты, сверкавшие богатой серебряной оправой, — все это предметы, доставшиеся индейцам в наследство от испанцев. Иные вместо пояса обмотали испанский шарф из алого шелка, и его обшитые бахромой концы спускались спереди, придавая особое изящество костюму. Не меньшее разнообразие представляли и головные уборы: на некоторых были диадемы из пестрых перьев, на других — похожие на каски шапки из меха черной белки, рыси или енота. При этом морда зверя часто самым фантастическим образом красовалась над лицом индейца. У многих головы были украшены широкими лентами из вышитой ткани, из которых торчали перья грифа или тончайшая паутина журавлиных перьев. Кое-кто из воинов был украшен перьями самой большой птицы Африки — страуса.
Все индейцы были вооружены длинными охотничьими ружьями; у каждого на ремне, перекинутом через плечо, висели рог с порохом и патронташ. Лук и стрелы были только у юношей, которые пришли сюда вместе со взрослыми.
Дальше виднелись палатки, раскиданные по опушке леса, — там индейцы разбили свой лагерь. Развевавшиеся над палатками флаги обозначали различные племена, которым принадлежали эти палатки. Женщины в длинных платьях бродили между палатками, а их темнокожие младенцы возились в траве.
Я увидел индейцев, когда они уже собрались перед оградой форта. Одни стояли небольшими группами и разговаривали, другие переходили от группы к группе и, видимо, советовались. Мне бросилась в глаза горделивая осанка этих людей. Я любовался их свободными и смелыми движениями, столь не похожими на скованную поступь вымуштрованного солдата. Сравнение было явно в пользу индейцев. Когда я смотрел на стоявших плечом к плечу, нога к ноге солдат, как бы застывших в строю, а затем на украшенных перьями индейских воинов, гордо шагавших по своей родной земле, я не мог отделаться от мысли, что мы сумеем победить их только благодаря своему численному превосходству.
Меня подняли бы на смех, если бы я вздумал высказыватъ подобные мысли. Это противоречило опыту, основанному, впрочем, главным образом на хвастливых легендах о подвигах белых на границе. До сих пор индейцы всегда уступали белым, но разве они уступали потому, что белые превосходили их силой и храбростью? Нет, неравенство заключалось в численности и еще чаще в оружии. В этом таился секрет нашего превосходства. В самом деле, как можно защищаться стрелами, пущенными из лука, от смертоносных пуль, вылетающих из винтовки? Но теперь это неравенство исчезло, теперь у индейцев было огнестрельное оружие, и они владели им так же искусно, как и белые.
Индейцы расположились полукругом перед фортом. Вожди уселись впереди на траву, за ними заняли места младшие вожди и наиболее прославленные воины, а еще дальше стояли все остальные представители племен. Даже женщины и дети подошли поближе, столпились и молча, но со жгучим интересом следили за движениями мужчин.
Индейцы были необычно серьезны и молчаливы. Вообще говоря, это не соответствовало их характеру, так как семинолы любят и посмеяться и поболтать. Даже беззаботные негры вряд ли могут по веселости сравниться с ними. Но теперь они держали себя иначе. Вожди, воины и женщины, даже ребята, забывшие свои игры, — все выглядели необыкновенно торжественно. Да это и понятно: предстояло не обычное собрание, где обсуждались повседневные дела, а совет, на котором решалась их судьба, решалось то, что было для них дороже всего на свете, — совет, который мог навеки разлучить их с родной землей. Неудивительно, что сегодня они не были такими жизнерадостными, как обычно.
Однако нельзя сказать, что у всех был мрачный вид. Некоторые вожди смотрели на дело иначе и не возражали против переселения. Это были подкупленные и развращенные белыми вожди, изменники своему племени и своей нации. Их оказалось немало, и они представляли собой определенную силу. Некоторых из могущественных вождей удалось уговорить, и они согласились предать права своего народа. Но семинолы подозревали их в измене, поэтому-то и были так озабочены представители противоположной партии. Не будь раскола среди вождей, партия патриотов легко могла бы восторжествовать и добиться решения вопроса в интересах народа. Но теперь патриоты опасались отступничества предателей.
Оркестр заиграл марш, и войска парадным строем прошли через ворота. Я быстро надел мундир и поспешил присоединиться к штабу генерала. Через несколько минут мы уже стояли лицом к лицу с вождями индейцев. Войска построились. Впереди них около знамени стоял генерал, а рядом с ним — правительственный агент. Далее толпились офицеры штаба, письмоводители, переводчики, а также некоторые плантаторы покрупнее. Тут же были оба Ринггольда. Их из любезности пригласили принять участие в совете.
Офицеры обменялись рукопожатием с вождями, трубка мира обошла все ряды, и наконец совет был торжественно объявлен открытым.
Глава 27
СОВЕТ
Первым выступил с речью правительственный агент. Она была слишком длинна, чтобы приводить ее во всех подробностях. Прежде всего он призывал индейцев мирно подчиниться условиям Оклавахского договора, уступить белым свои земли во Флориде, переселиться на Запад, в Арканзас, в местность, отведенную им на Уайт Ривер, — одним словом, согласиться на все требования, которые он предъявлял индейцам по поручению правительства. Он прилагал все усилия, убеждая индейцев в том, что переселение принесет им только пользу, расписывал их новое местожительство, как настоящий земной рай: в прериях полно дичи, там водятся лоси, антилопы и буйволы, там реки, изобилующие рыбой, прозрачные как хрусталь, источники, вечно безоблачное небо!
Если бы семинолы поверили ему, то могли и вправду вообразить, что те благословенные места для охоты, которые, по их религиозным представлениям, находятся на небе, в действительности можно найти и на земле.
Затем он указал индейцам на те последствия, какие повлечет их отказ: белые быстро заселят все пограничные зоны, худшие из них будут вторгаться во владения индейцев. Начнутся стычки, и польется кровь. Краснокожие будут отвечать перед судом белых людей, где, согласно закону клятва индейца не признается, и поэтому им придется терпеть всякие несправедливости.
Таковы были соображения господина правительственного агента Уайли Томпсона, изложенные им на совете в форте Кинг в апреле 1835 года[83]. Я приведу его подлинные слова, их стоит процитировать как образец «честной» и «прямой» политики белых по отношению к индейцам. Вот что он сказал:
— Допустим невозможное, а именно, что вам будет разрешено остаться здесь еще на несколько лет. В какое положение вы попадете? Земля будет вскоре размежевана, продана и заселена белыми. Уже теперь туда посланы землемеры. Вскоре вы подпадете под власть правительственных законов. Ваши законы будут отменены, ваши вожди перестанут быть вождями. Нехорошие белые люди будут предъявлять к вам денежные иски и свои права на ваших негров, и дело может дойти даже до обвинений в убийстве. Вам придется предстать перед судом белых людей. Судебные процессы будут решаться по законам белых. Свидетелями против вас будут выступать белые. А индейцам не будет разрешено выступать в качестве свидетелей. Через несколько лет вы начнете бедствовать и окажетесь в безвыходном положении. Вы будете доведены до ужасающей нищеты. А когда голод заставит вас выпрашивать корку хлеба — может быть, у того, кто разорил вас, — вас обзовут «индейским псом» и выгонят, вышвырнут вон. Вот почему ваш Великий Отец (!), чтобы спасти вас от всех этих страшных бедствий, желает вашего переселения на Запад!
И такого рода речи произносились вскоре после договора, заключенного в форте Моултри, который гарантировал семинолам их право оставаться во Флориде! Третья статья этого договора гласила: «Соединенные Штаты возьмут флоридских индейцев под свою защиту и покровительство и будут ограждать их от любых посягательств любых лиц».
О temporal О mores![84]
Вся речь представляла собой смесь запутанных ухищрений и скрытых угроз, высказанных то просительным тоном, то высокомерно и дерзко. Это никоим образом не было умно — и в том и в другом случае агент хватал через край.
Сам он не питал вражды к семинолам. Он негодовал только на тех вождей, которые уже высказались против его планов. Одного из них он просто ненавидел. Но главной целью, которая вдохновляла его, было желание как можно лучше выполнить поручение, возложенное на него правительством, и таким способом завоевать себе авторитет и славу опытного дипломата. На этот алтарь он был готов, как и большинство других государственных чиновников, принести в жертву свою личную независимость, свободу убеждений и честь. Дело не в том, чтобы обязательно служить королю. Поставьте вместо «короля» слово «конгресс», и вот перед вами девиз нашего агента!
Хотя его речь не отличалась особой глубиной, но все-таки она произвела некоторый эффект и оказала влияние на слабых и колеблющихся. Условия жизни на новых землях показались им заманчивыми, особенно по сравнению с устрашающей перспективой, которая предстояла им здесь, так что картина, нарисованная агентом, на некоторых произвела впечатление.
Когда раздался призыв к войне, семинолы посеяли очень мало зерна, пропустив удобное для сева время. Значит, не будет хорошего урожая — не будет ни маиса, ни риса, ни батата. И последствия подобной непредусмотрительности начинали сказываться. Уже теперь семинолы собирали корни китайского шиповника[85] и желуди. А что же будет зимой? Неудивительно, что многие были озабочены; на их лицах я заметил страх. Даже вожди-патриоты как будто опасались за исход совета.
Однако они не теряли присутствия духа. После короткой паузы слово взял Хойтл-мэтти, один из самых решительных противников переселения. У индейцев в таких случаях не соблюдается никакой очередности выступлений по старшинству. У каждого племени есть свои признанные ораторы, которым обычно позволяется выразить мысли и чувства всех остальных. Здесь находился и верховный вождь Онопа. Он сидел в центре круга, и на голове его красовалась британская корона — память об американской революции[86]. Но Онопа не был красноречив и отказался от своего права, предоставив говорить своему зятю Хойтл-мэтти, который считался не только мудрым советником и храбрым воином, но и славился как лучший оратор среди семинолов. Он был «премьер-министром» у Онопы, а заимствуя сравнение из античной эпохи, его можно было бы назвать Одиссеем[87] своего народа. Это был высокий, худощавый, смуглый человек с резкими, орлиными чертами и несколько зловещим выражением лица.
Он происходил не из племени семинолов и сам считал себя потомком одного из тех древних племен, которые населяли Флориду еще в раннюю эпоху испанского владычества. Возможно, что он принадлежал к племени ямасси; его смуглая кожа вполне подтверждала такое предположение.
Об ораторском таланте Хойтл-мэтти можно судить по его речи. Он заявил:
— Договор в Моултри установил, что мы будем мирно жить на земле, которая признана нашей собственностью двадцать лет назад. Все спорные вопросы были улажены, и нас уверили, что мы будем умирать естественной смертью, а не от насилия, чинимого белыми людьми. Не молния должна расколоть и погубить дерево, а холод старости должен высушить в нем жизненные соки, и тогда листья увянут и облетят, а ветки отпадут от мертвого, полусгнившего ствола.
Совет в Оклавахе послал наших выборных затем, чтобы только посмотреть землю, куда нас хотят переселить, и потом рассказать о ней народу. Мы дали согласие и прошли по этой земле. Она приносит ароматные и вкусные плоды и воздух в ней здоровый, но она окружена злыми и враждебными соседями, а плоды плохого соседства — это война и пожары. Кровь оскверняет землю, а огонь иссушает источники. Индейцы из племени поуни украли у нас несколько лошадей, и нашим всадникам пришлось тащить свои вьюки на спине. Вы хотите поселить нас среди плохих индейцев, которые никогда не дадут нам покоя.
Когда мы смотрели земли, мы ничего не сказали, но агенты Соединенных Штатов заставили нас подписать бумагу, и теперь вы говорите, что в ней выражено наше желание переселиться! А мы только заявили, что земля нравится нам, но решать должен народ. На большее мы не были уполномочены.
Ваша речь прекрасна, но мой народ не может сейчас сказать, что он будет переселяться. Одни думают так, а другие иначе, и надо дать людям время, чтобы поразмыслить. Наш народ не может уйти, он не хочет уходить! Если их уста говорят «да», то их сердца восклицают «нет» и называют их лжецами. Нам не нужно чужих земель. Зачем они нам? Мы любим нашу родную землю, мы счастливы здесь! Если мы внезапно оторвем наши сердца от земли, с которой мы сроднились, то оборвутся струны нашего сердца. Мы не можем согласиться на переселение, мы не уйдем!
После Хойтл-мэтти выступил один из вождей партии, стоявшей за переселение. Это был Оматла, один из самых могущественных вождей племени, которого подозревали в том, что он вступил в тайный союз с агентом. Речь его носила умиротворительный характер, и он советовал своим краснокожим братьям не чинить никаких препятствий, а поступить честно и согласиться с условиями Оклавахского договора.
Было ясно, что этот вождь находился под чужим влиянием. Вместе с тем он, видимо, боялся открыто стать на сторону правительственного агента, опасаясь мести патриотов. Когда он встал и начал говорить, воины-патриоты смотрели на него неодобрительно, а их вожди — Арпиуки, Коа-хаджо и другие — часто прерывали его. В том же духе, но более смело говорил Луста Хаджо (Черная Глина). Он привел мало новых доводов в своей необычайно дерзкой речи, но несколько ободрил партию изменников и успокоил агента, который уже начал проявлять нетерпение и волноваться.
Вслед за ним поднялся Холата-мико, индеец с мягкими манерами джентльмена, один из самых уважаемых вождей. Он был нездоров, и поэтому его речь, против ожидания, носила более мирный характер — ведь он слыл решительным противником переселения.
— Мы собрались сюда сегодня, чтобы посоветоваться друг с другом, — сказал он. — Все мы сотворены Великим Духом, все мы его дети, все произошли от одной матери и вскормлены одной и той же грудью. Значит мы все братья, а братья не должны враждовать между собой и проливать кровь друг друга. Если кровь одного из нас прольется на землю от удара его брата, то окровавленная земля будет громко взывать о мщении и на нас падет гнев Великого Духа. Я болен. Пусть другие, кто крепче меня, выскажут свои мысли.
Затем один за другим поднялись несколько вождей и высказали свое мнение. Сторонники переселения говорили в таком же духе, как Оматла и Черная Глина. Это были Охала (Большой Воин), братья Итолассе, Чарльз Оматла и еще несколько менее значительных вождей.
В противовес им выступили патриоты: Акола, Яха Хаджо (Безумный Волк), Эха Матта (Водяная Змея), Пошалла (Карлик) и негр Абрам. Последний когда-то бежал из Пенсаколы, а теперь был вождем негров, живших с племенем микосоки, и одним из советников Онопы, на которого он имел неограниченное влияние. Он свободно говорил по-английски и на совете, как и на совещании в Оклавахе, выступал главным переводчиком с индейской стороны. Он был чистокровным негром. Об этом свидетельствовали толстые губы, выдающиеся скулы и другие физические особенности, присущие его расе. Он был храбр, хладнокровен и проницателен и оказался до конца верным другом народа, который удостоил его своим доверием. Он говорил сдержанно и скромно, но тем не менее проявил твердую решимость оказать сопротивление планам агента.
Главный вождь пока еще не высказался, и наконец агент обратился к нему.
Онопа, грузный мужчина высокого роста, казалось, не блистал особым умом, но при этом и не был лишен чувства собственного достоинства. Он не отличался ораторским талантом и хотя был главным «мико» народа, однако пользовался меньшим влиянием среди воинов, чем некоторые младшие вожди. Его мнение поэтому никоим образом не могло рассматриваться как решающее или обязывающее остальных, но, именуясь «мико-мико» (вождем вождей) и будучи, по существу, главой крупнейшего племени микосоки, он все-таки мог перетянуть чашу весов на ту или другую сторону. Если бы он высказался за переселение, патриоты могли бы считать свое дело проигранным.
Все затаили дыхание. И белые и краснокожие устремили взгляды на главного вождя. Образ мыслей его был известен очень немногим, и большинство не знали, какое мнение он выскажет. Поэтому понятно, с какой тревогой все ожидали его речи.
Но в этот критический момент среди воинов, стоявших за Онопой, началось какое-то движение, и они расступились, дав дорогу новому вождю, по-видимому, пользовавшемуся большим уважением.
Через минуту он оказался впереди. Это был молодой воин в богато украшенном одеянии и с благородными чертами лица. Он носил отличительные знаки вождя. Но и без них, по одному виду его, чувствовалось, что он рожден для того, чтобы вести за собой людей.
Он был в богатой, но не яркой и не пестрой одежде. Рубашка, схваченная у талии разноцветным поясом вампум, ниспадала красивыми складками, а стройные ноги были обтянуты гетрами из красного сукна. Он был прекрасно сложен, его фигура казалась удивительно пропорциональной. На голове у него была пестрая повязка с тремя черными страусовыми перьями, спускавшимися почти до плеч. На шее висели различные украшения. Одно из них привлекало особое внимание: круглая золотая пластинка, висевшая у него на груди. На пластинке были выгравированы лучи, радиусами идущие из одного центра. Это было изображение восходящего солнца.
Лицо его было раскрашено красной краской, но, несмотря на это, все черты выступали совершенно отчетливо: красиво очерченный рот и подбородок, тонкие губы, нижняя часть лица, свидетельствующая о твердости характера, орлиный нос, высокий широкий лоб и глаза, как у орла, способные смотреть, не жмурясь, на ослепительное солнце.
Словно электрический ток пронзил всех, когда появился этот замечательный человек. Так бывает в театре, когда на сцене появляется трагический актер, выхода которого все ожидали с нетерпением.
Сам молодой вождь держался очень скромно. Не по его манерам, а по волнению других я решил, что вижу настоящего героя.
Действующие лица, которые выступали до сих пор, оказались лишь второстепенными актерами. А этот молодой вождь и был тот, кого ожидали все семинолы!
По рядам индейцев прошло движение, пронесся шепот, затем гул голосов; толпа вздрогнула в едином порыве, и затем одновременно, как бы вырвавшись из одной груди, прозвучало имя: «Оцеола!»
Глава 28
ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
Да, это был Оцеола, что означает на языке семинолов «Восходящее Солнце», тот самый Оцеола, слава которого достигла самых отдаленных уголков страны, тот самый Оцеола, который возбуждал такое жгучее любопытство и у нас в училище, и на улицах городов, и в аристократических салонах. Это он так внезапно появился в кругу вождей.
Скажем несколько слов об этом необыкновенном юноше.
Сначала он был простым воином, потом — младшим вождем, почти не имея приверженцев, и вдруг, как бы по волшебству, приобрел доверие целого народа. Теперь патриоты возлагали на него все свои надежды. Его мужество воодушевляло их, и его влияние с каждым днем возрастало. Как нельзя лучше подходило к нему и его имя. Можно было бы подумать, что он избрал его умышленно, а не случайно, если бы это не было его настоящим именем. В нем было нечто пророческое, символическое, ибо сейчас он действительно был «восходящим солнцем» для семинолов.
Чувствовалось, что Оцеола произвел большое впечатление на воинов. Вероятно, он уже был здесь давно, но до сих пор не выходил в первые ряды вождей. Робкие и колеблющиеся с его приходом ободрились и вздохнули свободнее, а вожди-изменники съежились от страха под его взором. Я заметил, что братья Оматла и даже свирепый Луста Хаджо поглядывали на него с нескрываемой тревогой.
Приход Оцеолы поразил не только индейцев, но и еще кое-кого. Со своего места я видел лицо агента. Он побледнел и смутился. Было ясно, что появление Восходящего Солнца его совсем не устраивало. Я стоял рядом с генералом Клинчем и не мог не услышать того, что агент торопливо шептал генералу.
— Вот не повеало! — говорил он раздраженным тоном. — Если бы не он, мы безусловно одержали бы победу! Я надеялся прибрать их к рукам до его прихода. Нарочно сказал ему не тот час — так вот не помогло же! Черт бы его побрал! Теперь он испортит нам все дело… Вот он нашептывает что-то Онопе, а старый дурень уставился на него, как ребенок… Ба, теперь он и будет повиноваться ему во всем, словно младенец! Да он и есть не что иное, как взрослое дитя. Теперь все кончено, генерал! Нам не избежать войны!
Услышав этот разговор, я еще раз внимательно взглянул на Оцеолу. Он стоял позади Онопы, слегка нагнувшись к нему, и я слышал, как он шептал ему что-то на своем родном языке. Только переводчики могли бы понять, что он говорил, но они стояли слишком далеко, чтобы разобрать его слова. По серьезному и взволнованному виду Оцеолы, по гневным взглядам, которые он бросал на агента, можно было понять, что он отнюдь не намерен уступать и то же самое советует своему вождю.
На несколько секунд водворилась тишина. Только шепот агента, с одной стороны, и шепот Оцеолы — с другой, нарушали ее. Но скоро оба умолкли. Наступила минута напряженного ожидания. Решение Онопы было важно для всех, от этого решения зависели мир или война, жизнь или смерть. Даже солдаты в строю, прислушиваясь, вытянули шеи. Индейские мальчики и женщины с младенцами на руках толпились за кругом воинов. Чувствовалось, что они с большой тревогой ожидают решения главного вождя.
Агент начал терять терпение, его лицо побагровело. Я видел, что он взволнован и сердит, хотя всеми силами старается сохранить спокойствие. Он делал вид, будто не замечает Оцеолу, хотя не было сомнений, что в этот момент он только о нем и думает. Продолжая беседовать с генералом, он искоса поглядывал на молодого вождя.
Это продолжалось недолго. Агент окончательно потерял терпение и обратился к переводчику:
— Скажите Онопе, что совет ждет его решения.
Переводчик выполнил приказание.
— Скажу только одно, — ответил молчаливый вождь вождей, не соизволив даже подняться с места. — Я доволен местом, где живу, и не покину родные края.
В ответ на это заявление раздался взрыв одобрительных восклицаний со стороны патриотов. Быть может, это была самая зажигательная речь, когда-либо произнесенная старым Онопой. С этой минуты он действительно стал королем и мог неограниченно повелевать своим народом.
Я взглянул на вождей. Улыбка осветила мягкие черты Холата-мико, угрюмое лицо Хойтл-мэтти сияло радостью, Аллигатор, Облако и Арпиуки пришли в неистовый восторг и даже толстые губы негра Абрама поднялись над деснами, открыв двойной ряд белых, как слоновая кость, зубов в торжествующей усмешке. Братья Оматла и их партия стали чернее тучи. Мрачные взоры выдавали их недовольство, было очевидно, что все они сильно встревожились. И не без основания: до сих пор их только подозревали в измене, теперь же их предательство стало очевидно. Счастье их, что форт Кинг находился рядом, что все это произошло на глазах вооруженных солдат. Американские штыки могли понадобиться изменникам для защиты от разгневанного народа!
Агент окончательно вышел из себя. Он утратил всякое достоинство официального представителя и разразился яростными восклицаниями, угрозами и язвительными насмешками. Он называл вождей по именам и обвинял их во лжи и коварстве. Онопу он обвинял в том, что тот подписал Оклавахский договор. Когда же Онопа стал отрицать это, агент заявил, что он лжет. Даже дикарь не счел нужным отвечать на столь грубое обвинение, а отнесся к нему с молчаливым презрением. Излив изрядное количество желчи на многих вождей, агент обратился к одному из воинов, стоявших впереди, и пронзительно, яростно заорал:
— Это все вы натворили, вы, Пауэлл!
Я вздрогнул и огляделся кругом, чтобы узнать, к кому относились эти слова, кого агент назвал этим именем.
Взгляд и жест агента помогли мне. Угрожающе вытянув руку, он указывал на молодого вождя Оцеолу. Меня как будто осенило. Смутные воспоминания уже всплывали в моем сознании. Мне показалось, что через слой ярко-красной краски я различал черты, которые видел когда-то раньше.
Теперь я припомнил все. В молодом индейце-герое я узнал друга детства, спасителя сестры, брата Маюми!
Глава 29
УЛЬТИМАТУМ
Да, Пауэлл и Оцеола — это одно и то же лицо. Как и следовало ожидать, мальчик превратился в цветущего мужчину, в героя! Под влиянием нахлынувших чувств — дружбы в прошлом и восхищения в настоящем — я готов был броситься к нему в объятия, но удержался, сознавая, что сейчас не место и не время для излияния дружеских чувств. Этикет и чувство долга не позволяли сделать этого. Я изо всех сил старался не показать вида и сохранить хладнокровие, хотя не мог оторвать глаз от того, кем восхищался теперь еще больше.
Размышлять было некогда. Тишина, наступившая после крика агента, была нарушена, и нарушил ее сам Оцеола. Видя, что все взгляды устремлены на него, молодой вождь выступил шага на два вперед и встал перед агентом. Испытующий взор его был не суров, но тверд.
— Вы, кажется, обратились ко мне? — спросил он тоном, в котором не чувствовалось ни волнения, ни гнева.
— А к кому же еще? — резко возразил агент. — Я назвал вас по имени — Пауэлл.
— Но меня зовут не Пауэлл.
— Как — не Пауэлл?
— Нет! — ответил индеец, возвышая голос и вызывающе глядя на агента. — Вы можете называть меня Пауэллом, если вам это нравится, вы, генерал Уайли Томпсон, — продолжал он, медленно и с насмешкой произнося полное военное звание агента. — Но знайте, сэр, что я презираю имя, данное мне белыми. Я — сын своей матери[88], и мое имя Оцеола.
Агенту потребовалось большое усилие воли, чтобы сдержать свою ярость. Насмешка над его плебейской фамилией задела его за живое: Оцеола достаточно хорошо знал английский язык, чтобы понять, что «Томпсон» имя отнюдь не аристократическое. Его сарказм попал прямо в цель.
Агент был настолько взбешен, что, будь это в его власти, он приказал бы тут же на месте казнить Оцеолу. Но такой властью он не обладал. Кроме того, рядом стояли триста вооруженных индейцев — целый отряд, и каждый из них держал в руках винтовку. Агент понимал, что американское правительство не очень-то похвалит его за такую неуместную раздражительность. Даже Ринггольды — хотя они и были его близкими друзьями и советчиками и лелеяли в глубине души злобные планы погубить Восходящее Солнце — оказались достаточно разумными для того, чтобы не поощрять подобного образа действий. Не отвечая Оцеоле, Томпсон снова обратился к вождям.
— Хватит разговоров! — сказал он тоном начальника, усмиряющего подчиненных. — Мы уже достаточно все обсудили. Вы рассуждаете, как дети или как глупцы. Я больше не желаю вас слушать! А теперь узнайте, что говорит ваш Великий Отец и что он поручил мне передать вам. Он велел положить перед вами эту бумагу. — Тут агент вынул свернутый в трубку пергамент и развернул его. — Это Оклавахский договор. Многие из вас уже подписали его. Я прошу их подойти сюда и снова подтвердить свою подпись.
— Я не подписывал договора и не подпишу его! — заявил Онопа, которого незаметно подтолкнул Оцеола, стоявший позади. — Пусть другие делают как хотят. Я не оставлю своего дома! Я не уйду из Флориды!
— И я не уйду! — решительно заявил Хойтл-мэтти. — У меня пятьдесят бочонков пороха. Пока в них останется хоть одна не вспыхнувшая пламенем крупинка, я не расстанусь со своей родной землей!
— Он высказал и мое мнение! — промолвил Холата.
— И мое! — воскликнул Арпиуки.
— И мое! — откликнулись Пошалла, Коа-хаджо, Облако и негр Абрам.
Говорили одни патриоты; изменники не сказали ни слова. Подписать договор еще раз было бы для них слишком тяжким испытанием. Они не смели подтвердить то, на что дали свое согласие в Оклавахе, и теперь, когда здесь находились все семинолы, боялись защищать договор. И они молчали.
— Довольно! — воскликнул Оцеола. Он еще не высказал своего мнения, но его речь ожидалась всеми. Взоры всех устремились на него. — Вожди сказали, что они думают, они не хотят подписать договор! Они выразили волю всей нации, и народ поддерживает их. Агент назвал нас детьми и глупцами. Ругаться не так уж трудно. Мы знаем, что среди нас есть и глупцы и дети. А что еще хуже: среди нас есть изменники! Но зато есть и мужчины, которые по своей храбрости и преданности не уступают самому агенту. Он больше не хочет говорить с нами — пусть будет так! Да и нам нечего больше сказать ему, он уже получил наш ответ. Он может оставаться или уходить… Братья! — продолжал Оцеола, повернувшись к вождям и воинам и как бы не обращая внимания на белых. — Вы поступили правильно. Вы высказали волю нации, и народ одобряет это. Это ложь, что мы хотим оставить нашу родину и уйти на Запад! Те, кто говорит так, — обманщики! Они повторяют чужие слова. Мы вовсе не стремимся в ту обетованную землю, куда нас собираются отправить. Она далеко не так прекрасна, как наша земля. Это дикая, бесплодная пустыня. Летом там пересыхают ручьи, трудно найти воду, и охотники умирают от жажды. Зимой листья опадают с деревьев, снег покрывает землю, и она промерзает насквозь. Холод пронизывает тела людей — они дрожат и погибают в страданиях. В этой стране вся земля как будто мертвая. Братья! Мы не хотим жить на этой ледяной земле, мы любим нашу родину. Когда нас опаляет зноем, мы находим прохладу в тени дуба, высокого лавра или благородной пальмы. Неужели мы покинем страну пальм? Нет! Мы жили под защитой ее тени, под ее тенью мы и умрем!
С первой минуты появления Оцеолы и до этих заключительных слов волнение среди слушателей все возрастало. Действительно, вся сцена производила такое сильное впечатление, что трудно передать его словами. Только художник мог бы воспроизвести эту картину.
Поистине это было волнующее зрелище: взбешенный агент, с одной стороны, и спокойные вожди — с другой. Это был яркий контраст чувств. Женщины предоставили своим голым младенцам прыгать на траве и забавляться цветами, а сами вместе с воинами столпились вокруг совета, прислушиваясь с напряженным, хотя и скрытым интересом. Они ловили каждый взгляд, каждое слово Оцеолы. Он смотрел на них спокойно и серьезно — мужественный, гибкий, статный воин. Его тонкие, крепко сжатые губы свидетельствовали о непреклонной решимости. Его осанка была уверенной и благородной, но не надменной. Держался он спокойно и с достоинством. Говорил он кратко и выразительно и, окончив речь, стоял в молчаливом спокойствии, высоко подняв голову и сложив руки на груди. Но он сразу загорался, как от удара электрического тока, когда агент высказывал какую-нибудь мысль, которую Оцеола считал лживой или сознательно извращающей правду. В такие моменты словно молния сверкала в его гневном взоре, презрительная улыбка кривила губы, он яростно топал ногой, жестикулировал, сжимал кулаки. Грудь его тяжело вздымалась, словно бурные волны океана, когда бушует ураган. А затем он снова погружался в меланхолическое безмолвие и застывал в той позе спокойствия и безмятежности, которую античные скульпторы любили придавать богам и героям Греции.
После речи Оцеолы положение стало критическим. Терпение агента истощилось. Пришло время предъявить ультиматум, на который его уполномочил президент. Не смягчая своего грубого тона, он перешел к угрозам:
— Вы не хотите подписать договор, вы не желаете уйти? Прекрасно! В таком случае, я заявляю, что вы должны будете уйти! Иначе вам будет объявлена война! На вашу землю вторгнутся войска! Штыки заставят вас покинуть ее!
— Вот как! — воскликнул Оцеола с презрительным смехом. — Тогда пусть будет по-вашему. Пусть нам объявят войну! Мы любим мир, но не боимся войны! Мы знаем, что вы сильны, что вы превосходите нас численностью на целые миллионы! Но даже будь вас еще больше, вы все равно не заставите нас примириться с несправедливостью. Мы решили лучше умереть, чем вынести этот позор! Пусть нам будет объявлена война! Пошлите свои войска в нашу страну, но не думайте, что вам удастся вытеснить нас отсюда так легко, как вы воображаете. Против ваших винтовок у нас есть ружья, от ваших штыков мы будем защищаться томагавками, вашим накрахмаленным солдатам придется лицом к лицу встретиться с воинами семинолов! Пусть будет объявлена война! Мы готовы к ее бурям! Град сбивает со стеблей цветы, а крепкий дуб поднимает свою крону к небу, навстречу буре, несокрушимый и неодолимый!
При этих пламенных словах из груди индейцев вырвался крик, в нем ясно чувствовался вызов. Совет пришел в смятение — все было на грани катастрофы. Некоторые вожди, возбужденные призывом Оцеолы, вскочили и стояли опустив глаза, гневно и угрожающе подняв руки.
Офицеры заняли свои места и тихо отдали солдатам приказ приготовиться. Между тем видно было, как артиллеристы встали у орудий и на бастионах уже показался голубой дымок зажженных фитилей. Однако подлинной опасности еще не было. Ни та, ни другая сторона не приготовилась к вооруженному столкновению. Индейцы явились на совет без враждебных намерений, иначе они оставили бы дома жен и детей. Пока семьи были с ними, они не напали бы на белых, а белые не решились бы напасть первые без серьезного повода. То, что происходило сейчас, было лишь результатом мгновенно вспыхнувшего волнения, которое, однако, быстро улеглось, и вновь наступило спокойствие.
Агент сделал все, что было в его силах, но ни угрозы, ни лесть не оказали никакого воздействия. Он видел, что планы его рушились.
Но не все еще было потеряно. Нашлись умные головы, которые понимали это: то были проницательный, старый воин Клинч и хитрые Ринггольды. Они подошли к агенту и посоветовали ему прибегнуть к иной тактике.
— Дайте индейцам время подумать, — предложили они. — Назначьте еще одно совещание на завтра. Пусть вожди тайно соберутся и обсудят все дела между собой, а не так, как сейчас, в присутствии всего племени. После более спокойного обсуждения они, не опасаясь воинов, может быть, и примут иное решение. Особенно теперь, когда они знают, что их ждет.
— А может быть, — добавил Аренс Ринггольд, который, при всех своих отрицательных качествах, обладал способностями ловкого дипломата, — враждебные нам вожди и не останутся на завтрашнее совещание. Но вам ведь и не нужны все подписи!
— Правильно, — сказал агент, ухватившись за эту мысль. — Правильно. Так и следует поступить.
После этого краткого заключения он снова обратился к совету вождей.
— Братья! — заговорил он прежним льстивым тоном. — Ибо, как сказал храбрый Холата, все мы братья. Зачем же нам ссориться и расставаться врагами? Ваш Великий Отец огорчится, узнав, что мы так расстались. Я вовсе не хочу, чтобы вы поспешно решали этот важнейший вопрос. Вернитесь в свои палатки, соберите собственный совет и обсудите дело между собой, свободно и дружелюбно. Давайте снова встретимся завтра — один лишний день для обеих сторон ничего не значит. Тогда вы мне и сообщите ваше решение, а пока мы останемся друзьями и братьями!
На это предложение некоторые из вождей ответили, что это «хорошие слова» и что они согласны. Затем все начали расходиться. Однако я заметил, что единодушия у них не было. Согласились главным образом вожди из партии Оматлы. Патриоты же во всеуслышание заявляли, что они уйдут и больше не вернутся.
Глава 30
РАЗГОВОР ЗА СТОЛОМ
За офицерским столом во время обеда я узнал много нового. Когда льется вино, языки развязываются, а под влиянием шампанского самый благоразумный человек превращается в болтуна.
Агент не скрывал ни собственных планов, ни намерений президента. Впрочем, большинство уже догадывались о них.
Неудачи сегодняшнего дня несколько омрачали его настроение. Больше всего агента огорчала мысль, что померкнет его слава дипломата. Прослыть искусным дипломатом — вот чего страстно домогаются все агенты правительства Соединенных Штатов! Кроме того, агент был уязвлен пренебрежительным отношением к нему Оцеолы и других вождей. Ибо хладнокровные, сдержанные индейцы презирают вспыльчивых и необдуманно действующих людей, а он как раз и проявил эти качества на сегодняшнем совете и дал индейцам повод презирать его за эту слабость. Он чувствовал себя побежденным, униженным, и в груди у него кипела ненависть ко всем краснокожим. Но он льстил себя надеждой, что завтра заставит их почувствовать силу своего гнева. Он покажет им, что может быть твердым и смелым даже в порыве ярости. Все это он заявил нам хвастливым тоном, когда вино подняло его настроение и он развеселился.
Что касается офицеров, то они мало интересовались подробностями этого дела и почти не принимали участия в обсуждении. В своих догадках они касались только возможности вооруженного столкновения. Будет или не будет война? Этот вопрос вызывал жгучий интерес у рыцарей меча. Я слышал, как многие хвалились нашим превосходством, пытаясь при этом умалить мужество и храбрость своего будущего противника. Им возражали ветераны войн с индейцами, но их было мало за нашим столом.
Нечего и говорить, что предметом оживленных споров являлся и сам Оцеола. Мнения, высказанные о молодом вожде, были столь же противоположны, как порок и добродетель. Некоторые называли его «благородным дикарем», но большинство держались другого взгляда, что меня удивило. Слышались такие эпитеты, как «пьяный дикарь», «вор», «обманщик».
Я рассердился, ибо не мог поверить этим обвинениям. Тем более что многие из тех, кто обвинял Оцеолу, сравнительно недавно прибыли в наши края. Они-то уж, во всяком случае, не могли знать прошлое человека, которого так чернили.
Ринггольды, конечно, присоединились к клеветникам. Они хорошо знали молодого вождя, но я понял их тайные побуждения. Я чувствовал, что должен сказать что-нибудь в защиту того, о ком шел разговор, по двум причинам: во-первых, его здесь не было, а во-вторых, он спас мне жизнь. Несмотря на то, что за столом собралось высокопоставленное общество, я не в силах был промолчать.
— Господа! — начал я достаточно громко, чтобы меня услышали все присутствующие. — Есть ли у вас какие-нибудь доказательства, которые подтвердили бы справедливость ваших обвинений против Оцеолы?
Наступило неловкое молчание. Доказать, что Оцеола занимался пьянством, кражей скота и обманом, никто не мог.
— Ara! — наконец воскликнул Аренс Ринггольд своим резким, скрипучим голосом. — Значит, вы, лейтенант Рэндольф, защищаете его?
— Пока вы не приведете мне более веских доказательств, чем голословное утверждение, что он недостоин защиты, я буду стоять за него.
— Их нетрудно найти! — крикнул один из офицеров. — Всем известно, что он занимается кражей скота.
— Вы заблуждаетесь, — возразил я самоуверенному оратору. — Мне, например, об этом ничего не известно. А вам?
— Да нет, я лично, признаюсь, тоже этого не наблюдал, — ответил офицер, несколько сконфуженный моим внезапным допросом.
— Если уж речь зашла о краже скота, господа, то я могу рассказать вам забавный случай, имеющий непосредственное отношение к теме нашего разговора. Если разрешите, я расскажу вам.
— О, конечно, безусловно мы готовы послушать!
Я кратко изложил эпизод с кражей скота адвоката Грабба, опустив, конечно, все имена.
Мой рассказ вызвал некоторую сенсацию. Я видел, что он произвел впечатление на генерала; агент же был явно раздражен. Я чувствовал, что его гораздо больше устроило бы, если бы я держал язык за зубами.
Самое большое впечатление мой рассказ произвел на Ринггольдов — отца и сына. Оба побледнели и встревожились. Кроме меня, пожалуй, никто не заметил этого, но мне стало ясно, что они знают больше, чем я.
Затем все начали говорить о том, сколько беглых негров может скрываться между индейцами и может ли их помощь оказаться существенной в случае вооруженного столкновения. Это был серьезный вопрос. Все знали, что в резервации обосновалось много негров и мулатов: одни в качестве земледельцев, другие в качестве скотоводов. Немало их бродило по саваннам и лесам с винтовкой в руке, целиком отдавшись настоящей жизни вольного индейского охотника. Были высказаны различные мнения: одни предполагали, что их наберется около пятисот человек, а другие считали, что не меньше тысячи. Негры все до единого человека будут против нас — с этим все согласились единодушно. Здесь не могло быть двух мнений!
Некоторые считали, что негры будут драться плохо, другие — что храбро. Последнее предположение было гораздо ближе к истине. Все соглашались, что негры окажут большую помощь противнику и доставят нам уйму хлопот. А некоторые даже утверждали, что мы должны больше опасаться «беглецов» черных, чем красных. Это был своеобразный каламбур[89].
Не могло быть сомнений, что в предстоящей борьбе негры возьмутся за оружие и что они будут решительно действовать против нас. Знание «обычаев» белых делало их опасными противниками. Кроме того, негры не трусы, им часто представлялся случай доказать свою храбрость. Поставьте негра лицом к лицу с настоящим врагом — из плоти, кости и крови, вооруженным винтовкой и штыком, — и он не будет увиливать от опасности. Другое дело, если враг бестелесный и принадлежит к миру злого бога Обеа. В душе необразованных детей Африки очень сильны суеверия. Они живут в мире призраков, вампиров и домовых, и их ужас перед этими сверхъестественными существами есть подлинная трусость.
Во время этого разговора о неграх я не мог не обратить внимание на то озлобление, которое проявляли мои собеседники, особенно плантаторы, в штатском облачении. Некоторые выражали свое негодование грубыми ругательствами, угрожая беглецам всеми возможными видами наказания в случае, если захватят их в плен. Они упивались возможностью захватить их в свои лапы и картинами близкой мести. Множество самых изощренных и страшных наказаний угрожало тому несчастному беглецу, которому довелось бы попасться в плен.
Вы, которые живете так далеко от этого мира страстей, не можете понять отношений, существующих в Америке между белыми и цветными. В обычных условиях между ними нет острой враждебности — наоборот! Белый довольно добродушно относится к своему цветному «брату», но только до тех пор, пока последний ни в чем не проявляет своей воли. При малейшем же сопротивлении в белом мгновенно вспыхивают враждебные чувства, правосудие и милосердие перестают существовать, и остается одна неукротимая жажда мести.
Это общее правило. Все рабовладельцы ведут себя именно так. В отдельных же случаях отношения складываются еще хуже. В Южных штатах есть белые, которые довольно дешево ценят жизнь негра — как раз по его рыночной стоимости.
Наглядной иллюстрацией этого положения является случай из биографии молодого Ринггольда, рассказанный мне накануне моим «оруженосцем» Черным Джеком. Этот юноша вместе с несколькими такими же беспутными друзьями охотился в лесу. Собаки умчались неизвестно в каком направлении и так далеко, что их уже не было слышно. Погоня была бесполезна; всадники остановились, соскочили с седел и привязали лошадей к деревьям. Лая гончих долго не было слышно, и охотникам стало скучно. Они начали раздумывать, как бы им повеселее провести время.
Неподалеку от них колол дрова мальчик-негр, один из рабов с соседней плантации. Все они знали мальчика очень хорошо.
— Давайте устроим забаву с этим черномазым, — предложил один из охотников.
— Какую забаву?
— Да возьмем и повесим его ради шутки!
Предложение, конечно, вызвало общий смех.
— Шутки в сторону! — заметил первый. — Я давно хотел узнать, как долго может негр висеть, не умирая. Это очень интересно.
— И я тоже, — присоединился другой.
— Ну и я не прочь! — добавил третий.
Предложение понравилось всем и показалось весьма занятным.
— Давайте только сначала устроим над ним суд! Лучше начать с этого, — предложил кто-то.
Итак, стали судить негра. Я рассказываю подлинное происшествие!
Несчастного мальчика схватили, накинули ему на шею петлю и вздернули на сук. В этот момент свора гончих выгнала на поляну оленя. Охотники бросились к лошадям и в суматохе забыли перерезать веревку, на которой висела жертва их дьявольской забавы. Один надеялся на другого, и все, в общем, забыли это сделать. Когда охота кончилась и они вернулись назад, негр все еще висел на суку — он был мертв!
Было произведено судебное следствие, скорее настоящая пародия на следствие! Судьи и присяжные были родственниками преступников. И приговор гласил: уплатить стоимость негра. Владелец негра остался вполне доволен ценой, а правосудие было, или, по-видимому, было, удовлетворено. Сам Джек слышал, как сотни белых христиан, узнавших об этом подлинном факте, от души потешались над такой замечательной шуткой. Об этом часто рассказывал и сам Аренс Ринггольд.
На другом берегу Атлантического океана вы воздеваете руки к небу и восклицаете: «Какой ужас!» Вы убеждены в том, что у вас нет рабов и нет подобных зверств. Вы жестоко ошибаетесь! Я рассказал вам исключительный случай, где речь шла об одной жертве. Страна работных домов и тюрем![90] Имя твоим жертвам — легион!
Христианин, ты улыбаешься! Ты выставляешь напоказ свое сострадание. Но ведь ты сам создал нищету, которая вызывает в тебе это сострадание к ближнему. Ты всецело поддерживаешь и с легким сердцем приемлешь систему общества, которая порождает человеческие страдания. И хотя ты пытаешься успокоить себя, объясняя преступления и нищету естественными законами природы, но против природы нельзя выступать безнаказанно.
Напрасно вы будете пытаться ускользнуть от личной ответственности! Вы ответите перед лицом высшей справедливости за каждую пролитую слезу, за каждую язву на теле ваших жертв!
* * *
Разговор о беглых рабах, естественно, заставил меня вспомнить о другом, более таинственном происшествии, случившемся со мной накануне. Я упомянул о нем, и все попросили меня рассказать подробнее. Я выполнил их просьбу, конечно не допуская и мысли, чтобы покушаться на мою жизнь мог Желтый Джек. Многие из участников обеда знали историю мулата и обстоятельства его смерти.
Но меня удивило одно: почему, когда я произнес его имя и при этом рассказал о торжественном заверении моего черного оруженосца, — почему же Аренс Ринггольд вдруг побледнел, вздрогнул и, наклонившись к отцу шепнул ему что-то на ухо.
Глава 31
ВОЖДИ-ИЗМЕННИКИ
Вскоре после этого я вышел из-за стола и отправился прогуляться по форту.
Солнце уже зашло. Был отдан приказ не покидать пределов форта, но это относилось только к солдатам. Поэтому я решил выйти за ворота.
Тайный зов сердца увлекал меня вперед. В индейском лагере были жены вождей и воинов, их сестры и дочери… Почему бы и ей не прийти сюда вместе с остальными?
Внутренний голос говорил мне, что она здесь, хотя я и напрасно искал ее в течение целого дня. Ее не было среди женщин, которые толпились на совете: я внимательно вглядывался во все женские лица и не пропустил ни одного.
Я решил отправиться в лагерь семинолов. Там я найду палатку Оцеолы, там могу встретить и Маюми!
Пойти в индейский лагерь сейчас неопасно, так как даже враждебные вожди еще были с нами в мире, а Пауэлл, разумеется, по-прежнему оставался моим другом. Он защитил бы меня от всех опасностей и оскорблений. Я испытывал страстное желание пожать руку молодому воину — причина сама по себе достаточная, чтобы искать с ним встречи. Мне хотелось пробудить в нем дружеское доверие прошлых лет, поговорить о милых сердцу временах, вспомнить счастливые дни безмятежной юности. Я надеялся, что суровый долг вождя и полководца еще не ожесточил его мягкое и отзывчивое сердце. Несправедливости, причиняемые белыми, несомненно озлобили и восстановили его против нас (и совершенно заслуженно!), но все же я не боялся, что гнев его обрушится на меня. Как бы то ни было, я решил отыскать его и еще раз протянуть ему руку дружбы.
Я собирался уже тронуться в путь, как вдруг вестовой передал мне приказание генерала немедленно явиться в штаб.
Я был огорчен, но делать нечего — приказу надо повиноваться!
В штабе находились агент и высшие офицеры, а также Ринггольды и еще несколько штатских, которые считались важными лицами.
Войдя, я увидел, что у них происходило совещание, на котором обсуждался разработанный ими план действий.
— План превосходный, — сказал генерал Клинч, обращаясь к остальным, — но как нам встретиться с Оматлой и Черной Глиной? Если мы пригласим их сюда, то это вызовет подозрение: они не могут проникнуть в форт незамеченными.
— Генерал Клинч, — сказал Ринггольд-старший, самый хитрый дипломат из присутствующих, — а что, если бы вы и генерал Томпсон встретились бы с дружественными вождями за пределами форта…
— Совершенно верно, — прервал его агент, — и я уже позаботился об этом. Я послал человека к Оматле, чтобы узнать, где мы можем встретиться с ним тайно. Конечно, удобнее всего встретиться на нейтральной почве… Но вот он вернулся, я слышу его шаги.
В этот момент вошел один из переводчиков, участвовавших в совещании. Он прошептал на ухо агенту несколько слов и удалился.
— Все в порядке, господа! — объявил агент. — Оматла встретит нас через час вместе с Черной Глиной. Местом свидания они назначили Болотистый овраг, к северу от форта. Мы можем пройти туда незаметно. Итак, идем, генерал?
— Я готов, — ответил Клинч, накидывая на плечи плащ. — Но как быть с переводчиками, генерал Томпсон? Можно ли доверить им такую важную военную тайну?
Агент, видимо, колебался.
— Это, может быть, и неразумно, — ответил он как бы в раздумье.
— Ничего, ничего, — успокоил его Клинч. — Я думаю, что мы обойдемся и без них… Лейтенант Рэндольф, — обратился он ко мне, — вы свободно владеете языком семинолов?
— Не вполне свободно, генерал, но объясниться могу.
— Переводить сможете?
— Думаю, что да, генерал.
— Отлично. Тогда вы отправитесь с нами.
Это нарушало все мои планы. Однако, подавив чувство досады, я молча повиновался и последовал за агентом и генералом, который скрыл свои знаки различия под плащом и надел простую офицерскую фуражку.
Мы вышли из ворот и, минуя форт, повернули к северу. Лагерь индейцев находился на юго-западе. Их палатки были разбросаны вдоль края широкой полосы леса, простиравшейся на север. Другой лес был отделен от него саванной и прогалинами, поросшими высокими соснами. Здесь-то и находился Болотистый овраг. Он был в полумиле от форта. Благодаря темноте мы дошли туда никем не замеченные. Когда мы прибыли, вожди уже ожидали нас. Они стояли под тенью деревьев у края пруда.
Я приступил к своим обязанностям, даже и не подозревая, что они окажутся столь неприятными.
— Спросите Оматлу о численности его племени, племени Черной Глины и других вождей, стоящих на нашей стороне.
Я перевел этот вопрос.
— Эти племена составляют одну треть всех семинолов, — последовал ответ.
— Скажите, что дружественно настроенным вождям будет выдано десять тысяч долларов по прибытии на Запад. Эту сумму они могут разделить между собой как пожелают. Она будет уплачена независимо от денежного пособия, которое получит все племя.
— Хорошо, — одновременно проворчали вожди, когда им разъяснили сущность этого предложения.
— Как думают Оматла и его друзья: будут ли завтра на совещании все вожди?
— Нет, не все.
— А кого же не будет?
— Мико-мико не придет.
— Вот как! Уверен ли Оматла в этом?
— Да, уверен. Онопа свернул свои палатки и уже покинул лагерь.
— Куда он ушел?
— Назад, в свое поселение.
— А его люди?
— Большинство из них ушли с ним.
Несколько минут оба генерала шепотом переговаривались между собой, но я не слышал их разговора. По-видимому, они были весьма удовлетворены этими важными сведениями.
— А какие еще вожди могут завтра не явиться?
— Только вожди племени Красные Палки.
— А Хойтл-мэтти?
— Нет, он здесь, и он останется.
— Спросите их, как они думают: будет ли завтра на совещании Оцеола?
По тому, с каким напряжением оба генерала ожидали ответа, я понял, что это интересовало их больше всего.
— Что? Оцеола? — воскликнули вожди. — Конечно, Восходящее Солнце придет непременно. Он хочет знать, чем все это кончится.
— Отлично! — невольно вырвалось у агента, и он снова принялся шептаться с генералом.
На этот раз я расслышал, о чем они говорили.
— По-видимому, само провидение помогает нам. Я почти уверен, что мой план осуществится. Одно слово может довести неосторожного индейца до вспышки гнева, а может быть, и похуже… И я легко найду предлог арестовать Оцеолу. Теперь, когда Онопа со своими приверженцами удалился, мы можем смело глядеть в глаза любым неожиданностям. Примерно половина вождей стоит за нас, так что остальные мерзавцы вряд ли окажут сопротивление.
— О, этого нечего бояться! — заявил генерал Клинч.
— Ну и прекрасно! Раз он окажется в наших руках, всякое сопротивление будет сломлено. Остальные сразу уступят. Ведь именно он запугивает их и не дает подписать договор.
— Верно, — задумчиво произнес Клинч. — Но как правительство? Kaк вы думаете, одобрит ли оно подобный образ действий?
— Полагаю, что да. Должно одобрить, во всяком случае. В последней инструкции президента есть намеки в этом роде. Если вы согласны действовать, я принимаю весь риск на себя.
— Тогда я готов подчиняться вашим распоряжениям, — отвечал командующий, который, по-видимому, был склонен одобрить план агента, но отнюдь не склонен был разделить с ним ответственность. — Мой долг — выполнять волю правительства! Я готов сотрудничать с вами.
— Значит, все ясно. Все будет, как мы хотим… Спросите вождей, — обратился Томпсон ко мне, — не побоятся ли они подписать договор завтра?
— Подписать они не боятся, но боятся того, что последует дальше.
— А что последует дальше?
— Они боятся нападения со стороны враждебной партии. Они опасаются за свою жизнь.
— Что же мы можем сделать для их защиты?
— Оматла говорит, что они спасутся, если вы дадите им возможность уехать к их друзьям в Таллахасси[91]. Там они пробудут до самого переселения. Они дают слово явиться к вам в Тампу[92] или туда, куда вы их вызовете.
Два генерала снова начали шепотом совещаться. Это неожиданное предложение необходимо было обсудить.
Оматла тем временем добавил:
— Если нам нельзя будет отправиться в Таллахасси, мы не можем… мы не смеем оставаться здесь, среди своих. Тогда мы должны искать убежища в форте.
— Что касается вашего отбытия в Таллахасси, — ответил агент, — то мы рассмотрим этот вопрос и дадим вам ответ завтра. А пока что вам нечего опасаться. Это главный военный вождь белых, он защитит вас!
— Да, — сказал Клинч, приосанившись. — Мои воины многочисленны и сильны. Их много в форте и еще больше в пути сюда. Вам нечего бояться.
— Это хорошо, — ответили вожди. — Если нам придется плохо, мы будем искать у вас защиты. Вы обещали ее нам — это хорошо!
— Спросите вождей, — обратился ко мне агент, которого осенила новая мысль, — не знают ли они, явится завтра на собрание Холата-мико?
— Сейчас мы этого не знаем. Холата-мико не открыл своих намерений. Но скоро мы это узнаем. Если он собирается остаться, то до восхода солнца его палатки не будут свернуты. Если нет — то они будут убраны до заката луны. Луна заходит, и мы скоро узнаем, уйдет он или останется.
— Палатки вождей видны из форта?
— Нет. Они скрыты за деревьями.
— Вы сможете сообщить нам о Холата-мико?
— Да, но только на этом же месте. В форте наш посланец будет замечен. Мы можем вернуться сюда сами и встретить одного из вас.
— Правильно, так будет лучше, — ответил агент, довольный ходом событий.
Прошло несколько минут. Оба генерала продолжали шепотом совещаться. Вожди стояли в стороне, неподвижные и молчаливые, как статуи. Наконец генерал Клинч обратился ко мне:
— Лейтенант! Вы подождете здесь возвращения вождей. С ответом явитесь прямо ко мне в штаб.
Последовал обмен поклонами. Два американских генерала отправились к себе в форт, а индейские вожди исчезли в противоположном направлении.
Я остался один.
Глава 32
ТЕНИ НА ВОДЕ
Я остался наедине со своими мыслями. Мысли эти были окрашены чувством горечи. Виной тому было несколько причин. Мои радужные планы были разрушены, мое сердце жаждало вернуться к светлым и тихим радостям дружбы, но меня раздирали сомнения, меня мучили неопределенность и неизвестность.
Смятение мое усугублялось и другими чувствами. Роль, которую мне надо было играть, казалась мне отвратительной. Я сделался орудием коварства и зла, мне пришлось начинать свою военную карьеру с участия в заговоре, основанном на подкупе и измене. И хотя я действовал не по своей воле, я чувствовал всю постыдность своих обязанностей и выполнял их с непреодолимым отвращением.
Даже прелесть тихой ночи не успокаивала меня. Мне казалось, что к моему настроению больше подошла бы буря.
И все-таки это была удивительная ночь! Земля и воздух застыли в безмолвном покое. Порой по небу проносились белые перистые облачка, но они были так прозрачны, что закрывали лунный диск лишь легкой серебряной дымкой, и он лил на лес свой яркий свет, не теряя ни одного ослепительного луча. Блистательное великолепие лунного света, отражаясь от глянцевитых листьев лавров, преображало весь лес, в нем как будто сверкали миллионы зеркал. Особый эффект этой картине придавали светляки. Они целыми тучами летали под тенью деревьев и освещали темные своды леса разноцветными искрами — алыми, синими, золотыми… Они носились то вверх, то вниз, то прямо, то кружась, как бы двигаясь в лабиринте какого-то сложного танца.
Среди этого сверкающего великолепия лежало маленькое озеро, тоже блиставшее, как зеркало, в резной прямоугольной оправе.
Воздух был напоен сладчайшими благоуханиями. Ночь была довольно свежая, но не холодная. Многие цветы не закрыли свои венчики — не все они были помолвлены с солнцем, некоторые из них дарили свои ароматы луне. Кругом цвели сассафрас и лавры, и их запах, смешиваясь с запахом аниса и апельсина, наполнял воздух восхитительным ароматом.
Всюду царила тишина, но это не было безмолвие. Южные леса ночью никогда не бывают безмолвны. Древесные лягушки и цикады начинают свой пронзительный концерт вскоре после захода солнца, а прославленный певец американских лесов — пересмешник лучше всего поет при лунном свете. Один из них сидел на высоком дереве у края озера и как будто старался развеять мою грусть самыми разнообразными мелодиями.
Я слышал и другие звуки: гул солдатских голосов из форта, сливавшийся с отдаленным шумом в индейском лагере. Иногда кто-то громко нарушал монотонную тишину бранью, восклицанием или смехом.
Не знаю, сколько времени прождал я возвращения индейцев — час, два или больше. Я определял время по движению луны. Индейцы сказали, что Холата либо покинет лагерь раньше, чем зайдет сияющий диск луны, либо останется. Часа через два все выяснится, и я буду свободен. Мне пришлось весь день пробыть на ногах, и я устал до полусмерти. Среди обломков скалы у самого озера я отыскал камень поудобнее и опустился на него.
Я устремил взгляд на озеро. Половина его лежала в тени, на другую падали серебряные лунные лучи и, пронизывая прозрачную воду, освещали ее так, что видны были белые раковины и светлая галька на дне. Вдоль линии, где встречались свет и тьма, вырисовывались силуэты благородных пальм. Их высокие стволы и пышные кроны, казалось, уходили далеко вниз, к самым глубинам земли, как будто они принадлежали к другому, более блистательному небосводу, лежащему у моих ног. Пальмы, отраженные в воде, росли на холмистом гребне, который простирался вдоль западного берега озера и заслонял лунный свет.
Некоторое время я сидел, глядя на это подобие небосвода, и глаза мои машинально следили за огромными веерообразными верхушками пальм. Вдруг я вздрогнул, заметив на поверхности воды чье-то отражение. Этот образ, или, скорее, тень, внезапно появился среди стволов пальм. Это была, очевидно, человеческая фигура, хотя и увеличенная в размерах… да, без сомнения, человеческая, но не мужская.
Маленькая, ничем не покрытая голова, изящная покатость плеч, мягкие, округлые очертания стана и длинная широкая одежда, складками ниспадавшая на землю, — все это убедило меня, что передо мной женщина. Когда я впервые заметил ее, она шла между рядами пальм. Вскоре она остановилась и несколько секунд стояла неподвижно. Тогда-то я и заметил, что это женщина. Моим первым побуждением было повернуться и взглянуть на ту, чье отражение было так привлекательно. Я находился на западной стороне озера, и холмы простирались позади меня, так что я не мог видеть ни их вершин, ни пальм. Даже поднявшись с места, я все равно ничего не мог заметить, потому что огромный дуб, под которым я сидел, заслонял мне весь вид. Я быстро сделал несколько шагов в сторону и увидел вершины холмов и пальмы. Но женщина скрылась. Я пристально оглядывал холмы, но там никого не было. Я видел только веерообразные кроны пальм. Затем я снова вернулся на свое место и стал глядеть на воду. Пальмы так же отражались в воде, но отражение женщины исчезло.
В этом не было ничего удивительного. Я решил, что это не галлюцинация. Просто кто-то был на холме — очевидно, женщина — и сошел вниз, под тень деревьев. Это было естественное объяснение, и я им удовлетворился.
В то же время безмолвный призрак не мог не возбудить во мне любопытства, и вместо того чтобы сидеть, отдаваясь мечтательным размышлениям, я встал, озираясь кругом и напряженно прислушиваясь.
Кто могла быть эта женщина? Конечно, индианка. Белая женщина не могла очутиться в таком месте в такое время. Да и по одежде это, несомненно, была индианка. Что же делала она здесь одна, в этом уединенном месте?
На этот вопрос нелегко было ответить. Впрочем, тут не было ничего странного. У детей лесов время движется по-иному, не так, как у нас. Ночь, так же как и день, может быть заполнена делами и развлечениями. Ночная прогулка индианки могла иметь свою цель. Может быть, она просто вздумала выкупаться… А может быть, это влюбленная девушка, которая под сенью уединенной рощи назначила свидание своему возлюбленному…
Внезапно боль пронзила мое сердце, как отравленная стрела: «А вдруг это Маюми?»
Трудно передать словами, как неприятно подействовала на меня эта мысль. Уже весь день я находился под впечатлением тяжелого подозрения, возникшего у меня после нескольких слов, брошенных в моем присутствии одним молодым офицером. Они относились к красивой девушке-индианке, по-видимому хорошо известной в форте. В тоне молодого человека я уловил хвастливость и торжество. Я внимательно слушал каждое слово и наблюдал не только за выражением лица говорившего, но и его слушателей. Я должен был решить, к какой из двух категорий — хвастунов или победителей — я должен его отнести. Судя по собственным словам офицера, его тщеславию был нанесен удар, а его слушатели, или, во всяком случае, большинство из них, допускали, что он достиг полного счастья.
Имени девушки названо не было. Не было никаких явных намеков, но слов «индианка» и «красавица» уже было достаточно, чтобы сердце мое тревожно забилось. Конечно, я мог бы легко успокоить себя, задав офицеру простой вопрос. Но именно этого-то я и не решился сделать. Поэтому весь день я терзался неизвестностью и подозрениями. Вот почему я был вполне подготовлен к той мучительной догадке, которая промелькнула у меня, когда я увидел отражение в воде.
Но терзания мои продолжались недолго. Облегчение наступило быстро, почти мгновенно. По берегу озера проскользнула темная фигура; она появилась в ярком озарении лунного света, шагах в шести от меня. Я мог ясно рассмотреть ее. Это была женщина-индианка. Но не Маюми!
Глава 33
ХАДЖ-ЕВА
Я увидел перед собой высокую женщину средних лет, которая когда-то была красавицей, а потом подверглась бесчестию и поруганию. Она сохранила следы былой красоты, которые не могли совершенно изгладиться. Так статуя греческой богини, разбитая руками вандалов, даже в осколках сохраняет свою величайшую ценность.
Она еще не совсем утратила свое обаяние. Есть люди, которые восхищаются зрелой красотой, для них она еще могла казаться привлекательной. Время пощадило благородные очертания ее груди, ее полных, округлых рук. Я мог судить об этом, ибо весь ее стан, обнаженный до пояса, как в пору ее детства, предстал передо мной, облитый ярким лунным светом. Только черные волосы, в диком беспорядке рассыпавшиеся по плечам, немного прикрывали ее тело. Время пощадило и их: в роскошных косах, черных, как вороново крыло, не виднелось ни одной серебряной нити. Время не тронуло и ее лица. Все сохранилось — и округлость подбородка, и овал губ, и орлиный нос, с тонким, изящным изгибом ноздрей, и высокий, гладкий лоб, но глаза… Что это? Почему в них такой неземной блеск? Почему в них такое дикое, бессмысленное выражение? Ах, этот взор! Милосердное небо! Эта женщина безумна!
Увы, это было верно! Передо мной стояла сумасшедшая. Ее взгляд мог убедить даже случайного наблюдателя, что разум здесь был низвергнут с трона. Но мне не надо было смотреть ей в глаза — я знал историю всех ее несчастий. Не раз мне приходилось встречаться с Хадж-Евой[93], сумасшедшей королевой племени микосоков.
При всей ее красоте нетрудно было испугаться, даже больше того — прийти в ужас: вместо ожерелья у нее на шее была зеленая змея, а пояс вокруг талии, ярко блиставший в лунном свете, тоже оказался телом огромной извивающейся гремучей змеи.
Да, оба пресмыкающихся были живые существа: голова маленькой змеи опустилась на грудь женщине, а более опасная змея обвилась вокруг ее талии; ее хвост с погремушками висел сбоку, а между пальцами безумная держала голову змеи, глаза которой сверкали, как брильянты.
Голова Хадж-Евы не была ничем покрыта, но густые черные волосы защищали ее от солнца и ливня. На ногах у нее были мокасины, скрытые длинной «хунной», спускавшейся до земли. Это была ее единственная одежда, богато вышитая бисером, украшенная перьями зеленого попугая и отороченная перьями дикой утки и мехом хищных животных.
Я мог испугаться, если бы встретил ее первый раз в жизни. Но я видел все это раньше: зеленую змею и гремучую змею — кроталус, и длинные пряди волос, и дикий блеск безумных глаз. Все это было безопасно, безвредно — по крайней мере, для меня.
— Хадж-Ева! — позвал я, когда она подошла.
— Ие-ела![94] — воскликнула она с изумлением. — Молодой Рэндольф! Вождь бледнолицых! Ты не забыл бедную Хадж-Еву?
— Нет, Ева, не забыл. Кого вы здесь ищете?
— Тебя, мой маленький мико.
— Меня?
— Да, тебя. Не ищу, а нашла.
— А что вам от меня надо?
— Только спасти твою жизнь, твою молодую жизнь, милый мико! Твою прекрасную жизнь, твою драгоценную жизнь… Ах, драгоценную для нее, бедной лесной птички! Ах, кто-то был драгоценным и для меня давно, давно! Хо, хо, хо![95]
Зачем я поверила нежным словам И с белым бродила по темным лесам? Хо, хо, хо! Зачем обманул меня лживый язык И ядом в невинное сердце проник? Хо, хо, хо!— Тише, читта-мико![96] — воскликнула она, прерывая песню и обращаясь к змее, которая, завидев меня, вытянула шею и начала проявлять явные признаки ярости. — Тише, король змей! Это друг, хотя и в одежде врага! Тише, а не то я размозжу тебе голову!.. Ие-ела! — снова воскликнула она, как бы пораженная новой мыслью. — Я теряю время на старые песни! Он исчез, он исчез, и его не вернешь! А зачем я пришла сюда, молодой мико? Зачем пришла?
Она провела рукой по лбу, как будто стараясь что-то вспомнить.
— А, вспомнила! Халвук![97] Я напрасно теряю время! Тебя могут убить, молодой мико, тебя могут убить, и тогда… Иди, беги, беги назад в форт и запрись там, оставайся со своими людьми, не уходи от своих синих солдат… Не разгуливай по лесам! Тебе грозит опасность.
Серьезность ее тона поразила меня, и, вспоминая вчерашнее покушение на мою жизнь, я почувствовал смутную тревогу. Я знал, что у безумной бывали моменты просветления, когда она рассуждала и действовала вполне разумно и даже с удивительной ясностью сознания. Вероятно, сейчас и был один из таких моментов. Узнав о готовящемся на меня покушении, она пришла предупредить меня.
Но кто мог быть моим смертельным врагом и как могла она узнать о его замыслах?
Решив выяснить это, я сказал ей:
— У меня нет врагов. Кто может желать моей смерти?
— Говорю тебе, мой маленький мико, что у тебя есть враги. Ие-ела! Разве ты не знаешь этого?
— Но я ни разу в жизни не причинил зла ни одному индейцу!
— Индейцу? Разве я сказала — индейцу? Нет, милый Рэндольф. Ни один краснокожий во всей стране семинолов не тронет и волоска на твоей голове. А если бы такой и нашелся, то что сделал бы Восходящее Солнце? Он сжег бы его, как сжигает лесной пожар. Не бойся краснокожих. Твои враги — люди другого цвета.
— Ах, вот что! Не красные? Так кто же это?
— Есть белые, а есть и желтые.
— Что за чушь, Ева! Я не причинил вреда ни одному белому!
— Дитя! Ты ведь только маленький олененок. Видно, мать не рассказала тебе о хищных зверях, которые рыскают по лесу. Бывают такие злые люди, они становятся твоими врагами без всякой причины. Тебя хотят убить те, кому ты никогда в жизни не сделал зла.
— Но кто они? И за что?..
— Не спрашивай, дитя! Сейчас на это нет времени. Скажу тебе только одно: ты владелец богатой плантации, где негры делают для тебя синюю краску. У тебя красивая сестра, очень красивая. Разве она не похожа на лунный луч? И я когда-то была красива… так говорил он. Ах, как плохо быть красивой! Хо, хо, хо!
Зачем я поверила нежным словам, Хо, хо, хо! И с белым бродила…— Халвук! — воскликнула она и опять внезапно перестала петь. — Я сумасшедшая, но помню… Иди, уходи! Говорю тебе, уходи! Ты ведь олень, и охотники гонятся за тобой. Ступай в форт, беги, беги!
— Я не могу, Ева. У меня здесь есть дело. Я должен ждать, пока кто-нибудь не придет сюда.
— Пока кто-нибудь не придет сюда? Плохо! Скоро сюда придут они!
— Кто?
— Твои враги, те, которые хотят убить тебя. А бедная лань умрет, ее сердце изойдет кровью. Она сойдет с ума и станет такой же, как Хадж-Ева!
— О ком ты говоришь?
— Тише, тише! Поздно! Они идут! Они идут! Видишь их тени на воде?
Я взглянул в том направлении, куда указывала Ева. Действительно, над озером, там, где я раньше увидел Еву, показались какие-то тени. Это оказались мужчины, их было четверо. Они шли между пальмами вдоль холмов. Через несколько секунд тени исчезли. Видимо, люди спустились по склону и вошли в лес.
— Слишком поздно! — прошептала сумасшедшая, сознание которой в этот миг как будто окончательно прояснилось. — Тебе нельзя выходить на прогалину. Они заметят тебя… Ты должен скрыться в чаще… Сюда! — продолжала она, хватая меня за руку. Затем сильным движением она подтолкнула меня к стволу дуба. — Это твоя единственная надежда на спасение. Быстрее вверх! Спрячься там! Ни слова, пока я не вернусь! Хинклас![98]
Сказав это, моя странная советчица отступила в тень деревьев, проскользнула в чащу и скрылась из виду. Я последовал ее указанию, влез на дуб и, примостившись на огромном суку, спрятался для безопасности за гирляндами серебристой тилландсии. Свисая с ветвей, они образовали вокруг подобие прозрачного занавеса, который делал меня совершенно невидимым. А сам я сквозь густую листву видел озеро — по крайней мере, ту часть, которая была освещена луной.
Сначала мне показалось, что я играю очень нелепую роль.
Вся эта история с врагами, угрожающими моей жизни, могла быть просто безумной фантазией помраченного сознания. А люди, чьи тени я видел, может быть, и были теми индейцами, которых я ожидал. Не найдя меня на условленном месте, они, пожалуй, уйдут обратно. С каким же докладом я явлюсь тогда к генералу? Все это было и смешно и нелепо, но для меня могло кончиться весьма печально. Поразмыслив, я уже готов был спуститься на землю и рискнуть показаться пришельцам, кто бы они ни были, но вдруг сообразил, что вождей было только двое, а теней четыре! И я решил пока остаться в укрытии.
Конечно, вождей могли сопровождать их воины для охраны, что было не лишним, принимая во внимание предательский характер их миссии. Но, несмотря на то что тени двигались быстро, я успел рассмотреть, что это не индейцы. На них не было ни длинных одежд, ни уборов из перьев на голове. Мне даже показалось, что на них надеты шляпы, которые носят белые. Последнее соображение заставило меня подчиниться приказанию Хадж-Евы. Да и другие обстоятельства укрепляли меня в этом решении: странные утверждения индианки, ее осведомленность в событиях, таинственные намеки на хорошо известных мне лиц и на вчерашнее происшествие. Обдумав все это, я решил остаться на своей наблюдательной вышке еще хотя бы несколько минут.
Меня могли обнаружить скорее, чем я ожидал. Не двигаясь, едва дыша, я зорко следил за тем, что происходило кругом, и чутко ловил каждый звук.
Терпение мое не подверглось долгому испытанию. Я увидел и услыхал нечто такое, отчего мороз прошел у меня по коже, а кровь застыла в жилах. Через пять минут мне пришлось убедиться, что в человеческом сердце может таиться такое безграничное зло, о котором я никогда в жизни не слышал и даже не читал в книгах.
Предо мной один за другим прошли четыре демона. Без сомнения, это были демоны, потому что их взгляды, слова, движения и намерения — все, что я видел и слышал, полностью оправдывало это название. Они обошли вокруг озера. Я рассмотрел их лица, озаренные лунным светом: бледное, худое лицо Аренса Ринггольда, зловещие, орлиные черты Спенса, круглую зверскую рожу забияки Уильямса…
Но кто же был четвертый?
Неужели я брежу? Или мои глаза обманывают меня? Неужели все это происходит в действительности? Или чувства изменили мне? Или это только случайное сходство? Нет! Нет! Нет! Это не призрак — это живой человек. Эти черные курчавые волосы, эта желто-коричневая кожа, эта фигура и походка — все, все его! Милосердный боже! Это он — Желтый Джек!
Глава 34
ДЬЯВОЛЬСКИЙ ЗАГОВОР
Оспаривать это — значило сомневаться в достоверности собственных чувств. Передо мной стоял мулат, такой, каким я его помнил, только он был в другом платье и, пожалуй, немного потолстел. Но черты лица и общий облик были те же — передо мной стоял Желтый Джек, бывший дровосек с нашей плантации.
Но неужели это был он? Да еще в обществе Ринггольда, одного из своих самых активных и жестоких преследователей и мучителей. Нет, это невероятно, невозможно! Или я заблуждался и мои глаза обманывали меня?
Но нет! Ибо как достоверно то, что я видел человека, так же неоспоримо было и то, что этот человек — мулат Джек. Он стоял не более чем в двадцати футах от того места, где я притаился в ветвях, луна освещала его почти как днем. Я мог уловить давно знакомое мне злобное выражение его глаз, его омерзительные гримасы. Да, это был Желтый Джек!
Вдобавок я вспомнил, как вчера Черный Джек, несмотря на все мои убеждения и насмешки, не хотел сдаваться и признать, что это был человек, только похожий на мулата. Негр стоял на своем: он видел самого Желтого Джека или его призрак и был так твердо убежден в этом, что я не мог его поколебать.
Я вспомнил и о другом обстоятельстве — о странном поведении Ринггольдов во время послеобеденного разговора. Уже тогда оно привлекло мое внимание. А сейчас я совсем был сбит с толку. Здесь передо мною стоял человек, которого все считали мертвым, и с ним трое деятельных пособников его гибели, причем один из них был его самым жестоким палачом. Теперь же все четверо, по-видимому, стали закадычными друзьями. Как объяснить это чудесное воскрешение из мертвых и примирение с врагами?
Я терялся в догадках. Тайна была слишком сложна, чтобы разрешить ее в течение одной минуты. И мне так и не удалось бы разгадать ее, если бы сами заговорщики не помогли мне в этом.
Мне удалось подслушать их беседу. И то, что я услышал, убедило меня не только в том, что Желтый Джек все еще живет на этом свете, но и что Хадж-Ева сказала правду, утверждая, что жизнь моя в опасности.
— Ах черт побери! Его здесь нет. Куда же он мог провалиться? — воскликнул Ринггольд. По тону его голоса чувствовалось, что он и раздражен и удивлен.
Как выяснилось из слов его собеседника, этот вопрос касался меня. Уильямс, голос которого я сразу узнал, спросил:
— Вы уверены, Аренс, что он не вернулся в форт вместе с генералами?
— Совершенно уверен. Я стоял у ворот, когда они вернулись. Их было только двое — генерал и агент. Но вопрос вот в чем: не ушел ли он от озера вместе с ними? Какого дурака мы сваляли! Напрасно мы не последовали за ними, когда они шли сюда. Поспей мы вовремя, мы узнали бы, где они расстались. Но кто же мог подумать, что он отстанет от них? Если бы я только знал… Ты говоришь, Джек, что идешь прямо из индейского лагеря. Он не мог заметить тебя?
— Карахо![99] Конечно, нет, сеньор Аренс!
Этот голос, это старое испанское богохульство были мне знакомы с детских лет. Если у меня еще оставались какие-то сомнения, теперь они исчезли. Слух подтвердил то, чему не верили глаза. Это был Желтый Джек! Он продолжал:
— Я иду прямо из лагеря семинолов. Я встретил только двух вождей. Я спрятался под пальмами, и они меня не заметили. Уверен, что не заметили.
— Черт его дери, куда он провалился? И след его простыл. Я знаю, что у него могли быть основания отправиться в индейский лагерь, — да, это я знаю. Но как он сумел ускользнуть и не попался на глаза Джеку?
— А может быть, он пошел в обход другой дорогой? — предположил Уильямс.
— Через открытую равнину?
— Нет, это маловероятно, — ответил Ринггольд. — Одно только и остается теперь думать: что он расстался с генералами, не дойдя до ворот форта, и пошел вдоль ограды к дому маркитанта.
Все это Ринггольд произнес, как бы разговаривая сам с собой.
— Дьявол! — воскликнул он нетерпеливо. — Второго такого случая и не дождешься.
— Не бойтесь, мистер Аренс, — успокоил его Уильямс. — Не бойтесь. Скоро начнется война, и такие удобные случаи нам еще подвернутся.
— Мы постараемся их найти! — энергично вмешался Спенс, который заговорил впервые.
— Но решающую роль здесь должен сыграть Джек, господа! Нам ввязываться в это дело нельзя. Это может выплыть наружу, и тогда нам придется туго. А для Джека нет никакой опасности. Ведь он умер — и закон его не изловит!.. Ведь так, Джек, мой желтый мальчик?
— Да, сеньор! Не беспокойтесь, масса Аренс! Я скоро найду подходящий случай. Джек уберет его прочь с дороги, и вы никогда больше о нем не услышите. Я его заманю в ловушку. Вчера я промахнулся. Ружье плохое, дон Аренс. Нельзя с таким ружьем выходить на охоту!
— В форт он не вернулся, я это знаю, — пробормотал Ринггольд. — Стало быть, он где-то в лагере. Но должен же он когда-нибудь возвратиться домой! Наверно, появится, когда зайдет луна. Он захочет прокрасться домой в темноте… Ты слышишь, Джек, что я говорю?
— Да, сеньор! Джек слышит.
— Ты сумеешь воспользоваться случаем?
— Да, сеньор! Джек понимает.
— Ну прекрасно! Теперь нам пора отправляться. Слушай меня внимательно, Джек… Если…
Тут голос Ринггольда перешел в шепот, и я мог расслышать только отдельные слова. Часто упоминались имена моей сестры и квартеронки Виолы. До меня доносились такие обрывки фраз: «один только он стоит нам поперек дороги», «мамашу будет легко уломать», «когда я стану хозяином на их плантации», «заплачу тебе двести долларов…».
Такого рода высказывания убедили меня, что эти два мерзавца еще раньше сговорились убить меня. И этот невнятный разговор был только повторением условий гнусной сделки. Шла торговля о цене за мою жизнь. Неудивительно, что на висках у меня выступил холодный пот и каплями покатился по лбу. Неудивительно, что я сидел на своей вышке, дрожа, как осиновый лист. Я дрожал не столько за свою жизнь, сколько от ужаса и отвращения, которые внушало мне это чудовищное злодеяние. Я дрожал бы еще сильнее, но страшным усилием воли мне удалось сдержать негодование, закипавшее у меня в груди.
У меня хватило самообладания притаиться и замереть. И я поступил весьма благоразумно: если бы в этот момент я обнаружил себя, я не вернулся бы домой живым. Я знал это наверняка и поэтому старался не производить ни малейшего шума, чтобы не выдать тем самым своего присутствия.
А как омерзительно было слушать разговор четырех негодяев, хладнокровно обсуждавших вопрос об убийстве человека! Как будто речь шла о какой-нибудь торговой сделке. И при этом каждый из них предвкушал, какую именно он извлечет прибыль из предстоящей спекуляции.
Не знаю, какое чувство бушевало во мне сильнее — гнев или страх. Но врагов было четверо, и все они вооружены. Я располагал шпагой и пистолетами, но этого оружия недостаточно для борьбы в одиночку с четырьмя отъявленными негодяями. Будь их только двое — скажем, мулат и Ринггольд, — я, вероятно, не стал бы сдерживать своего негодования и рискнул бы на открытую встречу с ними, лицом к лицу, а там уж будь что будет! Но я сдержал себя и продолжал тихо сидеть на дереве, пока они не ушли. Я заметил, что Ринггольд и его приспешники отправились в форт, а мулат побрел по направлению к индейскому лагерю.
Глава 35
СВЕТ ПОСЛЕ ТЬМЫ
После того как они скрылись, я долго еще сидел не шевелясь. Хаос и смятение царили в моей голове. Я не знал, что думать, как поступить, и сидел как прикованный к дереву. Наконец я попытался спокойно обдумать все, что видел и слышал. Неужели это был фарс, разыгранный, чтобы напугать меня? Нет, ни один из четырех не походил на персонаж из фарса. А дикое и сверхъестественное появление Желтого Джека из загробного мира было слишком драматично, слишком серьезно, чтобы стать эпизодом в комедии.
Пожалуй, скорее, я только что слышал пролог к предполагаемой постановке трагедии, в которой должен был сыграть роль жертвы. Эти люди бесспорно готовили покушение на мою жизнь. Их было четверо, и ни одного из них я никогда ничем серьезно не обидел. Я знал, что все четверо никогда не любили меня. Впрочем, у Спенса и Уильямса не было причин для обиды, разве что давнишняя мальчишеская ссора, давно забытая мной. Но они действовали под влиянием Ринггольда. Что касается мулата, то я понимал причину его вражды ко мне — это была вражда не на жизнь, а на смерть!
Но каков Аренс Ринггольд! Он явно был главой заговора и замышлял убить меня. Образованный человек, равный мне по положению в обществе, джентльмен!
Я знал, что он всегда недолюбливал меня, а за последнее время возненавидел еще больше. Мне известна была и причина. Я стоял преградой на пути к его браку с моей сестрой. По крайней мере, так думал он сам. И он был прав: с тех пор как умер отец, я стал принимать гораздо большее участие в семейных делах. Я открыто заявил, что с моего согласия Ринггольд никогда не будет мужем моей сестры. Я понимал, что он разозлен, но не мог даже представить себе, что гнев способен толкнуть человека на такой дьявольский замысел.
Выражения: «он стоит нам поперек дороги», «мамашу будет легко уломать», «когда я стану хозяином их плантации» — ясно говорили о намерении заговорщиков устранить меня, убить из-за угла.
— Хо! Хо! Молодой мико теперь может сойти, — вдруг раздался голос. — Плохие люди ушли. Хорошо! Скорей спускайся вниз, хорошенький мико, скорей!
Я поспешно повиновался и снова очутился перед безумной королевой.
— Теперь ты веришь Хадж-Еве, молодой мико? Видишь, что у тебя есть враги, целых четыре врага, что твоя жизнь в опасности?
— Ты спасла мне жизнь, Хадж-Ева! Как мне отблагодарить тебя?
— Будь верен ей… верен… верен…
— Кому?
— Великий Дух! Он уже забыл ее! Вероломный молодой мико! Вероломный бледнолицый! Зачем я спасла тебя? Зачем я не позволила твоей крови пролиться на землю?
— Ева!
— Плохо! Плохо! Бедная лесная птичка! Самая красивая из всех птичек! Ее сердце изойдет кровью и умрет, а разум покинет ее!
— Ева, объясни же, в чем дело?
— Плохо! Пусть он лучше умрет, чем бросит ее! Хо, хо! Неверный бледнолицый, о, если бы он умер, прежде чем разбил сердце бедной Евы! Тогда Ева потеряла бы только свое сердце. А голова, голова — это хуже! Хо, хо хо!
Зачем я поверила нежным словам И с белым бродила…— Ева! — воскликнул я с таким жаром, что это заставило ее прервать свою безумную песню. — Скажи, о ком ты говоришь?
— Великий Дух, послушай, что он говорит! О ком? О ком? Здесь больше, чем одна. Хо, хо, хо! Больше, чем одна, а верный друг забыт. Что может сказать Ева? Какую историю может она рассказать? Бедная птичка! Ее сердце изойдет кровью, а разум помешается. Хо, хо, хо! Будут две Хадж-Евы, две безумные королевы микосоков!
— Ради всего святого, не томи ты меня! Милая, добрая Ева, скажи, о ком ты говоришь? Неужели о…
Заветное имя было готово слететь у меня с языка, но я все не решался произнести его.
Я страшился задать вопрос, страшился получить отрицательный ответ.
Но долго колебаться я не мог: я зашел слишком далеко, чтобы отступать, и я слишком долго терзал свое тоскующее сердце. Дольше ждать я был не в силах. А Ева могла рассеять мои сомнения, и я решился спросить ее:
— Не говоришь ли ты о Маюми?
Несколько мгновений безумная молча глядела на меня.
Я не мог проникнуть в тайну ее глаз: последние пять минут в них блистали упрек и презрение. Когда я произнес эти слова, ее лицо выразило крайнее изумление, а затем глаза ее пристально устремились на меня, будто пытаясь угадать мои мысли.
— Если это Маюми, — продолжал я, не ожидая ее ответа, увлеченный вновь вспыхнувшим чувством, — то знай, что я люблю ее — люблю Маюми!
— Ты любишь Маюми? Все еще любишь ее? — быстро спросила Хадж-Ева.
— Клянусь жизнью…
— Нет! Нет! Не клянись! Это его клятва. А он изменил! Скажи еще раз, мой молодой мико, скажи, что ты говоришь правду, но не клянись…
— Я говорю правду, чистую правду!
— Хорошо! — радостно воскликнула безумная. — Мико сказал правду. Бледнолицый мико правдив, и красавица будет счастлива…
Мы юной любви вспоминаем дни Под пальмами вдвоем… Ты вновь на свою голубку взгляни, На дикую птичку взгляни, На нежную птичку взгляни! Она вместе с другом в прохладной тени, И нежно лепечут в чаще они, И нет никого кругом!!!— Тише, читта-мико! — воскликнула она, снова обращаясь к гремучей змее. — И ты, окола-читта[100]. Успокойтесь вы обе. Это не враг. Спокойно, или я размозжу вам головы…
— Добрая Ева!
— А, ты называешь меня доброй Евой! Но, может быть, наступит день, когда ты назовешь меня злой. — Затем, возвысив голос, она продолжала очень серьезно: — Выслушай меня, Джордж Рэндольф! Если и ты когда-нибудь окажешься злым, если ты изменишь, как он, то знай, что Хадж-Ева станет твоим врагом и читта-мико уничтожит тебя!.. Ты сделаешь это, мой змеиный король, не правда ли? Хо, хо, хо!
Змея как будто поняла ее. Она вдруг подняла голову, ее блестящие глаза василиска замерцали, как будто излучая огненные искры, ее раздвоенный язык высунулся из пасти и чешуйчатые кольца загремели, издавая звук, похожий на «ски-ррр».
— Тихо, тихо! — сказала Ева, успокаивая змею и ловким движением пальцев заставляя ее снова свернуться клубком. — Это не он, читта, не он! Слышишь, ты, король ползучих гадов! Тише, говорю я!
— Почему ты угрожаешь мне, Ева? Ведь нет причины…
— Хорошо! Я верю тебе, милый мико, мой храбрый мико!
— Но, добрая Ева, объясни, скажи мне…
— Нет! Не теперь, не сегодня вечером. Сейчас нет времени. Взгляни туда, на запад! Нетле-хассе[101] собирается улечься спать. Ты должен уйти. Тебе нельзя бродить в темноте. Ты должен добраться назад в форт, прежде чем зайдет луна. Иди, иди, иди!
— Но я уже сказал тебе, что не могу уйти, пока не закончу своего дела…
— Тогда это опасно… Какое дело? А! Я догадываюсь! Вот идут те, кого ты ждешь…
— Да, я думаю, что это они, — прошептал я.
На противоположном берегу озера появились высокие тени двух вождей.
— Тогда скорей делай свое дело и не теряй времени! — торопила меня Хадж-Ева. — В темноте тебе грозит опасность. Хадж-Ева должна уйти. Доброй ночи, молодой мико, спокойной ночи!
Я тоже пожелал ей спокойной ночи и обернулся к приближавшимся вождям. Тем временем моя странная собеседница скрылась.
Индейцы вскоре вышли на берег и коротко сообщили мне ответ для генерала. Оказалось, что Холата-мико снял свои палатки и покинул лагерь!
Два изменника были настолько противны и омерзительны, что мне не хотелось ни одной лишней минуты оставаться в их компании. Получив необходимые сведения, я тут же поспешил избавиться от них.
Предупрежденный Хадж-Евой и учитывая сказанное Аренсом Ринггольдом, я, не тратя времени, направился к форту. Луна стояла все еще над горизонтом, и в ее ярком свете я был огражден от опасности внезапного нападения.
Я шел быстро, из предосторожности выбирая открытые поляны, стараясь держаться подальше от таких мест, где в засаде мог скрываться убийца.
Я никого не увидел ни по пути, ни около форта. Но у самых ворот, недалеко от лавки маркитанта, я заметил человека, притаившегося за сложенными бревнами. Мне показалось, что я узнал мулата.
Я хотел было кинуться на него и разделаться с ним. Но часовой уже отозвался на мой оклик, а мне не следовало поднимать тревогу главным образом потому, что я получил приказ действовать, соблюдая военную тайну. Я решил, что этот «воскресший из мертвых» встретится мне в другой раз, когда я буду не так занят, и тогда мне легче и удобнее будет свести счеты и с ним и с его дьявольскими сообщниками. С этой мыслью я вошел в ворота и отправился с докладом в штаб к генералу.
Глава 36
НУЖЕН ВЕРНЫЙ ДРУГ!
Нельзя назвать особенно приятной перспективу провести ночь под одной крышей с человеком, который собирается вас укокошить. Об отдыхе тут нечего было и думать. Я спал очень мало, да и эти жалкие обрывки сна были полны беспокойных кошмаров.
Я не видел Ринггольдов — ни отца, ни сына. Правда, я знал, что оба они в форте, так как они собирались погостить здесь еще денек-другой. Они или легли спать до моего возвращения, или развлекались у какого-нибудь знакомого офицера.
Не пришлось мне увидеть также ни Спенса, ни Уильямса. Эти достойные молодые люди если даже и торчали где-то в пределах форта, то, вероятно, помещались вместе с солдатами, и я не стал их разыскивать.
Я пролежал без сна большую часть ночи, раздумывая о странных событиях, или, вернее, о встрече со своими смертельными врагами. В течение целой ночи я ломал себе голову над тем, как мне следует поступить. И когда утренний свет стал проникать через ставни, я все еще не пришел ни к какому решению.
Первой моей мыслью было рассказать обо всем в штабе и потребовать назначения следствия и наказания преступников. Но по зрелом размышлении я решил, что этот план никуда не годится. Какие доказательства мог я привести в подтверждение таких серьезных обвинений? Только мои собственные утверждения, ничем не подкрепленные и даже маловероятные. Кто поверил бы в такое неслыханное злодейство? Хотя я не сомневался, что задумали убить именно меня, но утверждать этого не мог, так как даже имя мое не называлось. Меня, подняли бы на смех, а то и еще хуже. Ринггольды были могущественными людьми, личными друзьями генерала и правительственного агента, и хотя все знали об их тайных, темных делишках, тем не менее они считались джентльменами. Для обвинения Аренса Ринггольда в убийстве надо было найти более веские доказательства. Я предвидел все трудности, связанные с этим, и решил пока сохранить тайну.
Другой план казался мне гораздо более осуществимым: открыто, при всех, бросить Ринггольду в лицо обвинение и вызвать его на смертный бой. Это, по крайней мере, доказало бы правоту моих обвинений.
Но дуэль была запрещена законом. Если начальству станет известно, что я намерен драться, то мне не миновать ареста, и тогда рухнут все мои планы. У меня было свое мнение об Аренсе Ринггольде. Я знал, что мужество этого человека весьма сомнительно. Скорее всего, он струсит. Но, так или иначе, обвинение и вызов на дуэль сыграют свою роль в его разоблачении.
Я склонялся к тому, чтобы избрать именно этот второй путь, но прежде чем я пришел к какому-либо решению, наступило утро. В эту минуту для меня особенно тяжело было не иметь друга — не просто секунданта (такого я мог бы легко найти среди офицеров гарнизона), но закадычного, верного друга, с которым можно было бы говорить обо всем откровенно и который помог бы мне дельным советом. К несчастью, все офицеры форта были мне совсем незнакомы. Одних только Ринггольдов я знал раньше.
Положение было затруднительное, и тут я вспомнил об одном человеке, который мог дать мне полезный совет. Я решил обратиться к моему старому другу, Черному Джеку.
Утром я вызвал его к себе и рассказал ему всю историю. Джек совсем не удивился. У него самого уже зародились кое-какие подозрения, и он собирался на рассвете поделиться ими со мной. Меньше всего его удивило появление Желтого Джека. Негр даже объяснил, как именно произошло его чудесное спасение. Все это было довольно просто. В тот момент, когда аллигатор схватил мулата, он успел ловко всадить ему нож в глаз, и аллигатор выпустил свою жертву. Желтый Джек последовал примеру молодого индейца и даже воспользовался тем же самым оружием. Все это произошло под водой, так как мулат превосходно нырял. Аллигатор укусил его за ногу, и от этого вода окрасилась в красный цвет, но рана была не страшная и не очень задержала побег мулата. Он плыл некоторое время под водой, стараясь не показываться на поверхности, пока не достиг берега, а затем выбрался на сушу и вскарабкался на дуб, где густая листва скрыла его от взоров мстительных преследователей. Так как он был совершенно голый, обрывки одежды не могли послужить обличающей приметой для охотников за живой дичью. А кровь на воде оказала ему даже дружескую услугу — она окончательно убедила его преследователей, что он сделался жертвой аллигатора, и они прекратили дальнейшие розыски. Таков был рассказ Черного Джека. Он услышал эту историю накануне вечером от одного дружественного индейца в форте, а тот клялся, что слышал это от самого мулата.
Во всей этой истории не было ничего неправдоподобного. И сразу же тайна, тревожившая мой ум, рассеялась. Кроме того, мой верный негр сообщил мне еще и другие интересные сведения. Оказывается, беглый мулат нашел себе пристанище среди одного племени полунегров, обитавшего в болотах у истока реки Амазуры. Он постепенно завоевал у негров популярность и стал пользоваться большим влиянием. Они избрали его вождем, и теперь он именовался у них «Мулатто-мико».
Одно только оставалось неясным: каким образом сумел он войти в соглашение с Аренсом Ринггольдом?
Впрочем, и тут не скрывалось никакой тайны. У плантатора не было особых оснований ненавидеть беглого мулата. Бурная деятельность Ринггольда во время несостоявшейся казни Желтого Джека оказалась искусным притворством. У мулата было гораздо больше оснований для недовольства. Но любовь и ненависть у людей подобного сорта отбрасываются прочь, когда дело идет о шкурных интересах. Эти чувства в любое время могут быть обменены на золото. Без сомнения, белый негодяй пользовался услугами желтого в разных темных делах и, в свою очередь, сам оказывал услуги. Во всяком случае, было очевидно, что оба они, как говорится, «закопали свои томагавки в землю» и теперешние их отношения были самыми дружескими.
— Как ты думаешь, Джек, — спросил я, — не следует ли мне вызвать Аренса Ринггольда?
— Вызвать? А зачем его вызывать, он уже давно шатается по улице. Видно, совесть не дает спать.
— Да я говорю совсем не об этом.
— А что хочет масса сказать?
— Я хочу заставить его драться со мной.
— Вуф! Масса Джордж хочет драться на дуэли… пистолетом или шпагой?
— Шпаги, пистолеты, винтовки — оружие для меня безразлично.
— Боже милостивый! Не говорите таких страшных вещей, масса Джордж. У вас мать, сестра… Господи! А вдруг вас пуля убьет? Бык иногда убивает мясника. Кто защитит Виргинию, Виолу, всех нас от злых людей? Нет, масса, бросьте это! Не надо его вызывать!
В эту минуту меня самого вызвали. Снаружи раздались звуки горна и бой барабана. Они возвещали сбор на совет. Спорить с Джеком у меня теперь не было времени. Я поспешил туда, куда меня призывал мой долг.
Глава 37
ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Перед нами снова предстала вчерашняя картина: с одной стороны — войска, стоявшие сомкнутыми рядами в синих мундирах, со сверкающим оружием, офицеры в полной форме, с блистающими эполетами; в центре — офицеры штаба, сгруппировавшиеся вокруг генерала, застегнутые на все пуговицы, в полном блеске военной формы; с другой стороны — полукруг индейских вождей, а за ним толпа воинов, в уборах из перьев, татуированных и живописных. Невдалеке от них ржали уже оседланные кони, другие были привязаны к колышкам и мирно щипали травку. Тут же бродили женщины в длинных хуннах.
Подростки и малыши играли в траве. Флаги, знамена и вымпелы развевались над нашими солдатами, вождями и воинами краснокожих. Били барабаны, трубили трубы. Это была яркая, красочная картина!
Однако, несмотря на все это великолепие, картина была далеко не столь внушительна, как накануне; сразу бросалось в глаза, что многих вождей здесь нет; не хватало примерно и половины всех воинов. Это была уже не вчерашняя несметная толпа, а просто довольно большое скопление людей. Теперь все могли вплотную придвинуться к участникам совета.
Онопы не было. Британская медная корона — блистающий символ королевской власти, — еще вчера красовавшаяся в центре, теперь исчезла. Не было и Холата-мико. Ушли и некоторые другие, менее значительные вожди. Поредевшие ряды воинов показывали, что эти вожди увели с собой людей своего клана.
Большинство оставшихся были из кланов Оматла, Черной Глины и Охала. Среди них я увидел также Хойтл-мэтти, Арпиуки, негра Абрама и Карлика-Пошалла с их воинами. Но эти, конечно, остались совсем не для того, чтобы подписать договор.
Я искал глазами Оцеолу. Найти его было нетрудно: лицом и осанкой он заметно выделялся среди прочих. Оцеола стоял с краю, на левой стороне теперь уже небольшого полукруга — может быть, он встал там из скромности — это качество признавалось за ним единодушно. Действительно, среди вождей он был одним из младших и по рождению не имел таких прав, как они. Но, глядя на него, — хотя он стоял последним в ряду, — невольно думалось, что именно он должен главенствовать над всеми.
Как и накануне, в его манерах не было ничего вызывающего. Его осанка была полна величия, хотя держался он свободно. Оцеола скрестил руки на груди в позе отдыхающего человека. Лицо его было спокойно, иногда оно становилось даже мягким и добродушным. Он походил на благовоспитанного человека, ожидающего начала церемонии, в которой он играет только роль зрителя. Пока еще не произошло ничего такого, что могло бы взволновать его; не было произнесено слова, способного разбудить его ум, который только казался дремлющим.
Но этому покою не суждено продолжаться долго. Скоро эта мягкая улыбка превратится в саркастическую усмешку. Глядя на это лицо, трудно было представить себе, что такое превращение возможно. И, однако, внимательный наблюдатель мог бы это уловить. Молодой вождь напоминал мирное небо перед грозой, спокойный океан, на котором вот-вот разыграется шторм, спящего льва, который, если его тронуть, поднимется в порыве неукротимой ярости.
В последние минуты перед началом совещания я не сводил глаз с молодого вождя. Впрочем, не я один — он был центром, на котором сосредоточилось всеобщее внимание. Но я смотрел на него с особым интересом.
Я смотрел на Оцеолу, ожидая, что он сделает мне какой-нибудь знак, показывающий, что он узнал меня. Но этого не случилось: он не кивнул мне, не бросил даже мимолетного взгляда. Раз или два его взор безучастно скользнул по мне, но сейчас же обратился на кого-то другого, как будто я был лишь одним из толпы его бледнолицых врагов. Он, видимо, не помнил меня. Или был так занят какими-то глубокими мыслями, что не обращал ни на что другое внимания.
Я взглянул на равнину, туда, где виднелись палатки, возле которых группами бесцельно бродили женщины. Я внимательно вглядывался в них. Мне показалось, что в центре одной из групп я заметил безумную Хадж-Еву. Я надеялся, что та, чьи интересы она отстаивала так горячо, окажется рядом с нею, но ошибся. Ее не было!
Даже под длинной хунной я узнал бы ее прелестный облик… если она не изменилась.
Если… Это предположение вызывает у вас естественное любопытство. Почему она могла измениться? — спросите вы. Она стала взрослой, развилась, превратилась в зрелую женщину. Ведь в южных странах девушки рано развиваются.
Чего же я боялся, какие были к тому причины? Может быть, ее изменили болезни, истощение или горе? Нет, совсем не то.
Трудно передать все те сомнения, которые терзали меня, хотя они возникли вследствие случайного разговоpa. Глупый болтун-офицер, который так весело щебетал вчера о своих «победах», влил яд в мое сердце. Но нет, это не могла быть Маюми! Она была слишком чиста и невинна. Но почему я так сильно волнуюсь? Ведь любовь — не преступление!
Но если все это верно… если она… Но нет, все равно она не виновата! Он один виной тому, что произошло!
Целый день я терзал себя. И все только потому, что я так неудачно подслушал чужой разговор. Этот разговор явился для меня источником жестоких страданий в течение всего предшествующего дня. Я чувствовал себя в роли человека, который слышал слишком многое, но знает слишком мало. Неудивительно, что после встречи с Хадж-Евой я воспрянул духом, ее слова рассеяли недостойные подозрения и оживили мои надежды. Безумная, правда, не произнесла заветного имени, пока я сам не сказал его, но к кому же иначе могли относиться слова «бедная лесная птичка» и «ее сердце изойдет кровью»?
Она говорила о Восходящем Солнце — это был Оцеола. Но кто мог быть красавицей — кто, кроме Маюми?
Но, с другой стороны, это могло быть только отблеском давно прошедших дней, воспоминанием, еще не вполне угасшим в безумном мозгу. Хадж-Ева знала нас в дни юности, не раз встречала во время прогулок в лесу и даже бывала с нами на острове. Безумная королева прекрасно гребла, искусно управляла своим челноком, могла бешено мчаться на диком коне — могла отправиться куда угодно, проникнуть повсюду. И, может быть, только воспоминание об этих счастливых днях побудило ее заговорить со мной. Ведь в ее помраченном рассудке настоящее слилось с прошедшим и все понятия о времени перепутались. Да будет небо милосердно к ней!
Эта мысль огорчила меня, но ненадолго. Я все-таки продолжал таить в душе светлую надежду. Сладостные слова Хадж-Евы были целительным противоядием от страха, который чуть не охватил меня, когда я узнал, что против моей жизни существует заговор. Зная, что Маюми когда-то любила и все еще любит меня, я не побоялся бы выступить против опасностей в сто раз более грозных, чем эта. Только малодушные не становятся храбрыми под влиянием любви. Даже трус, вдохновленный улыбкой любимой девушки, может проявить чудеса храбрости.
Аренс Ринггольд стоял рядом со мной. Мы столкнулись с ним в толпе и даже перемолвились несколькими словами. Он говорил со мной не только вежливо, но чуть ли не дружески. В его словах почти не ощущалось свойственного ему цинизма; но стоило мне только пристально посмотреть на него, как глаза его начинали бегать, и он опускал их.
А ведь Ринггольд не имел ни малейшего представления о том, что я знаю все его планы, знаю, что он лелеет мысль убить меня!
Глава 38
НИЗЛОЖЕНИЕ ВОЖДЕЙ
В этот день агент действовал гораздо решительнее. Он вел рискованную игру, но твердо был убежден в успехе и смотрел на вождей взором повелителя, заранее уверенного в их полном повиновении.
По временам его взгляд с каким-то особенным выражением останавливался на Оцеоле. В глазах агента таилось зловещее торжество. Я знал, что значили эти взгляды, и понимал, что они не предвещают для молодого вождя ничего доброго. Если бы в эту минуту я мог незаметно подойти к Оцеоле, я шепнул бы ему несколько предостерегающих слов.
Я укорял себя, что раньше не подумал об этом. Хадж-Ева могла бы передать ему вчера ночью мое письмо. Почему я не послал его? Я был озабочен своими бедами и не подумал об опасности, которая грозила моему другу. Я все еще продолжал считать Пауэлла своим другом.
Я не имел точного представления о том, что замышлял агент, хотя из разговора, который мне удалось подслушать, я догадывался о его дальнейших целях. По тому или иному поводу Оцеола должен быть арестован!
Но ведь это грубое нарушение законности, его нельзя осуществить без подходящего предлога. Даже опрометчивый агент не мог решиться на такой смелый шаг — превысить свою власть без серьезных оснований. Какой же найти предлог?
Уход Онопы и «враждебных» вождей, в то время как Оматла и «дружественные» вожди оставались, — вот что создавало благоприятные возможности для агента. Он решил, что повод к аресту должен дать сам Оцеола.
О, если бы я мог шепнуть хоть одно слово на ухо моему другу! Но было уже поздно. Сети расставлены, ловушка готова, и редкостная дичь должна вот-вот попасться. Нет, предупреждать его было уже поздно! Мне оставалось теперь только играть роль безмолвного свидетеля при совершении акта величайшей несправедливости, при вопиющем нарушении законных прав индейцев.
Там, где находился генерал и его штаб, поставили стол с чернильницей и перьями. Агент встал сзади. На столе расстелили огромный лист пергамента, сложенный в несколько раз. Это и был договор в Оклавахе.
— Вчера, — начал агент без дальнейших предисловий, — мы только занимались разговорами. Сегодня наступило время перейти к действиям. Вот… — продолжал он, указывая на пергамент, — вот договор о переселении по плану Пэйна. Надеюсь, что вы как следует обсудили все, что я говорил вам вчера, и теперь готовы подписать?
— Да, мы обсудили, — сказал Оматла за себя и за свою партию, — и готовы подписать.
— Онопа, главный вождь, — заявил агент, — должен подписать первым… Где же он? — добавил хитрец, глядя вокруг с притворным удивлением.
— Вождя вождей здесь нет.
— Почему его нет? Он должен быть здесь. Почему он отсутствует?
— Он болен и не может быть на совете, — ответил зять вождя, Хойтл-мэтти.
— Это ложь. Прыгун! Онопа только притворяется больным. И вы прекрасно знаете это.
При этом оскорблении угрюмое лицо Хойтл-мэтти стало еще угрюмее, и он весь задрожал от ярости. Но вождь сдержал свой гнев и, с презрительным восклицанием скрестив руки на груди, принял прежнюю спокойную позу.
— Абрам, ты был советником Онопы и должен знать его намерения. Почему его нет сегодня?
— Ах, масса генерал, — ответил негр на ломаном английском языке, не выказывая особого уважения к допрашивающему, — откуда старый Эйб может знать, что хочет сделать король Онопа? Он не говорит мне, куда и зачем уходит. Он великий вождь и никому не сообщает своих планов.
— Но он подпишет договор? Говори: да или нет?
— Нет! — ответил негр твердо, как будто ему было поручено так ответить. — Это я хорошо знаю. Он не подпишет договор. Не подпишет. Нет!
— Довольно! — закричал агент. — Довольно! Так слушайте же меня, вожди и воины семинолов! Я имею полномочия от вашего Великого Отца, президента Соединенных Штатов, который является вождем всех нас. Эти полномочия дают мне право наказывать за неповиновение и измену. Я применяю их сейчас по отношению к Онопе. Отныне он больше не вождь семинолов!
Это неожиданное заявление произвело на всех потрясающее впечатление, подобное действию электрического тока. Вожди и воины — все привстали, тревожно впившись глазами в агента. Одни разгневались, другие изумились. Некоторые, по-видимому, были довольны, но большинство встретили это сообщение явно недоверчиво.
Конечно, агент шутит. Какое право имел он низлагать вождя семинолов? Как сам Великий Отец мог отважиться на это? Семинолы — свободный народ, они даже не платят белым дани, у них нет никаких политических обязательств. Одни они могут свободно избрать главного вождя или свергнуть его.
Но нет! Скоро всем пришлось убедиться, что он говорил серьезно. Как ни нелеп был план низложения короля Онопы, агент решил выполнить его во что бы то ни стало, и раз уж он сделал такое заявление, то дальше надо было действовать, не теряя времени. Он обратился к Оматле:
— Оматла! Ты был верен своему слову и своей чести. Ты заслужил право стать повелителем храброго народа. Отныне ты будешь королем семинолов! Великий Отец и весь народ Соединенных Штатов приветствуют тебя и не признают никого другого! Итак, приступим к подписанию договора!
По знаку агента Оматла выступил вперед, подошел к столу, взял перо и написал на пергаменте свое имя.
Глубокое молчание царило среди зрителей. Внезапно его нарушило одно слово, произнесенное гневным, задыхающимся голосом. Это слово было: «Изменник!»
Я оглянулся, чтобы узнать, кто это сказал, и увидел, что губы Оцеолы еще не успели сомкнуться, а глаза его были устремлены на Оматлу с невыразимым презрением.
После Оматлы взял перо Черная Глина и поставил под договором свою подпись. Один за другим подходили Охала, Итолассе и другие вожди — сторонники переселения.
Вожди патриотов случайно или намеренно стояли отдельной группой на левом крыле полукруга. Теперь наступил их черед. Первым должен был подойти Хойтл-мэтти. Агент не знал, подпишет ли он договор. Наступила пауза, полная напряженного ожидания.
— Твоя очередь подписывать. Скакун! — обратился к нему агент, переводя его индейское прозвище на английский язык.
— Вы, того гляди, и обскачете меня! — отвечал находчивый и остроумный индеец. В его шутке скрывался серьезный ответ.
— Как, ты отказываешься подписать?
— Хойтл-мэтти не умеет писать.
— В этом нет надобности — твое имя уже обозначено здесь. Тебе достаточно приложить к договору свой палец.
— А вдруг я приложу палец не на то место?
— Ты можешь подписать, поставив крест, — продолжал агент, все еще надеясь уломать вождя.
— Мы, семинолы, не любим креста. Он уже достаточно надоел нам во времена владычества испанцев.
— Значит, ты наотрез отказываешься подписать?
— Да! Господин агент, разве это вас удивляет?
— Пусть будет так. Теперь слушай, что я скажу тебе!
— Уши Хойтл-мэтти открыты, так же как и рот агента, — последовал язвительный ответ.
— Прекрасно! Тогда я лишаю Хойтл-мэтти сана вождя семинолов.
— Ха-ха-ха! — засмеялся в ответ Хойтл-мэтти. — Вот как! Вот как! А скажи мне, — саркастически спросил он, продолжая хохотать и явно издеваясь над торжественным заявлением агента, — чьим же я буду вождем, генерал Томпсон?
— Я уже объявил свое решение, — сказал агент, видимо задетый насмешливым тоном индейца. — Ты больше не вождь. Мы не признаем тебя вождем.
— Но мой народ! Как же он? — продолжал Хойтл-мэтти с тонкой иронией. — Разве моим людям нечего сказать по этому поводу?
— Твой народ будет действовать благоразумно. Он послушается совета Великого Отца. Он не будет больше повиноваться вождю, который поступает как изменник.
— Вы не ошиблись, господин агент! — воскликнул вождь, на этот раз уже серьезно. — Мой народ будет действовать разумно, он останется верен своему долгу. Не обольщайтесь могуществом совета Великого Отца! Если это будет действительно совет отца, они выслушают его и примут; если нет — они заткнут себе уши. Что же касается вашего приказа о моем низложении, то я могу только улыбнуться, видя, как нелепо вы поступаете. Я презираю и этот приказ и агента! Я не боюсь вашего могущества. Я не боюсь, что утрачу преданность моего народа. Сейте между нами раздоры как вам угодно! Кое-где в других племенах вам удалось найти изменников… — Здесь оратор метнул яростный взгляд на Оматлу и его воинов. — Но я презираю ваши козни! Во всем племени не найдется ни одного человека, который отрекся бы от Хойтл-мэтти, — слышите, ни одного!
Хойтл-мэтти умолк и скрестил на груди руки, снова приняв позу молчаливого протеста. Он видел, что разговор окончен.
Затем агент обратился к негру Абраму. Но и тот отказался подписать договор. Он просто сказал: «Нет!» Когда же агент стал настаивать, негр добавил:
— Нет, черт возьми! Я никогда не подпишу эту проклятую бумагу, никогда! Этого достаточно, не так ли, босс Томпсон?
Уговоры кончились. Абрам был вычеркнут из списка вождей.
Арпиуки, Облако, Аллигатор и Карлик-Пошалла — все они один за другим отказались подписаться и были, в свою очередь, низложены. Так же поступили с Холата-мико и другими неявившимися вождями.
Большинство вождей только смеялись, когда шла речь о таком массовом низложении. Смешно было смотреть, как незначительный офицер, получивший временные полномочия, объявлял свои указы с таким видом, как будто он по меньшей мере был императором[102].
Пошалла, последний из лишенных своего сана, смеялся вместе с другими.
— Скажи-ка толстому агенту, — крикнул он переводчику, — что я все еще буду вождем семинолов, когда его долговязый скелет уже зарастет зловонными сорными травами! Ха, ха, ха!
Переводчик не передал эту шутку, она не дошла до ушей агента. Он даже не слышал презрительного смеха, который сопровождал ее, ибо все его внимание было поглощено последним из оставшихся вождей — Оцеолой.
Глава 39
ПОДПИСЬ ОЦЕОЛЫ
До этого момента юный вождь молчал, и только когда Чарльз Оматла взял перо, у него вырвалось слово «изменник».
Оцеола не оставался безучастным зрителем того, что происходило вокруг. В его взглядах и жестах не было скованности, он не прикидывался равнодушным стоиком. О нет, это было не в его характере! Он искренне смеялся остроумным шуткам Прыгуна, одобрительно приветствовал патриотизм Абрама и других вождей и грозно хмурился, когда видел, как подло вели себя изменники.
Теперь наступила его очередь высказать свое мнение. Он стоял, скромно ожидая, пока назовут его имя. Всех вождей называли по имени, все имена были хорошо известны агенту и его переводчикам.
Царила напряженная тишина. И вот наступило мгновение, когда в рядах американских солдат и в толпе индейских воинов все затаили дыхание, как будто каждый был полон ощущения надвигающейся грозы.
Я тоже чувствовал, что готовится взрыв, и, как все остальные, неподвижно замер на месте, ожидая дальнейшего развития событий.
Наконец агент прервал молчание:
— Теперь ваша очередь, Пауэлл! Но прежде всего отвечайте мне: признаны ли вы вождем?
Тон, манеры, слова — все здесь было крайне оскорбительно. Выражение лица агента явно доказывало, что это все было заранее обдумано и намечено, как прямой разящий удар. В глазах его проскальзывали злоба и предвкушение предстоящего триумфа. Вопрос был совершенно излишний, не относящийся к делу, он безусловно был задан с провокационной целью. Томпсон прекрасно знал, что Пауэлл был вождем — правда, младшим, но все же военным вождем самого воинственного из племен семинолов — племени Красные Палки. Агент хотел вызвать вспышку гнева у пылкого, горячего юноши.
Но этой цели достигнуть ему не удалось: казалось, что оскорбление не задело вождя. Оцеола ничего не ответил; странная улыбка промелькнула на его лице, не гневная и не презрительная. Это была улыбка молчаливого, величественного пренебрежения, взгляд, который порядочный человек бросает на негодяя, когда тот оскорбляет его. Казалось, молодой вождь считает агента недостойным ответа, а оскорбление слишком грубым (так оно в действительности и было), чтобы возмущаться им. Такое же впечатление было и у меня и у большинства присутствующих.
Если бы агент был чутким человеком, взгляд Оцеолы мог бы заставить его замолчать, или, по крайней мере, изменить тактику. Но грубой душе чиновника было чуждо чувство деликатности и справедливости, и, не обращая внимания на отпор, данный ему Оцеолой, он продолжал еще более оскорбительным тоном:
— Я вас спрашиваю: вождь ли вы? Имеете ли вы право подписать?
Тут же сразу десяток голосов ответил за Оцеолу. Вожди в кругу и воины, стоящие за ними, закричали:
— Вождь ли Восходящее Солнце? Конечно, он вождь! Он имеет полное право подписать!
— Почему его право подвергается сомнению? — спросил Прыгун. — Когда наступит время, — добавил он с усмешкой, — Оцеола сумеет доказать свои права. А сейчас он, может быть, и не собирается этого делать.
— Нет, собираюсь! — воскликнул Оцеола, обращаясь к оратору и подчеркивая каждое слово. — Я имею право подписать, и я подпишу!
Трудно передать впечатление, произведенное на всех этим неожиданным ответом. И белые и индейцы были одинаково изумлены; все они задвигались, зашумели; недоуменные возгласы слились в один сплошной гул.
Каждый выражал удивление по-своему — в зависимости от своих политических убеждений. В голосе одних слышались радость и ликование, в тоне других звучали горечь и гнев. Неужели это сказал Оцеола? Не ослышались ли они? Неужели Восходящее Солнце так быстро скроется за облаками? После всего того, что он совершил, после всего того, что он обещал, — неужели он окажется изменником?!
Такие вопросы занимали умы всех вождей и воинов — противников переселения. В то же время партия изменников едва могла скрыть свой восторг. Все знали, что подпись Оцеолы решает дело, что отныне они обречены на переселение. Братьям Оматла теперь нечего опасаться. Пусть теперь продолжают сопротивляться враждебные белым воины, все те, кто поклялся не уходить. У них больше нет вождя, который мог бы сплотить патриотов, как Оцеола. После его отступничества дух сопротивления неизбежно ослабеет, и дело патриотов можно считать безнадежно проигранным.
Прыгун, Облако, Коа-хаджо, Абрам, Арпиуки и Карлик-Пошалла — все были ошеломлены. Оцеола, которого они облекли полным доверием, смелый инициатор и вдохновитель сопротивления, непримиримый враг всех тех, кто до сих пор ратовал за переселение, истинный патриот, в которого все так верили, на которого все возлагали надежды, — теперь собирался уйти от них, покинуть их в последнюю, решающую минуту, когда его предательство окажется роковым для их общего дела!
— Он продался за деньги! — послышались голоса. — Его патриотизм — притворство!.. Его борьба, его сопротивление — обман!.. Он подкуплен агентом, он все время действует по его указке!.. Негодяй!.. Эта измена еще чернее измены Оматлы!
Так бормотали вожди, бросая на Оцеолу яростные взгляды. Я и сам не знал, что подумать об отступничестве Оцеолы. Он объявил свое решение подписать договор — что могло быть яснее?
Молодой вождь, по-видимому, был готов подтвердить делом свое слово и только ждал знака агента, для которого заявление Оцеолы было, очевидно, столь же неожиданным, как и для всех остальных. Любому, кто взглянул бы в этот момент на лицо агента, сразу стало бы ясно, что он совершенно непричастен к тому, что произошло. Он явно был так же ошеломлен заявлением Оцеолы, как и все остальные, а может быть, даже еще больше. Он так растерялся, что не сразу смог прийти в себя и обрести дар речи. Наконец он промямлил:
— Отлично, Оцеола! Подойдите сюда и подпишите.
Теперь Томпсон изменил свой тон — он говорил елейно и вкрадчиво. Он рисовал себе радужную картину: Оцеола подпишет и, таким образом, даст согласие на переселение. Дело, которое поручено ему, Томпсону, правительством, будет выполнено с блеском, и это значительно укрепит его положение в дипломатических кругах. «Старый Хикори» будет доволен! А что дальше? Дальше последует не скромное назначение во Флориду, к жалкому племени индейцев, а дипломатическая миссия в каком-нибудь крупном, цивилизованном государстве. Может статься, он будет назначен послом — например, в Испанию…
Ах, генерал Уайли Томпсон, твои воздушные замки мгновенно развеялись, как дым! Они рухнули так же внезапно, как возникли, — рухнули, как шаткие карточные домики.
Оцеола подошел к столу и нагнулся над документом, как бы для того, чтобы лучше разобрать слова. Он пробежал глазами подписи, словно отыскивая чье-то имя.
Наконец он нашел его и прочел вслух: «Чарльз Оматла!» Затем он выпрямился и, пристально взглянув на агента, иронически спросил, все ли еще агент желает, чтобы он, Оцеола, подписал договор.
— Вы дали обещание, Оцеола!
— Тогда я сдержу свое обещание!
При этих словах он вытащил свой большой испанский нож и, высоко подняв его над головой, воткнул в пергамент с такой силой, что лезвие глубоко вонзилось в дерево стола.
— Вот моя подпись! — воскликнул он, извлекая нож. — Ты видишь, Оматла, я пронзил твое имя. Берегись, изменник! Откажись от своих слов, или это лезвие так же пронзит и твое сердце!
— А, так вот что он задумал! — завопил агент, поднимаясь с места и весь дрожа от ярости. — Хорошо! Я был готов к этой наглости, к этому надругательству над законом. Генерал Клинч, я обращаюсь к вам и вашим солдатам! Немедленно схватите его и арестуйте!
Эта отрывистая речь долетела до меня среди невообразимого шума, который поднялся кругом. Клинч быстро сказал несколько слов стоящему рядом офицеру. Я видел, как полдюжины солдат вышли из рядов, кинулись на Оцеолу и окружили его.
Оцеола сдался не сразу. Несколько солдат в синих мундирах были опрокинуты на землю, и ружья выбиты у них из рук. Но десяток дюжих парней вцепились в Оцеолу мертвой хваткой. Только тогда молодой вождь прекратил отчаянное сопротивление. И, уступив силе, он стоял суровый и неподвижный, как статуя, отлитая из бронзы.
Это была развязка неожиданная и для белых и для индейцев, совершенно неоправданный акт насилия. Это был не суд, где судья имел право арестовать виновного за неуважение к власти. Это был совет, и даже оскорбительное поведение отдельного лица не могло караться без согласия обеих сторон. Генерал Томпсон превысил свои полномочия, он деспотически и незаконно воспользовался своей властью.
Трудно описать сцену, которая последовала за этим, — возникло невероятное смятение. Воздух огласили громкие крики солдат и женщин, плач и визг детей, боевой клич индейских воинов — все слилось в один общий гул. Никто не попытался освободить Оцеолу — это было невозможно при наличии стольких солдат и стольких предателей. Но вожди-патриоты, поспешно удаляясь, издали свой дикий клич: «Ио-хо-эхи!» — призывный военный клич семинолов, который предвещал расплату и месть. Солдаты потащили Оцеолу в форт.
— Тиран! — воскликнул он, устремив на агента сверкающий взор. — Ты одержал победу, поступив вероломно. Но не думай, что это конец! Ты можешь швырнуть Оцеолу в тюрьму, даже повесить его, если хочешь, но не надейся, что его дух умрет! Нет, он будет жить и взывать к мести! Его голос звучит уже сейчас! Ты слышишь эти звуки? Знаешь ли ты боевой клич Красных Палок? Запомни его получше! Не последний раз он звучит в твоих ушах! Слушай его, тиран! Это твой похоронный звон!
Таковы были угрозы молодого вождя, пока его уводили в форт. Когда я шел за толпой, кто-то дотронулся до моего плеча. Это была Хадж-Ева.
— Сегодня вечером у ви-ва[103], — шепнула она. — На воде будут тени… несколько теней. Может быть… деревья расступились. Мы увидели возделанные поля, засеянные безумная королева уже исчезла.
Глава 40
ЗАБИЯКА ГАЛЛАХЕР
Пленника заключили в крепкий каземат без окон. Доступ к нему получить было легко, особенно офицеру. Я собирался навестить его, но по некоторым причинам решил не делать этого днем. Мне хотелось увидеться с ним, но, по возможности, тайно, и я решил подождать наступления ночи.
У меня были и другие причины: я стремился закончить свое дело с Аренсом Ринггольдом. Я не мог сообразить, как мне действовать. Противоречивые чувства боролись во мне, мешались в каком-то хаосе: ненависть к заговорщикам, возмущение несправедливостью агента к Оцеоле, любовь к Маюми — полная нежности и доверия и в то же время полная сомнений и ревности. Как мог я ясно мыслить в таком смятении чувств?
Одно чувство преобладало над всеми остальными — гнев на того негодяя, который собирался отнять у меня жизнь в тот момент, когда страстная любовь пылала в моей груди. Такое бессердечие, такая беспричинная смертельная ненависть ко мне со стороны Ринггольда наполнили меня острой жаждой мести, и я решился во что бы то ни стало наказать его.
Только тот, на чью жизнь покушался убийца, может понять, как возненавидел я Аренса Ринггольда. Можно уважать противника, который, чувствуя себя оскорбленным или под влиянием гнева и ревности, открыто действует против вас. Даже на двух белых негодяев и желтого беглеца я глядел только с презрением, как на орудия, слепо действующие в чужих руках. Но самого дьявольского заговорщика я и ненавидел и презирал. Я чувствовал себя настолько оскорбленным, что не мог успокоиться, пока не попытаюсь наказать врага, пока не отомщу ему. Но как? Вот в этом и заключалась задача. Дуэль! Ничего другого я не мог придумать. Преступник был все еще под защитой закона, и я мог отомстить ему только с помощью собственного оружия.
Я хорошо взвесил слова Черного Джека, однако мой верный слуга тщетно увещевал меня. Я решил действовать наперекор его советам. Будь что будет! Я пошлю Ринггольду вызов на дуэль.
Только одно удерживало меня: ведь я должен еще найти повод для вызова. Это заставляло меня колебаться. Если мне удастся ранить Ринггольда или он ранит меня, то что же дальше? Я открою ему свои карты, и он воспользуется этим. А сейчас я могу легко расстроить его планы, потому что знаю их, а он моих планов пока не знает.
Эти соображения вихрем проносились в моем мозгу, хотя я и рассуждал с хладнокровием, которое впоследствии удивляло меня самого. Злобная ненависть этого негодяя и все, что случилось со мной за последнее время, прямо-таки ожесточили меня.
Мне необходим был друг, с которым я мог бы посоветоваться. Но кому мог я открыть эту страшную тайну?..
Что это? Неужели мой слух обманывает меня? Нет, это действительно голос Чарльза Галлахера, моего старого товарища по училищу. Я узнал его веселый, звонкий смех. Отряд стрелков под его командованием вступил в форт, и через минуту мы уже обнимали друг друга.
Может ли выпасть более удачный случай? В училище Чарльз был моим закадычным другом, он вполне заслуживал доверия, и я тут же рассказал ему обо всем. Пришлось многое объяснить ему, прежде чем он мне поверил. Чарльз склонен был считать все это шуткой, он никак не думал, что кто-то действительно мог покушаться на мою жизнь. Но свидетель Черный Джек подтвердил все, что я рассказал, и Чарльзу наконец пришлось взглянуть на дело серьезно.
— Не везет мне! — сказал он с ирландским акцентом. — Это самый страшный случай в жизни, с которым я, бедняга, когда-либо встречался. Матерь божия! Этот парень, должно быть, воплощенный дьявол! Джордж, мальчик мой, ты не заметил у него раздвоенных копыт?
Несмотря на свое имя и диалект, Чарльз был ирландцем только по отцу. Он родился в Нью-Йорке, и, если хотел, мог прекрасно говорить по-английски. Но ему была свойственна некоторая манерность, стремление прослыть оригиналом, у него вошло в привычку, беседуя с друзьями, прибегать к диалекту и уснащать свою речь чисто ирландскими выражениями. Он был немножко чудаковатый парень, но с благородной и чистой душой, с беззаветно преданным сердцем. К тому же Чарльз был далеко не глуп и не позволил бы так легко «наступить себе на ногу». За ним уже числились две или три дуэли, в которых он выступал и в качестве основного участника и в качестве секунданта. За его воинственность ему дали прозвище «забияка Галлахер». Я заранее знал, что он мне посоветует: «Вызови мерзавца на дуэль во что бы то ни стало!» Я объяснил ему, по каким причинам мне трудно вызвать Ринггольда на дуэль.
— Верно, мой мальчик! Ты прав. Но дело это не такое уж трудное.
— Как так?
— Заставь его вызвать тебя. Так будет лучше. Кроме того, ты получишь возможность сам выбрать оружие.
— Но как это сделать?
— О мой невинный цыпленок, это так же легко, как выбить пробку из бутылки. Назови его лжецом, а если он не очень обидится, щелкни его по носу или выплюнь табачную жвачку в его противную рожу. Ручаюсь, что он выйдет из себя. А я буду твоим секундантом… Ну пойдем, мой мальчик, — продолжал мой приятель, направляясь к двери. — Где его искать, этого мистера Ринггольда? Найди мне этого мерзавца, а я уж научу тебя, как поцарапать ему пуговицы. Ну, пошли вместе!
Этот план мне не особенно нравился, но у меня не хватило духу сопротивляться ему и я поплелся за неистовым сыном кельтской расы.
Глава 41
ПОВОД К ДУЭЛИ
Не успели мы выйти из дверей, как сразу наткнулись на того, кого искали. Ринггольд стоял недалеко от порога и разговаривал с группой офицеров. Среди них находился один франт, о котором я уже говорил, по прозванию Красавчик Скотт. Он состоял адъютантом при главнокомандующем и к тому же приходился ему родственником.
Я указал моему товарищу на Ринггольда.
— Вот этот, в штатском, — сказал я.
— Тебе не надо даже и указывать на него. Его змеиные глаза сами говорят за себя. Клянусь душой, не очень приятный взгляд! Ну, ему нечего бояться воды: кому суждено быть повешенным, тот не утонет! Послушай, Джордж, мой мальчик, — продолжал Галлахер серьезным тоном, — последуй в точности моему совету: наступи ему на ногу, и посмотрим, что он запоет. У него, наверно, мозоли — видишь, какие тесные сапоги он носит… Да ты с ним не деликатничай! Он, конечно, потребует, чтобы ты извинился, иначе ведь нельзя. А ты не захочешь, вот и все, никаких церемоний. Ну, а коли так не выйдет, тогда, черт побери, дай ему пинка.
Мне не понравился этот план.
— Нет, Галлахер, — сказал я, — это никуда не годится.
— Ну вот еще, пустяки! А почему же нет? Неужели ты собираешься так просто уйти отсюда? Подумай, мальчик мой, ведь это же негодяй, который хочет убить тебя! И в один прекрасный день, если ты дашь ему ускользнуть, он тебя укокошит!
— Это верно… но…
— Ба! Какие там «но»? Марш вперед! Послушаем, о чем они там чирикают. Уж я-то найду, к чему прицепиться, не будь я Галлахер!
Не зная, на что решиться, я последовал за своим товарищем, и мы подошли к группе офицеров. Конечно, я не собирался поступить по совету Галлахера и не терял надежды, что мне не придется прибегнуть к грубой уловке, предложенной им. И я не обманулся в своих надеждах. По-видимому, Аренс Ринггольд испытывал свою судьбу. Едва мы приблизились, как повод к дуэли уже нашелся.
— Ну, коли речь зашла об индейских красавицах, — сказал Ринггольд, — то никто не добился такого успеха, как Скотт. Он тут все время разыгрывает Дон Жуана с того самого момента, как появился в форте.
— Да что ж тут удивительного! — заметил один из только что подошедших офицеров. — Насколько мне известно, он неотразим и всегда покорял сердца всех красавиц в Саратоге. Как же индейская девушка может устоять перед ним?
— Не говорите этого, капитан Робертс. Лесные нимфы очень боятся нас, бледнолицых мужчин. Наверно, теперешняя возлюбленная стоила лейтенанту долгой осады, прежде чем он добился победы… Не так ли, лейтенант?
— Чепуха! — возразил франт, самодовольно ухмыляясь.
— Но ведь она наконец уступила? — спросил Робертс, обращаясь к Скотту.
Лейтенант не ответил, но его дурацкая улыбка, очевидно, должна была означать утвердительный ответ.
— О да! — вставил Ринггольд. — Теперь она его «фаворитка», как принято говорить.
— А имя? Как ее имя?
— Пауэлл. Мисс Пауэлл.
— Как! У нес не индейское имя?
— Нет, джентльмены, эта юная леди не дикарка, уверяю вас. Она играет на лютне, поет, читает и пишет такие миленькие любовные записочки… Не так ли, лейтенант?
Прежде чем лейтенант успел ответить, другой офицер спросил:
— Да ведь так же зовут и того молодого вождя, которого только что арестовали?
— Верно, — ответил Ринггольд. — Его тоже так зовут. Я забыл сказать, что это его сестра.
— Как! Сестра Оцеолы?
— Ни больше ни меньше. Они метисы. Среди белых они известны как Пауэллы. Так звали почтенного, старого джентльмена — их отца. Оцеола значит «Восходящее Солнце» — это имя, под которым он известен у семинолов. А ее настоящее имя… ах, это очень красивое имя!
— Какое же? Скажите нам, мы рассудим сами.
— Ее зовут Маюми.
— Действительно, прелестное имя.
— Очень красивое! Если сама девица так же хороша, как ее имя, то Скотт просто счастливец.
— О, она настоящее чудо красоты! Глаза влажные и блистающие пламенем любви, длинные ресницы, полные и сладкие, как мед, губы, высокий рост, стройна, как сама богиня Киприда[104], ножки крошечные, как у Золушки. Одним словом, она совершенство!
— Чудеса, да и только! Скотт — счастливейший из смертных! Но скажите, Ринггольд, неужели вы говорите серьезно? Действительно ли он покорил это индейское божество? По чести, удалось ли ему победить? Вы понимаете, что я имею в виду?
— Безусловно! — был мгновенный ответ.
До сих пор я не вмешивался. С самого начала этого разговора я стоял как вкопанный, словно меня заколдовали. Голова у меня кружилась, кровь приливала к сердцу, как расплавленный свинец. Столь дерзкое утверждение так ошеломило меня, что прошло некоторое время, прежде чем я мог собраться с силами. Некоторые из офицеров заметили, что этот разговор произвел на меня сильное впечатление. Но уже через несколько минут я успокоился. Отчаяние, овладевшее мной, заставило меня собрать всю свою волю, и как раз в тот момент, когда Ринггольд произнес эти дерзкие слова, я подошел к нему вплотную.
— Лжец! — крикнул я, и не успел он покраснеть от стыда, как я ударил его по щеке тыльной стороной руки.
— Чистая работа! — воскликнул Галлахер. — В значении этого жеста не может быть никакого сомнения!
Так оно и вышло. Мой противник воспринял пощечину, как полагалось, то есть как смертельное оскорбление. В таком обществе он не мог поступить иначе. Пробормотав несколько нечленораздельных угроз, он удалился в сопровождении своего друга — «покорителя женских сердец» и еще двух или трех офицеров.
После этого не только не собралась толпа любопытных, а, напротив, рассеялась и та небольшая группа офицеров, которые были свидетелями происшествия. Офицеры разошлись по домам, обсуждая между собой причины дуэли и строя предположения о том, когда и где «дело чести» может состояться.
Мы с Галлахером тоже отправились ко мне на квартиру и стали готовиться к поединку.
Глава 42
ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ
В ту пору, к которой относится мой рассказ, дуэли в армии Соединенных Штатов не были редким явлением даже в военное время, как показывает опыт, хотя это явное нарушение устава американской армии, — да, я полагаю, и каждой армии цивилизованного мира, — тем не менее на них смотрели сквозь пальцы и не наказывали виновных, а относились к ним снисходительно. Я могу утверждать, что любой офицер американской армии, который получил вызов, считает для себя более почетным нарушить устав, нежели соблюсти его.
После всего того, что было сказано и написано о дуэлях, протест против них — просто жалкое притворство, образец настоящего лицемерия, по крайней мере в Соединенных Штатах Америки. И хотя дуэли осуждаются всеми, я не хотел под этим предлогом уклоняться от нее. Я хорошо знаю, что никакой довод не защитил бы меня от омерзительной клички «трус». Я не раз замечал, что газеты, выступая с громовыми статьями против дуэлей, тем не менее первые готовы швырнуть позорное слово «трус» в лицо тому, кто отказывается сражаться.
Именно так и обстоит дело. В Америке стойкость убеждений хотя и вызывает похвалу, но не пользуется всеобщим признанием. Если вас вызвали на дуэль и вы отказались, то будут говорить, что вы увиливаете, что вы боитесь. И тот, кто отклонил вызов, пусть лучше не показывается на глаза любимой девушке.
Зная распространенный взгляд на дуэли, я был уверен, что Аренс Ринггольд примет мой вызов, и радовался, что мне удалось добиться этого, не открывая моей тайны. Но будь он даже величайшим трусом на свете, он не мог бы чувствовать себя таким несчастным, каким чувствовал я себя, когда вернулся домой.
Мой жизнерадостный товарищ не мог развеселить меня, хотя я не боялся предстоящей схватки — не это омрачало мою душу. Наоборот, я почти забыл о дуэли и думал о Маюми — о том, что я только что услышал. Она была неверна, неверна, предала меня, предала себя, погибла, погибла навеки!
Поистине я был несчастен. Еще несчастнее могла бы сделать меня только одна вещь на свете — препятствие к дуэли, помеха моей мести. Теперь я надеялся только на дуэль. Она должна была облегчить мое сердце, охладить мою пылающую кровь. И не только Аренс Ринггольд вызывал во мне такую ненависть, а еще и тот, кто был виновен в моих страданиях, — соблазнитель Маюми. Если бы я мог найти предлог вызвать на дуэль и его! Почему же тогда я не ударил этого франтика за его глупую улыбку? Я мог бы драться с ними обоими; сначала с одним, потом с другим… Так я неистовствовал, а Галлахер наблюдал за мной. Мой друг не знал всей глубины моей тайны. Он спросил, что я имею против адъютанта.
— Скажи только слово, Джордж, мальчик мой, и мы устроим забаву вчетвером. Клянусь святым Патриком![105] Мне бы очень хотелось сбить спесь с этого павлина.
— Нет, Галлахер, нет. Это не твое дело. Это не удовлетворит меня. Подождем, когда узнаем больше. Я не могу поверить! Я не могу поверить!
— Поверить чему?
— Не теперь, мой друг. Когда наступит время, я все объясню.
— Ну ладно, мой мальчик. Чарльз Галлахер не такой человек, чтобы выпытывать чужие тайны. А теперь пойдем посмотрим, здорово ли лают наши бульдоги. Надеюсь, что этот бездельник не разболтает о дуэли в штабе, а то нам придется разочароваться.
Именно этого я и боялся. Я знал, что, если бы мой противник пожелал, я мог бы очутиться под арестом. Тогда все дело провалилось бы и я попал бы в еще худшее положение. Отец Ринггольда уехал — это приятное обстоятельство было мне известно, но все-таки… главнокомандующий друг их семьи — достаточно было шепнуть ему хотя бы одно слово. Я боялся, что адъютант Скотт, по наущению Аренса Ринггольда, шепнет генералу Клинчу это слово.
— В конце концов, он не посмеет, — говорил Галлахер. — Ты прямо-таки пригвоздил его к позорному столбу! Он ни за что не посмеет прибегнуть к такому гнусному маневру. Об этом могут узнать, и тогда на него же будут вешать всех собак. Кроме того, моя малюточка, ведь он же хочет во чтобы то ни стало тебя убить! Зачем же ему упускать такой случай? Говорят, что он неплохой стрелок. Не бойся, он будет драться. На этот раз он не улизнет: он должен драться и будет драться… Ага! Что я говорил? Смотри, сюда идет сам Аполлон Бельведерский![106] Святой Моисей! Он сияет, как Феб![107]
У дверей раздался стук, и адъютант Скотт в полной форме вошел в комнату.
«Вероятно, он сейчас арестует меня», — подумал я, и сердце у меня упало.
Но я ошибался. Записка, принесенная им, заключала в себе нечто иное. Я облегченно вздохнул: это был вызов.
— Лейтенант Рэндольф, если не ошибаюсь? — обратился ко мне адъютант.
Я молча указал на Галлахера.
— Следует ли это понимать так, что капитан Галлахер ваш друг?
В знак подтверждения я слегка поклонился.
Оба офицера взглянули друг на друга и сейчас же любезно и хладнокровно приступили к обсуждению дуэли. Я сделал следующее наблюдение: учтивость секундантов во много раз превосходит любезность самых учтивых придворных в мире.
Переговоры между секундантами продолжалясь недолго. Галлахер хорошо знал все формальности, да и адъютант тоже, по-видимому, разбирался в этих делах. Через пять минут все было определено — время, место, оружие и расстояние. Я слегка кивнул. Галлахер размашистым жестом отдал честь, и адъютант, в свою очередь отвесив чопорный поклон, удалился.
* * * *
Не стану утомлять вас ни рассказом о том, что я думал перед дуэлью, ни подробностями самой дуэли. Описания этих грозящих смертью поединков часто попадаются в книгах, и их однообразие послужит мне извинением за то, что я их не повторяю.
Наша дуэль отличалась только родом оружия. Мы выбрали винтовки, а не шпаги или пистолеты. Это был мой выбор, на который я как вызванный имел право. Но и противник также хорошо владел этим оружием. Я выбрал винтовку как наиболее смертоносное оружие.
Мы решили встретиться за час до заката солнца. Я настоял на такой ранней встрече, боясь, что нам кто-нибудь может помешать. Местом был избран берег озера, где я разговаривал с Хадж-Евой. Расстояние определили в десять шагов.
Мы встретились, встали на места спиной друг к другу и ждали рокового сигнала. Прозвучало: «Раз, два, три!» Мы быстро обернулись и выстрелили.
Я услышал, как пуля просвистела у моего уха, но она не задела меня. Когда дым рассеялся, я увидел, что противник лежит на земле. Ринггольд был жив, он корчился и стонал от боли. Секунданты и несколько офицеров подбежали к нему. Я не двинулся с места.
— Ну что? — спросил я, когда Галлахер вернулся.
— Попал, клянусь Юпитером! Ты лишил его возможности владеть правой рукой — перелом кости выше локтевого сустава.
— И только-то?
— Ну, клянусь душой, неужели тебе этого мало? Разве ты не слышишь, как скулит этот пес?
Я чувствовал себя, как тигр, отведавший крови, хотя теперь сам не могу объяснить себе своей жестокости. Ринггольд замышлял убить меня — в отместку я жаждал его крови. Все эти мысли сводили меня с ума. Я, конечно, не стал извиняться перед ним, да и моему противнику было совсем не до того. Он умолял скорее унести его домой, и тем это дело пока и окончилось.
Это была моя первая дуэль в жизни, но не последняя.
Главa 43
СВИДАНИЕ
Наши противники и зрители молча удалились, и мы с Галлахером остались вдвоем.
Я собирался подождать у озера Хадж-Еву, которая должна была скоро прийти. Взглянув на запад, я увидел, что солнце зашло за вершины деревьев. Сумерки в это время года продолжаются недолго, и в небе уже показался молодой месяц. Хадж-Ева могла появиться с минуты ни минуту. Мне не очень хотелось, чтобы Галлахер присутствовал при нашем свидании, и я попросил оставить меня одного.
Мой товарищ был несколько удивлен и смущен подобной просьбой. Но он был слишком хорошо воспитан, чтобы возражать.
— Право, Джордж, мальчик мой, с тобой происходит что-то неладное, — заявил он, собираясь уходить. — И все это из-за какой-то ерундовской дуэли? Разве ты недоволен ее исходом? Или ты очень огорчен, что не ухлопал его? Клянусь небом, у тебя такой меланхоличный и подавленный вид, как будто это он укокошил тебя.
— Оставь меня ненадолго одного, дорогой мой. Когда я вернусь, я расскажу тебе о причинах моей меланхолии и объясню, почему сейчас вынужден лишиться твоего приятного общества.
— Ну, об этом-то я догадываюсь, — сказал он, многозначительно улыбаясь. — Там, где мужчины обмениваются выстрелами, всегда замешана юбка. Ну ладно, мой мальчик! Можешь не сообщать мне своей тайны, у меня слишком болтливый язык. Надеюсь, что ты проведешь время веселее с той, кого ждешь, чем со мной. Но смотри не попади в какую-нибудь неприятную историю, а это, клянусь душой, вполне возможно — после того, что я узнал от тебя. Возьми-ка этот свисток, ты ведь знаешь, что я любитель собак.
Он вынул из петлицы и протянул мне серебряный свисток.
— Если произойдет какое-нибудь затруднение или неприятность, то стоит тебе только свистнуть, и Чарльз Галлахер очутится рядом с тобой скорее, чем ты успеешь повернуться. Да поможет тебе Амур! А я пока пойду убивать время за стаканом пунша.
Сказав это, мой задушевный друг предоставил меня моей собственной судьбе.
Не успел он скрыться из виду, как я совершенно забыл о нем и даже о кровавой схватке, в которой только что участвовал. Маюми и ее измена — вот что всецело занимало мои мысли.
Сначала мне и в голову не приходило сомневаться в истине того, что я слышал. Как я мог сомневаться, располагая такими доказательствами — свидетельством тех, кто знал об этом скандальном происшествии, свидетельством главного действующего лица, чья молчаливая улыбка говорила больше, чем любые слова, улыбка, таившая в себе наглое торжество!.. Почему я позволил уйти ему безнаказанно, почему я тут же не вызвал его на дуэль? Впрочем, еще не поздно. Я заставлю его высказаться откровенно, начистоту. Да или нет? Если да, то последует вторая дуэль, еще более ожесточенная, чем первая, — дуэль не на жизнь, а на смерть!
Я не сомневался более в жестокой истине. Я целиком отдавал себя во власть этой страшной пытки. Я долго терзался, но мало-помалу в моей душе вновь затеплилась надежда. Я вспомнил слова Хадж-Евы, сказанные прошлой ночью. Неужели в этот момент она смеялась надо мной? Но ведь она находилась в полном сознании, это не было игрой ее болезненной фантазии, воспоминанием о минувшем, давно забытом эпизоде. Нет-нет, ее рассказ не был выдумкой, ее мысли не были бредом, ее слова не были насмешкой.
Как утешительно было надеяться на это! Но, с другой стороны, сейчас же на смену этим успокоительным мыслям являлись другие, отгоняли их, затемняли, как облака затемняют солнце. Я вспоминал легкомысленные фразы, сказанные многозначительный тоном: «Он добился успеха!», «Она его возлюбленная!», «Несомненно!». Эти слова были для меня хуже смерти.
Я жаждал ясности, правды и ясности — ничто так не мучает, как неизвестность. Я стремился узнать правду с безрассудной прямолинейностью и опрометчивостью — только бы выяснить все, что случилось с Маюми, и убедиться, что прошлое ее было позором, а будущее — хаосом беспредельного отчаяния.
Я стремился узнать правду и с нетерпением ждал прихода Хадж-Евы. Я не знал, чего хотела от меня эта безумная женщина. Я полагал, что дело идет о пленнике. Начиная с полудня я совсем не думал о нем.
Сумасшедшая королева бывала везде, знала всех. Она должна знать и понимать все, что произошло. Она тоже когда-то испытала, что такое измена. Я направился к тому месту, где мы встретились с ней прошлой ночью. Между пальмами шла тропинка — это была кратчайшая дорога к тенистому берегу озера. Я спустился по откосу и вышел к развесистому дубу. Хадж-Ева уже была там. Яркие лучи луны, пробиваясь сквозь листву, освещали ее величественную фигуру. А змеи, обвившиеся вокруг ее шеи и пояса, сверкали своей металлической чешуей, как драгоценные каменья.
— А, маленький мико, ты пришел? Мой храбрый мико! Где же были твои глаза и твоя рука? Почему ты не убил этого негодяя?
За оленем в час ночной Шел с винтовкой зверобой. Был он трус, а не герой! Вдруг из чащи вышел волк, Злой, худой, голодный волк, Скалит зубы страшный волк! Задрожал наш зверолов, Ну а волк без лишних слов Прыг в кусты — и был таков! И теперь он жив-здоров!— Ха-ха-ха! Разве это не так, мой храбрый мико?
— Нет, Ева, не страх помешал мне. А кроме того, ведь волку не удалось убежать невредимым.
— Ах, ты ранил его в лапу! Но он залижет свою рану и будет опять так же крепок, как и раньше. Нехорошо! Тебе нужно было убить его, иначе, мой милый мико, он натравит на тебя целую стаю волков!
— Ну что ж поделаешь! Значит, мне не везет!
— Нет, молодой мико, ты должен быть счастлив, ты будешь счастлив, друг семинолов! Подожди, и ты увидишь…
— Что я увижу?
— Терпение, дитя! Сегодня ночью под этим деревом ты увидишь красоту, ты оценишь прелесть, и, может быть, Хадж-Ева будет отомщена!
Последние слова она произнесла торжественно и гневно.
Я не мог понять, на кого она гневалась и кому хотела отомстить.
— Его сын… да… — продолжало безумная, говоря сама с собой. — Это, должно быть, его глаза, его волосы, его облик, его походка, его имя — его сын и ее. О, Хадж-Ева будет отомщена!
Не мне ли она угрожает? Я подошел к ней и спросил.
— Добрая Ева, о ком ты говоришь?
Услышав мой голос, она вздрогнула и взглянула на меня бессмысленным взглядом, а затем затянула свою обычную песню:
Зачем я поверила нежным словам И с белым бродила по темным лесам?Внезапно оборвав песню, она, казалось, снова пришла в себя и попыталась дать разумный ответ на мой вопрос:
— О ком, молодой мико? О нем… о красавце… о злом! Это злой дух! Смотри, он идет… Видишь его отражение в воде? Скорей полезай наверх, спрячься в листве, так же как вчера, и жди, пока Ева вернется. Слушай так, чтобы все услышать, и смотри так, чтобы все увидеть. Но заклинаю тебя собственной жизнью: не шелохнись, пока я не дам тебе знака. Вверх, вверх, живо!
Подтолкнув меня к дубу, сумасшедшая, как и в прошлую ночь, скользнула в тень деревьев и исчезла. Не теряя времени, я взобрался на дуб и стал молча ждать.
Тень стала короче, но мне удалось рассмотреть, что это был мужчина. Затем тень исчезла. Еще секунда — и над водой показалась вторая тень. Она двигалась по холму, как бы следуя за первой, хотя, по-видимому, эти люди пришли не вместе. Я разглядел и вторую тень. Это была молодая стройная женщина с непринужденной походкой, со свободными движениями. Неужели это Хадж-Ела? Может быть, она прошла через заросли пальм и теперь возвращалась, следуя за мужчиной?
Так мне показалось сначала, но скоро я убедился в своей ошибке.
Мужчина подошел к дереву, и лунный свет озарил его черты. Я узнал адъютанта. Он остановился, вынул часы, поднял циферблат к свету и посмотрел, который час. Но я уже не обращал на него внимания — под серебряными лучами луны появилось другое лицо, обманчивое и ослепительное, как сама луна. Это было лицо, которое казалось мне самым красивым на свете, — лицо Маюми!
Глава 44
ВСЕ СТАЛО ЯСНО
Так вот про какие тени говорила Хадж-Ева! Это были черные тени, лежавшие на моем сердце!
Безумная королева микосоков, чем я заслужил эту пытку? И ты тоже стала моим врагом! И вряд ли для самого смертельного врага ты могла изобрести более страшные муки!
Маюми стояла лицом к лицу со своим возлюбленным, обольщенная — со своим обольстителем. Я не сомневался в том, что это они. Лунный свет озарял обоих, но это был уже не мягкий серебристый свет, а пылающий, наглый и алый. Может быть, мне это только показалось? Может быть, это фантазия, порожденная моим воспаленным мозгом? Я был уверен, что это свидание заранее условлено. Да и как можно было думать иначе? Ни он, ни она не высказали ни малейшего изумления. Они встретились так, как будто сговорились об этом, как будто и прежде часто встречались.
Очевидно, они ожидали друг друга. В их встрече не было ничего необычного.
Я переживал ужасные минуты. Если собрать воедино все страдания, какие могут выпасть на долю человека за целую жизнь, и испытать их за одно мгновение — это было бы менее тяжко. Кровь как будто сжигала мое сердце. Я испытывал такую страшную боль, что едва удерживался, чтобы не застонать. Но, сделав усилие, непомерное усилие, я овладел собой и, ухватившись за ветви, застыл на своем месте, полный решимости узнать все до конца. Это была счастливая мысль: если бы я теперь дал волю своим нервам и безрассудно попытался мстить, то, вероятно, дело кончилось бы для меня очень печально.
Терпение оказалось моим ангелом-хранителем, и развязка получилась совершенно иная. Я замер на своей ветке и затаил дыхание. Что они скажут? Что сделают?
Я чувствовал себя так, как будто надо мной был занесен меч. Хотя если вдуматься, то это сравнение и верное и неверное — меч уже опустился, сильнее он не мог меня поразить. И душа моя и тело как-будто застыли, отныне я был нечувствителен к любой боли.
Итак, я сидел неподвижно, затаив дыхание. Что они скажут? Что сделают?
Свет луны падал на Маюми, озаряя ее с головы до ног. Как она выросла! Теперь это была уже вполне сложившаяся женщина, и ее красота не отставала от ее развития. Она была еще красивее, чем раньше. Демон ревности! Неужели ты недоволен тем, что уже натворил? Разве я мало страдал? Почему ты представил мне ее теперь в таком восхитительном обличии? О, если бы она была уродливой, страшной ведьмой, это доставило бы мне наслаждение, исцелило бы мою израненную душу!
Однако, как и прежде, выражение ее прекрасного лица было кротким и невинным. Ни одной черточки, изобличавшей вину, нельзя было заметить на этом спокойном лице, ни отблеска зла не мелькало в этих огромных глазах. Небесные ангелы прекрасны, но они добродетельны. Кто бы мог поверить, что под этой ангельской внешностью таилось зло? Я ожидал, что ее лицо отразит всю ее лживость, но мои ожидания не оправдались. И в этом, может быть, скрывался луч надежды.
Все эти мысли вихрем промчались у меня в голове, ибо мысль быстрее, чем молния. Я ждал первого слова, которого, к моему изумлению, мне пришлось прождать несколько секунд. Будь я на месте Скотта, я не мог бы встретиться с ней так хладнокровно. Все, что было у меня на сердце, высказал бы мой язык. Теперь я понял: первый порыв страсти прошел, прилив любви отхлынул, эта встреча больше не представляла для него прелести новизны. Может быть, девушка уже успела надоесть ему? Посмотрите-ка, как сдержанно они оба ведут себя. В их отношениях чувствуется какая-то холодность… может быть, даже произошла любовная ссора.
Как ни горьки были такие мысли, однако я чувствовал некоторое облегчение, наблюдая за влюбленными. В их отношениях мне почудилась какая-то враждебность. Ни одного слова, ни одного жеста, они как бы затаили дыхание. О чем они будут говорить? Что последует дальше?
Но моему тревожному удивлению был положен предел. Наконец адъютант заговорил:
— Милая Маюми, значит, вы сдержали свое обещание?
— А вот вы не сдержали своего. Нет… я читаю это в вашем взоре. До сих пор вы еще ничего для нас не сделали.
— Маюми, поверьте, что у меня не было подходящего случая. Генерал был так занят, и я не мог его беспокоить. Потерпите немного. Я уверен, что мне удастся убедить его, и ваша собственность будет вам возвращена. Скажите матери, чтобы она не беспокоилась: ради вас, Маюми, я не пожалею никаких усилий. Поверьте, что я так же озабочен этим, как и вы. Но вы ведь знаете, какой крутой нрав у моего дяди. Да к тому же он находится в самых дружеских отношениях с семьей Ринггольдов. Вот в чем самое главное затруднение, но я надеюсь преодолеть и его.
— Ваши речи прекрасны, сэр, но они мало чего стоят. Мы давно ждем, что вы исполните свое обещание помочь нам. Мы хотим только справедливого судебного следствия, и вы легко могли бы это устроить. Теперь мы уже больше не заботимся о своих землях, ибо нам нанесено еще более страшное оскорбление. Оно заставляет забыть другие, меньшие беды. Неужели вы думаете, что я пришла бы сюда ночью, если бы не это несчастье с моим братом? Вы уверяете, что хорошо относитесь к нашей семье. Теперь, когда я обращаюсь к вам с просьбой, вы можете доказать это. Добейтесь освобождения моего брата, и мы поверим вашим сладким речам, которые слышим так часто. Не говорите, что это невозможно. Это даже нетрудно для вас — ведь вы пользуетесь таким влиянием среди белых вождей. Мой брат, может быть, был резок, но он не совершил никакого преступления, за которое его нужно было бы наказать. Одно слово великому военному вождю — и Оцеола будет свободен! Идите и произнесите это слово!
— Милая Маюми! Вы даже не отдаете себе отчета в сложности поручения, которое вы на меня возлагаете. Ваш брат арестован по приказанию правительственного агента и главнокомандующего. У нас не то, что у вас, индейцев. Я только подчиненный, и если бы я обратился к генералу и посоветовал ему исполнить вашу просьбу, он мог бы не только сделать мне выговор, но даже, может быть, вздумал бы и наказать меня.
— О, вы боитесь выговора за справедливый поступок! А еще толкуете мне здесь о дружбе! Ну хорошо, сэр! Мне остается только сказать вам вот что: мы больше вам не верим. И вам больше незачем приходить в нашу скромную хижину!
Она отвернулась от него с презрительной улыбкой. Каким восхитительным показалось мне это презрение!
— Постойте, Маюми! Дорогая Маюми! Не расставайтесь со мной так! Не сомневайтесь, я сделаю все, что от меня зависит.
— Выполните мою просьбу: освободите брата и позвольте мне вернуться домой.
— И если я это сделаю…
— Ну, сэр…
— Знайте, Маюми, что, пытаясь исполнить вашу просьбу, я рискую многим. Меня могут лишить офицерского чина, разжаловать в солдаты, предать позору… Меня могут заключить в тюрьму, даже худшую, чем та, куда они собираются отправить вашего брата. И на все это я готов пойти, если…
Девушка молча ждала, что он скажет дальше.
— И я готов вынести все это, даже рисковать жизнью, если вы… — здесь в голосе его послышалась страстная мольба, — если вы согласитесь…
— На что?
— Милая Маюми, неужели мне надо говорить вам об этом? Неужели вы не понимаете, что я хочу сказать? Неужели вы не видите моей любви, моего преклонения перед вашей красотой…
— На что же я должна согласиться? — спросила она мягким тоном, в котором как будто послышалась снисходительность.
— Только любить меня, прелестная Маюми. Стать моей возлюбленной!
Несколько мгновений царило молчание. Благородная девушка стояла неподвижно, как статуя. Она даже не вздрогнула, услышав это наглое предложение. Она как будто окаменела.
Ее молчание ободрило пылкого влюбленного. По-видимому, он принял его за согласие. Он не мог видеть ее глаз, иначе он уловил бы в них то, что мгновенно заставило бы его замолчать. Он, наверно, не заметил взгляда, брошенного девушкой, иначе он вряд ли совершил бы такую ошибку. Он продолжал:
— Обещайте мне это, Маюми, и ваш брат уже сегодня будет свободен, а вы получите все свои…
— Наглец! Наглец! Ха-ха-ха!
Никогда в жизни не слышал я ничего более восхитительного, чем этот смех. Это были для меня самые сладостные звуки. Ни свадебный звон колокола, никакие лютни, арфы и кларнеты, никакие трубы и фанфары в мире не могли бы прозвучать для меня более пленительной музыкой, чем этот смех.
Казалось, что луна льет серебро с неба, звезды стали крупнее и ярче, ветерок повеял чудесным ароматом, как будто благоухание пролилось с небес, и весь мир для меня внезапно превратился в земной рай.
Глава 45
ДВЕ ДУЭЛИ В ОДИН ДЕНЬ
Теперь я мог бы спуститься вниз, но меня охватило чувство невыразимого блаженства, и я застыл в каком-то оцепенении. Как будто из моего сердца извлекли отравленную стрелу… Кровь быстрее заструилась в моих жилах, сердце забилось ровнее и свободнее, а душа ликовала. Я готов был кричать от радости и с трудом сдерживал себя, дожидаясь того момента, когда можно будет сойти вниз. Между тем свидание внизу еще продолжалось. Я услышал голос Маюми.
— Возлюбленной… вот оно что! — презрительно воскликнула гордая красавица. — Так вот в чем заключается ваша дружба? Негодяй! За кого вы меня принимаете? За продажную женщину? За доступную всем индианку из племени ямасси? Знайте, сэр, что я не ниже вас по происхождению. Хотя ваши бледнолицые друзья отняли у меня все состояние, но есть одна вещь на свете, которую никто никогда у меня не может отнять: это мое доброе имя. «Возлюбленной»! Глупец! Я не согласилась бы стать даже вашей женой. Я готова лучше нагой бродить по дебрям диких лесов и питаться желудями, чем продаться вам, отдаться во власть вашей низменной любви! И мой брат скорее согласился бы всю свою жизнь томиться в цепях, чем купить свободу такой ценой! О, если бы он был здесь! Если бы он был свидетелем этого гнусного оскорбления! Негодяй, он переломил бы тебя, как тростинку!
Ее глаза, поза, решительная поступь, бесстрашные манеры — все это напоминало мне Оцеолу в момент ареста. Ее неудачливый поклонник смутился и отступил перед этими разящими упреками и в течение нескольких минут стоял жалкий и пристыженный. Еще минуту назад он, может быть, подавил бы свою досаду и позволил бы девушке уйти беспрепятственно. Но презрение, с которым она встретила его домогательства, пробудило в нем дерзость отчаяния и довело до того, что он решил применить силу.
Я думаю, что ничего подобного он не замышлял, когда отправлялся на свидание. Хотя адъютант был человек развращенный, но все же не рискнул бы на такое отчаянное предприятие. Этот напыщенный, тщеславный франт все-таки не мог быть дерзким по отношению к девушке; только упреки индианки вынудили его решиться на такую крайность.
Маюми отвернулась от него и пошла прочь.
— Куда ты спешишь, моя смуглая красавица? — закричал он, бросаясь за ней и хватая ее за руку. — Не думай, что ты так легко от меня отделаешься. Я выслеживал тебя целые месяцы, и теперь, клянусь, настала минута, когда тебе придется расплатиться за все твои коварные улыбки! Твое сопротивление ни к чему не приведет. Мы здесь одни, и, прежде чем мы расстанемся, я…
Дальше я не слушал. Я стал быстро спускаться со своей вышки, спеша к ней на помощь. Но кто-то другой опередил меня.
Хадж-Ева, сверкая глазами и заливаясь безумным смехом, кинулась вперед. В руках ее извивалась гремучая змея. Змея выставила голову; видно было, что она разъярена и готовится к нападению. Я слышал шипенье и резкий звук «скирр-рр» ее погремушек.
Через секунду сумасшедшая стояла уже рядом с незадачливым соблазнителем. Он испугался, выпустил девушку и, отскочив, стоял, задыхаясь, ошеломленно глядя на женщину, которая так внезапно появилась перед ним.
— Хо! хо! — пронзительно завопила безумная. — Его сын! Его сын! И он такой же, как его изменник-отец в тот день, когда погубил доверчивую Еву! Да и случилось это в тот же час, и месяц был в той же четверти, такой же рогатый и злой. Он с усмешкой глядел сверху на преступление. Хо! хо! Час, когда совершился грех, будет часом мести! Преступление отца должно быть искуплено сыном. Великий Дух! Дай мне силу отомстить! Читта-мико, отомстим!
Взывая к духу и произнося заклинания, она бросилась к испуганному офицеру протянув руку вперед, чтобы змея ужалила его.
Адъютант машинально выхватил свою шпагу, как бы охваченный единственным побуждением защитить себя и закричал:
— Чертова колдунья! Если ты сделаешь еще хоть один шаг, я проколю тебя насквозь! Прочь! Назад, или, клянусь, я заколю тебя!
По его решительному тону чувствовалось, что он не шутит. Однако Ева не испугалась. Она продолжала наступать, не обращая внимания на сверкающее лезвие, направленное прямо на нее.
В этот момент подоспел и я и также выхватил свою шпагу, чтоб отпарировать роковой удар и спасти Еву, которая безрассудно наступала на адъютанта. Но мне так и не пришлось нанести удар. То ли пораженный диким странным видом безумной женщины, то ли боясь, что она швырнет в него змею, адъютант в паническом страхе вдруг стал пятиться назад. Сделав два шага, он очутился на самом краю каменистого берега, зацепился ногой за камень, поскользнулся и полетел в воду. Озеро было глубокое, и он сразу скрылся под водой. Быть может, это падение и спасло ему жизнь. В следующий момент он снова показался на поверхности и быстро стал карабкаться на берег. Теперь он не помнил себя от ярости и, выхватив шпагу, ринулся на Хадж-Еву. Его гневные проклятия свидетельствовали о его решимости убить ее тут же на месте. Но его шпага не вонзилась в нежное тело женщины и не поразила змею. Сталь ударилась о такую же твердую блестящую сталь.
Я бросился между адъютантом и его жертвой. Мне удалось удержать Хадж-Еву от свершения ее мстительного замысла. До сих пор адъютант не видел меня. Ярость, больше чем вода, ослепила его, и только когда наши клинки встретились, он заметил мое присутствие.
Последовала небольшая пауза. Все молчали.
— Это вы, Рэндольф? — удивленно воскликнул он.
— Да, лейтенант Скотт, это я, Рэндольф. Простите за непрошеное вмешательство, но, услышав, что ваша нежная любовная беседа вдруг перешла в ссору, я счел своим долгом вмешаться…
— Вы подслушивали? А позвольте узнать, сэр, разве это вас касается? Кто дал вам право шпионить за мной и вмешиваться в мои дела?
— Право? Это долг каждого честного человека — защитить слабую невинную девушку от посягательств такого хищника, как вы. Вы еще хуже, чем Синяя Борода!
— Вы раскаетесь в этом! — взвизгнул адъютант.
— Теперь — или когда?
— Когда вам будет угодно!
— Сейчас удобнее всего. Начинайте!
Не говоря ни слова больше, мы скрестили наши шпаги, и началась ожесточенная игра клинков.
Схватка была короткой. Сделав выпад в третий или четвертый раз, я ранил своего противника в плечо, и он больше не мог владеть правой рукой. Его шпага со звоном упала на гальку.
— Вы ранили меня! — закричал он и добавил, указывая на упавшую шпагу: — Я безоружен! Довольно, сэр, я удовлетворен…
— А я буду удовлетворен только тогда, когда вы на коленях попросите прощения у той, которую вы так грубо оскорбили.
— Никогда! — отвечал он. — Никогда! — И, произнеся это слово, которое, по-видимому, должно было выразить его непреклонное мужество, он вдруг обернулся и, к величайшему моему изумлению… бросился бежать.
Я помчался за ним и вскоре догнал его. Я мог бы всадить шпагу ему в спину, но теперь я уже не жаждал его крови и ограничился тем, что дал ему хорошего пинка ногой в то место, которое Галлахер назвал бы «задним фасадом». Удовольствовавшись этим прощальным приветом, я предоставил адъютанту возможность продолжать свое постыдное бегство.
Глава 46
МОЛЧАЛИВОЕ ПРИЗНАНИЕ
Мы юной любви вспоминаем дни Под пальмами вдвоем… Ты вновь на свою голубку взгляни…Это Хадж-Ева напевала одну из своих любимых мелодий. Затем я услышал другой, более нежный голос, назвавший меня по имени:
— Джордж Рэндольф!
— Маюми!
— Хо-хо! Оба наконец вспомнили… Это прекрасный остров, но он хорош для вас, а для Хадж-Евы мрачный… Не стану больше думать… нет, нет!
Мы юной любви вспоминаем дни Под пальмами вдвоем… Ты вновь на свою голубку взгляни…Когда-то это был мой остров, теперь он стал твой, мой милый мико, и твой, моя красавица. Дорогие мои! Оставляю вас одних наслаждаться, вам не нужна старая, сумасшедшая королева. Я ухожу — не бойтесь ни шороха ветерка, ни шепота деревьев. Никто не подкрадется к вам, пока Хадж-Ева караулит, и читта-мико тоже будет охранять вас. Хо, читта-мико!
Мы юной любви вспоминаем дни…Безумная снова запела свою песню и ушла, оставив меня наедине с Маюми. Мы оба несколько смутились.
Ведь мы никогда не обменивались с нею ни одним признанием, ни одним словом любви. Хотя я любил Маюми со всем пылом своего юного сердца и теперь уверился в том, что и она любит меня, но мы еще до сих пор не сказали этого друг другу. У нас обоих точно язык отнялся.
Но в эту минуту слова были бы излишни. Между нами как будто прошел электрический ток, наши души и сердца слились в счастливом единении, мы без слов понимали друг друга. Никакие речи не могли бы убедить меня сильнее в том, что сердце Маюми принадлежит мне.
Очевидно, и она чувствовала то же самое. Нас волновали одни и те же мысли. По всей вероятности, Хадж-Ева уже рассказала ей о том, как я пылко изливал свои чувства. По веселому, спокойному взгляду Маюми я догадался, что и она не сомневается во мне. Я раскрыл объятия. И моя любимая, как бы поняв мой призыв, спрятала личико у меня на груди.
Мы не произнесли ни слова. Тихий, нежный возглас сорвался с ее губ, когда она прильнула к моей груди и самозабвенно обвила мою шею руками.
Несколько мгновений мы простояли молча, только наши сердца как бы шептались между собой. Затем смущение растаяло, как легкое облачко под лучами летнего солнца, и мы наконец признались во взаимной любви. Я не стану пересказывать здесь наши любовные речи. Эти самые священные слова в передаче часто звучат пошло, поэтому я воздержусь от подробностей.
В этот сладостный миг оба мы испытывали невыразимое блаженство. Немного спустя мы опомнились и, отвлекшись от настоящего, заговорили о прошлом и о будущем.
Я расспросил Маюми, и она правдиво рассказала мне все, что произошло в мое отсутствие. Она призналась без всякого кокетства, что с первой же нашей встречи полюбила меня и в течение всех этих долгих лет разлуки ей никто не нравился. Она простодушно удивлялась, что я не догадывался об этом. Я напомнил ей, что она никогда не говорила мне о своей любви. Маюми сказала, что это верно, но добавила, что она и не думала скрывать ее. Она оказалась проницательнее меня и догадалась, что я люблю ее. Маюми говорила так свободно и откровенно, что мои подозрения рассеялись. Она оказалась благороднее меня: никогда Маюми и не подумала бы сомневаться во мне. Только один раз, совсем недавно, она поддалась этому чувству. Выяснилась и причина: оказывается, ее неудачливый поклонник пытался отравить ее слух клеветой на меня. Поэтому и было дано поручение Хадж-Еве.
Увы! История моей любви была не столь безупречной. Я мог открыть Маюми только часть истины. Но я чувствовал угрызения совести, когда мне приходилось, чтобы не огорчить девушку, умалчивать о том или ином эпизоде из моего прошлого.
Но прошлое оставалось прошлым, и в нем уже ничего нельзя было изменить. Зато более светлое будущее открывалось передо мной, и я дал себе клятву искупить свою вину. У этого чудесного создания, которое я теперь держал в своих объятиях, никогда больше не будет повода упрекать меня.
Я испытывал чувство гордости, когда слушал чистосердечное признание Маюми в любви, но, как только мы заговорили о ее семье, во мне снова закипела кровь от гнева. Она рассказала мне о судебных процессах, несправедливостях и оскорблениях, перенесенных ими от белых, и особенно от их соседей — Ринггольдов.
Она рассказала мне все, что я уже прекрасно знал. Но были еще обстоятельства, известные только Маюми. Ринггольд, этот презренный лицемер, пытался ухаживать за нею. Только страх перед ее братом вынудил его оставить ее в покое.
Другой вздыхатель, Скотт, пытался вкрасться в доверие к ней под видом дружбы. Он знал, как и все остальные, в каком положении находилось судебное дело о плантации Пауэллов, и, пользуясь своими родственными связями с влиятельными лицами, обещал добиться возвращения им земли. Это было сплошное притворство, он и не думал сдержать свое обещание, но его сладкоречивые уверения обманули благородное, доверчивое сердце Оцеолы. Вот почему этот бездушный негодяй получил доступ в семью Пауэллов и сделался там почти близким человеком. Несколько месяцев он уже бывал у них, стараясь улучить удобный момент и поговорить с Маюми откровенно. Все это время он осаждал ее признаниями в любви. Впрочем, не особенно дерзко, потому что он боялся хмурого взгляда ее грозного брата. Но все его домогательства остались безуспешными. Ринггольду это было хорошо известно, но он преследовал единственную цель — уязвить меня. Трудно было выбрать для этого более подходящий момент. Оставалось еще одно обстоятельство, которое мне хотелось выяснить. Конечно, умная и проницательная Маюми могла мне помочь в этом: ведь она дружила с моей сестрой, и девушки поверяли друг другу свои заветные тайны.
Мне очень хотелось узнать, каковы отношения между моей сестрой и братом Маюми. Но я стеснялся спросить ее об этом, хотя был уверен, что она могла бы сообщить мне много интересного.
И, однако, мы говорили об обоих, особенно о Виргинии… Маюми с нежностью вспоминала о моей сестре и засыпала меня вопросами о ней. Она слышала, что Виргиния стала еще красивее, чем раньше, и затмила своей красотой всех подруг. Маюми спросила, помнит ли Виргиния наши прогулки, счастливые часы, проведенные на острове.
«Может быть, слишком хорошо помнит!» — подумал я, но мне было как-то тяжело говорить об этом.
Наши мысли обратились к будущему. Прошедшее было ясно, как голубое небо, а горизонт будущего закрывали облака.
Прежде всего мы заговорили о том, что нас больше всего волновало и что было самым страшным: об аресте Оцеолы. Скоро ли его выпустят? Что мы должны предпринять, чтобы ускорить его освобождение?
Я обещал сделать все, что в моих силах, и намеревался выполнить свое обещание. Я твердо решил не оставить камня на камне, но добиться для узника свободы. Если нельзя будет достигнуть справедливости законным путем, я готов был даже прибегнуть к хитрости, хотя бы даже ценой увольнения из армии, даже рискуя тем, что мое имя будет покрыто позором. Готов был даже рискнуть жизнью, чтобы освободить молодого вождя. Мне не нужно было ни клясться, ни божиться, мне верили и без того. Поток благодарности струился из этих влажных глаз, а нежное прикосновение пылающих губ было слаще любых слов признательности.
Настало время расставаться. Судя по положению луны, было уже около полуночи. На вершине холма, как бы отлитая из бронзы, на фоне бледного неба вырисовывалась фигура безумной королевы. Она подошла к нам. Я обнял Маюми и горячо поцеловал ее, затем мы расстались. Странная, но верная защитница девушки увела ее по незаметной тропинке, а я остался один и молча стоял несколько минут, вспоминая все, что было пережито на этом священном месте.
Луна опускалась все ниже и ниже к горизонту. Это было предупреждение о том, что пора идти. Спустившись с вершины холма, я быстро пошел обратно в форт.
Глава 47
ПЛЕННИК
Несмотря на поздний час, я решил навестить пленника. Я должен был спешить, так как мне самому угрожало лишение свободы. Две дуэли в один день, два раненых противника — и оба друзья генерала. А ведь сам я не имел никаких друзей: вряд ли я мог избежать наказания. Я ожидал ареста… может быть, даже военного суда, а в перспективе мне могло угрожать увольнение из армии.
Несмотря на свой оптимизм, я все же задумался о том, чем все это кончится. Я не очень беспокоился об увольнении — я мог прожить и без офицерского чина. Но любой человек, будь он прав или виноват, не может равнодушно подвергнуться осуждению своих товарищей и носить клеймо позора. Можно быть отчаянным человеком, но нельзя не считаться с последствиями, когда дело касается родственников и семьи.
Однако Галлахер придерживался на этот счет иного мнения.
— Ну и пусть они тебя арестуют и даже велят подать в отставку. Черт с ними! Наплевать тебе на все это! Не обращай никакого внимания. Будь я в твоей шкуре и владей я такой великолепной плантацией и целым полком негров, я плюнул бы на эту военную службу и стал бы разводить сахар да табак. Клянусь святым Патриком, я так бы и поступил!
Однако утешительные речи друга не совсем успокоили меня, и я не в слишком веселом настроении отправился разыскивать пленника.
Я нашел молодого вождя в камере. Как только что пойманный орел, как пантера в ловушке, Оцеола в бешенстве метался по камере и время от времени выкрикивал дикие угрозы.
В помещении без окон было совсем темно. Сопровождавший меня капрал не взял ни свечи, ни факела; он пошел за ними и оставил меня одного в темноте.
Я услышал шаги, легкие, как поступь тигра — наверно, шаги человека, обутого в мокасины, — и резкий звон цепей. Затем слух мой уловил бурное дыхание и гневные возгласы. В полумраке я различил фигуру пленника, ходившего взад и вперед большими шагами. Значит, ноги у него не были скованы.
Убедившись, что пленник один, я тихо вошел к нему и встал у двери. Мне казалось, что, погруженный в свои мысли, он не замечает меня. Но я ошибся. Внезапно Оцеола остановился и, к моему удивлению, назвал меня по имени. Он, должно быть, прекрасно видел во мраке.
— И вы, Рэндольф, оказались среди моих врагов! — произнес он тоном упрека. — Вы вооружены, в военной форме, при полном снаряжении — и готовы помочь им выгнать нас из наших домов!
— Пауэлл!
— Не Пауэлл, сэр. Мое имя Оцеола!
— Для меня вы всегда останетесь Эдуардом Пауэллом, другом детства, человеком, который спас мне жизнь. Я помню вас только под этим именем…
Наступила короткая пауза. Мои слова, по-видимому, как-то примирили его со мной. Может быть, они вызвали в нем воспоминания о давно ушедших временах. Оцеола сказал:
— Зачем вы здесь? Вы пришли сюда как друг или, подобно всем остальным, для того, чтобы терзать меня пустыми разговорами? Здесь перебывало много народу — лицемерных болтунов, которые старались склонить меня к бесчестным поступкам. Неужели и вас прислали с подобным поручением?
Из этих слов я заключил, что Скотт уже побывал у пленника — по-видимому, с каким-то поручением.
— Нет, я пришел по собственной воле, пришел как друг, — сказал я.
— Я верю вам, Джордж Рэндольф! Еще в ранней юности у вас было честное сердце. А прямые побеги редко вырастают в искривленное дерево. Я не думаю, чтобы вы изменились, хотя враги уверяли меня в этом. Нет! Дайте руку, Рэндольф! Простите, что я усомнился в вас.
Впотьмах я схватил пленника за руку и понял, что обе его руки скованы, и все же рукопожатие наше было крепким и искренним.
Я не стал расспрашивать Оцеолу о врагах, очернивших меня. Главное, чтобы пленник поверил в мои дружеские чувства, — это было так важно, чтобы план его освобождения увенчался успехом. Я рассказал ему только часть того, что произошло у озера, остальное я не рискнул бы доверить даже родному брату.
Я ожидал яростного взрыва гнева, но был приятно разочарован: молодой индеец привык к неожиданным ударам судьбы и научился сдерживать свои порывы. Я почувствовал, что мой рассказ произвел на него глубокое впечатление. В темноте я не мог видеть его лица, он только заскрежетал зубами и что-то прошипел, стараясь подавить гнев.
— О глупец! — наконец воскликнул он. — Каким слепым дураком я был! Ведь с самого начала я подозревал этого сладкоречивого мерзавца. Спасибо, благородный Рэндольф! Я в неоплатном долгу перед вами за вашу преданную дружбу. Теперь вы можете требовать от Оцеолы все на свете!
— Ни слова больше, Пауэлл! Вам незачем думать об этом — наоборот, я ваш должник, но сейчас нам нельзя терять ни минуты. Я пришел сюда, чтобы дать вам совет. Это план, с помощью которого вам удастся освободиться. Но нам надо спешить, иначе меня могут застать здесь.
— В чем же заключается ваш план?
— Вы должны подписать Оклавахский договор!
Глава 48
ВОЕННЫЙ КЛИЧ
Однако только восклицание «вуф», в котором звучало удивление и презрение, было ответом на мои слова. Далее наступило глубокое молчание.
Я повторил свое предложение:
— Вы должны подписать этот договор!
— Никогда! — ответил он самым решительным тоном. — Никогда! Пусть лучше я заживо сгнию в этих стенах! Лучше я брошусь грудью на штыки моих тюремщиков и погибну, чем стану изменником своему народу! Никогда!
— Терпение, Пауэлл, терпение! Вы не поняли меня. По-моему, вы, вместе с другими вождями, не уяснили себе точного смысла этого договора. Вспомните, что он связывает вас только условным обещанием: уступить ваши земли белым и переселиться на Запад лишь в том случае, если большинство народа согласится на это. Сегодня стало известно, что большинство народа не согласно. Ваше согласие не изменит этого решения большинства!
— Это верно, — согласился пленник, начиная улавливать мою мысль.
— В таком случае, вы можете подписаться и не считать себя связанным этим, раз главные условия не выполнены. Почему бы вам не пойти на эту хитрость? Никто не назовет ваших действий бесчестными. Мне думается, что любой человек оправдает ваш поступок, а вы вернете себе свободу.
Может быть, мои доводы плохо согласовались с правилами поведения честного человека, но в тот момент они были продиктованы искренним волнением, а взоры дружбы и любви порой не замечают погрешностей против морали.
Оцеола молчал. Я понял, что он задумался над моими словами.
— Ну, вот что, Рэндольф, — наконец сказал он. — Вы, должно быть, жили в Филадельфии, знаменитом городе юристов. Ничего подобного никогда не приходило мне в голову. Вы правы — эта подпись, конечно, не свяжет меня. Но не думаю, чтобы агент остался доволен, если я подпишу договор. Он ненавидит меня — я знаю это и знаю причины его ненависти. Я тоже ненавижу его и тоже по многим причинам. Уже не в первый раз он оскорбляет меня! Удовлетворится ли он моей подписью?
— Полагаю, что да. Если можете, сделайте вид, что вы смирились. Подпишите, и вас немедленно освободят.
Я не сомневался в этом. Из всего того, что я слышал после ареста Оцеолы, я пришел к заключению, что Томпсон уже раскаивался в своем поступке. Все считали, что он действовал слишком опрометчиво и что эта опрометчивость могла привести к пагубным последствиям. Эти толки дошли до агента, и, услышав от узника о посещении адъютанта, я решил, что Скотт приходил по его поручению. Было ясно, что агенту самому хотелось как можно скорее развязаться со своим пленником и он был бы рад освободить его даже на самых приемлемых для Оцеолы условиях.
— Мой друг! Я последую вашему совету и подпишу договор. Можете сообщить агенту о моем намерении.
— Я скажу ему об этом, как только увижу его. А теперь уже поздно, прощайте!
— Ах, Рэндольф! Как тяжело расставаться с другом, единственным другом, оставшимся у меня среди белых! Как мне хотелось бы поговорить с вами о давно минувших днях! Но здесь не место и не время для этого.
Молодой вождь оставил свой сдержанный тон, и его голос зазвучал мягко, как в былые времена.
— Да, единственный друг среди белых, которого я ценю и уважаю, — задумчиво повторил он, — единственный, кроме…
Он вдруг замолк, словно опомнившись, что чуть не выдал тайны, которую не считал благоразумным открывать. С некоторым беспокойством я ожидал признания, но так и не услышал его. Оцеола снова заговорил, но уже совершенно иным тоном.
— Много зла причинили нам белые! — сказал он с гневом. — Столько несправедливостей, что даже трудно их перечислить… но, клянусь Великим Духом, я отомщу! До сих пор я не давал такой клятвы, но события последних дней превратили мою кровь в пламя. Еще до вашего прихода я поклялся убить двух своих злейших врагов. Вы не заставили меня изменить мое намерение — напротив, укрепили меня в нем, и я прибавил к числу моих недругов третьего врага. Теперь я еще раз клянусь Великим Духом, что не буду знать покоя, пока листья в лесу не обагрятся кровью этих трех белых негодяев и одного краснокожего предателя! Недолго тебе торжествовать, изменник Оматла! Скоро тебя настигнет месть патриота, скоро тебя поразит меч Оцеолы!
Я молчал, ожидая, пока уляжется его гнев. Через несколько секунд молодой вождь успокоился и снова заговорил дружеским тоном:
— Еще одно слово, прежде чем мы расстанемся. Кто знает, когда еще нам придется встретиться! Разные обстоятельства могут помешать нам. А если и встретимся, то, как враги, на поле битвы. Я не скрываю от вас, что вовсе не собираюсь помышлять о мире. Нет, никогда! У меня есть к вам просьба, Рэндольф. Дайте мне слово, что вы исполните ее, не требуя объяснений. Примите от меня этот дар и, если вы цените мою дружбу, не таясь всегда носите его на груди. Вот и все!
Говоря это, он снял с шеи цепочку с изображением восходящего солнца, о котором я уже упоминал. Он надел его на меня, и заветный символ заблистал на моей груди. Я принял его дар, не отказываясь, обещал выполнить его просьбу, а взамен подарил ему свои часы. Затем, сердечно пожав друг другу руки, мы расстались.
* * *
Как я и предполагал, добиться освобождения вождя семинолов не представляло особого труда. Хотя агент и ненавидел молодого вождя по причинам, мне неизвестным, но он не осмелился перенести свои личные отношения на официальные дела. Он уже и так поставил себя в затруднительное положение. И когда я сообщил ему о решении пленника, я убедился, что Томпсон очень рад так легко от него отделаться. Не теряя времени, он отправился на свидание с пленником.
Оцеола держал себя весьма тактично. Если вчера он дал волю своему гневу, то сегодня был уступчив и сдержан. Ночь, проведенная в заключении, как будто укротила этот гордый дух. Голодный и закованный в цепи, он теперь готов принять любое условие, которое возвратит ему свободу. Так представлял себе положение агент.
Принесли договор. Оцеола подписал его, не проронив ни слова. С него сняли цепи, дверь тюрьмы распахнулась, и ему позволено было беспрепятственно удалиться. Томпсон торжествовал, но это был лишь самообман. Если бы он, как и я, заметил ироническую усмешку на губах Оцеолы, вряд ли он так безоговорочно уверовал бы в свой триумф. Но Томпсону недолго пришлось пребывать в приятном заблуждении.
На глазах у всех молодой вождь гордой поступью направился к лесу. Но, дойдя до опушки, он обернулся к форту, вынул из-за пояса сверкающий клинок, взмахнул им над головой и вызывающе крикнул: «Ио-хо-эхи!» Этот военный клич трижды донесся до нашего слуха, а за тем Оцеола повернулся и одним прыжком скрылся в лесной чаще.
Было совершенно ясно, что это значит. Даже сам торжествующий агент сообразил, что этот клич означает призыв к войне не на жизнь, а на смерть. Немедленно в погоню по следам пленника были отправлены вооруженные солдаты. Но погоня оказалась бесплодной, и после целого часа напрасных поисков усталые солдаты вернулись назад в форт.
* * *
Мы с Галлахером все утро провели дома, ожидая приказа об аресте. Но, к нашему великому удивлению, такового не последовало.
Позднее выяснилось, что Ринггольд не вернулся в форт. После ранения он был отправлен к знакомому, жившему в нескольких милях от форта. Это отчасти сгладило скандальное происшествие. Второй противник, адъютант Скотт, вернувшись с рукой на перевязи, заявил, что его сбросила лошадь и он ударился о дерево. Вполне понятно, что раненый щеголь не рассказывал об истинных причинах своего ранения. А я мог только одобрить его молчание и, со своей стороны, не сказал никому ни слова о случившемся — никому, кроме своего друга. Вся эта история стала известна только гораздо позже. Впоследствии мы часто встречались с адъютантом Скоттом по делам службы, но, само собой разумеется, наши беседы носили чисто официальный характер и мы оба вели себя крайне сдержанно.
Вскоре, однако, обстоятельства разлучили нас. И я был рад больше не встречаться с человеком, которого глубоко презирал.
Глава 49
ВОЙНА
В течение нескольких недель, протекших после совета в форте Кинг, в стране, по-видимому, царило полное спокойствие. Переговоры закончились, и начало военных действий было уже не за горами. Белые беседовали между собой главным образом о том, как поступят индейцы. Будут ли они сражаться или пойдут на уступки? Большинство считали, что они покорятся.
Семинолам был дан некоторый срок, для того, чтобы подготовиться к переселению. Ко всем племенам были посланы гонцы, чтобы объявить день, когда индейцы должны пригнать весь скот и лошадей в форт. Был назначен аукцион под наблюдением агента. Вырученную сумму предполагали раздать владельцам скота, когда они прибудут на новое местожительство на Западе. Так же собирались поступить и с их плантациями и усадьбами.
Наступил день аукциона, но, к великому огорчению правительственного агента, стада не прибыли. Аукцион пришлось отложить.
Индейцы не пригнали скот — значит, дальше можно было ожидать и худшего. Вскоре их намерения обнаружились еще более явно.
Спокойствие, царившее в последние недели, оказалось только зловещим затишьем перед бурей. Подобно глухим раскатам отдаленного грома, стали возникать мелкие конфликты — безусловные предвестники вооруженного столкновения.
Как обычно, зачинщиками были белые. Трех индейцев поймали на охоте за пределами их территорий. Группа белых связала их веревками и заперла в хлеве, в усадьбе одного из белых. Пленных продержали там три дня и три ночи, пока другие воины племени, узнав об этом, не пришли их освободить. Произошла схватка, несколько индейцев были ранены, но белые бежали, и пленники получили свободу. Когда их вывели из заточения, глазам их друзей предстало страшное зрелище. Веревки, которыми бедняги были связаны, врезались в тело и не давали им возможности двинуть ни рукой, ни ногой. Они потеряли много крови, и за все время плена их ничем не кормили. Можно себе представить, какое это произвело впечатление! Заметьте, что я привожу только достоверные факты.
Еще один случай. Шесть индейцев находились в своем лагере около Канафа-Понд, когда партия белых напала на них, отобрала у них ружья, обыскала мешки и начала хлестать их бичами. В это время подоспели еще двое индейцев; они увидели, что происходит, и начали стрелять в белых. Белые стали отстреливаться, причем убили одного индейца и тяжело ранили другого.
Естественно, что среди индейцев вспыхнули волнения и они начали мстить. Газеты сообщали:
«11 августа, Дальтон. Почтальон по дороге из форта Кинг в форт Брук натолкнулся на группу индейцев. Они схватили лошадь за поводья, стащили всадника с седла и убили. Изуродованное тело почтальона через несколько дней было найдено в лесу».
«Группа в 14 человек верховых ехала на разведку в направлении Вакахонта, к плантации капитана Габриэля Приста. Они подъехали к маленькому водоему, находившемуся за милю от места назначения. Некоторые решили не переходить этот водоем вброд. Четверо, однако, рискнули на переправу. В это время внезапно из засады выскочили индейцы и открыли огонь. Двое, оказавшиеся впереди других, были ранены. Одному из них, мистеру Фольку, пуля попала в шею; его подобрали и увезли домой. У другого, сына капитана Приста, была сломана рука, а его лошадь убита. Он пустился бежать, бросился в болото, и только таким образом ему удалось скрыться от преследования индейцев».
«Примерно в это же время партия индейцев атаковала несколько человек, которые рубили деревья в дубовой роще на островке озера Джордж. Белым удалось спастись в лодках, но двое из них были ранены».
«В Нью Ривер, в юго-восточной части Флориды, индейцы напали на дом мистера Кули, убили его жену, детей и домашнего учителя. Они угнали тридцать свиней, три лошади, захватили двенадцать ящиков с провизией, бочонок с порохом, свыше двухсот фунтов свинца, семьсот долларов серебром и двух негров. Самого мистера Кули не было дома. Вернувшись, он увидел, что жена его лежит мертвая с младенцем на руках — ее убили выстрелом в сердце; двое старших детей также убиты. Девочка еще держала книгу в руках, мальчик лежал рядом с нею. Весь дом был охвачен пламенем».
«В Спринг-Гардене, около Сент-Джонса, обширная плантация полковника Риса была разгромлена и все здания сожжены дотла. Запас сахарного тростника, достаточный для того, чтобы наполнить сахаром девяносто бочек, был уничтожен, сто шестьдесят два негра, все мулы и лошади были уведены».
«Те же индейцы разгромили плантации мистера Депейстера, с неграми которого они оказались в союзе. Раздобыв лодку, они переплыли реку и сожгли усадьбу капитана Дэммета. Плантация майора Хэриота была разгромлена, и восемьдесят его негров ушли с индейцами. Затем индейцы двинулись вперед по направлению к Сан-Августино, где огромные плантации генерала Эрнандеса были обращены в руины. Такая же участь постигла и усадьбы Бюлова, Дюпона в Буэн-Ретиро, Денхема, Мак-Рея в Томока Крик, плантации Бейеса, генерала Хэрринга, Барталоне Солано и так далее — почти все плантации к югу от Сан-Августино».
Таковы простые исторические факты. Я привожу их как иллюстрацию событий, предшествовавших войне с семинолами.
Хотя действия индейцев и были варварскими, но они явились лишь актами возмездия, дикими вспышками долгожданной мести, ответом на несправедливость и притеснения, столь терпеливо переносившиеся в течение многих лет…
Пока еще настоящие военные действия не начинались, но группы индейцев, опустошавшие владения белых, одновременно появлялись в разных местах. Для многих, кто чинил насилия над индейцами, настал час расплаты; другим едва удалось ускользнуть и спасти свою жизнь. Вспышка следовала за вспышкой, пока вся страна не была объята пламенем.
Все, кто жил внутри страны и на границе с индейской резервацией, покидали свои поля, бросали имущество, сельскохозяйственные орудия, мебель, ценные вещи и искали убежища в фортах и окрестных селениях, которые теперь для большей безопасности были специально укреплены.
Оматла и другие вожди с четырьмя сотнями приспешников покинули свои поселения и бежали в форт Брук искать защиты.
Теперь больше не приходилось гадать, будет ли война. Она началась, и воинственный клич «Ио-хо-эхи!» день и ночь гремел в окрестных лесах.
Глава 50
ПОГОНЯ ЗА СТРАННЫМ ВСАДНИКОМ
Пока что во Флориду прибыло сравнительно мало американских войск. Но отряды уже двигались из Нового Орлеана, из форта Моултри, Саванны, Мобила и других военных лагерей, где обычно размещались войска Соединенных Штатов. В больших городах штатов Джорджия и Каролина, а также в самой Флориде поспешно набирались отряды добровольцев. На каждый поселок была дана разверстка для участия в военной кампании. В моем родном поселке Суони было также решено сформировать отряд. С этой целью туда был командирован мой друг Галлахер, а я, в звании лейтенанта, был назначен его помощником.
Я очень обрадовался, получив этот приказ. Однообразная жизнь в гарнизоне форта мне надоела. Кроме того, меня прельщала возможность провести несколько дней дома.
Галлахер ликовал не меньше меня. Он был завзятый охотник. Мой друг жил главным образом в городе или в фортах на атлантическом побережье, и ему редко выпадал случай насладиться охотой на лису или оленя. Я обещал доставить ему удовольствие поохотиться и за зверем и за дичью, так как леса Суони изобиловали всякой живностью.
Итак, мы оба, получив полномочия вербовать добровольцев, попрощались с товарищами по форту и с легким сердцем пустились в путь, предвкушая приятное развлечение. Нас сопровождал верный Черный Джек, который тоже радовался возвращению на старую плантацию.
Индейцы еще не совершали набегов на округ Суони. Он находился вдали от поселений, где жили наиболее враждебные нам племена. Чувствуя себя в безопасности, жители спокойно оставались в своих домах. Однако отряды добровольцев были уже сформированы, и кругом постоянно разъезжали патрули.
Я часто получал письма от матери и Виргинии, но в них не чувствовалось особенной тревоги. Сестра, например, считала, что индейцы вообще не тронут их. Несмотря на это, у меня было неспокойно на душе, и я с величайшей готовностью встретил приказ отправиться в родные края.
Мы мчались галопом по лесной дороге и вскоре приблизились к местам, где протекало мое детство. На этот раз я не опасался засады, ибо мы путешествовали, приняв меры предосторожности. Нам был дан приказ собраться в течение часа. И мы сразу же пустились в путь, так что мои враги-убийцы не успели бы узнать о моей поездке. Впрочем, рядом со мной был храбрый Галлахер, а позади меня ехал мой верный оруженосец, и я не боялся открытого нападения со стороны белых.
Я опасался только, что дорогой мы можем наткнуться на группу индейцев — теперь уже наших врагов! Это была реальная опасность, и поэтому мы приняли все меры предосторожности.
В нескольких местах нам попадались свежие следы мокасин и лошадиных копыт. А однажды мы наткнулись на догорающий костер, вокруг которого были следы индейцев. Здесь находился их лагерь. Ни одного белого или цветного мы не встретили, пока не подъехали к одной из заброшенных плантаций на берегу реки. Здесь мы в первый раз наткнулись на человека.
Это был всадник — по-видимому, индеец. Он находился слишком далеко от нас, чтобы мы могли рассмотреть цвет и черты его лица. Но по его одежде, посадке, красному поясу и штанам и особенно по страусовым перьям на голове мы узнали в нем семинола. Он ехал на черном коне и только что показался на просеке в лесу, куда мы направлялись. Он, очевидно, увидел нас в то же мгновение, как мы заметили его, и, наверно, хотел избегнуть встречи с нами. Взглянув на нас, он повернул коня и снова скрылся в лесу.
Пылкий Галлахер пришпорил своего коня и пустился в погоню за всадником. Я хотел удержать его, но мне показалось, что этот всадник Оцеола. Тогда никакой опасности не было. Мне хотелось встретиться с молодым вождем и дружески поговорить с ним, поэтому я поскакал за Галлахером, а Джек последовал за нами.
Я был почти уверен, что этот странный всадник — Оцеола. Мне показалось, что я узнал страусовые перья, а Джек рассказывал мне, что молодой вождь ездит на великолепном черном коне. По всей видимости, это был он. Чтобы окликнуть его и заставить остановиться, я пришпорил своего коня и обогнал Галлахера.
Вскоре мы въехали в лес, где скрылся всадник, но здесь, кроме свежих следов, мы ничего не увидели. Я окликнул Оцеолу, громко назвал себя, но ответом мне было только лесное эхо. Некоторое время я ехал по следу, продолжая звать Оцеолу, но не добился никакого ответа. Всадник или не хотел отозваться на мой призыв, или отъехал слишком далеко, чтобы услышать меня. Конечно, было бессмысленно догонять его, если он сам, по доброй воле, не остановился. Мы могли бы гнаться за ним по следу целую неделю и все-таки не догнать его. Видя бесполезность наших усилий, мы с Галлахером отказались от намерения мчаться за всадником и вернулись на дорогу, чтобы скорее закончить наше путешествие.
Я хорошо помнил боковую тропинку, которая сильно сокращала дорогу, и мы повернули на нее. Мы проехали довольно далеко и затем снова напали на свежий лошадиный след, который вел от реки, куда мы направлялись. Мы осмотрели след и увидели, что он еще влажный. Рядом на сухих листьях деревьев блистали капли воды. Значит, всадник переправлялся через реку вплавь!
Это открытие заставило меня задуматься над целым рядом вопросов. Зачем индейцу понадобилось ехать на ту сторону? Если это Оцеола, то что ему там было нужно? При таком напряженном положении в стране индеец, подъехавший к поселку белых, рисковал жизнью. Если бы его заметили и взяли в плен, ему угрожала бы неминуемая гибель. Чтобы решиться на такой отважный шаг, надо было иметь серьезные причины. Если это Оцеола, то какие у него причины? Единственным приемлемым объяснением было то, что Оцеола отправился туда в качестве разведчика. Что ж тут зазорного со стороны индейца?
Хотя в этом предположении не было ничего невероятного, но оно почему-то не убеждало меня. Как будто какое-то облако внезапно окутало мою душу, неясное предчувствие томило меня, и какой-то демон, казалось, нашептывал мне: «Это не так!» Всадник, безусловно, переплыл реку. А ну-ка, проверим!
Мы подъехали к реке и убедились в справедливости нашего предположения: след действительно выходил из самой воды. Значит, всадник переплыл реку. Мы сделали то же самое и на другом берегу снова увидели следы черного коня.
Не останавливаясь, я поехал по следу. Галлахер и Джек не отставали от меня. Ирландец был очень удивлен моей настойчивостью. Но я не в силах был даже отвечать на его расспросы. Мрачное предчувствие с каждой минутой все сильнее томило меня. Сердце так и трепетало в груди, сжимаясь от боли.
След привел нас к небольшой поляне в роще магнолий. Дальше ехать было незачем: мы оказались у цели. Я машинально взглянул на землю и замер в седле. Мрачное предчувствие исчезло, но зато появились еще более мрачные мысли. На всей поляне виднелись следы лошадиных копыт, как будто здесь была стоянка. Большие следы принадлежали черному коню. Но рядом виднелись другие, поменьше. Это были легкие следы подков маленького пони.
— Господи! Масса Джордж! — пробормотал Джек, опередив Галлахера и впившись взглядом в землю. — Взгляните, ведь это следы маленькой Белой Лисички. Мисс Виргиния была здесь! В этом нет никакого сомнения!
Глава 51
КТО БЫЛ ВСАДНИК?
Мне стало нехорошо, и я чуть не свалился с седла. Но необходимость скрыть свои чувства заставила меня держать себя в руках. Иногда появляется подозрение, которое неохотно выскажешь даже лучшему другу. Именно так было со мной, если это вообще можно назвать «подозрением». К несчастью, оно уже почти перешло в уверенность.
Я понял, что не столько следы на земле, сколько мое поведение заинтересовало Галлахера. Он заметил, с каким волнением я отыскивал след. Он не мог не заметить этого волнения. И теперь, выехав на поляну, он увидел, как я побледнел и как дрожали мои губы от непонятного ему смятения.
— Что с тобой, Джордж, мой мальчик? Ты полагаешь, что индеец замышляет какую-то подлость? Ты думаешь, что он приехал на твою плантацию шпионить?
Этот вопрос помог мне найти ответ, который, как я полагал, был довольно далек от истины.
— Весьма возможно, — ответил я, стараясь не выдать своего смущения. — Вероятно, шпион-индеец вступил в сношения с кем-нибудь из негров. Это следы одного из пони с нашей плантации… Очевидно, негры ездили сюда и встречались с индейцем, но для какой цели, сказать трудно…
— Нет, масса Джордж, — вмешался мой черный оруженосец, — у нас никто не ездит на Белой Лисичке, кроме…
— Джек, — резко перебил я его, — мчись домой и скажи, что мы сейчас будем. Скорее, мой милый!
Приказ был отдан так решительно, что Джеку пришлось быстро подчиниться. Не закончив фразы, он пришпорил свою лошадь и поскакал. Такую уловку я применил из предосторожности. За минуту до того у меня и в мыслях не было посылать курьера вперед, чтобы известить о нашем прибытии. Я знал, что простодушный негр хотел сказать: «У нас никто не ездит на Белой Лисичке, кроме мисс Виргинии». И я придумал эту хитрость, чтобы не дать ему возможности договорить. Когда негр уехал, я взглянул на своего товарища. Галлахер был человек открытой души, говоривший всегда прямо и не способный ничего утаивать. Глядя на его приятное, цветущее лицо, я ясно видел, что Галлахер озадачен, и мне стало как-то не по себе. Однако мы оба промолчали и свернули на тропинку, по которой уехал Черный Джек.
Это была узкая дорожка для скота, по которой рядом ехать было нельзя, и мы ехали молча: я впереди, а Галлахер за мной.
Мне не надо было направлять свою лошадь, она и без меня хорошо знала, куда ей идти, — это была все та же дорога. Теперь я уже не высматривал следов на земле. Раза два мне попались следы маленького пони, но я не обращал на них внимания: я знал, откуда и куда они вели.
Я был слишком поглощен своими мыслями, чтобы замечать что-нибудь вокруг себя. Кто же мог ехать на пони, кроме Виргинии? Да, мне было ясно, чье имя хотел назвать Черный Джек: на Белой Лисичке ездила только сестра, никому другому на плантации не позволялось садиться на ее любимую маленькую лошадку. Впрочем, было одно исключение. Я видел, на пони и Виолу. Не ее ли имя назвал бы Джек, если бы я дал ему договорить? Может быть, это была Виола?
Но зачем же квартеронке встречаться с Оцеолой? Совершенно незачем. Меня долго не было, и многое изменилось в мое отсутствие. Кто знает… может быть, Виоле надоел ее черный поклонник и она обратила благосклонное внимание на блистательного вождя. Вероятно, она часто видела его здесь. Ведь после моего отъезда на север прошло несколько лет, прежде чем у семьи Пауэллов отобрали их плантацию. И тут мне вспомнился один случай из времен нашего первого знакомства с Пауэллом — правда, не слишком существенный. Виола стала восхищаться красивым юношей, и Черный Джек очень рассердился. Сестра начала бранить Виолу за то, что она терзает своего верного поклонника. Виола была красавицей и, как большинство красивых девушек, кокеткой. Мои предположения могли оказаться правильными… Эта мысль меня утешала, но зато, увы, бедный Джек!..
Еще одно незначительное обстоятельство подкрепляло мою догадку. За последнее время я заметил в своем слуге большую перемену: он не казался мне таким веселым, как раньше, он был задумчив, серьезен и рассеян.
Скоро у меня мелькнуло еще одно предположение. Хотя на Белой Лисичке никому не разрешалось ездить, но кто-нибудь из слуг мог тайком нарушить этот запрет и, взяв пони с лужайки, отправиться на свидание с индейцем. Все это было весьма вероятно. На нашей плантации, как и на всякой другой, могли быть недовольные рабы, которые поддерживали связь с враждебными индейцами. Место свидания находилось примерно в одной миле от дома. Ехать было приятнее, чем идти пешком, а взять пони с пастбища можно совершенно спокойно, не боясь, что тебя заметят. Дай-то бог, чтобы это было так…
Едва успел я мысленно помолиться, как заметил предмет, сразу рассеявший все мои предположения, и снова острая боль пронзила мне сердце.
У дороги рос куст белой акации, и на одном из его шипов болтался обрывок ленты, колеблемый ветерком. Это была лента из тонкого шелка, которой отделывают женское платье. Очевидно, она зацепилась за шип и оторвалась. Для меня это был печальный знак: все мои фантастические надежды сразу рухнули при виде этой ленты. Ни один негр, даже Виола, не мог оставить после себя такого следа. Я вздрогнул и быстро проехал мимо.
Я надеялся, что мой спутник не заметит этого обрывка, но напрасно. Лента слишком бросалась в глаза. Обернувшись, я увидел, что он протянул руку, схватил ленту и с любопытством стал ее рассматривать.
Боясь, что он подъедет ко мне и начнет задавать вопросы, я пришпорил коня и поскакал галопом, крикнув Галлахеру, чтобы он не отставал от меня.
Через десять минут мы въехали в аллею, которая вела к дому. Мать и сестра вышли на веранду встречать нас и радостно приветствовали наш приезд. Но я почти не слушал их. Я так и впился глазами в Виргинию, разглядывая ее костюм. Она была в амазонке и еще не успела снять свою шляпу с перьями.
Моя сестра никогда еще не казалась мне такой красивой, как в этот миг. Золотые локоны обрамляли ее разрумянившееся от ветра лицо. Но я не радовался, глядя на ее красоту. Виргиния казалась мне падшим ангелом…
Сходя с лошади, я взглянул на Галлахера и догадался, что он понял все. Больше того! На его лице отражалось душевное страдание, почти такое же острое, как мое. Мой верный, испытанный друг заметил мое горе еще раньше. Теперь он знал причину, и в его взгляде я прочел глубокое сочувствие.
Глава 52
ХОЛОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ
Как и полагалось сыну, я сердечно обнял мать. Приветствие же сестры принял молча, почти холодно. Мать удивилась, заметив это. Галлахер также очень сдержанно поздоровался с Виргинией. И это обстоятельство тоже было замечено матерью. Но сестра не проявляла никаких признаков смущения. Она непринужденно болтала, и глаза ее весело блестели, как будто она действительно была рада нашему приезду.
— Ты ездила на лошади, сестра? — спросил я ее как бы невзначай.
— На лошади? Нет, на пони. Моя маленькая Белая Лисичка вряд ли заслуживает, чтобы ее величали лошадью. Да, я проехалась немного подышать свежим воздухом.
— Одна?
— Совершенно одна! Одна-одинешенька!
— Благоразумно ли это, сестра?
— А почему бы и нет? Я часто езжу одна. Чего мне бояться? Волков и пантер вы уже всех застрелили, а от медведя или аллигатора Белая Лисичка всегда меня умчит.
— В лесу могут встретиться существа более опасные, чем дикие звери.
Говоря это, я наблюдал за ней, но не заметил на ее лице ни малейшего волнения.
— Какие же это существа, Джордж? — с расстановкой продолжала она, видно передразнивая меня.
— Индейцы, краснокожие! — резко ответил я.
— Пустяки, братец. У нас по соседству нет индейцев, по крайней мере таких, которых нам пришлось бы опасаться… (Это она добавила уже несколько нерешительно.) Разве я не писала тебе об этом? Ты приехал из таких мест, где за каждым кустом притаился индеец. Но помни, Джордж, что ты проделал длинный путь, и если ты не привез индейцев с собой, то здесь их не найдешь. Поэтому, джентльмены, здесь вы оба можете спать совершенно спокойно, не боясь услышать военный клич «ио-хо-эхи».
— Вы так уверены в этом, мисс Рэндольф? — спросил Галлахер, на этот раз без своего ирландского акцента. — Я и ваш брат полагаем — и на это есть причины, — что некоторые индейцы, издающие военный клич, находятся не так уж далеко от Суони.
— Мисс Рэндольф? — засмеялась сестра. — Где это вы научились такому почтительному тону, мистер Галлахер? Это обращение длинное — сразу видно, что вы привезли его издалека. Раньше я была для вас «Виргинией» или даже просто «Джини», за что я могла даже на вас рассердиться, «мистер» Галлахер. И рассердилась бы, если бы вы не перестали меня так называть. Что же случилось? Ведь с вами, «мистер» Галлахер, мы не виделись только три месяца, а с Джорджем всего два. И вот вы оба снова здесь — и один произносит фразы торжественно, как Солон[108], а другой выражается рассудительно, как Сократ[109]. Чего доброго, и Джордж, после новой отлучки, станет называть меня «мисс Рэндольф». Вероятно, так принято у вас в форте? Ну-с, ребятки, — добавила она, ударив хлыстом по перилам веранды, — говорите откровенно! Извольте-ка объяснить причины этого удивительного «превращения». А до тех пор, даю честное слово, вы не получите ни крошки еды!
Надо сказать несколько слов об отношениях между Виргинией и Галлахером. Он давно был знаком с матерью и сестрой. Они встречались с ним во время путешествия на север. Виргиния и мой товарищ так подружились, что стали даже называть друг друга по имени. Понятно было, почему сестра считает, что «мисс Рэндольф» звучит слишком официально. Однако я догадывался, почему Галлахер обратился к ней таким образом.
Одно время, в начале их знакомства, мне казалось, что Галлахер влюблен в Виргинию, но потом я отказался от этой мысли. По их поведению незаметно было, что они влюблены друг в друга. Отношения их были слишком дружескими, чтобы в них можно было заподозрить любовь. Обычно они болтали о разных пустяках, смеялись, читали веселые книжки, давали друг другу смешные прозвища, придумывали разные шалости; они редко бывали серьезны, когда встречались. Все это так расходилось с моим представлением о том, как ведут себя влюбленные, — сам-то я вел бы себя иначе, — что я отказался от своих подозрений и стал смотреть на них не как на влюбленных, а просто как на друзей.
Еще одно обстоятельство укрепляло меня в этом убеждении. Я заметил, что моя сестра в отсутствие Галлахера утрачивала ту легкомысленную веселость, которой она отличалась в детстве. Но стоило ему появиться, как с ней происходила внезапная перемена, и она мгновенно настраивалась снова на беспечный лад.
«Любовь, — думал я, — так себя не проявляет. Если сестра и влюблена, то не в Галлахера. Нет, не он избранник ее сердца! А игра, которую они ведут, — просто дружеские отношения. В их привязанности нет ни малейшей искры настоящей любви».
Смутное подозрение, зародившееся в душе Галлахера, очевидно, огорчило его. Но он страдал не от ревности, а как верный и преданный друг из сочувствия ко мне. Обращение его с сестрой, хотя он и держался в границах строгого приличия, совершенно изменилось. Неудивительно, что она заметила это и потребовала объяснений.
— Ну, живей! — говорила она, сбивая хлыстиком виноградные листья. — Вы шутите или серьезно? Говорите все без утайки — или, клянусь, оба останетесь без обеда! Я сама сбегаю на кухню и отменю его.
Ее манера выражаться и забавные угрозы заставили Галлахера засмеяться, хотя настроение у него было мрачное. Но на этот раз он смеялся не так весело и искренне, как бывало. Я тоже невольно улыбнулся и, считая, что не следует выказывать свое недовольство, пробормотал что-то вроде объяснения — сейчас было не время для откровенного разговора.
— Право же, сестренка, — сказал я, — мы слишком устали и слишком голодны, чтобы веселиться. Подумай только, какой долгий путь мы совершили под жгучим солнцем! У нас не было и маковой росинки во рту с тех пор, как мы выехали из форта. А позавтракали мы не бог весть как роскошно — кукурузные лепешки, кусок свинины да жидкий кофе. О, Виргиния, как мне хочется полакомиться цыплятами и пирожными, которые готовит наша старая кухарка, тетушка Шеба! Прошу тебя, позболь нам пообедать, и затем ты увидишь, что мы станем совсем другими. Мы оба будем веселыми, как два зайчика.
Удовлетворенная этим объяснением или сделав вид, что она удовлетворена, Виргиния обещала покормить нас и, весело смеясь, пошла переодеваться к обеду. А мы с Галлахером тоже пошли к себе.
За обедом и после него я приложил все усилия, чтобы казаться веселым и довольным. Я видел, что Галлахер тоже пытается развеселиться. Быть может, нам удалось обмануть мать, но Виргиния не поддалась обману. Я заметил, что она в чем-то подозревает и меня и Галлахера. Она решила, что мы от нее что-то скрываем, и, желая досадить нам, в свою очередь стала разговаривать с нами обиженным тоном.
Глава 53
НАСТРОЕНИЕ СЕСТРЫ
Так продолжалось весь этот и следующий день, и все трое — Галлахер, сестра и я — обращались друг с другом сдержанно-вежливо. Я ни о чем не рассказал Галлахеру и предоставил ему самому строить всевозможные догадки. Он был истинным джентльменом и даже не намекнул, что разделяет мои опасения. Я думал излить перед ним душу и просить его дружеского совета, но только тогда, когда Виргиния сама мне во всем признается.
Я ждал удобного случая, чтоб потребовать у сестры объяснений. Несколько раз мне удавалось остаться с ней наедине, но я все как-то не решался вызвать ее на откровенность. Однако я сознавал, что как брат и единственный мужчина в доме я обязан хранить честь семьи.
Пока же я уклонялся от выполнения этого, в сущности, отцовского долга отчасти из чувства деликатности, отчасти потому, что боялся узнать правду. Я отлично понимал, что между сестрой и индейским вождем установились особые отношения, что, по всей вероятности, они продолжались, что у них бывали тайные встречи — и не один раз. Но до чего все это могло дойти? Насколько моя бедная сестра уже могла скомпрометировать себя? Вот на эти проклятые вопросы я и боялся получить ответ.
Я надеялся, что сестра скажет мне всю правду, если я буду умолять ее признаться. При ее гордом характере принуждением от нее ничего нельзя было добиться. Если оказать на нее давление, то она могла заупрямиться и стать непреклонной. Вообще Виргиния мало что унаследовала от отца, она все заимствовала у матери. Между ними существовало и внешнее и внутреннее сходство. Виргиния была одной из тех женщин, которые, не испытав никогда в жизни строгой дисциплины, вырастают в уверенности, что выше их нет никого на свете. Поэтому она и чувствовала себя совершенно независимой, как это присуще большинству американок. В других же странах независимость является достоянием только женщин из привилегированных классов. Ни родители, ни опекуны, ни наставники — так как последним ни в коем случае не разрешалось прибегать к строгим мерам — не имели влияния на сестру, и она с малых лет вела себя как королева на троне.
Она была независима еще и в другом отношении. У нее имелось собственное состояние, которое ей завещал отец, и это обстоятельство еще больше усиливало непреклонность ее характера.
Мой отец в свое время последовал велению сердца и разделил свое состояние между детьми поровну. Поэтому моя сестра была так же богата, как и я. Конечно, отец позаботился и о матери, но основная часть отцовского наследства — плантация — принадлежала сестре и мне. Моя сестра была богатой наследницей и обязана была подчиняться матери или мне только в той мере, в какой ей это подсказывало родственное чувство.
Я остановился так подробно на этом вопросе, чтобы объяснить, какой сложной и деликатной задачей было потребовать от сестры отчета в ее действиях. Как это ни странно, но мне совершенно не приходило в голову, что и мое положение не совсем обычно.
Я был обручен с сестрой Оцеолы и искренне желал, чтобы она стала моей женой. В союзе с индианкой я не видел для себя ничего унизительного, зная, что общество не будет отрицательно относиться к этому браку. Такие случаи уже бывали. Например, Рольф женился на девушке более темнокожей и менее красивой и культурной, чем Маюми. Позднее сотни других мужчин последовали его примеру и сохранили и прежнее положение в обществе и были по-прежнему уважаемы. Почему бы и мне не поступить так? По правде говоря, этот вопрос даже и не приходил мне тогда в голову. Я считал, что мои намерения в отношении индианки были в совершенном соответствии с правилами хорошего тона.
Совсем другое дело, если бы в жилах моей избранницы текла хоть небольшая примесь африканской крови. Тогда я действительно мог бы опасаться осуждения общества, ибо в Америке человек подвергается унижению не столько за цвет кожи, сколько за расу. Белый джентльмен может жениться на индианке, и она без особых возражений получает доступ в общество; а если она при этом еще и хороша собой, то может даже рассчитывать на успех.
Все это я знал и тем не менее сам был рабом чудовищного и дикого предрассудка: если смешение рас происходило другим путем, то есть если белая женщина выходила замуж за индейца, то тогда это считалось неравенством и позором. Друзья ее рассматривали такой брак как несчастье, как падение. А если эта леди вдобавок принадлежала к высокопоставленным кругам — ну, тогда уж, леди… пеняйте на себя!
Несмотря на расхождение своих взглядов с господствовавшими воззрениями на различие рас и цвета кожи, я сам не был свободен от влияния этого предрассудка.
Если моя сестра любит индейца, значит, она потерянная, падшая женщина! Независимо от того, какое положение занимает этот индеец среди своего народа, независимо от его храбрости, от его достоинств. Даже если бы это был сам Оцеола!
Глава 54
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Неизвестность мучила меня, и я решил поговорить с сестрой, как только застану ее одну.
Такой случай скоро представился. Я увидел ее на лужайке у озера и подошел к ней. Я заметил, что она необычайно весела.
«Увы! — подумал я. — Ты улыбаешься! Скоро твоя улыбка сменится слезами».
— Сестра!
Она что-то говорила своим любимцам — золотым рыбкам — и не слышала меня или притворялась, что не слышит.
— Сестра! — повторил я громче.
— Ну, что такое? — сухо спросила Виргиния, не глядя на меня.
— Послушай, Виргиния, брось свои игрушки! Мне надо поговорить с тобой.
— Вот как! Значит, это принуждение! В последнее время ты так редко раскрывал рот при мне, что я должна быть особенно благодарна за твою любезность. А почему с тобой нет твоего друга? Пусть бы и он побеседовал со мной в том же духе! Я думаю, что вам обоим уже надоело изображать бессловесных близнецов. Ну, ты можешь продолжать игру, если тебе нравится. Уверяю тебя, что меня это не волнует! — И она стала напевать:
У янки — фрегат, и янки — моряк! Мы в бой по волнам летим! И видит враг наш звездный флаг Под небом голубым.Затем она обратилась к своей любимице — маленькой лани:
— Ну, иди сюда, мой маленький! Ты смотри не подходи слишком близко к берегу, а то можешь кувыркнуться в воду. Слышишь?
— Прошу тебя, Виргиния, оставь эти шутки! Мне надо поговорить с тобой о важном деле.
— О важном деле? Уж не думаешь ли ты жениться? Нет, что-то не похоже. У тебя слишком торжественное и мрачное выражение… точно тебя собираются повесить… ха-ха-ха!
— Послушай, сестра, я говорю с тобой серьезно.
— О, конечно серьезно! Я тебе верю, дорогой.
— Послушай, Виргиния, у меня важное дело — очень важное! Я хотел поговорить с тобой уже с самого дня приезда.
— За чем же дело стало? У тебя было много удобных случаев. Разве я от тебя пряталась?
— Нет… но… дело в том, что…
— Ну, выкладывай, братец, сейчас удобный момент. По твоему лицу я вижу, что у тебя ко мне есть какая-то просьба. Если это так, то я разрешаю тебе изложить ее.
— Нет, Виргиния, не то! Вопрос, о котором я хочу поговорить…
— Ну, какой же это вопрос, выкладывай!
Мне надоели уклончивые речи, я даже немного обиделся и решил положить этому конец, сказав то слово, которое могло заставить сестру сразу сбавить тон и повести разговор серьезно:
— Оцеола!
Я ожидал, что она изменится в лице, вспыхнет и побледнеет, но ошибся. К моему изумлению, в ней не произошло никакой перемены: ни во взгляде ее, ни в поведении не было ни малейших признаков волнения! Она ответила почти сразу, без колебаний:
— Что? Молодой вождь семинолов? Пауэлл, наш товарищ детства? Ты хочешь говорить о нем? Что ж, самая интересная для меня тема. Я готова целый день говорить об этом храбром человеке.
Я был так поражен, что даже не знал, как вести себя дальше.
— Ну, что же ты хотел мне сказать о нем, братец Джордж? — продолжала сестра, спокойно глядя мне в глаза. — Надеюсь, что с ним ничего худого не случилось?
— С ним-то ничего. Но кое-что случилось с кем-то другим, кто мне еще ближе и дороже, чем он.
— Я не понимаю твоих загадок, брат.
— Сейчас поймешь. Я задам тебе один вопрос и попрошу тебя ответить на него прямо. Этим ты докажешь, что ценишь мою любовь и дружбу.
— Задавайте свой вопрос, сэр, без этих хитросплетений! Я полагаю, что могу говорить правду без запугиваний и угроз.
— Тогда скажи мне правду, Виргиния. Признайся, ты любишь молодого Пауэлла — Оцеолу?
В ответ Виргиния залилась звонким смехом.
— Но, Виргиния, в моем вопросе нет ничего смешного.
— Да это просто шутка… Забавная шутка. Ха-ха-ха!
— Мне не до шуток, Виргиния. Отвечай.
— Не будет тебе никакого ответа на такой нелепый вопрос!
— Он вовсе не такой нелепый, Виргиния. У меня есть основания…
— Какие еще там основания?
— Не ты не станешь отрицать, что между вами что-то происходит? Ты не можешь отрицать, что назначила ему свидание в лесу? Но смотри подумай, прежде чем отвечать, потому что у меня есть доказательства. Мы встретили его, когда он возвращался. Он, конечно, постарался скрыться от нас, но мы заметили его след и рядом с отпечатком копыт его коня увидели след пони. Вы встречались, это ясно!
— Ха-ха-ха! Вот так искусные следопыты — ты и твой друг. Ловкие ребята! Вы неоценимое приобретение для армии в военное время, и скоро вас назначат главными разведчиками! Ха-ха-ха! Так вот в чем заключался ваш великий секрет! Теперь понятны ваши потупленные взоры и старомодные манеры. А я-то недоумевала! Значит, вы изволили тревожиться за мою честь? Вот о чем вы заботились! Как мне благодарить судьбу за то, что она послала мне двух таких благородных рыцарей!
В Британии сад красоты стережет Дракон добродетели, грозный дракон! Но часто бывает, что сторож заснет, И сад оставляет в опасности он!Итак, раз у меня нет дракона, охраняющего мою добродетель, то я должна довольствоваться двумя драконами — в лице твоем и твоего друга. Ха-ха-ха!
— Виргиния, ты выводишь меня из терпения! Это не ответ. Ты встречалась с Оцеолой?
— Ну что ж, перед таким искусным шпионом отпираться бесполезно. Да, я виделась с ним.
— А зачем? Это было любовное свидание?
— Что за дерзкий вопрос! Я не буду отвечать на него.
— Виргиния, умоляю тебя!
— Неужели два человека не могут встретиться в лесу без того, чтобы их не обвинили, будто они назначили любовное свидание? Да разве мы не могли встретиться случайно? Разве у меня не могло быть какого-нибудь дела к вождю семинолов? Ты не знаешь всех моих тайн и не узнаешь их…
— Это была не случайная встреча, а любовное свидание. Никаких других дел у тебя с ним нет.
— Вполне естественно, что ты так думаешь — ведь ты сам потихоньку распеваешь любовные дуэты. А позволь спросить: давно ли ты виделся со своей возлюбленной, прелестной Маюми? Ну-ка, признавайся, милый братец!
Я вздрогнул, как будто меня ужалили. Откуда сестра могла узнать о нашей встрече? Или она сказала это просто так, наугад, и попала прямо в цель? На мгновенье я настолько растерялся, что не мог найти ответа. А затем еще настоятельнее стал допрашивать сестру:
— Я должен получить объяснение! Я настаиваю на этом! Я требую!
— Требуешь? Ах, вот каким тоном ты заговорил со мной! Ну так ты от меня ничего не добьешься! Минуту назад, когда ты начал умолять меня, я уже почти сжалилась над тобой и решила рассказать тебе все. Но ты требуешь! На требования я не отвечаю и сейчас же докажу тебе это. Я ухожу и запрусь у себя в комнате. Итак, дорогой мой, ты меня больше не увидишь ни сегодня, ни завтра, пока ты не одумаешься. Прощай, Джордж! Или до свидания — но только при том условии, что ты будешь вести себя как джентльмен.
И она снова запела:
У янки — фрегат, и янки — моряк! Мы в бой по волнам летим! И видит враг наш звездный флаг Под небом голубым…Она прошла через цветник, поднялась на веранду и исчезла за дверью.
Я стоял разочарованный, оскорбленный, огорченный. Я застыл на месте в полной растерянности, не зная, что мне делать дальше.
Глава 55
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Сестра сдержала слово. В течение всего дня и до полудня следующего я ее не видел. Затем она вышла из своей комнаты в амазонке, приказала оседлать Белую Лисичку и уехала одна.
Я чувствовал, что не имею никакого влияния на своенравную девушку и что нечего и пытаться наставлять ее. Она не считается с авторитетом брата, сама себе хозяйка и всегда будет поступать по-своему. После вчерашнего разговора у меня пропала охота вмешиваться в дела Виргинии. Она знала мою тайну, и поэтому любой мой совет будет ею отвергнут. Я решил держаться в стороне, пока не наступит решительный момент.
В течение нескольких дней наши отношения были весьма прохладными, что очень удивило мать, но она ни о чем не спрашивала. Мне показалось, что мать стала относиться ко мне не так сердечно, как прежде. Она рассердилась на меня за дуэль с Ринггольдом. Узнав о ней, она очень огорчилась и, когда я вернулся домой, упрекала меня за это, считая, что я один виноват в этой истории. Почему я так грубо поступил с Аренсом Ринггольдом? Из-за какой-то чепухи! Из-за негодницы индианки! Почему я так близко принял к сердцу все, что говорилось об этой девушке? Ведь то, что сказал о ней Ринггольд, может быть и правдой. Мне следовало вести себя более благоразумно.
Очевидно, мать что-то слышала краем уха обо всем этом деле, но не знала, кто была красавица-индианка. Ей не приходилось раньше слышать имя Маюми. Поэтому я довольно спокойно выслушал ее язвительные замечания. Раздраженный упреками матери, я несколько раз собирался рассказать ей о причинах дуэли, но пока воздерживался. Она все равно бы мне не поверила.
Я узнал, что в положении Ринггольда за последнее время произошли большие перемены. Отец его умер в ту самую минуту, когда в приступе ярости наказывал одного из рабов. У старика произошло кровоизлияние, и он упал на месте, как будто над ним свершился божий суд. Аренс был теперь единственным наследником большого состояния, неправедно нажитого: это была плантация с тремястами рабов. Тем не менее говорили, что теперь он стал еще скупее. Как и старый Ринггольд, он поставил себе целью быть властителем всех и всего в окрестности, стать крупным магнатом.
Некоторое время он притворялся больным и ходил с перевязанной рукой, гордясь тем, что дрался на дуэли. Так, по крайней мере, рассказывали люди. Однако те, кто знал, как окончилось дело, считали, что у него нет особых оснований хвастаться этой дуэлью.
Моя стычка с ним, по-видимому, не изменила его отношения к нашей семье. Мне говорили, что он часто бывал у нас и его даже считали женихом Виргинии. С того времени, как возросли его богатство и влияние, моя тщеславная мать стала относиться к нему еще благосклоннее. Я наблюдал за всем этим с глубоким сожалением.
Вообще в нашей семье чувствовалась какая-то перемена. В отношениях между нами постепенно исчезали прежняя искренность и теплота. Мне очень не хватало моего доброго, благородного отца. Мать держалась со мной надменно и холодно, как будто считала, что я непослушный и непочтительный сын. Дядя, ее брат, во всем следовал ее примеру, и даже любимая сестра иногда казалась мне чужой.
Я чувствовал себя неловко в собственной семье и старался как можно меньше бывать дома. Большую часть дня я проводил с Галлахером, который, конечно, гостил у меня, пока мы находились в Суони. У нас было довольно много дел в связи с нашей командировкой, а в свободное время мы развлекались охотой на оленей и лисиц. Правда, охота не доставляла мне теперь такого удовольствия, как прежде, да и Галлахер уже, видимо, не так увлекался ею.
Наши служебные обязанности обычно заканчивались к полудню. Нам было поручено не столько набрать добровольцев, сколько наладить занятия с записавшимися и «подготовить их к службе». Отряд добровольцев уже сформировался. Они выбрали себе офицеров из тех лиц, которые раньше служили в армии. На нашей обязанности было обучать их и следить за порядком в отряде.
Маленькая церковь в центре поселка была превращена в штаб. Там и происходило обучение.
Большинство добровольцев принадлежали к беднейшей части населения — мелким плантаторам и скваттерам, которые жили на окраинах болот и едва сводили концы с концами, существуя на скромный заработок, добываемый ими с помощью топоров и винтовок. Среди них был и старый Хикмэн. Я удивился, узнав, что в отряд записались такие «достойные личности», как Спенс и Уильямс. Последних двух я решил взять под особое наблюдение, но держаться от них подальше.
Многие из рядовых принадлежали к аристократическим кругам. Угроза войны нависла над всеми и объединила всех. Офицерами были обычно богатые и влиятельные плантаторы. Впрочем, в результате столь демократических выборов среди офицеров оказались и такие, которые были слабо подготовлены к тому, чтобы носить эполеты. Некоторые из этих джентльменов были в более высоких чинах, чем я и Галлахер. Полковников и майоров оказалось почти столько же, сколько и простых солдат. Но все они были обязаны подчиняться нам. В военное время часто случается, что лейтенант регулярной армии или даже младший офицер оказывается начальником полковника народного ополчения. Среди них встречались очень своеобразные люди, которые раньше «тянули лямку» в Уэст-Пойнте или имели за плечами месяцы военной службы под начальством «старого Хикори». Они считали себя специалистами в военном искусстве. И с ними было не так-то легко иметь дело. По временам Галлахеру приходилось призывать на помощь всю свою волю, чтобы доказать, что командует в Суони именно он. Репутация моего друга — отчаянного рубаки и дуэлиста — так же утверждала его авторитет, как и поручение, которое он привез с собой из главного штаба.
А в остальном мы жили с нашими добровольцами довольно мирно. Большинство из них стремились изучить военное дело и охотно подчинялись нашим указаниям. В шампанском, виски и сигарах недостатка не было, многие окрестные плантаторы оказались очень гостеприимными хозяевами. И если бы мы с Галлахером были склонны к развлечениям и выпивке, то, пожалуй, нигде бы не нашли лучших условий. Но мы не слишком поддавались таким соблазнам и благодаря этому пользовались уважением, что значительно облегчало нам исполнение наших обязанностей. Вообще нашу новую жизнь нельзя было бы назвать неприятной, если бы… не мои домашние нелады. Мой дом теперь — тут-то и была вся беда! — уже больше не был для меня родным домом.
Глава 56
ТАИНСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Прошло несколько дней, и я заметил внезапную перемену в поведении Галлахера; это относилось не ко мне и не к матери, а к Виргинии.
Я впервые обратил на это внимание через день после объяснения с ней; ее отношение к нему тоже изменилось.
Ледяная вежливость между ними словно растаяла, и прежняя задушевная дружба воскресла. Они снова вместе играли, пели, смеялись, читали книжки и болтали о пустяках, как и раньше.
«Ему-то легко все это забыть, — думал я, — он только друг и, конечно, не может испытывать такие же чувства, как брат. Что ему за дело до того, с кем она тайно встречается? Какое ему дело до того, что Виргиния поступает вразрез с нормами общепринятого поведения? Ему приятно ее общество, ее милое обращение заставило его отбросить все подозрения, и поэтому он забыл, простил или нашел какое-нибудь подходящее объяснение ее поведению». Мне казалось, что он стал более холоден со мной, тогда как ей полностью вернул свое доверие и дружбу.
Сначала я был удивлен этой новой фазой отношений в нашем семейном кругу, а потом просто стал в тупик. Я был слишком горд и слишком уязвлен, чтобы потребовать у Галлахера объяснений, а сам он не считал нужным объясниться со мной, и я вынужден был оставаться в неведении. Я заметил, что и мать удивлена такой переменой и относится к ней несколько подозрительно. Я понимал ее. Она боялась, как бы блестящий военный, который, впрочем, не имел никакого состояния, кроме своего офицерского жалованья, не увлек Виргинию. А вдруг она изберет его себе в мужья! Конечно, мать мечтала о совсем другом муже для Виргинии. Она не могла спокойно примириться с тем, что ее дочь избрала себе такую судьбу, и ревнивым оком взирала на близость молодых людей.
Я был бы рад, если бы ее подозрения оказались основательными, и счастлив, если бы сестра остановила свой выбор на моем друге. Я был бы рад, если бы мой друг назвал меня братом, и не возражал бы против их брака, хотя у Галлахера и не было состояния.
Но мне и в голову не приходило, что между ними могло быть нечто большее, чем старая дружба. Любовь проявляется совсем иначе. Если речь шла о капитане Галлахере, то я мог заверить мать, что ей не о чем беспокоиться.
Однако посторонние могли принять их за влюбленных. Галлахер почти не расставался с сестрой: они вместе проводили половину дня и засиживались до поздней ночи, вместе ездили в лес и надолго куда-то исчезали из дому. Я заметил, что мой товарищ все больше стал тяготиться моим обществом. Удивительнее всего то, что и охота больше не увлекала его. Он стал пренебрегать службой, и если бы «лейтенант» не лез из кожи, то вряд ли наш отряд чему-нибудь бы научился.
Дни шли, и я заметил, что Галлахер помрачнел. Когда сестры не было, он становился задумчивым. Все теперь было по-иному. Он действительно походил на влюбленного. Он вздрагивал, когда слышал ее голос. Он жадно ловил каждое ее слово, и его глаза блистали восторгом, когда она входила в комнату. Раз или два я заметил, что он смотрел на нее такими глазами, в которых светилась не только дружба. Во мне пробудились прежние нодозрения. Конечно, Виргиния была достаточно красива, чтобы произвести впечатление на твердое, как алмаз, сердце солдата. Но, вообще говоря, Галлахер не был дамским кавалером. О его победах над женщинами что-то не было слышно; наоборот, в их обществе он чувствовал себя неловко. Сестра была единственная женщина, с которой он разговаривал открыто и непринужденно. Но, в конце концов, мог же он все-таки влюбиться в Виргинию!
Я был доволен этим, но только мог ли я обещать ему взаимность Виргинии? Увы, это было ве в моих силах. Мне очень хотелось знать, любит ли она его. Но нет, этого быть не могло, если она мечтала о…
И все же она иногда вела себя с Галлахером так, что человек, незнакомый с ее дикими выходками, мог бы и вправду подумать, будто она влюблена в него. Даже я, наблюдая за ней, стал в тупик. Или она действительно питала к нему чувство более серьезное, чем дружба, или попросту притворялась. Если она знала, что он ее любит, то поступала очень жестоко.
Я часто предавался этим размышлениям и никак не мог от них отделаться. Они были неприятны, порой прямо тягостны.
Смущенный и ошеломленный тем, что происходило вокруг меня, я запутался в своих сомнениях… Но в это время в нашей семейной жизни произошло событие, затмившее по своей таинственности все остальное. Собственно говоря, это было даже не событие, а новая глава в истории нашей семьи. До меня дошли странные слухи, и если они были верны, то нужно отбросить прочь все мои предположения.
Я узнал, что моя сестра влюбилась в Аренса Ринггольда или, во всяком случае, благосклонно относится к его ухаживаниям!
Глава 57
КТО ОТКРЫЛ МНЕ ТАЙНУ
Все это я узнал от своего верного Черного Джека. Я мог бы усомниться в словах кого-нибудь другого, но его свидетельство было непогрешимо. Черный Джек был необычайно проницателен, и все его сообщения основывались на подлинных фактах.
У него были серьезные доводы, и он изложил их. Вот как это произошло. Однажды я сидел один на берегу водоема и читал книгу. Вдруг меня окликнул Джек:
— Масса Джордж!
— Ну, что тебе? — спросил я, не отрываясь от книги.
— Масса Джордж, все утро я стараюсь застать вас одного. Хочу поговорить с вами, масса Джордж!
Я обратил внимание, что Джек сказал это необычайно торжественно. Машинально я закрыл книгу и взглянул на Джека; выражение лица его было таким же торжественным, как его речь.
— Поговорить со мной, Джек?
— Да, масса Джордж, если вы не заняты.
— Я не занят, Джек. Говори, я слушаю.
«Бедняга, — думал я, — и у него есть свои горести. Должно быть, он хочет пожаловаться мне на Виолу. Злая девчонка всегда заставляет его мучиться ревностью. Но чем же я могу помочь ему? Не могу же я заставить ее полюбить его. Нет! Привести лошадь на водопой может один человек, но и сорок человек не смогут заставить ее пить! Взбалмошная девчонка будет поступать так, как ей взбредет в голову, и никакие увещевания тут не помогут…»
— Так в чем же дело, Джек?
— Вы сами знаете, масса Джордж, что я не люблю вмешиваться в семейные дела, но, видите ли, тут совсем не ладно…
— В каком смысле?
— Да наша барышня… молодая леди…
«Как это вежливо со стороны Джека называть Виолу «барышней»!» — подумал я.
— А что, тебе кажется — она обманывает тебя?
— Не меня одного, масса Джордж.
— Ах, вот какая злая девчонка! Но, Джек, может быть, ты все это только воображаешь? Разве у тебя есть доказательства ее неверности? Разве кто-нибудь за ней ухаживает?
— Да, сейчас особенно, и больше, чем раньше.
— И это белый?
— Ах, боже мой! — воскликнул Джек. — Удивительные вы вещи говорите! Конечно, белый! Кто же, как не белый, смеет ухаживать за молодой леди?
Я не мог не улыбнуться при мысли о том, что Джек считает свою красавицу неприступной для кавалеров его племени. Я как-то раз даже слышал его хвастливые слова, что он единственный негр, который осмеливается ухаживать за Виолой.
«Ага, — подумал я, — значит, виновник его бедствий белый!»
— Кто же это, Джек? — спросил я.
— Ах, масса, этот дьявол, Аренс Ринггольд!
— Что? Аренс Ринггольд ухаживает за Виолой?
— За Виолой? Господи, масса Джордж! — воскликнул негр, закатив глаза. — Я и не думал говорить о Виоле!
— О ком же ты говоришь?
— Да разве вы не слыхали, что я сказал «барышня»? Я говорю о барышне, о молодой леди, о мисс Виргинии.
— О сестре? Ну, Джек, это старая история. Аренс Ринггольд уже много лет ухаживает за сестрой. Да только она не любит его. В этом отношении можешь быть спокоен, мой преданный друг. Она за него не пойдет. Он ей противен, Джек, да и всем на свете тоже. А если бы даже он ей и нравился, то уж я ни за что не допустил бы этого брака. Можешь быть совершенно спокоен.
Мои слова, по-видимому, не удовлетворили негра. Он стоял, почесывая затылок, как будто хотел еще что-то сообщить мне. Я ждал, пока он заговорит.
— Простите меня, масса Джордж, за смелость, но вы ошибаетесь. Правда, было время, когда мисс Виргиния не обращала внимания на эту змею в траве. Но теперь все по-иному: отец его, старый мошенник и вор, умер, и молодой хозяин разбогател. Он теперь крупный плантатор, самый богатый из всех разбойников. Старая леди довольна его ухаживаниями за мисс Виргинией и приглашает в гости, потому что он богатый.
— Я знаю, Джек. Матушка всегда желала этого брака, но это ничего не значит: сестра — девушка своевольная и сделает обязательно по-своему. Она ни за что не согласится выйти за Аренса Ринггольда.
— Извините, но вы ошибаетесь. Она согласна.
— Кто вбил тебе это в голову, мой милый?
— Виола, квартеронка. Она рассказала мне все.
— Значит, вы опять друзья с Виолой?
— Да, масса Джордж, мы с ней теперь дружим. Это я был виноват перед нею. Теперь я уж больше не ревную ее. Она хорошая девушка, ей можно верить. Я ее больше не подозреваю ни в чем.
— Рад слышать это. Но скажи, что она говорила об Аренсе Ринггольде и моей сестре?
— Виола сказала мне, что мисс Виргиния видится с ним каждый день.
— Каждый день! Да ведь Аренс Ринггольд уже давно не бывает у нас.
— Вот вы и опять ошибаетесь, масса Джордж. Масса Аренс приезжает почти каждый день. Но тогда, когда вы и масса Галлахер уходите на охоту или учите добровольцев…
— Ты удивляешь меня, Джек!
— Еще не все, масса. Виола говорит, что мисс Виргиния стала совсем другая. Она уже не сердится на него, а внимательно слушает, когда он говорит. Виола думает, что она согласится выйти за него Это будет ужасно! Очень, очень ужасно!
— Послушай, Джек, — сказал я, — когда я буду уезжать, всегда оставайся дома и наблюдай за теми, кто приедет. Как только появится Ринггольд, немедленно скачи за мной.
— Хорошо, масса Джордж. Не беспокойтесь, домчусь стрелой! Как зигзаг молнии, смазанный салом!
И, дав такое обещание, негр удалился.
x x x
Несмотря на свою недоверчивость, я не мог пренебречь сообщением негра. В нем, несомненно, была какая-то доля истины. Негр был весьма преданный слуга и вряд ли обманул бы меня. И он слишком проницателен, чтобы его самого можно было обмануть.
Виола имела возможность наблюдать за всем, что происходило в нашей семье. Что же могло заставить ее выдумать подобную историю? Сам Джек видел Ринггольда у нас в доме, а мне об этом никто не говорил. Что же делать? Теперь у Виргинии оказалось сразу три поклонника: индейский вождь, Галлахер и Аренс Ринггольд! Неужели она кокетничает со всеми без разбора? Неужели она имеет виды на Ринггольда? Нет, это невозможно! Я готов был допустить любовь к солдату, романтическое увлечение храбрым и красивым вождем, но Аренс Ринггольд, пискливый, напыщенный сноб[110], у которого не было никаких иных достоинств, кроме богатства, — неужели это возможно? Конечно, тут не обошлось без влияния матери. Но мне никогда не приходило в голову, чтобы Виргиния могла уступить. А если Виола говорила правду, то Виргиния уступила или готова уступить! «Ах, матушка, матушка! Ты и не догадываешься, кого хочешь ввести в свой дом и любить, как родного сына!»
Глава 58
СТАРЫЙ ХИКМЭН
На следующее утро я, как обычно, отправился в лагерь добровольцев. На этот раз Галлахер поехал со мной, так как нужно было привести отряд к присяге[111], и наше присутствие было совершенно необходимо.
В отряде собралась довольно приятная компания, хотя он производил более внушительное впечатление своим количеством, нежели внешним видом. Отряд был конный, но так как каждый экипировался как мог, то оружие и лошади у всех были разные. Почти у всех имелись винтовки, но у некоторых еще сохранились старинные фамильные мушкеты — память о войнах времен американской революции. У иных были простые охотничьи двустволки. Заряженные тяжелой дробью, они, конечно, не могли представлять собой грозное оружие в схватках с индейцами. Были и пистолеты всех видов, начиная от огромных, оправленных в медь, до маленьких карманных — одноствольных и двуствольных. Револьверов ни у кого не было, так как знаменитые кольты[112] еще не появились в пограничных с индейской резервацией районах.
У каждого добровольца был нож, обычно большой, с широким острым лезвием, вроде тех, какие носят мясники. У иных были кинжалы со старинными орнаментами. У многих за поясом торчали небольшие секиры, наподобие индейских томагавков. Эти секиры могли сослужить владельцу двойную службу: прорубить дорогу в лесу или раскроить врагу череп.
Амуниция состояла из мешочков с порохом, патронташей с пулями и дробью. Короче говоря, это было обычное боевое снаряжение жителя пограничной местности или охотника-любителя, мирно охотившегося за оленями.
Кавалерия нашего отряда была столь же разнообразна, как оружие и снаряжение.
Здесь были и высокие костлявые клячи, и коренастые верховые лошадки, пригодные для дальних поездок, и крепкие, выносливые туземные кони андалузской породы[113], и худые, заезженные кобылы, верхом на которых ехал какой-нибудь оборванный скваттер, бок о бок с великолепным арабским боевым конем — мечтой лихих юнцов, плантаторских сынков, которые любили гордо красоваться на этих замечательных скакунах. Многие были верхом на мулах. Американские и испанские мулы, привыкшие к седлу, хотя и не могут сравниться с конями в атаке, но могут смело потягаться с ними в военном походе против индейцев. В зарослях, в непроходимых лесных дебрях, где земля представляет собой болото или завалена рухнувшими стволами и буреломом и устлана сплетающимися и извивающимися растениями-паразитами, мул легко прокладывает себе путь там, где лошадь на каждом шагу спотыкается или проваливается в трясину. Многие опытные охотники, преследуя зверя, предпочитают мула породистому арабскому скакуну.
Не менее пестрым было и обмундирование отряда. Офицеры были полностью или частично все же облачены в военную форму, а солдаты одеты как попало: красные, синие и зеленые шерстяные куртки, грубошерстные свитеры, серые и коричневые; красные фланелевые рубашки, коричневые, белые, желтые полотняные или нанковые пиджаки. У некоторых пиджаки были даже небесно-голубого цвета! Охотничьи куртки из выделанной оленьей кожи, такие же мокасины и гетры, высокие и низкие сапоги из лошадиной кожи или шкуры аллигатора — короче говоря, все виды обуви, которую носят в Штатах. Головные уборы были также разнообразны и фантастичны. Высоких и твердых касок и кепи не встречалось, зато было много фуражек и шляп из шерсти и войлока, а также шляп, сделанных из соломы и пальмовых листьев, с широкими полями, обтрепанных и надвинутых на самый лоб. На некоторых были форменные фуражки из синего сукна. Только они и придавали военный вид их владельцу.
Но было нечто общее у всех добровольцев этого отряда — это неукротимая жажда схватки с противником, желание помериться силами с ненавистными дикарями, которые устраивали такие бесчинства во всей стране. «Когда же нас поведут в бой?» — вот вопрос, который постоянно задавали добровольцы.
Старый Хикмэн оказался весьма деятельным. Благодаря своему возрасту и опыту он получил звание сержанта, единодушно присужденное ему на выборах. Мне пришлось несколько раз разговаривать с ним. Охотник за аллигаторами по-прежнему оставался моим верным другом и был очень предан всей нашей семье. В этот день он еще раз доказал свою преданность, начав со мной разговор, которого я никак от него не ожидал.
— Пусть индейцы скальпируют меня, лейтенант, — сказал он, — но я даже и мысли не допускаю о том, что этот осел женится на вашей сестре.
— Кто женится? — спросил я с удивлением, полагая, что старик имеет в виду Галлахера.
— Да тот, что постоянно шляется к вам. Эта тварь, проклятый хорек — Аренс Ринггольд!
— А, вот вы о ком! Разве об этом идут разговоры?
— Да во всей округе только об этом и толкуют Черт меня побери, Джордж Рэндольф, если бы я это ему позволил! Ваша сестра — милая девушка, самая что ни на есть красавица в наших краях, и отдать ее замуж за такого мерзкого негодяя, как он!.. Да я и слышать об этом не хочу, несмотря на все его доллары! Запомните мои слова, Джордж: он сделает бедняжку несчастной на всю жизнь. Это уж как пить дать, черт бы его побрал!
— Я очень благодарен вам за совет, Хикмэн, только я думаю, что ваши опасения напрасны. Ничего из этого не выйдет.
— Ну, а почему же все кругом только об этом и болтают? Не будь я старым другом вашего отца, я не позволил бы себе такую вольность. Но я был его другом, а теперь я ваш друг и потому решил поговорить с вами. Мы все кричим тут об индейцах и называем их ворами. Да во всей Флориде, среди всех индейских племен не найти таких воров и мошенников, как Ринггольды! И отец такой был, и сын, и вся ихняя проклятая порода. Старик убрался отсюда, а куда попал, неизвестно. Наверно, дьявол держит его в лапах, и думаю, что будет держать долго за все те пакости, которые он творил с людьми на этом свете. Ему сторицей отплатится и за то, как он обращался с бедными метисами, что живут по ту сторону реки.
— Вы говорите о семье Пауэллов?
— Да, это была величайшая несправедливость на свете. Я никогда и не слыхивал такого в своей жизни. Клянусь дьяволом!
— Стало быть, вы знаете, что там произошло?
— Конечно, я знаю все их подлые плутни. Это было самое гнусное дело, когда-либо совершенное человеком, и притом белым, который к тому же называет себя джентльменом. Клянусь сатаной, так оно и есть!
По моей просьбе Хикмэн подробно рассказал мне, как была ограблена несчастная семья. Я узнал, что Пауэллы покинули свою плантацию отнюдь не добровольно. Наоборот, для бедной вдовы переселение в чужие места было самым тяжелым испытанием в ее жизни. Дело не только в том, что эта усадьба считалась лучшей во всей округе и высоко ценилась, но с ней были связаны все светлые воспоминания о счастливой жизни, о добром муже… И только неумолимый закон в лице шерифа с дубинкой мог заставить ее покинуть родные места.
Хикмэну пришлось присутствовать при сцене расставания. Он описал ее простыми, но проникновенными словами. Он рассказал мне, как неохотно и с какой грустью вся семья разлучалась со своим родным домом. Он слышал негодующие упреки сына, видел слезы и мольбы матери и дочери, слышал, как несчастная вдова предлагала все, что у нее осталось, — свои личные вещи, даже драгоценности — подарки ее покойного мужа, лишь бы негодяи позволили ей остаться под священным кровом дома, где прошло столько счастливых лет. Но мольбы ее были напрасны. Безжалостные преследователи не ведали сострадания, и вдову выгнали из ее дома.
Обо всем этом старый охотник говорил взволнованно. Хотя внешность его была неприглядной, а речь простонародной, зато сердце у него было отзывчивое и он не выносил несправедливости.
Он неприязненно относился ко всем, кто участвовал в этом преступном деле, и от всей души ненавидел Ринггольдов. Его рассказ о бедствиях, постигших семью Оцеолы, вызвал во мне сильнейшее возмущение этой чудовищной жестокостью и пробудил прежнее теплое чувство к Оцеоле, которое несколько померкло, когда сомнения одолели меня.
Глава 59
СПЕШНЫЙ ГОНЕЦ
Мы с Хикмэном отъехали немного в сторону, чтобы побеседовать на свободе. Старый охотник разгорячился и начал говорить более откровенно. Я ожидал, что он сообщит мне новые интересные подробности. Будучи твердо уверен в том, что он предан нашей семье, а лично ко мне питает самые дружеские чувства, я уже совсем было решился довериться ему и рассказать о своих несчастьях. Хикмэн был человек простой, но умудренный житейским опытом, и вряд ли кто мог дать мне лучший совет, чем он: ведь охотник не всегда жил среди аллигаторов. Наоборот, ему пришлось многое испытать в жизни. Я смело мог рассчитывать на его преданность и вполне довериться его опыту и мудрости.
Убежденный в этом, я охотно поделился бы с ним тайной, тяжелым камнем лежавшей у меня на сердце, или, по крайней мере, открыл бы ему хотя бы часть этой тайны, если бы не думал, что он уже кое-что знает об этом. Я был уверен, что Хикмэну известно о воскрешении из мертвых Желтого Джека. Он еще раньше намекал мне, что сомневается в гибели мулата. Но я думал не о мулате, а о замыслах Аренса Ринггольда. Может быть, Хикмэн что-нибудь знает и о них? Я обратил внимание на то, что, когда имя мулата было упомянуто в связи с именами Спенса и Уильямса, старый охотник так многозначительно взглянул на меня, как будто хотел сообщить мне что-то об этих негодяях.
Я уже собирался открыть Хикмэну свою тайну, как вдруг услышал конский топот.
Вглядевшись, я увидел всадника, который мчался по берегу реки с такой быстротой, как будто участвовал в гонке на приз. Конь был белый, а всадник черный; я сразу догадался, что это Джек.
Я вышел из-за деревьев, чтобы он увидел меня и не помчался к церкви, которая находилась немного поодаль. Когда Джек приблизился, я окликнул его; он услышал и, резко повернув коня, направился к нам. Очевидно, Джек приехал с каким-то поручением, но в присутствии Хикмэна он стеснялся говорить и шепнул мне то, что я и ожидал услышать: приехал Аренс Ринггольд!
«И этот проклятый черномазый тут как тут, масса Джордж!» — вот буквальные слова, которые прошептал мне на ухо Джек.
Выслушав это известие, я постарался сохранить полное спокойствие. Мне совсем не хотелось, чтобы Хикмэн узнал или даже мог заподозрить, будто у нас в доме произошло что-то необычайное. Отпустив негра домой, я вернулся с охотником к отряду добровольцев, затем постарался незаметно отстать от Хикмэна и затеряться в толпе.
Вскоре после этого я отвязал коня и, не сказав ни слова никому, даже Галлахеру, вскочил в седло и поспешно уехал. Я направился не по прямой дороге, которая вела к нашей плантации, а решил сделать небольшой крюк через лес, примыкавший к церкви. Я сделал это для того, чтобы ввести в заблуждение старого Хикмэна и всех других, кто мог бы заметить прибытие гонца. Если бы я уехал с Джеком, они могли бы догадаться, что дома у меня не все в порядке. Я показался в отряде для отвода глаз, чтобы любопытные думали, что я уехал не домой, а совсем в другом направлении. Пробравшись через кусты, я выехал на главную дорогу, идущую вдоль реки, а затем, пришпорив коня, поскакал таким галопом, как будто бы решался вопрос о моей жизни или смерти. Я мчался с такой быстротой потому, что хотел добраться до дому прежде, чем тайный посетитель — желанный гость матери и сестры — успеет распрощаться и уехать.
У меня были серьезные причины ненавидеть Ринггольда, но я не таил никаких кровожадных замыслов. Я не собирался убивать его, хотя это был бы самый верный способ избавиться от подлого и опасного негодяя. В эту минуту, возбужденный рассказом Хикмэна о жестокости Ринггольда, я мог бы уничтожить его без всякого страха и угрызений совести. Но хотя я весь кипел от ярости, я все же не был ни сумасшедшим, ни безрассудным человеком. Благоразумие — обычный инстинкт самосохранения — еще не покинуло меня, и я вовсе не собирался разыграть последний акт трагедии о жизни Самсона[114]. План действий, который я себе наметил, был гораздо практичнее.
Он состоял в том, чтобы по возможности незаметно добраться до дома, неожиданно войти в гостиную, где наверняка сидел гость, захватить врасплох и гостя и хозяев, потребовать от всех троих объяснения и окончательно разобраться в этой таинственной путанице наших семейных отношений. Я должен поговорить с глазу на глаз с матерью, сестрой и ее поклонником и заставить всех троих признаться во всем.
«Да! — говорил я сам себе, яростно вонзая шпоры в бока коня. — Да, они должны признаться во всем! Каждый из них и все вместе, или…»
Я не мог решить, что же мне делать с матерью и сестрой. Впрочем, темные замыслы, вспыхнувшие на пепле гаснущей сыновней и братской любви, уже зловеще гнездились в моем сердце.
Если же Ринггольд откажется сказать мне правду, я отхлещу его арапником, а затем вышвырну вон и навсегда запрещу ему появляться в том доме, где отныне я буду хозяином. Что касается приличий, то об этом не могло быть и речи. Сейчас мне было совсем не до того. С человеком, который пытался убить меня, никакое обращение не могло быть слишком грубым.
Глава 60
ДАР ВЛЮБЛЕННОГО
Я уже говорил, что намеревался войти в дом незамеченным. Поэтому, из осторожности, подъезжая к плантации, я свернул с дороги на тропинку, идущую вдоль водоема и апельсиновой рощи. Я надеялся, что если подъеду к дому сзади, то меня никто не заметит. Рабы, работавшие внутри ограды, могли увидеть меня, когда я ехал по полю, но это были полевые рабочие. Я больше всего опасался, чтобы меня не заметил кто-нибудь из домашней прислуги.
Черный Джек домой не поехал; я велел ему ждать меня в условленном месте, там я его и нашел. Приказав ему следовать за собой, я помчался дальше. Миновав поля, мы въехали в лес и здесь спешились. Отсюда я отправился один.
Как охотник, подстерегающий дичь, или как дикарь, который крадется к спящему врагу, — так подкрадывался я к дому, к моему дому, к дому моего отца, к дому моей матери и сестры. Странное поведение для сына и брата!
Ноги у меня дрожали, колени подгибались, грудь вздымалась от волнения и от неистового гнева. На одно мгновение я остановился. Мне вдруг ясно представилась неприятная, недостойная сцена, в которой я собирался принять участие. С минуту я колебался. Может быть, я даже вернулся бы и подождал другого подходящего случая, чтобы выполнить свое намерение не столь насильственным образом, но как раз в эту минуту до меня донеслись голоса, сразу укрепившие мою решимость. Я услышал веселый, звонкий смех сестры и… другой голос. Я сразу узнал скрипучий тенорок ее презренного вздыхателя. Эти голоса привели меня в ярость, словно они ужалили меня. Мне показалось, что в них звучит какая-то насмешка надо мной. Как могла сестра так вести себя? Смеяться, когда я изнемогал под гнетом самых мрачных подозрений?
И тут все мысли об ином, более достойном образе действий сразу исчезли. Я решил привести свой план в исполнение, но прежде всего выяснить, о чем они там говорят.
Я подошел ближе и прислушался. Они были не в доме, а прогуливались по опушке апельсиновой рощи. Неслышно ступая, осторожно раздвигая кусты, то сгибаясь, то выпрямляясь, я вдруг оказался в каких-нибудь шести шагах от них. Сквозь листву я ясно видел платье сестры и отчетливо слышал каждое их слово.
Очень скоро я убедился, что их разговор как раз подошел к решительному моменту. По-видимому, Ринггольд только что впервые сделал официальное предложение сестре, и именно это и вызвало у нее смех.
— Так, значит, вы в самом деле желаете назвать меня своей женой? Вы говорите это серьезно?
— Да, мисс Рэндольф. Не смейтесь надо мной! Вы знаете, сколько лет уже я люблю вас самой преданной любовью.
— Нет, не знаю. Откуда мне это знать?
— Ведь я говорил вам об этом. Разве я не повторял вам это сотни раз?
— Слова! Я не очень ценю слова в делах такого рода. Десятки мужчин уже говорили мне то же самое, хотя, как я полагаю, они мало интересовались мной. Язык — великий обманщик, мистер Аренс!
— Но мое отношение к вам свидетельствует об искренности моих чувств. Я предлагаю вам свою руку и все состояние. Разве это не достаточное доказательство моей преданности?
— Конечно, нет, глупец вы этакий! Да если б я вышла за вас, состояние все-таки осталось бы вашим. А кроме того, у меня самой есть небольшое состояние, и оно перешло бы под ваш контроль. Вот видите, все складывается, несомненно, в вашу пользу.
И она снова расхохоталась.
— Нет, мисс Рэндольф, что вы! Я и не подумал бы притронуться к вашему состоянию. Если вы примете мою руку…
— Вашу руку, сэр? Когда хотят добиться от женщины согласия, ей предлагают не руку, а сердце! Да, сердце!
— Что ж, вам известно, что в сердце мое уже давно принадлежит вам. Об этом знает весь свет.
— Ах, значит, вы всем об этом рассказали? Вот это уж мне совсем не нравится!
— Вы слишком жестоки ко мне! У вас было довольно доказательств моей долгой и преданной любви. Я давно объяснился бы с вами и попросил стать моей женой, если бы… — Тут он вдруг запнулся.
— Если бы не что?
— По правде сказать, я не мог полностью распоряжаться собой, пока был жив мой отец.
— Ах, вот как?
— Но теперь я сам себе хозяин, и, если, дорогая мисс Рэндольф, вы соблаговолите принять мою руку…
— Опять руку! Кстати, говорят, что эта рука не особенно-то щедра. Если бы я приняла ваше предложение, то вряд ли я имела бы деньги даже на карманные расходы — на шпильки да булавки, ха-ха-ха!
— На меня клевещут враги, мисс Рэндольф. Но клянусь, что в этом отношении вам никогда не придется на меня жаловаться.
— А я в этом не вполне уверена, несмотря на ваши клятвы. Обещания, данные до свадьбы, часто потом забываются. Я не могу доверять вам, любезный друг, нет, нет!
— Уверяю вас, что я заслуживаю доверия!
— Не уверяйте! У меня нет никакого доказательства вашей щедрости. Послушайте, мистер Ринггольд, вы еще ни разу в жизни не сделали мне ни одного подарка.
Тут она снова расхохоталась.
— О, если бы я знал, что вы его примете! Я отдал бы вам все, что у меня есть!
— Ну хорошо. Я испытаю вас. Вы должны сделать мне подарок.
— Назовите только, что вы хотите, и любое ваше желание будет исполнено!
— Вы думаете, что я попрошу у вас какой-нибудь пустячок — лошадь, пуделя или какую-нибудь блестящую безделушку? Уверяю вас, ничего такого не будет.
— Мне все равно — ведь я предложил вам все свое состояние. Стоит ли говорить о какой-нибудь его части! Вам достаточно только высказать свое желание, и оно будет исполнено.
— Ах, какая щедрость! Ну хорошо. У вас есть одна вещь, которую мне очень бы хотелось иметь, очень! Вы знаете, я даже собиралась попросить вас, чтобы вы мне ее продали.
— Что же вы имеете в виду, мисс Рэндольф?
— Плантацию.
— Плантацию?
— Совершенно верно. Но не вашу, а одну из тех, которыми вы владеете. Это плантация, некогда принадлежавшая семье метисов на Тупело-Крик. Кажется, ваш отец купил ее у них?
Я обратил внимание на особое ударение, которое Виргиния сделала на слове «купил». Я заметил также, что Аренс явно смутился, когда отвечал ей.
— Да, да… Это верно… Но вы удивляете меня, мисс Рэндольф. Почему вам захотелось сейчас получить эту плантацию, раз вы можете стать хозяйкой всего моего состояния?
— Это уж мое дело. Мне так хочется. На это у меня есть особые причины. Я люблю это место… Оно очень красиво, и я часто гуляю там. Не забывайте, что наш старый дом переходит к брату. Не всегда же он будет жить холостяком! А мама захочет жить только в собственном доме… Но нет, я не стану объяснять вам причины. Делайте подарок или нет — как вам угодно.
— Ну хорошо. А если я подарю вам эту плантацию, тогда вы…
— Никаких условий, слышите? Иначе я совсем не приму от вас никакого подарка, хоть на коленях просите.
При этом последовал новый взрыв смеха.
— В таком случае, я не буду ставить никаких условий, если вы согласны принять от меня плантацию. Она ваша!
— Но это еще не все, мистер Аренс. Ведь вы можете так же легко отнять ее у меня, как и подарили. Как я могу быть уверена, что вы этого не сделаете? Мне необходимы официальные документы.
— Вы их получите.
— Когда?
— Когда вам будет угодно. Хоть через час.
— Да, да, пожалуйста. Идите и привезите их, но помните, что я не признаю никаких условий… Помните это!
— О, я и не думаю их предлагать! — воскликнул Ринггольд в полном восторге. — У меня нет никаких опасений. Я во всем полагаюсь на вас. Через час вы получите все документы. До свидания!
И, сказав это, он тут же удалился.
Этот разговор и особенно его странная заключительная часть так ошеломили меня, что я прямо окаменел. Я опомнился, только когда Ринггольд уже ушел далеко. Теперь я вовсе не знал, что мне делать: то ли догонять Ринггольда, то ли предоставить ему уехать безнаказанно.
Между тем Виргиния тихо направилась к дому. Я был возмущен ею еще больше, чем Ринггольдом. Поэтому я и дал ему возможность уйти, а сам решил немедленно поговорить с сестрой. Произошла бурная сцена. Я застал сестру и мать в гостиной и напрямик, без всяких обиняков, не слушая ни опровержений, ни уговоров, обрисовал им характер человека, который только что покинул наш дом и который собирался убить меня.
— Виргиния, сестра моя, неужели ты и теперь согласишься выйти за него замуж?
— Никогда, Джордж! Я и не думала об этом. Никогда! — в волнении воскликнула она, опускаясь на диван и закрывая лицо руками.
Однако мать слушала меня недоверчиво. Я уже собирался привести ей дальнейшие доказательства своей правоты, как вдруг услышал, что за окном кто-то громко окликнул меня. Я выбежал на веранду. Оказалось, что к дому подскакал всадник в голубом мундире с желтыми отворотами. Это был драгун, посланный из форта. Он был весь в пыли, а лошадь его — в пене. Видно было, что он долго мчался без отдыха. Драгун протянул мне лист бумаги. Это был наскоро написанный приказ мне и Галлахеру. Я развернул бумагу и прочел:
«Немедленно направьте своих людей в форт Кинг. Гоните лошадей во весь опор. Многочисленный неприятель окружает нас. Нам дорога каждая винтовка. Не теряйте ни одной минуты!
Клинч»
Глава 61
ПОХОД
Приказ надо было выполнять немедленно. К счастью, моя лошадь еще была не расседлана, и через пять минут я уже скакал в лагерь добровольцев. Среди наших бойцов, жаждавших военных подвигов, весть о походе вызвала радостное волнение и была встречена громким «ура». Энтузиазм возместил недостаток дисциплины, и менее чем в полчаса отряд в полном боевом порядке был готов к выступлению. Никаких причин для задержки не оказалось. Была подана команда двигаться вперед, фанфары протрубили сигнал, и добровольцы, выстроившись по двое, длинной, несколько нестройной линией выступили к форту Кинг.
Я поскакал обратно, чтобы проститься с матерью и сестрой. Времени на прощанье было мало, но уезжал я с более спокойным сердцем. Я знал, что сестра предупреждена, и теперь не боялся, что она выйдет за Ринггольда.
Драгун, который привез приказ, поехал с нами. По дороге мы узнали все новости из форта. Произошло много событий. Оказывается, индейцы ушли из своих поселений, забрав с собой жен, детей, скот и все домашнее имущество. Несколько своих деревень они сожгли сами, так что их бледнолицым врагам уже нечего было уничтожать. Это говорило об их решимости начать войну по-настоящему. Куда они ушли, не могли выяснить даже наши лазутчики. Одни полагали, что индейцы направились на юг, в более отдаленную часть полуострова. Другие думали, что они скрылись в болотах, тянувшихся на много миль в верховьях реки Амазуры, известных под названием «болота Уитлакутчи».
Это было наиболее вероятной догадкой. Но индейцы так искусно замаскировали свое передвижение, что нельзя было обнаружить ни малейшего следа. Лазутчики дружественных индейцев — даже самые проницательные из них — не могли определить путь их отступления. Многие считали, что индейцы ограничатся оборонительной войной и станут нападать только на те селения, где не окажется американских войск, а затем будут укрываться с добычей в болотных дебрях. Это казалось весьма вероятным. В таком случае, войну нелегко будет закончить. Другими словами, «регулярной» войны вовсе не будет, будут только бесплодные походы и преследования. Ясно, что, если индейцы не захотят вступить с нами в открытый бой, у нас будет мало шансов догнать отступающего врага.
Солдаты боялись, что противник скроется в чаще леса, где найти его будет трудно и даже невозможно. Однако такое положение не могло продолжаться долго. Индейцы не смогут вечно жить грабежом. Их добыча с каждым днем будет все уменьшаться. Притом их слишком много для простой разбойничьей шайки. Впрочем, об их точном количестве белые имели весьма смутное представление. Одни говорили, что их от одной до пяти тысяч, включая и беглых негров, но даже наиболее осведомленные жители пограничных районов могли назвать только приблизительную цифру. По моим расчетам, у индейцев было более тысячи воинов, даже без тех кланов, которые отпали. Так же думал и старый Хикмэн, хорошо знавший индейцев. Как же могли индейцы найти средства к существованию среди болот? Неужели они были настолько предусмотрительны, что смогли сделать там большие запасы еды? Нет, на этот вопрос можно было смело дать отрицательный ответ.
Все знали, что именно в этом году у семинолов не было даже их обычных запасов. Вопрос о переселении был решен еще весной, и так как будущее представлялось неопределенным, многие семьи засеяли очень мало, а некоторые почти ничего. Урожай был поэтому меньше, чем в прежние годы, и перед последним советом в форте Кинг некоторые уже покупали еду или просили милостыню у пограничных жителей. Какова же была вероятность того, что они смогут продержаться в течение длительной кампании? Голод заставит их выйти из своих укреплений. Им придется или вступить в бой, или просить мира. Так думали все.
Эта тема оживленно обсуждалась и во время похода. Она представляла особый интерес для многих молодых воинов, жаждущих славы. Если противник изберет такую бесславную систему военных действий, кому же достанутся лавры? Участники похода в убийственном климате болот, кишащих миазмами, скорее могли бы быть «увенчаны кипарисами», то есть остаться там навеки. Но большинство надеялись, что индейцы вскоре начнут голодать и вынуждены будут принять открытый бой. Относительно того, смогут ли индейцы продержаться длительное время, мнения разделились. Те, кто лучше всего знал местные условия, считали, что смогут. Так же думал старый охотник за аллигаторами.
— У них есть, — говорил он, — этот проклятый куст с большими корнями, который они называют «конти». Он растет по всему болоту. В некоторых местах он толст, как сахарный тростник. Он годится для еды, а кроме того, индейцы делают из него напиток «конте». Дубовые желуди — тоже неплохая пища, особенно если их хорошо поджарить в золе. Их можно собрать очень много — сотни бушелей[115]. А потом есть еще пальмовая капуста, которая заменяет им зелень. А насчет мяса — тут к их услугам олени, медведи-гризли… А в болотах есть аллигаторы и много всякой прочей мерзкой живности, не говоря уже о черепахах, индейках, белках, змеях и крысах! Черт побери этих краснокожих! Они могут жрать что хотите — от птицы до хорька. Что, не верите, ребята? Эти индейцы не так-то легко помрут с голоду, как вы думаете. Они будут держаться зубами и когтями, пока в этом проклятом болоте есть хоть что-нибудь съедобное. Вот что они будут делать!
Эта мудрая речь произвела сильное впечатление на слушателей. В конце концов, презренный враг не так беспомощен, как думали сначала.
Добровольцев нельзя было вести в строгом военном порядке. Вначале такие попытки делались, но скоро офицерам пришлось отказаться от этой идеи. Участники отряда, особенно молодежь, поминутно отбивались от строя, скакали в глубь леса в надежде подстрелить оленя или индейку, мелькнувшую в кустах, или в тишине и уединении приложиться к заветной фляжке. Убеждать их было потерей времени, а строгое замечание часто вызывало лишь дерзкий ответ.
Сержант Хикмэн был страшно возмущен поведением добровольцев.
— Мальчишки! — восклицал он. — Проклятые молокососы, пусть они только попробуют! Пусть меня сожрет аллигатор, если они не научатся потом вести себя по-другому! Я готов прозакладывать свою кобылу против любого жеребца в роте, что некоторых ребят скальпируют еще до заката солнца! Клянусь честью!
Никто не рискнул побиться с ним об заклад, но так и вышло: его слова оказались пророческими.
Один молодой плантатор, воображая, что находится в полной безопасности, как на своей сахарной плантации, вздумал погнаться за оленем и отбился от отряда. Не прошло и пяти минут после того, как он исчез из виду, как в лесу раздались два выстрела, и в следующий момент из кустов выбежала лошадь без всадника.
Отряд остановился.
Группа добровольцев направилась в ту сторону, откуда слышались выстрелы, но никаких следов врага обнаружить не удалось, нашли только тело молодого плантатора, простреленное двумя пулями. Это послужило уроком — хотя и тяжелым — для всех его товарищей, и теперь никто уже больше не пытался охотиться на оленей.
Убитого похоронили на том месте, где его нашли, а затем отряд, к великому облегчению офицеров, в полном порядке продолжал поход и без особых приключений прибыл в форт Кинг перед заходом солнца.
Глава 62
УДАР ПО ГОЛОВЕ
За исключением одного короткого часа, у меня не было связано с фортом Кинг никаких приятных воспоминаний. Пока я отсутствовал, сюда прибыло несколько новых офицеров, но между ними не нашлось ни одного, с кем стоило бы познакомиться. В форте стало еще теснее. Устроиться было нелегко; маркитант и торговцы быстро наживались. Они вместе с квартирмейстером, комиссаром[116] и торговцем скотом одни только, по-видимому, и преуспевали.
«Красавец» Скотт все еще числился адьютантом и был, как всегда, щегольски одет. Но я почти перестал думать о нем. Как только я приехал, мне сразу же пришлось приступить к своим обязанностям — обычно не очень приятным. Мне не дали даже отдохнуть после долгой поездки, не дали смахнуть дорожную пыль, а тут же вызвали к генералу. Зачем я ему так спешно понадобился? Может быть, открылись какие-либо подробности, относящиеся к дуэли? Может быть, мне припомнили какие-нибудь старые грехи? Когда я шел к генералу, на душе у меня было далеко не спокойно. Но оказалось, что мне нечего тревожиться за прошлое. Когда я узнал, по какому делу меня вызвал генерал, то даже пожалел, что это не выговор.
Генерал беседовал с агентом. Оказывается, намечалась еще одна встреча с Оматлой и Черной Глиной, и я понадобился как переводчик. Все происходило в моем присутствии. На совещании обсуждался план совместных действий правительственных войск и дружественных индейцев. Последние, как союзники, должны были выступать против своих же соплеменников, засевших в болотах реки Амазуры. Точное их местонахождение было неизвестно, но его надеялись установить с помощью мирных вождей и их разведчиков, которые уже принялись за розыски.
Встреча была заранее условлена. Вожди, обосновавшиеся со своими племенами в форте Брук, должны были тайком прибыть на обычное место свидания у озера в лесу и встретить агента и генерала. Свидание было назначено на тот же вечер, после наступления темноты, чтобы скрыть от любопытных глаз как искусителей, так и изменников. Когда солнце зашло, уже достаточно стемнело. Луна была на ущербе, в третьей четверти, и сразу после заката ее не было видно на небе.
Едва наступили сумерки, генерал, агент и переводчик вышли из форта, так же как и в прошлый раз. Вождей на месте свидания не оказалось, и это нас несколько удивило. Мы знали, что индейцы обычно были очень аккуратны.
— Что могло задержать их? — спрашивали друг у друга генерал и агент.
Ответ не заставил себя долго ждать. Издали с ночным ветерком к нам донесся звук выстрелов — резкий треск винтовок и пистолетов. Мы услышали пронзительный военный клич: «Ио-хо-эхи!» Он доносился из глубины леса. Ясно было, что там идет ожесточенный бой. Это не был маневр для отвлечения внимания противника или ложная тревога, чтобы выманить солдат из форта или запугать часового. По резким и диким выкрикам чувствовалось, что в лесу льется человеческая кровь.
Мои спутники не знали, что и подумать. Я заметил, что оба они не отличались особым мужеством. Впрочем, оно вовсе и не требуется для того, чтобы стать генералом. Во время военных действий мне часто приходилось наблюдать, как американские офицеры и генералы трусливо прятались за дерево или обломок стены. Один из них, который потом был избран вождем двадцатимиллионного народа, как-то в одной из стычек спрятался в придорожной канаве, спасаясь от случайных выстрелов, тогда как покинутая им бригада в полумиле от него доблестно сражалась под начальством младшего лейтенанта. Но почему я говорю здесь об этом? Мир полон таких героев.
— Это они, черт возьми! — воскликнул агент. — Их подстерегли, на них напали. Вероятно, это мерзавец Пауэлл!
— Похоже на то, — ответил генерал, у которого, видимо нервы были крепче и говорил он более храднокровно. — Да, это, должно быть, они. В том направлении нет наших войск — ни одного белого солдата. Это дерутся между собой индейцы. На дружественных нам вождей совершено нападение. Вы, правы, Томпсон, это ясно.
— А если так, генерал, то нам незачем здесь оставаться. Если они подстерегли Оматлу, то, конечно, на их стороне численный перевес. Они должны победить. Мы не можем больше ждать его.
— Да, по-видимому, ни Оматла, ни Луста Хаджо не придут. Я думаю, что мы можем вернуться в форт.
Они как будто колебались, не зная, как им поступить. Я понял, что оба генерала решали в уме вопрос, удобно ли им вдруг бросить начатое дело и удалиться.
— А если они придут… — заговорил достойный воин.
Тут я взял на себя смелость вмешаться.
— Генерал, — предложил я, — с вашего позволения, я могу остаться здесь. Если они придут, я немедленно вернусь в форт и дам вам знать об этом.
Трудно было придумать что-нибудь более приятное для обоих генералов. Мое предложение было немедленно принято, и два героя удалились. Я остался один.
Но вскоре мне пришлось пожалеть о своем опрометчивом благородстве. Генералы, наверное, не успели еще дойти до форта, как шум битвы смолк и раздался возглас: «Кахакуине!» — победный клич семинолов. Я еще прислушивался к этим резким крикам, как вдруг несколько индейцев выскочили из кустов и окружили меня.
Даже при слабом свете звезд я мог различить блистающие лезвия, винтовки, пистолеты и томагавки. Оружие было слишком близко от моих глаз, чтобы я мог ошибиться и принять его за светлячков, мерцающих над моей головой. Кроме того, я слышал звон стальных клинков. Индейцы напали на меня молча, вероятно, потому, что поблизости находился форт. А когда я закричал, меня оглушили ударом, от которого я потерял сознание и рухнул на землю.
Глава 63
ВОЗМЕЗДИЕ ИНДЕЙЦА
Через некоторое время я очнулся и увидел, что меня окружают индейцы. Но теперь они не угрожали мне, а, наоборот, старались выказать мне участие. Голова моя лежала на коленях у одного их них, а другой пытался остановить кровь, сочившуюся из раны на виске. Кругом стояли воины, сочувственно смотревшие на меня. По-видимому, им хотелось, чтобы я пришел в сознание. Я удивился, так как был уверен, что они собираются меня убить. Когда меня ударили томагавком, я вообразил, что смертельно ранен. Такое ощущение часто бывает у тех, кого внезапно оглушают ударом.
Приятно было сознавать, что я еще жив и только легко ранен и что люди, окружающие меня, не стараются причинить мне зло.
Индейцы тихо переговаривались между собой, рассуждая о том, смертельна ли моя рана, и, видимо радуясь, что я не убит.
— Мы пролили твою кровь, но рана не опасна, — сказал один из них, обращаясь ко мне на своем родном языке. — Это я нанес тебе удар. Было темно. Друг Восходящего Солнца, мы не узнали тебя! Мы думали, что ты ятикаклукко.[117] Мы думали, что застанем его здесь, и хотели пролить его кровь. Он был здесь. Куда он ушел?
Я указал на форт.
— Хулвак! — воскликнули несколько индейцев одновременно.
Было ясно, что они разочарованы. Некоторе время они, видимо встревоженные, совещались между собой, а затем индеец, который первым заговорил со мной, снова обратился ко мне:
— Друг Восходящего Солнца, не бойся ничего. Мы не тронем тебя, но ты должен отправиться с нами к вождям. Это недалеко. Пойдем!
Я вскочил на ноги. Если бы я сделал отчаянное усилие, может быть, мне и удалось бы ускользнуть от них. Однако эта попытка могла мне дорого обойтись — меня еще раз стукнули бы по голове, а может быть, и убили бы. Кроме того, вежливость моих противников успокоила меня. Я чувствовал, что мне нечего их бояться, и потому без колебания последовал за ними.
Индейцы построились линией, один за другим, и, поместив меня в середину, сразу же отправились в лес. Насколько я мог определить, мы шли в том направлении, где происходила битва. Теперь все было тихо, воины перестали издавать свой победный клич. При свете луны я узнал лица индейцев, которых видел раньше на совете. Это были воины племени микосоков, приверженцев Оцеолы. Из этого я заключил, что он и был одним из вождей, к которым меня вели. Мои предположения оказались правильными. Вскоре мы вышли, на поляну, где расположились индейские воины; их было примерно около сотни. Я увидел нескольких вождей, среди них был и Оцеола.
Все кругом было залито кровью — зрелище поистине необычайное. В беспорядке лежали трупы, покрытые ранами; свежая кровь запеклась на них, выражение ужаса застыло в глазах, обращенных к луне. Люди падали в тех позах, в которых их застигла смерть. Скальпировальный нож уже закончил свою страшную работу: на висках виднелись малиново-красные рубцы, венцом окаймлявшие черепа, лишенные волосяного покрова. Возле убитых бродили индейцы со свежими скальпами в руках. У некоторых скальпы болтались на дулах винтовок.
Ничего сверхъестественного тут не произошло. Все было понятно. Павшие воины принадлежали к племенам изменников — сторонников Луста Хаджо и Оматлы. По соглашению с агентом вожди-изменники вышли из форта Брук в сопровождении избранной свиты. Их план стал известен патриотам. Изменников выследили, напали на них по пути и после короткой стычки одолели. Большинство пали в сражении, лишь немногим, во главе с вождем Луста Хаджо, удалось спастись. Некоторые вместе с самим Оматлой попали в плен и были еще живы. Их не убили сразу только для того, чтобь предать смерти в более торжественной обстановке.
Я увидел пленников, крепко привязанных к деревьям. Среди них находился и тот, кто милостью агента Томпсона был возведен в сан короля семинолов. Однако его подданные не оказывали ему ни малейшего почтения. Около него толпились воины, стремившиеся выступить в роли цареубийцы. Но вожди удерживали их от насилия, желая, согласно обычаю и законам своего народа, предать Оматлу суду. Когда мы прибыли, они как раз вершили этот суд и совещались между собой. Один из воинов, захвативших меня в плен, сообщил о нашем прибытии. Я заметил, что вожди разочарованы. Как видно, я оказался не тем пленником, который был им нужен. Поэтому на меня не обратили внимания, и я мог свободно располагать собой и наблюдать, как они вершили правосудие.
Судьи выполнили свой долг. Много спорить не приходилось, все слишком хорошо знали, что Оматла — изменник. Конечно, его признали виновным, и он должен был заплатить жизнью за свои преступления. Приговор объявили во всеуслышание: изменник должен умереть! Возник вопрос кто будет его казнить? Желающих нашлось много, ибо, по принципам индейской морали, покарать изменника считается делом чести. Таким образом, найти палача было бы нетрудно. Многие выражали готовность, но совет вождей отклонил их услуги. Такое дело надо было решать голосованием.
Все знали клятву, данную Оцеолой. Его сторонники хотели, чтобы он ее выполнил, поэтому его избрали единодушно, и Оцеола принял это как должное.
С ножом в руке подошел он к связанному пленнику. Все столпились вокруг них, чтобы увидеть роковой удар. Побуждаемый каким-то смутным чувством, я невольно приблизился. Мы стояли затаив дыхание, ожидая, что вот-вот нож вонзится в сердце изменника.
Мы видели, как поднялась рука Оцеолы, чтобы нанести удар, но не видели ни раны, ни крови. Лезвие ножа перерезало только ремни, которыми был связан пленник. Оматла стоял освобожденный от пут. Среди индейцев послышался ропот неодобрения. Зачем же Оцеола это сделал? Неужели он хотел дать Оматле возможность бежать?
— Оматла! — проговорил Оцеола, сурово глядя в лицо своему врагу. — Когда-то тебя считали храбрым человеком. Тебя уважали все племена, весь народ семинолов. Белые подкупили тебя и заставили изменить родине и нашему общему делу. И все-таки ты не умрешь собачьей смертью! Я уничтожу тебя, но не хочу быть убийцей. Я не могу поднять руку на беспомощного и безоружного человека и вызываю тебя на честный поединок. Тогда все увидят, что правда победила… Отдайте ему оружие! Пусть он защищается, если может.
Этот неожиданный вызов был встречен криками неодобрения. Среди индейцев нашлись такие, которые, негодуя на измену Оматлы и еще пылая яростью после недавней схватки, закололи бы его тут же на месте, связанного по рукам и ногам. Но все видели, что Оцеола полон решимости сдержать свое слово, и поэтому никто не возражал. Один из воинов подал Оматле томагавк и нож. Так же был вооружен и Оцеола. Затем люди молчаливо расступились, и противники остались в центре круга.
Схватка была короткая и кровопролитная. Почти сразу же Оцеола выбил томагавк из рук противника, а затем мгновенным ударом поверг его на землю. Победитель склонился над побежденным, в его руках сверкнул нож.
Когда он выпрямился, лезвие ножа уже не сверкало в лунном свете: оно потускнело от крови.
Оцеола сдержал клятву — он пронзил сердце изменника. С Оматлой было покончено.
* * *
Впоследствии белые называли этот поступок Оцеолы убийством. Но это неверно. Такой же смертью погибли Карл I, Калигула и Тарквиний[118] и сотни других тиранов, которые угнетали свой народ или изменили своей стране.
Общественное мнение, обсуждая такие деяния, не всегда бывает справедливым. Оно подобно хамелеону, меняющему окраску: меняется согласно лицемерному духу своего времени. Это чистое ханжество, позорная и постыдная беспринципность! Только того можно назвать убийцей, кто убивает из низменных, корыстных целей. Оцеола же был человек иного склада.
* * *
Я оказался в странном положении. Вожди не обращали на меня внимания, и все же, несмотря на вежливость индейцев, взявших меня в плен, я не мог отделаться от беспокойства за свою дальнейшую судьбу. Индейцам, которые были возбуждены всем тем, что произошло, и находились фактически в состоянии войны с моей страной, могла прийти в голову мысль уготовить и для меня участь, выпавшую на долю Оматлы. Таким образом, ожидание было не из приятных.
Но вскоре у меня отлегло от сердца. Как только с изменником Оматлой было покончено, Оцеола подошел ко мне и дружески протянул мне руку. Я был счастлив вновь обрести его дружбу. Он выразил сожаление, сказав, что я был ранен и взят в плен по ошибке. Затем подозвал одного из воинов и приказал ему проводить меня в форт.
У меня не было никакого желания оставаться на месте трагедии. Простившись с Оцеолой, я последовал за своим проводником. У озера мы расстались, и я без дальнейших приключений вернулся в форт.
Глава 64
НЕУДАВШИЙСЯ БАНКЕТ
По долгу службы я написал рапорт обо всем, чему был невольным свидетелем. Мой рассказ вызвал в форте возмущение. Немедленно отрядили солдат в погоню за врагом, а проводником назначили меня.
Это была явная нелепость. Преследование, как и можно было ожидать, оказалось бесцельным. Мы, конечно, нашли место сражения и тела убитых, вокруг которых уже рыскали волки. Но мы не обнаружили ни одного живого индейца, не могли даже отыскать тропинку, по которой они скрылись. Наш отряд состоял из нескольких сот человек — фактически это был почти весь гарнизон форта. Будь нас меньше, я уверен, что неприятель, так или иначе, дал бы о себе знать.
* * *
Смерть Оматлы была значительным событием. Во всяком случае, весьма важным по своим последствиям. Белые назначили Оматлу главным вождем, «королем» племени. Поэтому, казнив его, индейцы открыто объявили о своем презрении к власти, давшей Оматле этот сан, а также о своем твердом решении и впредь оказывать сопротивление, когда белые будут вмешиваться в их дела. Оматла находился под покровительством белых. Они гарантировали ему безопасность, а такое обещание равносильно договору. Поэтому его убийство было ударом по его покровителям. Теперь правительство вынуждено было отомстить за его смерть.
Особенно важные последствия этот случай имел для подданных Оматлы. Напуганные его смертью и боясь подобного же возмездия, многие из младших вождей и воинов покинули ряды изменников и присоединились к патриотам. Многие племена, которые до сих пор еще не приняли окончательного решения, теперь объявили, что они будут бороться вместе со всем народом, и, не колеблясь, взялись за оружие.
Смерть Оматлы была не только актом сурового правосудия, но также и тонким политическим маневром со стороны индейцев, враждебно настроенных к белым. Все это убедительно свидетельствовало о высоком уме того, кто задумал и осуществил этот маневр.
Оцеола поклялся мстить, и Оматла был первой жертвой его мести. Вскоре последовала и вторая. Трагедию смерти изменника вскоре затмила новая трагедия, еще более волнующая, страшная и значительная. Одно из главных действующих лиц этого повествования отныне сошло со сцены.
После того как мы прибыли в форт, продовольствие стало быстро исчезать. Заранее не запасли провианта в количестве, достаточном для такого большого отряда войск, а доставить его в форт Кинг в скором времени было нельзя. Мы должны были стать жертвой обычной непредусмотрительности правительств, не привыкших вести военные действия. Пришлось урезать пайки до последних пределов. Нам предстояла чуть ли не голодная смерть.
Положение создалось критическое, и тут наш главнокомандующий совершил акт высокого патриотизма. Генерал Клинч, уроженец Флориды, помимо того, что занимал высокий военный пост, был еще владельцем прекрасной, обширной плантации, расположенной неподалеку от форта Кинг. Его маисовые поля занимали сотни акров, и как раз в это время на них поспевал урожай. Генерал безоговорочно отдал зерно для снабжения войска. Но вместо того, чтобы подвезти урожай в армию, поступили наоборот: направили войска на поля, чтобы они сами собрали зерно для своего пропитания. Таким образом, четыре пятых состава маленькой армии покинуло форт, и на месте остался довольно слабый гарнизон. На плантации же возникло новое укрепление, названное фортом Дрейн.
Нашлись клеветники, которые стали распространять слухи, что в этом необычайном деле добродушный старый генерал руководствовался отнюдь не чувством патриотизма. Пошли толки о том, что «Дядюшка Сэм»[119] хорошо известен как платежеспособный и щедрый покупатель и что он даст генералу хорошую цену за его зерно. Кроме того, пока армия стояла на плантации, можно было не бояться нападения индейцев. Впрочем, возможно, все это было просто выдумкой лагерных острословов.
Меня не назначили на плантацию. Я не принадлежал к числу любимцев генерала и не был офицером его штаба. Мы с агентом остались в форте Кинг.
Дни за днями протекали однообразно. Проходили целые недели. Редким развлечением для нас были поездки в форт Дрейн. Часто отлучаться не приходилось — в форте Кинг оставалось слишком мало войск. Нам хорошо было известно, что индейцы вооружены. Их следы все время обнаруживались около укрепления. И выезды на охоту или даже романтические прогулки в окрестных лесах — обычные походы для пополнения припасов — все это теперь было опасно.
Я заметил, что агент стал очень осторожен. Он редко выходил за ограду форта, а за линией караулов не появлялся никогда. Каждый раз, когда он смотрел на леса и далекие саванны, на его лице появлялось озабоченное выражение, как будто его томило предчувствие опасности. Это было после смерти изменника-вождя. Агент слышал угрозу Оцеолы убить Оматлу и, быть может, даже понимал, что клятва вождя касалась и его самого. Вероятно, он предчувствовал свою судьбу.
Наступило рождество. В это время всюду — среди ледяных айсбергов севера, в жарких, тропических равнинах, на борту корабля, в крепости, даже в тюрьме — людям хочется провести праздник как можно веселее. И в нашей крепости, как и всюду, справляли праздник. Солдаты были освобождены от учебных занятий, и только часовые несли дозорную службу. В эти дни ежедневный рацион питания был увеличен, и меню старались сделать как можно более разнообразным. Рождественская неделя, таким образом, проходила весело.
В американской армии маркитантом обычно бывает какой-нибудь удачливый искатель приключений, щедро оказывающий кредит офицерам и дающий им в долг деньги. В празднествах и пирах он становится их товарищем и собутыльником. Таков был и маркитант форта Кинг.
В один их этих рождественских дней маркитант решил угостить нас роскошным обедом — в форте никто не мог бы устроить такой банкет. Были приглашены все офицеры, среди них самым почтенным гостем являлся агент.
Банкет устроили в доме маркитанта. Этот дом стоял за оградой форта, ярдах в ста от него, на краю леса. Когда кончили обедать, уже почти стемнело. Большинство офицеров решили вернуться в форт и там продолжать кутеж.
Агент и человек десять гостей — офицеров и штатских — задержались ненадолго распить бутылочку-другую под гостеприимной крышей маркитанта. Я же вместе с другими офицерами вернулся в форт.
Едва мы сели за стол, как вдруг с удивлением услышали шум и хорошо знакомый звук — резкую пальбу винтовок. Вслед за выстрелами до нас донеслись дикие выкрики. Это был военный клич индейцев. Мы сразу поняли, что означают эти звуки, и вообразили, что неприятель напал на форт. Наскоро вооружившись кто чем мог, мы все немедленно выскочили из казармы.
Только тут мы догадались, что это нападение не на форт, а на дом маркитанта. Его окружила толпа индейцев в полной боевой раскраске, с перьями в волосах и воинских нарядах. Они метались во все стороны и потрясали оружием с пронзительным криком: «Ио-хо-эхи!» Время от времени раздавались отдельные выстрелы, и роковая пуля настигала жертву, тщетно пытавшуюся спастись. Ворота форта были широко распахнуты, и солдаты, гулявшие за частоколом, с воплями ужаса бежали в крепость. Часовые пытались открыть огонь, но расстояние до дома маркитанта было слишком велико, и ни одна пуля в индейцев не попала.
Артиллеристы бросились было к орудиям. Но выяснилось, что прочные бревенчатые конюшни, находившиеся между фортом и домом маркитанта, служили надежным укрытием для врага.
Внезапно крики смолкли, и толпа смуглых воинов бросилась к лесу. Через несколько секунд они скрылись в чаще, исчезнув из наших глаз, как по волшебству.
Комендант форта оказался нераспорядительным офицером. Только теперь он собрал свой гарнизон и отважился на вылазку. Когда мы подошли к дому маркитанта, нам представилось страшное зрелище. Сам хозяин, два молодых офицера, несколько солдат и штатских лежали на полу мертвые, их тела были покрыты многочисленными ранами. Мы сразу увидели труп агента. Он лежал навзничь, мундир его был разорван и окровавлен, кровь запеклась на его лице. Шестнадцать пуль пробили его тело, а самая страшная рана зияла на груди слева. Как видно, ему вонзили нож в сердце. Я догадался бы, кто нанес эту рану, даже если бы в доме не нашлось живого свидетеля. Но свидетель был — негритянка-кухарка; она спряталась за шкаф и только теперь вышла из своего укрытия. Она видела всю эту резню, знала Оцеолу и видела, как он нанес последний удар агенту. Так Оцеола выполнил и эту клятву.
После краткого совещания было решено начать погоню, приняв все меры предосторожности. Но, как и в прошлый раз, это ни к чему не привело: мы не обнаружили даже следов врага.
Глава 65
РАЗГРОМ ДЭЙДА
Как ни печален был финал рождественских праздников, но вскоре еще более печальные вести дошли до форта Кинг. Мы услышали о событии, которое впоследствии стали называть «Разгром Дэйда».
Это известие нам принес посланец от дружественных нам индейских племен. Оно так ошеломило нас, что вначале никто не хотел ему верить.
Затем пришли другие индейцы и полностью подтвердили свидетельство первого посланца. Происшествие было настолько трагично, что казалось маловероятным и почти неправдоподобным. При всей своей романтической окраске эта история оказалась истинной — истинной по своим кровавым последствиям, истинной во всех подробностях. Теперь война началась всерьез. Ее преддверием послужило столкновение совершенно необычайное — и по своему характеру и по результатам.
Отчет об этом сражении, пожалуй, представляет некоторый интерес.
В своем повествовании я уже говорил, что один из офицеров армии Соединенных Штатов Америки хвастливо заявил, будто он «пройдет через всю землю семинолов с одним лишь сержантом вместо конвоя». Этот офицер был майор Дэйд.
Вышло так, что майору Дэйду представился случай показать свою воинскую доблесть, хотя под его командой находился не только один сержант. Однако на деле вышло совсем не то, что сулили его необдуманные, хвастливые речи.
Чтобы понять, как случилось это злополучное происшествие, надо немного познакомиться с картой местности.
На западном берегу полуострова Флорида есть бухта, которую индейцы называют «Тампа», а испанцы — «Эспириту Санто». Возле этой бухты англичанами был когда-то построен форт Брук. Эта крепость похожа на форт Кинг в расположена на девяносто миль южнее последнего.
Форт Брук был вторым из военных укреплений, построенных вблизи индейской резервации; в нем сосредоточивались войска и боеприпасы. Он также служил пересыльным пунктом для тех войск, которые прибывали из портов Мексиканского залива. В форте Брук к моменту начала военных действий находилось около двухсот солдат, главным образом артиллеристов. Пехоты там было очень немного.
Вскоре после бесплодного совещания в форте Кинг эти войска, или, вернее, часть их по приказу генерала Клинча должна была присоединиться к главному корпусу.
Выполняя этот приказ, сто солдат с соответственным количеством офицеров двинулись к форту Кинг. Отрядом командовал майор Дэйд.
В сочельник перед рождеством 1835 года отряд выступил из форта Брук в приподнятом настроении, воодушевленный надеждой стяжать победные лавры в битвах с противником. Солдаты надеялись, что это будет первая боевая схватка в этой войне и поэтому победа принесет им большую славу. О поражении они и не думали.
Развевались знамена, лихо били барабаны, гремели фанфары и трубы, возвещая наступление. Сопровождаемый салютом из орудий и одобрительными возгласами товарищей, отряд выступил в поход — в роковой поход, из которого ему не суждено было вернуться.
Ровно через неделю после этого, 31 декабря, к воротам форта Брук на четвереньках еле подполз человек. Одежда его была изодрана в клочья, промокла в ручьях, запачкалась грязью болот, покрылась пылью и кровью, и с трудом удалось определить, что это мундир рядового из отряда Дэйда. У солдата было пять ран — на правом бедре, на голове, возле виска, на левой руке и спине. Он был бледен, истощен, изнурен и похож на скелет. Его старые товарищи с трудом узнали его, когда он слабым и дрожащим голосом назвал себя: «рядовой Кларк, 2-го артиллерийского полка». Вскоре после этого два других солдата, рядовые Спрэг и Томас, появились в таком же плачевном виде. Они рассказали то же самое, что и Кларк. Отряд Дэйда был атакован индейцами, разгромлен и уничтожен почти до последнего человека. Только трое остались в живых из всех тех, кто выступил в поход, гордясь собственной мощью и надеясь на победу и славу. Их рассказ был верен до последнего слова. Из всего отряда уцелели только эти люди. Остальные сто шесть человек нашли себе могилу на берегах Амазуры. Вместо лавров они получили в награду могильный крест.
Трое уцелевших упали под ударами томагавков, и им удалось притвориться мертвыми. Благодаря этому после боя им удалось уползти и добраться до форта. Кларк прополз на четвереньках более шестидесяти миль, делая по миле в час.
Глава 66
ПОЛЕ БИТВЫ
Разгром отряда Дейда не имеет себе равного во всей истории войн с индейцами. Никогда ни одно столкновение не оказывалось столь роковым для белых, участвовавших в нем. Отряд Дэйда был уничтожен целиком — даже из трех солдат, доползших до форта, впоследствии двое умерли от ран.
И, однако, индейцы вовсе не имели решающего превосходства в силах над своим противником. Но они оказались гораздо хитрее и искуснее в военной тактике.
Отряд майора Дэйда подвергся нападению при переходе через реку Амазуру[120]. Это была открытая местность, где росли тонкие и редкие сосны, так что индейцы не имели большого преимущества в позиции или в укрытиях. По количеству их было не больше, чем два на одного белого, а среди участников войн против индейцев это считалось «нормальным соотношением сил». К незначительному превосходству индейцев белые всегда относились пренебрежительно.
Многие из индейцев примчались верхом, но всадники держались вдали от оружейного огня, и только пехота принимала участие в битве. Победа индейцев была столь мгновенной, что помощь всадников даже не понадобилась.
Первый залп был настолько убийственным, что отряд Дэйда пришел в полное расстройство. Солдаты не могли отступить — конные индейцы обошли их с фланга и отрезали им путь к отступлению.
Сам Дейд и большинство его офицеров были убиты первым залпом, а оставшимся в живых не оставалось ничего другого, как отстреливаться. Они попытались построить бруствер в виде треугольника из поваленных стволов, но жестокий огонь индейцев вскоре прекратил начатую работу, и укрепление удалось возвести лишь до половины. В это ненадежное укрытие отступили уцелевшие от первой атаки, но и они один за другим быстро пали под меткими выстрелами врагов. Скоро был убит последний солдат, и побоище закончилось.
Когда немного позже войска прибыли к этому месту, треугольное укрепление было сплошь завалено мертвыми телами. Солдаты лежали один на другом, вдоль и поперек, застывшие в страшных позах.
Впоследствии много кричали о том, что индейцы бесчеловечно пытали раненых и увечили убитых. Это неверно. Раненых не пытали, потому что их не было. Кроме трех бежавших, никто не остался в живых. А несколько трупов изувечили беглые негры, которыми руководило чувство личной мести.
Правда, некоторые трупы оказались скальпированными, но таков уж военный обычай у индейцев. А белые потом переняли у них этот обычай и часто делали то же самое, особенно в минуты яростного ожесточения.
По приказанию генерала я вместе с несколькими офицерами посетил место сражения. Официальный отчет об этом посещении будет лучшим свидетельством поведения победителей:
«Отряд майора Дэйда был уничтожен утром 28 декабря в четырех милях от лагеря, где он провел ночь. Он следовал походной колонной по дороге, когда был внезапно атакован многочисленными силами противника. Индейцы поднялись из пальметто и высокой травы и мгновенно оказались в непосредственной близости от отряда. В ход были пущены мушкеты, ножи и штыки, и завязался смертельный бой. При вторичной атаке индейцы уже пользовались мушкетами наших раненых и убитых солдат. Все артиллеристы погибли под перекрестным огнем врага, орудия были захвачены, лафеты сломаны и сожжены, а сами орудия сброшены в пруд. В схватке принимало участие много негров. Индейцы не сняли ни одного скальпа. Негры же, напротив, с дьявольской жестокостью перерезали горло тем, чьи крики и стоны показывали, что жизнь еще теплится в них».
А вот другое официальное донесение:
«Мы подошли к месту сражения с тыла. Наш авангард уже было миновал его, как вдруг командир и офицеры штаба увидели самую страшную картину, какую только можно себе представить. Сначала мы заметили несколько сломанных и разбросанных ящиков, затем повозку и двух мертвых волов, которые как будто спали под ярмом. Правее, в стороне, лежали две-три лошади. Через несколько шагов мы увидели нечто вроде треугольного бруствера. Внутри этого треугольника — с северной и западной стороны — находилось около тридцати трупов. Это были уже почти скелеты, хотя на них еще болтались мундиры. Они лежали в тех позах, в каких их застигла смерть во время сражения. Умирая, некоторые падали на тела убитых товарищей, но большинство лежали возле самых бревен, головой к брустверу, из-за которого они вели огонь; их распростертые тела с ужасающей правильностью образовывали параллельные прямые. Индейцы, по-видимому, не трогали убитых, лишь с нескольких человек были сняты скальпы. Как указывалось, это было делом рук союзников индейцев — негров. Офицеров легко можно было различить: дорогие булавки в галстуках, золотые кольца на пальцах и деньги в карманах остались в целости. Мы похоронили восемь офицеров и девяносто восемь солдат.
Следует отметить, что нападение было совершено не из-за скал, но на местности, поросшей редким лесом, где индейцы скрывались в пальметто и высокой траве».
Из этих донесений видно, что индейцы напали на отряд Дэйда не с целью грабежа или коварной мести. Нет, ими руководило более возвышенное и бескорыстное побуждение — защита своей земли, своих очагов и домов.
Преимущество, которое у них было перед отрядом Дэйда, заключалось лишь в том, что они скрывались в засаде и сумели напасть неожиданно. Майор был, несомненно, храбрый офицер, но ему недоставало качеств, необходимых хорошему командиру, особенно в борьбе против такого неприятеля. Он знал войну только теоретически, по книгам, как и большинство американских офицеров. Майор был лишен способности, которой обладают великие военные полководцы, — быстро примеряться к обстоятельствам боя. Он вел свой отряд как будто на парад. Тем самым он подверг отряд страшной опасности и в конце концов привел его к гибели.
Но если у командира белых в этом роковом бою недоставало качеств, необходимых полководцу, то вождь индейцев обладал ими в полной мере. Вскоре стало известно, что засада, план атаки и успешное выполнение ее — все это было делом молодого вождя племени Красные Палки — Оцеолы.
Он не мог долго оставаться на месте сражения, наслаждаясь своим торжеством. В тот же самый вечер в форте Книг, в сорока милях от места разгрома отряда Дэйда, правительственный агент Томпсон пал жертвой мести Оцеолы.
Глава 67
БИТВА ПРИ УИТЛАКУТЧИ
Убийство правительственного агента требовало немедленного отмщения. Сразу же несколько гонцов были отправлены в форт Дрэйн. Некоторые из них попали в руки врагов, но остальным удалось благополучно достичь места назначения. На следующее утро на рассвете войско, насчитывающее более тысячи человек, выступило в поход по направлению к реке Амазуре. Было решено напасть на семейства индейцев — на их отцов, матерей, жен, сестер, детей… Они ютились на огромных пространствах флоридских лагун и болот, и это стало известно генералу. Он хотел захватить их в плен и держать заложниками до тех пор, пока индейцы не покорятся.
Все войска, какие только можно было освободить от защиты форта, были отправлены в поход. Я получил приказ сопровождать экспедицию. Из разговоров, которые я слышал, я вскоре понял настроение солдат. Их ожесточили события в форте Кинг, а разгром отряда Дэйда вызвал еще большую ярость. Я понимал, что они не собираются брать пленников: старики и молодые, женщины и дети — все должны быть убиты. Никакой пощады ни одному индейцу!
С тяжелым чувством думал я о возможности массового истребления невинных. Места, где скрывались несчастные семьи, были теперь точно установлены, наши проводники прекрасно знали, как попасть туда; казалось, неудачи быть не могло. Однако нас ожидало разочарование. Разведчики донесли нам, что большинство индейских воинов ушли далеко, в неизвестном направлении, во всяком случае, туда, где мы никак не могли с ними встретиться. Нам предстояло напасть на гнездо, когда орлов там не было. Поэтому войска получили распоряжение двигаться в глубоком молчании по тайным тропинкам.
За день до этого наша экспедиция могла бы показаться многим просто развлекательной прогулкой, где нам не грозила ни малейшая опасность. Но весть о разгроме отряда Дэйда произвела на солдат чуть ли не магическое впечатление. С одной стороны, она разъярила их, с другой — заставила насторожиться. В первый раз в жизни они начали смотреть на индейцев с чувством уважения и даже страха. Значит, индейцы умели сражаться и уничтожать врага. Это чувство укрепилось, когда еще прибыли вестники с места гибели Дэйда, рассказавшие нам новые подробности этого кровавого события. И поэтому теперь солдаты не без опасения вступали в самое сердце страны, занятой неприятелем. Даже отчаянные добровольцы не нарушали строевого порядка, и солдаты молча двигались вперед.
К полудню мы достигли берегов Амазуры. Чтобы проникнуть в район обширной сети лагун и болот, надо было перебраться через реку. Проводники пытались найти брод, но никак не могли его отыскать. Река текла перед нами широкая, черная и глубокая. Переправиться через нее вплавь, даже на лошадях, не было никакой возможности.
Не изменили ли нам проводники? Нет, этого не могло быть! Хотя проводники были индейцами, но они доказали свою преданность белым. Кроме того, они уже были опорочены в глазах своих соплеменников и обречены на смерть устами собственного народа. Наше поражение для них было бы равносильно гибели.
Как выяснилось впоследствии, наши подозрения не имели оснований: измены тут не было. Проводники сами сбились с пути. И это оказалось счастьем для нас. Не будь этой ошибки, с войском генерала Клинча могла бы повториться та же трагедия, которая произошла с отрядом майора Дэйда, только в более широких масштабах.
Если бы мы нашли брод, который был в двух милях ниже по течению, то мы как раз наткнулись бы на засаду, искусно устроенную молодым вождем. Он превосходно знал тактику лесного боя. Слух о том, что индейцы отправились в дальний поход, был просто военной хитростью, прелюдией к ряду стратегических маневров, задуманных Оцеолой.
В это время индейцы находились там, куда мы должны были бы прийти, если бы проводники не сбились с дороги. Индейцы заняли обе стороны брода. Воины притаились в траве, как змеи, и были готовы ринуться на нас в тот момент, когда мы подошли бы к переправе. Большое счастье для войск генерала Клинча, что у него оказались такие негодные проводники!
Генерал не знал этих обстоятельств. Если бы он получил сообщение об опасной близости врага, то, вероятно, стал бы действовать иначе. Теперь последовал приказ остановиться. Было решено переправиться через реку в этом месте.
В тростниках нашлось несколько старых лодок и индейских челноков. На них легко могли переправиться пехотинцы, а кавалеристы должны были переплыть реку на лошадях.
Были сколочены плоты из бревен, и началась переправа. Этот маневр мы провели довольно ловко, так что менее чем через час половина солдат была уже на том берегу. Я находился в их числе, но не радовался нашим удачам. Мне было тяжело принимать участие в избиении беззащитных женщин и детей. И я почувствовал настоящее облегчение, чуть ли не радость, когда услышал из глубины леса военный клич семинолов: «Ио-хо-эхи!» Вслед за тем загремели ружейные залпы, пули засвистели в воздухе, ломая ветки на ближних деревьях. Мы увидели, что нас осаждают многочисленные войска индейцев.
Часть отряда, успевшая переправиться, укрылась между большими деревьями на берегу реки, и поэтому первый залп индейцев не причинил нам особого вреда. Все же некоторые солдаты упали, а остальным угрожала серьезная опасность.
Наши войска дали ответный залп, индейцы снова ответили нам, и солдаты не остались в долгу, то ведя непрерывный огонь, то давая беспорядочные залпы или отдельные выстрелы. Иногда мы совсем прекращали стрельбу.
В течение некоторого времени ни одна из сторон не понесла серьезного ущерба. Однако было ясно, что индейцы, укрывшиеся в перелеске, заняли более выгодную позицию и окружают нас. Мы не могли тронуться с места, пока не переправится как можно больше наших солдат, и только тогда собирались перейти в штыковую атаку, чтобы заставить противника принять открытый бой.
Итак, переправа продолжалась под защитой нашего огня. Но скоро положение ухудшилось. Как раз против нашей позиции в реку врезалась узкая отмель, образуя небольшой полуостров. Он находился ниже береговой отмели, кроме той своей оконечности, где образовался маленький островок. Этот островок густо порос вечнозелеными деревьями — пальмами, дубами и магнолиями.
С нашей стороны было бы весьма благоразумно захватить его во время переправы, но генерал упустил из виду такую возможность. Индейцы сразу это сообразили, и, прежде чем мы спохватились, они уже перемахнули через перешеек и заняли островок. Последствия этого искусного маневра сказались незамедлительно. Индейцы начали обстреливать лодки, переправлявшиеся через реку. Лодки сносило течением вниз, как раз напротив лесистого островка. Из зеленой тени деревьев непрерывно струился синеватый огненный дымок, а свинцовые пули делали свою разрушительную работу. Люди падали с плотов или тяжело опрокидывались через борта лодок в воду раненые и мертвые. А частый огонь наших мушкетов, направленный на островок, никак не мог выбить дерзких врагов, которые притаились в густой листве.
Там было не очень много индейцев. Когда они перебирались туда по перешейку, мы могли их всех пересчитать. Но, по-видимому, это были лучшие воины и самые меткие стрелки: ни один их выстрел не пропадал даром. Это был момент наивысшего напряжения боя. В других местах схватка шла с более равным соотношением сил. Обе стороны дрались под прикрытием деревьев и не несли больших потерь. Но засевшие на острове несколько индейцев причиняли нам больший урон, чем все остальные силы неприятеля.
Единственным средством заставить индейцев отступить с островка была штыковая атака.
Таков был замысел генерала. Это казалось безнадежным предприятием. Тот, кто решился бы двинуться вперед под убийственным огнем скрытого противника, безусловно подверг бы свою жизнь серьезному риску.
К моему удивлению, выполнить этот долг предназначалось мне. Признаюсь, я никогда не проявлял особой храбрости или пыла во время сражения. Но приказ исходил непосредственно от генерала, и действовать надо было немедленно. Я приготовился выполнить его, хотя и без особого энтузиазма.
При мне находилось несколько человек, вооруженных винтовками. Их было не больше, чем индейцев. Вместе с ними я направился к полуострову.
Я сознавал, что иду на верную смерть. Вероятно, то же самое чувствовали и солдаты, которые шли со мной. Но, даже зная это, мы не могли отступить. Глаза всех были устремлены на нас: мы должны идти вперед и победить или умереть!
Через несколько секунд мы были уже на перешейке и стремительно двинулись к острову.
Мы надеялись, что индейцы не заметят нас и нам удастся обойти их.
Напрасная надежда! Враги с самого начала внимательно следили за нашим маневром и, зарядив винтовки, были готовы встретить нас.
Едва сознавая всю опасность своего положения, мы продолжали идти вперед и наконец оказались на расстоянии двадцати ярдов от рощи.
Вдруг из-за деревьев взвился голубой дымок и мелькнуло красное пламя. Над головой у меня просвистели пули. Позади раздались крики и стоны. Я оглянулся и увидел, что все мои товарищи упали — мертвые или умирающие.
В это время из чащи леса до меня донесся голос:
— Вернитесь, Рэндольф! Вернитесь! Символ, который вы носите на груди, спас вас. Но мои воины в ярости, кровь в них так и кипит! Не искушайте их! Вернитесь! Назад! Назад!
Глава 68
ПОБЕДА, ЗАКОНЧИВШАЯСЯ ОТСТУПЛЕНИЕМ
Я не видел человека, который говорил это, густая листва полностью скрывала его. Но я сразу узнал голос: это был Оцеола.
Не могу даже передать, что я почувствовал в эту минуту, и не помню, как я поступил. В моем уме царили хаос и смятение, удивление было смешано со страхом. Я помню только, что еще раз оглянулся на своих товарищей и заметил, что не все они убиты. Одни лежали неподвижно, но другие шевелились и стонали. Значит, они еще были живы!
С великой радостью я увидел, что некоторые поднялись и спешили скрыться, а другие пытались ползти на четвереньках.
Из рощи продолжали стрелять, и я, застыв в нерешительности на месте, видел, как двое или трое упали на траву, сраженные роковой пулей.
Среди раненых, лежавших у моих ног, был один юноша, которого я хорошо знал. Пуля пробила ему обе ноги, и он был не в силах двинуться. Он умолял меня помочь ему, и это вывело меня из оцепенения. Я вспомнил, что когда-то этот юноша оказал мне большую услугу. Почти машинально я наклонился, схватил его и потащил. Стараясь выбраться с перешейка, я полз со своей ношей так быстро, как мне позволяли силы. Я остановился передохнуть только тогда, когда огонь индейских ружей уже не был опасен для меня.
Меня встретил взвод солдат, высланный для того, чтобы прикрыть наше отступление. Я оставил раненого товарища на руках солдат, а сам поспешил с печальным донесением к генералу.
Мне не пришлось ничего докладывать. За нашим продвижением наблюдали, и весь отряд знал о постигшей нас неудаче. Генерал не сказал ни слова и без всяких объяснений отправил меня на другой фланг.
Все порицали генерала за его необдуманный приказ захватить остров столь ничтожными силами. За мной же укрепилась репутация храброго офицера.
Перестрелка продолжалась еще около часа. Это были отдельные стычки в болотах и между деревьями. Ни нам, ни индейцам не удалось добиться здесь реального преимущества. Обе стороны по-прежнему занимали захваченные вначале позиции. Однако впереди весь лес удерживали за собой индейцы. Отступить — значило погубить весь отряд, ибо был только один путь к отступлению: обратная переправа через реку. Но нам пришлось бы переправляться под неприятельским огнем. Оставаться дальше на нашей позиции было тоже опасно. Мы не могли ничего предпринять, ибо, по существу, были осаждены на берегу реки. Мы тщетно пытались выбить индейцев из рощи. Потерпев неудачу один раз, мы не могли рискнуть на вторую подобную же попытку. Это было бы гибельно, но оставаться на том же месте было не менее рискованно. У войск было с собой очень мало провианта, он подходил к концу, и голод уже давал себя знать. С каждым часом наше положение ухудшалось.
Мы убедились, что враг окружил нас. Около нас полукругом толпились индейцы, причем каждый воин стоял за деревом, которое его защищало. Мы образовали оборонительную линию, такую же мощную, как линия укрепленных траншей. Прорваться через эту линию без большой потери людей не представлялось возможным.
Теперь было видно, что число наших врагов заметно увеличилось. Особый клич, знакомый старым солдатам, возвещал о прибытии все новых и новых отрядов индейцев. Мы начинали опасаться, что теряем превосходство в силах, что нас вскоре одолеют. Всех охватило мрачное отчаяние.
Во время перестрелки мы увидели, что многие из индейцев были вооружены винтовками и мушкетами. На некоторых были военные мундиры. Особенно бросался в глаза наряд одного из главных вождей. С его плеч ниспадал большой шелковый флаг, наподобие тех плащей, которые носили испанцы времен конкистадоров[121]. Были ясно видны красные и белые полосы с голубым звездным полем в углу. Взоры всех солдат устремились на флаг. В этом фантастическом одеянии, столь вызывающе подчеркнутом, все узнали любимый флаг нашей родины.
Это была выразительная примета. Однако она не смутила нас. Откуда у индейцев взялись винтовки, мушкеты и флаг, было легко объяснить — это трофеи битвы с Дэйдом. Все мы смотрели на эти вещи с горьким, но бессильным негодованием. Однако час отмщения за ужасную судьбу товарищей еще не пробил.
Весьма вероятно, что и нас постигла бы та же участь, если бы мы еще задержались на этом месте. Но вдруг одному из офицеров, старому участнику войн под предводительством Хикори, хорошо знакомому с тактикой индейского боя, пришла в голову блестящая идея. Он предложил план отступления, и генерал принял этот план.
По совету офицера, добровольцы, еще не переправившиеся через реку, должны были сделать вид, что собираются совершить переправу несколько выше по течению реки. Это был превосходный стратегический маневр. Если бы подобный план осуществился, враги очутились бы между двух огней, а нам удалось бы прорвать их ряды и положить конец окружению.
Этот замысел удался. Индейцы, введенные нами в заблуждение, кинулись вверх по реке, чтобы помешать переправе. Наши осажденные войска умело воспользовались этим и быстро переправились на безопасный берег. Коварный враг был слишком осторожен, чтобы пуститься за нами в погоню. Так окончилась битва при Уитлакутчи.
Немедленно был созван совет, и все пришли к единодушному решению: не теряя времени, вернуться в форт Кинг. Мы выступили в поход и вскоре без дальнейших приключений возвратились в форт.
Глава 69
ЕЩЕ ОДНО СРАЖЕНИЕ НА БОЛОТЕ
После этой битвы в настроении отряда произошла перемена. Безудержное хвастовство исчезло, и стало не так уж трудно сдерживать порывы солдат, рвавшихся в бой. Никто теперь не изъявлял особого желания повторить попытку перебраться на другой берег Уитлакутчи. Таким образом, индейское «гнездо» решили не тревожить до прибытия новых подкреплений. Добровольцы были обескуражены, лагерная жизнь их уже утомила. А неожиданное сопротивление индейцев охладило их пыл. Никто не думал, что оно может оказаться таким беззаветно дерзким и сопровождаться кровопролитием. Неприятеля же, на которого до сих пор смотрели с пренебрежением, хотя его тактика возбуждала сильную ярость и желание отомстить, — этого неприятеля теперь стали уважать и бояться.
В битве при Уитлакутчи армия Соединенных Штатов потеряла около ста человек. Полагали, что семинолы потеряли гораздо больше. Но это были только предположения. Никто никогда не видал убитых семинолов. Впрочем, уверяли, что индейцы во время боя уносили своих раненых и мертвецов.
Нет сомнения, что в битве при Уитлакутчи и некоторым из наших врагов пришлось «грызть землю». Но, во всяком случае, их потери были куда менее значительны, чем наши. Несмотря на это, историки объявили это сражение великой «победой». Донесение главнокомандующего все еще хранится в архивах — любопытный образец военной литературы. В этом документе поименно перечислены все офицеры и каждый охарактеризован как несравненный герой. Редкий памятник тщеславия и хвастовства!
Если честно говорить, то краснокожие нас основательно потрепали. Уныние армии смешивалось с чувством подавленной ярости. Клинч, старый, добрый генерал, которого военные историки величали «другом солдат», теперь уже не считался великим полководцем. Его слава померкла. Если Оцеола и затаил против него злобу, то отныне он мог считать себя вполне удовлетворенным и оставить старого ветерана в покое. Клинч был еще жив, но его военная слава умерла.
* * *
Когда был назначен новый главнокомандующий, надежды на победу возродились. Это был генерал Гейнс, также один из ветеранов, получивший этот чин в порядке старшинства. Собственно говоря, он даже не был назначен правительством. Но так как Флорида представляла собой часть подчиненного ему округа, он решил добровольно принять командование над расположенными там войсками. Подобно своему предшественнику, Гейнс надеялся увенчать себя лаврами. Но, так же как и Клинчу, ему пришлось испытать горькое разочарование.
Наш корпус, укрепленный новыми войсками из Луизианы и других штатов, был немедленно отправлен в поход. Было решено произвести новое нападение на индейское «гнездо».
Мы достигли берегов Амазуры, но форсировать эту заколдованную реку нам опять не удалось. Она оказалась роковой и для нашей славы и для наших жизней. На этот раз ее перешли индейцы.
Почти на том же самом месте, где и в первый раз — с той только разницей, что теперь это произошло ниже по течению реки, — мы подверглись атаке краснокожих воинов. После нескольких часов ожесточенной схватки мы вынуждены были отвести наши гордые батальоны под защиту специального укрепления. Мы просидели в осаде девять дней, едва осмеливаясь высунуть нос из-за ограды. Голодная смерть уже не издали смотрела нам в глаза, она подошла к нам вплотную. Если бы не лошади, мясом которых мы питались все это время, то половина армии из лагеря «Изард» погибла бы от голода.
Нам принес спасение большой отряд, своевременно посланный генералом Клинчем, который все еще командовал бригадой. Наш бывший генерал выступил из форта Кинг, и ему удалось приблизиться к неприятелю с тыла. Застав его врасплох, он выручил нас из опасного положения.
День нашего освобождения ознаменовался еще одним событием — перемирием весьма оригинального свойства.
Ранним утром, когда еще чуть светало, нас издали окликнул чей-то голос:
— Эй вы там! Хэлло!
Голос раздавался из лагеря врага. Поскольку мы были окружены, иначе и быть не могло.
Призыв повторился, и мы ответили. Мы узнали громовой голос негра Абрама, черного вождя, некогда исполнявшего обязанности переводчика на совете.
— Что вам нужно? — приказал спросить наш командир.
— Мы хотим разговаривать, — последовал ответ.
— О чем?
— Мы хотим прекратить битву.
Предложение было столь же неожиданное, сколь и приятное. Но что оно могло означать? Неужели индейцы голодали так же, как и мы? Или они устали от военных действий? Это было весьма вероятно, ибо по какой другой причине могли они так внезапно предложить перемирие? Индейцы еще до сих пор не потерпели ни одного поражения — наоборот, они оказались победителями во всех предыдущих боях.
Правда, была еще одна причина. С минуты на минуту мы ожидали прибытия бригады Клинча. До нас уже доходили слухи, что Клинч близко. С его помощью мы могли не только прорвать осаду, но и перейти в атаку против индейцев и, вероятно, даже нанести им поражение. Может быть, они узнали о приближении Клинча и спешили заключить перемирие до того момента, когда мы станем достаточно сильны, чтобы разбить их в открытом бою?
Предложение начать переговоры было принято нашим командующим, который теперь надеялся нанести решающий удар. Он опасался только одного: что противник отступит, прежде чем Клинч сумеет добраться до места сражения. А перемирие заставит индейцев задержаться на поле боя. Таким образом, мы без всяких колебаний ответили Абраму, что не возражаем против переговоров.
Встреча парламентеров была назначена сразу после рассвета. Обе стороны выслали по три представителя.
Перед укреплением простиралась небольшая поляна, поросшая травой и прилегавшая к лесу. На рассвете три человека вышли из леса на поляну. Это были вожди в полном национальном наряде. Мы узнали Абрама, Коа-хаджо и Оцеолу.
Они остановились на расстоянии ружейного выстрела и стали плечом к плечу прямо против укрепления. Навстречу им выслали трех офицеров — двое из них владели языком семинолов. Я был в числе этой делегации.
Еще через минуту мы уже стояли лицом к лицу с враждебными вождями.
Глава 70
ПЕРЕГОВОРЫ
Прежде чем начать переговоры, мы все шестеро обменялись дружеским рукопожатием. Оцеола крепко сжал мне руку и сказал с какой-то особой, ему одному свойственной улыбкою:
— Ах, Рэндольф! Друзья иногда встречаются во время войны, так же как и в мирное время.
Я понял, что он имеет в виду, и ответил ему только взором, полным благодарности.
В это время мы увидели, что к нам из укрепления идет вестовой, посланный командующим. В ту же минуту из лесу вышел индейский воин и подошел к нам одновременно с солдатом. Индейцы тщательно следили за тем, чтобы нас на поляне было не больше, чем их.
Как только ординарец шепотом передал нам приказ генерала, немедленно начались переговоры.
Негр Абрам говорил от имени своих товарищей на ломаном английском языке. А двое других подтверждали его слова: в случае согласия — восклицанием «Хо», а отрицательный ответ выражался возгласом «Куури».
— Желают ли белые заключить перемирие? — отрывисто спросил негр.
— На каких условиях? — спросил офицер, возглавлявший нашу делегацию.
— Условия вот какие: вы должны сложить оружие и кончить войну. Ваши солдаты должны уйти отсюда и оставаться в своих фортах. А мы, индейцы, отступим через Уитлакутчи. И пусть впредь и навсегда большая река будет между нами границей. Мы обещаем жить в мире и не ссориться с белыми соседями. Вот все, что я должен был сказать!
— Братья, — ответил наш офицер, — я боюсь, что ни белый генерал, ни Великий Отец — президент — не примут этих условий. Я уполномочен передать вам, что главнокомандующий может вести с вами переговоры только в том случае, если вы полностью подчинитесь и дадите согласие на переселение.
— Куури! Куури! Никогда! — в едином порыве гордо воскликнули Коа-хаджо и Оцеола. Их решительный тон подтверждал, что они и не думали сдаваться.
— Почему мы должны покориться? — с удивлением спросил негр. — Мы не побеждены. Мы побеждаем вас в каждой битве. Мы разбили ваших солдат — один, два, три раза. Мы разбили вас. Черт возьми, мы тоже умеем хорошо убивать вас! Почему же мы должны покориться? Мы пришли предложить свои условия, а не выслушивать ваши.
— То, что произошло до сих пор, еще не решает дело, — ответил офицер. — Мы, во всяком случае, сильнее вас, и в конце концов мы вас одолеем.
И снова два вождя одновременно воскликнули:
— Куури!
— Не ошибаетесь ли вы, белые, насчет наших сил? Мы не так слабы, как вы думаете. Нет, черт возьми!
Негр вопросительно взглянул на своих товарищей, и те кивком изъявили согласие. Тогда Оцеола, взявший теперь на себя главную роль, обернулся к лесу и издал какой-то особый пронзительный звук.
Не успело эхо от его голоса замереть в воздухе, как вечнозеленые кусты зашелестели и задрожали. Из лесу выступили ряды смуглых индейских воинов. Они выступили вперед и построились в боевой порядок, так что мы легко могли их сосчитать.
— Сочтите наших воинов, — воскликнул Оцеола торжественным тоном, — и вы узнаете, сколько у вас врагов!
При этом ироническая усмешка мелькнула у него на губах. Несколько секунд он стоял молча и смотрел на нас.
— Ну, как вам кажется? Эти молодые воины — а их здесь полторы тысячи, — разве они выглядят изможденными и покорными? — продолжал молодой вождь. — Нет, они готовы воевать до тех пор, пока кровь последнего из них не впитается в родную землю! Если им суждено погибнуть, то они хотят погибнуть здесь, во Флориде, где они родились, где похоронены их отцы. Мы взялись за оружие потому, что вы надругались над нами и замыслили изгнать нас отсюда. За ваши притеснения мы уже отомстили. Мы убили многих ваших солдат и считаем, что мы этим удовлетворены. Мы не хотим больше убивать, но и переселяться тоже не хотим. Мы никогда не изменим своего решения! Мы сделали вам честное предложение. Примите его, и война сейчас же окончится. Отвергните его — и снова польется кровь. Клянусь Великим Духом, прольются реки крови! Красные столбы войны у наших жилищ снова и снова будут окрашены кровью бледнолицых врагов. Мир или война — выбирайте сами!
Окончив свою речь, Оцеола сделал знак рукой смуглым воинам, стоявшим у леса. И они исчезли молча, почти таинственно, так же мгновенно, как и появились.
Мы уже собирались выдвинуть некоторые возражения на пламенную речь молодого вождя, как вдруг издали раздались выстрелы и крики. Они доносились с той стороны, где расположились индейцы, и, хотя были едва слышны из-за дальности расстояния, ясно говорили о том, что началось наступление.
— Ага! Нечестная игра! Измена! — воскликнули вожди. — Бледнолицые лжецы! Вы пожалеете об этом предательстве! — И все трое, не теряя времени на дальнейшие разговоры, бросились в лес к своим воинам.
Мы вернулись в лагерь, где все тоже слышали выстрелы и решили, что бригада Клинча напала на передовые посты индейцев. Солдаты уже построились в боевой порядок и были готовы выступить. Через несколько минут был дан сигнал, и отряд двинулся вдоль берега реки.
Солдаты с нетерпением ожидали битвы. Проведя столько дней в позорном бездействии, изнуренные голодом и удрученные бесславным поражением, они видели перед собой удобный случай восстановить свою воинскую честь и жаждали наказать свирепого врага. Теперь, когда один наш отряд находился в тылу у индейцев (так заранее было условлено между генералами), а другой двигался на них прямо, как же могли индейцы избегнуть гибели? Они вынуждены сражаться и будут разбиты.
Так думали все — и офицеры и солдаты. Сам главнокомандующий был в отменном настроении. Его стратегический план удался полностью: неприятель был окружен, его заманили в ловушку. Генералу предстоит великая победа. Его ждут целые горы лавровых венков.
Мы шли вперед. До нас доносились звуки выстрелов, теперь уже одиночных. Знакомого индейского военного клича не было слышно. Мы бросились в атаку и ворвались на холмы, окружавшие водоем, но и в тенистых чащах мы не обнаружили противника. По-видимому, индейцы все еще находились между нами и прибывшим подкреплением. Неужели им удалось ускользнуть?
Нет… Вот они на другой стороне луга… Показались из леса и идут к нам навстречу. Они хотят сражаться с нами… Вот…
Однако эти синие мундиры и белые пояса, эти каски и сабли — это не индейцы! Это не враги — это солдаты из бригады Клинча!
К счастью, мы вовремя узнали их А иначе мы могли бы в схватке уничтожить друг друга.
Глава 71
ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АРМИИ
Два отряда сошлись вместе и после короткого совещания между генералами приступили к поискам неприятеля.
На это были потеряны долгие часы, но мы не нашли ни одного индейца.
Оцеола совершил неслыханный в анналах военной истории стратегический маневр: он провел полторы тысячи воинов между двумя отрядами, численный состав которых был равен его войскам и которые обстреливали его продольным огнем, и не оставил ни одного убитого. Да что там! Не оставил даже никакого следа своего отступления! Индейское войско, так недавно стоявшее перед нами в полном боевом порядке, сразу разбилось на тысячу частей и растаяло как бы по волшебству.
Враг исчез неизвестно куда, и разочарованным генералам снова пришлось увести свои войска в форт Кинг.
* * *
Толпа разъединила нас. Когда я пробился через нее,
Исчезновение индейского войска было, само собой разумеется, объявлено «победой». Эта победа, однако, прикончила бедного старого Гейнса — по крайней мере, его военную славу. После этого он с радостью отказался от поста, которого раньше так добивался.
* * *
Теперь главнокомандующим был назначен уже третий генерал.
Этот офицер — фамилия его была Скотт — пользовался большей известностью, чем его предшественники. Удачная рана, полученная в прежних войнах с Англией, высокий чин, изрядная доза политического фиглярства, а главным образом весьма вольный перевод французской «Системы тактики», за автора которого он выдавал себя, — все это создало генералу Скотту известность в глазах американского общественного мнения на протяжении двадцати лет[122].
Творец такой системы военного маневрирования не мог не быть великим полководцем — так рассуждали его соотечественники.
От нового генерала ждали чудес, и он дал народу щедрые и торжественные обещания. Он поступит с индейцами иначе, чем его предшественники, и скоро закончит эту ненавистную войну — так полагали военные.
Все радовались этому назначению, причем приготовления к походу осуществлялись в гораздо более широких масштабах, чем при двух предшественниках Скотта. Число солдат было удвоено, даже утроено, заготовлены были огромные запасы провианта. Все ожидали того момента, когда великий полководец соизволит принять на себя командование.
Наконец он прибыл, и армия выступила в поход. Я не буду останавливаться на подробностях этой кампании, они не представляют особого интереса. Вся кампания состояла лишь из утомительных переходов, которые производились с пышностью и правильностью военного парада. Армия была разделена на три отряда, торжественно именуемые: «правое крыло», «левое крыло» и «центр». Все три отряда из фортов Кинг, Брук и Сент-Джонс должны были одновременно направиться к Уитлакутчи — все к тому же «роковому гнезду» — и подойти к окраине болот и лагун. Предполагалось, что каждое подразделение даст по одному выстрелу из небольших орудий как условный сигнал другим отрядам. Затем все три соединения по радиусам должны были двинуться в наступление к центру укрепленных позиций семинолов. Этот нелепый маневр был выполнен и, как и следовало ожидать, закончился полной неудачей. Никто даже и в глаза не видел индейцев. Были найдены следы их стоянок, и больше ничего. Хитрые воины услышали сигналы и прекрасно поняли их значение. Имея такие сведения о расположении врага, они могли без особых затруднений отступить, проскользнув между правым и левым крылом.
Может быть, самым необычайным и вместе с тем самым важным событием кампании Скотта был случай, чуть не стоивший мне жизни. О нем, может быть, и не следует рассказывать подробно, но он заслуживает упоминания, как любопытный пример «покинутого отряда».
Наш великий полководец, наступая на «гнездо» семинолов, вздумал оставить «наблюдательный пост» на берегу реки Амазуры. Он состоял из сорока добровольцев из поселка Суони и нескольких офицеров. В их числе находился и я.
Нам было приказано закрепиться на месте и не трогаться до тех пор, пока нас не сменят. Когда это произойдет, весьма смутно представлял себе даже наш начальник. Отдав этот приказ, генерал во главе центрального отряда удалился, предоставив нас своей собственной судьбе.
Мы очень хорошо понимали всю опасность своего положения, поэтому мы постарались прежде всего устроиться наилучшим образом. Нарубили деревьев, построили укрепления, выкопали колодец и окружили все это оградой.
К счастью для нас, прошла целая неделя, прежде чем неприятель обнаружил наши укрепления. Иначе ни один из нас не остался бы в живых. Индейцы, вероятно, следовали за центральным отрядом и таким образом на некоторое время ушли из этой местности. Однако на шестой день противник вновь появился и предложил нам сдаться. Мы отказались и беспрерывно отбивали атаки в продолжение пятидесяти дней. Многие из наших солдат были убиты и ранены. Убит был доблестный начальник нашего смелого отряда Холломэн. Он был сражен пулей, пролетевшей через щель в ограде.
Запасов продовольствия нам было оставлено на две недели, а пришлось продержаться целых семь! Тридцать дней мы питались сырыми зернами, водой и желудями, которые нам удавалось собрать с деревьев, росших внутри нашего укрепления.
Таким образом, мы выстояли пятьдесят дней, и никто не явился сменить нас. За все время этой страшной осады наши глаза, зорко всматривавшиеся в даль, не увидели за оградой ни одного белого, мы не услышали ни одного английского слова. Мы решили, что нас бросили — забыли! Так оно в действительности и было. Генерал Скотт, торопясь убраться прочь из Флориды, забыл сменить людей, стоявших на «наблюдательном посту». А другие решили, что нечего и пытаться спасти нас, ибо мы наверняка давно погибли.
Нам грозила голодная смерть. Но наконец храброму старому охотнику Хикмэну удалось прорваться сквозь линию осады и сообщить о нашем положении «друзьям». Его рассказ вызвал большое волнение, и, чтобы вызволить нас, направили воинскую часть, которой удалось рассеять противника и освободить нас из нашей тюрьмы.
Так окончилась кампания Скотта, а вместе с тем и его военная карьера во Флориде. Все его действия были крайне нелепы. Скотт избежал насмешек и позора лишь благодаря тому, что его быстро отозвали. Это была для него счастливая случайность. Как раз в это время вспыхнула другая война с индейцами — на юго-западе, и генерал получил приказание принять начальство над тамошними войсками. Это позволило ему вовремя убраться из Флориды. Обескураженный и пристыженный, генерал рад был такому удобному предлогу, чтобы покинуть Страну Цветов.
Таким образом, у американских генералов осталось самое мрачное воспоминание о Флориде. Не менее семи генералов были разбиты поочередно в ходе индейской войны семинолами и их хитрыми вождями. Но я не стану рассказывать об их неудачах и ошибках. После отъезда генерала Скотта я расстался с главным отрядом войск и отныне принимал участие только в небольших сражениях второстепенных отрядов. Это были более романтические эпизоды военной жизни. Здесь я расстаюсь с ролью летописца больших исторических событий.
Глава 72
ЧТО СТАЛОСЬ С ЧЕРНЫМ ДЖЕКОМ
Мы спаслись из укрепления на лодках, проехав вниз по реке до ее устья, а оттуда морем в Сент-Маркс. После этого добровольцы разбрелись по домам, так как срок их службы истек. Они уходили так же, как вербовались: поодиночке или группами. Одна из таких групп состояла из старого охотника Хикмэна, его товарищей, меня и моего верного оруженосца.
Черный Джек был уже не такой, как раньше. С ним произошла разительная перемена: скулы обозначились резче, щеки впали, глаза ввалились, а спутанные курчавые волосы торчали у висков густыми лохматыми клочьями. Кожа его утратила свой великолепный черный блеск, на ней появились морщины.
Бедняга питался все это время очень плохо. Три недели голодовки изменили его внешность до неузнаваемости.
Однако голод почти не повлиял на его настроение. Он по-прежнему был весел и жизнерадостен, а иногда ему даже удавалось развеселить и меня. Грызя кукурузные початки или запивая водой из тыквы сухой маис, он часто вслух мечтал о тех вкусных блюдах — маисовой каше и свинине, — которыми станет лакомиться, когда судьбе угодно будет вернуть его на родную плантацию. Эта утешительная перспектива будущего блаженства помогала ему легче переносить страшные минуты настоящего, ибо в предвкушении счастья есть своя радость. Когда же мы оказались на свободе и пустились в обратный путь, Джек уже не мог сдержать свое ликование. Он без устали болтал, с его лица не сходила радостная улыбка, а белые зубы ослепительно сверкали. Даже кожа его, казалось, снова обрела свой прежний маслянистый блеск.
В течение всего утомительного пути негр поистине был душой нашего отряда. Его веселые шутки расшевелили даже сдержанного старого охотника, который по временам разражался взрывами громкого смеха. Что касается меня, то я только делал вид, что я так же весел, как и мои спутники. Душу мою томила печаль, которую даже сам я не мог понять.
Все должно было быть совершенно иначе. Мне надо бы радоваться возвращению домой, возможности увидеть тех, кто мне дорог, но все складывалось как-то по-другому…
После освобождения из осады я почувствовал себя веселее, но это была лишь естественная реакция на спасение от почти верной гибели. Радость моя быстро угасла, и теперь, когда я приближался к родному дому, душу мою окутали темные тени. Меня мучило предчувствие, что дома не все благополучно. Я не мог отдать себе отчета в этих чувствах, ибо не получал еще никаких дурных известий. Вообще уже почти два месяца я ничего не слышал о доме. Во время долгой осады мы были полностью отрезаны от внешнего мира. До нас дошли лишь неясные слухи о событиях в селении Суони. Мы возвращались домой, ничего не зная о том, что случилось в наше отсутствие.
Сама по себе неизвестность могла вызвать неуверенность, сомнения, даже опасения. Но не только поэтому мной овладели мрачные предчувствия. Нашлась и другая причина. Может быть, это было воспоминание о моем внезапном отъезде, о том неопределенном состоянии неустроенности, в котором я оставил дела семьи. Сцена прощания, запечатлевшаяся в моей памяти, воспоминания о Ринггольде, о злобном замысле этого коварного негодяя — все это, вместе взятое, порождало предчувствия, терзавшие меня.
Два месяца — большой срок. Много событий может произойти за это время, даже в узком семейном кругу. Уже давно было официально сообщено, что я погиб от руки индейцев, и, насколько мне было известно, мои домашние поверили, что меня нет на свете. Это известие могло повлечь за собой страшные последствия. Была ли сестра верна данному слову, так торжественно произнесенному в час разлуки? Найду ли я, вернувшись домой, по-прежнему любящую сестру, все еще одинокую и свободную? Или она уступила материнским увещаниям и стала женой этого подлого негодяя? Неудивительно, что мне было не до веселья.
Товарищи обратили внимание на мое мрачное настроение и хоть грубовато, но добродушно старались меня развеселить. Однако это им не удалось. Свинцовая тяжесть лежала у меня на сердце. Мне почему-то казалось, что дома не все благополучно. Увы, предчувствие не обмануло меня. Случилось нечто худшее, чем все то, чего я опасался. Новость, которую я услышал, не была известием о свадьбе сестры. Я узнал о смерти матери и, что еще страшнее, ничего не мог узнать о дальнейшей судьбе Виргинии.
На пути домой меня встретил посланец из дому, который и сообщил мне эту ужасную весть.
Индейцы напали на поселок, или, скорее, на мою собственную плантацию, ибо они ограничились только ею. Мать и дядя пали под ударами их ножей. А сестра, сестра? Ее похитили!
Дальше я не стал слушать, я вонзил шпоры в бока измученной лошади и галопом помчался вперед, как человек, внезапно охваченный безумием.
Глава 73
СТРАШНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Мой бешено мчавшийся конь вскоре вынес меня к границе нашей плантации; не останавливаясь и не давая ему передохнуть, я поскакал по лесной тропинке прямо к дому. Иногда на моем пути встречались загородки для скота, но умный конь легко преодолевал их, и мы мчались дальше.
Я встретил соседа, белого, идущего от дома. Он хотел было заговорить со мной — конечно, о катастрофе, — но я не остановился. Я уже слышал достаточно, мне оставалось теперь только увидеть все своими собственными глазами.
Мне был знаком каждый поворот тропинки, и я знал, откуда можно увидеть дом.
Я доскакал до этого места и взглянул. Боже милосердный! Дома не было! Ошеломленный, я остановил лошадь и напряженно всматривался в раскинувшийся передо мной ландшафт. Напрасно — дома не было! Неужели я сбился с дороги? Но нет, вот огромное тюльпановое дерево в конце тропинки. Дальше саванна, маисовые и индиговые плантации, еще дальше — поросшие лесом холмы вокруг бассейна, а дальше… дальше я уже не различал знакомых предметов.
Вся природа, казалось, изменилась. Приветливый дом с белыми стенами и зелеными ставнями исчез. Веранда, служебные постройки, хижины негров, даже изгородь — все исчезло! С того места, где они когда-то находились, поднимались густые клубы дыма и окутывали солнце, превращая его в багровый диск. Небо как бы нахмурилось при моем появлении.
После всего слышанного мне нетрудно было понять, что это значило. Сердце мое сжалось от боли и горестного изумления. Больше страдать я уже был не в силах.
Пришпорив коня, я поскакал через поля к месту разрушения.
Я увидел бродивших среди дыма людей — мне показалось, что их было около сотни. В их движениях не чувствовалось особого волнения: они или спокойно расхаживали, или сидели, развалясь, как равнодушные зрители. Никто и не пытался тушить пожар. Подъехав, я увидел языки пламени, смешавшиеся с дымом. Вокруг гарцевали всадники, стараясь поймать лошадей и коров, вырвавшихся из пылающей ограды. Вначале я не мог различить, кто были эти всадники.
Посланный сообщил, что разгром усадьбы произошел только что — сегодня на рассвете. Это все, что я успел услышать, когда ринулся вперед.
Было еще рано, со времени восхода солнца прошло не больше часа. Мы двигались вперед ночью, чтобы избежать дневной жары. Неужели варвары еще там? Неужели это индейцы? В зловещем огненном свете, в клубах дыма они гонялись за лошадьми и коровами, вероятно желая угнать их с собой.
Но нам было сообщено, что они ушли. Как иначе можно было бы узнать все подробности страшного происшествия — убийство моей матери, похищение моей бедной сестры? Как могли бы узнать обо всем этом, если бы индейцы были еще здесь?
Может быть, они удалились на время, а потом вернулись, чтобы забрать добычу и поджечь дом? На мгновение эта мысль мелькнула в моей голове.
Но она не заставила меня замедлить бег коня, я и не думал о том, чтобы натянуть поводья. Правая рука была у меня тоже занята — я крепко сжимал обеими руками заряженное ружье.
Меня охватила жажда мести. Я готов был ринуться в толпу дикарей и погибнуть в борьбе с ними. Я был не одинок: мой чернокожий слуга мчался за мной по пятам. За моей спиной раздавался топот его коня.
Мы подскакали к дымящимся развалинам. Здесь я убедился в своей ошибке. Меня окружили не индейцы, не враги, а друзья. Они встретили нас зловещим, сочувственным молчанием.
Я сошел с лошади. Все собрались вокруг меня, обмениваясь многозначительными взглядами. Никто не произнес ни слова. Всем было ясно, что рассказы излишни.
Я заговорил первым. Хриплым, еле слышным голосом я спросил: «Где?»
Вопрос мой сразу был понят — его ожидали. Один из соседей взял меня за руку и осторожно повел за собой мимо затухающего пожарища. Я машинально шел с ним рядом. Он молча указал мне на водоем. Здесь собралась еще более густая толпа. Люди стояли полукругом спиной ко мне и смотрели в одну точку. Я понял, что она лежала там.
При нашем приближении все молча расступились. Мой проводник провел меня через толпу. Я увидел тело матери. Рядом с ней лежали трупы дяди и нескольких негров — преданных слуг, отдавших жизнь за своих господина и госпожу.
Несчастную мать застрелили… Искололи ножом… Скальпировали… Обезобразили ее лицо…
Хотя я и был подготовлен к самому страшному, но я не мог вынести этого ужасного зрелища.
Бедная мама! Никогда больше эти остекленевшие глаза не улыбнутся мне… Никогда больше не услышу я слов нежности или упрека из этих бледных уст…
Я больше не мог сдерживать свои чувства. Рыдания душили меня. Я бросился на землю, обнял мать и целовал холодные, немые губы той, которая дала мне жизнь.
Глава 74
ПОГОНЯ ПО СЛЕДУ
Горе мое не знало пределов. Воспоминание о холодности матери и особенно о том, как мы с ней расстались, еще больше увеличивало мои страдания. Если бы мы простились так же, как в прошлые годы, мне было бы легче переносить свое горе. Но нет, ее последние слова, обращенные ко мне, дышали упреком, почти гневом, и эти воспоминания наполняли мое сердце неизъяснимой горечью. Я отдал бы все на свете, лишь бы она могла узнать, что я помню о ней одно только светлое, радостное и хорошее. Я отдал бы все на свете, лишь бы она могла услышать одно только слово, знать, с какою радостью я простил бы ее…
Моя несчастная мать! Я не помнил ничего дурного. Ее недостатки были так незначительны. Единственной ее слабостью было тщеславие, что, впрочем, характерно для всех людей ее круга. Но теперь я не помнил этого. Я помнил только ее многочисленные достоинства, помнил, что она — моя мать. Только теперь я понял, как я ее любил!
Но было некогда предаваться отчаянию. Где искать сестру? Я вскочил на ноги и в волнении начал расспрашивать всех, кто стоял кругом. Люди знаками указали мне на лес. Я понял: ее похитили индейцы.
До сих пор я не питал враждебных чувств к краснокожим. Напротив, я, скорее, стоял на их стороне и даже испытывал к ним что-то похожее на дружбу. Я знал, как несправедливо к ним относились белые, и все, что индейцы претерпели от них. Я знал, что в конце концов индейцы будут побеждены и им придется покориться, и, вспоминая об их бедствиях, испытывал к ним жалость.
Но эти чувства сменились теперь совершенно другими. Облик убитой матери вызвал в моей душе мгновенный переворот. Симпатия к индейцам превратилась в острую ненависть. Кровь матери взывала к отмщению, и я поклялся отомстить.
Я был не одинок. Старый Хикмэн, его товарищ Уэзерфорд, также охотник, и человек пятьдесят соседей обещали мне свою помощь и поддержку.
Больше всех мысль о возмездии волновала Черного Джека. Его тоже постигло горе: Виолу не могли нигде найти — очевидно, ее увели вместе с остальными слугами. Многие из них, может быть, ушли даже добровольно. Но, во всяком случае, никого из слуг не осталось. Плантация и ее население были уничтожены. Я превратился в бездомного сироту. У меня не было ни матери, ни крова.
Но не стоило терять время на бесполезные жалобы и сетования, нужно было немедленно приступить к действиям. Явились вооруженные соседи, и уже через несколько минут была организована погоня.
Мне и моим спутникам достали свежих лошадей. Наскоро закусив чем попало, мы пустились отыскивать следы индейцев. Эти следы было нетрудно обнаружить, так как дикари ехали верхом. Они переплыли через реку на индейскую сторону, немного выше по течению. Без колебания мы последовали за ними.
Я прекрасно помнил это место. Именно здесь я переправлялся через реку два месяца назад, выслеживая Оцеолу. Это была та самая тропинка, которую избрал тогда Оцеола… Я с горечью задумался. Было все труднее различать следы, и мы двигались вперед все медленнее и медленнее. Возникали естественные вопросы: видел ли кто-нибудь дикарей? К какому племени они принадлежат? Кто был их вождь?
Двое добровольцев из нашего отряда, спрятавшись около дороги, видели, как индейцы проскакали мимо них, увозя с собой пленниц — мою сестру Виолу и других девушек с плантации. Индейцы сидели на лошадях и крепко держали пленниц. Негры шли пешком. Они не были связаны и, казалось, шли добровольно. Индейцы принадлежали к племени Красные Палки, и ими предводительствовал Оцеола.
Трудно даже описать впечатление, произведенное на меня этими словами. Они причинили мне острую боль. Я все время сомневался в справедливости этого свидетельства. Я решил не верить ему, пока сам не добуду неопровержимых доказательств. Оцеола! Нет, он не мог совершить подобную гнусность! Не мог! Очевидцы, должно быть, ошиблись. Они видели индейцев еще до рассвета, темнота могла обмануть их. В последнее время все, что совершали индейцы — каждый налет, каждый грабеж, — все приписывалось Оцеоле. Оцеола был везде. Нет, он не мог быть здесь!
Но кто же были эти два свидетеля? Я с удивлением узнал их имена: Спенс и Уильямс. Еще с большим изумлением узнал я, что они также присоединились к тем, кто вместе со мной отправился в погоню за индейцами. Но еще более странным казалось мне отсутствие Аренса Ринггольда. Он был на пожаре и, как рассказывали мне, громче всех орал и грозил, что отомстит. Но теперь он скрылся. Во всяком случае, он не примкнул к отряду, преследовавшему индейцев.
Я подозвал Уильямса и Спенса и стал их подробно расспрашивать. Они подтвердили свое показание. Они признались, что видели индейцев, возвращавшихся после кровавой резни, в темноте ночи. Они не могли утверждать с уверенностью, были ли это воины из племени Красные Палки или из племени Длинное Болото. Им показалось, что это были Красные Палки. Что касается вождя, то сомнений не было: их вел сам Оцеола. Они узнали его по трем страусовым перьям в головном уборе, которые отличали его от других воинов.
Свидетели говорили убедительно. Что за смысл был им обманывать меня? Не все ли им равно, кто был вождем разбойничьей шайки убийц — Оцеола, Коа-хаджо или даже сам Онопа? Их слова привели меня к убеждению, которое подкрепили и другие обстоятельства, к глубокому горестному убеждению: убийца моей матери, который сжег мой дом и увел сестру в жестокий плен, — не кто иной, как Оцеола!
Чувство прежней дружбы мгновенно умерло во мне. Отныне мое сердце пылало враждой и ненавистью к тому, кого я некогда так нежно любил, кем так искренне восхищался…
Глава 75
БОЕВАЯ ТРЕВОГА
Однако, вдумываясь в это кровавое дело, я обратил внимание на некоторые обстоятельства, показавшиеся мне таинственными и странными. В первый момент я был настолько потрясен, что эти обстоятельства как-то ускользнули от моего внимания. Я не находил ничего удивительного в том, что во время жестокого набега мать моя была убита, а сестра увезена в плен. Индейцы не удовлетворились кровопролитием, а сожгли всю плантацию. Это была обычная месть «бледнолицым» за все перенесенные бедствия и несправедливости. Такие вещи происходили везде, почти каждый день. Почему бы им не произойти и на берегах Суони, как и в других местах Флориды? Пожалуй, скорее следовало удивляться, что наша усадьба так долго оставалась нетронутой. Другие плантации, находившиеся гораздо дальше от укрепленных пунктов семинолов, уже подвергались подобным ужасным набегам. Почему же наша плантация должна была избежать общей участи? Эта «неуязвимость», однако, была замечена жителями нашей плантации, и они успокоились в ложном сознании собственной безопасности.
Объясняли это так: главные силы индейцев были отвлечены в другие районы, где они наблюдали за движением разделенной на три части армии генерала Скотта. А так как наша плантация была укрепленным пунктом, то, конечно, небольшие отряды индейцев не дерзали напасть на нее.
Но Скотт ушел, его войска отступили в форты, на летние квартиры. Обычно во Флориде военные действия ведутся зимой. А индейцы, для которых все времена года равны, были теперь свободны и снова могли начать свои налеты и набеги на пограничные плантации. Должно быть, поэтому индейцы так долго не нападали на поселок Суони.
В первую минуту отчаяния такое объяснение показалось мне вполне вероятным. Я и мои родственники просто оказались жертвами общей волны возмездия со стороны индейцев.
Но когда я пришел в себя, другие обстоятельства приковали мое внимание. Прежде всего, почему именно наша плантация в этом районе подверглась нападению? Почему только наш дом был сожжен? Почему только наша семья была истреблена? Эти вопросы, естественно, поразили меня. Ведь на реке были и другие плантации, также слабо защищенные, и другие семьи, относившиеся к семинолам гораздо более враждебно. Но еще более загадочным было вот что: плантация Ринггольдов лежала как раз на пути индейских банд. Как показали следы, они обогнули ее, чтобы достигнуть нашего дома. Оба Ринггольда — Аренс и его отец — были известны как самые жестокие враги индейцев, как люди, самым грубым образом нарушавшие их права.
Почему же плантация Ринггольдов осталась нетронутой, а наша была уничтожена? Ясно, что наша семья стала жертвой особой, заранее обдуманной мести. Нет никакого сомнения, что это именно так. Только местью и можно было объяснить эту тайну.
Но Пауэлл? Неужели это был он? Мой друг повинен в таком варварском злодеянии? Возможно ли это? Нет! Никогда!
Несмотря на свидетельство двух отъявленных негодяев, несмотря на то, что они видели его собственными глазами, мое сердце отказывалось этому верить.
Какие мотивы могли быть у него для такого необычайного убийства? Правда, моя мать не благоволила к нему, более того — она оказалась неблагодарной. Я помнил это очень хорошо. И он тоже мог помнить. Но его благородный характер, олицетворяющий в моем представлении прекрасный героический идеал, не мог унизиться до подобного злодеяния. Нет, нет и еще раз нет!
С другой стороны, почему же Пауэлл оставил в целости усадьбу Ринггольдов, жилище Аренса Ринггольда — своего заклятого врага, одного из четырех человек, которых он поклялся уничтожить? Это обстоятельство было самым невероятным.
Ринггольд находился дома, его можно было захватить во время сна. Его черные сообщники вряд ли стали бы сопротивляться. Во всяком случае, их сопротивление легко было бы сломить.
Почему же ему была дарована жизнь? Почему его дом не предали огню?
Новое известие, которое я получил в пути, породило новое предположение. Мне сказали, что индейцы быстро отступили, так как неожиданно появился патруль добровольцев, совершавший объезд. Его внимание привлекла пылающая плантация. Полагали, что именно это и спасло другие плантации, в том числе и Ринггольда.
Такое объяснение казалось вероятным. По следам было видно, что шайка разбойников была невелика, не больше пятидесяти человек. Поэтому-то они и отступили.
Тогда все дело снова представало в ином свете. И снова Оцеола оказывался в моих глазах виновником.
Может быть, я не постигал его индейской натуры, может быть, в конце концов, он и был чудовищем, нанесшим столь страшный удар.
Еще и еще раз я спрашивал себя: какая причина могла вызвать такой поступок?
— А, вот что! Сестра! Виргиния! Может быть, любовь… страсть…
— Индейцы! Индейцы! Индейцы!
Глава 76
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Это восклицание, полное страшного значения, сразу прервало мои размышления. Решив, что появились индейцы, я помчался вперед. Но вдруг всадники бросили поводья и остановились. Отбившиеся в сторону спешили вновь примкнуть к отряду. А те, кто беспечно заехал вперед, быстро поскакали обратно. Именно они-то и подняли тревогу. Некоторые из них все еще продолжали кричать: «Индейцы, индейцы!»
— Индейцы? — спросил Хикмэн с недоверчивым видом. — Где вы увидели их?
— Там! — ответил один из всадников, прискакавших назад. — Вон в той роще. Весь лес кишит ими…
— Пусть меня черти раздерут на куски, если я этому поверю! — возразил старый охотник, презрительно покачав головой. — Никогда индейцы не станут прятаться, особенно от таких желторотых птенцов, как вы. Их всегда раньше услышишь, чем увидишь.
— Да мы и слышали, как они перекликались друг с другом.
— Ба! — воскликнул охотник. — Вы бы вовсе не то услышали, если бы индейцы действительно были там. Вы услышали бы выстрелы из винтовок. Черт бы побрал ваших индейцев! Вы слышали визг енота или свист пересмешника. Я знал, что вы до смерти перепугаетесь первого попавшегося зверька, который мелькнет перед вами… Ну, теперь стойте на месте, а я посмотрю, в чем дело.
Сказав это, Хикмэн слез с лошади и накинул уздечку на ветку.
— Пойдем-ка, Джим Уэзерфорд, — добавил он, обращаясь к одному из своих товарищей-охотников. — Посмотрим, кого там увидели эти молодцы. Не приняли ли они пеньки за индейцев?
Молодой охотник уже спешился. Он и Хикмэн поставили лошадей в безопасное место и с винтовками в руках молча вошли в кусты. Остальные члены отряда, собравшись вместе и не слезая с седел, ждали. Наше терпение не подверглось долгому испытанию. Едва охотники скрылись из виду, как до нас донесся их громкий хохот. Мы осмелели и приблизились. Там, где царило такое веселье, не могло быть особенно опасно. Вскоре мы увидели их обоих. Уэзерфорд, нагнувшись, рассматривал чьи-то следы, а Хикмэн указывал рукой на качающиеся кусты. Мы взглянули туда и увидели стадо полудикого рогатого скота. Испуганное нашим появлением, оно, продираясь через чащу, обратилось в бегство.
— Вот вам ваши индейцы! — торжествующе воскликнул охотник. — Хороши дикари! Ха-ха-ха!
Все остальные тоже рассмеялись, за исключением виновников этой ложной тревоги.
— Я знал, что здесь нет никаких индейцев, — продолжал охотник на аллигаторов. — Совсем не так они появляются! Вы их слышите раньше, чем видите. И вот какой совет я дам тем зеленым юнцам, которые не умеют отличить краснокожего от рыжей коровы: те, кто поопытнее, пусть идут впереди. А остальные держитесь вместе, не разбегайтесь, а то кое-кому придется уснуть сегодня без волос на голове.
Все согласились с благоразумным советом Хикмэна. Мы попросили старого охотника и Уэзерфорда возглавить движение отряда. Остальные тесными рядами шли за ними.
Ясно было, что индейцы не могли намного опередить нас. Об этом можно было судить по времени, когда они покинули усадьбу. С момента моего приезда на плантацию мы не теряли времени даром — на наши сборы ушло не более десяти минут, так что, в общей сложности, с момента их ухода и до начала нашей погони прошло едва ли более часа. Передвигаться очень быстро они не могли, так как за ними пешком шли негры. Это было видно по их широким следам.
Вряд ли кто-нибудь из нас боялся индейцев. Все мы горели жаждой мести, заглушавшей всякий страх. Кроме того, судя по следам, индейцев было не так уж много — человек пятьдесят. Без сомнения, это были искусные и опытные воины, равные нам в борьбе один на один. Но те, кто вызвался добровольно помогать мне, тоже были люди настоящей закалки — с твердым характером и выдержкой. Это были самые лучшие люди в поселке, незаменимые для такой цели. Никому даже и в голову не приходило вернуться: все твердо решили идти вперед и найти убийц даже в самом сердце индейской территории, в их собственном «гнезде».
Преданность этих людей вдохнула в меня новые силы. Я поскакал вперед с более легким сердцем, чувствуя, что час возмездия близок.
Глава 77
СЛЕД ТЕРЯЕТСЯ
Однако моим желаниям не суждено было так скоро осуществиться. Летя с быстротой, на которую только были способны наши кони, мы мчались по следу целых десять миль, хотя сначала предполагали, что настигнем индейцев уже на половине этого пути.
Вероятно, индейцы сообразили, что за ними началась погоня. И, подгоняемые страхом, они во весь опор неслись вперед. После таких ужасных злодейств понятно было, что они ожидали преследования. Но они ненамного опередили нас. Хотя солнце сильно жгло, сок еще капал со сломанных ими ветвей, следы копыт их лошадей были еще свежие. Так объяснили нам наши проводники. Примятая трава еще была влажной от росы и стелилась по земле.
— И получаса не прошло, как они тут проехали. Только полчаса, черт их побери! — воскликнул Хикмэн, после того как он уже в двадцатый раз осмотрел следы. — Никогда в жизни я не видел, чтобы индейцы ехали так быстро! Они бегут, как стадо испуганных быков… Вероятно, мерзавцы здорово вспотели. А некоторые бездельники, как я полагаю, уже болтаются в седлах под углом в сорок пять градусов…
Громкий взрыв смеха был ответом на это замечание нашего проводника.
— Не так громко, ребята, не так раскатисто! — сказал он, прерывая смех повелительным жестом. — Клянусь Иерусалимом, они услышат вас! А если так, некоторые из вас расстанутся со своими скальпами еще до заката солнца. Ради спасения собственной шкуры ведите себя тихо, как мышки. У них такой же острый слух, как у наших волкодавов. Черт меня побери, если они больше чем на милю впереди нас!
Он еще раз нагнулся к следу и повторил:
— Будьте тихи, как опоссумы, и я обещаю вам, что не пройдет и часа, как мы настигнем этих негодяев.
Повинуясь его приказу, мы ехали, стараясь соблюдать тишину и держаться края дороги, поросшей травой, чтобы заглушить топот копыт. Переговаривались только шепотом, да и то лишь в случае крайней необходимости. Напряженно вглядываясь вперед, мы каждую минуту ожидали увидеть перед собой бронзовые фигуры индейцев.
Так мы проехали около полумили. Враг не показывался, видны были только его следы. Мелькнуло ясное небо, сиявшее голубизной меж стволов. Это означало, что лес начал редеть. Многие из нас обрадовались. Последние часы нам пришлось ехать по мрачному лесу, переплетенному лианами и заваленному буреломом, так что поневоле мы двигались очень медленно. Все надеялись, что теперь дорога станет лучше и мы наконец увидим неприятеля. Но на старых охотников, особенно на наших двух проводников, это произвело совсем иное впечатление. Хикмэн сразу изъявил свое полное неудовольствие.
— Проклятая равнина! — воскликнул он. — Это саванна, и притом огромная. Черт возьми, дело худо!
— Почему? — спросил я.
— Очень просто! Если они проскочили через саванну, то, наверно, оставили около леса одного или двух часовых. Теперь мы уже не можем подъехать к ним незамеченными: нас будет так же легко различить, как караван верблюдов. Что же из этого следует? А вот что: если они заметят нас, то им легко будет скрыться. Они рассеются во все стороны, и тогда ищи ветра в поле!
— Что же нам теперь делать?
— Нам лучше держаться ближе к большому болоту. Вы постойте здесь несколько минут, а мы с Джимом Уэзерфордом подъедем к опушке леса и посмотрим, переехали ли они через саванну. Если да, то и мы переберемся через нее, а потом снова отыщем след. У нас нет другого выбора. Если они увидят, как мы пересекаем саванну, мы можем показать им хвост и спокойно поворачивать обратно.
Все согласились с этим и беспрекословно подчинились приказу охотника за аллигаторами. Мы все хорошо знали, насколько он опытен. Хикмэн и Уэзерфорд сошли с лошадей и стали осторожно пробираться к деревьям на опушке леса.
Прошло довольно много времени, прежде чем они вернулись. Кое-кто из нас уже начал выражать нетерпение. Послышались разговоры о том, что, остановившись, мы только зря тратим время и даем индейцам возможность уйти вперед еще дальше. Иные предлагали продолжать погоню и, будь что будет, идти вперед прямо по следу.
Как это ни согласовывалось с моими собственными чувствами, как ни горел я желанием вступить в открытый бой с ненавистным врагом, я знал, что при настоящих условиях погоня становилась бессмысленной. Проводники были правы. Наконец охотники вернулись и сообщили нам, что индейцы действительно пересекли саванну и въехали в лес, который начинался за нею. Они еще не успели скрыться, когда охотники дошли до опушки леса. Хикмэн даже ухитрился заметить хвост лошади, исчезавшей за кустами. Но зоркие следопыты выяснили еще один важный факт: дальше не было никакого следа, по которому мы могли бы идти вперед.
Вступив в саванну, индейцы ехали, очевидно, врассыпную. Об этом свидетельствовало множество следов, оставленных на траве копытами лошадей. По выражению охотников, след «расщепился на пятьдесят частей» и наконец совсем исчез в траве. Охотники установили это, ползком пробираясь к высокой траве и замечая отпечатки копыт. Оставался только один, очень странный след, который привлек их внимание. Это был след человеческой босой ноги. Поверхностный наблюдатель мог бы счесть его за отпечаток ступни одного человека. Опытные же следопыты мгновенно догадались, что это была уловка. След был широкий и бесформенный, очень глубоко вдавленный в землю; вряд ли это мог быть след одного человека. Длинная пятка, едва заметный подъем, широкие отпечатки пальцев — все это были знаки, которые охотники сразу разгадали. Хикмэн тут же определил, что это был след негра — вернее, негров, которые прибегли к этой хитрости по указанию того, кто их вел.
Эта неожиданная хитрость со стороны отступающих дикарей нас и огорчила и удивила. В первую минуту мы решили, что дикари перехитрили нас, что мы потеряли след врага и что нам не суждено отомстить.
Одни стали говорить о бесполезности дальнейшего преследования. Другие считали, что нужно вернуться. Пришлось опять взывать к чувству ненависти, чтобы вновь разжечь жажду мщения. В этот критический момент вмешался старый Хикмэн и, оживив наши гаснущие надежды, поднял у всех настроение. Я обрадовался, когда он заговорил.
— Сегодня вечером, ребята, нам их не догнать… (Он взял слово последним, когда все остальные уже высказались.) Засветло нам нельзя перебраться через эту равнину. Она слишком велика. Я бы лучше сделал крюк в двадцать миль, чем пересекать эту проклятую саванну. Но ничего, ребята, не унывайте! Подождем здесь до наступления темноты, а затем мы сможем тихонько прокрасться через саванну. И если мы с Джимом Уэзерфордом не найдем на другой стороне их следа, то, значит, я никогда в жизни не едал мяса аллигаторов. Проклятые индейцы наверняка раскинут свой лагерь где-нибудь под деревьями. Не видя нас, они будут чувствовать себя в безопасности, как медведь у дупла с медом. Вот тут-то мы и нагрянем на них!
Все согласились с предложением охотника. Оно было принято как дальнейший план действий. Мы сошли с лошадей и стали дожидаться заката солнца.
Глава 78
ЧЕРЕЗ САВАННУ
Мои страдания достигли наивысшего предела. Во время погони волнение не давало мне возможности углубиться в размышления о несчастье, которое обрушилось на меня. Мысль о скором возмездии как бы заглушала скорбь, и самое движение действовало успокоительно на мою взволнованную душу. Теперь же, когда погоня была приостановлена, я мог на досуге предаться воспоминаниям о событиях сегодняшнего утра, и горе с новой силой овладело мной. Я видел вновь тело убитой матери, лежащей с раскинутыми, как бы призывающими к отмщению руками. Я видел свою сестру, бледную, в слезах, с разметавшимися волосами, полную отчаяния.
Неудивительно, что, испытывая столь мучительное нетерпение, я никак не мог дождаться заката солнца. Мне казалось, что никогда еще огромный огненный шар не спускался к горизонту так медленно. Бездействие терзало меня до безумия. Диск солнца был кроваво-красным от густого тумана, который висел над лесом. Небо казалось низким и грозным. Оно как бы отражало мои собственные мысли и чувства.
Наконец наступили сумерки. Они продолжались недолго, как обычно в южных широтах, хотя в этот вечер они казались мне долгими и медлительными. За ними наступила полная тьма. Мы снова вскочили в седла и поехали. И в движении мне как будто стало легче.
Выбравшись из леса, мы поехали через саванну. Два охотника вели нас по прямой линии. Двигаться по какому-нибудь из многочисленных следов не было смысла, так как все они расходились в разные стороны. Хикмэн предполагал, что все следы в конце концов сойдутся в одном заранее условленном месте. Поэтому нам годился любой след. Несомненно, он должен был привести нас в индейский лагерь. Самое важное для нас в настоящий момент было проехать равнину незамеченными. Наступившая тьма благоприятствовала нам. Мы двигались вперед по открытому пространству безмолвно, как призраки; ехали шагом, чтобы не слышно было топота лошадей. Наши усталые кони плохо слушались поводьев. Почва тоже благоприятствовала нам: это была мягкая трава, по которой лошади шли бесшумно. Мы боялись только, чтобы они не почуяли индейских коней и не вздумали приветствовать их ржаньем.
К счастью, наши опасения не оправдались. Через полчаса в полном молчании мы въехали под темные своды леса на другой стороне саванны. Нас вряд ли могли заметить. Если индейцы и оставили в арьергарде разведчиков, то темнота скрыла нас от их взоров. Нас можно было бы обнаружить лишь в том случае, если бы часовые стояли как раз в том месте, где мы въезжали в лес. Но никаких следов индейцев не было, и мы решили, что за нами никто не следит.
Мы шепотом поздравили друг друга и так же тихо попытались обсудить дальнейший план действий. Мы собирались ехать дальше. Надо было снова отыскать след индейцев, но раньше рассвета этого нельзя было сделать. Мы, возможно, остались бы на месте до утра, если бы не одно обстоятельство. Лошади очень страдали от жажды, да и всадники были не в лучшем состоянии. Уже с полудня мы не встречали воды, а нескольких часов, проведенных под знойным небом Флориды, вполне достаточно, чтобы сделать жажду невыносимой. В более прохладном климате можно провести даже несколько дней без воды.
И лошади и люди очень страдали. Мы не могли ни заснуть, ни просто отдохнуть. Необходимо было найти воду до того, как будет привал. Мы страдали также и от голода, ибо для столь долгого путешествия не запаслись провизией. Но муки голода переносить было легче, на эту ночь мы могли обойтись одной водой. Поэтому мы решили ехать вперед и найти воду во что бы то ни стало.
В этом затруднительном положении опыт наших двух проводников оказал нам неоценимую услугу. Им уже приходилось охотиться в саванне. Это было еще тогда, когда индейские племена были в дружбе с нами и белые свободно могли разъезжать по их территории. Охотники помнили, что где-то недалеко был пруд, около которого они отдыхали. Несмотря на темноту, они надеялись найти его.
Мы двинулись вперед цепью по одному в ряд, каждый вел за собой свою лошадь. Только так можно было двигаться в темноте. Наш отряд растянулся в длинную линию, которая, как огромная, чудовищная змея, извивалась по тропинке между деревьями.
Глава 79
В ЛЕСНОЙ ТЕМНОТЕ
По временам наши проводники начинали сомневаться, верно ли мы едем, и тогда все мы останавливались и ждали, пока они тронутся дальше.
Несколько раз Хикмэн и Уэзерфорд сбивались с пути, не зная, куда ехать дальше. Они теряли направление и были в полном недоумении.
Днем в лесу всегда можно определить направление по коре деревьев. Этот прием хорошо известен лесным охотникам. Но сейчас было слишком темно, чтобы производить такие подробные наблюдения. Впрочем, Хикмэн утверждал, что даже и теперь, ночью, он безошибочно может определить, где юг и где север, и я заметил, что он ощупывает древесные стволы. Он переходил от одного дерева к другому, словно для того, чтобы подтвердить свои наблюдения, но через некоторое время вполголоса обратился к своему товарищу, и в тоне его явно звучало изумление:
— Что за чудеса, Джим? Деревья стали совсем другие с тех пор, как мы с тобой здесь были в последний раз. На них нет коры, они как будто совсем ободраны.
— Да и мне они показались странными. Но я думал, что это мне так в темноте почудилось.
— Да нет, это не то! С ними что-то случилось. Я помню эти ели. Деревья все сухие, как трут. Дай-ка я посмотрю на их иглы.
Говоря это, Хикмэн поднял руку и сорвал одну из длинных ветвей, которые нависали над нами.
— Ах, вот оно что! — воскликнул он, обламывая иглы. — Теперь я понимаю, в чем дело. Это все проклятый червяк виноват. Деревья погибли. Что теперь делать? Теперь я так же сумею найти пруд, как и любой из этих зеленых юнцов.
Это признание произвело на нас не очень приятное впечатление. Жажда все сильнее томила нас. Она казалась еще мучительнее потому, что исчезла всякая надежда утолить ее.
— Стойте! — сказал через минуту Хикмэн, ткнув свою лошадку каблуком в ребра. — Еще не все потеряно. Если уж я не могу довести вас до пруда, то нас приведет туда моя умная скотинка… Эй ты, старуха, — обратился он к своей старой кобыле, — найди-ка нам воду! Марш вперед, да постарайся для нас!
Сжав коленями бока своей «скотинке», Хикмэн отпустил поводья, и мы снова тронулись вперед, смутно надеясь на инстинкт бессловесного создания.
Скоро стало ясно, что лошадь почуяла воду. Хикмэн заявил, что она «чует водичку», а он знал это так же хорошо, как будто она была его собакой, напавшей на след оленя. Она вытянула морду и время от времени нюхала воздух. При этом она шла все прямо, как будто к определенной цели.
Все мы оживились, но вдруг Хикмэн остановил свою лошадь. Я подъехал к нему узнать, в чем дело. Он молчал, видимо глубоко задумавшись.
— Почему вы остановились? — спросил я.
— Всем нам надо подождать здесь.
— Зачем? — спрашивали другие добровольцы, подъехавшие к нам.
— Ехать вперед этим путем опасно. Быть может, эти злодеи у колодца. Здесь нет другой воды, а им ведь тоже пить захотелось. Если они услышат, что мы подъехали, то опять махнут в кусты, и поминай как звали! Так вот, вы стойте здесь, а мы с Джимом прокрадемся вперед и посмотрим, что и как. Я теперь знаю, где пруд: до него не очень далеко. Если индейцев там нет, мы сейчас же вернемся, и тогда можете отправляться на водопой.
С этим благоразумным планом все согласились. Оба охотника еще раз сошли с лошадей и осторожно двинулись вперед.
Я выразил желание пойти вместе с Хикмэном и его товарищем. Они не возражали — мои несчастья давали мне неоспоримое право быть во главе похода. Итак, оставив лошадь под присмотром одного товарища, я присоединился к охотникам.
Мы неслышно ступали по земле, густо усыпанной мягкой хвоей, заглушавшей шум шагов. Лес здесь был редким, и это позволяло нам двигаться довольно быстро. Через десять минут мы были уже далеко от наших друзей. Мы все время старались не потерять верного направления. Однако вдруг нам показалось, что мы потеряли его. И в этот момент, к моему удивлению, сквозь густую листву мы увидели мерцающий вдали огонь. Это было пламя костра.
Хикмэн сразу распознал, что это костер на привале индейцев.
Первым нашим движением было вернуться к товарищам и позвать их на помощь. Но, поразмыслив немного, мы решили подойти как можно ближе, чтобы удостовериться, действительно ли это лагерь неприятеля.
Теперь мы уже не шли, а пробирались ползком, стараясь держаться в тени. На поляне пылал огонь. Охотники помнили, что здесь должен быть пруд. И действительно, мы увидели сверкающую водную поверхность. Мы подошли так близко, как позволяло наше благоразумие. Теперь мы хорошо видели всю поляну. Лошади были привязаны к деревьям, а вокруг костра распростерлись человеческие фигуры. Они не шевелились — все убийцы крепко спали.
У самого огня на седле сидел человек. По-видимому, он не спал, хотя его голова была опущена на колени. Огонь костра озарял его бронзовое лицо. Можно было бы различить его черты и цвет лица, если бы они не были скрыты под краской и перьями. Это лицо казалось малиново-красным, три больших черных страусовых пера свисали с головы у висков, так что их концы почти касались его щек. Эти символические перья наполнили мою душу острой болью: я знал, что это был головной убор Оцеолы.
Я стал всматриваться пристальнее. Несколько групп расположились сзади, почти все открытое пространство было заполнено простертыми телами.
Еще одна группа из трех или четырех человек, сидевших и лежавших на траве, привлекла мое внимание. Я смотрел на нее со страхом и волнением. На нее падала тень от деревьев, и я не мог рассмотреть лиц, но по белым платьям я понял, что это были женщины. Две из них сидели несколько поодаль от остальных. Одна из них положила голову на колени к другой.
Сильное волнение охватило меня, когда я смотрел на них. Теперь уже для меня не оставалось никаких сомнений, что это были моя сестра и Виола.
Глава 80
СИГНАЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ
Нельзя описать, что я перечувствовал в эту минуту. Перо мое бессильно изобразить эту картину. Вдумайся, читатель, в мое положение и постарайся представить его себе. Позади меня остались убитые и изувеченные мать и дядя, мой родной дом, превращенный в пепел и прах. Передо мной была сестра, вырванная из материнских объятий, безжалостно похищенная дикими разбойниками, может быть обесчещенная их дьявольским вождем! И он тоже был здесь передо мной, этот лживый, вероломный убийца! Меня охватило неистовое волнение.
Я глядел на того, кому должен был отомстить, и моя ярость возрастала с каждой минутой. Я больше не в силах был сдержать ее.
Мои мускулы, казалось, вздувались на руках, кровь струилась по жилам, как поток жидкого пламени. Я почти забыл, где мы находимся. Одна мысль пылала в моем мозгу: месть! Враг был передо мной! Он не знал о моем присутствии и как будто спал. Он был почти рядом, на расстоянии выстрела моей винтовки, стоило только протянуть руку.
Я поднял ружье на уровень ниспадающих страусовых перьев и взял на прицел их концы. Я знал, что глаза под ними. Мой палец был уже на курке…
Еще минута — и этот человек, когда-то бывший в моих глазах героем, будет лежать мертвым на траве. Но мои товарищи предотвратили выстрел. Хикмэн схватил замок моей винтовки, покрыв боек ударника широкой ладонью, а Уэзерфорд схватился за дуло. Я не мог выстрелить.
В первую секунду я почти рассвирепел, но затем понял, что они правы. Старый охотник, нагнувшись к моему уху, шепнул:
— Рано, Джордж, рано! Ради собственной жизни, не поднимай тревогу. Что толку, если ты убьешь его? Эти мерзавцы удерут и утащат женщин с собой. Мы не сможем удержать их и только рискуем потерять свои скальпы. Лучше мы потихоньку вернемся за товарищами и окружим индейцев со всех сторон… Не так ли, Джим?
Уэзерфорд, боясь излишнего шума, только утвердительно кивнул головой.
— Пойдем! — продолжал Хикмэн шепотом. — Нельзя терять ни минуты. Назад как можно быстрее! Ползком, ползком, пониже… И тише! Ради бога, тише!
Почти распластавшись на земле, старик пополз, как аллигатор, и скоро исчез из виду. Мы с Уэзерфордом последовали за ним и поднялись только тогда, когда уже были далеко от пламени костра. Здесь мы остановились и прислушались. Мы боялись, что наше отступление встревожит лагерь. Но до нас не донеслось ни единого звука. Мы только слышали, как храпят спящие дикари и как лошади жуют траву. Изредка доносился удар копытом о твердую землю.
Довольные, что нам удалось уйти незамеченными, мы возвращались назад тем же, уже знакомым, путем. Теперь мы почти бежали, но вдруг остановились как вкопанные. До нас донесся ружейный выстрел.
И, что самое удивительное, он раздался не из индейского лагеря, а с противоположной стороны, оттуда, где остались наши товарищи. Странно было, что звук показался слишком громким для того расстояния, которое, по нашим предположениям, отделяло нас от друзей. Может быть, не вытерпев мучительного ожидания, наши друзья двинулись вперед, навстречу нам? Но, разумеется, ни один из них не мог выстрелить. А если и так, то их выстрел был поступком очень неблагоразумным, даже опасным: он мог поднять на ноги весь индейский лагерь. В кого же они стреляли? Может быть, это случайно разрядилось ружье? Да, должно быть, это именно так…
Не успели мы обменяться этими соображениями (каждый обдумывал их про себя), как раздался второй выстрел, в том же направлении, что и первый. По-видимому, выстрелы были сделаны из разных винтовок, так как промежуток между ними был настолько кратким, что даже самый искусный стрелок не успел бы вторично зарядить свое оружие. Мои товарищи были озадачены не меньше, чем я. Эти два выстрела можно было объяснить только тем, что несколько индейцев, отбившихся от своей шайки, пытались подать о себе весть своим сородичам.
Но раздумывать было некогда. Весь лагерь пришел в движение. Началась тревога. Послышались голоса людей, ржанье и топот. Не раздумывая, мы бросились к нашим друзьям.
Вдруг вдали мы увидели двух всадников. Они уходили от нас все дальше вперед, скользя между деревьями, как приведения. Несомненно, выстрелы были сделаны именно ими. Кто же они — индейцы или белые?
Рискуя выдать нас врагам, старый Хикмэи окликнул их.
Мы остановились и прислушались. Всадники не ответили. Они молча и быстро удалялись в каком-то новом направлении — ни к друзьям, ни к врагам.
В поведении этих двух всадников было что-то загадочное. Зачем они стреляли и теперь удалялись от лагеря, хотя прекрасно знали, где он находится, по шуму тревоги? Их поведение казалось мне необъяснимым. Для Хикмэна, вероятно, это дело было более ясным. Но чувствовалось, что он и удивлен и негодует.
— Пусть дьявол их утопит в болоте! Подлецы негодные, если это только они! А я уверен, что это они… Знаю я их ружья! Что ты скажешь на это, Джим? Ты узнал их?
— Я, кажется, слыхал этот звук раньше, но где, не помню, — ответил младший охотник. — Постой-ка, ведь это Нед Спенс!
— Именно, а другой — Билль Уильямс. Что им там, дьяволам, надо? Они ведь остались вместе со всеми. А между тем я уверен, что это они носятся тут по лесу да палят, чтобы нам всю игру испортить. Черт их побери! Это какой-то адский замысел… Проклятые авантюристы! Я их заставлю за это поплатиться! Скорее, ребята! Нам нужно быстро добраться туда вместе со всеми товарищами, а иначе мы опоздаем. Индейцы удерут, прежде чем мы нагрянем на них. Проклятые выстрелы! Испортили нам все дело! Быстро за мной!
Следуя указаниям старого охотника, мы помчались за ним по лесу.
Глава 81
ОПУСТЕВШИЙ ЛАГЕРЬ
Вскоре до нас донесся звук голосов и топот лошадиных копыт. Мы узнали голоса товарищей и окликнули их. Они ехали к нам навстречу. Они тоже слышали выстрелы и, решив, что мы столкнулись с индейцами, поспешили к нам на помощь.
— Эй, ребята! — крикнул Хикмэн, когда они подъехали. — Билль Уильямс и Нед Спенс с вами?.. Где они?
На этот вопрос ответа не последовало. Несколько секунд царило мертвое молчание. Очевидно, их обоих здесь не было, иначе бы они сами отозвались.
— Где они? Где? — заговорили в толпе.
— Теперь ясно где, — сказал Хикмэн. — Клянусь аллигатором, эти молодцы опять затеяли какую-то нечестную игру! Ну, ребята, теперь вперед! Индейцы прямо перед нами. Дальше ползти бесполезно. Индейцы где-то здесь, и нам нужно добраться до них раньше, чем белка успеет трижды вильнуть хвостом, а то они опять удерут! Ура! Вперед за скальпами! Проверьте винтовки. А теперь вперед! И смерть негодяям!
С этим выразительным восклицанием старый охотник поскакал к лагерю индейцев.
Остальные в беспорядке последовали за ним, держась близко один от другого. У нас не было разработанного плана действий. Главное, на что мы рассчитывали, было время. Мы хотели достигнуть лагеря, прежде чем индейцы скроются, мы хотели смело ворваться в самую гущу врагов, дать залп из винтовок, держа ножи и пистолеты наготове, — таков был наспех составленный план.
Мы были уже недалеко, приблизительно в трехстах ярдах от лагеря, и знали, куда надо двигаться. Шум, доносившийся из лагеря, указывал нам направление. Но вдруг этот шум замолк: больше не слышно было ни людских голосов, ни ржанья и топота лошадей. В лагере наступила мертвая тишина. Только свет костра слабо мерцал между деревьями и, как маяк, указывал нам путь.
Это заставило нас удвоить бдительность. Тишина казалась нам подозрительной, в ней было что-то зловещее. Мы опасались засады, ибо хорошо знали, как искусно вождь Красных Палок умеет проводить подобные маневры.
Ярдов за сто до поляны наш отряд остановился. Несколько человек, сойдя с лошадей, подошли к самой опушке леса, чтобы обследовать местность. Вскоре они возвратились с известием, что на поляне никого нет. Лагеря больше не существовало. Индейцы, лошади, пленники, добыча — все исчезло. Остался только догорающий костер. По нему мы определили, что индейцы отступили в спешке и беспорядке. Красные угли были разбросаны по всей поляне, в них слабо тлели последние искры пламени.
Разведчики продолжали продвигаться среди деревьев, пока не обошли всю опушку леса. Они внимательно обследовали лес ярдов на сто в окружности, но нигде не нашли никаких следов врага или засады. Мы опоздали — дикари ускользнули, уведя у нас из-под носа своих пленниц!
Преследовать индейцев во тьме было невозможно. Расстроенные, мы выехали на поляну и расположились в опустевшем лагере. Мы решили провести здесь остаток ночи, а на заре снова начать преследование.
Сначала нужно было утолить жажду и напоить лошадей. Потом мы погасили костер и почти половину отряда поставили часовыми между деревьями, окружавшими поляну. Коней стреножили и привязали к деревьям. Другая половина отряда легла отдыхать на том самом месте, где еще недавно отдыхали наши враги. Так мы дождались рассвета.
Глава 82
МЕРТВЫЙ ЛЕС
Мои товарищи, утомленные долгим походом, вскоре уснули. Не спали только часовые, да я не мог найти себе покоя и большую часть ночи провел, блуждая вокруг пруда, тускло блестевшего в центре поляны. Когда я двигался, мне становилось как-то легче. Это успокаивало меня, отвлекало от мрачных мыслей. Я жалел, что мне не удалось выстрелить в тот момент, когда я увидел предводителя убийц, не удалось уложить его на месте. А сейчас чудовище снова ускользнуло из моих рук. Может быть, теперь уже невозможно будет спасти сестру…
Я негодовал на охотников за то, что они помешали мне. Если бы они могли предвидеть все, что произойдет дальше, быть может, и они поступили бы иначе. Но кто мог этого ожидать?
Двое добровольцев, поднявших тревогу, теперь снова присоединились к отряду. Их таинственное поведение заставило нас усомниться в честности их намерений. Появление Билля и Неда было встречено возгласами негодования и угрозами. Их хотели сбить выстрелами с седла и сделали бы это, если бы они не стали умолять нас дать им возможность оправдаться. Они объяснили, что отбились от отряда еще до привала. Они не знали ни того, что наши пошли в разведку, ни того, что индейцы близко, они заблудились в лесу и выстрелили, надеясь, что мы ответим им. Они признались, что видели трех пешеходов, но приняли их за индейцев и постарались избегнуть встречи с ними.
Большинство из нас удовлетворились этим объяснением. Рассуждали так: какие мотивы могли побудить их обоих дать сигнал тревоги врагу? Кто мог подозревать их в такой низкой измене? Но не все были того же мнения. Я слышал, как старый Хикмэн многозначительно прошептал своему товарищу, искоса поглядывая на этих приблудных тварей:
— Смотри в оба, Джим! Не упускай из виду этих негодяев. Они что-то затеяли…
Так как явных улик против них все-таки не было, их снова приняли в отряд, и они вместе с другими улеглись спать.
Негодяи лежали на берегу пруда. Шагая кругом, я несколько раз проходил мимо них. В темноте я мог различить их простертые на земле тела. Я смотрел на них со странным чувством, ибо разделял подозрения Хикмэна и Уэзерфорда. Но я никак не мог поверить, что они сделали это умышленно. Трудно было представить себе, что, подстрекаемые самыми низменными побуждениями, они выстрелами предупредили индейцев о приближении нашего отряда.
Около полуночи взошла луна. Облаков не было. Проплывая над деревьями, луна струила вниз потоки яркого света.
Этот внезапный свет разбудил спящих. Многие повскакали, думая, что наступил день. Только взглянув на небо, они убедились в своей ошибке.
Шум разбудил и всех остальных. Многие предлагали начать погоню немедленно, при свете луны. Это согласовывалось и с моими желаниями. Но Хикмэн был решительно против. Он объяснил, что в лесу не так светло, как на поляне, и, значит, след нельзя будет найти. Правда, можно было зажечь факелы. Но так мы могли бы попасть в засаду к врагу. Даже просто двигаться вперед при лунном свете — значило подвергать себя опасности. И вообще обстоятельства изменились: дикари уже знали, что мы гонимся за ними. В ночном походе преследуемые находятся в более выгодном положении по отношению к преследователям, даже если их и меньше. Темнота даст им возможность напасть на нас из засады и скрыться. Так рассуждали проводники. Ни один человек не возражал и не высказался против этих доводов. Было решено не трогаться до рассвета.
Наступило время менять часовых. Отдохнувшие сменили усталых караульных, которые улеглись спать, надеясь урвать хоть несколько часов для отдыха.
Уильямс и Спенс должны были дежурить вместе с другими. Они стояли рядом, на одной стороне поляны.
Хикмэн и Уэзерфорд, отдежурив свои часы, расположились на траве, и я заметил, что они устроились недалеко от двух дружков. При свете луны они должны были ясно видеть Спенса и Уильямса. По-видимому, они вовсе и не собирались спать. Время от времени я поглядывал на них. Их головы почти соприкасались, слегка приподнимаясь над травой. Охотники как будто шептались друг с другом.
Я по-прежнему продолжал бродить кругом. При свете луны я мог шагать быстрее, и мне становилось легче на душе. Трудно сказать, сколько раз обошел я вокруг пруда. Двигался я машинально, не отдавая себе отчета. Через некоторое время физическая усталость взяла верх над нравственными страданиями. Постепенно в моей душе воцарилось спокойствие. На короткое время мои горести и мстительные страсти улеглись. Я знал причину: нервная система, отражающая чувства, от которых я страдал, испытывала утомление, и все ощущения во мне как бы притупились.
Я знал, что это только временное облегчение, затишье между двумя бешеными шквалами. Но по истечении этого промежутка я снова стал восприимчивым к впечатлениям внешнего мира. Я начал внимательно присматриваться к тому, что делалось кругом. Прежде всего при ярком сиянии луны мне бросились в глаза некоторые особенности окружающей местности.
Мы остановились среди леса на поляне, которую охотники обычно называют «глэйд» или на местном жаргоне — «глид». Это была маленькая прогалина в лесу, почти не заросшая деревьями или кустарником. Она имела совершенно круглую форму, около пятидесяти ярдов в диаметре. Небольшой пруд, расположенный в середине поляны, был тоже круглый — один из причудливых естественных водоемов, разбросанных по всему полуострову: казалось, что он вырыт людьми. Он был около трех футов глубиной, и вода в нем была свежая и прохладная. Она сверкала при свете луны, как серебро.
Поляна была покрыта травой и благоухала душистыми цветами. Растоптанные людьми и конями, они пахли теперь еще сильнее.
Это был прелестный цветник, и в другом настроении я с удовольствием отдался бы созерцанию этой картины.
Но сейчас меня интересовала не сама картина, а, так сказать, ее рама.
Вокруг поляны деревья высились таким правильным полукругом, как будто кто-то нарочно их здесь насадил. А за ними, насколько взгляд мог проникнуть в глубь чащи, простирался высокий сосновый лес. Стволы деревьев были почти все одной толщины — некоторые из них достигали двух футов в диаметре. Но это были голые стволы — ни ветки, ни листка. Днем в этом лесу можно было видеть на очень далекое расстояние, так как кустов здесь не было.
Стволы деревьев были прямые и почти цилиндрические, как у пальм. Их можно было бы принять за пальмы, если бы их широкие кроны заканчивались коническими верхушками. Но это были не пальмы, а так называемые метелковидные сосны — широко распространенная во Флориде порода деревьев.
По всей вероятности, я не обратил бы на них особенного внимания, если бы меня не поразило в них что-то необычное. Хвоя у них была не ярко-зеленого, а желто-бурого цвета. Сначала я думал, что это обман зрения или особый эффект лунного освещения. Но, подойдя поближе, я увидел, что иглы были действительно не зеленые, а сухие и увядшие, хотя они еще держались на ветках. Кроме того, я заметил, что стволы сосен казались высохшими и кора на них как будто облупилась. Этот серовато-коричневый лес тянулся на большое расстояние. Мне вспомнились слова Хикмэна: действительно, весь лес был мертвый. Это было подмечено метко! Деревья были съедены сосновым шелкопрядом[123].
Глава 83
БОЙ В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ
Может показаться удивительным, что даже в такие тяжелые минуты мое внимание занимали подобные ботанические наблюдения. Но я сделал еще одно открытие, порадовавшее меня: хвоя постепенно меняла свой цвет под влиянием голубого света зари, слившегося с желтоватым отблеском луны. Скоро должно было наступить утро.
Заметив, что занимается заря, мои спутники быстро поднялись с влажного ложа, на котором сверкала роса, и стали проверять подпруги у коней.
Мы были голодны, но надеяться на завтрак не приходилось. Мы приготовились обойтись без него.
Заря вспыхнула лишь несколько минут назад, и небо быстро светлело. Все было готово к выступлению.
Созвали часовых, кроме четырех, которых предусмотрительно оставили на посту до последней минуты. Лошади были отвязаны и взнузданы, они стояли под седлами всю ночь; винтовки были тщательно осмотрены и смазаны. Большинство моих товарищей побывали в сражениях и участвовали во многих военных кампаниях. Все меры предосторожности были приняты, чтобы обеспечить нам успех в предстоящей схватке. Мы надеялись еще до полудня настигнуть индейцев и преследовать их до самого логова. И хотя почти наверняка можно было ожидать кровопролития, все еще раз высказали твердую решимость двигаться вперед.
Несколько минут ушло на то, чтобы построиться в походном порядке. Было признано благоразумным отправить вперед несколько человек из наиболее опытных следопытов для осмотра леса, прежде чем в него вступит остальной отряд. Это избавило бы нас от внезапного нападения из засады. И снова, как и раньше, выбор пал на старых охотников.
Все приготовления были закончены, мы уже собирались тронуться. Всадники вскочили в седла, разведчики двинулись к краю леса, как вдруг на опушке послышались выстрелы и тревожные крики наших часовых. Они еще не сменились, и все четверо разрядили свои винтовки одновременно.
Выстрелы отозвались в лесу тысячами отголосков. Но это было не эхо, а настоящие выстрелы винтовок и мушкетов. Одновременно с ними раздался пронзительный воинский клич краснокожих.
Индейцы напали на нас.
Говоря точнее, они окружили нас. Все часовые выстрелили сразу — значит, все четверо видели неприятеля.
В этом нам скоро пришлось убедиться. Со всех сторон гремел свирепый неприятельский клич, и пули уже начали свистеть неподалеку от нас. Без всякого сомнения, индейцы окружали поляну. Первые выстрелы неприятеля не причинили нам большого вреда. Пули задели двух или трех человек и ранили нескольких лошадей. По-видимому, наша позиция находилась пока еще вне досягаемости выстрелов. Большинство пуль падало прямо в пруд. Но если бы индейцы подползли ближе, их огонь мог бы стать для нас смертоносным: сбившиеся в кучу на открытом месте, мы представляли для них удобную мишень.
К счастью, наши зоркие часовые заметили их приближение и своевременно дали сигнал тревоги.
Это спасло нас.
Но все это приходит в голову позже. В самый критический момент невозможно успеть что-нибудь сообразить. Характер нападения был ясен. Нас окружили, и лучшим ответом были внимательные, обдуманные действия.
Неожиданное нападение в первую минуту произвело смятение в наших рядах. Крики воинов смешались с ржаньем лошадей, взвивавшихся на дыбы. Но скоро, заглушая весь этот гул и шум, прозвучал громовой голос Хикмэна:
— Долой с лошадей! Бегите к деревьям! Долой с лошадей, скорее! К деревьям — и прячьтесь за них! Или, клянусь дьявольским землетрясением, много мамашиных сынков сегодня потеряют свои скальпы! К деревьям! К деревьям!
Эта же мысль возникла и у других. Поэтому, прежде чем старый охотник договорил, все мгновенно спешились и разбежались в разные стороны. Каждый встал за дерево, лицом к лесу. Таким образом, возник замкнутый круг. Каждый был защищен сосновым стволом. Мы стояли спиной друг к другу и лицом к врагу.
Наши лошади, предоставленные самим себе, бешено метались по поляне. Их еще больше возбуждали поводья и стремена, которые бились об их бока. Многие из лошадей, проскакав мимо нас, ринулись в лес и там попали в руки индейцев или, прорвавшись мимо них, убежали в чащу.
Мы не пытались удержать их. Пули свистели около наших ушей. Выступить из-за стволов, служивших нам защитой, значило обречь себя на верную гибель.
Выгоды нашей позиции были очевидны уже с первого взгляда. Хорошо, что мы не сняли раньше часовых, а то индейцы застали бы нас врасплох: они подошли бы к самой окраине леса без криков и выстрелов, и мы оказались бы в их власти. Под прикрытием леса они были бы недостижимыми для наших винтовок. А мы на открытом месте попали бы под губительный огонь.
Теперь же у них не было перед нами большого преимущества. И нас и индейцев одинаково защищали стволы. Счастье наше, что все мы так быстро выполнили приказ Хикмэна!
В ответ на неприятельские выстрелы мы также не молчали: через несколько секунд наши винтовки вступили в игру. То и дело слышались резкие и сухие потрескиванья выстрелов. И время от времени у нас вырывался торжествующий крик, когда кто-нибудь из индейцев, неосторожно выступивший из-за дерева, падал от выстрела.
И снова спокойный, ясный, громкий голос старого охотника прозвучал над поляной:
— Цельтесь наверняка, ребята, и стреляйте без промаха! Не тратьте зря ни крупинки пороха… У нас он кончится раньше, чем мы разделаемся с этими проклятыми! Не спускайте курок, пока не увидите глаза краснокожего!
Это предупреждение заключало в себе глубокий смысл: многие из наших юношей отчаянно выпускали заряд за зарядом, увеча только стволы деревьев. Слова Хикмэна произвели желаемое действие и заставили их осторожнее обращаться с запасом пороха. Выстрелы стали слышаться реже, но частые торжествующие крики показывали, что почти каждый из них попадал в цель.
Через несколько минут после начала перестрелки схватка приняла иной характер. Дикий, устрашающий клич индейцев умолк. Только время от времени, сопровождая удачный выстрел, звучало торжествующее «ура», ободряющее наших товарищей, или «ио-хо-эхи», которым какой-нибудь индейский вождь вдохновлял своих воинов на битву. Выстрелы слышались все реже. Стреляли только тогда, когда можно было прицелиться наверняка. Каждый был занят своей целью и не мог терять время на бесплодную перестрелку и праздную болтовню.
Может быть, во всей истории флоридских войн не найдешь рассказа о схватке, которая проходила бы в такой тишине. В промежутках между выстрелами бывали минуты, когда наступало зловещее безмолвие.
Едва ли когда-нибудь битва шла при столь странном расположении воюющих сторон. Мы расположились двумя концентрическими кругами. Внешний круг — это был неприятель; внутренний, вокруг поляны, образовали мы. Расстояние между кругами было всего шагов сорок, но тем не менее ни одна сторона не рисковала вступить в рукопашный бой. Мы могли бы разговаривать с нашими противниками, не повышая голоса. Мы буквально могли целиться в белки их глаз! Вот как шел этот бой!
Глава 84
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ ДЖЕКА
Перестрелка продолжалась часа два, но в положении обеих сторон не произошло значительных перемен. Время от времени кто-нибудь перебегал от одного ствола к другому со скоростью снаряда, выпущенного из гаубицы, ища более надежной защиты или места, откуда можно было бы лучше прицелиться в намеченного противника.
Стволы деревьев не были достаточно толсты, чтобы защитить нас. Некоторые укрылись за ними, стараясь занять как можно меньше места. Приходилось стоять во весь рост, плотно прижавшись к стволам. Иные лежали плашмя между выступавшими корнями и в таком положении вели стрельбу.
Перестрелка началась на восходе, а теперь солнце стояло уже высоко в небе. В лесу, даже в самой чаще, было светло. Обе стороны отлично видели друг друга, хотя преимущество индейцев заключалось в том, что наш тыл был открыт. Огромные массы высохшей хвои слетели вниз с веток и толстым слоем устлали землю, а оставшиеся наверху иглы образовали над нами как бы прозрачную тюлевую завесу, смягчавшую жгучие солнечные лучи. В лесу было достаточно света, чтобы дать нашим метким стрелкам возможность поразить любую цель величиной с доллар. Рука, нога, высунувшееся из-за ствола плечо, даже край одежды — все немедленно становилось мишенью и обстреливалось с любой стороны. Если бы кто-нибудь вздумал выставить голову хотя бы на десять секунд, он наверняка получил бы пулю в лоб, ибо с обеих сторон стрелки были необычайно меткие.
Так прошло два часа. Были у нас и потери, и дело не обошлось без нескольких «инцидентов», после которых острое чувство вражды вспыхивало еще сильнее. У нас оказалось несколько раненых — два из них тяжело — и один убитый. Это был юноша, любимец всего отряда. Смерть его вызвала новый взрыв ярости.
Потери индейцев были серьезнее. Мы видели, как они один за другим падали под нашими выстрелами. В нашем отряде было несколько лучших стрелков во всей Флориде. Хикмэн говорил, что он «взял на мушку» троих, а кого Хикмэн брал на мушку, в того уж безусловно попадала пуля.
Уэзерфорд уложил одного индейца наповал. В этом не было никакого сомнения: мы видели мертвое тело дикаря между деревьями, там, где он упал. Товарищи боялись оттащить труп, чтобы не попасть под смертоносный огонь этой ужасной винтовки.
Через некоторое время индейцы решили применить новую тактику. И тут выяснилось, что они оказались искуснее нас. Они стали по двое за каждым стволом. Один из них стрелял, а другой в это время прицеливался. Вполне естественно, что тот из нас, кому предназначался выстрел, полагал, что теперь его врагу нужно время, чтобы снова зарядить ружье. Он ослаблял бдительность и становился жертвой второго стрелка.
Этот расчет оказался верным. Прежде чем мы разгадали эту хитрость, среди нас оказалось несколько раненых, а один был убит.
Такое коварство еще сильнее разъярило наших людей, тем более что мы не могли ответить тем же. Нас было слишком мало, и, если бы мы стали по двое за одно дерево, мы очень уж разредили бы свою цепь. Поэтому нам пришлось сохранить прежние позиции и только принять еще большие меры предосторожности.
Один раз нам удалось расплатиться с индейцами их собственной монетой. Это сделали Черный Джек и я.
Мы стояли почти рядом за двумя деревьями. Против нас было трое дикарей, стрелявших все утро особенно ожесточенно. Одна из пуль пробила рукав моего мундира, а у Джека пуля вырвала клок волос из его косматой головы. Но, к счастью, никто из нас не был ранен.
Одного из этих индейцев моему приятелю очень хотелось «убрать». Это был рослый дикарь в уборе из перьев грифа — по-видимому, вождь. Его лицо, время от времени мелькавшее из-за дерева, имело какой-то особенный ярко-алый оттенок. Оно блистало между деревьями, как второй солнечный диск.
Он возбудил особенную ненависть моего слуги. Видимо, индеец заметил цвет кожи Джека и во время перестрелки все время поддразнивал его. Индеец говорил на своем языке, но Джек знал этот язык достаточно хорошо. Джек был раздражен, разъярен и поклялся отомстить ярко-алому вождю.
Мне удалось помочь Джеку привести в исполнение задуманный план. Укрепив на палке свою фуражку, я немного высунул ее из-за ствола. Это была старая, всем известная хитрость, но индеец, по словам Джека, «попался на удочку». Ярко-красное лицо поднялось над зарослью пальметто, взвился дымок, и в ту же минуту пуля выбила фуражку из моих рук.
Но одновременно раздался другой, более громкий выстрел — это выстрелил Джек.
Я выглянул из-за дерева и увидел, что красное лицо, показавшееся из-за кустов, совсем побагровело. Алый цвет превратился в малиновый. Вслед за этим раскрашенный индеец тяжело рухнул на землю прямо в кусты.
Во время перестрелки индейцы не стремились приблизиться к нам, хотя, без сомнения, их было значительно больше. К группе, которую мы преследовали, присоединилась еще одна, равная ей по численности. На поляне скопилось не меньше ста индейцев — сейчас их было столько же, сколько в начале боя. Но они ограничивались тем, что осаждали нас. Быстро ринувшись вперед, они, конечно, могли бы сразу подавить нас своим численным превосходством. Но они знали, что, прежде чем им удастся подойти к нашей цепи, их ряды значительно поредеют и лучшие их воины падут. В таких случаях индейцы проявляют крайнюю осторожность. Они редко решаются напасть на противника, если тот засел даже в незначительном укреплении. Самый слабый форт, самая непрочная ограда может нередко устоять против краснокожих воинов Запада.
После того как их тактика потерпела неудачу в первой же атаке, они, казалось, не замышляли уже ничего нового и держали нас в осаде, понимая, что позиции наши сильно ослаблены. Вскоре выстрелы стали раздаваться все реже и наконец почти прекратились. Но мы знали, что это не отступление. Напротив, мы увидели, что индейцы в нескольких местах развели костры. По-видимому, они собирались готовить себе завтрак.
Между нами не было ни одного, кто бы им не позавидовал!
Глава 85
СКУДНЫЙ ОБЕД
Это временное перемирие не принесло нам облегчения: мы не рисковали отойти от своих деревьев. Находясь от воды буквально в двух шагах, мы умирали от жажды. Лучше бы совсем не видеть нам этого сверкающего бассейна! Он только дразнил нас, причиняя нам муки Тантала[124].
Мы видели, как индейцы завтракали на своих боевых постах. Одни ели, а другие, ожидая своей очереди, пока что подносили им от костров пищу. Видно было, как женщины бродили взад и вперед, почти в черте досягаемости наших выстрелов.
Все мы были голодны, как отощавщие волки. Уже целые сутки, даже больше, у нас не было во рту ни крошки. А вид неприятеля, уплетающего свои запасы, еще больше возбуждал наш аппетит и разжигал нашу злобу.
Индейцы как бы издевались над тем, что мы умирали от голода.
Особенно неистовствовал Хикмэн. Он довел до всеобщего сведения, что «так голоден, что готов съесть целого индейца живьем, если только он попадется ему на зуб». И охотник выглядел достаточно свирепым, чтобы осуществить свою угрозу.
— При виде этих проклятых краснокожих, — ворчал он, — которые жрут мясо целыми тушами, тогда как у белых христиан нет даже и косточки, чтобы погрызть, любой нормальный человек может взбеситься и встать от ярости на дыбы! Клянусь аллигатором самого дьявола, что это именно так!
Нас окружало голое пространство, где даже такие люди, как Хикмэн и Уэзерфорд, не могли, казалось, добыть никакой пищи. И все же не было такого положения, из которого они не нашли бы какого-нибудь выхода. Они призвали на помощь всю свою изобретательность, и вдруг их осенила блестящая мысль. Они начали быстро разгребать сухую хвою, которая толстым слоем лежала на земле. Чего они искали? Червей? Личинок? Ящериц? Но нет, до этого еще дело не дошло. Как бы они ни были голодны, они вовсе не собирались питаться пресмыкающимися. У них возникла более светлая мысль, и скоро радостные восклицания возвестили нам, что поиски увенчались успехом.
Хикмэн держал в руке какую-то бурую массу конической формы, несколько похожую на большой ананас. Оказалось, что это сосновая шишка — ее легко было отличить по размеру и форме. Хикмэн заорал на всю поляну:
— А ну-ка, друзья, соберите-ка эти древесные яйца да раскокайте их! Внутри есть зерна, или ядрышки, — это вполне подходящая закуска. Конечно, это вам не свинина и не кукурузная каша. Но у нас здесь нет поросенка с кашей. Поищите-ка в трухе вокруг себя — вы наверняка найдете целую кучу этих шишек.
Предложение было встречено с энтузиазмом, и все сразу бросились разрывать сухую хвою. Это были шишки сосен, которые нас окружали. Некоторые лежали на поверхности, прямо под рукой, а другие пришлось вырывать из-под земли с помощью шомполов и ружейных дул. Как бы там ни было, у каждого образовался порядочный запас этих «яиц». Мы с жадностью пожирали зерна. Их вкус всем нам понравился, но шишек было слишком мало, чтобы ими можно было насытить пятьдесят голодных желудков.
Некоторые остряки отпускали шуточки по поводу «завтрака всухомятку». Самые беспечные из нас весело смеялись, чистя шишки. Но, вообще говоря, нам было не до смеха — положение сложилось слишком серьезное. Пока стрельба прекратилась, у нас было достаточно времени заняться обсуждением грозящей нам опасности.
До сих пор нам как-то не приходило в голову, что нас в самом деле осаждают. Яростное напряжение боя не давало нам времени опомниться и поразмыслить о своей судьбе. Пока что мы расценивали перестрелку только как схватку, которая скоро должна была завершиться победой одной из сторон.
Но теперь нам стало ясно, что неприятель ведет правильную осаду. Мы были окружены со всех сторон, заперты как бы в крепости, но отнюдь не надежной. Единственным нашим укреплением было кольцо деревьев. У нас не было даже наскоро сколоченного блокгауза, чтобы укрыть там своих раненых. Каждый стоял часовым на бессменном посту!
Наше положение было крайне опасным. Вырваться из осады не представлялось никакой возможности. Все наши лошади умчались. Только одна валялась мертвой у пруда. Она пала от пули, но эту пулю пустили не враги, а сам Хикмэн. Его поступок удивил меня. Но у охотника были свои особые цели, и только впоследствии я узнал о них.
Мы могли удержать свои позиции против неприятеля в пять раз более сильного, против любого неприятеля. Но чем питаться?
Жажды мы не боялись. Ночью будет легче: под покровом темноты мы сможем пробраться к пруду.
Сосновые шишки лишь отчасти выручили нас, но поблизости их больше не было. Мы должны будем сдаться под угрозой голода.
Мы свободно разговаривали, не сходя с мест, как будто стояли лицом к лицу и обсуждали наши перспективы. Они были довольно мрачными.
Чем все это кончится? Как нам выйти из этого опасного положения? Вот вопросы, которые переходили из уст в уста, которыми были заняты все умы.
Нам оставалась только одна надежда на спасение: сделать попытку под покровом ночи прорваться через неприятельскую цепь.
Риск был велик — нам предстояло пройти через строй противника.
Некоторым из нас, быть может даже многим, суждено было пасть, но кое-кто мог и спастись. Оставаться там, где мы были, значило принести себя в жертву. Помощи нам ждать было неоткуда. Да мы и не питали таких несбыточных надежд: мы великолепно понимали, что стоит нам ослабеть от голода — нас перебьют всех до одного.
Не желая подвергаться подобной участи, мы решили, пока есть силы, рискнуть пробиться сквозь ряды осаждающих; темнота будет благоприятствовать нам. Все мы с нетерпением ожидали заката солнца.
Глава 86
ПУЛЯ В СПИНУ
Время тянулось для нас очень долго не потому, что нечего было делать.
В течение дня индейцы много раз возобновляли перестрелку и, несмотря на нашу крайнюю бдительность, убили у нас еще одного человека и нескольких легко ранили. В этих стычках выяснилось, что индейцы стремились подойти ближе к линии нашего фронта, перебегая вперед от дерева к дереву. Нам был понятен их план: они вовсе не желали сойтись с нами вплотную, хотя их численность могла бы оправдать такое стремление. Теперь их было еще больше, чем в начале боя: еще одна группа индейцев подошла к месту сражения. Мы слышали их радостные приветственные возгласы. Но, даже имея превосходство в силах, они не хотели вступать с нами в рукопашный бой. У них была иная цель наступления, и мы разгадали ее. Индейцы заметили, что, подойдя ближе, они смогут взять на мушку и тех из нас, которые находились на противоположной стороне поляны.
Теперь нам важнее всего было предотвратить этот маневр, поэтому мы решили удвоить свою бдительность. Мы стали зорко всматриваться в стволы деревьев, за которыми скрывались дикари, и наблюдали за ними, как охотник на хорьков наблюдает за их норами. Мы всеми силами мешали им подойти ближе. В попытках продвинуться вперед они не добились особого успеха: это стоило им жизни нескольких самых смелых воинов. Как только наши противники делали шаг вперед, раздавалось несколько выстрелов, и почти каждый нес кому-нибудь из них верную смерть.
Вскоре индейцам надоели попытки осуществить этот опасный маневр. С наступлением вечера они, по-видимому, отказались от своего намерения и решили продолжать осаду.
Мы обрадовались, когда зашло солнце и наступили сумерки. Они сулили нам желанную возможность вскоре подойти к пруду. Люди изнемогали, сходили с ума от жажды. Это продолжалось уже целый день. Еще днем многие из нас собирались отправиться к пруду. Но более опытные предупредили их об опасности, а еще больше нас убедил в этом случай, свидетелями которого стали все. Один из нас, более отчаянный, чем остальные, решил рискнуть. Ему удалось добраться до пруда и вдоволь напиться воды. Но когда он поспешно возвращался назад, один из дикарей уложил его наповал. Это был наш последний убитый. Его мертвое тело лежало у нас перед глазами. Несмотря на мучения, которые мы испытывали от жажды, никто больше не отважился повторить эту рискованную попытку.
Наконец долгожданная тьма опустилась на землю. Только мерцание тусклого света еще не угасло в свинцовом небе. По двое и по трое люди выходили из-за деревьев и пробирались к пруду. Они двигались, как привидения, неслышными шагами, пригнувшись и легко ступая по траве. Мы не могли сделать вылазку все вместе, хотя всем хотелось поскорее утолить жажду. Но предостережение старого охотника сдерживало даже самых нетерпеливых, и они ждали, перенося ужасные мучения, пока другие не вернутся на свои места.
И мы поступали вполне благоразумно, так как индейцы, предвидя то, что должно произойти, начали обстреливать поляну еще сильнее. Гремели ружейные залпы. Индейцы разряжали свои винтовки впустую — темнота мешала им целиться: пули свистели и жужжали вокруг нас, как осы, но летели мимо.
Вдруг кто-то отчаянно закричал, что индейцы наступают. Все мы сейчас же врассыпную бросились от воды к деревьям. Многим так и не удалось глотнуть освежающей влаги.
Я все время неподвижно стоял за своим деревом. Рядом, как верный часовой, находился мой черный слуга. Мы условились, что пойдем пить по очереди. Джек настаивал, чтобы я пошел первым. Я уже почти поддался его уговорам, как вдруг противник снова открыл огонь. Мы опасались, что индейцы возобновят атаку, и нам пришлось остаться на месте.
Я стоял, «одним глазком» выглядывая из-за своего ствола, и держал ружье наготове. Я ждал огненной вспышки из винтовки своего противника. Вдруг руку мою подбросило вверх, и я выронил ружье.
Все было ясно: мою руку навылет пробила пуля. Я слишком далеко выставил плечо и был ранен — только и всего.
Первым делом я взглянул на рану. Я ощущал довольно сильную боль, и это позволило мне точно определить место ранения. Я увидел, что пуля прошла через верхнюю часть правой руки, чуть пониже плеча, и дальше скользнула вниз по груди, оставив след на мундире. Из раны широкой струей хлынула кровь. Было еще достаточно светло, и я заметил это. Я начал расстегивать мундир, чтобы перевязать рану. Черный Джек уже был около меня; он разорвал на бинты свою рубашку.
Вдруг он с удивлением воскликнул:
— Что это такое, масса Джордж? Выстрел сделан сзади.
— Сзади? — переспросил я, осматривая рану.
У меня самого мелькнуло такое же предположение: я действительно почувствовал, что болит плечо сзади.
Внимательный осмотр раны и разорванной одежды убедил нас в справедливости нашей догадки. И я невольно воскликнул:
— Это верно, Джек! Значит, индейцы подошли к опушке леса с той стороны поляны. Теперь мы погибли!
Мы оба оглянулись.
И в тот же миг, как будто в подтверждение нашей мысли, вторая пуля, очевидно пущенная с противоположной стороны, с глухим стуком впилась в ствол дерева, за которым мы стояли на коленях. Не оставалось никаких сомнений, откуда она была пущена. Мы видели вспышку и слышали выстрел.
Куда же девались наши товарищи на той стороне? Неужели они оставили свои посты и позволили подойти индейцам? Неужели они, пренебрегая своим долгом, отправились к пруду утолить жажду? Такова была наша первая мысль. Но, всматриваясь в темноту под тенью сосен, мы никого не увидели около пруда. Это нас удивило. Мы громко окликнули товарищей. Ответа не было, его заглушил дикий вой индейцев. И в ту же минуту мы увидели зрелище, от которого кровь застыла у нас в жилах.
Вблизи от расположения индейцев, как раз напротив того места, где стояли мы с Джеком, внезапно, как из-под земли, вырвалось яркое пламя и взметнулось вверх. Оно поднималось рывками все выше и выше, пока не достигло вершин деревьев. Похоже было, что вспыхнуло большое количество пороха, подожженного на земле. Так оно в действительности и оказалось. Индейцы пытались поджечь лес.
Их попытка почти мгновенно увенчалась успехом. Как только язык пламени достигал засохших игл сосен, они вспыхивали, как трут, с быстротой выпущенных ракет.
Пламя разгоралось, ширилось и уже плясало над кронами самых высоких деревьев.
Мы оглянулись — и повсюду наш глаз видел одну и ту же картину. Дикий вой индейцев был сигналом к началу огненной осады. Пламя приближалось к нам со всех сторон. Огонь охватывал деревья, как сухую траву, и длинными языками вздымался к небу. Поляна была охвачена стеной пламени, алого, гигантского, ревущего… Весь лес был в огне!
Нас окружали клубы дыма, с каждой минутой он становился все гуще и гуще. Жара была уже невыносимой, и мы почти задыхались.
Мы смотрели прямо в лицо смерти. Отчаянные крики людей заглушались ревом бушующего огня. Невозможно было расслышать голос даже ближайшего товарища. Но мысли каждого можно было прочитать на лице, ибо, несмотря на дымовую завесу, поляна была озарена ярким светом и мы могли видеть друг друга с какой-то неестественной отчетливостью. На всех лицах, освещенных пожаром, ясно читались ужас и отчаяние. Но я уже ничего не чувствовал. Совершенно обессилев от потери крови, я хотел было отступить от дерева на открытое место, видя, что так сделали другие. Но едва я успел отойти на два шага, как ноги подкосились и я без сознания рухнул на землю.
Глава 87
СУД СРЕДИ ПЛАМЕНИ
Падая, я подумал, что настал мой конец, что через несколько минут меня охватит пламя и я погибну мучительной смертью.
Эта мысль исторгла из моей груди слабый стон, и я потерял сознание. Я не ощущал ничего, словно был уже мертв. Если бы в эту минуту меня охватило пламя, я бы этого даже не ощутил; мог бы сгореть, превратиться в золу, не почувствовав никакой боли.
Я лежал в беспамятстве — ни образы, ни видения не витали передо мной. Мне казалось, что моя душа уже покинула свое земное жилище.
Но мне еще можно было вернуть жизнь. И, к счастью, под рукой нашлось спасительное средство.
Когда я пришел в себя, я прежде всего почувствовал, что лежу по горло в воде, прислонившись головой к берегу. Около меня на коленях, также наполовину погруженный в воду, стоял мой верный Черный Джек. Он щупал мне пульс и с тревогой вглядывался в мое лицо.
Когда же сознание начало возвращаться ко мне и я наконец открыл глаза, он радостно вскрикнул:
— Боже ты мой, масса Джордж, да вы живы! Слава создателю, вы живы! Держитесь бодрее, масса, вы сумеете… ну конечно, вы сумеете справиться с этим делом!
— Надеюсь, Джек, — отвечал я едва слышно.
Но как ни был слаб мой голос, это привело моего верного слугу в несказанный восторг, и он продолжал ликовать, испуская радостные восклицания.
Мне удалось приподнять голову, и я осмотрелся вокруг. Страшная картина представилась моим глазам, а света, чтобы как следует рассмотреть ее, было более чем достаточно.
Пламя, охватившее лес, продолжало бушевать с неистовым ревом; стоял оглушительный грохот, похожий на гром или шум урагана, в который иногда врывались шипящие ноты и резкий треск, напоминавший стрельбу из мушкетов, — как будто стрелял целый взвод. Казалось, что это снова открыли огонь индейцы, но это было невероятно. Они, по-видимому, давно уже отступили перед все расширяющимся кольцом всепожирающего пламени.
Но теперь стало как будто меньше пламени и дыма. Сухая листва и хвоя обратились в золу, а ветки падали на землю и лежали в густом слое тлеющих углей.
Над ними поднимались высокие стволы, лишенные ветвей и охваченные огнем. Хрупкая кора быстро разгоралась, а густая смола пылала ярким пламенем. Многие деревья прогорели почти насквозь и казались огромными железными колоннами, раскаленными докрасна. Это походило на сцену в аду.
Жара стояла нестерпимая. Воздух дрожал от движения раскаленных слоев. Даже волосы на голове у меня оказались опаленными. На коже от ожогов вздулись пузыри. Воздух, который я вдыхал, напоминал пар, вылетающий из клапана паровой машины.
Я инстинктивно оглянулся кругом, ища своих товарищей. Человек двенадцать находились возле пруда, но это были далеко не все. Ведь нас было около пятидесяти… Где же остальные? Неужели они погибли в пламени? Где они?
Машинально я задал этот вопрос Джеку.
— Вон там, — отвечал он, указывая на воду. — Живы, здоровы и, кажется, все целы-целехоньки.
Я взглянул на пруд и увидел десятка три каких-то странных шаров. Это были головы моих товарищей. Как и я, они лежали по горло в воде и этим спасались от нестерпимой жары.
Но другие, там, на берегу, — почему они тоже не воспользовались этой остроумной уловкой? Почему они оставались в этой раскаленной атмосфере, задыхаясь от дыма? Тем временем дым начал рассеиваться, и очертания людских фигур стали яснее. Но они, как в тумане, приняли гигантские размеры, и такими же огромными казались их винтовки.
Казалось, что они о чем-то возбужденно спорили. Среди них я узнал главных участников нашего отряда: Хикмэна, Уэзерфорда и других. Хикмэн и Уэзерфорд — оба яростно жестикулировали, и я не нашел в этом ничего удивительного: несомненно, они обсуждали, как действовать дальше. Так я подумал в первый момент, но, вглядевшись внимательно, я понял, что ошибся.
Это было не обсуждение плана будущих действий. В минуты затишья, между двумя залпами трескавшихся сосен, я мог различить их голоса. И убедился, что у них шел ожесточенный спор. У Хикмэна и Уэзерфорда время от времени вырывались негодующие восклицания.
В это мгновение среди дыма, который внезапно рассеялся, я увидел еще одну группу людей, несколько дальше от пруда. В этой группе было шесть человек, разбившихся на две части, по трое. Среднего крепко держали двое. Очевидно, это были пленные.
Неужели это индейцы? Два врага, которые среди хаоса пламени и дыма помчались невесть куда через поляну и были захвачены в плен?
Так я подумал сначала. Но в этот момент язык пламени, мотнувшийся ввысь до самых вершин деревьев, озарил поляну потоком ослепительного света. Всю группу можно было видеть ясно как днем. Я больше не сомневался в том, кто были эти пленники. Я видел их бледные, искаженные от ужаса лица. Даже багровое пламя не могло придать им алый оттенок. Я сразу узнал этих людей: это были Спенс и Уильямс.
Главa 88
БЫСТРАЯ РАСПРАВА
Я обратился к негру за разъяснениями, но, прежде чем он успел ответить, я уже сам сообразил, в чем дело. Мое собственное состояние подсказывало мне правильный ответ. Я вспомнил, что пуля, ранившая меня, и другая, засевшая в стволе дерева, были выпущены сзади. Я думал, что этим мы обязаны дикарям. Но нет! Худшие злодеи — Спенс и Уильямс — выпустили эти пули!
Ужас охватывал при этой мысли. Что же это за загадка? Тут я вспомнил события предыдущей ночи: поведение этих двух молодцов в лесу, подозрительные намеки старого Хикмэна и его товарища; и другие, более давние события, врезавшиеся в память, ясно встали передо мной.
Опять здесь приложил руку Аренс Ринггольд! Боже ты мой, подумать только, что это архичудовище…
— Они допрашивают двух негодяев, — сказал Джек. — Вот и все!
— Кого? — спросил я машинально, хотя уже знал, о ком шла речь.
— Масса Джордж, разве вы не видите их? Черт побери! Они белые, как облупленная гнилушка. Это ведь Спенс и Уильямс. Это они стреляли в вас, а вовсе не индейцы. Я сразу догадался и сказал масса Хикмэну. А масса Хикмэн сказал, что он и сам это видел. И масса Уэзерфорд тоже видел. Они видели, как те стреляли. Теперь они допрашивают их перед казнью — вот что они делают!
С каким-то странным интересом я снова взглянул на эту группу.
Огонь шумел уже не так сильно, смола почти вся сгорела, и легкие взрывы слышались гораздо реже. Голоса ясно доносились ко мне с поляны. Я внимательно вслушивался в импровизированный судебный процесс. Там возник спор: судьи не пришли к единогласному решению. Одни требовали немедленной казни, другие возражали против такой быстрой расправы. Они считали, что для дальнейшего расследования пока нужно сохранить преступникам жизнь.
Некоторые даже отказались верить в такое неслыханное преступление: уж слишком чудовищным и неправдоподобным оно казалось. Какие мотивы руководили ими? Как обвиняемые могли решиться на подобное злодеяние, когда их собственная жизнь была в непосредственной опасности?
— Ничуть не в опасности! — воскликнул Хикмэн, отвечая на вопросы товарищей. — Да они за весь день не выпустили ни одного заряда! Говорю вам, что между ними и индейцами заключено соглашение. Они были шпионами. Их вчерашние предательские выстрелы — лучшее доказательство этому. Это все чушь, обман, будто они заблудились! Это они-то заблудились? Да они знают этот лес лучше, чем любой зверь. Они здесь побывали сотни раз, даже слишком часто. Фу-ты, черт! Разве вы когда-нибудь слышали о заблудившемся еноте?
Кто-то стал возражать ему. Я не слышал слов, но голос охотника снова зазвучал ясно и отчетливо:
— Вы тут болтаете об их «мотивах». Я полагаю, вы имеете в виду причины, которые толкнули их на такое кровавое дело. Ладно, я и сам не совсем их понимаю, но кое-что подозреваю. За последние пять лет я много слыхал о темных делишках этих молодчиков. Но говорю вам, ребята, что последний поступок превзошел все, что можно было бы себе представить.
— Уверены ли вы, что действительно видели вспышку огня в этом направлении?
Этот вопрос был задан высоким пожилым человеком сурового и благообразного вида. Я узнал в нем одного из наших соседей, богатого плантатора и хорошего знакомого моего дяди. Как друг нашей семьи он счел необходимым присоединиться к нашему походу.
— Конечно, — ответил Хикмэн. — Разве мы с Джимом не видели всего этого собственными глазами? Мы за этими гадами наблюдали весь день. Мы уверены были, что они замышляют какую-нибудь пакость. Мы видели, как они стреляли через поляну и целились в молодого Рэндольфа. Да и негр видел это. Каких еще доказательств вам нужно?
В эту минуту над моим ухом раздался голос Джека.
— Масса Хикмэн, — закричал он, — если нужно еще доказательство, так негр может его дать! Одна из пуль пролетела мимо массы Джорджа и попала в дерево, в шелковицу, за которой мы стояли. Оно еще не сгорело. Джентльмены, я думаю, что вы найдете пулю. Тогда можно будет узнать, к какому ружью она подойдет.
Это предложение было немедленно принято. Несколько человек кинулись к дереву, около которого мы стояли с Джеком. Оно почему-то не загорелось, его обугленный, черный ствол все еще высился в самом центре пожарища. Джек побежал и указал точное место. Обследовали кору, нашли отверстие от пули, и свинцовый свидетель был осторожно извлечен. Пуля еще сохранила свою круглую форму и лишь слегка была поцарапана нарезками в дуле. Эта пуля годилась только для винтовки большого калибра. Все знали, что такое ружье было у Спенса. Принесли ружья всего отряда и стали поочередно примерять пулю. Она не входила ни в какую другую винтовку, кроме винтовки Спенса.
Вина была доказана. Приговор вынесли незамедлительно: все единодушно решили, что преступники должны умереть.
— Собаке — собачья смерть! — сурово произнес Хикмэн, негодующе возвысив голос и поднимая ружье. — Джим Уэзерфорд, бери их на прицел!.. А вы, ребята, отойдите прочь. Мы дадим им еще один шанс сохранить их проклятую жизнь. Пусть, если хотят, бегут к тем деревьям, а то очутятся в еще более жарком месте… Да отпустите же их, отпустите, говорю я вам, или, черт вас всех раздери, я буду стрелять в самую середину толпы!
Видя угрожающую позу охотника и боясь, что он и вправду начнет стрелять, те, кто держал преступников, бросили их и подбежали к судьям.
Негодяи, по-видимому, были совершенно ошеломлены. Ужас отражался на их лицах, они не могли произнести ни слова, не могли сделать ни шагу, они как будто были прикованы к месту. Ни один из них не сделал попытки бежать. Вероятно, абсолютная невозможность такой попытки была очевидна им самим и убивала в них всякую волю к действию. Они не могли спастись бегством с поляны. Предложение удрать в чащу леса было только язвительной насмешкой со стороны рассвирепевшего охотника. Бежать было некуда: в десять секунд они изжарились бы среди пылающих стволов и ветвей.
На минуту все затаили дыхание. В тишине был слышен только один голос — голос Хикмэна:
— Джим, Спенса поручаю тебе, а другого беру на себя.
Эти слова были сказаны почти шепотом. Едва охотник произнес их, как одновременно прогремели два выстрела.
Когда дым рассеялся, перед взорами всех предстала картина расстрела. Казнь была совершена. Презренные изменники прекратили свое земное существование.
Глава 89
НЕОЖИДАННЫЙ ВРАГ
Как в театре после волнующей мелодрамы иногда ставится водевиль, так и за этой трагической сценой последовала сцена в высшей степени нелепая и комическая. Она вызвала у всех нас смех, который при данных обстоятельствах скорее всего походил на смех сумасшедших. Действительно, нас можно было принять за маньяков, которые предавались бурному веселью, хотя будущее наше было мрачным и угрюмым — нас ожидала почти верная смерть от руки дикарей или от голода.
Индейцев в этот момент мы, пожалуй, не боялись. Пламя, которое выгнало нас из леса, заставило и их покинуть свои позиции, и мы знали, что теперь они далеко. Опаленные ветки свалились с сосен, хвоя совершенно сгорела, и лес просматривался на огромном расстоянии. Через просветы между алыми тлеющими стволами открывалась перспектива чуть ли не на тысячу ярдов вперед. По шипенью пламени и непрерывному треску ветвей мы могли догадаться, что уже и другие деревья были охвачены пламенем.
Этот треск все отдалялся от нас и напоминал слабые раскаты отдаленного грома. Сначала можно было подумать, что пожар прекращается. Но багровый отблеск над лесом, наоборот, свидетельствовал о том, что пламя продолжает распространяться. Шум и треск слышались слабее потому, что доносились к нам издали. Наши враги, вероятно, ушли еще дальше, за пределы зоны пожара. Они скрылись из леса, как только подожгли его, и теперь, должно быть, ожидали в саванне результатов своей деятельности.
С какой целью они подожгли лес — нам было не совсем ясно. Может быть, они надеялись, что пламя охватит весь лес и мы сгорим заживо или задохнемся в дыму. Так оно и случилось бы, если бы поблизости не оказался пруд. Мои товарищи говорили, что дым причинил им страшные мучения. Они задохнулись бы, если бы не бросились в пруд и не высунули головы из воды, уровень которой был на несколько футов ниже уровня земли. Это произошло, когда я лежал без сознания. Мой верный негр притащил меня из леса и опустил в воду, где были все наши товарищи. Он думал, что я уже умер.
Позднее, когда дым немного рассеялся, начался суд над изменниками. Беспощадный приговор был приведен в исполнение, и бывшие судьи снова кинулись в воду, чтобы спастись от невыносимой жары.
Только двое, казалось, не чувствовали жары и остались на берегу. Это были Хикмэн и Уэзерфорд.
Я увидел, как они с ножами в руках нагнулись над каким-то темным предметом. Это была лошадь, которую утром пристрелил Хикмэн. Теперь я понял, почему он ее убил: он еще раз доказал свою инстинктивную предусмотрительность, которая была его отличительной чертой.
Охотники сняли с лошади кожу и вырезали несколько кусков мяса. Затем Уэзерфорд пошел к горящим деревьям, быстро собрал несколько пылающих головней, притащил их к пруду и развел костер. Хикмэн и Уэзерфорд, усевшись на корточках, начали жарить куски конины на вертелах, сделанных из сучьев молодых деревьев. При этом они беседовали так весело и хладнокровно, как будто сидели у камелька в своих собственных хижинах.
Прочие голодающие немедленно последовали примеру охотников. Муки голода одолели страх перед бушующим пламенем. Через несколько минут десятки людей, как коршуны, набросились на убитую лошадь, рубя и кромсая на куски ее тушу.
Здесь-то и произошел комический эпизод, о котором я упомянул выше. Все мы оставались в пруду, кроме тех, кто был занят варварской стряпней. Мы лежали рядом в воде у берега круглого водоема и никак не думали, что кто-нибудь может нас теперь потревожить. Мы больше не боялись огня, а индейцы были от нас далеко.
Вдруг возле нас появился новый враг. Из самой середины пруда, где было глубже всего, поднялась какая-то чудовищная масса. В тот же момент до нашего слуха донесся громкий рев, как будто на поляну выпустили целое стадо буйволов. Вода мгновенно взволновалась, вспенилась, и целый фонтан брызг обрушился нам на голову.
Хотя это появление было внезапным и фантастическим, в нем все-таки не было ничего таинственного. Огромное, отвратительное туловище, идущий из самой утробы рев, похожий на мычанье быка, — все это было нам хорошо знакомо. Это был всего-навсего аллигатор.
Вероятно, мы не обратили бы на него особенного внимания, если бы он не отличался огромными размерами. Его длина почти равнялась диаметру пруда, а в разинутой пасти виднелись страшные зубы. Он мог проглотить любого из нас одним глотком. Его рев внушал ужас даже самым смелым.
Сначала зверь буквально ошеломил нас. Испуганные взоры тех, кто укрылся от пламени в воде, суматоха, растерянность, неуклюжие попытки выбраться из воды, паника на берегу, где каждый сломя голову бросился бежать куда попало, — это было поистине смешное зрелище.
Не прошло и десяти секунд, как огромный аллигатор стал полным властителем пруда. Он продолжал реветь, колотя по воде хвостом и как бы торжествуя при виде нашего отступления.
Однако торжествовать ему пришлось недолго. Охотники взялись за винтовки, и десяток пуль сразу прикончил страшного зверя. Те, кто был на берегу, уже давились от смеха, глядя на испуганных беглецов. И сами беглецы, оправившись от страха, вместе с остальными хохотали на весь лес. Если бы индейцы услышали нас в этот момент, они вообразили бы, что мы сошли с ума или, что еще более вероятно, мы уже погибли, а наши голоса — это голоса их умерших друзей, которые во главе с великим духом Уикомэ ликуют при виде страшной картины человеческих жертв, обреченных на сожжение.
Глава 90
СТОЛКНОВЕНИЕ В ТЕМНОТЕ
Лес продолжал гореть всю ночь, весь следующий день и еще одну ночь. Даже на третий день многие деревья все еще горели. Только теперь они уже не пылали — так как стояла тихая погода и пламя не взвивалось бурными языками, — а тихо тлели. Во многих деревьях огонь тлел где-то внутри, постепенно угасая. Кое-где огонь совсем погас; обугленные стволы уже ничем не напоминали деревья, которые торчали, как высокие остроконечные пики, черные, обожженные, словно обильно смазанные дегтем. Хотя часть леса и выгорела, выбраться из него пока что было довольно трудно. Мы все еще находились в осаде. Огненная стихия, окружавшая поляну, замыкала нас в узкие границы этого пространства, словно враждебная армия, в двадцать раз превышавшая нас числом. Ни о каких подкреплениях не могло быть и речи. Даже враги не могли снять с нас эту осаду.
Дальновидность старого охотника оказала нам большую услугу. Если б у нас не было лошади, мы страшно страдали бы от голода. Четыре дня мы питались только семенами сосновых шишек. Конина пришлась очень кстати. Но мы все еще были замкнуты в огненном кольце. У нас был только один выход: оставаться на месте до тех пор, «пока лес не остынет», как выразился Хикмэн.
Мы надеялись, что через день уже сможем безопасно пройти по остывшему пеплу между обуглившимися стволами. Но от этого наше будущее не становилось менее мрачным. Если страх перед огнем уменьшался, то соответственно возрастал страх перед жестоким врагом.
Вряд ли мы сможем выбраться из леса, не повстречавшись с индейцами. Они, конечно, так же как и мы, ожидали той минуты, когда можно будет войти в лес. Избежать вооруженного столкновения было невозможно. Мы должны были прорваться через вражеский строй!
Но теперь все мы ожесточились и стали храбрее. Самые робкие вдруг преисполнились отваги, и ни один не подал голоса за то, чтобы скрыться или отступить назад. На жизнь или на смерть, но мы решили идти все вместе, прорваться через неприятельскую цепь и победить или умереть. Это был наш старый план, с весьма незначительными изменениями.
Мы ждали только ночи, чтобы привести его в исполнение. Вряд ли можно было надеяться на то, что лес уже совершенно остынет, но голод снова начинал напоминать о себе. Лошадь мы уже съели — ведь она была не бог весть какая большая. Нелегко ублаготворить пятьдесят голодных желудков. От лошади остались только кости, обглоданные дочиста, а те, в которых нашелся костный мозг, были разломаны на куски и высосаны до последней капли. Даже от омерзительного пресмыкающегося остался только один скелет.
Ужасное зрелище представляли собой тела двух казненных преступников. От жары они раздулись до огромных размеров. Началось разложение. Воздух был насыщен отвратительными миазмами…
Тела наших павших в бою товарищей были преданы земле. Говорили, что то же самое следовало бы сделать и с казненными. Никто не возражал против этого, но и никто не хотел рыть им могилу. В таких случаях людей обычно охватывает непреодолимая апатия: главным образом поэтому тела двух изменников так и остались непохороненными.
Не сводя взоров с запада, мы с нетерпением ожидали захода солнца. Пока огненный шар еще плыл по небу, мы могли только гадать о размерах пожара. Но мы надеялись, что ночью сумеем определить точнее, какая часть леса горит и куда нам надлежит двигаться: само пламя поможет нам спастись от пожара.
Когда наступили сумерки, нетерпение наше достигло предела, и вместе с тем воскресла надежда. Потрескиванье сухих, обугленных стволов почти прекратилось, и дым еле заметно поднимался вверх. Мы надеялись, что пожар заканчивается и наступает время, когда мы сможем пересечь опасную зону.
Скоро еще одно неожиданное обстоятельство превратило нашу надежду почти в уверенность. Пока мы ждали, начал накрапывать дождь. Сначала с неба падали отдельные крупные капли, но через несколько минут пошел такой ливень, как будто разверзлись все хляби небесные. Мы радостно приветствовали этот ливень: он был для нас добрым предзнаменованием. Нам едва удалось удержать нетерпеливых юнцов, которые сразу хотели броситься в лес. Но благоразумие победило, и в непроницаемой тьме мы продолжали ждать.
По-прежнему шел проливной дождь, и тучи, окутавшие небо, как бы ускоряли наступление ночи. Когда совершенно стемнело, ни одна искра света не мерцала между деревьями.
— Уже достаточно темно, — настаивали самые нетерпеливые.
Наконец мы все двинулись вперед, в черное пространство уничтоженного пожаром леса. Мы шли в полном молчании, держа ружья наготове. В одной руке я нес ружье, а другую держал на перевязи.
Не я один был так искалечен — многие из моих товарищей оказались раненными в руку. Впереди шли самые сильные. Возглавляли отряд два охотника, а раненые плелись сзади.
Дождь не переставал лить, и мы промокли до костей. Над нами уже не было листвы и хвои, чтобы защитить нас от дождя. Когда мы проходили под обгорелыми ветвями, на нас сверху сыпался черный пепел, но потоки воды сейчас же смывали его с наших лиц. Большинство из нас шли с обнаженной головой. Сняв фуражки, мы укрыли ими затворы винтовок, чтобы сохранить их сухими. Некоторые завернули пороховую затравку в подкладку своих курток.
Так мы прошли около полумили. Мы и сами не знали, куда идем. В таком лесу никакой проводник не смог бы отыскать дорогу. Мы только старались идти прямо и не попасть в лапы к противнику.
До сих пор нам сопутствовало счастье, и мы уже начинали надеяться, что все обойдется благополучно. Но, увы, это была недолгая радость. Мы недооценивали силу и хитрость наших врагов — индейцев.
Как выяснилось впоследствии, они все время наблюдали за нами, следили за каждым нашим шагом и шли по обе стороны от нас двумя параллельными рядами. Нам казалось, что мы в полной безопасности от индейцев, а на самом деле мы находились между ними.
Вдруг сквозь потоки ливня блеснул огонь из сотен винтовок и кругом засвистели пули… Это были первые признаки близости врага.
Несколько человек из нашего отряда были убиты на месте, другие начали отстреливаться, кое-кто пытался спасти свою жизнь бегством.
Индейцы с громкими криками окружили нас со всех сторон. В темноте казалось, что их больше, чем деревьев в лесу. Слышались только редкие выстрелы из пистолетов. Никто уже больше не заряжал винтовок. Неприятель окружил нас, прежде чем мы успели вложить заряд. Теперь решить битву должны были ножи и томагавки.
Это была короткая, но кровопролитная схватка. Немало наших храбрецов нашли здесь свою смерть. Но каждый из них, прежде чем пал, уложил хотя бы одного врага, а многие — даже двоих или троих.
Вскоре нас разгромили. Да иначе и быть не могло при пятикратном превосходстве врагов. Все они были крепкие и свежие, а мы — измучены и истощены голодом. К тому же многие из нас были ранены. Какого же иного исхода можно было ожидать?
Я почти ничего не смог рассмотреть в этой схватке. Да и вряд ли кто-нибудь видел больше меня: борьба шла чуть ли не в полной темноте.
Я мог действовать только левой рукой и был почти беспомощен. Я наугад выстрелил из винтовки, и мне удалось вытащить пистолет. Но в этот момент удар томагавка заставил меня выронить оружие из рук, и я, потеряв сознание, упал на землю.
Удар только ошеломил меня. Когда я пришел в себя, я убедился, что бой кончен. Несмотря на мрак, я разглядел рядом с собой какие-то темные груды — это были тела убитых.
Здесь лежали и мои друзья и мои враги. Многие из них крепко обхватили друг друга в последнем объятии. Индейцы нагибались над ними и разнимали их. Над белыми они совершали свой отвратительный ритуал мести — снимали с них скальпы.
Невдалеке от меня стояла группа людей. Человек, находившийся в центре, был, по-видимому, начальником. В темноте я разглядел три колеблющихся страусовых пера у него на голове. Опять Оцеола!
Я не мог распоряжаться собой, а то сразу кинулся бы на него, даже сознавая всю бессмысленность этой попытки. Два дикаря стояли около меня на коленях и держали, чтобы я не убежал.
Неподалеку я увидел своего верного негра, еще живого и тоже в руках двух индейцев. Почему же они не убили нас?
От группы, столпившейся вокруг предводителя, отделился человек и подошел ко мне. Оказалось, что это не вождь со страусовыми перьями, а его посланец. В руке он держал пистолет. Я понял, что наступил мой последний час.
Он нагнулся и поднес пистолет к моему уху. Но, к моему удивлению, человек выстрелил в воздух.
Я решил, что он промахнулся и сейчас же снова выстрелит. Но я ошибся: очевидно, ему необходим был свет.
При вспышке выстрела я взглянул ему в лицо. Это был индеец. Мне показалось, что я где-то раньше видел его. Очевидно, и индеец знал меня.
Он быстро отошел и приблизился к месту, где лежал пленный Джек. У пистолета, должно быть, было два дула. Я слышал, как индеец снова выстрелил, склонившись над распростертым телом негра.
Затем индеец поднялся и крикнул:
— Это они! И оба живы!
По-видимому, эта весть предназначалась для вождя в уборе из черных перьев. Услышав слова индейца, вождь что-то воскликнул — я не понял, что именно, — и отошел в сторону.
Его голос произвел на меня странное впечатление, он показался мне не похожим на голос Оцеолы. Мы недолго оставались на этом месте. Привели лошадей, нас с Джеком подняли и крепко привязали к седлам. Затем был дан сигнал к отправлению, и мы тронулись в путь через лес. По обеим сторонам, охраняя нас, ехали всадники-индейцы.
Глава 91
ТРИ ЧЕРНЫХ ПЕРА
Мы ехали всю ночь. Сожженный лес остался далеко позади. Мы пересекли саванну и вступили в другой лес — из гигантских дубов, пальм и магнолий. Я узнал это по запаху цветов магнолии. Их тонкий и освежающий аромат было приятно вдыхать после отравленной атмосферы, которой мы дышали до сих пор.
На рассвете мы выехали на поляну, где наши противники сделали привал.
Это была небольшая поляна, всего несколько акров в длину и ширину, окруженная со всех сторон тесными рядами пальм, магнолий и дубов. Их листва склонялась почти до земли, так что поляна казалась огражденной огромной и непроницаемой зеленой стеной.
При тусклом свете утра мне удалось рассмотреть лагерь индейцев. Тут были разбиты две или три палатки, рядом с ними привязаны лошади; вокруг стояли и лежали в траве несколько человек, тесно прижавшись друг к другу — очевидно, для того, чтобы согреться. Посреди поляны пылал большой костер. Вокруг него также толпились мужчины и женщины.
Нас приволокли на край лагеря. Времени для наблюдений у нас было немного, так как сразу же после прибытия нас грубо стащили с лошадей и швырнули в траву. Затем нас, связанных по рукам и ногам, растянули на спине, как две шкуры, разостланные для просушки, и крепко привязали к колышкам, вбитым в землю.
В таком положении мы, разумеется, уже не могли видеть ни лагеря, ни деревьев, ни даже земли. Мы только видели над собой голубое небо.
При любых обстоятельствах такое положение было бы мучительно. Раненая рука делала его просто невыносимым. Вокруг нас собралось почти все население лагеря. Мужчины еще раньше вышли встречать нас, а теперь женщины столпились вокруг наших распростертых тел. Среди них попадались индейские скво, но, к моему удивлению, большинство женщин были родом из Африки — мулатки, самбо и негритянки.
Они теснились вокруг нас, дразнили нас и издевались над нами. Некоторые даже мучили нас: плевали нам в лицо, вырывали волосы и втыкали в тело шипы. При этом они все время вопили в каком-то дьявольском восторге и болтали на непонятном жаргоне, который показался мне смесью испанского и языка ямасси. С Джеком обращались не лучше, чем со мной. Одинаковый цвет кожи не вызывал никакого сочувствия у этих дьяволиц в юбках: и черный и белый равно были жертвами их адской ярости.
Часть слов их жаргона мне удалось разобрать. Благодаря знакомству с испанским языком я наконец уразумел, что они собирались делать с нами.
То, что я узнал, было довольно безотрадно: нас привезли в лагерь, чтобы подвергнуть пытке. По-видимому, те мучения, которые мы перенесли до сих пор, казались им недостаточными и впереди нас ждали еще большие. Нашу казнь собирались превратить в зрелище для свирепой толпы, и эти ведьмы ликовали, предвкушая наслаждение, которое им должны были доставить наши страдания. Поэтому нас не убили тут же на месте, а взяли в плен.
В чьи же страшные лапы мы попали? Неужели это были человеческие существа? Неужели это были индейцы? Неужели это были семинолы, до сих пор никогда не пытавшие своих пленников?
Как бы в ответ на мой вопрос вокруг нас раздались дикие крики. Все голоса слились в один клич, в одни и те же слова:
— Мулатто-мико! Мулатто-мико! Да здравствует Мулатто-мико!
Топот копыт возвестил о прибытии конного отряда. Это были те, кто участвовал в бою, кто одолел нас и взял в плен. В ночном походе с нами находилось только несколько воинов охраны, и они доставили нас в лагерь. Вновь прибывшие оказались воинами главного отряда войск, которые оставались на поле битвы, чтобы завершить сбор трофеев и ограбление павших врагов.
Я не мог видеть их, хотя они были совсем близко; я слышал только топот их лошадей. Я лежал и слушал эти многозначительные слова:
— Мулатто-мико! Да здравствует Мулатто-мико!
Мне было хорошо известно прозвище «Мулатто-мико», и я внимал этим крикам с ужасом и отвращением. Мои опасения достигли теперь высшего предела. Меня ждала ужасная судьба. Если бы рядом со мной очутился сейчас сам дьявол, вряд ли эта мысль могла бы быть более утешительной. Мой товарищ по плену разделял все мои опасения. Мы лежали рядом и могли переговариваться между собой. Сравнив наши предположения, мы обнаружили, что они полностью совпадают.
Вскоре у нас уже не оставалось никаких сомнений. Над нашими ушами прозвучало приказание, отданное грубым голосом. Оно заставило женщин разбежаться в разные стороны. Сзади раздались тяжелые шаги, и прямо передо мной остановился человек. В следующее мгновение его тень упала на мое лицо. Я увидел, что передо мною стоит сам Желтый Джек!
Несмотря на краску, скрывавшую естественный цвет его лица, несмотря на вышитую бисером рубашку, пояс и узорчатые штаны, несмотря на три черных пера, качавшихся над его головой, я сразу узнал мулата.
Глава 92
ЗАКОПАНЫ И СОЖЖЕНЫ
Мы оба уже были готовы к встрече с ним. Общий крик «Мулатто-мико» и затем голос, который мы услыхали, предупредили нас об этой встрече. Мне казалось, что при одном взгляде на него я содрогнусь от ужаса. Но, как ни странно, произошло обратное. Я вовсе не испугался, а, напротив, почувствовал нечто похожее на радость при виде этих трех черных перьев над его хмурым лицом.
Я не слыхал его злобных насмешек, не замечал его гневных взглядов. Я не спускал глаз со страусовых перьев. Они были путеводной звездой всех моих мыслей. То, что они находились на уборе короля-мулата, разъясняло многие тайны. Ложные подозрения были вырваны из моей груди. Спаситель и герой, которым я восхищался, не был изменником. Оцеола не был изменником! Думая об этом, я почти забыл об угрожавшей мне опасности. Но голос мулата снова вернул меня в реальный мир.
— Черт вас возьми! — закричал он, и в его голосе послышалось злобное торжество. — Наконец-то я отомщу! И обоим сразу, черному и белому, господину и рабу, моему мучителю и моему сопернику! Ха-ха-ха! Они привязали меня к дереву, — продолжал он с хриплым смехом, — и хотели сжечь, сжечь живьем! Но теперь настала ваша очередь! Деревьев здесь хватит. Но нет, у меня другой план. Черт побери, да! Гораздо лучший план. От костра пленники иногда убегают. Ха-ха-ха! Нет, прежде чем сжечь вас, мы вам кое-что покажем… Эй, вы, — обратился он к своим людям, — развяжите им руки, поднимите их обоих и посадите лицом к палаткам… Достаточно, достаточно, так, хорошо… Ну, белый мерзавец и черный мерзавец, смотрите! Что вы там видите?
По его приказанию несколько человек вынули из земли колышки, отвязали наши руки, приподняли нас и посадили лицом к лагерю.
Уже совсем рассвело, и солнце ярко светило. Мы ясно видели лагерь, палатки, лошадей и пеструю толпу людей.
Но мы смотрели не туда. Только две фигуры приковали все наше внимание: это были моя сестра и Виола. Они опять застыли в той же позе, как и тогда, когда я увидел их первый раз ночью. Виола сидела с опущенной головой, а Виргиния положила ей голову на колени.
Волосы у обеих были распущены, и черные косы сплетались с золотыми локонами. Вокруг стояла охрана. Девушки, по-видимому, не замечали, что мы здесь.
Вскоре предводитель послал одного из своих слуг, чтобы сообщить пленницам о нас. Мы видели, как они вздрогнули, когда посланный подошел к ним. Глаза их обратились в нашу сторону. Раздался пронзительный крик: они нас узнали.
Обе девушки закричали вместе. Сестра назвала меня по имени. Я ей ответил. Она вскочила, отчаянно всплеснула руками и пыталась броситься ко мне. Но стражи схватили ее и грубо оттащили в сторону. О, это было страшное зрелище! Мне легче было бы, вероятно, умереть!
Дальше нам смотреть не дали. Нас снова опрокинули на спину и привязали к колышкам. Мулат стоял над нами, осыпая нас презрительными прозвищами. Но, что еще хуже, он позволял себе мерзкие намеки на сестру и Виолу. О, как ужасно было мне выслушивать все это! Если бы нам в уши влили расплавленный свинец, мы, вероятно, не испытывали бы таких мучений.
Для нас было почти облегчением, когда он замолчал. Начались приготовления к казни. Нам была уготована какая-то ужасная смерть, но какая именно, мы еще не знали.
Мы недолго оставались в неведении. Туда, где мы лежали, подошли несколько человек с лопатами и кирками в руках. Это были негры — старые работники с плантаций; они знали, как обращаться с этими орудиями. Негры остановились около нас и начали копать яму. О, боже, неужели нас закопают живыми? Эта мысль первой мелькнула у нас. Она была ужасна, но оказалась ложной. Чудовище готовило нам еще более страшную смерть.
Молча, с серьезным и торжественным видом могильщиков негры продолжали работать. Мулат стоял рядом и давал указания. Он был полон неудержимого веселья, то издеваясь над нами, то хвастаясь тем, какое искусство он проявит, выступив в роли палача. Женщины и воины, собравшиеся кругом, смеялись над его остротами и сами иногда пытались внести свой вклад в это зловещее остроумие, после чего раздавались взрывы демонического смеха. Мы легко могли представить себе, что находимся в аду, среди гримасничающих дьяволов, которые каждую минуту наклонялись над вами и ухмылялись нам прямо в лицо, как будто находили особое удовольствие в наших мучениях.
Мы заметили, что между ними мало семинолов. Здесь были индейцы с почти черным цветом кожи. Они принадлежали к племени ямасси, некогда покоренному семинолами и растворившемуся среди них. Большинство присутствующих были негры, самбо, мулаты — потомки испанских маронов[125], а также беглые с американских плантаций. Последних было, видимо, очень много, потому что теперь то и дело слышалась английская речь. Несомненно, в этой пестрой толпе были и наши рабы, но они не подходили близко, а я видел только лица тех, кто нагибался ко мне.
Менее чем в полчаса работа могильщиков была окончена. В землю вбили специальные столбы для сожжения на костре, и нас потащили к месту, где они были установлены.
Как только я сумел повернуться, я взглянул туда, где раньше видел сестру и Виолу, но их уже не было. Их увели в палатку или в кусты. Девушек пощадили — им не придется увидеть ужасное зрелище, хотя трудно было предполагать, что злодей удалил их отсюда именно по этой причине.
Перед нами зияли две черные, глубокие ямы. Но это были не могилы. А если это и могилы, то, очевидно, нас собирались похоронить в вертикальном положении. Если необычайной и странной была форма могил, то такой же была и цель, с которой их вырыли. Вскоре все стало ясно.
Нас подвели к краю могилы, схватили за плечи и опустили в землю. Ямы оказались нам как раз по горло. Негры быстро забросали ямы землей и притоптали ее. Теперь на поверхности оставались одни наши головы.
Положение было действительно нелепое. Мы сами могли бы рассмеяться, если бы не знали, что находимся в своих могилах.
Толпа дьяволов с интересом наблюдала за нами, разражаясь по временам взрывами дикого хохота.
Что же дальше? Пришел ли конец нашим пыткам и нас оставят умирать здесь ужасной, медленной смертью? Голод и жажда вскоре прикончат нас. Но, боже мой, сколько часов будут продолжаться эти страдания? Сколько дней страшных мучений нам суждено еще пережить, прежде чем последняя искра жизни угаснет в нас, — дней ужаса и отчаяния? Но нет, врагам еще и этого было мало.
Такая смерть, какой мы ожидали, казалась еще слишком легкой. Ненависть злодея, который придумал эти пытки, далеко не иссякла — у него были еще для нас в запасе иные, более страшные мучения.
— Отлично! — кричал мулат, восторгаясь собственной изобретательностью. — Это лучше, чем привязывать их к дереву. Великолепная мысль, а? Отсюда они не убегут, черт их побери! Давайте сюда огня!
Огня! Значит, нас еще будут пытать огнем! Мы услышали ужасное, леденящее душу слово. Нам суждено умереть в пламени!
Теперь наш ужас достиг крайних пределов. Что еще могло быть страшнее, когда принесли вязанки хвороста и, как кольцом, окружили ими наши головы, когда принесли факелы и подожгли хворост, когда пламя стало разгораться все ярче и ярче и нестерпимый жар охватил наши головы… Вскоре нашим черепам суждено будет сгореть дотла и превратиться в головешки, как эти разгоревшиеся ветки.
Нет, больше страдать мы уж были не в силах! Мера наших мучений переполнилась, и мы жаждали смерти, которая должна была положить конец нашим мукам. Эти муки усиливались от криков, которые доносились с противоположной стороны лагеря. Даже в этот страшный час мы узнали голоса Виргинии и Виолы. Безжалостное чудовище велело привести их сюда, чтобы они были свидетельницами нашей казни. Мы не видели их, но их дикие и жалобные вопли говорили о том, что ужасная картина предстала перед их глазами.
Все жарче и жарче разгорался огонь, все ближе и ближе подбирались и уже лизали нас языки пламени. Волосы на моей голове начали скручиваться и обгорать.
Все предметы поплыли у меня перед глазами, деревья заколебались и зашатались, весь земной шар закружился с бешеной скоростью.
От страшной боли мой череп, казалось, был готов лопнуть. Мозг как бы ссыхался… Я был почти без сознания…
Глава 93
ДЕМОНЫ ИЛИ АНГЕЛЫ
Неужели я уже умер и терплю муки, уготованные мне в ином мире? Неужели это дьяволы зловеще ухмыляются и лопочут вокруг меня?
Но что это? Они вдруг рассыпались и отступили. Кто-то подошел к нам и отдает им приказания. Неужели это Плутон?[126] Нет, это женщина. Женщина — здесь! Прозерпина?[127] Если это женщина, она сжалится надо мной.
Напрасная надежда — в аду нет милосердия! О, мой мозг! Какой ужас!
Это две женщины, и взгляды их не враждебны. Это ангелы. Быть может, ангелы милосердия? Да, это они. Вот один из них подходит к огню и поспешно разбрасывает горящий хворост. Кто же она, эта женщина?
Если бы я был жив, я назвал бы ее Хадж-Евой. Но теперь, когда я уже умер, это, должно быть, ее дух.
Рядом с ней еще одна женщина — моложе и красивее. Если существуют ангелы, это самый прекрасный ангел на небесах. Неужели это дух Маюми?
Как попала она в этот ужасный вертеп к дьяволам? Это не место для нее. Она не совершила преступлений, за которые ее могли бы сюда низвергнуть.
Где я? Не сон ли это? Только что я был весь в огне, теперь пылает только мой мозг. Мое тело овеяла прохлада. Где я?
Кто ты, склонившаяся надо мной и дарующая мне прохладу? Неужели это ты, Хадж-Ева, безумная королева? Чьи это нежные пальцы касаются моих висков? О, какое блаженство приносит мне их легкое прикосновение!.. Нагнись, чтобы я мог взглянуть в твое лицо и поблагодарить тебя… Маюми! Маюми!
Я не умер. Я жив. И я спасен. Сама Хадж-Ева, а не дух ее, лила на меня прохладную воду. Сама Маюми смотрела на меня своими прелестными, блестящими глазами. Неудивительно, что я принял этих женщин за ангелов.
— Проклятие! — раздался хриплый от бешенства голос. — Уведите прочь этих женщин! Разожгите снова костер!.. Сумасшедшая королева, прочь отсюда! Ступай к своему племени. Это мои пленники! Твой вождь не имеет права… К черту! Нечего тебе мешаться в мои дела!.. Разожгите костер!
— Ямасси! — воскликнула Хадж-Ева, обращаясь к индейцам. — Не слушайте его! А не то страшитесь мести Уикомэ! Его дух разгневается и покарает вас. Куда бы вы ни пошли, читта-мико будет всюду преследовать вас! Шум его хвоста будет вечно звучать у вас в ушах! Он будет кусать вас за пятки, когда вы будете в лесу… Скажи, король змей, правду ли я говорю?
Говоря это, Хадж-Ева взяла гремучую змею в руки и держала так, что все могли ее видеть. Змея зашипела и зашумела хвостом, издавая резкий звук: «скирр».
Кто мог сомневаться в том, что это был утвердительный ответ? Кто хотите, только не ямасси. Скованные ужасом, они застыли под взглядом могущественной колдуньи.
— А вы, черные беглецы и изменники, у которых нет бога и которые не боятся Уикомэ, только посмейте снова разжечь костер!.. Посмейте только подбросить в огонь хоть одну хворостинку, и вы сами очутитесь на месте пленников! Сейчас здесь появится тот, кто сильнее вашего желтого чудовища, — ваш вождь!.. Вот он, Восходящее Солнце! Он идет! Он уже близко!
Она умолкла, и в ту же минуту из леса донесся лошадиный топот. Сотни голосов слились в одном крике:
— Оцеола! Оцеола!
Этот возглас был целительным бальзамом для моего слуха. Почти спасенный, я снова начал бояться, что это окажется только короткой отсрочкой казни. Наше избавление от смерти было еще далеко не решенным делом: нас защищали лишь слабые женщины. Мулат вместе со своими свирепыми приспешниками вряд ли уступил бы их требованиям. На их угрозы и мольбы не обратили бы даже внимания — снова зажгли бы костры и довели бы казнь до конца. По всей вероятности, так и случилось бы, не подоспей Оцеола вовремя.
Его появление и звук его голоса сразу ободрили меня. Под защитой Оцеолы нам нечего было больше бояться. Внутренний голос подсказал мне, что явился наш избавитель.
Вскоре его намерения стали ясны. Он остановился прямо против нас, сошел со своего великолепного черного коня, так же богато убранного, как и он сам, и, бросив поводья первому попавшемуся воину, подошел ко мне. Его осанка была величественна, его наряд — живописен и красочен. И снова я увидел, на этот раз по праву украшавшие гордую голову, три страусовых пера, которые так часто обманывали мое воображение.
Подойдя к нам, Оцеола остановился и пристально взглянул на нас. Он мог бы улыбнуться, видя нас в таком нелепом положении, но в его лице не было и тени легкомыслия. Наоборот, он был серьезен, и в его глазах светилось сострадание. Мне даже показалось, что он опечален.
Несколько минут он стоял неподвижно и безмолвно. Он переводил взгляд с меня на моего товарища, как бы стараясь различить нас. Это было нелегко: дым, пот и зола сделали нас похожими друг на друга. Нас трудно было узнать.
В эту минуту Маюми тихо приблизилась к Оцеоле и что-то шепнула ему на ухо. Затем она снова вернулась ко мне, опустилась на колени и коснулась моих висков своими нежными руками.
Никто не слыхал слов Маюми, кроме молодого вождя. На него они произвели магическое действие: он весь преобразился. Его глаза гневно сверкнули, и печальный взор уступил место яростному взгляду. Обратившись к желтому вождю, он прошептал одно слово:
— Дьявол!
Затем он несколько секунд молча и в упор смотрел на мулата, как будто желая испепелить его своим взглядом. Мулат старался отвести глаза от этого пристального взгляда, дрожал, как лист, и молчал.
— Дьявол и негодяй! — продолжал Оцеола, не меняя ни тона, ни позы. — Вот как ты выполнил мое приказание? Разве этих людей я велел тебе взять в плен? Подлый изменник и раб! Кто разрешил тебе эту огненную пытку? Кто научил тебя? Уж конечно, не семинолы. Ты и твои негодяи действовали, прикрывшись их именем. Ты опозорил имя семинолов! Клянусь духом Уикомэ, мне следовало бы поставить тебя на место тех, кого ты здесь мучил, и сжечь тебя так, чтобы осталась одна зола! Но я дал себе слово никогда никого не пытать. Убирайся прочь с моих глаз!.. Впрочем, нет, стой! Ты еще можешь мне понадобиться…
И, закончив свою речь этими неожиданными словами, молодой вождь снова повернулся ко мне.
Мулат не произнес ни слова, но в его глазах можно было ясно прочесть желание отомстить. Мне показалось, что он смотрит на своих свирепых приспешников, как будто приглашая их вмешаться. Но они знали, что Оцеола пришел не один: из леса доносился конский топот. Очевидно, там, недалеко, находились воины Оцеолы. Стоило ему крикнуть: «Ио-хо-эхи!» — и они пришли бы к нему на помощь, прежде чем смолкнет эхо.
Вероятно, сообразив все это, желтый вождь молчал. Одно слово, сказанное в это мгновение, могло бы погубить его.
Мрачный, нахмуренный, он оставался безмолвным.
— Освободить их! — приказал Оцеола, обращаясь к бывшим могильщикам. — Да смотрите действуйте лопатами осторожнее! Боюсь, что я прибыл чуть ли не в последний момент!.. Я был далеко, Рэндольф, — обратился он ко мне, — но когда узнал о том, что произошло, я мчался, как ветер. Вы тяжело ранены?
Я пытался поблагодарить его и уверить, что рана моя неопасна, но голос у меня так ослабел и охрип, что был еле слышен. Чья-то сострадательная рука подала мне прохладительное питье; я почувствовал прилив сил, отдышался и скоро мог начать говорить.
Нас быстро откопали. Наконец-то мы снова были свободны и стояли на земле!
Первым моим движением было броситься к сестре. Но, к моему удивлению, Оцеола удержал меня.
— Потерпите! — сказал он. — Потерпите немного. Маюми пойдет и скажет ей, что вы вне опасности… Смотрите, она уже знает это… Маюми, пойди к мисс Рэндольф и подтверди, что ее брату уже больше ничего не грозит. Сейчас он придет к ней. Пусть она подождет его еще минуту… Иди же, сестра, и успокой ее! — Затем он обратился ко мне и шепотом добавил: — Ее туда нарочно посадили. Пойдемте, я покажу вам одну вещь, которая вас очень удивит. Нельзя терять ни минуты! Я слышу сигналы моих разведчиков. Еще минута — и будет уже поздно! Идем же! Идем!
Не возражая, я последовал за вождем, который быстро направился к лесу. Он вошел в лес, но не стал углубляться дальше, а остановился под прикрытием густой листвы, обратившись лицом туда, где мы только что стояли.
Глава 94
СМЕРТЬ АРЕНСА РИНГГОЛЬДА
Я не имел ни малейшего представления о намерениях вождя и о том, какое зрелище меня ожидало.
Сгорая от нетерпения, я спросил его об этом.
— Новый способ добывать себе возлюбленную, — ответил он с улыбкой.
— Но кто влюбленный? И кто предмет его страсти?
— Терпение, Рэндольф, и вы все увидите. О, это редкое зрелище, самый забавный и запутанный фарс!.. Он был бы просто смешон, если бы в него не была вплетена трагедия. Вы все увидите. Только благодаря верному другу я узнал об этом и сейчас сам увижу все это собственными глазами. И тем, что я здесь, и тем, что мне удалось спасти вас (теперь это стало ясно!), и, более того, спасением чести вашей сестры вы обязаны Хадж-Еве!
— Благородная женщина!
— Тсс! Они близко. Я слышу топот копыт. Раз, два, три… Да, это, должно быть, они. Взгляните-ка туда!
Я взглянул в указанном направлении. Небольшая группа всадников выехала из лесу и стремительным галопом понеслась к поляне. Пришпорив лошадей, они с громкими криками мчались вскачь прямо в середину лагеря. Домчавшись до него, они разрядили свои пистолеты в воздух и, продолжая кричать, поскакали к противоположной стороне поляны.
Это были белые, что меня крайне удивило. Но еще больше меня удивило то, что я их знал. По крайней мере, мне были знакомы их лица… Эти люди — самые отъявленные негодяи из нашего поселка. Но третий сюрприз ожидал меня, когда я пристальнее вгляделся в их предводителя. Его-то я знал очень хорошо: это был сам Аренс Ринггольд!
Не успел я оправиться от третьей неожиданности, как меня уже ожидала четвертая. Негры и индейцы ямасси, по-видимому испугавшись этого нападения, разбежались и попрятались в кусты. Они громко вопили и, удирая, тоже стреляли из пистолетов в воздух.
Тайна за тайной! Что все это значило?
Я собирался уже снова обратиться с вопросом к своему другу, но заметил, что он занят и, видимо, не хочет, чтобы его отвлекали. Он осматривал ружье, как бы проверяя прицел.
Снова взглянув на поляну, я увидел, что Ринггольд подъехал к моей сестре и остановился. Я слышал, как он назвал ее по имени и произнес несколько любезных фраз. Он приготовился сойти с лошади, в то время как его спутники продолжали с криками носиться по поляне и стрелять в воздух.
— Его час пробил, — произнес Оцеола и бесшумно двинулся вперед. — Давно уж он заслуживает кары, и наконец она свершится!
С этими словами он вышел на открытое место.
Я видел, как он поднял ружье. Дуло его было направлено прямо на Ринггольда. В следующее мгновение раздался выстрел. Пронзительное восклицание «Кахакуине!» сорвалось с губ Оцеолы. Лошадь Ринггольда бросилась в сторону с пустым седлом, а сам он свалился на траву и начал судорожно биться.
Среди его спутников раздались крики ужаса. Не сказав ни слова ни своему раненому предводителю, ни человеку, стрелявшему в него, они мгновенно скрылись в кустах.
— Прицел был неточен, — холодно заметил Оцеола: — он еще жив. Я слишком многое перенес по вине этого негодяя, но все-таки я пощадил бы его, если бы не данная мною клятва. Клятву я должен сдержать! Он умрет!
С этими словами он бросился к Ринггольду, который уже приподнялся и пытался уползти в кусты, словно еще надеясь спастись. У негодяя вырвался дикий вопль ужаса, когда он увидел, что грозный мститель настигает его. Последний раз в жизни я услышал его голос.
В несколько прыжков Оцеола очутился рядом с ним. Длинный нож сверкнул в воздухе и опустился с такой быстротой, что едва можно было различить удар.
Это был смертельный удар. Ноги Ринггольда подкосились, и он рухнул мертвым на том самом месте, где его настиг Оцеола, — его застывшее тело так и осталось скорченным.
— Это четвертый и последний из моих врагов, — промолвил вождь, возвращаясь ко мне. — Последний, кому я поклялся отомстить!
— А Скотт? — спросил я.
— Это третий, и он был убит вчера вот этой рукой… До сих пор, — продолжал Оцеола после минутного молчания, — я сражался, чтобы отомстить, и я отомстил. Я удовлетворен, и теперь… — Последовала большая пауза.
— И теперь? — машинально переспросил я.
— Теперь мне все равно, когда они убьют меня!
Произнеся эти странные слова, Оцеола опустился на упавшее дерево и закрыл лицо руками. Я понял, что он не ждет возражений.
В голосе Оцеолы звучала грусть, как будто какая-то глубокая, неодолимая скорбь таилась в его сердце. С ней нельзя было совладать, ее нельзя было смягчить словами утешения. Я уже давно заметил это. В такую минуту лучше всего было оставить его одного, и я тихо отошел в сторону.
Через несколько секунд сестра была уже в моих объятиях. А рядом Черный Джек утешал Виолу, прижимая ее к своей черной груди.
Его старого соперника нигде не было видно. Во время ложного нападения Желтый Джек последовал примеру своих подчиненных и скрылся в лесу, и, хотя теперь большая часть их возвратилась в лагерь, желтого вождя и след простыл.
Его отсутствие возбудило у Оцеолы подозрение. Энергия и решимость вернулись к нему. Он созвал своих воинов и отправил нескольких человек на поиски мулата. Но они нигде не нашли его и прискакали обратно. Один из воинов объяснил, в чем дело: у Ринггольда было пять спутников, а внимательно всматриваясь в дорогу, индеец обнаружил следы шести лошадей.
Это известие, по-видимому, произвело на Оцеолу не очень приятное впечатление. Он вновь отправил воинов на поиски и приказал во что бы то ни стало доставить к нему мулата живым или мертвым.
Строгость, с которой был отдан этот приказ, говорила о том, что Оцеола начал сомневаться в верности Желтого Джека. Воины, по-видимому, разделяли подозрения своего вождя.
Партия патриотов, много претерпевшая за последнее время, значительно уменьшилась. Несколько небольших племен, уставших от войны и доведенных голодом до отчаяния, последовали примеру племени Оматлы и прекратили сопротивление. До сих пор индейцы одерживали победы во всех схватках. Но они не понимали, что белые имеют решающее превосходство в силах и, рано или поздно, окончательная победа будет за ними. Чувство мести за долгие годы несправедливости и угнетения сначала вдохновляло их, но они отомстили полной мерой и удовлетворились этим. Любовь к родине, привязанность к земле своих предков, чувство патриотизма — все это было брошено на одну чашу весов, а на другой был ужас перед полной и неизбежной гибелью. И вторая чаша перетянула.
Боевой пыл начал понемногу угасать. Уже шли переговоры о мире. Индейцы вынуждены были сложить оружие и согласиться на переселение в другие земли. Сам Оцеола не мог бы удержать свой народ: семинолы все равно приняли бы условия мира. Да и вряд ли он стал бы их удерживать. Одаренный исключительным даром предвидения, он знал силу и особенности своих врагов. Он предвидел все бедствия, которые могли бы обрушиться на его соотечественников и его родину. Выбора не было!
Именно это предчувствие грядущих бед и явилось подлинной причиной грусти, отпечаток которой лежал на всех его поступках, на всех словах… А может быть, к этому примешивалась и глубокая личная скорбь — мучительная и безнадежная любовь к девушке, которую он никогда не мог надеяться назвать своей женой.
Я очень волновался, когда молодой вождь подошел к моей сестре. Даже теперь я все еще был жертвой гнетущих подозрений и следил за обоими с неослабевающим вниманием.
Но мои подозрения безусловно обманули меня. Ни Оцеола, ни сестра не дали мне ни малейшего повода к беспокойству. Молодой вождь держал себя скромно и вежливо. Во взгляде сестры можно было прочесть только горячую благодарность.
— Мисс Рэндольф, я должен просить у вас прощения за сцену, свидетельницей которой вам пришлось быть. Но я не мог позволить уйти этому человеку. Госпожа, он был не только вашим, но и нашим величайшим врагом. С помощью мулата он разыграл это ложное нападение, надеясь заставить вас стать его женой. Но если бы ему это не удалось, он сбросил бы маску, и тогда… Мне не надо говорить о том, что могло бы тогда произойти с вами… Какое счастье, что я успел вовремя!
— Благородный Оцеола! — воскликнула Виргиния. — Вы дважды спасли жизнь и брату и мне. Как нам отблагодарить вас? У меня не хватает слов… Я могу предложить вам только это слабое доказательство нашей признательности.
Сказав это, она подошла к вождю и вручила ему сложенный пергамент, который хранила у себя на груди.
Оцеола сейчас же узнал этот документ: это был акт на право владения поместьем его отца.
— Спасибо! — сказал он с печальной улыбкой. — Это действительно доказательство бескорыстной дружбы. Но, увы! Теперь оно опоздало. Та, которая больше всего на свете хотела получить эти драгоценные бумаги, которая так стремилась вернуться в свой любимый дом, уже больше не существует! Моя мать умерла! Вчера ее душа улетела в вечность…
Это была страшная новость и для Маюми. В неистовом порыве горя, заливаясь слезами, она бросилась на шею к моей сестре. Объятия и слезы обеих смешались. Наступила тишина, прерываемая только рыданиями девушек. Иногда слышался голос Виргинии, шептавшей слова утешения. Сам Оцеола был настолько взволнован, что не мог вымолвить ни слова.
Но прошло несколько минут, и он овладел собой.
— Слушайте меня, Рэндольф! — сказал он. — Нам нельзя терять времени на воспоминания о прошлом, когда будущее так мрачно и неопределенно. Вам надо вернуться к себе и подумать о постройке нового дома. Вы потеряли только дом, но ваши богатые земли сохранились. Негров вам вернут — я об этом распорядился. Они уже в пути к плантации. Здесь не место для нее, — тут он указал на Виргинию, — и вам нельзя медлить с отъездом. Лошади уже готовы. Я сам провожу вас до границы, а дальше вам уже нечего бояться никаких врагов.
При этих словах он многозначительно взглянул на тело Ринггольда, лежавшее на опушке леса. Я понял его, но не ответил ни слова.
— А она? — спросил я, указывая на Маюми. — Лес — плохая защита, особенно в такое время. Вы отпустите ее с нами?
Оцеола взял мою руку и крепко пожал ее. Я обрадовался, уловив сверкнувшую в его глазах благодарность.
— Благодарю! — воскликнул он. — Благодарю за дружеское предложение! Я сам хотел просить вас об этом. Вы правы — она не может жить дольше только под защитой деревьев. Рэндольф, доверяю вам ее жизнь и ее честь! Возьмите ее к себе, в свой дом!
Глава 95
ПРЕДВЕСТИЕ СМЕРТИ
Солнце уже склонялось к западу, когда мы покинули индейский лагерь. Что касается меня, то я не имел ни малейшего представления о том, куда нам надо было двигаться. Но с таким проводником можно было не бояться сбиться с пути.
Мы находились далеко от поселка Суони, на расстоянии целого дня пути, и предполагали добраться домой только на исходе следующего дня. Ночь обещала быть лунной, если не набегут облака. Мы собирались ехать весь вечер, до поздней ночи, а затем сделать привал. Так мы могли значительно сократить наше завтрашнее путешествие.
Наш проводник хорошо знал эту местность, ему была знакома здесь каждая тропинка.
Долгое время дорога шла по редкому лесу, и мы могли ехать рядом. Но постепенно тропинка становилась все уже, и теперь мы были вынуждены двигаться попарно или по одному. Молодой вождь и я ехали впереди, а наши сестры следовали за нами. Далее ехали Джек и Виола. Кавалькаду замыкали шесть всадников-индейцев, телохранителей Оцеолы.
Меня удивило, что он взял с собой так мало воинов, и я даже выразил ему свое удивление. Но Оцеола относился к опасности как-то очень беззаботно. Солдаты, сказал он, прекрасно знают, что ночью им здесь лучше не показываться. Что же касается той части местности, где мы должны были проехать днем, то никакие войска там и не рисковали появляться. За последнее время там даже не производилась разведка. Мы можем встретить только индейцев. Но их, конечно, нам нечего было опасаться. С тех пор как началась война, Оцеоле часто случалось путешествовать одному по этой дороге. Он был убежден, что опасности никакой нет.
Что до меня, то я далеко не был в этом уверен. Я знал, что дорога, по которой мы ехали, проходит поблизости от форта Кинг. Я вспомнил бегство шайки Ринггольда. Весьма вероятно, что его друзья помчались прямо в форт и сообщили там о гибели плантатора, приукрасив эти сведения рассказом о своей собственной смелой атаке на индейцев. Для властей Ринггольд не был простым человеком. В лагерь могли послать отряд, и мы рисковали с ним встретиться. Я подумал и о другом обстоятельстве — о таинственном исчезновении мулата. По-видимому, он скрылся вместе с этими людьми. Это показалось мне подозрительным. Я поделился своими соображениями с вождем.
— Бояться нечего, — сказал он в ответ, — мои следопыты идут за ними. Они вовремя сообщат мне все, что нужно. Впрочем, нет… — добавил он, как бы колеблясь и задумавшись на мгновение. — Они могут не догнать их до наступления ночи, и тогда… Вы правы, Рэндольф! Я действовал необдуманно. Я не обращал внимания на этих болванов, но мулат — совсем другое дело. Он знает все тропинки, и если он окажется изменником, если… Но мы уже тронулись в путь и должны ехать дальше. Вам нечего бояться, а что касается меня… Оцеола никогда в жизни не отступал перед опасностью. Он не сделает этого и теперь. Да и поверите ли вы, Рэндольф, я скорее ищу опасности, чем бегу от нее!
— Ищете опасности?
— Да, смерти, смерти!
— Говорите тише! Не нужно, чтобы они слышали ваши слова.
— О да! — добавил он, понижая тон и как бы говоря сам с собой. — Но, право же, я жажду ее!
Он произнес эти слова с таким волнением, что не оставалось никакого сомнения в том, что он говорит серьезно. Глубокая грусть все еще не покидала его. Что могло быть ее причиной?
Я не в силах был больше молчать. Меня побуждало не любопытство, а дружба. Я позволил себе спросить его об этом.
— Вы, значит, заметили? Но не раньше, чем мы тронулись в путь, не раньше, чем я услышал ваше дружеское предложение… Ах, Рэндольф! Теперь я спокоен и счастлив. Из-за нее одной я с ужасом думал о приближении смерти!
— Зачем вы говорите о смерти?
— Потому что она близка.
— Близка… к вам?
— Да, ко мне! У меня есть предчувствие, что я долго не проживу.
— Что за глупости, Пауэлл!
— Друг мой, это правда. Я чувствую, что скоро умру…
— Оцеола, это на вас не похоже! Вы, конечно, выше этих глупых предрассудков. Никогда не поверю, чтобы вы могли оказаться в их власти!
— Вы думаете, что я говорю о каких-то сверхъестественных знамениях? О карканье ворон или об уханье полночной совы? Или о зловещих предзнаменованиях в воздухе, на земле и в воде? Нет, нет, я не придаю значения этим нелепым суевериям. И все-таки я знаю, что скоро должен умереть. Это реальное физическое ощущение, которое возвещает мой приближающийся конец. Оно скрыто здесь!
Говоря это, он поднял руку и указал себе на грудь. Я понял зловещее значение этого жеста.
— Я предпочел бы, — сказал он, помолчав, — умереть на поле боя. Конечно, смерть отвратительна в любом виде, но такой конец все же казался бы мне более достойным. Я выбрал бы лучше такую смерть, чем влачить жалкое существование и медленно умирать… Да, я выбрал бы ee! Десятки раз я бросал вызов смерти, был уже на полпути к ней. Но, как трус, как робкая невеста, она отказывалась встретиться со мной…
Что-то почти неземное прозвучало в смехе, которым сопровождались последние слова. Странное сравнение! Странный человек!
Мне едва удалось ободрить его. Да, впрочем, он и не нуждался в этом: он казался счастливее, чем раньше. Мой жалкий лепет о том, что он выглядит хорошо, был бы просто словами, брошенными на ветер. Он догадался бы, что это лишь притворные слова дружбы. Я и сам это подозревал. Я обратил внимание на бледную кожу, на тонкие, исхудавшие пальцы, на тусклые, впалые глаза. Страшный червь разрушал оболочку благородного духа. А я-то приписывал это совсем иным причинам!
Будущая судьба его сестры тяжким бременем лежала у него на сердце. Он поведал мне об этом, когда мы поехали дальше.
Нет необходимости повторять обещания, которые я дал ему. Не стоило даже скреплять их клятвами. Стремление к собственному счастью не позволило бы мне нарушить их.
Глава 96
СУДЬБА ОЦЕОЛЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы сидели у края небольшой прогалины, где расположился наш лагерь. Это была красивая лужайка, благоухающая ароматами множества цветов. Луна лила с высоты серебряный свет, и все вокруг было видно ясно как днем. Листья высоких пальм, восковые цветы магнолий и цветы желтодревника — все можно было ясно различить в лунном свете.
Мы сидели вместе вчетвером — братья и сестры, разговаривая непринужденно, как в былые дни. И все вокруг живо напоминало нам прошлое.
Но у нас возникали только печальные мысли, так как мы думали о будущем. Может быть, мы, четверо, больше никогда не встретимся. Глядя на друга, обреченного на смерть, я чувствовал, как в моем сердце постепенно угасают все радостные воспоминания.
Мы миновали форт Кинг благополучно, не встретив белых. Как странно, что я должен был бояться встречи с людьми своей расы! Мы больше не ожидали ни засады, ни открытой атаки. Индейская охрана вместе с Черным Джеком расположилась в центре прогалины. Воины собрались в кружок у огня и готовили себе ужин. Их вождь чувствовал себя настолько уверенно, что даже не поставил часового на тропинке. По-видимому, он был совершенно равнодушен к опасности.
Была уже поздняя ночь, и мы собирались разойтись по палаткам, которые раскинули для нас воины. В это время мы услышали в лесу странный шум. В моих ушах он звучал, как плеск воды, как ливень, как гул отдаленных водопадов.
Оцеола держался иного мнения. Он слышал непрерывный шелест и шорох листьев, вызванный огромной массой людей или животных, пробирающихся через кусты.
Мы мгновенно вскочили и стояли, напряженно прислушиваясь.
Шум продолжался. Но теперь мы уже могли различить хруст сухих ветвей и металлическое позвякиванье оружия. Отступать было поздно. Шум слышался отовсюду, кольцо вооруженных людей смыкалось вокруг прогалины. Я взглянул на Оцеолу. Я ожидал, что он кинется к своей винтовке, лежащей рядом с ним. К моему удивлению, он не двинулся с места.
Несколько его сторонников уже были наготове и поспешили к нему, ожидая приказаний. Их слова и жесты ясно говорили о решимости защищать Оцеолу не на жизнь, а на смерть.
В ответ на их торопливые слова Оцеола сделал знак рукой, который, казалось, удивил их. Дула винтовок внезапно опустились к земле, и воины застыли в позе равнодушия и безразличия, как будто они раздумали и не желали больше пустить в ход свое оружие.
— Слишком поздно, — спокойно сказал Оцеола, — слишком поздно! Мы окружены со всех сторон. Может пролиться невинная кровь. А им нужна только моя жизнь. Пусть же они приблизятся! Я приветствую их! Прощай, сестра! Рэндольф, прощай! Прощай, Вирг…
Жалобные стоны Маюми и Виргинии и мои, теперь уже громкие, рыдания заглушили голос, который произносил эти страшные прощальные слова.
Столпившись около вождя, мы не замечали, что происходит вокруг нас. Все наше внимание было поглощено им, пока крики солдат и громкие слова команды не напомнили нам, что мы окружены. Мы увидели, что нас оцепили ряды людей в синих мундирах. Их штыки сверкали вокруг нас непреодолимой преградой. Но так как сопротивления не было, то не было и стрельбы. Слышались только голоса и звон стали.
Выстрелы раздались позднее, но это был не смертоносный огонь. Это были радостные салюты: праздновали взятие в плен такого важного противника.
Церемония сдачи в плен вскоре закончилась. Оцеолу держали два солдата. Он стоял среди своих бледнолицых врагов. Оцеола был в плену!
Его сторонники тоже были схвачены, и солдаты отошли немного в сторону, образуя более широкую цепь. Пленники остались в середине.
В этот момент около пленных перед рядами солдат появился какой-то человек. Он говорил о чем-то с офицером. По одежде его можно было принять за индейца, но желтое лицо свидетельствовало о другом. На голове у него была повязка, над которой качались три черных пера. Не оставалось сомнений в том, кто был этот человек! Это зрелище могло свести с ума кого угодно. Оно возвратило вождю семинолов всю его яростную энергию. Отшвырнув своих стражей прочь, как игрушечных солдатиков, он вырвался из их рук и кинулся на желтолицого человека.
К счастью для мулата, Оцеола не был вооружен: у него не было ни пистолета, ни ножа. Пока он отвинчивал штык от ружья солдата, предатель успел спастись бегством. Из груди Оцеолы вырвался стон ярости, когда он увидел, что негодяй пролез сквозь сомкнутый строй солдат и вот-вот ускользнет от его мести.
Но спасение только померещилось изменнику. Смерть его была предрешена, хотя она пришла к нему не оттуда, откуда он ее ждал. Пока он стоял, издали глядя на пленников, темная фигура медленно приблизилась к нему сзади. Это была женщина, величественная женщина, чья ослепительная красота была заметна даже при лунном свете. Никто не видел ее, только пленники, стоявшие к ней лицом, заметили ее приближение.
Все дальнейшее произошло в течение нескольких секунд. Женщина подкралась к мулату сзади, и казалось, что ее руки на мгновение коснулись его шеи.
Что-то сверкнуло металлическим блеском в лунном свете. Это было живое оружие — ужасная гремучая змея кроталус!
Можно было ясно расслышать громыханье чешуйчатых колец. Вслед за этим раздался дикий крик ужаса. Злодей почувствовал холодное прикосновение змеи к шее, и ее острые зубы вонзились ему в затылок.
Видно было, как женщина отняла змею от шеи мулата. Держа ее блестящее тело над головой, она громко воскликнула:
— Не горюй, Оцеола! Ты отомщен! Отомщен! Читта-мико отомстил за тебя!
Сказав это, женщина скользнула в сторону, и, прежде чем удивленные солдаты успели преградить ей путь, она юркнула в кусты и исчезла.
Мулат пошатнулся и упал на землю. Он был бледен от страха, глаза его почти вылезли из орбит. Вокруг него собрались люди. Они пытались влить ему в рот лекарство. Испробовали даже порох и табак, но никто не знал лекарственных трав, которые могли бы излечить его. Рана оказалась смертельной, и на следующий день Желтый Джек окончил свое существование.
* * *
С захватом в плен Оцеолы война не прекратилась, хотя я уже больше не принимал в ней участия. Она не закончилась и после его смерти, которая последовала через несколько недель. Его не казнили по приговору военно-полевого суда, ибо он не был мятежником и мог претендовать на право считаться военнопленным. Он умер от болезни, которая, как он сам знал, обрекала его на неизбежную гибель. Возможно, что плен ускорил ее наступление. Его гордый дух был сломлен долгим пребыванием в тюрьме, а вместе с ним погибла и та благородная оболочка, в которую он был заключен.
Друзья и враги стояли вокруг него в последний час, внимая его последним словам. И те и другие плакали. В этом царстве смерти не было сухих глаз. У многих солдат катились по щекам слезы, когда они слышали приглушенный звук барабана — похоронный марш над могилой благородного Оцеолы.
* * *
В конце концов не кто иной, как веселый и жизнерадостный капитан завоевал сердце моей капризной сестры. Прошло много времени, прежде чем я раскрыл их секрет. Он пролил свет на целый лабиринт тайн. Я так рассердился на них за скрытность, что сначала даже отказался разделить с ними право владения плантацией.
Но потом (после угроз Виргинии, а не ее поверенного в делах!) я все-таки согласился. И тогда я женился на Маюми. Я сохранил за собой старую усадьбу, на месте которой построил новый дом. Это была достойная шкатулка для бесценной жемчужины.
У меня была еще одна плантация — принадлежавший когда-то испанцам прекрасный участок земли на Тупело-Крик. Мне нужен был туда управляющий, или, скорее, «муж и жена с покладистым характером», на которых можно было бы вполне положиться. Кто, как не Черный Джек и Виола, лучше всего подходил для этой цели?
В моем распоряжении был еще один небольшой кусок земли. Он находился на краю болота, и на нем стояла бревенчатая хижина, вокруг которой простирался самый крохотный на свете участок вырубленного леса. Но он был уже занят жильцом, которого я ни за что на свете не выселил бы оттуда, хотя он и не платил мне арендной платы. Это был старый Хикмэн, охотник на аллигаторов.
Другой такой же охотник, Уэзерфорд, жил поблизости, на соседней плантации. Но они почти никогда не разлучались.
В свое время оба сильно пострадали от медвежьих когтей, от челюстей и хвостов аллигаторов, от томагавков индейцев. Когда они сходились вдвоем или проводили время в кругу друзей, они любили рассказывать свои приключения, особенно такие случаи, где им только чудом удавалось ускользнуть от верной смерти. И часто можно было слышать, как они говорили: «Самые страшные испытания нам пришлось перенести в проклятом пылающем сосновом лесу, когда нас со всех сторон окружили десять тысяч краснокожих!»
Однако, как мы знаем, они благополучно выпутались и из этой беды и прожили еще долгую жизнь, с удовольствием повествуя о своих похождениях и приукрашивая их самыми фантастическими выдумками.
МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДНЕ ТРЮМА (повесть)
Тяга к приключениям приводит двенадцатилетнего Филиппа Форстера на борт «Инки», торгового судна, идущего из Англии в Перу, куда он проникает в тайне от команды. Мальчик оказывается погребенным в трюме корабля и вынужден бороться с жаждой, голодом, морской болезнью и судовыми крысами. Чтобы спастись и пробить себе путь наверх к свободе, ему придётся использовать все свои знания и умения.
Глава 1
МОИ ЮНЫЕ СЛУШАТЕЛИ
Меня зовут Филиппом Форстером. Я уже старик. Я живу в тихой, маленькой деревушке, которая стоит на морском берегу, в глубине очень широкой бухты, одной из самых широких на нашем острове.
Я назвал нашу деревню тихой — она и есть тихая, хотя претендует на звание морского порта. Есть у нас пристань, или мол, из тесаного гранита. Здесь вы обычно увидите один-два шлюпа, столько же шхун, иногда бриг.[128] Большие суда не могут войти в бухту. Но вы всегда заметите немалое количество рыбачьих лодок. Одни вытащены на песок, другие скользят по бухте, и из этого вы можете вывести заключение, что благосостояние деревни больше зависит от улова, чем от торговли. Так и есть на самом деле.
Это моя родная деревня — здесь я родился и здесь собираюсь умереть.
Несмотря на это, мои земляки очень мало обо мне знают. Они зовут меня «капитаном Форстером» или попросту «капитаном», считая, что я единственный человек в наших краях, заслуживающий этого звания.
Строго говоря, я его недостоин. Я никогда не служил капитаном ни в армии, ни во флоте. Я был только хозяином торгового судна — другими словами, шкипером. Но мои соседи — люди вежливые, и благодаря их вежливости я стал называться «капитаном».
Они знают, что я живу в хорошеньком домике в полумиле от деревни, на берегу моря; знают, что я живу один, потому что моя старая служанка вряд ли может считаться «обществом». Каждый день они видят, как я прохожу по деревне с подзорной трубой под мышкой. Они замечают, что я выхожу на мол, внимательно рассматриваю прибрежные воды и затем возвращаюсь домой или брожу еще час-другой по берегу. Вот и все, что моим согражданам известно обо мне — о моих привычках и обо всей моей жизни.
Они убеждены, что я когда-то был великим путешественником. Они знают, что у меня много книг и что я много читаю, и решили, что я необыкновенный ученый.
Я действительно много путешествовал и много читал, но простые деревенские люди ошибаются относительно моей учености. В юности я не имел возможности получить хорошее образование, и все, что я знаю, усвоил самоучкой, занимаясь наспех и с перерывами, в короткие периоды затишья в моей бурной жизни.
Я сказал, что мои земляки мало знают обо мне, и вас это, конечно, удивляет. Ведь среди них я начал свою жизнь и среди них же собираюсь ее закончить. Но это легко объяснить. Двенадцатилетним мальчиком я ушел из дому, и в течение сорока лет нога моя не ступала на родную землю и глаза мои не видели никого из местных жителей.
Нужно быть уж очень знаменитым человеком, чтобы тебя вспомнили после сорока лет отсутствия. Уйдя отсюда мальчиком и вернувшись зрелым человеком, я убедился в том, что меня совершенно забыли. С трудом вспоминали даже моих родителей. Они умерли еще до того, как я, совсем маленьким, ушел из дому. Вдобавок мой отец был моряком, он редко бывал дома. В моих воспоминаниях о нем осталось только, как я горевал, когда узнал, что его корабль погиб и он утонул вместе с большей частью экипажа. Увы! Моя мать ненамного его пережила. И так как они умерли давным-давно, естественно, что их забыли соседи, с которыми они были не слишком близки. Вот чем объясняется то, что я оказался чужим человеком в своих же родных местах.
Но вы не должны думать, что я одинок, что у меня нет товарищей. Я оставил профессию моряка и вернулся домой, чтобы провести остаток дней в покое и мире, но я не избегаю людей и я не угрюмый человек. Наоборот, я очень люблю и всегда любил встречаться с людьми и, будучи стариком, охотно провожу время в обществе молодежи, особенно мальчиков. Могу похвастаться, что со всеми деревенскими мальчуганами я в большой дружбе. Часами я помогаю им запускать змея и гонять кораблики по воде, ибо помню, как много удовольствия получал от всего этого в детстве сам.
Играя со мной, дети вряд ли догадываются, что добрый старик, который умеет так забавлять их и при этом забавляется сам, провел большую часть своей жизни в бурных приключениях, среди смертельных опасностей. Но именно такова история моей жизни.
Кое-кто в деревне знает, однако, отдельные эпизоды моей биографии — происшествия, о которых они слышали из моих уст, потому что я никогда не отказываюсь сообщить об увлекательных приключениях тем, кому интересно меня послушать. И даже в нашей тихой деревушке я нашел аудиторию, которая ценит рассказчика. Мои слушатели — школьники. Невдалеке от деревни имеется знаменитая школа, которую именуют «учебным заведением для юных джентльменов», — вот откуда взялись мои самые внимательные слушатели.
Мы не раз встречались с этими мальчиками на прогулках вдоль берега, и, судя по моей обветренной, «просоленной» коже, они сообразили, что я могу порассказать им немало о диких странах и необыкновенных происшествиях, которые случались со мной во время далеких странствий. Мы встречались часто, почти ежедневно, и вскоре подружились. По их желанию я начал рассказывать им отдельные случаи из своей жизни. Не раз видели меня на берегу сидящим на траве в кругу опрятно одетых мальчуганов. Их раскрытые рты и горящие глаза свидетельствовали об интересе, с которым они слушали мои истории.
Не стыжусь сказать, что я сам находил удовольствие в этих рассказах, как все старые моряки и военные, которые, вспоминая прошлое, сражаются сызнова в давно минувших боях.
Таким образом, некоторое время я рассказывал им только отдельные эпизоды. Однажды, встретившись со своими юными друзьями как всегда, лишь несколько ранее обычного, я заметил, что они чем-то озабочены. Они сбились в кучу. И я увидел, что один из них, самый старший, держит в руке сложенный листок бумаги, на котором, по-видимому, было что-то написано.
Я подошел поближе. Мальчики, не промолвив ни слова, вручили мне бумагу. Прочитав обращение, я понял, что послание адресовано мне.
Я развернул его и сразу догадался, в чем дело. Это была «просьба», подписанная всеми присутствующими:
«Дорогой капитан!
Сегодня мы свободны целый день. Мы думали, как бы провести его получше, и решили просить вас доставить нам удовольствие и рассказать о каком-нибудь замечательном происшествии, случившемся с вами. Мы хотели бы услышать что-нибудь захватывающее, потому что знаем, что в вашей жизни было много приключений. Выберите то, что вам самому больше всего нравится, а мы обещаем слушать внимательно и уверены, что нам нетрудно будет сдержать такое обещание. Итак, дорогой капитан, сделайте это для нас, и мы всегда будем вам благодарны».
Я не мог ответить отказом на такую вежливую просьбу. Без колебаний я объявил, что расскажу моим юным друзьям целую главу из своей жизни. Я выбрал то, что считал наиболее интересным для них: повесть о моем детстве и о первом путешествии по морю — путешествии, которое произошло в настолько странной обстановке, что я назвал его «Путешествием на дне трюма».
Мы уселись на прибрежной гальке. Перед нами был широкий морской простор. Мальчики собрались вокруг меня. И я начал.
Глава 2
СПАСЕННЫЙ ЛЕБЕДЕМ
С самого раннего детства я любил воду. Мне следовало бы родиться уткой или ньюфаундлендом.[129] Отец мой был моряком, дед и прадед — также. Должно быть, от них я унаследовал это влечение. Во всяком случае, тяга к воде была у меня так сильна, словно вода была моей родной стихией. Мне рассказывали, хотя сам я этого не помню, что еще маленьким ребенком меня с трудом отгоняли от луж и прудов. И в самом деле, первое приключение в моей жизни произошло на пруду, и я запомнил его хорошо. Правда, оно не было ни столь страшным, ни столь удивительным, как те приключения, которые мне случилось испытать впоследствии. Оно было скорее забавным. Но я расскажу его вам, чтобы показать, как велика была моя страсть к воде.
Я был тогда еще совсем маленьким мальчиком. И это странное происшествие, случившееся в преддверии моей жизни, явилось как бы предзнаменованием будущего. Оно как будто предвещало, что мне предстоит пройти через многие испытания судьбы и пережить немало приключений.
Я уже сказал, что был в то время совсем малышом. Меня только что начали пускать одного, без взрослых, и я находился как раз в том возрасте, когда дети любят спускать на воду бумажные кораблики. Я уже умел делать их, вырывая страницы из старых книг и газет, и часто посылал свои «суда» путешествовать через большую лужу, которая заменяла мне океан. Но скоро мне показалось этого мало. Я собрал за шесть месяцев карманные деньги, экономя их специально для этой цели, и приобрел у старого рыбака полностью оснащенный игрушечный корабль, который он смастерил на досуге.
Мой корабль имел всего шесть дюймов[130] в длину и три дюйма в ширину, и если бы его тоннаж был зарегистрирован (а он, конечно, не прошел регистрацию), то он составил бы около полуфунта. «Утлое суденышко», — скажете вы, но в ту пору оно представлялось мне ничем не хуже настоящего трехпалубного корабля.
Я решил, что он слишком велик для лужи, где купались утки, и начал искать место, где он мог бы по-настоящему показать свои морские качества.
Скоро я нашел очень большой пруд — вернее, озеро, где вода была чиста, как кристалл, и тихий ветерок рябил ее поверхность. Этого ветра было достаточно, чтобы надувать паруса и нести мой маленький кораблик, как птицу на крыльях. Часто он пересекал весь пруд, прежде чем я успевал обежать вокруг, чтобы поймать его вновь. Много раз мы с ним состязались в скорости с переменным успехом. Иногда побеждал он, иногда я, в зависимости от того, был ли ветер попутным или дул навстречу кораблику.
Красивый пруд, на берегах которого я забавлялся и провел лучшие часы моего детства, не был общественной собственностью. Он был расположен в парке, принадлежавшем частному лицу. Парк начинался от конца деревни, и, конечно, пруд принадлежал владельцу парка. Это был, однако, доброжелательный и лишенный предрассудков джентльмен. Он разрешал жителям деревни проходить по своим землям и не только не возражал против того, чтобы мальчики пускали кораблики по его прудам и бассейнам, но даже позволял им играть в крикет на площадках парка, с тем чтобы дети вели себя осторожно и не портили кустов и растений, которыми были обсажены аллеи. С его стороны это было очень любезно. Мы, деревенская детвора, это чувствовали и вели себя так, что мне ни разу не приходилось слышать о каком-либо значительном ущербе, причиненном парку и пруду.
Парк и пруд существуют до сих пор — вы, наверно, знаете их. Но добрый джентльмен, о котором я говорю, давно ушел из этого мира, потому что его уже тогда называли «старым джентльменом», а это было шестьдесят лет назад.
По маленькому озеру плавала стая лебедей — точнее, их было шесть. Водились там и другие довольно редкие птицы. Дети любили кормить эти красивые создания. У нас было принято приносить кусочки хлеба и бросать птицам. Я тоже был в восторге от них и при малейшей возможности являлся к озеру с набитыми хлебом карманами.
Птицы, особенно лебеди, так приручились, что ели прямо из рук и нисколько не боялись нас.
У нас был забавный способ кормежки. В одном месте берег пруда был чуть покруче, он образовывал нечто вроде насыпи высотой около трех футов[131]. И пруд был здесь поглубже, так что лебеди могли подняться на сушу только с помощью крыльев. Берег был почти отвесный, без выступов или ступенек. Он именно нависал над водой, а не спускался к ней.
Сюда мы и заманивали лебедей. Они настораживались, уже завидев нас издали. Мы насаживали кусок хлеба на расщепленный кончик длинного прута и, поднимая его высоко над головами лебедей, забавлялись, глядя, как они вытягивали длинные шеи и иногда подпрыгивали на воде, стараясь схватить хлеб, — совсем как собаки при виде лакомого куска. Вы сами понимаете, сколько тут было веселья для мальчишек!
Теперь перейдем к происшествию, о котором я хочу рассказать.
Однажды я пришел на пруд, по обыкновению неся свой кораблик. Было рано, и, дойдя до берега, я убедился, что мои товарищи еще не явились. Я спустил кораблик на воду и зашагал вокруг пруда, чтобы встретить свое «судно» на другой стороне.
Ветра почти не было — кораблик двигался медленно. Спешить было нечего, и я брел по берегу. Выходя из дому, я не забыл о лебедях, моих любимцах. Надо признаться, они не раз заставляли меня пускаться на небольшие кражи: куски хлеба, которыми были набиты мои карманы, я добывал тайком из буфета.
Так или иначе, но я принес с собой их обычную порцию и, выйдя на высокий берег, остановился перед птицами.
Все шестеро, гордо выгнув шеи и слегка приподняв крылья, плавно заскользили по направлению ко мне. Вытянув клювы, они не спускали с меня глаз, следя за каждым моим движением. Они знали, что я звал их не зря.
Я достал ветку, расщепил ее на конце, приладил хлеб и стал забавляться уловками птиц, старавшихся схватить добычу.
Кусок за куском исчезал с конца ветки, и я уже почти опустошил карманы, как вдруг край дерна, на котором я стоял, обвалился у меня под ногами, и я бултыхнулся в воду.
Я ушел с шумом, как большой камень, и так как совершенно не умел плавать, то камнем и пошел бы прямо ко дну, если бы мне не случилось попасть в самую середину стаи лебедей, которые испугались не меньше моего.
Не то чтобы я сохранил присутствие духа, но просто, повинуясь инстинкту самосохранения, свойственному каждому живому существу, я попытался спастись, размахивая руками и стараясь ухватиться за что-нибудь. Утопающие хватаются и за соломинку, но в моих руках оказалось нечто лучшее, чем соломинка, — я ухватился за лапу самого большого и сильного из лебедей и держался за нее изо всех сил, ибо от этого зависела моя жизнь.
При падении мне в глаза и уши набралась вода, и я плохо соображал, что делаю. Сначала я слышал только плеск и крики вспугнутых лебедей, но в следующую секунду уже сообразил, что птица, которую я держу за ногу, увлекает меня к другому берегу. У меня хватило ума не отпустить лапу-и в одно мгновение я пронесся через половину пруда, что в конечном счете было не так уж много. Лебедь даже не плыл, а, скорее, летел, ударяя крыльями по поверхности воды и помогая себе свободной лапой. Без сомнения, страх удвоил его силы и энергию, а то он не мог бы тащить за собой существо, которое весило столько же, сколько он сам. Затрудняюсь сказать, сколько это продолжалось. Думаю, что не очень много времени. Птица могла еще продержаться на воде, но я бы долго не выдержал. Погружаясь, я набирал воду ртом и носом и уже начал терять сознание.
Но тут, к величайшей своей радости, я почувствовал что-то твердое под ногами. Это были камешки и галька на дне озера — я стоял на мелком месте. Птица, стремясь вырваться, пронеслась над самыми глубокими и опасными частями озера и оттащила меня в другой конец пруда, изобилующий мелями.
Я не мешкал ни минуты. Я был бесконечно рад, что закончил свое путешествие на буксире, и, разжав руку, выпустил лапу лебедя. Птица, почувствовав свободу, немедленно поднялась в воздух и полетела, пронзительно крича.
Что касается меня, то, нащупав наконец дно, шатаясь, чихая и отфыркиваясь, я окончательно встал на ноги, побрел к берегу и вскоре оказался в безопасности, на твердой земле.
Я был до того перепуган всем случившимся, что совершенно забыл о своем кораблике. Не думая о том, как он закончит плавание, я побежал во всю прыть и остановился лишь тогда, когда оказался дома. Вода так и текла с меня ручьями, я вымок насквозь и тут же стал сушить мокрую одежду возле горящего очага.
Глава 3
ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Пожалуй, вы подумаете, что урок, который я получил, отбил у меня охоту подходить близко к воде. Ничуть не бывало! Случай на пруду не научил меня осторожности, но оказался благодетельным для меня в другом отношении: как ни был я мал, я все же понял, как опасно попадать в глубокие места, не умея плавать. Опасность, которой я с таким трудом избежал, заставила меня принять новое решение, а именно — научиться плавать.
Мать одобрила мое намерение. То же самое писал мне отец из дальних стран. Он даже посоветовал наилучший способ обучения. Этого только мне и нужно было, и я с жаром принялся за дело в надежде стать первоклассным пловцом. Раз или два в день, в теплую погоду, после школы я отправлялся на море и плескался в воде, как молодой дельфин.
Старшие мальчики, уже умевшие плавать, дали мне несколько уроков, и скоро я испытал величайшее удовольствие, когда смог впервые плыть на спине без всякой посторонней помощи. Хорошо помню, что я был очень горд, совершив этот свой первый подвиг пловца.
Разрешите, юные слушатели, дать вам хороший совет: учитесь плавать! Это уменье пригодится вам скорее, чем кажется. Как знать, может, вам придется его применять, спасая других, а может быть, и самих себя.
В наше время случаев утонуть представляется гораздо больше, чем в старые времена. Многие ездят по морям, океанам и большим рекам, и количество людей, которые ежегодно подвергают опасности свою жизнь, отправляясь в путешествие по делу или ради удовольствия, даже трудно себе представить. В бурную погоду многие из них, не умея плавать, тонут.
Я не собираюсь, конечно, утверждать, что даже самый лучший пловец, потерпевший кораблекрушение где-нибудь вдали от берега, например в середине Атлантического океана или посреди пролива Ла-Манш, может надеяться, что доплывет до берега. Разумеется, это ему не удастся. Но и вдали от суши можно спастись, если доплыть до шлюпки, до какой-нибудь доски или пустой бочки.
Было немало примеров, когда люди спасали свою жизнь таким простым способом. К месту катастрофы может подойти другой корабль, и хорошему пловцу нужно только продержаться на поверхности воды, пока его не подберут. А не умеющие плавать пойдут ко дну.
К тому же вы знаете, что большинство кораблей терпит крушение не в середине Атлантического океана и вообще не в открытом море. В редких случаях буря достигает такой исключительной силы, чтобы море «разгулялось», как говорят моряки, и разбило корабль в щепки. Большинство крушений происходит вблизи берега. Именно тогда бывают человеческие жертвы, которых не было бы, если б все на корабле умели плавать. Каждый год мы узнаем, что сотни людей тонут в кабельтове[132] от берега; целые корабли, со всеми, кто находится на борту — переселенцами, солдатами, матросами, — погружаются в воду, — и только несколько хороших пловцов остаются в живых. Такие же несчастья происходят на речках шириной в каких-нибудь двести ярдов[133]. Вы сами, наверно, слышали, как люди каждый год умудряются тонуть даже в неширокой, но студеной речке Серпентайн[134].
Все это общеизвестно, и приходится удивляться беспечности людей и их нежеланию учиться плавать.
Приходится также удивляться тому, что правительство не заставляет молодежь учиться этому простому делу. Впрочем, основным занятием правительства во все времена было скорее облагать налогами, чем обучать свой народ.
Однако мне кажется, что для правительства было бы уж совсем не трудно заставить всех морских путешественников запасаться спасательными поясами. Я берусь доказать, что тысячи жизней каждый год могут быть спасены с помощью этого дешевого и простого приспособления. И никто не станет ворчать ни на стоимость, ни на неудобство спасательного пояса.
Правительство очень заботится о том, чтобы заставить путешественников заплатить за никчемный клочок бумаги, называемый заграничным паспортом. Как только вы заплатили, чиновникам становится безразлично, скоро ли вы и ваш паспорт пойдете на дно моря.
Итак, юные слушатели, хочет или не хочет этого ваше правительство, прислушайтесь к моему совету и сделайтесь хорошими пловцами! Возьмитесь за это немедленно — только в теплую погоду — и затем уже не пропускайте ни одного дня. Сделайтесь пловцами прежде, чем станете взрослыми. Потом у вас не будет ни времени, ни желания учиться плаванию. А между тем, не умея плавать, вы можете утонуть еще до того, как у вас появится первый пух на верхней губе. Лично я не раз бывал на волосок от смерти в воде. Водная стихия, которую я так любил, как бы задалась целью сделать меня своей жертвой. Я бы мог упрекнуть волны в неблагодарности, но не делал этого потому, что знал, что они неодушевленны и не отвечают за свои поступки. И вот однажды я безрассудно доверился им.
Это случилось через несколько недель после моего вынужденного купанья в пруду, когда я уже немного умел плавать.
Все это произошло не на том пруду, где плавали лебеди, потому что он служил для украшения парка и был частной собственностью. Купаться в нем было запрещено.
Но жители морского побережья и не нуждаются в прудах и озерах для купания. Они купаются в великом соленом море. И у нашего поселка, как и у других подобных же деревушек, был свой морской пляж. Конечно, первые уроки плавания я брал в соленой воде.
Место, где купались жители нашего поселка, было выбрано не совсем удачно. Правда, пляж был прекрасный: с желтым песком, белыми ракушками и галькой, но в морской глубине здесь скрывалось подводное течение, опасное для всех, кроме хороших, выносливых пловцов.
Местные жители рассказывали, что кто-то утонул, унесенный этим течением, но это случилось давно, и об этом почти забыли. Позже раза два или три купальщиков уносило в море, но их в конце концов спасали посланные вслед лодки.
Помню, эти факты тогда произвели на меня сильное впечатление. Но самые почтенные жители поселка — старые рыбаки — не любили говорить на эту тему. Они либо пожимали плечами и помалкивали, либо отговаривались ничего не значащими словами. Кое-кто из них даже вовсе отрицал существование подводного течения, другие утверждали, что оно неопасно. Я, однако, замечал, что родители не позволяли мальчикам купаться вблизи опасного места.
Долго я не понимал, почему мои односельчане так упорно не хотят признаться, что подводное течение существует. Когда я вернулся в поселок через сорок лет, я наткнулся на все то же таинственное пожимание плечами, хотя за это время народилось новое поколение, сильно отличающееся от того, с которым я когда-то расстался. Жители не хотят говорить о подводном течении, несмотря на то что в мое отсутствие произошло еще несколько случаев, доказывающих, что оно действительно существует и что оно действительно опасно.
Но теперь я стал старше и лучше понимаю людей. Скоро я понял истинную причину странного поведения моих односельчан. Наш поселок считается морским курортом и получает некоторый доход от приезжих, которые проводят здесь несколько недель летом. Это и так не первосортный курорт, а если бы пошли слухи о подводном течении и о том, как люди тонут из-за него, то к нам стало бы ездить еще меньше людей или вовсе никто не стал бы ездить. Поэтому, чем меньше вы говорите о подводном течении, тем больше вас уважают местные мудрецы.
Итак, мои юные друзья, я сделал длинное вступление к довольно обыкновенной истории, но дело в том, что я утонул, попав в это прибрежное подводное течение — именно утонул!
Вы скажете, что я, во всяком случае, не захлебнулся до смерти. Может быть, но я был в таком состоянии, что ничего не почувствовал бы, даже если бы меня разрезали на куски, и никогда не вернулся бы к жизни, если бы не мой спаситель. Этим спасителем оказался молодой рыбак из нашего поселка, по имени Гарри Блю. Ему я обязан своим вторичным рождением.
История, повторяю, самая обыкновенная, но я ее рассказываю для того, чтобы вы знали, как я познакомился с Гарри Блю, так как он оказал решительное влияние на всю мою последующую жизнь.
Я отправился на пляж купаться, как обычно, но вошел в воду в новой для меня и пустынной части берега. Считалось, что в этом месте подводное течение особенно сильно, и действительно, оно мгновенно подхватило меня и понесло в открытое море. Меня отнесло так далеко, что всякая надежда доплыть до суши пропала. Страх и уверенность в гибели так сковали мне тело, что я не в состоянии был удержаться на поверхности и начал погружаться в глубину, как кусок свинца.
Я не знал тогда, что мне не суждено еще умереть. Не помню, что было потом. Помню только, что передо мной появилась лодка и в ней человек. Вокруг меня как бы спустились сумерки, а в ушах раздавался грохот, похожий на удары грома. Сознание мое померкло, как пламя задутой свечи. Оно вернулось ко мне благодаря Гарри Блю. Когда я почувствовал, что еще жив, и открыл глаза, то увидел человека, стоящего возле меня на коленях. Он растирал мне руками тело, нажимая на живот под ребрами, и щекотал ноздри пером, всячески стараясь вырвать меня у смерти.
Гарри Блю удалось вновь вдохнуть в меня жизнь. Он тут же взял меня на руки и отнес домой, к матери, которая едва не потеряла рассудка, увидев меня в таком состоянии. Мне влили в рот вина, к ногам приложили горячие кирпичи и бутылки, дали понюхать нашатыря, закутали в теплые одеяла. Было принято еще много мер, и много лекарств пришлось мне проглотить, пока решили, что опасность миновала и что я, вероятно, выживу.
Наконец все успокоились, а через двадцать часов я уже снова был на ногах как ни в чем не бывало.
Казалось, бы, такой случай мог научить меня осторожности. Но я не внял голосу рассудка и повел себя совсем иначе, а почему и как, вы узнаете из следующих глав.
Глава 4
ЯЛИК
Нет, все уроки прошли даром! Я побывал на краю гибели, но это не только не отбило у меня тягу к воде, но даже наоборот.
Знакомство с молодым лодочником скоро переросло в прочную дружбу. Его звали, как я сказал, Гарри Блю, и он обладал смелым и добрым сердцем. Нечего и говорить, что я крепко привязался к нему, да и он ко мне. Он вел себя так, как будто я его спас, а не он меня. Он положил много трудов, чтобы сделать из меня образцового пловца, и научил меня пользоваться веслами так, что в короткое время я стал грести вполне уверенно, гораздо лучше, чем другие мальчики моего возраста. Я греб не одним веслом, как дети, а двумя, как взрослые, и управлялся без всякой посторонней помощи. Это было великое достижение. И я всегда гордился, когда Гарри Блю поручал мне взять его шлюпку из заводи, где она стояла, и привести ее в какое-нибудь место на берегу, где он ждал пассажиров, желающих покататься. Проходя мимо судов, стоявших на якоре или вблизи пляжа, я не раз слышал насмешливые восклицания вроде: «Гляди, какой забавный малыш на веслах!» или «Разрази меня гром! Посмотрите на этого клопа, ребята!»
Я слышал и другие шутки, сопровождаемые раскатами хохота. Но это меня ничуть не смущало. Наоборот, я очень гордился тем, что могу вести лодку куда нужно без всякой помощи и, пожалуй, быстрее, чем те, кто был ростом вдвое выше меня.
Прошло немного времени, и надо мной перестали смеяться, разве только кто-нибудь из приезжих. Односельчане же увидели, что я умею управлять лодкой, и, несмотря на мой юный возраст, стали относиться ко мне даже с уважением — во всяком случае, шутки прекратились. Часто меня называли «морячком» или «матросиком», а еще чаще «морским волчонком». Дома во мне всячески поддерживали мысль о профессии моряка. Отец хотел сделать меня моряком. Если бы он дожил еще до одного плавания, я отправился бы с ним в море. Мать всегда одевала меня в матросское платье излюбленного тогда фасона — синие штаны и куртка с отложным воротником, с черным шелковым платком на шее. Я гордился всем этим. И отчасти мой костюм и породил кличку «морской волчонок». Это прозвище мне нравилось больше других, потому что его придумал Гарри Блю, а с тех пор как он спас меня, я считал его своим верным другом и покровителем.
Его дела в то время процветали. У него была собственная лодка — вернее сказать, две лодки. Одна из них была много больше другой — он называл ее шлюпкой, — и она постоянно была занята, особенно когда на ней хотели покататься трое или четверо пассажиров. Вторую лодку, маленький ялик, Гарри купил недавно, и она предназначалась для одного пассажира, потому что на ней меньше приходилось работать веслами. Во время купального сезона шлюпка, конечно, была в действии чаще. Почти каждый день на ней катались отдыхающие, а ялик спокойно стоял у причала. Мне было позволено брать его и кататься сколько угодно, одному или с товарищами. Обычно после школьных занятий я садился в ялик и катался по бухте.
Редко я бывал один, потому что многие мои однокашники любили море и все они смотрели на меня с величайшим уважением, как на хозяина лодки. Мне стоило только захотеть, и я тут же находил себе спутника.
Мы катались почти ежедневно, если море было спокойно. Понятно, в бурную погоду ездить на крошечной лодочке было нельзя, сам Гарри Блю запретил такие прогулки.
Наши рейсы совершались лишь на небольшом расстоянии от поселка, обычно в пределах бухты, и я всегда старался держаться берега и никогда не отваживался отойти подальше, потому что в море любой случайный шквал грозил мне опасностями.
Однако со временем я осмелел и чувствовал себя как дома и вдалеке от суши. Я стал уходить на милю от берега, не думая о последствиях. Гарри заметил это и повторил свое предупреждение. Может быть, этот разговор и подействовал бы на меня, не услышь я через минуту, как он говорил обо мне кому-то из своих товарищей:
— Замечательный парень! Верно, Боб? Молодчина! Из него выйдет настоящий моряк, когда он вырастет!
Я решил, что далекие прогулки не под таким уж строгим запретом, и совет Гарри «держать по берегу» не произвел на меня должного впечатления.
Вскоре я и вовсе ослушался его. Невнимание к советам опытного моряка едва не стоило мне жизни, как вы сейчас в этом убедитесь.
Но прежде позвольте отметить одно обстоятельство, которое перевернуло вверх дном мою жизнь. Случилось большое несчастье: я потерял обоих родителей.
Я уже говорил, что мой отец был моряком. Он командовал судном, которое, помнится мне, ходило в американские колонии. И отца так подолгу не бывало дома, что я вырос, почти не зная его. А это был славный, мужественный моряк с обветренным, почти медного цвета, и при этом красивым и веселым лицом.
Моя мать была сильно к нему привязана, и, когда пришло известие о гибели судна и моего отца, она не могла совладать с горем. Она стала чахнуть, ей больше не хотелось жить, и для нее осталась лишь надежда присоединиться к отцу в другом мире. Ей недолго пришлось ждать исполнения своих желаний: всего через несколько недель после того, как до нас дошла ужасная весть, мою бедную маму похоронили.
Таковы были обстоятельства, которые изменили всю мою жизнь. Теперь я стал сиротой, без средств к существованию и без дома. Родители мои были люди бедные, семья наша целиком зависела от заработков отца, а он не мог принять никаких мер на случай своей смерти. Мы с матерью остались почти без денег. Может быть, судьба была милостива, что увела ее из этой жизни — жизни, в которой не осталось больше места для радостей. И хотя я долго оплакивал мою дорогую, милую матушку, но впоследствии не мог удержаться от мысли, что, пожалуй, лучше, что она ушла от нас. Долгие-долгие годы прошли бы, прежде чем я смог помочь ей, и холод и мрак нищеты стали бы ее уделом.
Последствия смерти родителей оказались для меня чрезвычайно серьезны. Я не остался, конечно, на улице, но условия моей жизни совершенно изменились. Меня взял к себе дядя, который ничем не походил на мою нежную, мягкосердечную мать, хотя и был ее родным братом. Напротив, это был человек сердитый, с грубыми привычками. И скоро я убедился в том, что он относится ко мне нисколько не лучше, чем к своим работникам и служанкам.
Мои школьные занятия кончились. С тех пор как я переступил порог дома дяди, меня больше в школу не посылали. Но мне не позволяли и сидеть без дела. Мой дядя был фермером, и он нашел для меня работу: с утра до вечера я пас свиней и коров, погонял лошадей на пашне, ходил за овцами, носил корм телятам… Я был свободен только в воскресенье — не потому, что дядя мой был религиозен, но таков уж обычай: в этот день никто не работал. Вся деревня строго соблюдала этот обычай, и дядя был вынужден ему подчиняться — в противном случае, мне думается, он заставил бы меня трудиться и в воскресенье.
Поскольку мой дядя не интересовался религией, меня не понуждали ходить по праздникам в церковь, и мне предоставлялось право бродить по полям и вообще делать все, что угодно. Вы сами понимаете: я не мог шататься по деревне и развлекаться лазаньем за птичьими гнездами, когда передо мной лежало лазурное море. Как только у меня появлялась возможность удрать из дому, я отправлялся к воде и либо помогал моему другу Гарри Блю возить пассажиров по бухте, либо забирался в ялик и уходил на нем в море ради собственного удовольствия. Так я проводил воскресенья.
При жизни матери мне внушали, что грешно проводить воскресенье в пустой праздности. Но пример дяди научил меня иному, и я пришел к заключению, что этот день — самый веселый из всех дней недели.
Впрочем, одно из воскресений оказалось для меня далеко не веселым и, больше того, едва ли не последним днем моей жизни. И, как всегда, в новом приключении участвовала моя любимая стихия — вода.
Глава 5
ОСТРОВОК
Было прекрасное воскресное утро. Майское солнце ярко сияло, и птицы наполняли воздух радостным щебетаньем. Резкие голоса дроздов смешивались с нежными трелями жаворонков, а над полями то здесь, то там звучал неумолчный монотонный крик кукушки. Сильное благоухание, похожее на запах миндаля, разливалось в воздухе: цвел боярышник, и легкий ветерок разносил его запах по всему побережью. Зеленые изгороди, поля молодой пшеницы, луга, пестревшие золотыми лютиками и пурпурным ятрышником в полном цвету, птичьи гнезда в живых изгородях — все эти прелести сельской природы манили многих моих сверстников, но меня больше увлекало то, что лежало вдали, — спокойная, блистающая пелена небесно-голубого цвета, искрящаяся под лучами солнца, как поверхность зеркала. Великая водная равнина — вот где были сосредоточены все мои желания, вот куда я рвался всей душой! Мне казалось, что море красивее, чем волнуемая ветром пшеница или пестревший цветами луг; легкий плеск прибоя музыкальнее, чем трели жаворонка, а йодистый запах волн приятнее аромата лютиков и роз.
Когда я вышел из дому и увидел улыбающееся, сияющее море, мне страстно, почти неудержимо захотелось окунуться в его волны. Я спешил поскорее удовлетворить свое желание и потому не стал ждать завтрака, а ограничился куском хлеба и чашкой молока, которые раздобыл в кладовой. Поспешно проглотив то и другое, я бросился на берег.
Собственно говоря, я покинул ферму украдкой, так как боялся, что смогут возникнуть препятствия. Вдруг дядя позовет меня и прикажет остаться дома! Хотя он не возражал против прогулок по полям, но я знал, что он не любит моих поездок по воде и уже не раз запрещал их.
Я принял некоторые меры предосторожности. Вместо того чтобы пойти по улице, которая вела к большой береговой дороге, я выбрал боковую тропу — она должна была привести меня к пляжу кружным путем.
Никто не помешал мне, и я достиг берега никем не замеченный — никем из тех, кого могло интересовать, куда я делся.
Подойдя к причалу, где молодой лодочник держал свои суденышки, я увидел, что шлюпка ушла в море, а ялик остался в моем распоряжении. Ничего другого мне и не нужно было: я решил совершить на ялике большую прогулку. Первым делом я забрался в него и вычерпал всю воду со дна. Там накопилось порядочно воды — по-видимому, яликом уже несколько дней не пользовались, а обычно дно его много воды не пропускало. К счастью, я нашел старую жестяную кастрюлю — она служила для вычерпывания воды — и, поработав минут десять — пятнадцать, осушил лодку в достаточной степени. Весла лежали в сарае, за домиком лодочника. Сарай стоял неподалеку. Я, как всегда, взял весла, не спрашивая ни у кого разрешения. Я вошел в ялик, вставил уключины, вложил в них весла, уселся на скамью и оттолкнулся от берега. Крохотная лодочка послушно повиновалась удару весел и заскользила по воде, легкая и подвижная, как рыба. И с веселым сердцем я устремился в искрящееся голубое море. Оно не только искрилось и голубело, оно было спокойно, как озеро. Не было ни малейшей ряби, вода была так прозрачна, что я мог видеть под лодкой рыб, играющих на большой глубине.
Морское дно в нашей бухте покрыто чистым серебристо-белым песком; я видел, как маленькие крабы, величиной с золотую монету, гонялись друг за другом и преследовали еще более мелкие создания, рассчитывая позавтракать ими. Стайки сельдей, широкая плоская камбала, крупный палтус, красивая зеленая макрель и громадные морские угри, похожие на удавов, — все резвились или подстерегали добычу.
В это утро море было совершенно спокойно, что редко случается на нашем побережье. Погода как будто была создана специально для меня — ведь я предполагал совершить большую прогулку, как уже говорил вам.
Вы спросите, куда я направлялся. Слушайте, и вы сейчас узнаете.
Примерно в трех милях[135] от берега виднелся маленький островок. Собственно говоря, даже не островок, а группа рифов или скал площадью около тридцати квадратных ярдов. Высота их достигала всего нескольких дюймов над уровнем воды, и то только в часы отлива, потому что в остальное время скалы были покрыты водой, и тогда виднелся лишь небольшой тонкий столб, поднимавшийся из воды на несколько футов и увенчанный бочонком. Столб поставили для того, чтобы небольшие суда во время прилива не разбились о подводный камень.
Островок был виден с суши только во время отлива. Обычно он был блестящего черного цвета, но порой, казалось, покрывался снегом в фут вышиной и тогда выглядел гораздо привлекательнее. Я знал, почему он меняет цвет, знал, что белый покров, который появляется на островке, — это большие стаи морских птиц, которые садятся на камни, делая передышку после полета, или же ищут мелкую рыбешку и рачков, выброшенных сюда приливом.
Меня всегда привлекал этот небольшой островок, может быть, потому, что он лежал далеко и не был связан с берегом, но скорее оттого, что на нем густо сидели птицы. Такого количества птиц нельзя было найти нигде в окрестностях бухты. По-видимому, они любили это место, потому что в часы отлива я наблюдал, как они отовсюду тянулись к рифу, летали вокруг столба, а затем садились на черную скалу, покрывая ее своими телами так, что она казалась белой. Эти птицы были чайки, но, кажется, там их насчитывалось несколько пород — покрупнее и помельче. А иногда я замечал там и других птиц — гагар и морских ласточек. Конечно, с берега трудно было их различить, потому что самые крупные из них казались не больше воробья, и если бы они не летали такой массой, их бы вовсе не было видно.
Полагаю, что из-за птиц меня больше всего и тянуло на островок. Когда я был поменьше, я увлекался всем, что относится к естественным наукам, особенно пернатыми созданиями. Да и какой мальчик не увлекается этим! Возможно, существуют науки, более важные для человечества, но ни одна так не приходится по вкусу жизнерадостной молодежи и не близка так их юным сердцам, как наука о природе. Из-за птиц или по какой-либо другой причине, но я всегда мечтал съездить на островок. Когда я смотрел на него — а это случалось всякий раз, когда я оказывался у берега, — во мне пробуждалось желание исследовать его из конца в конец. Я знал его очертания в часы отлива и мог бы нарисовать их, не видя самого островка. По бокам островок был ниже, а в середине образовывал кривую линию, напоминая гигантского кита, лежащего на поверхности воды; а столб на его вершине напоминал гарпун, застрявший в спине кита.
Мне очень хотелось потрогать этот столб, узнать, из какого материала он сделан, высок ли вблизи, потому что с берега казалось, что он высотой не больше ярда. Мне хотелось выяснить, что представляет собой бочонок наверху и как закреплено основание столба в земле. Вероятно, столб был вбит очень прочно. Мне случалось видеть, как в штормовую погоду гребни волн перекатывались через него и пена вздымалась так высоко, что ни скал, ни столба, ни бочонка вовсе не было видно.
Ах, сколько раз и с каким нетерпением ждал я случая съездить на этот островок! Но случая все не представлялось. Островок лежал слишком далеко для моих обычных прогулок, и слишком опасно было отправляться туда одному на утлой лодчонке, а плыть со мной никто не соглашался. Гарри Блю обещал взять меня туда с собой, но в то же время посмеивался над моим желанием посетить островок. Что ему эта скала! Он не раз проплывал мимо нее, даже высаживался там и привязывал лодку к столбу, чтобы пострелять морских птиц или половить рыбу по соседству, но мне ни разу не случилось сопровождать его в этих увлекательных поездках. Я все надеялся, что он как-нибудь возьмет меня с собой, но под конец утратил всякую надежду: ведь я был свободен только по воскресеньям, а воскресенье было для моего друга самым трудовым днем, потому что в праздник множество людей едет кататься по морю.
Долго я ждал напрасно и наконец решил больше не ждать. В это утро я принял дерзкое решение взять ялик и одному отправиться на риф. Таков был мой план, когда я отвязал лодочку и ринулся на ней в сверкающий голубой простор моря.
Глава 6
ЧАЙКИ
Я назвал свое решение дерзким. Сама по себе затея не представляла ничего особенного. Она была дерзкой только для мальчика моего возраста. Надо было пройти три мили на веслах по открытому морю, почти совершенно потеряв из виду берег. Так далеко я еще никогда не ходил. Даже половины этого расстояния я не проделывал. Редко случалось мне одному, без Гарри, выходить из бухты даже на милю от берега, да и то по мелководью; с ним-то я обошел всю бухту, но в таких случаях мне не приходилось управлять лодкой, и, доверяя уменью лодочника, я ничего не боялся. Другое дело — одному: ведь все зависело от меня самого. Если что-нибудь произойдет, никто не окажет мне помощи, не даст совета… Едва я отъехал на милю, как моя затея стала мне казаться не только дерзкой, но и безрассудной, и я уже готов был повернуть обратно.
Но мне пришло в голову, что кто-нибудь, может быть, смотрит на меня с берега. Что, если какой-нибудь мальчик из тех, что мне завидуют — а такие были в деревне, — видел, как я отправился на остров? Он тотчас догадается, почему я повернул назад, и уж наверняка станет называть меня трусом. Отчасти благодаря этой мысли, а отчасти потому, что желание посетить островок все-таки еще не прошло, я приободрился и приналег на весла.
В полумиле от рифа я бросил весла и обернулся, чтобы посмотреть на него, потому что он лежит как раз за моей спиной. Я сразу заметил, что островок весь находится над водой — прилив в это время был на самой низкой точке. Но черных камней не было видно из-за сидевших на них птиц. Казалось, что там находится стая лебедей или гусей. Но я знал, что это чайки, потому что многие из них кружили в воздухе, некоторые то садились, то поднимались снова. Даже на расстоянии полумили отчетливо были слышны их крики. Я мог бы услышать их и на еще более дальнем расстоянии, потому что ветра совсем не было.
Трудно выразить, как мне хотелось попасть на риф и посмотреть на птиц вблизи. Я думал подойти к ним поближе и остановиться, чтобы последить за движениями этих красивых созданий, так как многие из них непрерывно перелетали с места на место и я не мог определить, что они собираются делать.
В надежде, что они меня не заметят и мне удастся подплыть поближе, я старался грести бесшумно, опуская весла в воду так осторожно, как переступает лапами кошка, подстерегающая мышь.
Приблизившись таким образом на расстояние около двухсот ярдов, я поднял весла и оглянулся. Птицы меня не замечали. Чайки — пугливые создания, они хорошо знакомы с охотничьими ружьями и разом снимаются с места, как только подойдешь к ним на расстояние ружейного выстрела. У меня не было ружья, и им нечего было бояться. Даже если бы и было ружье, я не умел им пользоваться. Возможно, что, заметив ружье, они улетели бы, потому что чайки в этом отношении напоминают ворон и прекрасно знают разницу между ружьем и рукояткой мотыги. Им хорошо знаком блеск ружейного ствола.
Я долго разглядывал их с большим интересом. Если бы мне пришлось на этом закончить прогулку и тотчас вернуться назад, я все же считал бы себя вознагражденным за потраченные усилия. Птицы, которые теснились около камней, все были чайки, но здесь были две породы, различные по размерам и не совсем одинаковые по цвету: одни были черноголовые, с сероватыми крыльями, другие — покрупнее первых и почти целиком белые. И те и другие выглядели так, словно ни одно пятнышко грязи никогда не касалось их снежно-белого оперения, а их ярко-красные лапки были похожи на ветви чистейшего коралла.
Я видел, что все они были заняты. Одни охотились за пищей, состоявшей из мелкой рыбешки, крабов, креветок, омаров, двустворчатых раковин и других морских животных, выброшенных последним приливом. Другие сидя чистили себе перья и словно гордились их видом.
Однако, несмотря на кажущуюся счастливую беспечность, чайки, как и другие живые существа, не были свободны от забот и дурных страстей. На моих глазах разыгралось несколько свирепых ссор — я так и не мог определить их истинную причину. Особенно забавно было наблюдать, как чайки ловили рыбу: они падали пулей с высоты больше чем в сто ярдов и почти бесшумно исчезали под водой, а через несколько мгновений появились снова, держа в клюве сверкающую добычу.
Из всех птичьих маневров на земле и в воздухе, я думаю, самый интересный — это движение чайки-рыболова, когда она преследует добычу. Даже полет коршуна не так изящен. Крупные виражи чайки, мгновенная пауза в воздухе, когда она нацеливается на жертву, молниеносное падение, кружево взбитой пены при нырянии, внезапное исчезновение этой крылатой белой молнии и появление ее на лазурной поверхности — все это ни с чем нельзя сравнить! Никакое изобретение человека, использующее воздух, воду или огонь, не может дать такого прекрасного эффекта.
Я долго сидел в своей лодочке и любовался движениями птиц. Довольный тем, что моя поездка не прошла даром, я решил до конца выполнить свой план и высадиться на остров.
Красивые птицы оставались на местах почти до того момента, когда я уже вплотную подошел к острову. Казалось, они знали, что я не собираюсь причинить им никакого вреда, и доверяли мне. Во всяком случае, они не опасались ружья и, поднявшись в воздух, летали над моей головой так низко, что я мог бы сбить их веслом.
Одна из чаек, как будто самая крупная из стаи, все время сидела на бочонке, на верху сигнального столба. Возможно, что она показалась мне особенно большой только потому, что сидела неподвижно и я мог лучше разглядеть ее. Но я заметил, что, перед тем как снялись с места другие птицы, эта чайка поднялась первая, с пронзительным криком, похожим на команду. Очевидно, она была вожаком или часовым всей стаи. Такой же порядок я заметил у ворон, когда они отправляются грабить бобы или картофель на огородах.
Отлет птиц меня почему-то опечалил. Самое море как будто потемнело, с рифа пропала его белая одежда, обнажились голые скалы с черными, блестящими, как будто смазанными смолой, камнями. Но это было еще не все. Поднялся легкий ветерок, облако закрыло солнечный диск, зеркальная поверхность воды замутилась и посерела.
Риф имел теперь довольно унылый вид. Но так как я решил его исследовать и приехал именно с этой целью, я налег на весла, и вскоре киль моего суденышка заскрипел, коснувшись камней.
Я увидел маленькую бухточку, которая вполне годилась для моей лодки. Я направил туда нос ялика, высадился на берег и зашагал прямо к столбу, на который столько лет смотрел издали и с которым так сильно хотел познакомиться поближе.
Глава 7
ПОИСКИ МОРСКОГО ЕЖА
Скоро я дотронулся руками до этого куска дерева и почувствовал такой прилив гордости, как будто это был Северный полюс и я его открыл. Я был немало удивлен действительными размерами столба и тем, как я обманывался, глядя на него издали. С берега он казался не толще шеста от граблей или от вил, а бочонок — размером с довольно крупную репу. Как же я был удивлен, когда увидел, что на самом деле столб втрое толще моей ноги, а бочонок больше меня самого! Это была, в сущности, настоящая бочка вместимостью в девять галлонов[136]. Она была насажена на конец столба так, что его верхний конец входил в дыру на дне бочки и таким образом надежно ее поддерживал. Бочка была выкрашена в белый цвет; впрочем, об этом я знал и раньше, часто наблюдая с берега, как она блестит на солнце. Столб же был темный когда-то, может быть, даже черный, но волны, которые в бурную погоду хлестали его своей пеной, совершенно обесцветили его.
Я ошибся и в высоте столба. С берега он казался не выше человеческого роста, но на скале он возвышался надо мной подобно корабельной мачте. В нем было не меньше двенадцати футов — да, по крайней мере двенадцать!
Я неверно судил и относительно площади островка. Раньше мне казалось, что в нем около тридцати квадратных ярдов, но я убедился, что на самом деле гораздо больше — около акра[137]. Островок был усеян камнями разных размеров, от мелкой гальки до валунов с человека величиной, среди скал, из которых состоял островок, лежали и более крупные глыбы. Все камни были покрыты черной вязкой массой, похожей на смолу. Кое-где росли большие пучки водорослей, в том числе хорошо знакомый мне вид морской травы, на которую я потратил немало трудов, таская ее на дядин огород для удобрения картофеля.
Осмотрев сигнальный столб и подивившись истинным размерам бочки на его вершине, я оставил его и принялся исследовать риф. Я хотел взять с собой на память об этой знаменательной и приятной поездке какую-нибудь диковинную раковину. Но это оказалось вовсе не легким делом, значительно более трудным, чем я предполагал. Я уже говорил, что камни были покрыты вязкой массой, которая делала их скользкими. Они были такими скользкими, как будто их вымазали мылом, и ступать по ним было очень сложным делом. Я сразу упал и получил несколько основательных ушибов.
Я колебался, идти ли мне дальше в этом направлении: мой ялик остался на другой стороне рифа. Но вдруг я увидел на конце узкого полуострова, выдававшегося в море, множество редких раковин и решительно отправился за ними.
Я уже раньше подобрал несколько раковин в расселинах скал; одни были пустые, в других сидели моллюски. Но это были самые обыкновенные раковины: трубянки, сердцевики, острячки, голубые двустворчатые. Я не раз находил их в морской траве, которой удобряли огороды. Не было ни одной устрицы, о чем я искренне пожалел, потому что проголодался и с удовольствием съел бы дюжины две. Я находил только маленьких крабов и омаров, но их нельзя есть сырыми.
Продвигаясь к концу полуостровка, я искал морских ежей[138], но пока не нашел ни одного. Мне давно хотелось найти хорошего ежа. Иногда они попадались у нас на взморье, но редко, и очень ценились в качестве украшения для каминной полки. Они могли быть на этом отдаленном рифе, редко посещаемом лодочниками, и я медленно бродил, тщательно обыскивая каждый провал и расселину между скал.
Я надеялся найти здесь что-нибудь редкое. Блестящие раковины, из-за которых я отправился в поход, казались мне еще более яркими по мере приближения. Но я не спешил. Я не боялся, что раковины удерут от меня в воду: их обитатели давно покинули свои дома, и я знал, что они не вернутся. Я продолжал неторопливо продвигаться вперед, когда вдруг, дойдя до конца полуостровка, увидел чудесный предмет — темно-красный, круглый, как апельсин, но гораздо крупнее апельсина. Но, я думаю, нечего описывать вам, как выглядит панцирь морского ежа.
Я взял его в руки и любовался закругленными формами и забавными выступами на спинке панциря. Это был один из самых красивых морских ежей, каких я когда-либо видел. Я поздравлял себя с удачей — для этого стоило съездить на риф.
Я вертел в руках свою находку, рассматривал чистенькую, белую комнатку, в которой когда-то жил еж. Через несколько минут я оторвался от этого зрелища, вспомнил о других раковинах и отправился на новые поиски.
Остальные раковины были мне незнакомы, но так же красивы. Здесь оказались три или четыре разновидности. Я наполнил ими карманы, набрал полные пригоршни и повернул обратно к лодке.
О ужас! Что я увидел! Раковины, морской еж — все посыпалось у меня из рук, словно было сделано из раскаленного железа. Они упали к моим ногам, и я сам едва не свалился на них, потрясенный картиной, которая открылась моим глазам. Что это? Лодка! Лодка? Где моя лодка?
Глава 8
ЯЛИК УПЛЫЛ
Итак, именно лодка была причиной моего крайнего изумления. Вы спросите, что же случилось с лодкой. Утонула? Нет, не утонула — она уплыла.
Когда я взглянул на то место, где оставил лодку, ее там не было. Бухточка среди скал была пуста!
Тут не было ничего таинственного. Я сразу все понял, потому что сейчас же увидел свою лодку. Она медленно удалялась от рифа.
Я не привязал ее и даже не вытянул конец каната на берег, и бриз, ставший теперь свежее, вывел ее из бухточки и погнал по воде.
Сначала я был просто поражен, но через секунду или две мое удивление перешло в тревогу. Как мне достать лодку? Как вернуть ее к рифу? А если это не удастся, как добраться до берега? До него было по меньшей мере три мили.
Я не мог бы проплыть такое расстояние даже ценой жизни, и у меня не было никакой надежды, что кто-нибудь явится ко мне на помощь.
Вряд ли кто-либо на берегу видел меня и знал о моем положении. Вряд ли кто заметил и лодку. Ведь на таком расстоянии, как я сам убедился, небольшие предметы теряются вдали. Казалось, что скалы рифа выступают над водой не больше чем на фут, а на самом деле больше чем на ярд. Таким образом, лодка вряд ли будет замечена, и никто не обратит внимания на мое бедственное положение — разве что посмотрит в подзорную трубу. Но можно ли на это рассчитывать?
Чем больше я думал, тем больше убеждался, что своим несчастьем обязан собственному легкомыслию.
Несколько минут я был в полной растерянности и не мог принять никакого решения. Я принужден был оставаться на рифе, потому что другого выхода не было. Затем мне пришло в голову, что я могу броситься вплавь за лодкой и вернуть ее обратно. Пока что она отошла от островка на какие-нибудь сто ярдов, но с каждой минутой уходила все дальше.
Если догонять лодку, то это надо делать не теряя времени, ни одной секунды!
Что мне еще оставалось делать? Если я не догоню лодку, я попаду в очень тяжелое, даже опасное положение. И я решил попробовать.
Я мгновенно сорвал с себя одежду и запрятал ее между камней. Потом снял башмаки и чулки; рубашка тоже последовала за ними, чтобы она не стесняла движений. Я словно готовился выкупаться. В таком виде я бросился в воду — без разбега, потому что глубина была достаточная у самых камней. Я направился к лодке по прямой линии.
Я старался плыть изо всех сил, но все же приближался к ялику очень медленно. Иногда мне казалось, что лодка удаляется от меня с такой же скоростью, с какой я плыл, и эта мысль наполняла меня досадой и страхом.
Если я не догоню ялик, мне придется вернуться на риф или пойти ко дну, потому что, гонясь за ним, я понял, что добраться вплавь до берега для меня так же трудно, как переплыть Атлантический океан. Я был хорошим пловцом и мог бы, если понадобится, проплыть целую милю, но одолеть три мили было уже выше моих сил. Этого я не мог бы сделать даже для спасения своей жизни. Кроме того, лодка удалялась не по направлению к берегу, а в противоположную сторону, к выходу из бухты, а оттуда, в случае неудачи, мне пришлось бы преодолеть десять миль.
Я начал сомневаться, стоит ли гнаться за яликом, и стал подумывать о возвращении на риф, пока еще не выдохся окончательно, но тут увидел, что ялик слегка изменил курс и повернул в сторону. Это произошло благодаря неожиданному порыву ветра с другой стороны. Лодка приблизилась ко мне, и я решил сделать еще одну попытку.
Попытка увенчалась успехом. Через несколько мгновений я радостно ухватился руками за край борта. Это дало мне возможность передохнуть после долгого заплыва.
Отдышавшись, я попытался влезть в лодку, но, к моему ужасу, маленькое суденышко не выдержало моей тяжести и перевернулось вверх дном, как корыто, а я оказался под водой.
Я вынырнул на поверхность и, снова ухватившись руками за лодку, попробовал сесть верхом на киль. Однако из этого ничего не вышло, потому что я потерял равновесие и так накренил лодку, что она перевернулась еще раз и пришла в нормальное положение. В сущности, только это мне и было нужно, но, заглянув в лодку, я убедился, что она зачерпнула много воды. Под весом воды лодка настолько осела, что я перебрался через борт и влез в нее без особого труда. Но через секунду я увидел, что положение ничем не улучшилось, потому что она начала тонуть. Вес моего тела еще больше утяжелил ее, и я понял, что если не прыгну опять в воду, то она быстро пойдет ко дну. Сохрани я хладнокровие и выпрыгни вовремя, лодка осталась бы на поверхности. Но я был сильно напуган и ошеломлен бесконечным нырянием, сообразительность меня покинула, и я торчал в лодке, стоя по колена в воде. Я хотел было вычерпать воду, но чем? Жестяная кастрюля исчезла вместе с веслами. Без всякого сомнения, она потонула, пока лодка переворачивалась, а весла плавали вдалеке.
В полном отчаянии я начал вычерпывать воду пригоршнями, но не успел сделать и нескольких движений, как почувствовал, что ялик погружается. В следующее мгновение он затонул прямо подо мной, а я принужден был поработать руками и ногами, чтобы уйти от водоворота, который образовался на месте его гибели.
Я посмотрел на то место, где он исчез. Я знал, что это уже навсегда. Мне оставалось только одно — плыть обратно к рифу.
Глава 9
СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБ
Я добрался до рифа не без труда. Рассекая грудью воду, я чувствовал, что иду против течения, — это начинался прилив. Именно прилив и ветер угнали у меня лодку. Но я достиг рифа вовремя — каждый лишний фут обошелся бы мне дорого.
Усилие, которое я потратил, чтобы вылезть на берег, могло стать последним, если бы оно не довело меня до скалы. Это было все, на что я был способен, — до такой степени я устал. К счастью, у меня хватило сил на это последнее усилие, но я был совершенно измучен и несколько минут, стараясь отдышаться, лежал на краю рифа, на том месте, где вылез из воды.
Однако я недолго находился в бездействии. Положение было не такое, чтобы тратить время попусту. Зная это, я вскочил на ноги и огляделся.
Не знаю, почему я прежде всего посмотрел в сторону погибшей лодки. Быть может, во мне шевелилась смутная надежда, что она всплывет. Но об этом и думать было нелепо. На море не было ничего, и только бесполезные теперь весла плыли вдали, по волнам, и как будто дразнили меня. С таким же успехом они могли бы пойти ко дну вместе с лодкой.
Затем я обратил свой взгляд в сторону берега, но и там ничего не было видно, кроме низкой и ровной полосы земли, на которой стоял поселок. Людей на берегу я не заметил, даже с трудом различал дома, потому что, как бы в добавление к моему унынию и окружавшим меня опасностям, и самое небо стало заволакиваться, а вместе с облаками появился и свежий бриз.
Волны сделались так высоки, что закрывали от меня берег. Впрочем, даже в хорошую погоду я не мог бы разобрать очертания людей на берегу, потому что от рифа до ближайшей окраины поселка было больше трех миль.
Звать на помощь было бессмысленно. Даже в безветренный день меня бы не услышали. И, прекрасно зная это, я и не пытался открыть рот.
Я ничего не мог заметить на поверхности моря: ни корабля, ни шлюпа, ни шхуны, ни брига — ни одного судна не виднелось в бухте. Было воскресенье, и суда находились на стоянках. По той же причине и рыбачьи лодки не выходили в море, а все шлюпки для катанья из нашего поселка отправились к знаменитому маяку — в том числе, вероятно, и лодка Гарри Блю.
На севере, востоке, западе и юге не было ни одного паруса. Кругом лежала водная пустыня, и я чувствовал себя заживо погребенным.
Я хорошо запомнил жуткое чувство одиночества, которое охватило меня. Помню, что я прислонился к скале и зарыдал.
К тому же неожиданно вернулись чайки. Может быть, они сердились на меня за то, что я их прогнал: они летали над самой моей головой, испуская оглушительные, резкие крики, как бы намереваясь напасть на меня. Теперь я думаю, что они делали это скорее из любопытства, чем от злобы.
Я обсудил свое положение, но так и не придумал ничего. Мне оставалось только одно — ждать, пока не подойдет помощь извне. Другого выхода не было. Я никак не мог выбраться с островка сам.
Но когда приедут за мной? Ведь только по счастливой случайности кто-нибудь с берега вдруг обратит внимание на риф. Впрочем, без подзорной трубы меня все равно оттуда не увидят. Всего один — два лодочника имели подзорные трубы — я это знал, — и одна была у Гарри Блю. Но далеко не каждый день они пользовались этими трубами. И десять шансов против одного, что они не направят их на риф. Зачем им смотреть в этом направлении? Этим путем суда никогда не ходят, а корабли, направляющиеся в бухту, всегда далеко обходят опасный риф. Таким образом, надежда, что меня заметят невооруженным глазом или в трубу, была очень слаба. Но еще слабее была надежда, что меня подберет какое-нибудь судно, раз путь судов не лежит мимо рифа.
Полный таких неутешительных мыслей, я уселся на скалу и стал ждать дальнейших событий.
Я тогда не предвидел возможности умереть с голоду на островке. Я не думал тогда, что дело может принять настолько дурной оборот. Но именно так и могло получиться. Предотвратить беду могло лишь одно обстоятельство: Гарри Блю увидит, что ялик пропал, и начнет искать его.
Конечно, он этого не заметит до наступления темноты: вряд ли он вернется с пассажирами раньше. Однако, когда начнет вечереть, он наверняка отправится домой. Увидев, что лодочка отвязана, он, естественно, подумает, что взял ее я, потому что я единственный из мальчиков и вообще из жителей поселка пользовался этой привилегией. Увидев, что лодки нет, что даже к ночи она не вернулась, Блю пойдет к дяде. Тогда начнется тревога и меня станут искать. В конце концов все это приведет к тому, что меня найдут.
Меня не столько беспокоила мысль о собственной судьбе, сколько страх перед тем, что я наделал. Как я теперь посмотрю Гарри в глаза? Чем я возмещу убыток? Дело серьезное — у меня денег нет, а дядя не станет платить за меня. Обязательно надо возместить лодочнику потерю лодки, но как это сделать? Разве что дядя разрешит мне отработать этот долг Гарри… А я бы работал по целым неделям, пока не окупится стоимость ялика, лишь бы у Гарри нашлось применение моим силам.
Я сидел и высчитывал, во сколько могла обойтись лодочнику утонувшая лодка. Я был целиком поглощен этими мыслями. Мне не приходило в голову, что моя жизнь в опасности. Я знал, что меня ждет голодная и холодная ночь. Я промокну насквозь: прилив целиком покроет камни рифа, и мне всю ночь придется стоять в воде.
Кстати, какова будет глубина воды? Дойдет ли мне до колен?
Я осмотрелся, думая найти какие-нибудь указания об уровне воды. Я знал, что риф полностью покрывается приливом, я это сам видел раньше. Но мне, как и многим прибрежным жителям, казалось, что вода заливает риф только на несколько дюймов.
Сначала я не мог найти ничего такого, что бы указывало на обычную высоту воды, но наконец взгляд мой упал на сигнальный столб. На нем был нанесен уровень приливной волны, он был даже отмечен белым кружком — без сомнения, с целью указать на это морякам, Представьте себе, как я был потрясен, какой ужас я испытал, когда убедился, что уровень воды достигает высоты не меньше шести футов выше основания столба!
Чуть не теряя рассудок, я бросился к столбу. Я прижался к нему вплотную. Увы! Мои глаза не обманули меня: линия приходилась намного выше моей головы. Я с трудом доставал до нее даже кончиками пальцев вытянутой руки.
Меня охватил неописуемый ужас, когда я понял, что мне угрожало: прилив зальет скалы раньше, чем придет помощь. Волны сомкнутся над моей головой — я буду смыт с рифа и утону в водной пучине!
Глава 10
Я ВЗБИРАЮСЬ НА СТОЛБ
Теперь я убедился в том, что моя жизнь в опасности — вернее, что меня ждет неизбежная смерть. Надежда, что меня спасут в тот же день, была с самого начала слаба, теперь она почти вовсе исчезла. Прилив начнется задолго до наступления ночи. Вода быстро достигнет высшей точки, и это будет конец. Даже если меня хватятся до вечера — а это, как я уже говорил, было сомнительно, — все равно будет поздно. Прилив ждать не станет.
Смешанное чувство ужаса и отчаяния, охватившее меня, надолго сковало мои движения. Я ничего не соображал и некоторое время ничего не замечал вокруг себя. Я только оглядывал пустынную морскую ширь, поворачиваясь из стороны в сторону, и беспомощно смотрел на волны. Не было видно ни паруса, ни лодки. Ничто не нарушало однообразия водной пелены, только белые крылья чаек хлопали вокруг меня. Птицы уже не раздражали меня своим криком, но время от времени то одна, то другая возвращалась и пролетала над моей головой. Они словно спрашивали, что я делаю здесь и почему не покидаю этих мест.
Луч надежды вдруг вывел меня из мрачного отчаяния. Мне снова попался на глаза сигнальный столб, так напугавший меня, но теперь он произвел на меня обратное действие: мне пришло в голову, что он спасет меня.
Вряд ли нужно объяснять, что я решил взобраться на верхушку столба и просидеть там, пока не схлынет прилив. Половина столба была выше отметины — значит, выше самой высокой точки прилива. На верхушке я буду в безопасности?
Весь вопрос в том, как влезть по столбу, но это казалось нетрудным. Я хорошо лазил по деревьям и, конечно, быстро справлюсь с этим несложным делом.
Открытие нового убежища вселило в меня новые надежды. Нет ничего легче, как забраться наверх. Мне предстояло провести там тяжелую ночь, но опасность миновала. Она была в прошлом — я еще посмеюсь над ней.
Воодушевленный этой уверенностью, я снова приблизился к столбу, чтобы взобраться наверх. Я хотел только попробовать. У меня оставалось еще достаточно времени до начала прилива. Я просто хотел убедиться в том, что в нужную минуту смогу спастись этим путем.
Оказалось, что это довольно трудно, особенно внизу, где столб до высоты первых шести футов был покрыт той же черной скользкой массой, которая покрывала и камни. Я невольно вспомнил скользкие, нарочно смазанные салом столбы, служившие развлечением на праздниках в нашем поселке[139].
Неоднократные попытки ни к чему не привели, пока я не вскарабкался наконец выше отметины. Одолеть верхнюю часть столба оказалось легче, и скоро я очутился на верхушке.
Я протянул руку, чтобы ухватиться за верхний край бочонка и влезть на него. Я уже поздравлял себя с находчивостью, как вдруг мысли мои приняли иное направление, и я снова впал в отчаяние.
Мои руки были слишком коротки — они не доставали до верхнего обода бочки. Я мог дотянуться только до середины, в том месте, где бочка расширяется, но не мог ухватиться за нее, ни влезть наверх, ни удержаться на месте. Не мог я и оставаться там, где был. Я ослабел и через несколько секунд вынужден был соскользнуть к подножию столба.
Я попробовал еще раз, но без результата. Потом еще раз — снова то же самое. Затея была бессмысленной. Раскидывая руки и сгибая ноги, я никак не мог подняться выше того места, где начиналась бочка, и, протянув руки, доставал только до ее середины. Конечно, я не мог удержаться в таком положении: у меня не хватало опоры, и я вынужден был снова скользить вниз.
Новая тревога охватила меня, когда я сделал это открытие, но на этот раз я не поддался отчаянию. Возможно, что перед лицом приближающейся опасности мой мозг стал работать быстрее. Во всяком случае, я овладел собой и стал думать, что бы мне предпринять.
Будь у меня нож, я мог бы сделать надрезы на столбе и, упираясь в них ногами, подняться повыше. Но ножа у меня не было и делать надрезы было нечем, разве что грызть дерево зубами. Положение становилось чрезвычайно трудным.
Наконец меня осенила блестящая мысль. Что, если натаскать камней к основанию столба, навалить их так, чтоб они были выше отметины, и встать на них? Так и нужно сделать.
Возле столба уже лежало несколько камней, положенных, как видно, для его устойчивости. Надо прибавить еще, соорудить керн, то есть нечто вроде старинного могильника или пирамиды из камней, и забраться наверх.
Новый план спасения так мне понравился, что я немедленно стал приводить его в исполнение. На рифе было сколько угодно обтесанных водой камней, и я предполагал, что в несколько минут моя насыпь будет готова. Но, немного поработав, я стал понимать, что это дело займет гораздо больше времени, чем я думал. Камни были скользкие, носить их было трудно. Одни были слишком тяжелы для меня, а другие, те, что полегче, вросли в песок так основательно, что я не мог их оторвать.
Несмотря на это, я работал изо всех сил. Я знал, что если хватит времени, то я успею построить достаточно высокий керн. Больше всего я боялся не поспеть.
Приливная волна начинала подниматься. Медленно, но неуклонно она подходила все ближе и ближе, — я это чувствовал!
Я не раз падал, напрягая все силы в этой борьбе. Колени мои были разодраны в кровь острыми камнями. Но я не обращал никакого внимания на трудности, на боль и усталость. Мне угрожала большая опасность — потерять жизнь! И не надо было понукать меня, чтобы я превозмог все препятствия в работе.
Мне удалось довести насыпь до высоты собственного роста раньше, чем прилив стал заливать скалы. Но я знал, что этого мало. Еще два фута — и мой керн сровняется с отметиной на столбе. Я упорно продолжал работать, не отдыхая ни одной секунды. Работа же становилась все труднее и труднее. Все близлежащие камни пошли в дело, и за новыми приходилось ходить все дальше. Я совершенно изранил себе руки и ноги, и это еще больше мешало работе. Теперь приходилось вкатывать камни на высоту моего роста. Я выбивался из сил. Вдобавок большие куски скалы внезапно срывались с вершины кучи и скатывались, грозя разбить мне ноги.
Наконец после долгого труда — прошло два часа или даже больше — работу пришлось прервать, но насыпь еще далеко не была готова. Излишне, пожалуй, говорить вам, что мне помешало. Да, это был прилив, который, подобравшись к камням, сразу обрушился на них. Это произошло не так, как на берегу, где прилив наступает постепенно, волна за волной. Здесь волна достигла уровня прибрежных скал и, перекатившись через них, залила остров первым же потоком и сразу на порядочную глубину.
Я не переставал трудиться, пока не залило скалы. Я работал, стоя по колени в воде, склонясь к ее поверхности, иногда почти погружаясь в нее. Я доставал большие камни и относил их к насыпи. Я работал, а пена била мне в лицо, меня окатывало с головой так, что я боялся захлебнуться. Но я работал, пока глубина и сила волн не выросли до того, что я уже не мог больше стоять на скалах. Тогда, передвигаясь то ползком, то вплавь, я притащил к куче камней последний камень и водрузил его на вершине, затем взобрался туда сам. Я стоял на самой высокой точке своего укрепления, плотно охватив шест сигнального столба правой рукой. С трепещущим сердцем стоял я и глядел на прибывающее море.
Глава 11
ПРИЛИВ
Не могу сказать, что я с уверенностью ждал результатов своей выдумки. Совсем наоборот — я дрожал от страха. Будь у меня больше времени на постройку керна, чтобы сделать его выше волн и достаточно крепким, я был бы спокойнее. В сигнальном столбе я не сомневался: он был испытан и выдержал уже не одну бурю за много лет. Я боялся за только что построенный керн, за его вышину и прочность. Что касается вышины, то мне удалось поднять насыпь на пять футов — ровно на один фут ниже отметки на столбе.
Таким образом, я должен был стоять на фут в воде, но это меня мало беспокоило в таких трудных обстоятельствах. Не это было причиной моих тяжелых предчувствий. Другая мысль меня волновала: меня беспокоила белая отметка на столбе. Я знал, что она обозначает высшую точку приливной волны, когда море спокойно, совершенно спокойно. Но море не было спокойным. Довольно свежий ветер вздымал волны не меньше фута, а может быть, и двух футов вышиной. Если так, то мое тело окажется на две трети или на три четверти в воде, не считая гребней волн, которые будут меня обдавать с головой.
Но это все было бы ничего. А что, если ветер усилится и перейдет в бурю или просто начнется сильное волнение? Тогда вся моя работа ни к чему. Потому что в бурю мне не раз случалось видеть, как белая пена обдает риф и поднимается на много футов над вершиной сигнального столба.
Да, если разыграется буря, я пропал!
Такое опасение возникало у меня то и дело.
Правда, некоторые обстоятельства мне благоприятствовали. Стоял прекрасный месяц май, утро было чудесное. В другом месяце скорее можно ожидать шторма. Но и в мае бывают штормы. На суше может стоять безоблачная погода, а в это время в море гибнут корабли. Да, наконец, пусть даже и не поднимется ураган — обыкновенное волнение легко смоет меня с моей кучи камней.
Меня тревожило и другое — керн был сделан неплотно. Я и не пытался построить его по-настоящему; для этого не было времени. Камни были навалены друг на друга как попало, и, встав на них, я сразу почувствовал, что это довольно шаткая опора. Что будет, если они не смогут сопротивляться течению, напору прилива и ударам волн? Если так, то, значит, я трудился напрасно. Если они рухнут, то вместе с ними рухну и я и больше не встану!
Неудивительно, что сомнения мои все увеличивались. Я не переставал думать о том, что будет, если такая беда случится, и тщательно оглядывал поверхность бухты — только для того, чтобы еще больше разочароваться.
Долго оставался я в первоначальном положении, крепко обнимая столб, прижавшись к нему, как к самому дорогому другу. И верно, это был мой единственный друг: если бы не он, я бы не мог соорудить керн. Без столба его мгновенно размыла бы вода, да и я не смог бы удержаться на нем стоя.
Если бы я не держался за столб, мне трудно было бы сохранить равновесие.
Я сохранял это положение, почти не двигая ни одним мускулом. Боялся даже переступить с ноги на ногу, чтобы камни не покатились, потому что собрать их во второй раз было невозможно: для этого не оставалось времени. Уровень воды вокруг подножия столба был уже выше моего роста, и мне пришлось бы плавать.
Я все время оглядывался, не двигая при этом корпусом, а лишь поворачивая шею. Я смотрел то вперед, то назад, то по сторонам, не прекращая своих наблюдений, и не меньше полусотни раз подряд убедился в том, что никто не идет мне на помощь. Я следил за уровнем прилива и за большими волнами, которые неслись к рифу и бились о скалы, как будто возвратясь из далекого странствия. Казалось, они разъярены и угрожают мне, и негодуют на то, что я забрался в их приют. Что нужно тут мне, слабому смертному, в их собственном обиталище, в месте, предназначенном для их суровых игр? Мне казалось, что они говорят со мной. У меня началось головокружение-мне чудилось, что я уже сорвался и тону в темном водном пространстве.
Волны поднимались все выше и выше. Вот они залили верхушку моей насыпи и покрыли ступни, вот они подмывают мне колени… Когда же они остановятся? Когда прекратится прилив?
Еще рано, рано! Вода поднимается все выше, выше! Я стою уже по пояс в соленом потоке, а пена омывает меня, брызжет мне в лицо, окатывает плечи, забирается в рот, в глаза и уши — я задыхаюсь, я тону!.. О Боже!
Вода достигла высшей точки и залила меня почти целиком. Я сопротивлялся с отчаянным упорством, крепко прижавшись к сигнальному столбу. Это продолжалось долго и, если бы все оставалось без изменения, я мог бы удержаться на своем месте до утра. Но перемена приближалась: на меня надвигалась самая большая опасность.
Наступила ночь! И, словно сигнал к моей гибели, ветер, все усиливаясь, стал переходить в бурю. Облака сгущались еще в сумерки, угрожая дождем, и вот он грянул потоками — ветер принес дождь. Волны становились все круче и несколько раз обдали меня с головой. Это были потоки такой силы, что я с трудом их выдержал, меня едва не сорвало.
Сердце у меня замирало от страха. Если волны превратятся в могучие, бурные валы, я не смогу больше сопротивляться, и меня снесет.
Последняя волна сдвинула меня с места, и мне пришлось переменить положение и утвердиться более прочно. С этой целью я слегка приподнялся на руках, нащупывая ногами более высокую и надежную точку на насыпи, но в этот момент нагрянула новая волна, сорвала мои ноги с насыпи и отнесла их в сторону. Цепляясь руками за столб, я повис на секунду почти в горизонтальном положении. Наконец волна прошла. Я снова попытался достать ногами до камней — именно достать, потому что под моей тяжестью камни стали расползаться у меня под ногами, как будто их неожиданно смыло. Я не мог больше держаться, соскользнул по столбу и вслед за развалившейся кучей камней полетел в воду.
Глава 12
Я ДЕРЖУСЬ НА СТОЛБЕ
К счастью, я выучился плавать, и довольно искусно. В ту минуту это мое достижение оказалось чрезвычайно полезным. Только поэтому я и не утонул. Я немного умел нырять, а не то мне пришлось бы совсем плохо, потому что, погрузившись в воду, я тут же очутился почти на самом дне, среди безобразных черных камней.
Я недолго там оставался и вынырнул на поверхность, как утка. Удерживаясь на волнах, я оглянулся. Я хотел найти сигнальный столб, но это было не так легко, потому что пена залепляла мне глаза. Словно собака-водолаз, отыскивающая в воде какой-нибудь предмет, вертелся я в волнах, стараясь найти столб. Я с трудом соображал, не понимая, куда он делся, — вода ослепила и оглушила меня.
Наконец я его заметил. Он был от меня уже не так близко, как я предполагал, — на расстоянии многих ярдов, пожалуй, не меньше двадцати. Я отчаянно боролся с волнами и ветром. Если бы эта борьба продлилась еще минут десять, меня бы унесло так далеко, что я уже не в состоянии был бы вернуться назад.
Как только я увидел столб, я поплыл к нему, не отдавая себе отчета, зачем это нужно. Просто меня гнал туда инстинкт, мне казалось, что там я найду спасение. Я поступал, как все утопающие: хватался за соломинку. Я утратил последнюю каплю хладнокровия, и при этом меня не покидало сознание того, что, добравшись до столба, я все еще буду далек от безопасности. Я не сомневался, что смогу доплыть до него, — это было в моих силах и возможностях.
Я мог бы легко влезть на столб и добраться до бочки, но не дальше. Влезть на бочку я был не в состоянии, даже под страхом смерти. Я уже сделал несколько попыток и убедился, что мне это не под силу. А я был уверен, что девятигаллонный бочонок достаточно велик, чтобы послужить мне убежищем, где я без труда дождусь конца шторма.
Кроме того, если бы я взобрался наверх до наступления ночи, меня бы, возможно, увидели с берега, и все приключение окончилось бы благополучно. Мне положительно казалось, что, когда я влез в первый раз на столб, меня заметил один — нет, даже несколько человек, праздно бродивших по пляжу; и, вероятно, решив, что я один из мальчуганов, которые нарушили святость воскресного дня, забравшись на риф для пустых забав, они перестали обращать на меня внимание.
Конечно, тогда я не мог влезть на столб: я быстро выдохся. Кроме того, как только мне пришло в голову соорудить насыпь, нельзя уже было терять ни секунды времени.
Эти мысли не приходили мне в голову, пока я плыл, стараясь добраться до столба. Но кое о чем я подумал. Я понял, что не сумею взобраться на бочку. Я стал соображать, что же мне делать, когда доплыву до столба, — это было мне совсем неясно. Буду стараться держаться за столб, как и раньше, но как мне удержаться возле него? Так я и не решил этого вопроса, пока не ухватился за столб.
После долгой борьбы с ветром, приливом и дождем я снова обнял его, как старого друга. Он и был для меня чем-то вроде друга. Если бы не этот столб, я пошел бы ко дну.
Достигнув столба, я уже как бы чувствовал себя спасенным. Было нетрудно, держась за него руками, лежать всем остальным туловищем в воде, хотя, конечно, это было довольно утомительно.
Если бы море было спокойно, я бы мог долго оставаться в таком положении, пожалуй, до конца прилива, а это было все, что мне требовалось. Но море не было спокойно, и это меняло дело. Правда, на время оно почти утихло и волны стали меньше, чем я и воспользовался, чтобы отдохнуть и отдышаться.
Но это была короткая передышка. Ветер подул снова, полил дождь, и море забушевало опять, еще сильнее, чем раньше. Меня подбросило вверх, почти до самой бочки, и тотчас потащило вниз, к камням, потом завертело волчком вокруг столба, который служил мне как бы стержнем. Я проделывал акробатические упражнения не хуже любого циркача.
Первый натиск волн я выдержал мужественно. Я знал, что борюсь за спасение своей жизни, что бороться необходимо. Но это давало слабое утешение. Я чувствовал, как недалек от гибели, меня одолевали самые мрачные предчувствия. Самое худшее было еще впереди, и я знал, что еще несколько таких схваток с морем — и силы мои вконец иссякнут.
Что бы такое сделать, чтобы удержаться на месте? Я ломал себе голову над этим в перерыве между двумя валами. Будь у меня веревка, я привязал бы себя к столбу. Но веревка была так же недоступна для меня, как лодка или как уютное кресло у камина в доме дяди. Не было смысла и думать о ней. Но в эту минуту словно добрый дух шепнул мне на ухо: если веревки нет, надо ее заменить чем-нибудь!
Вам не терпится узнать, что я придумал? Сейчас услышите.
На мне была надета плисовая куртка — просторная одежда из рубчатого плиса, какую носили дети простых людей, когда я был мальчиком. При жизни матери я носил ее только по будням, а теперь не расставался с ней и в праздники. Не будем умалять достоинства этой куртки. Позже я стал хорошо одеваться, носил платье самого лучшего сукна, какое только могут произвести на свет ткацкие станки западной Англии, но за все свои наряды я не отдал бы кусочка моей старой плисовой куртки. Мне кажется, я имею полное право сказать, что обязан ей жизнью.
Так вот, на куртке был ряд пуговиц — не нынешних роговых, костяных, слабеньких… нет! Это были хорошие, крепкие металлические пуговицы размером с шиллинг и с железными «глазками» в середине. На мое счастье, они были крупные и прочные.
Куртка была на мне, и тут мне тоже повезло, потому что ее могло и не быть. Ведь, отправляясь в погоню за лодкой, я сбросил куртку и штаны. Но, вернувшись, я надел снова и то и другое, потому что стало вдруг довольно свежо. Все это произошло весьма кстати, как вы сами сейчас увидите.
Зачем мне понадобилась куртка? Для того, чтобы разорвать ее на полосы и привязать себя к столбу? Нет! Это было бы почти непосильной задачей для человека, затерянного в бушующем море и у которого в распоряжении только одна свободная рука для вязания узлов. Я даже не мог снять куртку, потому что промокшая ткань прилипла к телу, как приклеенная. Я ее и не снял.
Мой план был гораздо лучше: я расстегнул и широко распахнул куртку, плотно прижался грудью к столбу и застегнул куртку на все пуговицы с противоположной стороны столба.
К счастью, куртка была достаточно просторной. Дядя оказал мне неоценимую услугу, заставив меня и по праздникам носить эту широкую, старую плисовую куртку, хотя в то время я думал иначе.
Застегнув все пуговицы, я получил возможность отдохнуть и подумать — это был первый случай за все время.
Теперь меня уже не могло смыть, и мне нечего было бояться. Я мог сорваться с рифа только вместе со столбом. Я стал составной частью столба, как бочка на его верхушке, и даже больше, потому что корабельный канат не мог бы так прочно меня с ним связать, как полы моей крепкой куртки.
Если бы от близости к столбу зависело мое спасение, я мог бы сказать, что уже спасен. Но увы! Опасность еще не миновала. Через некоторое время я увидел, что положение мое улучшилось лишь немногим. Громадный вал пронесся над рифом и окатил меня с головой. Я даже подумал, что устроился еще хуже, чем раньше. Я был так плотно пристегнут к столбу, что не мог взобраться повыше; вот почему мне пришлось выдержать новое купанье. Волна прошла, я остался на месте, но какой в этом толк? Я скоро задохнусь от таких повторных купаний. Силы меня оставят, я соскользну вниз и утону, — и тогда можно будет сказать, что я умер если не со знаменем, то «с древком в руках».
Глава 13
ПОДВЕШЕН К СТОЛБУ
Однако я не потерял присутствия духа и стал снова думать, как бы подняться над уровнем волн. Я мог бы это сделать, не расстегивая ни одной пуговицы. Но как мне удержаться наверху? Я очень скоро соскользну вниз. О, если бы здесь была хоть какая-нибудь зарубка, узелок, гвозди! Если бы, наконец, был у меня нож, чтобы сделать надрез! Но узелок, зарубка, гвоздь, нож, надрез — все это было недостижимо…
Нет! Нужно совсем другое. Я вспомнил, что столб суживается кверху, верхушка его стесана со всех сторон и заострена, а на острие надет бочонок, или, вернее сказать, часть верхнего конца столба пропущена в дно бочонка.
Я вспомнил, как выглядит узкая часть столба: там вокруг него есть выступ, нечто вроде кольца, или «воротника». Хватит ли этого небольшого выступа для того, чтобы зацепить за него куртку и помешать ей соскользнуть вниз? Необходимо попытаться это сделать.
Не дожидаясь новой волны, я «атаковал» конец столба. Ничего не вышло — я слетел обратно, внизу меня снова ждали мои горести: меня опять окатило водой.
Вся беда была в том, что я не мог как следует натянуть воротник куртки — мешала голова.
Я полез снова, задумав на этот раз другое. Как только схлынула волна, у меня появилась новая надежда: надо попробовать закрепиться наверху не курткой, а чем-нибудь другим.
Но чем же? И это я придумал! Вы сейчас узнаете, что именно. На плечах у меня были помочи — не современные матерчатые подтяжки, а два крепких ремня оленьей кожи. Я и решил повиснуть на них.
Пробовать и соображать не было времени. Я не имел ни малейшего желания находиться внизу — и опять отправился наверх. Куртка помогла мне. Я натянул ее, откинувшись изо всех сил на спину и стиснув ногами столб.
Таким образом я получил возможность оставаться наверху подольше, не испытывая усталости.
Устроившись как следует, я снял помочи. Я действовал с величайшей осторожностью, несмотря на неудобную позу. Я постарался не уронить ни одного из ремней, связав их вместе. Узел я сделал как можно крепче, экономя каждый свободный кусочек ремня. На конце я сделал петлю, предварительно опоясав помочами столб, продвинул эту петлю вверх, пока она не оказалась выше выступа на столбе, и затянул ее. Мне осталось только пропустить ремень через застегнутую на все пуговицы куртку, опоясать себя свободным концом и завязать его. Я все это сделал довольно быстро и, откинувшись назад, налег на ремень всей своей тяжестью. Я даже убрал ноги и висел с минуту, как повешенный. Если бы какой-нибудь лоцман увидел меня в таком положении в свою трубу, он наверняка решил бы, что я самоубийца или что произошло кошмарное преступление.
Я очень устал и наглотался воды. Вряд ли я сознавал весь комизм своего положения. Но теперь я мог смеяться над опасностями. Я был спасен от смерти. Это было все равно, что увидеть Гарри Блю с его лодкой на расстоянии десяти ярдов от столба. Пусть буря крепчает, пусть льет дождь, пусть воет ветер, пусть вокруг меня беснуются пенистые гребни! Невзирая ни на что, я останусь здесь, наверху.
Правда, мое положение нельзя было назвать особенно удобным. Я сразу начал соображать, как бы устроиться получше. Ноги у меня затекли, и мне приходилось опускать их и повисать на ремне, что было неприятно и даже опасно. Однако был выход и из этого неудобства, и я скоро нашел его. Я разорвал штаны снизу до колен — кстати, они были сделаны из той же плотной ткани, что и куртка, — и, закрутив жгутом повисшие вниз концы, обвел их вокруг столба и крепко завязал. Это обеспечило покой нижней части моего тела. Таким образом, полувися, полусидя, я провел остаток ночи.
Если я скажу вам, что в свое время начался отлив и снова обнажились скалы, вы решите, что я, конечно, тотчас отвязался от столба и спустился вниз. Нет, я этого не сделал: я больше не доверял этим скалам.
Мне было неудобно, но я оставался на столбе — я боялся, как бы не пришлось еще раз все начать сначала. Вдобавок я знал, что наверху меня скорее заметят, когда настанет утро, и с берега пошлют ко мне на помощь.
И помощь мне была послана, или, вернее, пришла сама собой.
Не успела Аврора позолотить морской горизонт, как я увидел лодку, несущуюся ко мне со всей возможной скоростью. Когда она подошла поближе, я увидел то, что мне лишь грезилось раньше: на веслах сидел Гарри Блю!
Не стану распространяться о том, как повел себя Гарри, как он смеялся, кричал, размахивал веслом, как бережно и осторожно снял меня со столба и положил в лодку. И когда я рассказал ему всю историю и сообщил, что его ялик пошел ко дну, он не стал сердиться, а только улыбнулся и сказал, что могло быть и хуже. И с того дня ни разу ни один упрек не сорвался с его уст — ни слова о погибшем ялике!
Глава 14
ЗАВТРА — В ПЕРУ!
Опасное приключение на рифе не оказало на меня никакого действия — я не стал бояться воды. Пожалуй, я еще больше ее полюбил именно за то волнение, которое испытываешь при опасностях.
Вскоре я почувствовал непреодолимое желание увидеть чужие страны, пересечь океан. Каждый раз, когда я глядел на бухту, эта мысль приходила мне в голову. Видя на горизонте белые паруса, я думал, как счастливы должны быть те, которые плывут на этих кораблях. С удовольствием поменялся бы я местом с последним матросом из их экипажа.
Может быть, меня не так бы тянуло в море, если бы домашняя моя жизнь сложилась получше, если бы у меня были добрый отец и любящая мать. Но мой суровый старый дядя мало заботился обо мне. Таким образом, лишенный семейных уз, которые привязывали бы меня к дому, я еще больше стремился в океан. Я очень много работал на ферме, а к такому образу жизни меня совсем не влекло. Нудная работа только разжигала мое стремление отправиться в далекие края, повидать чудесные страны, о которых я читал в книгах и о которых рассказывали матросы, бывшие рыбаки из нашего поселка, приходившие теперь на побывку в родные места. Они толковали о львах, тиграх, слонах, крокодилах, обезьянах величиной с человека, о змеях, длинных, как якорный канат. Короче говоря, мне надоела тупая, однообразная жизнь, которую я вел дома и которая в моем представлении была возможна только в нашей стране, потому что, судя по рассказам моряков, во всех остальных странах можно было встретить сколько душе угодно диких зверей, заманчивых приключений и всяких невероятных чудес.
Помню одного молодого парня, который прокатился на остров Мэн и вернулся с такими рассказами о своих приключениях среди чернокожих и удавов, что я мучился от зависти к человеку, пережившему такие волнующие истории[140]. Я неплохо знал правописание и арифметику, но о географии имел самые смутные представления. Поэтому я толком не разбирался, где находится остров Мэн, но решил при первой возможности съездить туда и поглядеть на чудеса, о которых рассказывал парень.
Хотя это было для меня сложным предприятием, но я не терял надежды, что мне удастся его осуществить. В особых случаях из нашего поселка на остров Мэн ходила шхуна, и я рассчитывал как-нибудь совершить на ней это трудное плавание. Это могло оказаться нелегким делом, но я решил сделать все, что возможно. Я догадался завязать приятельские отношения с некоторыми матросами шхуны и просил их взять меня с собой, когда они пойдут в очередной рейс.
Пока я терпеливо дожидался этой возможности, произошел случай, который заставил меня принять новое решение и окончательно вытеснил из моей головы и шхуну и трехногий остров[141].
Милях в пяти от нашего поселка, на берегу той же бухты, как вы знаете, находится большой город — настоящий морской порт, куда заходят большие корабли — крупные трехмачтовые суда, плавающие во все части света с большими грузами.
В один прекрасный день мне посчастливилось отправиться в город вместе с дядиным батраком, который вез на продажу овощи и молоко. Меня послали в качестве помощника присматривать за лошадью, пока он будет заниматься распродажей продуктов.
Наша тележка случайно проезжала мимо пристани, и я получил прекрасную возможность увидеть громадные суда, стоявшие вдоль набережной, и полюбоваться их высокими, стройными мачтами и изящной оснасткой.
Мы остановились около одного корабля, который мне особенно понравился. Он был больше всех соседних судов, и его красиво суживающиеся кверху мачты поднимались на несколько футов выше остальных. Но не величина и изящные пропорции так сильно привлекли мое внимание, хотя я сразу залюбовался ими. Самым интересным для меня было то, что кораблю предстояло скорое отплытие — на следующий день. Я узнал это, прочитав на большой, прикрепленной на видном месте доске следующее объявление:
«И Н К А»
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЕРУ
З А В Т Р А
Сердце мое забилось, как перед ужасной опасностью, но истинной причиной этого волнения была безумная мысль, возникшая в моем мозгу тут же, как только я прочел короткую, волнующую надпись.
Почему бы мне не отправиться в Перу завтра?
Почему бы и нет?
Но тут передо мной встали большие препятствия. Их было много, это я хорошо знал. Во-первых, дядюшкин батрак, который находится рядом, обязан привезти меня домой.
Само собой разумеется, нечего и думать просить у него разрешения съездить в Перу.
Во-вторых, надо было, чтобы меня согласились взять с собой моряки. Я был не настолько наивен, чтобы не подумать о громадной сумме денег, которая понадобится для оплаты длительного путешествия в Перу или в любую другую часть света. А без денег не возьмут на борт и маленького мальчика.
У меня не было денег, даже чтобы заплатить за проезд на пароме. Вот первая трудность, с которой я столкнулся. Как же мне попасть в число пассажиров?..
Мысли мои неслись, как молнии. Не прошло и десяти минут, в течение которых я разглядывал красавец корабль, и такие препятствия, как отсутствие денег на проезд и находившийся тут же работник с фермы, улетучились из моей головы. И с полной уверенностью в своих силах я пришел к заключению, что непременно отправлюсь в Перу завтра.
В какой части света лежит Перу, я знал не больше, чем луна в небе, — даже меньше, потому что с луны в ясные ночи, должно быть, хорошо видно Перу.
В школе я учился только чтению, письму и арифметике. Последнюю я знал неплохо; потому что наш школьный учитель был большой мастер по части счета и очень гордился своими познаниями, которые передавал и своим ученикам. Это был главный предмет в школе. Географией же он пренебрегал, почти вовсе не преподавал ее, и я не знал, где находится Перу, хотя и слышал, что есть на свете такая страна.
Матросы, приезжавшие на побывку, рассказывали о Перу, что это жаркая страна и плавание до нее от Англии занимает шесть месяцев. Говорили, что эта страна изобилует чудесными золотоносными жилами, чернокожими, змеями и пальмами.
Этого для меня было достаточно. Именно о такой стране я и мечтал. Словом, решено — я еду в Перу на «Инке»!
Но следовало немедленно продумать план действий: где достать деньги на проезд и как убежать из-под присмотра Джона, правившего тележкой.
Казалось бы, первое представляло собой более трудную задачу, но на самом деле это было вовсе не так уж сложно, — по крайней мере, я тогда так предполагал.
У меня на этот счет были определенные соображения. Я много наслышался о мальчиках, которые убегали в море, поступали на корабль юнгами и впоследствии становились умелыми матросами. У меня было впечатление, что в этом нет ничего трудного и что любой мальчик, достаточно рослый и проворный, будет принят на корабль, если только захочет работать.
Я опасался только насчет своего роста, потому что был невысок, даже ниже, чем мне полагалось по возрасту, хотя и отличался крепким сложением и выносливостью. Не раз слышал я попреки и насмешки над тем, как я мал. Я боялся поэтому, что меня, пожалуй, не возьмут в юнги. А я твердо решил наняться на «Инку».
Относительно Джона у меня были серьезные опасения. Сперва я думал просто удрать и предоставить ему возвратиться домой без меня. Но, подумав, решил, что из этого ничего не выйдет. Джон утром вернется сюда с полдюжиной работников, возможно даже с дядей, и меня начнут разыскивать. Весьма вероятно, что они успеют прийти до отплытия «Инки», потому что корабли редко уходят в море рано утром. Глашатай объявит на площади о моем побеге. Они обойдут весь город, вероятно, обыщут судно, найдут меня, отдадут дяде и отвезут домой, где, без всякого сомнения, меня жестоко высекут.
Я слишком хорошо изучил дядюшкин нрав, чтобы представить себе иной конец моего побега. Нет, нет, нельзя, чтобы Джон с тележкой вернулся домой без меня!
Небольшое размышление окончательно убедило меня во всем этом и в то же время помогло составить лучший план. Новым моим решением было отправиться домой вместе с Джоном, а бежать уже прямо из дому.
Стараясь ничем не выдать своих намерений и ни в коем случае не вызвать подозрений Джона, я уселся в тележку и отправился назад в поселок.
Я приехал домой с таким видом, как будто ничего со мной не произошло с тех пор, как утром я выехал в город.
Глава 15
Я УБЕГАЮ ИЗ ДОМУ
Мы приехали на ферму поздно, и весь остаток вечера я старался вести себя так, как будто ничего особенного у меня в мыслях и не было. Родственники и работники фермы и не догадывались о великом плане, таившемся в моей груди, — о плане, при мысли о котором сердце мое сжималось.
Были минуты, когда я начинал жалеть о принятом решении. Когда я глядел на привычные лица домашних — все-таки это была моя семья, другой ведь у меня не было, — когда я представлял себе, что, может быть, я их больше никогда не увижу, когда я думал, что некоторые из них, может быть, будут тосковать обо мне, когда я думал о том, как я их обманываю, строя тайные планы, о которых они ничего не подозревают, — словом, когда такие мысли пробегали у меня в мозгу, я уже почти отказывался от своих намерений.
В минуты таких колебаний я готов был поверить свою тайну кому угодно. И, без сомнения, если бы кто-нибудь посоветовал мне остаться дома, я бы остался тогда, хотя в конце концов, раньше или позже, моя своенравная натура и любовь к воде все равно снова увлекли бы меня в море.
Вам кажется странным, что я не обратился за советом к старому другу, Гарри Блю? Ах, именно это и следовало бы сделать, если бы Гарри был поблизости, но несколько месяцев назад ему надоело работать лодочником, он продал свою лодку и поступил рядовым матросом во флот. Если бы Гарри оставался по-прежнему здесь, быть может, меня не так тянуло бы в море. Но с тех пор как он уехал, мне каждый день и час хотелось последовать его примеру. Каждый раз, когда я смотрел на море, меня страшно тянуло уйти в плавание. Чувство это трудно объяснить. Заключенный в тюрьме не испытывает такого настойчивого желания выйти на свободу и не глядит через прутья решетки с такой тоской, с какой я глядел на морскую синеву и стремился уйти далеко-далеко, за дальние моря.
У меня не было никого, с кем я мог бы поделиться своей тайной. На ферме жил один молодой работник, которому я доверял. Он мне очень нравился, и, кажется, я тоже пришелся ему по душе. Двадцать раз пытался я рассказать ему о своем плане, но слова застревали у меня в горле. Я не опасался, что он сразу выдаст мой план бегства, но боялся, что он начнет меня отговаривать и, если я все же останусь при своем убеждении, он меня выдаст. Не было смысла поэтому советоваться с ним, и я так ничего ему и не сказал. Я поужинал и лег спать, как обычно. Вы думаете, что ночью я встал и бежал из дому? Как бы не так! Я лежал в постели до утра. Спал я очень мало. Мысль о побеге не давала мне заснуть, а когда я забывался сном, то видел большие корабли, волнующееся море, видел, как я лезу на высокую мачту и травлю[142] черные, просмоленные канаты, пока у меня не появляются волдыри на ладонях.
Сначала я предполагал убежать ночью, что легко можно было сделать, не разбудив никого. У нас в поселке не было воров, и двери на ночь закрывались только на задвижку.
Дверь дядиного дома по случаю жаркого, летнего времени и вовсе оставалась открытой настежь. Я мог бы ускользнуть из дому, даже не скрипнув дверью.
Но, несмотря на юный возраст, я обладал способностью рассуждать логично. Я сообразил, что рано утром меня хватятся на ферме и начнут искать. Кто-нибудь из моих преследователей уж наверно доберется до порта и найдет меня там. С таким же успехом я мог бы убежать от Джона, когда мы стояли в гавани. Кроме того, до города пять или шесть миль — я пройду их самое большее за два часа. Я приду слишком рано, люди на судне еще не возьмутся за работу, а капитан будет в постели, и я не сумею поговорить с ним и попроситься добровольцем к нему на службу.
По этим соображениям я остался дома до утра и нетерпеливо ждал заветного часа.
Я позавтракал вместе со всеми. Кто-то заметил, что я очень бледен и «не в себе». Джон приписал это тому, что я вчера провел целый день на солнце, и это объяснение удовлетворило всех.
Я боялся получить какое-нибудь задание после завтрака — скажем, править лошадью, от чего нелегко было избавиться. Вместе со мной могли поставить на работу еще кого-нибудь, и мое отсутствие сразу было бы замечено. К счастью, в этот день для меня не нашлось никакой работы и я не получил никаких распоряжений.
Воспользовавшись этим, я взял игрушечный кораблик, который так забавлял меня в часы досуга. У других мальчиков тоже были шлюпы, шхуны и бриги, и мы часто устраивали гонки на пруду в парке. Была суббота, а в субботу в школе не занимались. И я знал, что мальчики отправятся к пруду сейчас же после завтрака, если не раньше. Не было ничего подозрительного в том, что, бережно обняв свой кораблик, я прошел через двор фермы и зашагал по направлению к пруду, где, как я и предполагал, мои товарищи уже занимались своими кораблями, которые носились под всеми парусами.
«Что-то будет, — думал я, — если я им сейчас все расскажу? Какой поднимется шум!»
Мальчики встретили меня радостно. Я был занят на ферме по целым дням, довольно редко с ними виделся и еще реже принимал участие в их играх.
Как только игрушечный флот закончил свой первый рейс через пруд — маленькое состязание, в котором мой шлюп оказался победителем, — я распрощался с товарищами и, взяв кораблик под мышку, зашагал дальше.
Они очень удивились, что я так неожиданно покидаю их, но я нашел какое-то объяснение, которое их вполне удовлетворило.
Я перелез через стену парка и еще раз поглядел издали на друзей моего детства. Слезы выступили у меня на глазах: я знал, что оставляю их навсегда.
Я обогнул крадучись стену и скоро добрался до проезжей дороги, которая вела в город. Но я не пошел по ней, а пересек ее и углубился в поля на другой стороне дороги. Я это сделал затем, чтобы попасть под прикрытие леса, который на порядочном расстоянии тянулся вдоль дороги. Я намеревался, пока возможно, идти лесом, зная, что, останься я на дороге, я могу встретить там односельчан, которые расскажут, что видели меня, и направят погоню в нужном направлении. Я не знал, в котором часу уходит «Инка», и это меня сильно беспокоило. Если я приду слишком рано, меня могут еще поймать и вернуть. С другой стороны, явись я слишком поздно, корабль уйдет — и это меня страшило больше, чем перспектива быть высеченным за попытку к бегству.
Именно эта мысль мучила меня все утро и продолжала мучить и дальше, потому что мне и в голову не приходило, что есть еще одна опасность: получить отказ и не быть принятым на корабль. Я даже забыл, что мал ростом. Величие моих замыслов возвысило меня в собственных глазах до размеров взрослого человека.
Я дошел до леса, пробрался через него из конца в конец, и никто меня не заметил. Я не встретил ни лесничего, ни сторожей.
Выйдя из-под защиты деревьев, я пошел полем, но теперь я уже был так далеко от поселка, что мне не грозила опасность встретить знакомых. Я старался не терять из виду море, так как знал, что дорога все время идет вдоль берега, и я шел вдоль дороги.
Наконец вдали показались высокие шпили города — значит, я шел правильно.
Я перебирался через канавы и ручьи, перелезал через изгороди, топтал чужие огороды и в конце концов достиг городских предместий. Не отдохнув, я двинулся дальше и разыскал улицу, которая вела к пристани. За крышами домов виднелись мачты. Сердце мое забилось, когда я поглядел на самую высокую их них, с вымпелом, гордо реявшим по ветру.
Не спуская глаз с вымпела, я торопливо пробежал по широким сходням, взобрался по трапу[143] и через секунду стоял на палубе «Инки».
Глава 16
«ИНКА» И ЕЕ ЭКИПАЖ
Я подошел к главному люку, где пятеро или шестеро матросов возились около ящиков и бочек. Они грузили судно и с помощью талей[144] спускали ящики и бочки в трюм. На матросах были фуфайки с засученными рукавами и широкие холщовые штаны, выпачканные жиром и смолой. Один из них был в синей куртке и таких же штанах, и я принял его за помощника капитана. Я был глубоко уверен, что капитан такого большого корабля — великий человек и, конечно, одет с ослепительной роскошью.
Человек в синей куртке отдавал распоряжения, которые, как я заметил, не всегда исполнялись беспрекословно. Часто слышались возражения и поднимался гомон — несколько голосов спорили о том, как лучше сделать.
На борту военного корабля дело обстоит совсем по-другому: там приказы офицера исполняются без возражений и замечаний. На торговых судах не так: распоряжения помощника капитана часто принимаются не как приказания, а как советы, и команда выполняет их, как считает нужным. Конечно, это не всегда так, многое зависит от характера помощника. Но на борту «Инки» строгой дисциплины, по-видимому, не было. Крики, визг блоков, грохот ящиков и скрип тачек на сходнях смешивались в одно целое и создавали невероятный шум. Никогда в жизни я не слыхал такого шума и несколько минут стоял совершенно оглушенный и растерянный.
Наконец наступило временное затишье: спускали в трюм огромную бочку и бережно устанавливали ее на место.
Один из матросов случайно заметил меня. Он насмешливо прищурился и крикнул:
— Эй, коротышка! Что тебе-то тут нужно? Грузишься на наш корабль, а?
— Нет, — отозвался другой, — видишь, он сам капитан — у него собственный корабль!
Это замечание относилось к моему суденышку. Я принес его с собой и держал в руках.
— Эй, на шхуне! — заорал третий. — Куда держите? Грянул взрыв хохота. Теперь уже все заметили мое присутствие и разглядывали меня с оскорбительным любопытством.
Я стоял и молчал, ошеломленный встречей, которую мне устроили эти «морские волки». Тут помощник подошел ко мне и более серьезным тоном спросил, что я делаю на борту.
Я сказал, что хочу увидеться с капитаном. Я был в полной уверенности, что где-то здесь есть капитан и что с ним-то и следует говорить о таком важном деле.
— Увидеться с капитаном? — повторил мой собеседник. — Какое у тебя дело к капитану, мальчуган? Я — помощник. Может быть, этого достаточно?
Секунду я колебался, но затем подумал, что раз передо мной стоит помощник капитана, то лучше сразу же объявить ему о моих намерениях. И я ответил:
— Я хочу быть матросом!
Полагаю, что громче им никогда не приходилось хохотать. Поднялся настоящий рев, к которому и помощник присоединился от всего сердца.
Среди оглушительного хохота я услышал несколько весьма унизительных для меня замечаний.
— Гляди, гляди, Билл, — кричал один из них, обращаясь к кому-то в стороне, — гляди, паренек хочет быть матросом! Лопни мои глаза! Ах ты, сморчок в два вершка от горшка, да у тебя силенок не хватит закрепить снасть! Матро-о-ос! Лопни мои глаза!
— А мать твоя знает, куда тебя занесло? — осведомился другой.
— Клянусь, что нет, — ответил за меня третий, — и отец тоже не знает. Ручаюсь, парень сбежал из дому… Ведь ты смылся потихоньку, а, малыш?
— Послушай, мальчуган, — сказал помощник, — вот тебе совет: вернись к своей мамаше, передай почтенной старушке привет от меня и скажи ей, чтобы она привязала тебя к ножке стула тесемкой от нижней юбки и держала так годиков пять — шесть, пока ты не вырастешь.
Этот совет породил новый взрыв хохота.
Я чувствовал себя униженным всеми этими грубыми шутками и не знал, что ответить. В полной растерянности я выдавил из себя, заикаясь:
— У меня… нет матери…
Суровые лица моряков смягчились. Раздались даже сочувственные замечания, но помощник продолжал все так же насмешливо:
— Ну, тогда отправляйся к отцу и скажи ему, чтобы он задал тебе хорошую трепку.
— У меня нет отца!
— Бедняга, он, значит, сирота! — жалостливо сказал один из матросов.
— Нет отца… — продолжал помощник, который казался мне бесчувственным зверем. — Тогда отправляйся к бабушке, дяде, тетке или куда хочешь, но чтобы тебя здесь не было, а не то я подвешу тебя к мачте и угощу ремнем. Марш! Понял?
По-видимому, этот зверь не шутил. Смертельно напуганный угрозой, я отступил, повинуясь приказанию.
Я дошел до трапа и собирался уже сойти по сходням, как вдруг увидел человека, который шел навстречу мне с берега. На нем были черный сюртук и касторовая[145] шляпа. Он был похож на купца или другого горожанина, но что-то во взгляде его подсказало мне, что это моряк. У него было обветренное лицо и в глазах выражение, характерное для людей, проводящих жизнь на море. И брюки из синей морской ткани придавали ему совсем не сухопутный вид. Мне пришло в голову, что это и есть капитан.
Я недолго оставался в сомнении. Пройдя трап, незнакомец вошел на палубу, как хозяин. Я услышал, как он на ходу бросал приказания тоном, не допускающим возражений.
Он не остановился на палубе, а решительно направился к шканцам[146].
Мне показалось, что я могу еще добиться своего, если обращусь непосредственно к капитану. Без колебаний я повернулся и последовал за ним.
Мне удалось проскочить мимо помощника и матросов, которые пытались перехватить меня на бегу, и я настиг капитана у самых дверей его каюты.
Я ухватил его за полу.
Он удивленно обернулся и спросил, что мне нужно.
В нескольких словах я изложил свою просьбу. Единственным ответом мне был смех. Потом, обернувшись, он крикнул одному из матросов:
— Эй, Уотерс! Возьми карапуза на плечи и доставь на берег. Ха-ха-ха!
Не сказав больше ни слова, он спустился по трапу и исчез.
Объятый глубокой горестью, я почувствовал только, как крепкие руки Уотерса подняли меня, пронесли по сходням, потом по набережной и опустили на мостовую.
— Ну-ну, рыбешка! — сказал мне матрос. — Послушай Джека Уотерса — держись до поры до времени подальше от соленой воды, чтобы акулы тебя не съели!
Помолчав и подумав немного, он спросил:
— Ты сиротка, малыш? Ни отца, ни матери?
— Да, — ответил я.
— Жаль! Я тоже был сиротой. Хорошо, что ты так рано потянулся в море, это чего-нибудь да стоит. Будь я капитан, я бы взял тебя. Но я, понимаешь, только рядовой матрос и ни черта не могу тебе помочь. Но я приду сюда опять, а ты к тому времени, пожалуй, будешь маленько покрупнее. Вот возьми эту штуку на память и вспомни обо мне, когда мы опять ошвартуемся в гавани, и, кто знает, может быть, я выхлопочу тебе койку… А теперь — до свиданья! Иди домой, будь хорошим парнем и оставайся на суше до тех пор, пока не вырастешь.
Проговорив это, добродушный матрос протянул мне свой нож, повернулся и отправился обратно, а я остался один на набережной.
Пораженный таким неожиданно хорошим отношением, я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за фальшбортом[147]. Машинально положив нож в карман, я некоторое время стоял, не двигаясь с места.
Глава 17
НЕ ВЫШЕЛ РОСТОМ!
Размышления мои были не из приятных. Никогда еще в жизни я не был так огорошен. Разлетелись в дым все мои мечты о том, как я буду брать рифы на парусах, как увижу чужие страны. Все мои планы окончательно рухнули.
Я чувствовал себя униженным и опозоренным. Мне казалось, что все прохожие знают, что случилось и в каком жалком положении я нахожусь. На палубе, у борта, я видел ухмыляющиеся лица матросов. Некоторые громко смеялись. Я не мог этого вынести и без оглядки побежал прочь. На набережной лежали мешки с товарами, стояли большие бочки и ящики. Они не были собраны вместе, а разбросаны повсюду, и между ними образовались проходы.
Я залез в один из таких проходов, где меня никто не мог увидеть и где я сам не мог видеть никого. Там я почувствовал себя так, как будто избавился от какой-то опасности, — так отрадно убежать от насмешек, даже если их не заслуживаешь.
Среди ящиков был один небольшой, подходящий для сидения. Я уселся на него и стал размышлять.
Что мне делать? Отбросить все мечты о море и вернуться на ферму, к ворчливому, старому дяде?
Вы скажете, что это было бы самым разумным и естественным в моем положении. Может быть, вы и правы, но мне такой выход в голову не приходил. Вернее, я решительно отбросил его, как только он пришел мне в голову.
«Нет, — говорил я себе, — я еще не побежден; я не отступлю, как трус. Сделал один шаг — сделаю и второй. Что в том, что меня не хотят брать на это большое, важное судно? В порту стоят другие суда — десятки других! На любом из них мне будут рады. Я перепробую все, прежде чем переменю свое решением «Отчего мне отказали? — спрашивал я себя, продолжая свой монолог. — Отчего? Они даже не сказали, по какой причине. Ах, да! Маленький рост! Говорили, что мне не закрепить снасть. Я хорошо знаю, что значит закрепить снасть. Конечно, они хотели этим оскорбительным выражением сказать, что я слишком мал, чтобы быть матросом. Но юнгой ведь я могу стать! Я слышал, что бывали юнги и помоложе меня. Интересно, какой у меня рост? Эх, будь у меня плотничья линейка, я бы измерил себя. Как глупо, что я этого не сделал дома! Нельзя ли проделать это сейчас?»
Тут мои размышления прервались, потому что я заметил на одном из ящиков надпись мелом: «4 фута». По-видимому, кто-то обозначил длину ящика, потому что в высоту он не мог иметь четыре фута. Возможно, это была пометка плотника или она была сделана для матросов, чтобы они знали, как грузить ящик. Благодаря этой пометке я за три минуты узнал свой рост с точностью до дюйма.
Я поступил так: лег плашмя на землю пятками к одному краю ящика, а затем выпрямился и пощупал рукой, не соприкасается ли моя макушка с другим концом ящика. Не хватало почти целого дюйма. Напрасно я изо всех сил вытягивал шею — я никак не мог дотянуться до края ящика. Впрочем, это не имело большого значения. Ясно, что раз длина ящика четыре фута, значит, во мне неполных четыре.
Я поднялся на ноги, обескураженный результатом измерения.
Мне никогда нс приходило в голову, что я такой маленький. Какой мальчик не считает себя почти мужчиной! Но теперь я убедился в том, что действительно мал ростом. Неудивительно, что Джек Уотерс назвал меня рыбешкой, а другие объявили, что я не смогу закрепить снасть.
Уверившись в том, что я настоящий лилипут, я впал в полное уныние и мысли мои приобрели мрачный оттенок. Теперь я знал, что меня не возьмут ни на одно судно. Не бывало еще юнги такого маленького роста. Я таких не видал. Наоборот, мне случалось встречать рослых парней, которые служили в командах бригов и шхун, посещавших нашу гавань, и которых почему-то именовали «юнгами». Нет, дело безнадежное! Придется вернуться домой. Но я опять уселся на ящик и продолжал раздумывать. Уже в раннем детстве ум мой был склонен к изобретательству. Скоро у меня зародился новый план, который, казалось, вполне годился, чтобы осуществить мое первоначальное намерение.
Тут мне пришла на помощь память. Я вспомнил истории про мальчиков и взрослых, которые тайком прокрадывались на суда и уходили с ними в море. Когда суда отходили далеко от берега, беглецы покидали свои убежища и продолжали путешествие в качестве матросов.
Воспоминания об этих отважных героях едва успели промелькнуть у меня в мозгу, как я решил последовать их примеру. Я мгновенно принял решение: спрятаться на борту какого-нибудь корабля — ну, скажем, того же корабля, с которого меня выгнали с таким позором. Это был единственный корабль в порту, который готовился к отплытию. Впрочем, по правде сказать, если бы таких кораблей была и дюжина, я все-таки выбрал бы «Инку».
Вы удивитесь, почему я избрал именно этот корабль, но это легко объяснить. Я был так обижен на моряков, особенно на помощника капитана, за невежливое обращение, что мне захотелось отомстить им.
Я знал, что они не выбросят меня за борт. Если не считать помощника, — все они люди не жестокие. Конечно, они не упустили случая подшутить надо мной, но некоторые из них пожалели меня, когда узнали, что я сирота.
Итак, решено: я отправляюсь в плавание на этом большом корабле — наперекор помощнику, капитану и команде!
Глава 18
Я ПРОНИКАЮ НА КОРАБЛЬ
Но как пробраться на корабль? И как укрыться на нем? Вот какие трудности тотчас встали передо мной.
Явиться на палубу только затем, чтобы снова быть изгнанным? Нельзя ли подкупить кого-нибудь из матросов, чтобы они пропустили меня на палубу? Но чем подкупить? У меня совсем не было денег. Мой кораблик и моя одежда — последняя очень плохого качества — вот и все, что мне принадлежало. Я бы отдал кораблик, но минутное раздумье убедило меня в том, что ни один матрос не оценит вещь, которую сам легко может сделать; я считал, что любой матрос, если захочет, без труда смастерит кораблик. Нет, матроса не подкупишь игрушкой, нечего и думать об этом!
Вспомнил! У меня ведь есть ценная вещь — часы. Правда, это обыкновенные, старомодные серебряные часы и стоят они немного, но идут хорошо. Я получил их от моей бедный матери вместе с другими, более ценными, но те присвоил дядя. Старые, дешевые часы мне разрешено было носить, и, по счастью, они как раз оказались у меня в кармане. Нельзя ли таким образом подкупить Уотерса или кого-нибудь из матросов, чтобы они тайком пропустили меня на борт и укрыли, пока судно не выйдет в море?
Я решил попытать счастья.
Пожалуй, главная трудность теперь — увидеть Уотерса или другого матроса так, чтобы остальные не присутствовали, и рассказать ему, что я задумал. Придется бродить вокруг корабля, пока кто-нибудь из них не выйдет на берег один.
Я надеялся, что в крайнем случае сумею и сам пробраться на судно, особенно вечером, когда матросы окончат работу и уйдут на нижнюю палубу. В таком случае мне даже незачем сговариваться с матросами. В темноте я сумею пройти мимо вахтенных и спрятаться где-нибудь внизу. Я, конечно, без труда найду убежище между бесчисленными ящиками и бочками.
Но сомнения тревожили меня. Будет ли корабль стоять в порту до вечера? И не настигнет ли меня дядя с работниками?
Признаться, первое меня волновало меньше. На судне все так же, как и вчера, красовалось объявление: «Инка» отправляется в Перу завтра». Но когда будет это «завтра»? Во всяком случае, едва ли судно собирается отплыть сегодня, — на набережной еще лежит множество тюков с товарами, несомненно предназначенных для этого корабля. Кроме того, я не раз слышал, что суда дальнего плавания отправляются не очень-то аккуратно.
Я рассудил, что вряд ли корабль уйдет сегодня и что ночью я смогу пробраться на борт.
Была еще другая опасность — быть пойманным и доставленным домой. Но, по зрелом размышлении, это казалось маловероятным. На ферме не хватятся меня до вечера, да и вечером вряд ли станут искать, рассчитывая, что ночью так или иначе я сам вынужден буду вернуться. Значит, с этой стороны нет поводов для опасений.
Я перестал думать о доме и начал готовиться к выполнению своего плана.
Я рассчитывал, что мне придется скрываться на судне не меньше двадцати четырех часов, может быть, больше. Нельзя же столько времени оставаться без еды! Но где запастись едой? Я уже говорил, что у меня совсем не было денег. Я не мог купить еду и не знал, где и как раздобыть деньги.
Тут мне пришла в голову превосходная мысль: продам свой кораблик и на вырученные деньги куплю еду.
Игрушечное судно мне теперь не нужно — отчего не расстаться с ним?
Без дальнейших размышлений я вышел из своего убежища между бочками и отправился по набережной искать покупателя для моего кораблика.
Я скоро нашел его. Это была лавка морских игрушек. Поторговавшись немного с хозяином, я продал кораблик за шиллинг[148].
По-настоящему мое маленькое суденышко с его оснасткой стоило в пять раз дороже, и при других обстоятельствах я бы с ним не расстался и за такую цену. Но торгаш понял, что я нахожусь в затруднительном положении, и воспользовался этим.
Теперь у меня было достаточно денег. Я отправился в другую лавку и на все деньги купил сыру и сухарей, каждого товара на шесть пенсов[149]. Рассовав провизию по карманам, я вернулся на прежнее место между грузами и снова уселся на ящик. Я порядком проголодался, так как обеденный час давно прошел, и накинулся на сыр и сухари, что весьма облегчило мои карманы.
Приближался вечер, и я решил выйти на разведку. Надо было выяснить, в каком месте легче всего взобраться на борт, когда придет время. Матросы могут заметить, что я слоняюсь возле судна, но, конечно, им и в голову не придет, что я делаю это с определенной целью.
А что, если они опять начнут насмехаться надо мной? Тогда я стану отвечать им и, пользуясь этим, высмотрю все, что мне нужно.
Не теряя ни минуты, я начал прогуливаться по набережной с нарочито небрежным видом. Я остановился около носовой части корабля и посмотрел наверх. Палуба опустилась почти до уровня набережной, потому что нагруженное судно сидело теперь гораздо глубже. Но высокий фальшборт закрывал от меня палубу. Я сразу заметил, что нетрудно будет с набережной влезть на него и проникнуть на судно, держась за ванты[150]. Я решил, что это будет самый правильный путь. Конечно, надо действовать с большой осторожностью. Если ночь будет не слишком темная и вахтенный матрос меня заметит, все будет кончено: меня примут за вора, схватят и посадят в тюрьму. Но будь что будет — я шел на риск.
На борту все утихло. Не слышно было ни шума, ни голосов. Товары все еще лежали на набережной — значит, погрузка не кончилась. Но матросы прекратили работу, и я видел, что на трапе и вокруг люка никого нет. Куда они делись?
Крадучись я поднялся до середины трапа. Передо мной был большой люк и палуба. Не видно было ни синей куртки помощника, ни засаленных фуфаек матросов. По-видимому, вся команда ушла в другую часть корабля.
Я остановился и прислушался. Откуда-то из передней части судна до меня донеслись приглушенные голоса. Я знал, что это голоса матросов, беседующих друг с другом. Вдруг я увидел человека, который прошел мимо трапа. Он нес большой котел, из которого валил пар. Там, очевидно, находился кофе или какая-нибудь другая горячая пища. Без сомнения, это был ужин для матросов, и нес его кок[151]. Вот почему работа прекратилась и матросы ушли на носовую часть корабля: они готовились ужинать.
Отчасти из любопытства, отчасти побуждаемый новой, только что возникшей у меня мыслью, я поднялся на палубу. Я увидел матросов далеко в передней части судна. Некоторые расположились на брашпиле[152], другие — прямо на палубе, держа в руках оловянные миски и складные ножи. Меня никто не заметил, никто не смотрел в мою сторону. Все их внимание было сосредоточено на коке и на дымящемся котле.
Я торопливо оглянулся — кругом никого не было. Моя новая мысль приобрела более четкие очертания.
— Сейчас или никогда! — прошептал я и, нагнувшись, без оглядки побежал по палубе к основанию грот-мачты. Теперь я находился у самого края открытого люка. В него-то я и собирался забраться. Лестницы не было, но с талей свисал канат, конец которого уходил вниз, в трюм.
Я потянул канат и удостоверился, что он надежно закреплен наверху. Крепко ухватив его обеими руками, я осторожно спустился вниз.
Счастье, что я не сломал себе шеи, потому что выпустил из рук канат раньше, чем спустился донизу.
Я отделался только сотрясением, упав на дно трюма.
Но я сейчас же вскочил на ноги и, перебравшись через несколько ящиков, еще не расставленных на места, спрятался за бочкой и притаился во мраке и тишине.
Глава 19
УРА! МЫ ОТЧАЛИЛИ!
Спрятавшись за бочкой, я пристроился поудобнее и через пять минут заснул так крепко, что все колокола Кентербери[153] не разбудили бы меня. Последней ночью я мало спал, да и в предыдущую ночь не много — мы с Джоном рано выехали на рынок. Усталость от длительного путешествия пешком и непрерывное в течение целых суток напряжение нервов, только теперь несколько ослабшее, сломили мои силы. Я заснул, как сурок, и спал так долго, что моего сна хватило бы на несколько сурков.
Сам не понимаю, как меня не разбудил шум погрузки: визжали блоки, ящики с грохотом опускались в трюм, но я ничего не слышал.
Проснувшись, я почувствовал, что спал очень долго. «Уже, наверно, глубокая ночь», — подумал я. Меня окружал полный мрак. Раньше в трюм из люка падала полоска света, но теперь она исчезла. Итак, наступила ночь, черная, как смола, что, впрочем, вполне естественно, если сидеть за большущей бочкой, спрятанной в трюме корабля.
«Который теперь час? Должно быть, матросы уже давно пошли спать и сейчас храпят в своих подвесных койках. Скоро ли рассвет?»
Я прислушался. Не нужно было обладать хорошим слухом, чтобы уловить звуки падения больших предметов.
Как видно, на палубе еще шла погрузка. Я слышал голоса матросов, хотя не очень отчетливо. Иногда до меня доносились восклицания, и я разбирал слова: «Налегай!», «Еще давай!» и наконец «Раз-два, взяли!», выкрикиваемые хором.
«Неужели они не прекращают работы даже ночью?»
Впрочем, это не очень меня удивило. Может быть, они хотят воспользоваться приливом или попутным ветром и потому так спешат закончить погрузку.
Я продолжал прислушиваться, ожидая, когда прекратится шум, но час шел за часом, а стук и шум не прекращались.
«Какие молодцы! — подумал я. — Должно быть, они спешат, хотят отправиться как можно скорее. К утру мы, следовательно, отчалим. Тем лучше для меня — я скорее выберусь из этого неудобного места. Неважная у меня здесь постель, да и есть опять хочется».
Последняя мысль заставила меня вспомнить о сыре и сухарях, и я тотчас накинулся на них. После сна я сильно проголодался и поглощал их с большим аппетитом, хотя это и происходило среди ночи.
Шум погрузки продолжался. «Ого! Они будут работать до утра! Бедняги, работа тяжелая, но, без сомнения, они получат за нее двойную плату». Вдруг шум прекратился и наступила полная тишина. Я не мог расслышать ни малейшего шороха наверху.
«Наконец-то они закончили погрузку, — решил я, — и теперь пошли спать. Должно быть, скоро утро, но еще не рассвело, иначе я увидел бы хоть полоску света. Ну что ж, я еще посплю…»
Я снова улегся, как раньше, и попытался заставить себя спать. Прошло около часа, и мне почти удалось заснуть, но тут до меня снова долетел стук ящиков.
«Что такое? Опять работают! Они спали какой-нибудь час. Не стоило и ложиться».
Я прислушался и убедился в том, что матросы и в самом деле работают. В том не было ни малейшего сомнения. Опять стук, шум и визг блоков, как и раньше, но только не такой громкий.
«Странная команда! — думал я. — Работает всю ночь… Наверно, это смена, она пришла сменить первую».
Это было вполне допустимо, и такое объяснение удовлетворило меня. Но больше я не мог заснуть и лежал прислушиваясь.
Они все продолжали работать. И я слышал шум в течение всей ночи, которая показалась мне самой длинной в моей жизни. Матросы работали, отдыхали часок и вновь принимались за работу, а я не видел никаких признаков рассвета — ни одного светлого луча!
Мне пришло в голову, что, может быть, я дремлю и что эти часы работы на самом деле не часы, а минуты. Но если это только минуты, то у меня разыгрался какой-то совершенно необыкновенный аппетит, потому что за это время я трижды яростно накидывался на провизию, пока почти все мои запасы не оказались исчерпанными.
Наконец шум совершенно прекратился. Несколько часов я ничего не слышал. Кругом царила полная тишина, и я снова заснул.
Проснувшись, я опять услышал шум, но эти звуки были иного рода. Они наполнили меня радостью, потому что я смутно слышал характерное «крик-крик-крик» брашпиля и громыханье большой цепи. И хотя, находясь в глубине трюма, трудно наверняка определить источник шума, я догадывался, что происходило наверху. Поднимали якорь — корабль отправлялся в плавание!
Я с трудом удержался от радостного восклицания. Я боялся, что мой голос могут услышать. И тогда меня, конечно, немедленно выволокут из трюма и отправят на берег. Я сидел тихо, словно мышь, и слушал, как большая цепь с грохотом ползла через клюз[154]. Этот резкий звук, неприятный для других ушей, показался мне музыкой.
Лязг и скрежет скоро прекратились, и до меня донесся новый звук. Он походил на шум сильного ветра, но я знал, что это не ветер. Я знал, что это плеск моря вокруг бортов судна. Звук этот доставил мне величайшее наслаждение — я понял, что наш корабль движется! «Ура! Мы отчалили!»
Глава 20
МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Непрерывное движение судна и ясно слышимый звук бурлящей воды убедили меня в том, что мы отошли от пристани и движемся вперед. Я был совершенно счастлив — опасность вернуться на ферму миновала. Теперь я уже несусь на соленых волнах и через двадцать четыре часа буду далеко от берега, среди просторов Атлантического океана, где никто меня не настигнет и не вернет назад. Удачный исход моего плана опьянял меня.
Странно только, что они вышли в море ночью — ведь еще совсем темно. Но, наверно, у них опытный лоцман, который знает все выходы из бухты настолько хорошо, что может вывести судно в открытое море в любое время суток.
Меня несколько озадачивала необыкновенно длинная ночь. В этом было даже что-то таинственное. Я уже начал подозревать, что проспал весь день, а бодрствовал две ночи вместо одной. Что-то здесь, по-видимому, мне приснилось. Впрочем, я был так рад отплытию, что не стал ломать себе голову попусту. Для меня не имело никакого значения, ушли мы в море ночью или днем, лишь бы благополучно выйти в открытый океан. Я улегся и стал ждать желанной минуты, когда смогу выйти на палубу.
Я с нетерпением ждал этой минуты по двум соображениям. Во-первых, потому, что мне очень хотелось пить. Сыр и черствые сухари еще больше увеличили жажду. Я не был голоден, часть провизии у меня еще оставалась, но я бы охотно обменял ее на чашку воды.
Во-вторых, я хотел выйти из своего убежища, потому что кости мои ныли от лежания на голых досках и от скрюченной позы, которую я вынужден был принять из-за недостатка места.
Все суставы у меня так болели, что я едва мог повернуться. А лежать неподвижно было еще хуже. Это укрепило мою уверенность в том, что я проспал весь день, — ведь одна ночь на голых досках все-таки не утомила бы меня так сильно.
Несколько часов подряд я вертелся во все стороны, страдая от жажды и от ломоты в костях.
Неудивительно, что мне хотелось как можно скорее покинуть узенькую нору и выйти на палубу. Но я рассудил все же, что следует преодолеть и жажду и боль в теле и остаться на месте.
Я знал, что по портовым правилам полагается выходить из бухты в море, имея лоцмана на борту, и если я сделаю глупость, показавшись на палубе, то меня доставят на берег в лоцманской шлюпке и все мои усилия и страдания пропадут даром.
Предположим даже, что лоцмана на корабле нет, — все равно мы ведь находимся на трассе рыбачьих лодок и маленьких каботажных судов[155]. Одно из них, идущее в гавань, может подойти к нам, меня сбросят на его палубу, как связку канатов, и доставят на сушу.
Вот почему я решил, что благоразумнее оставаться в своем убежище, несмотря на жажду и боль в суставах.
В течение часа или двух судно легко скользило по воде. Должно быть, погода была тихая и корабль находился еще в пределах бухты. Потом, как я заметил, он начал слегка покачиваться и плеск воды по бокам стал резче и настойчивее. То и дело слышались удары волн о борт и потрескивание шпангоутов[156].
Но в этих звуках не было ничего неприятного. Как видно, мы выходили из бухты в открытое море, где ветер был свежее, а волны выше и сильнее. «Скоро лоцмана отпустят, — думал я, — и я смогу выйти на палубу».
По правде сказать, я не очень радовался предстоящей встрече с командой корабля — у меня были серьезные опасения на этот счет. Я вспомнил грубого, свирепого помощника и бесшабашных, равнодушных матросов. Они возмутятся, когда узнают, какую штуку я с ними сыграл, и, чего доброго, изобьют меня или как-нибудь еще обидят. Я не ждал, что они хорошо ко мне отнесутся, и с удовольствием уклонился бы от такой встречи.
Но уклониться было невозможно. Я не мог проделать весь рейс, сидя в трюме, то есть провести несколько недель или даже месяцев без еды и питья. Рано или поздно мне придется выйти на палубу и решиться на встречу.
Тревожась при мыслях об этой неизбежной встрече, я начал испытывать страдания уже не нравственного характера. И они были хуже жажды и ломоты в костях. Какая-то новая беда надвигалась на меня. Голова закружилась, на лбу выступил пот. Я почувствовал дурноту, сердце и желудок у меня как будто сжались. В груди и горле появилось такое ощущение, как будто мне вдавили ребра внутрь и легкие утратили способность расширяться и дышать.
Я ощущал тошнотворный запах затхлой воды, которая скопляется обычно в глубине трюма, и слышал, как она булькает под настилом, куда натекла за долгий срок.
По всем этим признакам нетрудно было определить, что именно меня беспокоит: это была морская болезнь, и ничего больше. Зная это, я не встревожился. Мне становилось плохо, как всякому, у кого начинается приступ этой странной болезни. Конечно, я чувствовал себя особенно скверно: жажда жгла меня, а воды поблизости не было. Я был убежден, что стакан воды облегчил бы мои страдания: тошнота пройдет, и я свободно вздохну. Я готов был отдать все за один глоток.
Страх перед лоцманом помогал мне крепиться довольно долго.
Качка становилась все резче, а запах воды в трюме все тошнотворнее. Дурнота и напряжение стали невыносимы.
«Наверно, лоцман уже уехал. Во всяком случае, я больше не могу терпеть. Надо выйти на палубу, иначе я умру! О!..»
Я поднялся и начал ощупью пробираться вдоль большой бочки.
Я обогнул ее и дошел до отверстия, через которое влез сюда. Но тут, к величайшему своему изумлению, я обнаружил, что оно закрыто!
Я не верил себе и ощупывал все кругом, водя руками вверх и вниз. Нет сомнений — отверстие заставлено!
Повсюду мои руки натыкались на отвесную стену, которая, насколько я мог судить, представляла собой боковую сторону огромного ящика. Ящик этот стоял как раз в промежутке между бортом корабля и бочкой и был поставлен настолько вплотную, что не осталось ни щелки, в которую я мог бы просунуть палец.
Я попытался сдвинуть ящик руками, напряг все силы, потом надавил плечом, но ящик даже не шелохнулся. Это был огромный короб, наполненный тяжелым грузом. Даже силач вряд ли сдвинул бы его с места, а с моими силенками нечего было и думать об этом.
Мне пришлось отказаться от этой попытки. Я двинулся назад вдоль бочки, надеясь выйти с другого конца. Но когда я достиг другого конца, мои надежды рассеялись, как дым. Даже руку нельзя было просунуть между знакомой мне бочкой и такой же соседней, которая заполняла собой все пространство вплоть до шпангоутов! Мышь не проскользнула бы между ними.
Я исследовал верхи обеих бочек, но так же безрезультатно. Там хватило бы места просунуть руку, но не больше. Между верхами округлых стенок бочек и громадным бимсом[157], протянутым наверху поперек трюма, оставалось лишь несколько дюймов — даже при моем маленьком росте я не сумел бы проскользнуть в эту щель.
Предоставляю вашему воображению, что я почувствовал, когда убедился, что я заперт, пленен, замурован между грузами!
Глава 21
ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
Теперь я понял, почему ночь показалась мне такой длинной. Света было достаточно, но он не доходил до меня. Его закрывал большой ящик. Прошел целый день, а я этого не знал. Люди работали днем, а я думал, что это полночь. Не одна, а две ночи и целый день прошли с тех пор, как я спустился в свое убежище. Неудивительно, что я ощущал голод, жажду и боль во всем теле. Короткие перерывы в работе матросов наверху означали завтрак и обед. Длинный перерыв перед тем, как подняли якорь, означал вторую ночь, когда все спали.
Я вспомнил, что заснул сейчас же после того, как забрался в свой тайник. Это было за несколько часов до захода солнца. Я спал крепко и долго — без сомнения, до следующего утра. Вечером погрузка продолжалась, а я ничего не слышал. Находясь в глубоком, беспробудном сне, я не почувствовал, как проход загородили ящиком, да и не одним.
Теперь мне все было ясно, и самое ясное во всем этом — тот ужасающий факт, что я заперт, как в коробке.
Не сразу я понял весь ужас своего положения. Я знал, что заперт и что никаких моих усилий не хватит для того, чтобы выбраться наружу. Но я не боялся этих трудностей. Сильные матросы, которые поставили эти грузы, могут их и отодвинуть. Мне стоит только крикнуть и тем обратить на себя внимание.
Увы! Мне в голову не приходило, что мои отчаянные вопли вовсе не будут услышаны. Я не подозревал, что люк, через который я опустился на канате в трюм, был теперь плотно закрыт тяжелым щитом, что поверх щита была натянута толстая просмоленная парусина и что все это, вероятно, так и останется до конца путешествия. Если бы люк даже не был закрыт, и то меня не услышали бы. Мой голос затерялся бы среди сотен тюков и ящиков, пропал бы в беспрестанном рокоте волн, плещущих о борта корабля.
Вначале, как вы знаете, я не очень встревожился. Я думал только, что мне придется долго дожидаться глотка воды, в которой я так нуждался. Конечно, потребуется несколько часов работы, чтобы отодвинуть ящики и освободить меня. А пока что мне придется страдать. Вот и все, что меня беспокоило.
И только после того, как я накричался до хрипоты и вдоволь настучался в доски борта каблуками башмаков, так и не дождавшись ответа, — только тогда начал я вполне понимать свое подлинное положение, только тогда начал я оценивать весь его ужас, только тогда понял, что не сумею выйти отсюда, что у меня нет никакой надежды на спасение, — короче говоря, что я заживо погребен!
Я кричал, стонал, вопил.
Кричал я долго, не знаю точно, сколько времени. Я не переставал кричать, пока не ослабел и не выбился из сил.
В перерывах я прислушивался — ответа не было. Только мое собственное эхо прокатывалось по всему трюму. Но ни один человеческий голос извне не отзывался на мои стенания.
Теперь я понял, почему умолкли голоса матросов. Я слышал хор их голосов, когда поднимали якорь, но тогда корабль стоял на месте и вода не плескалась у бортов. Кроме того, как я узнал впоследствии, тогда люки были открыты, а закрыли их уже потом, когда мы вышли в море.
Долго я прислушивался, но до ушей моих не доходили ни слова команды, ни матросская речь. Если до моего слуха не долетали их громкие, густые голоса, то как же им услышать мой голос?
«Они не могут меня услышать! Никогда! Никогда никто не придет ко мне на помощь! Я умру здесь! Я непременно умру здесь!..»
К такому мрачному выводу я пришел, когда окончательно потерял голос и совершенно ослабел. Морская болезнь на время уступила место бурным порывам отчаяния, но затем физическое недомогание вернулось и, соединившись с душевными муками, повергло меня в такое страшное состояние, какого я никогда еще не испытывал. Долго я лежал беспомощный в полном оцепенении. Мне хотелось умереть. Я и в самом деле полагал, что умираю. Я серьезно думаю, что в ту минуту рад был ускорить наступление смерти, если бы это было в моей власти. Но я был слишком слаб, чтобы убить себя, даже если бы у меня имелось оружие. Впрочем, оружие-то у меня было, только я забыл о нем в своем смятении.
Вы удивитесь, услышав такое признание — признание в том, что я хотел умереть. Но надо попасть в мое тогдашнее положение, чтобы представить себе весь ужас отчаяния. О, это страшная вещь! Желаю вам никогда ее не испытать!
Я был убежден, что умираю, но не умирал. Люди не умирают ни от морской болезни, ни от отчаяния. Не так-то легко расстаться с жизнью.
Правда, я был как полумертвый и некоторое время лежал без сознания.
В таком состоянии оцепенения я пролежал несколько часов подряд.
В конце концов сознание начало возвращаться ко мне, а с ним вернулась и энергия. Странное дело: мне захотелось есть. В этом отношении морская болезнь имеет такую особенность: больные едят охотнее, чем здоровые. Впрочем, желание пить было куда сильнее, чем желание есть, и мучения мои не смягчились надеждой на утоление жажды. Что касается голода, то с ним я кое-как еще мог справиться: у меня в кармане сохранились куски сухарей и немного сыра.
Не стоит рассказывать вам обо всех тяжелых мыслях, которые роились у меня в мозгу. Несколько часов подряд я был жертвой страшного приступа отчаяния. Несколько часов я лежал, или, вернее, метался, в безысходной тоске. Наконец, к моему облегчению, пришел сон.
Я заснул, потому что перед этим долго не спал. И это вместе с упадком сил от долгих страданий перебороло мои муки. Несмотря на все свои бедствия, я забылся сном.
Глава 22
ЖАЖДА
Спал я недолго и не очень крепко. Во сне я переживал всякие опасности и страхи, но не было ничего страшнее действительности, когда я проснулся.
Я не сразу понял, где нахожусь. Только раскинув руки в стороны, вспомнил, в каком положении оказался: я наткнулся руками на деревянные стены моей темницы. Я едва мог повернуться в ней. Еще одного маленького мальчика, вроде меня, было бы достаточно, чтобы заполнить все пространство, в котором я был заключен.
Еще раз осознав свое ужасное положение, я опять разразился криками. Я вопил и стонал изо всех сил. Я еще не совсем утратил надежду, что матросы услышат меня, — ведь я уже говорил, что не знал ни того, какое количество грузов окружает меня, ни того, что люки нижней палубы плотно закрыты.
Хорошо еще, что я не сразу узнал всю правду. Она могла бы свести меня с ума. Проблески надежды облегчали мои страдания и поддерживали меня, пока я не решился твердо взглянуть в лицо страшной судьбе.
Я продолжал кричать, иногда по нескольку минут подряд, иногда отрывисто, но ответа не было, и промежутки между моими воплями становились все дольше и дольше. Наконец я охрип и замолчал.
Несколько часов я лежал опять в оцепенении — то есть оцепенел мой мозг, но, к сожалению, не тело. Наоборот, я был весь во власти ужасных мук. Это были муки жажды, самого тяжелого и изнурительного из всех физических страданий. Никогда я не подозревал, что человек может так мучиться от отсутствия глотка воды. Читая рассказы о путешествиях в пустыне и о потерпевших крушение моряках, умирающих от жажды, я всегда думал, что их страдания преувеличены. Как все английские мальчики, я вырос во влажном климате, в местности, богатой ручейками и источниками, и никогда не страдал от жажды. Иногда, забравшись в поле или на морской берег, где не было воды для питья, я чувствовал неприятную сухость в горле, которую мы называем жаждой, но это мимолетное ощущение вполне исчезало после глотка чистой воды. И даже отрадно было терпеть, зная, что впереди тебя ждет утоление. В таких случаях мы бываем настолько терпеливы, что отказываемся от воды из случайного пруда в поисках чистого колодца или прозрачного ключа.
Но это, однако, еще не жажда, это только первая и самая низшая ее степень — степень, граничащая с удовольствием. Представьте себе, что вокруг вас нет ни колодца, ни ручья, ни пруда, ни канала, ни озера, ни реки — никакой свежей воды на сотни миль, никакой влаги, которая могла бы утолить вашу жажду, — и тогда ваши переживания приобретут новый характер и утратят всякий оттенок приятного.
В сущности, жажда моя была не так уж велика, ведь я оставался без воды сравнительно недолго. Я уверен, что и до того мне случалось по целым дням обходиться без питья, но я не обращал на это никакого внимания, потому что знал, что утолить жажду ничего не стоит в любой момент. Но теперь, когда воды не было, когда ее нельзя было раздобыть, я впервые в своей жизни почувствовал, что жажда — это настоящее мучение.
От голода я не страдал. Провизия, которую я приобрел за кораблик, еще не кончилась. У меня оставалось несколько кусочков сыра и сухарей, но я не решался к ним притронуться. Они лишь увеличили бы жажду. Мое высохшее горло требовало только воды — вода в то время казалась мне самой желанной вещью в мире.
Я был в положении Тантала[158]: не видел воды, но слышал ее. До моего слуха все время доносился шум от всплесков воды, бьющей о борта корабля. Я знал, что это морская вода, она соленая и пить ее нельзя, даже если я до нее доберусь. Но все-таки я слышал, как льется вода. И эти звуки раздавались у меня в ушах, как насмешка над моими страданиями.
Не стоит рассказывать о всех томивших меня мучительных мыслях. Достаточно сказать, что долгие часы я изнывал от жажды, без малейшей надежды избавиться от этой пытки. Я чувствовал, что она может убить меня. Я не знал, скоро ли это случится, но был уверен, что рано или поздно жажда будет причиной моей смерти. Я читал о людях, которые мучились несколько дней, прежде чем умереть от жажды, и пытался вспомнить, сколько дней длилась их агония, но память изменяла мне. Кажется, самое долгое — шесть или семь дней. Такая перспектива была ужасной. Неужели мне суждено терпеть такую пытку шесть или семь дней? Разве я выдержу еще хотя бы один такой день? Нет, это невыносимо! Я надеялся, что смерть придет раньше и избавит меня от лишних мук.
Но почти в ту минуту, когда я уже в отчаянии стал мечтать о скорой смерти, до моего слуха долетел звук, который мгновенно изменил весь ход моих мыслей и заставил забыть ужас моего положения. О сладостный звук! Он был похож на шепот ангела милосердия.
Глава 23
СЛАДОСТНЫЙ ЗВУК
Я лежал, или, вернее, стоял, согнувшись, прислонившись плечом к одному из шпангоутов, который пересекал мою крошечную комнатушку сверху донизу, деля ее на две почти равные части. Я принял такое положение просто для разнообразия. С тех пор как я оказался в этом узком помещении, я испробовал множество всяких поз, чтобы не оставаться постоянно в одном и том же положении. Иногда я стоял, иногда сгибался, часто ложился то на один бок, то на другой, временами даже на живот, лицом вниз.
Теперь, чтобы отдохнуть немного, я встал на ноги, хотя и в согнутом положении, потому что потолок моего помещения был ниже моего роста. Мое плечо опиралось о шпангоут, голова наклонилась вперед и почти касалась большой бочки, а рука опиралась о ту же бочку.
Ухо мое, конечно, было рядом с ней, оно почти приникло к ее крепким дубовым клепкам. Через эти самые клепки и донесся до меня звук, который произвел такую внезапную и приятную перемену в моем настроении.
Звук этот можно было определить очень просто: это плескалась вода внутри бочки. Она двигалась из-за качки, да и сама бочка, не слишком устойчиво державшаяся на своем месте, слегка покачивалась.
Первый всплеск воды прозвучал для меня, как музыка. Но я боялся радоваться — мне хотелось еще раз убедиться, что это так.
Я поднял голову, прижался щекой к дубовым клепкам и с волнением прислушался. Ждать пришлось довольно долго, потому что как раз в этот момент судно шло тихо, с едва заметной раскачкой. Я ждал терпеливо — и мое терпение было вознаграждено. Наконец послышалось: буль-буль-буль…
Буль-буль-буль! Нет сомнения, в бочке вода. Я не мог удержаться от радостного крика. Я чувствовал себя, как утопающий, который неожиданно достиг берега и знает, что спасен.
Эта внезапная перемена подействовала на меня так, что я почти лишился чувств. Я откинулся назад и впал в полуобморочное состояние.
Но оно продолжалось недолго. Новый острый приступ жажды заставил меня перейти к действию. Я снова встал и потянулся к бочке.
Зачем? Ну конечно, для того, чтобы найти втулку, вынуть ее и пить, пить без конца! С какой же другой целью стал бы я приближаться к этой бочке?
Увы, увы! Радость моя померкла, едва родившись. Правда, не сразу. Я обшарил всю выпуклую поверхность бочки, ощупал ее кругом, пересчитал все клепки, тщательно изучил ее дюйм за дюймом, клепку за клепкой. Да, у меня ушло порядочно времени на то, чтобы убедиться, что втулки на этой стороне бочки нет, — вероятно, она с другой стороны или на верхушке. Но если втулка там, я не смогу до нее дотянуться, и, следовательно, эта втулка для меня все равно, что не существует.
Разыскивая втулку, я не забыл и об отверстии для крана. Я знал, что в каждой большой бочке делается еще одно отверстие для крана, которое помещается посередине, в то время как втулка обычно бывает в одном из днищ. Но и этого отверстия я не нашел. Зато я убедился, что с обеих сторон к бочке плотно приставлены ящик и еще одна бочка. Последняя показалась мне такой же, как и та, что была передо мной.
Мне пришло в голову, что и в другой бочке может быть вода, и я отправился «на разведку», но смог ощупать только часть второй бочки и наткнулся на гладкие и крепкие дубовые доски, твердые как камень.
Только проделав все это, я понял всю безвыходность моего положения и опять впал в отчаяние. Я мучился еще больше, чем прежде. Я слышал бульканье воды в каких-нибудь двух дюймах от своего рта и… не мог напиться! Чего бы я не отдал сейчас хоть за одну каплю! Немного воды на донышке стакана, чтобы промочить пересохшее, воспаленное горло!
Если бы у меня был топор и если бы высота моего убежища позволяла им размахнуться, я разбил бы огромную бочку и яростно стал бы глотать ее содержимое. Но у меня не было ни топора, ни какого-либо другого орудия. И дубовые клепки были так же непреодолимы для меня, как если бы они были сделаны из железа. Доберись я даже до втулки, я все равно не смог бы вынуть затычку пальцами.
В порыве первой радости я и не подумал об этом затруднении.
Я опустился на доски и предался отчаянию, охватившему меня с еще большей силой. Не могу сказать, долго ли это продолжалось, но одно обстоятельство снова пробудило меня к жизни.
Глава 24
БОЧКА ПРОБУРАВЛЕНА
Я лежал на правом боку, подложив руку под голову, и вдруг почувствовал что-то твердое у себя под боком: казалось, выступ доски или какой-то другой жесткий предмет давит мне на бедро. Мне даже стало больно, и я подсунул руку под бедро, чтобы избавиться от этого предмета, и при этом приподнялся всем телом и очень удивился, не найдя ничего на полу, но тут же заметил, что этот твердый предмет находится не на досках, а в кармане моих штанов.
Что у меня там? Я ничего не мог вспомнить и даже думал, что это остатки сухарей. Но ведь сухари я держал в карманах куртки, они не могли попасть в штаны. Я ощупал карман снаружи. Это было что-то очень твердое и длинное. Я никак не мог вспомнить, что у меня есть при себе, кроме сыра и сухарей.
Мне пришлось встать, чтобы засунуть руку в карман. И тут я все понял: твердый продолговатый предмет, который привлек мое внимание, был не что иное, как нож, подаренный мне матросом Уотерсом. Я тогда машинально сунул его в карман и забыл о подарке.
Это открытие не произвело на меня, как я сейчас вспоминаю, никакого особенного впечатления. Я только подумал о славном матросе, который оказался так добр по сравнению с сердитым помощником капитана. Помню, такая же мысль промелькнула у меня и на набережной, когда я получил нож. Вынув нож, я положил его рядом, чтобы он не мешал мне, и снова улегся на бок.
Но не успел я еще по-настоящему устроиться, как вдруг меня осенила идея, заставившая меня подскочить, как будто я лег на раскаленное железо. Но если бы я лег на железо, то подскочил бы от боли, а тут причиной была новая радостная надежда. Ведь этим ножом я могу проделать отверстие в бочке и добраться до воды! Мысль эта показалась мне выполнимой: я не сомневался, что смогу ее осуществить. Добраться до содержимого бочки представлялось мне настолько верным делом, что мое отчаяние мгновенно сменилось надеждой.
Я торопливо пошарил кругом и взял нож. Я не успел как следует рассмотреть его на набережной, когда получил его от друга-матроса. Теперь я изучал нож тщательно, конечно на ощупь, и постарался, насколько мог, определить его прочность и годность для моего замысла.
Это был большой складной карманный нож с ручкой из оленьего рога, с одним-единственным лезвием. Такие ножи матросы носят обычно на шее на шнурке, продетом через специальную дырочку в черенке. Лезвие было прямое, с заостренным концом и по форме напоминало бритву. Как и у бритвы, тупая сторона лезвия была на ощупь очень широкая и прочная, и это было как нельзя кстати — ведь мне нужен был исключительно крепкий клинок, чтобы провертеть дыру в дубовой клепке.
Инструмент, который я держал в руках, как раз подходил для моей цели — он мог послужить не хуже любого долота. Ручка и лезвие были одинаковой длины, а в раскрытом виде нож имел в длину около десяти дюймов.
Я нарочно так подробно описываю этот нож. Он заслужил даже большего своими превосходными качествами, ибо только благодаря ему я сейчас жив и могу рассказать о том, какую неоценимую услугу он мне оказал.
Итак, я открыл нож, ощупал лезвие, стараясь с ним освоиться, потом еще несколько раз открыл и закрыл нож, испытывая упругость пружины, и наконец приступил к работе над твердым дубом.
Вас удивляет, что я так медлил? По-вашему, если я так страдал от жажды, мне следовало поскорее пробуравить бочку и напиться воды. Правда, искушение было велико, но меня никогда нельзя было назвать безрассудным мальчиком, и сейчас, более чем когда бы то ни было, я чувствовал необходимость соблюдать осторожность. Меня подстерегала смерть — ужасная смерть от жажды, если я не доберусь до содержимого бочки. Если с ножом что-нибудь случится — сломается лезвие или притупится острый конец, — я наверняка умру. Поэтому-то я предварительно изучил свое орудие и убедился в его прочности. Но если бы в эту минуту я подумал о том, что меня ждет дальше, я, может быть, действовал бы с меньшей осмотрительностью. Ведь если даже я обеспечу себя водой, что станет потом? Я спасусь от жажды. Но голод? Как утолить его? Вода — это не пища. Где взять еду?
Странно сказать, но в то время я не думал о еде. Нестерпимая жажда заставила меня забыть обо всем остальном. Ближайшая опасность — опасность умереть от недостатка воды — вытеснила из моей головы мысли о том, что будет дальше. Меня не страшила возможность умереть от голода.
Я выбрал на бочке место, где клепка была слегка повреждена, — немного пониже середины. Я рассудил, что бочка может быть наполнена только до половины. Необходимо было проделать дыру ниже поверхности воды, потому что в противном случае мне пришлось бы сверлить другую дыру.
Я принялся за работу и через небольшой промежуток времени убедился, что мне удалось углубиться в толстую клепку. Нож вел себя великолепно, и прочный дуб уступал еще более прочной стали прекрасного клинка. Кусочек за кусочком, волокно за волокном дерево отступало перед острым наконечником; стружки я пальцами вынимал из дырки и отбрасывал в сторону, чтобы дать простор клинку.
Я работал больше часа — конечно, в темноте. Я так освоился с темнотой, что у меня исчезло ощущение беспомощности, которое обычно возникает, когда человек погружается в темноту внезапно. У меня, как у слепых, обострилось осязание. Я не страдал от отсутствия света, я даже не замечал его отсутствия, как будто свет был и не очень нужен при такой работе.
Я действовал не так быстро, как плотники с их долотами или бондари со сверлами, но я знал, что подвигаюсь вперед. Углубление становилось все больше и больше. Клепка не могла быть толще дюйма, значит, я скоро ее продырявлю.
Я бы мог сделать это проворнее, если бы меньше думал о последствиях, но я боялся слишком надавливать на лезвие, помня старую поговорку: «Тише едешь — дальше будешь», и старался осторожно обращаться с драгоценным инструментом.
Прошло больше часа, когда по глубине проделанного отверстия я определил, что работа подходит к концу.
У меня дрожали руки, сердце стучало в груди. Я очень сильно волновался. В голову приходили тревожные мысли, меня томило ужасное сомнение: вода ли это? Я уже и раньше сомневался, но не так сильно, как сейчас, почти перед самым концом работы.
Господи, а что, если это не вода? Вдруг в бочке ром, или бренди[159], или даже вино! Я знал, что все эти напитки не помогут утолить палящую жажду. Это возможно на мгновение, только на мгновение, а потом жажда разгорится еще сильнее. О, если там какой-нибудь спиртной напиток — я пропал! Тогда прощай последняя надежда, мне остается умереть, как часто умирают люди, — в чаду опьянения!
Я был настолько близок к внутренней поверхности клепки, что влага уже просачивалась через дерево в тех местах, где его просверливало острие ножа. Я медлил сделать последнее усилие — я боялся результатов. Но я колебался недолго, меня подгоняли мучения жажды. Я надавил, и последние волокна уступили. В то же мгновение из бочки брызнула холодная упругая струя. Она обожгла руку, в которой я сжимал нож, и сразу наполнила мой рукав. В следующую минуту я приник губами к отверстию и стал с наслаждением глотать — не спиртной напиток, не вино… нет, воду, холодную, вкусную, как влага родника!
Глава 25
ВТУЛКА
О, как я пил эту чудесную воду! Мне казалось, что я никогда не напьюсь. Но наконец я напился досыта, жажда прошла.
Это произошло не сразу — первые жадные глотки не утолили жажды — вернее, утолили только на время. Мне хотелось еще и еще, и я снова ловил губами бьющую из отверстия струю. И так я пил и пил, пока желание глотать воду не исчезло, и я забыл о приступах жажды, словно ее вовсе и не было.
Даже самое яркое воображение не способно представить мучения жажды! Нужно испытать их самому, чтобы судить о них. Вы можете судить о жестокости этих страданий по тому, что люди, которых мучит жажда, ничем не брезгают, чтобы утолить ее. И все же, как только страдание окончилось, оно исчезает, как сон. Жажда — наиболее легко исцелимое страдание.
Итак, жажда прошла, я подбодрился, но обычная предусмотрительность меня не покинула. Перестав пить, я заткнул дырку указательным пальцем. Инстинкт подсказывал мне, что нельзя бессмысленно тратить драгоценную влагу, и я ему повиновался. Но скоро мой палец устал играть роль втулки, и я стал разыскивать что-нибудь другое. Я обшарил все кругом, но не мог раздобыть ничего подходящего, действуя только правой рукой, — левой я зажимал отверстие и боялся сдвинуться с места, чтобы тонкая струйка не превратилась, чего доброго, в поток.
Мне вспомнился сыр, и я достал из кармана все, что там оставалось. Но сыр был слишком мягок для такой цели и раскрошился, когда я попробовал заткнуть им отверстие. Его просто вырвало у меня из рук напором водяной струи. Сухари тоже никуда не годились. Что делать?
Ответ пришел сразу: я могу заткнуть дыру куском материи от куртки. Грубый материал будет как раз кстати.
Не теряя времени, я отрезал ножом лоскут от полы и лезвием просунул его в дыру. Но ведь скоро он промокнет!
Это затычка временная — я ее сделал только для того, чтобы пошарить кругом и раздобыть что-нибудь получше.
Опять я стал раздумывать. Излишне говорить, что размышления вновь повергли меня в отчаяние. К чему я избежал смерти от жажды? Для того, чтобы продлить мучения? Еще несколько часов — и я умру голодной смертью. Выхода нет. Мой небольшой запас пищи съеден. Два сухаря и горсть крошек сыра — вот все, что осталось. Я смогу поесть еще раз — это будет не очень сытная еда, и потом… о, потом голод, страшный голод, слабость, бессилие, изнеможение — смерть!
Избавившись от жажды, я почувствовал, как воскресают мои прежние страхи. Небольшой прилив бодрости был только последствием избавления от физической муки и продолжался лишь до тех пор, пока я снова не обрел способности спокойно мыслить. Бодрость покинула меня уже через несколько минут, и опять вернулось опасение умереть голодной смертью. Неправильно даже называть это опасением — это была определенная уверенность. Пятиминутного размышления было достаточно для того, чтобы убедиться в том, что смерть неминуема. Это было так же ясно, как то, что пока я еще жив. Не было никакой надежды ни выйти из этой тюрьмы, ни раздобыть пищу.
Да, я умру от голода, у меня нет иного выхода — разве что смерть от собственной руки. У меня были для этого средства, но, странное дело, безумие, которое раньше толкало меня на такой поступок, теперь прошло. Я раздумывал о смерти со спокойствием, которое меня самого удивляло.
Я мог умереть тремя доступными мне способами — от жажды, от голода и покончить самоубийством. Вероятно, вы удивитесь, когда узнаете, что я стал выбирать из этих трех способов наименее мучительный.
Я действительно сосредоточил на этом все свои помыслы, как только пришел к твердому убеждению, что мне не избежать смерти. Не удивляйтесь. Станьте на мое место — и вы увидите, что такие мысли были вполне естественны.
Первый способ я сразу отбросил, ибо он был не самый легкий. Я уже его испробовал, и для меня было очевидно, что трудно найти более мучительное средство закончить свое существование. Я колебался между двумя остальными. Некоторое время я спокойно взвешивал, какой из них лучше. К сожалению, я был воспитан почти как язычник: в те времена я даже не знал, что лишить себя жизни — это великий грех. Меня занимало только одно: какой из двух способов умереть окажется наименее болезненным.
Я долго сидел и хладнокровно, спокойно раздумывал обо всем этом. Какой-то внутренний голос шептал мне, что нехорошо отказываться от дарованной мне жизни, даже если это может избавить меня от длительных мучений.
И я внял этому голосу. Собрав все свое мужество, я решил ждать той минуты, когда сам собой придет конец моим несчастьям.
Глава 26
ЯЩИК С ГАЛЕТАМИ
Итак, я твердо решил, что не стану накладывать на себя руки. Я решил жить столько, сколько будет возможно. Хотя двумя сухарями нельзя было насытиться и один раз, я решил разделить их на четыре части, а промежутки между едой увеличить, чтобы насколько возможно дольше обходиться без пищи.
Желание продлить свое существование росло во мне с той минуты, как я избавился от мук жажды, и сейчас оно стало особенно сильно. Правда, у меня было какое-то предчувствие, что я выживу, что я не погибну от голода, и это предчувствие, хотя и очень слабое, возникавшее лишь время от времени, все же поддерживало во мне искорку надежды.
Затрудняюсь объяснить, как могла возникнуть надежда при таком безвыходном положении. Но я вспомнил, что несколько часов назад возможность добыть воду тоже представлялась мне безнадежной, а теперь у меня было столько воды, что я мог бы утопиться в ней. Смешно, что эта мысль пришла мне в голову, — утопиться!
Несколько минут назад, выбирая самый легкий способ смерти, я и об этом подумал. Я слышал, что это самый лучший способ покончить с собой. Собственно говоря, его я уже испробовал.
Когда Гарри Блю спас меня, я ведь утонул — то есть уже потерял сознание, и если бы пошел на дно, то на этом все бы и кончилось. Я уже знал, что утонуть не так страшно, и серьезно подумывал, не броситься ли мне в большую бочку и таким образом положить конец своим бедствиям. Это было в минуты отчаяния, когда я всерьез думал, как бы покончить с собой поскорее, но эти минуты проходили, и я опять чувствовал непреодолимое желание жить и жить! У меня вдруг появилось неопределенное предчувствие, что я как-то спасусь, что я все-таки выйду из своей страшной тюрьмы.
Я съел полсухаря и запил его водой, потому что мне опять захотелось пить, хотя я уже больше не испытывал сильной жажды. Я заткнул дыру в бочке и снова уселся на пол.
Мне не хотелось ничего делать. Я не надеялся, что мое положение хотя сколько-нибудь изменится. Что оставалось предпринять? Единственной надеждой — если это можно назвать надеждой — была возможность поворота судьбы, случай. Но я не представлял себе, каким образом обернется моя судьба, что поможет мне сохранить жизнь.
Трудно было переносить эти долгие часы мрака и тишины. Только иногда шевелилось во мне предчувствие, о котором я говорил раньше, но все остальное время я находился в мрачном состоянии.
Вероятно, прошло часов двенадцать, прежде чем я съел вторую порцию сухарей. Я сопротивлялся сколько мог, но вынужден был отступить перед голодом. Крошечный кусочек сухаря не насытил меня. Он только сделал мой аппетит еще более острым и настойчивым. Я выпил много воды, но влага, наполнившая желудок, не могла утолить голод.
Часов через шесть я опять поел — еще полсухаря. Больше я не мог терпеть, но, проглотив крошечную порцию, даже не почувствовал, что я ел. Я был голоден, как и прежде!
Следующий перерыв занял что-то около трех часов. Мужественное решение растянуть четыре порции на несколько дней оказалось бессмысленным. Дня не прошло, а все сухари исчезли.
Что же дальше? Что есть? Я подумал о своих башмаках. Я читал о людях, которые поддерживали себя тем, что жевали сапоги, пояса, гетры, сумки и седла, — одним словом, все, что делается из кожи. Кожа — органическое вещество и даже после дубления сохраняет в себе небольшое количество питательных элементов. Поэтому я и подумал о башмаках.
Я наклонился, чтобы развязать их, но в этот момент что-то холодное ударило меня по затылку. Это была струя воды. Тряпку вышибло из дыры — из бочки текла вода и лилась мне на шею. Неожиданное холодное прикосновение к коже заставило меня подскочить в изумлении.
Конечно, я перестал удивляться, когда сообразил, в чем дело.
Я заткнул отверстие пальцем, пошарил кругом, нашел тряпку и снова заткнул бочку.
Это повторялось не раз, и я потерял много воды зря. Тряпка промокла и легко поддавалась напору воды. Если я засну, большая часть воды утечет. Надо найти затычку получше.
С этой мыслью я приступил к работе. Я обыскал весь пол моей каморки в надежде наткнуться на пучок соломы, но ничего не нашел.
С помощью ножа я попытался отщепить планку от шпангоута, но крепкий крашеный дуб был очень тверд, и я долго не мог отделить достаточно большой кусок дерева. Под конец я, может быть, и добился бы своего, но тут мне пришло в голову взяться за ящик, сколоченный из обыкновенных еловых досок. От него легче отделить щепку, чем от твердого дуба, и, кроме того, мягкое еловое дерево гораздо больше годится для затычек, чем дуб.
Я стал ощупывать ящик в поисках места, откуда лучше отколоть щепку.
Я нашел наверху уголок, в котором боковая доска несколько выдавалась над крышкой, всадил лезвие в щель и начал действовать, прижимая его книзу и работая им одновременно как долотом и как клином. Через несколько секунд я уже убедился, что боковая доска держится плохо. Вероятно, в момент погрузки гвозди были вырваны от толчков и ударов. Во всяком случае, доска держалась настолько слабо, что качалась у меня под пальцами.
Я вынул лезвие. Не имело смысла работать ножом, когда можно было легко оторвать планку руками. Я подсунул нож под угол доски, ухватился за нее рукой и дернул изо всех сил.
Она поддалась моему нажиму. Затрещали и полетели гвозди. И тут я услышал новый звук, который заставил меня отпрянуть и прислушаться внимательнее. Что-то твердое сыпалось из ящика и со стуком падало на пол.
Интересно было узнать, что это такое. Я наклонился, протянул руки вниз и ухватил два каких-то кусочка одинаковой формы и твердости. И когда я ощупал их пальцами, я не мог удержаться от радостного крика.
Я уже говорил, что осязание у меня обострилось, как у слепого, но если бы оно и не обострилось, я и то мог бы сказать в эту минуту, что за два круглых, плоских предмета находятся у меня в пальцах. Здесь нельзя было ошибиться в ощущениях. Это были галеты!
Глава 27
БОЧОНОК С БРЕНДИ
Да, это были галеты величиной с блюдце и толщиной в полдюйма — гладкие, круглые, темно-коричневого цвета. Я так уверенно определил цвет, потому что знал, что это настоящие морские галеты. Их называют «матросскими», в отличие от белых «капитанских» галет, которые, по-моему, уступают первым по вкусу и по питательности.
До чего вкусными показались они мне! Не успел я достать их, как сразу откусил большой кусок — какая чудесная еда! — и сразу уничтожил всю галету, а за ней другую, третью, четвертую, пятую… Кажется, я съел больше, но не считал, потому что голод не давал мне остановиться. Конечно, я запивал их, неоднократно возвращаясь к бочке с водой.
За всю жизнь не запомню более вкусной еды, чем эти галеты с водой. Дело было не только в удовольствии от наполнения голодного желудка — хотя это само по себе, как все знают, уже представляет собой удовольствие, — не только в приятном сознании того, что я открыл еду, — дело было в сладостном ощущении, что спасена жизнь, с которой за минуту до этого я готовился расстаться. С таким количеством провизии я мог жить, несмотря на мрак заточения, недели и месяцы, пока путешествие не закончится и трюм не освободят от груза.
Я проверил свои запасы и еще раз убедился в том, что спасен.
Драгоценные галеты пересыпались у меня под пальцами и, ударяясь друг о друга, постукивали, как кастаньеты.
Этот стук был для меня музыкой. Я погружал руки глубоко в ящик и с удовольствием перебирал пальцами его богатое содержимое, как скряга, перебирающий золотые монеты.
Казалось, я никогда не устану рыться в галетах, определять на ощупь, насколько они толсты и велики, вынимать их из ящика и класть обратно, перемешивать их так и этак. Я играл ими, как ребенок играет барабаном, мячиком, волчком и цветными шариками, перекатывая их из стороны в сторону. Много времени прошло, пока эта детская игра мне не надоела.
Наверняка я занимался этим не меньше часа, пока не улеглось волнение, вызванное этим новым радостным открытием, и я вновь смог действовать и рассуждать спокойно.
Трудно описать, что испытывает человек, внезапно вырванный из объятий смерти. Избежать опасности — совсем другое дело, потому что в редких случаях в опасности отсутствует хотя бы маленькая надежда на благополучный исход. Но здесь, после того как смерть казалась неизбежной, переход от отчаяния к радости, к безбрежному счастью бывает так резок, что доводит до потрясения. Люди иногда умирают или сходят с ума от счастья.
Но я не умер, не сошел с ума, хотя, глядя со стороны на мое поведение, после того как я вскрыл ящик с галетами, можно было предположить, что я сумасшедший.
Первое, что привело меня в чувство, было открытие, что вода бьет из бочки сильной струей. Отверстие оказалось открытым. Это сильно огорчило меня, даже внушило ужас. Я не знал, давно ли уходит вода, — шум морских волн заглушал все другие звуки, а тем временем вода, возможно, лилась на пол и уходила под доски. Может быть, это началось с тех пор, как я в последний раз пил. Не помню, заткнул ли я тогда отверстие тряпкой, — уж очень я волновался. Вероятно, потеряно попусту уже порядочно воды. Меня снова охватило беспокойство.
Еще час назад я не очень испугался бы такой потери. Я был уверен, что воды хватит на все время, пока не иссякнет пища, то есть пока я буду жив. Но теперь я думал по-другому: теперь сроки моей жизни удлинились. Возможно, мне придется пить из этой бочки несколько месяцев и при этом оставаться замурованным. Каждая капля жидкости будет дорога. Если случится, что вода иссякнет до того, как корабль войдет в порт, то мне снова будет угрожать смерть от жажды. Понятно, почему я так испугался, увидев, что вода вытекает. Я моментально заткнул отверстие пальцем, затем тряпкой. Потом я снова взялся за изготовление настоящей деревянной втулки.
Без особого труда я отколол от крышки ящика подходящую щепку. Мягкий материал поддался острому лезвию моего ножа и скоро превратился в коническую втулку, которая точно подошла к размерам отверстия.
Славный моряк! Как я благословлял тебя за твой подарок!
Я бранил себя за небрежность и жалел, что пробил отверстие так низко. В свое время, однако, это было понятно: я заботился только о том, как бы скорее утолить жажду.
Хорошо, что я вовремя заметил этот фонтан воды. Если бы бочка опорожнилась до уровня отверстия, остатка хватило бы на неделю, не больше.
Как ни старался я установить размеры утечки, я ничего не мог придумать. Я стучал по бочке ножом, думая догадаться по звуку, много ли осталось воды. Но потрескивание шпангоутов и шум волн сильно мешали мне. Звук был гулкий, а это означало большую потерю. Такое предположение было далеко не из приятных. Чувство тревоги все росло. К счастью, отверстие было маленькое, не больше пальца, которым я его затыкал. Только за большой промежуток времени при такой тоненькой струе могло уйти много воды. Я тщетно старался припомнить, когда в последний раз пил, но напрасно.
Долго я раздумывал, изобретая метод, которым легче всего можно определить оставшееся в бочке количество воды. Я слышал, что пивовары, бондари и таможенные надзиратели в доках определяют количество жидкости в бочке, не прибегая к измерениям, но не знал, как это делается, и очень жалел об этом.
У меня был план, и план неплохой, но не было подходящего инструмента. Я знал, что уровень воды в бочке можно определить, если ввести в нее трубку или кишку.
Будь у меня хоть какой-нибудь шланг, я бы вставил его в отверстие и таким образом определил высоту воды в бочке, Но где достать шланг или кишку? Конечно, я не мог раздобыть ничего подобного, и от этой идеи пришлось отказаться.
Тут я придумал новый план и немедленно приступил к его осуществлению. Я даже удивился, как не додумался до него раньше, — до того он был прост. Следовало ни больше ни меньше, как проделать другую дыру повыше, потом еще одну… и так далее, пока вода не перестанет течь. Самая верхняя дыра покажет мне уровень жидкости. Таким образом я узнаю то, что мне нужно.
Если первая дыра придется слишком низко, я заткну ее втулкой и с остальными буду поступать так же.
Конечно, предстояло основательно поработать, но другого выхода не было. Кстати, работа меня развлечет, и я не буду тосковать, сидя без дела в темноте. Я уже готов был приступить к работе, когда мне пришло в голову просверлить сначала отверстие в другой бочке, стоявшей в конце моей крошечной каморки. Если и вторая тоже окажется с водой, то я могу успокоиться — двух таких бочек хватит на самое длинное путешествие.
Без промедления я повернулся ко второй бочке и стал просверливать в ней отверстие. Я не волновался, как раньше, потому что жизнь моя не так уж зависела от результата этой работы. И все же я был сильно разочарован, когда из нового отверстия брызнула не вода, а чистейшее бренди.
Снова я вернулся к первой бочке. Теперь мне необходимо было определить, сколько в ней воды, потому что от этого зависело мое дальнейшее существование.
Нащупав клепку в середине бочки, я поступил так же, как в первый раз. Через час или около того последний тонкий слой дерева начал подаваться под кончиком моего ножа. Я волновался сильно, но все-таки не так, как в первый раз. Тогда это было делом жизни и смерти, притом немедленной смерти. Теперь непосредственной опасности не было, но все же будущее оставалось туманным. Я не мог не нервничать, не мог и удержаться от радостного восклицания, когда по лезвию ножа полилась струйка воды. Я закупорил дырочку и стал сверлить следующую клепку, повыше.
И эта клепка подалась через некоторое время, и я был вознагражден за терпеливый труд тем, что пальцы мои снова стали мокрыми.
Еще выше — тот же результат.
Еще выше — здесь уже не было воды. Не важно: последняя дырка была на самом верху бочки. В предыдущей дырочке еще была вода, следовательно, уровень ее находился между двумя последними дырками. Значит, бочка наполнена больше чем на три четверти. Слава Богу! Этого хватит на несколько месяцев.
Вполне удовлетворенный этим результатом, я уселся и съел галету с таким удовольствием, словно это были черепаховый суп и оленье жаркое за столом у лорд-мэра.
Глава 28
ПЕРЕХОЖУ НА СТРОГИЙ РАЦИОН
Я был всем доволен, и ничто теперь не причиняло мне беспокойства. Перспектива просидеть шесть месяцев взаперти, может быть, была бы неприятна при других обстоятельствах, но теперь, испытав ужасный страх мучительной смерти, я относился к ней спокойно. Я решил терпеливо перенести свое долгое заключение.
Шесть месяцев предстояло мне провести в унылой тюрьме, шесть месяцев — никак не меньше! Вряд ли меня освободят раньше, чем через полгода. Долгий срок — долгий и трудный даже для пленного или преступника, трудный даже в светлой комнате с постелью, очагом и хорошо приготовленной пищей, в ежедневной беседе с людьми, когда постоянно слышишь звуки человеческих голосов. Даже при всех этих преимуществах находиться взаперти шесть месяцев — тяжелое испытание!
Насколько же мучительнее мое заключение — в узкой норе, где я не могу ни стоять в полный рост, ни лежать вытянувшись, где нет ни подстилки, ни огня, ни света, где я дышу затхлым воздухом, валяюсь на жестких дубовых досках, питаюсь хлебом и водой — самой грубой пищей, которую только способен есть человек! И так без малейших перемен, не слыша ничего, кроме беспрестанного поскрипывания шпангоутов и монотонного плеска океанской волны, — шесть месяцев такого существования не могли, конечно, быть радостной перспективой, способной утешить человека.
Но я не унывал. Я был так рад избавлению от смерти, что не заботился о том, как буду жить в ближайшее время, хотя и предвидел, как измучит меня тягостное заточение.
Я был преисполнен радости и веры в будущее. Не то чтобы я был счастлив, — нет, просто меня радовало количество имевшихся у меня средств к существованию. Однако я решил точно измерить свои запасы пищи и питья, чтобы определить, хватит ли их до конца путешествия. Надо было сделать это безотлагательно.
До сих пор у меня не было никаких опасений на этот счет. Такой большой ящик с галетами и такой неиссякаемый источник воды — да я их никогда не истреблю! Так я думал сначала, но, немного поразмыслив, стал сомневаться. Капля долбит камень, и самая большая цистерна с водой может истощиться за длительный промежуток времени. А шесть месяцев — это долгий срок: почти двести дней. Очень долгий срок!
Чтобы положить конец всем сомнениям, я решил, как сказано выше, измерить запасы еды и питья. Это явно было благоразумным поступком. Если еды и питья вдоволь, я больше не стану сомневаться, а если, наоборот, окажется, что их не так уж много, то надо будет принять единственную возможную меру предосторожности и перейти на сокращенный рацион.
Когда я вспоминаю теперь все эти события, я поражаюсь, насколько благоразумен я был в столь раннем возрасте. Удивительно, как осторожно и предусмотрительно может вести себя ребенок, когда его поступками руководит инстинкт самосохранения.
Я немедленно приступил к расчетам. Я положил на путешествие шесть месяцев, то есть сто восемьдесят три дня. Неделю, которая прошла с момента отплытия, я не принимал во внимание, так как боялся преуменьшить истинный срок плавания. Но мог ли я быть уверенным, что за эти шесть месяцев корабль придет в порт и будет разгружен? Мог ли я быть уверен относительно этих ста восьмидесяти трех дней?
Нет, не мог. Я далеко не был уверен в этом. Я знал, что обычно путешествие в Перу занимает шесть месяцев, но не знал, составляют ли эти шесть месяцев среднюю продолжительность плавания или это кратчайший срок. Ведь могут быть задержки в плавании из-за штилей в тропических широтах, из-за бурь вблизи мыса Горн, знаменитого среди моряков неустойчивостью своих ветров; могут встретиться и другие препятствия, и тогда путешествие продлится дольше ожидаемого срока.
Полный таких опасений, я начал изучать свои запасы. Было нетрудно определить, на сколько мне хватит пищи: для этого стоило лишь пересчитать галеты и установить их количество. Судя по их величине, мне достаточно было двух штук в день, хотя, конечно, от этого не растолстеешь. Даже одной в день, даже меньше одной хватит, чтобы поддержать жизнь. Я решил есть как можно меньше.
Скоро я узнал и точное количество галет. Ящик, по моим подсчетам, имел около ярда в длину и два фута в ширину, а в вышину — около одного фута. Это был неглубокий ящик, поставленный боком. Зная точные размеры ящика, я мог бы подсчитать галеты, не вынимая их оттуда. Каждая из них была диаметром немного меньше шести дюймов, а толщиной в среднем в три четверти дюйма. Таким образом, в ящике должно было находиться ровно тридцать две дюжины галет.
Но, в сущности, перебрать галеты поштучно было для меня не работой, а развлечением. Я вынул их из ящика и разложил дюжинами. Там действительно оказалось тридцать две дюжины, но восьми штук не хватало. Однако я легко догадался, куда делись эти восемь штук.
Тридцать две дюжины — это триста восемьдесят четыре галеты. Я съел восемь, значит, осталось ровно триста семьдесят шесть. Считая по две штуки в день, этого хватит на сто восемьдесят восемь дней. Правда, сто восемьдесят восемь дней — это больше, чем шесть месяцев, но я не был уверен, что мы проплаваем именно шесть месяцев, и поэтому пришел к выводу, что надо перейти на сокращенный рацион и съедать меньше двух галет в день.
А что, если за этим ящиком стоит еще один ящик с галетами? Это обеспечило бы меня провизией на самый большой срок. Что, если так? Почему бы и нет? Вполне может быть! При нагрузке судна считаются не с сортом товаров, но исключительно с их весом и формой упаковки, а потому самые разнородные предметы оказываются рядом благодаря размерам ящика, тюка или бочки, в которую они заключены.
Я знал об этом, но отчего не предположить, что два совершенно одинаковых ящика галет стоят рядом?
Но как убедиться в этом? Я не мог пробраться за ящик, даже пустой.
Я уже говорил, что он плотно закупорил то небольшое отверстие, через которое я пролез в трюм. Я не мог ни взобраться на ящик, ни подлезть под него. «Вот что, — воскликнул я, неожиданно сообразив: — я пролезу через него!»
Это было вполне выполнимо. Доска, которую я оторвал и которая составляла часть крышки, оставила дыру — я мог свободно пролезть в нее.
Верх ящика был обращен как раз ко мне, и, всунув в него голову и плечи, я могу пробить отверстие в его дне. И тогда я увижу, стоит ли там второй ящик с галетами.
Я не стал медлить с приведением своего плана в исполнение: расширил отверстие, пролез в него и пустил в ход нож. Мягкое дерево легко уступало клинку, но, поработав немного, я сообразил, что следует действовать совсем по-другому. Дело в том, что доски днища держались только на гвоздях. Несколькими ударами молотка можно было вышибить их без труда. У меня не было молотка, но я заменил его не менее крепким орудием — каблуками. Я лег на спину и стал так колотить ногами по днищу, что одна из досок отошла, хотя и не совсем — ее держало что-то твердое, стоящее позади ящика.
Затем я вернулся в прежнее положение и проверил то, что сделал. Да, я сорвал доску с гвоздей, но она еще держалась и мешала мне узнать, что находится за ней.
Я напряг все силы, надавил на нее и рванул в сторону, а потом вниз, пока не открылось отверстие, достаточное, чтобы просунуть руки. Да, там стоял ящик — большой, грубо сколоченный, похожий на тот, через который я только что пробрался. Но надо было еще определить его содержимое. Снова собрал я все силы и привел доску в горизонтальное положение так, чтобы она больше не мешала мне. Другой ящик отстоял от первого не больше чем на два дюйма. Я устремился к нему со своим ножом и скоро пробил ящик.
Увы! Надежда найти галеты разлетелась, как дым. В ящике лежала какая-то шерстяная ткань — не то сукно, не то одеяла, — притом так плотно упакованная, что твердостью напоминала кусок дерева. Там не было галет, и мне оставалось довольствоваться сокращенным пайком и по возможности растягивать дольше тот запас, который был в моем распоряжении.
Глава 29
ЕМКОСТЬ БОЧКИ
Следующим моим делом было уложить галеты обратно в ящик — вне ящика они создавали большое неудобство, занимая больше половины всего помещения. У меня едва хватало места, чтобы повернуться, поэтому я поспешил положить все галеты на прежнее место. Мне пришлось сложить их правильными рядами, но не горизонтально, как они лежали раньше, а вертикально, потому что ящик теперь стоял на боку, и я придал галетам такое положение, в какое их укладывают в пекарнях. Конечно, это не имело особого значения, потому что они занимали столько же места, лежали они плоско или стояли на ребре. В этом я убедился, когда уложил тридцать одну дюжину и четыре штуки. Ящик был снова полон, и еще оставалось небольшое пустое пространство в углу; этого пространства хватило бы ровно на восемь съеденных мною галет.
Теперь я точно знал, сколько провизии лежит у меня в «кладовой». При норме около двух галет в день я смогу продержаться немного более шести месяцев. Это будет не слишком роскошная жизнь, но я решил съедать даже меньше — у меня не было уверенности в том, что мои лишения не продлятся больше шести месяцев. Я твердо решил, что ограничусь в любом случае двумя штуками в день, а в те дни, когда мне легче будет переносить голод, я буду экономить по четверти, или по половине, или даже по целой галете. При такой экономии я смогу протянуть гораздо дольше.
Решив таким образом вопрос о пище, следовало выяснить, сколько воды могу я выпивать в день. Сначала мне это казалось непосильной задачей. Каким способом измерить остаток воды в бочке? Это была старая винная бочка — такие употребляются на судах для перевозки пресной воды для команды, — но я ведь не знал, какую жидкость она содержала раньше, и поэтому не мог определить на глаз емкость бочки. Знай я емкость, я мог бы приблизительно определить, сколько я выпил и сколько еще осталось. Особая точность здесь не требовалась.
Я хорошо помнил «таблицу мер жидкостей», и недаром это была самая трудная из таблиц для заучивания наизусть. Немало я получил в школе розог, пока научился повторять ее с начала до конца. Наконец я вытвердил ее так, что мог произнести всю без запинки…
Я знал, что винные бочки бывают самых различных размеров, смотря по сорту вина, которое в них налито. Я знал, что спиртные напитки — бренди, виски, ром, джин, а также вина — херес, портвейн, мадера, канарское, малага и другие сорта — перевозятся в бочках разной емкости, но обычно винная бочка содержит около сотни галлонов. Я даже вспомнил, сколько галлонов обычно полагается на каждый сорт, так как наш школьный учитель, великий любитель статистики, очень подробно обучал нас мерам жидкостей. Если бы я только знал, какое вино раньше возили в этой бочке, я бы моментально сказал, сколько она вмещает. Мне показалось, что от бочки пахнет хересом.
Я вынул затычку и попробовал воду на вкус. Раньше я и не думал разбираться в ее вкусе. Как будто это херес, но может быть и мадера, а тут уж разница в несколько галлонов — очень важный момент при подсчете. Нет, я не мог положиться на собственное суждение и сделать его основой для подсчета. Надо было придумать что-нибудь другое.
К счастью, наш школьный учитель обучил нас еще и другим правилам измерения емкости.
Я всегда удивлялся тому, что в школах простые, но полезные научные факты остаются в стороне, в то время как бедным мальчикам вколачивают в головы бесполезные и нелепые стишки. Без всякого колебания скажу, что обыкновенные таблицы мер, которые можно выучить за неделю, имеют гораздо большую ценность для человека — даже для всего человечества, — чем отличное знание мертвых языков. Греческий и латынь — вот истинные преграды для развития наук!
Итак, я уже сказал, что наш старый учитель передал нам некоторые сведения, касающиеся измерений, и, к счастью, они остались у меня в памяти.
Я знал объем куба, параллелепипеда, пирамиды, шара, цилиндра и конуса — последнее было мне теперь нужнее всего.
Я знал, что бочка — это два конуса, то есть два конуса, усеченных параллельно основаниям, которые расположены одно против другого. Зная, как измерить обыкновенный конус, я, конечно, знал, как измерить и усеченный.
Чтобы вычислить емкость бочки, нужно знать ее высоту (или половину высоты), длину окружности ее основания и длину окружности самой широкой части. Зная все это, я мог сказать, сколько в нее войдет воды, — другими словами, я мог сосчитать, сколько она содержит кубических дюймов жидкости. Узнав эту цифру, мне оставалось разделить ее на шестьдесят девять с чем-то и получить число кварт[160], а затем простым делением на четыре превратить кварты в галлоны, если мне понадобится вычислить емкость в галлонах.
Значит, необходимо найти три основные величины, и тогда я сумею определить емкость бочки. Но в этом-то и заключалась вся трудность. Как найти эти три величины?
Я мог бы еще определить высоту, потому что это было для меня достижимо. Но как определить окружность в середине и по краям? Я не мог ни перебраться через верх бочки, ни подлезть под нее. И то и другое было для меня недоступно. Кроме того, передо мной была еще одна трудность: мне нечем было мерить — ни линейки, ни шнура, то есть никакого инструмента, которым можно было бы определить количество футов или дюймов. Так что, если бы я даже мог обойти вокруг бочки, все равно я оказался бы в затруднении.
Однако я решил не сдаваться, пока не придумаю чего-нибудь. Это занятие поможет мне развлечься. И, кроме того, как я уже говорил, это было делом первейшей важности. К тому же старик учитель внушал нам, что настойчивость часто приводит к успеху там, где успех кажется невозможным. Вспоминая его наставления, я принял решение не отступать, пока не иссякнут последние силы.
Поэтому я продолжал упорствовать и, скорее чем можно рассказать об этом, открыл способ измерить бочку.
Глава 30
ЕДИНИЦА МЕРЫ
Прежде всего мне необходимо было узнать длину диаметра, проходящего через центр бочки, и скоро я нашел способ измерить его. Для этого мне требовались лишь жердочка или палка достаточной длины, чтобы ее можно было ввести в бочку в самом широком месте. Мне было ясно, что, вставив такую палку в дыру с одной стороны бочки и доведя ее до противоположной стенки — в точке, диаметрально противоположной этой дыре, я получу точный диаметр серединной части бочки: та часть палки, которая пройдет от стенки до стенки, и будет диаметром. Найдя диаметр, я помножу его на три — и получу окружность. В данном случае мне нужен был именно диаметр, а не окружность. Конечно, при обыкновенных условиях, когда бочка закупорена, легче измерить ее окружность в самом широком месте, чем найти диаметр. Вообще же годится любой способ: можно затем либо разделить окружность на три, либо умножить на три диаметр — результат для большинства практических целей будет один и тот же, хотя математически это не совсем точно.
По чистой случайности одно из просверленных мною отверстий находилось как раз на середине бочки.
Но где найти палку, спросите вы, где найти это орудие для измерения?
Доска от ящика для галет — вот вполне подходящий материал, из которого можно соорудить палку. Я это сразу сообразил и немедля принялся за дело.
Доска имела в длину немного больше двух футов, и ее не хватило бы, чтобы просунуть через бочку, которая на ощупь была шириной в четыре или пять футов. Но небольшого ухищрения оказалось достаточно, чтобы преодолеть это препятствие. Надо отколоть три планочки и соединить их концы — получится палка достаточной длины.
Так я и сделал. К счастью, доска легко раскалывалась вдоль волокна. Я строгал осторожно, стараясь сделать палку не слишком толстой и не слишком тонкой.
Мне удалось сделать три планки нужной толщины. Я обрезал концы наискось, обстрогал планки и подогнал их друг к другу, чтобы их можно было соединить.
Теперь надо было найти два шнурка, а это было самым легким делом в мире. У меня на ногах красовались башмаки, зашнурованные до самой лодыжки полосками телячьей кожи, каждая в ярд длиной. Я выдернул их из дырочек и связал ими планки. Теперь у меня в руках была палка длиной в пять футов — достаточно длинная, чтобы пройти насквозь через самую широкую часть бочки, и достаточно тонкая, чтобы пролезть через отверстие. Я немного расширил и его.
«Прекрасно! — думал я. — Сейчас мы и определим диаметр». Я поднялся на ноги. Трудно описать разочарование, которое я испытал, убедившись в том, что первая из моих операций, казавшаяся самой простой, не может быть выполнена. Я сразу же увидел, что это невозможно. Не потому, что дыра была слишком мала, и не потому, что палка была слишком широка. Тут я не сделал никакой ошибки — я ошибся в пространстве, на котором мне предстояло действовать. В длину моя кабина имела около шести футов, но в ширину меньше двух, а на уровне отверстия, в которое я собирался вложить палку, — еще меньше. Таким образом, всунуть линейку в отверстие было невозможно, разве что согнув ее так, что она наверно бы сломалась, потому что сухое дерево треснуло бы, как чубук глиняной трубки.
Я очень пожалел, что не подумал об этом раньше, но еще больше я жалел о том, что придется оставить мысль измерить бочку. Однако дальнейшие размышления натолкнули меня на новый план. Это доказывает, что не следует делать заключения слишком поспешно. Я открыл способ ввести в бочку палку не только не ломая, но и не сгибая ее.
Следовало развязать палку и вводить ее в бочку по частям: сначала ввести первую планку, потом привязать к ней вторую и двигать дальше, пока снаружи останется только кончик, а тогда привязать третью таким же образом.
Как будто здесь нет ничего трудного, и это так и оказалось, ибо через пять минут я осуществил свое намерение — только несколько дюймов палки осталось снаружи.
Осторожно держа в руке кончик палки, я стал подталкивать ее вперед, пока не почувствовал, что противоположный конец уперся в стенку бочки как раз напротив отверстия. Тогда я сделал на линейке зарубку ножом. Сбросив с общей длины толщину стенки, я получу точный диаметр бочки. Затем так же осторожно я вынул из бочки по частям всю палку, тщательно замечая места, где планки были связаны, чтобы потом связать их снова в том же месте. Здесь нужна была особая точность, потому что ошибка в какую-нибудь четверть дюйма в диаметре могла повлечь за собой разницу во много галлонов в определении емкости сосуда. Поэтому мне следовало быть весьма аккуратным в цифрах.
Теперь у меня был диаметр конуса у основания, то есть диаметр самой широкой части бочки. Оставалось определить диаметр усеченной вершины конуса, или основания бочки. Это представляло меньше трудностей — просто никаких! Я закончил измерение в несколько секунд: просунул палку вдоль днища бочки, пока она не уперлась в край.
Надо было еще определить длину бочки. Казалось бы, ничего нет проще, а мне пришлось помучиться, пока я определил ее с достаточной точностью. Вы скажете, что для этого стоило лишь приложить палку параллельно бочке и сделать зарубку точно на уровне концов бочки. Вы забываете, что это было бы легко при дневном свете, а ведь кругом была темнота. Я не мог быть вполне уверен, что палка у меня проходит прямо, а не косо. Ошибиться даже на дюйм — а я мог ошибиться и на несколько дюймов, — значило спутать все расчеты и сделать их бесполезными. Озадаченный, я прекратил измерение и некоторое время бездействовал.
Надо прежде всего сделать еще одну палку из двух планок от ящика. Так я и поступил.
Затем я проделал следующее: старую палку просунул вдоль дна бочки так, что она оперлась на выступавшие над ним закраины. Таким образом, палка оказалась строго параллельна плоскости днища, и с моей стороны конец палки выступал приблизительно на фут. Вторую палку я направил вдоль бока бочки под прямым углом к первой и прижал ее к самой широкой части бочки. Теперь я мог отметить на второй палке то место, где она касалась самой широкой части бочки. Ясно, что это и была половина длины бочки, а две половины всегда составляют целое. Ошибки быть не может, так как прямой угол я установил весьма тщательно.
Теперь у меня были все данные. Оставалось сделать вывод.
Глава 31
«QUOD ERAT FACIENDUM»[161]
Найти кубическое содержание бочки и перевести его потом в меры емкости — в галлоны и кварты, — в сущности, не представляло никакого труда и требовало только несложных арифметических вычислений. Я был достаточно образованным математиком, чтобы произвести эти вычисления без пера, бумаги, грифельной доски или карандаша. Впрочем, если бы у меня и было все это, я все равно не смог бы писать в темноте. Я хорошо умел считать в уме и мог складывать и вычитать, умножать и делить ряды цифр без помощи пера и карандаша.
Я сказал, что определить содержимое бочки в кубических футах и дюймах простым вычислением не представляло труда. Но прежде чем подсчитывать, предстояло разрешить еще один важный вопрос. Мои измерения диаметров и высоты не были выражены в футах и дюймах. Я измерил бочку просто кусками дерева и отметил расстояние зарубками. Ведь я не знал, сколько мои зарубки обозначают футов и дюймов. Можно было прикинуть в уме, но от этого пользы мало: у меня все-таки не будет данных, пока я не измерю обе палки.
Казалось бы, тут я столкнулся с действительно непреодолимым препятствием. Принимая во внимание, что у меня нечем было мерить — ни линейки с делениями, ни складного фута, никакой шкалы для измерения, — вы очень просто заключите, что мне пришлось отказаться от этой задачи. Если взять за основу длину палки, я не получу никаких сведений о том, что меня интересует. Для того чтобы вычислить объем бочки в кубических мерах и в мерах жидких тел, я должен сначала узнать наименьший и наибольший диаметры и высоту, выраженные в общепринятых мерах длины, то есть в футах и дюймах или в любых делениях линейки.
Как же, спрашиваю я, узнать мне футы и дюймы, когда у меня нет никакой линейки? Никакой! И я не могу сделать ее, ибо для этого нужна другая линейка, с делениями. И, уж конечно, я не могу прикидывать длину в футах и дюймах на глаз. Что же делать?
«Очевидно, ничего, — скажете вы. — Невозможное остается невозможным».
Но я рассудил иначе.
Я уже раньше предвидел эту трудность и поразмыслил о том, как мне ее преодолеть. Все это было заранее продумано. Я уже знал, что могу измерить мои палки с точностью до одного дюйма.
Как же именно?
А вот как.
Я сказал, что у меня не было чем мерить, и это правда, если понимать мои слова буквально. Но я, я сам был тем, чем следовало мерить, — я сам был единицей измерения! Если помните, я еще на пристани измерил свой рост и установил, что во мне почти полных четыре фута. До чего кстати пришлось это измерение!
Теперь, зная, что во мне четыре фута, я могу отметить эту длину на палке, и таким образом у меня окажется четырехфутовая мера.
Я сделал это без промедления. Дело оказалось простым и легким. Я лег на пол, уперся ногами в один из шпангоутов и поместил жердь между ногами. Потом вытянулся во весь рост, стараясь, чтобы палка лежала параллельно оси моего тела и касалась середины лба. Я тщательно нащупал пальцами ту точку на палке, которая приходилась напротив моей макушки, и потом сделал там зарубку ножом. Теперь в моем распоряжении была линейка длиной в четыре фута.
Но самое сложное было еще впереди. С четырехфутовой линейкой я ненамного приблизился к своей цели. Я мог теперь измерить диаметры, но этого было недостаточно. Требовалось измерить их абсолютно точно. Я должен был определить их в дюймах, даже в долях дюйма, потому что, как я уже сказал раньше, ошибка при вычислении хотя бы на полдюйма привела бы к разнице в несколько галлонов. Как же разделить четырехфутовую палку на дюймы и нанести на нее эти дюймы? Как это сделать?
Казалось бы, чего проще! Половина моего роста, который я уже отметил, даст два фута; еще половина даст один фут. Сделав снова зарубку на половине, я получу меру в шесть дюймов. Потом я могу и этот отрезок разделить на три дюйма, а если понадобится еще меньшая мера, то разделить три дюйма на три части и получить искомый минимум — один дюйм.
Да, все это просто в теории, но как осуществить это на практике, на обыкновенной палке, в кромешной тьме? Как найти половину от четырех футов? А ее надо определить точно и потом делить и делить — вплоть до дюйма.
Сознаюсь, что я несколько минут сидел и думал, совершенно озадаченный.
Впрочем, это продолжалось недолго; скоро я нашел способ преодолеть и это препятствие. Ремешки от башмаков — вот что послужит мне линейкой!
Лучшего нельзя было и придумать. Это были полоски отличной сыромятной телячьей кожи — ими можно было мерить с точностью до восьмой части дюйма, не хуже чем линейкой из самшита или слоновой кости.
Одного ремешка мне не хватило бы — я взял оба и связал их прочным, тугим узлом. Получилась полоска кожи длиной больше четырех футов. Приложив ее к палке, я обрезал излишек, чтобы в ремешке стало ровно четыре фута. Я проверил длину ремешка несколько раз по палке, натягивая его изо всех сил, чтобы не получилось никаких перегибов и узлов.
Малейшая ошибка лишила бы точности всю мою будущую шкалу, хотя вообще легче разделить четыре фута на дюймы, чем, наоборот, сложить из дюймов четырехфутовую линейку. В первом случае при каждом делении ошибка уменьшается, а во втором непрерывно увеличивается.
Убедившись, что мера взята точно, я соединил концы ремешка вместе, придавил их пальцами и сложил на середине. Затем тщательно разрезал ремешок ножом и таким образом разделил его на две половины, каждая по два фута. Ту половину, где был узел, я отбросил, а оставшуюся половину опять разделил и разрезал на две части. Теперь у меня было два куска, каждый по одному футу.
Один из этих кусков я сложил втрое, придавил и разрезал. Это была очень тонкая операция, и тут потребовалась вся ловкость моих пальцев, потому что легче было разделить ремешок на две части, чем на три. Я порядочно провозился, пока наконец не достиг желаемого.
Моей целью было нарезать куски по четыре дюйма каждый, чтобы потом, сложив четырехдюймовый отрезок дважды, получить один дюйм.
Так я и сделал.
Для проверки я разрезал нетронутую половину ремешка на кусочки по дюйму и сравнил их с ранее сделанными.
Я с радостью убедился в том, что первые точно соответствуют вторым. Разницы не было и на волосок!
Теперь у меня была точная мера, которую, следовало нанести на палку. У меня были куски длиной в один фут, в четыре дюйма, в два дюйма и в один дюйм. С их помощью я нанес деления на палке, превратив ее в нечто подобное измерительному прибору торговца тканями.
Все это заняло порядочно времени, так как я работал весьма тщательно и осторожно. Но терпение мое вознаградилось: теперь в моем распоряжении была единица меры, на которую я мог положиться, проводя вычисление, от которого зависела моя жизнь или смерть.
Я больше не медлил с вычислением. Диаметры были высчитаны в футах и дюймах, и я взял их среднюю арифметическую. Эту цифру я перевел в квадратные меры обычным способом (умножил на восемь и разделил на десять).
Это дало мне площадь основания цилиндра, равную площади основания усеченного конуса той же высоты. Результат я умножил на длину бочки — и получил ее емкость в кубических дюймах.
Разделив последнюю цифру на шестьдесят девять, я получил количество кварт, а потом галлонов. Так я установил, что бочка вмещала немного больше сотни галлонов.
Глава 32
УЖАСЫ МРАКА
Результат моих вычислений оказался более чем удовлетворительным. Восьмидесяти галлонов воды, считая по пол галлона в день, хватит на сто шестьдесят дней, а если считать по кварте в день, то на триста двадцать — почти на целый год! Я мог вполне обойтись одной квартой в день — да ведь не могло же плавание продолжаться триста двадцать дней! Корабль мог обойти за меньший срок вокруг света, как мне говорили. Хорошо, что я это вспомнил, — теперь я совершенно перестал тревожиться относительно питья. Но все же я решил пить не больше кварты в день и уже не беспокоиться, что мне не хватит воды.
Большей опасностью был недостаток пищи, но, в общем, это меня мало пугало, так как я твердо решил соблюдать самую жесткую экономию. Итак, всякое беспокойство в отношении пищи и питья у меня исчезло. Ясно, что я не умру ни от жажды, ни от голода.
В таком настроении я находился несколько дней и, несмотря на скуку заточения, в котором каждый час казался целым днем, постепенно приспособился к новому образу жизни. Часто, чтобы убить время, я считал минуты и секунды, занимаясь этим странным делом по нескольку часов подряд.
У меня были с собой часы, подаренные матерью, и я любовно прислушивался к их бодрому тиканью. Мне казалось, что у них особенно громкий ход в моей тюрьме, да это и было так — звук усиливался, отражаясь от деревянных стен, ящиков и бочек. Я бережно заводил часы, боясь, как бы они случайно не остановились и не сбили меня со счета.
Я не очень интересовался тем, который час. В этом не было смысла. Я даже не думал о том, день сейчас или ночь. Все равно яркое солнце не могло послать ни лучика, чтобы рассеять мрак моей темницы. Впрочем, я все же знал, когда наступает ночь. Вы удивитесь, конечно, как мог я это знать, — я ведь не считал времени в продолжение первых ста часов с тех пор, как попал на корабль, и в полном мраке, окружавшем меня, невозможно было отличить день от ночи.
Однако я нашел способ — и вот в чем он заключался. Всю жизнь я ложился спать в определенный час, а именно в десять часов вечера, и вставал ровно в шесть утра. Таково было правило в доме моего отца и в доме моего дяди — особенно в последнем. Естественно, что, когда наступало десять часов, меня сразу начинало клонить ко сну. Привычка была так сильна, что не изменяла мне и в этой новой для меня обстановке. И когда мне хотелось спать, я заключал, что, должно быть, уже десять часов вечера. Я установил, что сплю около восьми часов и в шесть утра просыпаюсь. Таким образом мне удалось урегулировать часы. Я был уверен, что таким же способом я сумею отсчитывать сутки, но потом мне пришло в голову, что привычки мои могут измениться, и я стал аккуратно следить за часами[162]. Я заводил их дважды в сутки — перед сном и при вставании утром — и не боялся, что они внезапно остановятся.
Я был рад, что могу отличить ночь ото дня, но, по существу, их смена немного или даже вовсе ничего для меня не означала. Важно было, однако, знать, когда кончаются сутки, ибо только так я мог следить за путешествием. Я внимательно считал часы, и, когда часовая стрелка дважды обегала циферблат, делал зарубку на палочке. Мой календарь велся с большой аккуратностью. Я сомневался только в первых днях после отплытия, когда не следил за временем. Я определил количество этих дней наугад как четыре. Впоследствии оказалось, что я не ошибся.
Так проводил я недели, дни, часы — долгие, скучные часы во мраке. Я был в подавленном состоянии духа, иногда совсем опускал голову, но никогда не отчаивался.
Странно сказать, сильнее всего я страдал теперь от отсутствия света. Сначала мне причиняло большие муки мое согнутое положение и необходимость спать на жестких дубовых досках, но потом я привык. Кроме того, я придумал, как сделать свое ложе помягче. Я уже говорил, что в ящике, который находился за моим продовольственным складом, лежало сукно, плотно скатанное в рулоны, в том виде, как оно выходит с фабрики. Я сразу сообразил, как устроиться поудобнее, и немедленно привел свою мысль в исполнение. Я убрал галеты, увеличил отверстие, которое ранее проделал в обоих ящиках, и с трудом выдернул штуку материи. Дальше работа пошла легче, и через два часа я изготовил себе ковер и мягкое ложе, тем более драгоценное, что оно было сделано из лучшего сорта материи. Я взял столько, сколько понадобилось, чтобы вовсе не чувствовать под собой дубовых досок. Затем я убрал галеты в ящик, иначе они загромождали помещение.
Расстелив свою дорогостоящую постель, я растянулся на ней и почувствовал себя гораздо уютнее, чем раньше.
Но с каждой минутой я все больше мечтал о свете. Трудно описать, что испытываешь в полной темноте! Только теперь я понял, почему подземная темница всегда считалась самым страшным наказанием для узника. Неудивительно, что люди становились седыми и самые чувства изменяли им при таких обстоятельствах, — ибо в самом деле темнота так невыносима, как будто свет является основой нашего существования.
Мне казалось, что, будь я заключен в светлом помещении, время прошло бы вдвое скорее. Казалось, темнота увеличивает каждый час вдвое и как будто что-то материальное удерживает колесики моих часов и движение времени. Бесформенный мрак! Мне казалось, что я страдаю только от него и что проблеск света меня мгновенно бы вылечил. Иногда мне вспоминалось, как я лежал больной, без сна, считая долгие, мрачные часы ночи и нетерпеливо дожидаясь утра. Так медленно и совсем не весело шло время.
Глава 33
БУРЯ
Больше недели провел я в этом томительном однообразии. Единственный звук, который достигал моих ушей, был шум волн надо мной. Именно надо мной — потому что я знал, что нахожусь в глубине, ниже уровня воды. Изредка я различал другие звуки: глухой шум тяжелых предметов, передвигаемых по палубе. Несомненно, там что-то действительно передвигали. Иногда мне казалось, что я слышу звон колокола, зовущий людей на вахту, но в этом я не был уверен. Во всяком случае, звук казался таким далеким и неотчетливым, что я не мог определенно сказать, действительно ли это колокол. И слышал я этот звук только в самую тихую погоду.
Я прекрасно знал, какова погода снаружи. Я мог отличить небольшой ветер от свежего ветра и от бури, знал, когда они возникли и когда кончились, — совсем так, словно находился на палубе. Качка корабля, скрип его корпуса говорили мне о силе ветра и о том, какова погода — плохая или хорошая.
На шестой день — то есть на десятый с момента отплытия, но шестой по моему календарю — началась настоящая буря. Она продолжалась два дня и ночь. Вероятно, это был необычайно сильный шторм — он сотрясал крепления судна так, как будто собирался разнести их вдребезги. Временами я думал, что большой корабль действительно разлетится на куски. Огромные ящики и бочки со страшным треском колотились друг о друга и о стенки трюма. В промежутках было ясно слышно, как могучие валы обрушивались на корабль с таким ужасным грохотом, как будто по обшивке изо всех сил били тяжелым молотом или тараном.
Я не сомневался, что судно, того и гляди, пойдет ко дну. Можете себе представить, что я испытывал тогда! Нечего и говорить, как мне было страшно. Когда я думал о том, что корабль может опуститься на дно, а я, запертый в своей коробке, не имею возможности ни выплыть на поверхность, ни вообще пошевелиться, меня сковывал еще больший страх. Я уверен, что не так боялся бы бури, если бы находился на палубе.
К довершению бед, у меня снова начались приступы морской болезни — так всегда бывает с теми, кто впервые плавает по морю. Бурная погода сразу вызывает тошноту и слабость, и с той же силой, с какой она возникает обычно в первые двадцать четыре часа путешествия.
Это очень легко объяснить — качка корабля во время бури усиливается.
Почти сорок часов продолжалась буря, пока море не успокоилось. Я понял, что шторм миновал, — я больше не слышал гула волн, которым обычно сопровождается движение корабля по бурному морю. Но, несмотря на то что ветер прекратился, корабль все еще качался, балки скрипели, ящики и бочки двигались и ударялись друг о друга так же, как и раньше. Причиной этому была зыбь, которая постоянно следует за сильным штормом и которая не менее опасна для корабля, чем буря. Иногда при сильной зыби ломаются мачты и корабль валится набок — катастрофа, которой моряки очень боятся.
Зыбь постепенно стихла, а через двадцать четыре часа прекратилась совершенно.
Корабль скользил как будто еще более плавно, чем прежде. Тошнота моя также стала утихать, я почувствовал себя лучше и даже веселее. Но так как страх заставил меня бодрствовать все время, пока бушевала буря, да и болезнь не оставляла меня во все время свирепой качки, то теперь я был совершенно измучен и, как только все успокоилось, заснул глубоким сном.
Сны мои были почти так же мучительны, как явь. Мне снилось то, чего я боялся несколько часов назад: будто я тону именно так, как предполагал, — заключенный в трюме, без возможности выплыть. Больше того, мне снилось, что я уже утонул и лежу на дне моря, что я мертв, но при этом не потерял сознания. Наоборот, я все вижу и чувствую и, между прочим, замечаю отвратительных зеленых чудовищ, крабов или омаров, ползущих ко мне, чтобы ухватить меня своими громадными клешнями и растерзать мое тело.
Один из них привлек мое особое внимание — самый большой и страшный из всех.
Он ближе всех ко мне.
С каждой секундой он все приближается и приближается, и мне кажется, что он уже добрался до моей руки и взбирается по ней.
Я ощущаю холодное прикосновение чудовища, его неуклюжие клешни уже на моих пальцах, но я не могу пошевелить ни рукой, ни пальцем, чтобы сбросить его.
Вот краб вскарабкался на запястье, ползет по руке, которую я во сне откинул далеко от себя. Он, кажется, собирается вцепиться мне в лицо или горло. Я это чувствую по настойчивости, с которой он продвигается вперед, но, несмотря из весь свой ужас, ничего не могу сделать, чтобы отбросить чудовище. Я не могу пошевелить ни кистью, ни рукой, я не могу двинуть ни одним мускулом своего тела. Ведь я же утонул, я мертв! Ой! Краб у меня на груди, на горле… он сейчас вопьется в меня… ах!..
Я проснулся с воплем и выпрямился. Я бы вскочил на ноги, если бы для этого хватило места. Но места не было. Ударившись головой о дубовую балку, я пришел в себя.
Глава 34
НОВАЯ ЧАШКА
Несмотря на то что все это было во сне и никакой краб не мог взобраться по моей руке, несмотря на то что я проснулся и знал, что это лишь сон, — я не мог отделаться от впечатления, что по мне действительно прополз краб или какое-то другое существо. Я все еще ощущал легкое жжение на руке и на груди — и та и другая были открыты, — жжение, которое мог бы произвести зверек с когтистыми лапками. И я не мог отбросить мысль, что все же здесь кто-то был.
Я был так убежден в этом, что, проснувшись, машинально протянул руку и стал ощупывать свое ложе, надеясь поймать какое-нибудь живое существо.
Спросонья я все еще думал, что это краб, но, придя в себя, понял нелепость такой догадки — здесь ведь не могло быть краба. Впрочем, почему же нет? Краб мог жить в трюме корабля — его занесли на борт случайно вместе с балластом, а может быть, его затащил сюда кто-нибудь из матросов для забавы. Потом его бросили на произвол судьбы, и он скрылся в многочисленных уголках и щелях, которых достаточно среди трюмных балок. Пищу он мог найти в трюмной воде, в мусоре, а может быть, крабы, как хамелеоны, могут питаться воздухом?[163] Я размышлял так только несколько минут, после того как проснулся, но, поразмыслив, отбросил эти предположения. Крабов я мог видеть только во сне. Если бы не сон, я бы и не подумал об этих существах. Конечно, здесь нет никакого краба, иначе я поймал бы его: ведь я ощупал каждый дюйм постели и ничего не нашел. В мою каморку вели только две щели, через которые крупный краб мог бы пролезть или скрыться, но я сразу же проверил эти щели, как только проснулся. Такой медлительный путешественник, как краб, не мог бы убежать через них в столь короткий промежуток времени. Нет, здесь не могло быть краба. И все-таки здесь кто-то был, ибо кто-то карабкался по мне. Я был в этом уверен.
Некоторое время я еще раздумывал над своим сном, но скоро неприятное ощущение исчезло. Ничего удивительного, что мне приснилось именно то, о чем я все время думал, пока бушевала буря.
Ощупав часы, я увидел, что спал очень долго — мой сон продолжался около шестнадцати часов! Это произошло потому, что я бодрствовал все время, пока длилась буря, да тут еще причиной была морская болезнь.
Я испытывал сильный голод и не мог удержаться от искушения съесть больше, чем мне полагалось. Я уничтожил целых четыре галеты. Мне говорили, что морская болезнь порождает сильный аппетит, и я теперь убедился, что это правда. Я готов был сразу уничтожить весь свой запас. Съеденные мною четыре галеты насытили меня лишь отчасти. Только боязнь остаться без пищи удержала меня от соблазна съесть в три раза больше.
Меня одолевала также жажда, и я выпил гораздо больше полагающейся порции. Но водой я не так дорожил, рассчитывая, что мне с избытком хватит питья до конца путешествия. Одно только меня беспокоило: когда я пил воду, я очень много разбрызгивал и проливал. У меня не было никакого сосуда — я пил прямо из отверстия в бочке. К тому же это было неудобно. Я вынимал затычку, и сильная струя била мне прямо в рот. Но я не мог пить без конца, нужно было перевести дыхание, а в это время вода обливала лицо, платье, заливала всю каморку и уходила попусту, пока я всовывал затычку обратно.
Если бы у меня был сосуд, в который я мог бы налить воду, — чашка или что-нибудь в этом роде!
Сначала я подумал о башмаках, которые были не нужны. Но подобное применение обуви мне претило.
До того как я просверлил бочку, я не колеблясь напился бы из башмаков или из любого сосуда, но сейчас, когда воды имелось вдоволь, дело обстояло иначе. Может, все же вымыть начисто один из башмаков для этой цели? Лучше, конечно, потратить немного воды на мытье башмака, чем терять большое количество воды при каждом питье.
Я уже собирался привести этот план в исполнение, когда лучшая мысль пришла мне в голову — сделать чашку из куска сукна. Я заметил, что материя была непромокаемая, — по крайней мере, брызгавшая на мою постель из бочки вода не проходила насквозь: мне всегда приходилось стряхивать брызги с материи. Поэтому кусок ее, свернутый в виде чашки, вполне пригодится для моей цели. И я решил сделать такой сосуд.
Нужно было отрезать широкий кусок ножом и свернуть его в несколько слоев в виде воронки. Узкий конец я связал куском ремешка от башмаков — и у меня получилась чашка для питья, которая служила мне, как если бы она была из фарфора или стекла. Теперь я мог пить спокойно, не теряя ни капли драгоценной влаги, от которой зависела моя жизнь.
Глава 35
ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
За завтраком я съел так много, что решил в этот день больше не есть, но, проголодавшись, не смог выполнить свое благое намерение. Около полудня я не выдержал, сунул руку в ящик и вытащил оттуда галету. Я решил, однако, съесть на обед только половину, а другую оставить на ужин. Поэтому я разделил галету на две части: одну отложил, а вторую съел и запил водой.
Вам, может быть, кажется странным, что мне ни разу не пришла в голову мысль прибавить к воде несколько капель бренди. Ведь я мог пить его сколько угодно: здесь его было не меньше ста галлонов. Но для меня в этом не было никакого прока. С таким же успехом бочонок мог быть наполнен серной кислотой. Я не касался бренди, во-первых, потому, что не любил его; во-вторых, потому, что мне от него становилось плохо и начинало тошнить — вероятно, это было бренди самого низкого сорта, предназначенное не для продажи, а для раздачи матросам (с кораблями часто отправляют самое плохое бренди и ром для команды); в-третьих, потому, что я уже пробовал это бренди: я выпил около рюмки и моментально почувствовал сильнейшую жажду. Мне пришлось выпить почти полгаллона воды, чтобы утолить ее, и я решил в будущем воздержаться от алкоголя — я хотел сохранить побольше воды.
По моим часам уже наступало время ложиться спать. Я решил съесть вторую половину галеты, оставленную на ужин, и после этого «отправиться на покой».
Приготовления ко сну заключались в том, что я менял положение на шерстяной подстилке и натягивал на себя один-два слоя материи, чтобы не закоченеть ночью.
Всю первую неделю после отплытия я сильно зяб. Я не страдал от холода с тех пор, как нашел сукно, — я закутывался в него с головой. Однако с некоторого времени ночи становились все теплее. После бури я вовсе перестал покрываться материей: ночью было так же тепло, как днем.
Сначала меня удивляла эта быстрая перемена в состоянии атмосферы, но, поразмыслив немного, я оказался в состоянии удовлетворительно объяснить это явление. «Без сомнения, — думал я, — мы все время плывем на юг и входим теперь в жаркие широты тропической зоны».
Я не совсем понимал, что это означает, но слышал, что тропическая зона — или просто «тропики» — лежит к югу от Англии, что там гораздо жарче, чем в самую жаркую летнюю погоду в Англии. Я знал, что Перу расположено в Южном полушарии и что нам надо пересечь экватор, чтобы попасть туда.
Это было хорошим объяснением того, почему так потеплело. Корабль шел уже около двух недель. Считая, что он делает по двести миль в день (а корабли, как я знал, часто делают и больше), он должен был уже далеко уйти от Англии, и климат, конечно, изменился.
В этих размышлениях я провел всю вторую половину дня и весь вечер и в десять часов решил, как уже говорил раньше, съесть вторую половину галеты и отправиться спать.
Сначала я выпил чашку воды, чтобы не есть всухомятку, потом протянул руку за сухарем. Я точно знал, где он лежит, потому что, поместив рулон сукна у шпангоута, я устроил себе нечто вроде полки, где держал нож, чашку и деревянный календарь. Я положил туда половину галеты и, конечно, мог найти это место рукой в темноте так же легко, как и при свете. Я так хорошо изучил каждый уголок и каждую щелку своего убежища, что мог в темноте безошибочно определить любое место размером с монету в пять шиллингов.
Я протянул руку, чтобы достать драгоценный кусочек. Вообразите мое удивление, когда, ощупав место, где полагалось лежать галете, я убедился в том, что ее там нет!
Сначала мне показалось, что я ошибся. Может быть, я положил оставшуюся половину галеты не на обычное место на полке? Тогда, конечно, ее там не может быть.
Чашку с водой я держал в руке, нож был на месте, а также палочка с зарубками и кусочки ремешков, которыми я мерил бочку, но половина галеты исчезла!
Куда же я мог ее положить? Кажется, больше некуда. Для верности я ощупал весь пол моей камеры, все складки и изгибы материи и даже карманы куртки и штанов. Я пошарил и в башмаках — не имея в них никакой нужды, я снял их, и они валялись в углу. Я не оставил не обследованным ни одного дюйма в помещении, обшарив все тщательнейшим образом, но так и не нашел половинки галеты!
Я искал ее так усердно не потому, что это была ценная вещь, но исчезновение ее с полки было странно, настолько странно, что над этим стоило призадуматься.
Может быть, я съел ее?
Предположим, что так. Может быть, в припадке рассеянности я взял галету, стал ее грызть и уничтожил, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Во всяком случае, у меня не осталось никаких воспоминаний о еде, с тех пор как я съел первую половинку. А если я все же проглотил и вторую, она не принесла мне пользы: я не чувствовал сытости, и мой желудок ничего не выиграл — я был голоден, как будто не прикасался к пище весь день.
Я отчетливо помнил, что положил кусок галеты рядом с ножом и чашкой. Почему он переменил место, если я его не брал оттуда? Я не мог случайно задеть его и сбросить вниз, потому что не делал никаких движений в том направлении. Но где-то он есть? Он не мог завалиться в щель под бочкой, потому что щель плотно забита материей. Я это сделал, чтобы выровнять поверхность, на которой лежал.
Так я и не нашел пропавшую галету. Она исчезла — либо в моем собственном горле, либо еще как-нибудь. Но если я съел ее, то жаль, что сделал это бессознательно, потому что не получил никакого удовольствия от еды.
Долго я колебался, взять ли мне другую галету из ящика или отправиться спать без ужина. Страх перед будущим заставил меня воздержаться от еды. Итак, я выпил холодной воды, положил чашку на полку и устроился на ночь.
Глава 36
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПРИШЕЛЕЦ
Я долго не спал и лежал, думая о таинственном исчезновении половины галеты. Я говорю: «таинственном», потому что в глубине души был убежден, что не ел ее, что она исчезла другим путем. Но каким именно, я не мог даже представить себе, ибо я был совершенно один. Я был единственным живым существом в трюме, и больше некому было дотронуться до еды. И вдруг я вспомнил свой сон о крабе! Может статься, это все-таки был краб? Конечно, утонул я во сне, но остальное могло быть и явью и по мне, может быть, в самом деле прополз краб? Неужели он съел галету? Я знал, что крабы обычно не едят хлеба. Но запертый в корабельном трюме, изголодавшийся краб мог съесть и галету. В конце концов, может, это действительно был краб?
То ли от этих мыслей, то ли из-за голодного урчанья в желудке я не спал несколько часов. Наконец я заснул, вернее — погрузился в дремоту, и каждые две-три минуты просыпался снова.
В один из таких промежутков мне показалось, что я слышу необычный шум. Корабль шел плавно, и я сразу отличил этот звук от мягкого плеска волн. Кстати, в последнее время волны плескались настолько тихо, что стук моих часов перекрывал их.
Новый звук, привлекший мое внимание, походил на легкое царапанье. Он доносился из угла, в котором валялись ненужные мне башмаки. Что-то скреблось у меня в башмаках!
«Ну, это и есть краб!» — сказал я самому себе. Сон окончательно покинул меня. Я лежал, настороженно прислушиваясь и готовясь схватить рукой вора, ибо теперь был уже уверен в том, что краб или не краб, но существо, которое скреблось у меня в башмаках, и есть похититель моего ужина.
Я опять услышал царапанье. Да, конечно, это в башмаках. Я приподнялся медленно и тихо, так, чтобы схватить башмак одним движением, и в этом положении стал ждать, когда звук повторится.
Я прождал порядочное время, но ничего не услышал. Тогда я ощупал башмаки и все пространство вокруг них — ничего! Казалось, башмаки лежат точно так, как я их сам положил. Я обследовал весь пол моей каморки, но с тем же результатом. Здесь решительно ничто не переменилось.
Я был в полном недоумении и довольно долго лежал прислушиваясь, но таинственный шум не повторялся. Сон постепенно овладевал мной, и я снова задремал, ежеминутно просыпаясь.
Вдруг раздался снова тот же звук. Я опять насторожился. Несомненно, кто-то скребется в башмаках. Но как только я бросился к ним, звук мгновенно прекратился, словно я напугал того, кто в них царапался. И опять я шарил везде и ничего не мог найти!
«Ага! — бормотал я. — Теперь я знаю, кто это! Вовсе не краб — краб не сумел бы так быстро выскочить из башмака. Это мышь. Только и всего». Странно, что я не подумал об этом раньше! Приди это сразу мне в голову, я бы не беспокоился. Это всего-навсего мышь. Если бы не сон, я и не подумал бы о крабе.
Я снова улегся с намерением заснуть и больше не тревожиться о мыши.
Не успел я лечь, как царапанье в углу возобновилось, и я подумал, что мышь, чего доброго, основательно испортит башмаки. Хотя здесь они были мне вовсе не нужны, я все-таки не мог допустить, чтобы их сгрызла мышь. Поднявшись, я рванулся вперед, чтобы схватить ее. Снова никакого результата.
Я даже не дотронулся до зверька, но мне показалось, что я слышу, как он удирает в щель между бочкой с бренди и бортом корабля.
Взяв в руки башмаки, я с огорчением убедился, что передок одного из них совершенно съеден. Странно, что мышь могла так много уничтожить, да еще в такой короткий срок! Ведь я совсем недавно держал в руках эти башмаки. Может быть, здесь действовали несколько мышей? Похоже на то.
Чтобы спасти обувь от окончательной гибели и избавить себя от новых волнений, я взял башмаки из угла, положил их рядом с собой и накрыл сверху слоем материи. Сделав это, я опять улегся спать.
Я дремал недолго и снова проснулся, на этот раз от явного ощущения, что по мне что-то ползет. Мне почудилось, что какое-то существо очень быстро пронеслось у меня по ногам.
Теперь сон меня уже совершенно покинул. Однако я не шевелился, а лежал и ждал, не повторится ли это снова.
«Конечно, — решил я, — это и есть мышь, и теперь она бегает кругом в поисках башмаков». Мне начинало надоедать это вторжение. Гнаться за мышью не было никакого смысла, потому что она убежит в щель, как только я пошевельнусь. Я решил лежать спокойно, дождаться, пока она взберется на меня, и тогда схватить се. Я не хотел убивать это маленькое существо, а намеревался только хорошенько прижать его или отодрать за ухо, чтобы оно не беспокоило меня больше.
Мне пришлось долго лежать, ничего не слыша и не чувствуя. Наконец мое терпение было вознаграждено. По слабому движению в складках материи, заменявшей мне одеяло, я убедился, что по ней что-то бегает, и мне показалось даже, что я различаю топанье маленьких лапок. Вот снова зашевелилась материя, и я ясно почувствовал, что какое-то существо взбирается по моей лодыжке и поднимается к бедру. Оно казалось слишком тяжелым для мыши, но у меня не было времени размышлять об этом — надо было его хватать сейчас же!
Я протянул руку, растопырив пальцы, но… о ужас!..
Вместо нежной, маленькой мышки рука моя сжала туловище животного ростом почти с котенка! Сомнений быть не могло — это была огромная, страшная крыса!
Глава 37
РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫСАХ
Безобразное животное сразу проявило себя. Лишь только мои пальцы коснулись его гладкой шерсти, я почувствовал, что это крыса, — почувствовал дважды, ибо, прежде чем успел отдернуть руку, так безрассудно протянутую к ней, ее острые зубы глубоко прокусили мне большой палец. В то же мгновение в ушах у меня прозвучал угрожающий визг.
Я поскорее отнял руку и отскочил в самый дальний конец каморки, как можно дальше от моего неприятного гостя, и там скорчился, дожидаясь, когда уйдет отвратительное животное.
Все затихло, и я решил, что крыса скрылась в другую часть корабля. Наверно, она испугалась не меньше меня. Хотя вряд ли. Из нас двоих я был, конечно, напуган больше. Это доказывалось уже тем, что она сохранила достаточно сообразительности, чтобы укусить меня за палец, перед тем как пуститься в бегство, в то время как я потерял всякое присутствие духа.
Из этой короткой встречи мой противник вышел победителем, потому что, испугав меня, нанес мне вдобавок тяжелую и болезненную рану. Палец мой кровоточил. Я чувствовал, что кровь струится по всей руке так, что слипаются кончики пальцев.
Я бы мог отнестись к этому с полным спокойствием: что такое, в конце концов, укус крысы? Но дело было не только в этом. Меня тревожил вопрос: ушел ли мой враг совсем или он неподалеку и может еще вернуться?
Мысль, что крыса может вернуться — да еще осмелевшая, оставшаяся без наказания, — наполняла меня беспокойством.
Вы удивляетесь? Но я всю жизнь испытывал отвращение к крысам, даже, правду сказать, страх перед ними. В детстве это отвращение было у меня особенно сильно, но и позже, хотя мне впоследствии пришлось встречаться и сражаться с более опасными животными, ни одно из них не внушало мне такого страха, как обыкновенная вездесущая крыса. Страх здесь смешивается с отвращением, и неспроста, потому что я знаю множество достоверных случаев, когда крысы нападали на людей — и не только на детей, но и на взрослых мужчин, особенно на раненых и больных. Люди погибали от крысиных укусов, и эти отталкивающие всеядные животные пожирали потом трупы.
Мне много приходилось слышать таких историй в детстве — естественно, что в тот момент я вспомнил о них. Воспоминания эти нагнали на меня страх, граничащий с ужасом. А эта крыса оказалась одной из самых крупных, каких я когда-либо встречал. Она была так велика, что я поначалу с трудом мог поверить, что это крыса. На ощупь она была ростом с молодую кошку. Немного успокоившись, я замотал большой палец тряпицей, оторванной от рубашки. За пять минут боль в пальце стала ужасной — ведь крысиный укус почти так же ядовит, как укус скорпиона, — и хотя рана была не так уж велика, я знал, что она причинит мне сильные страдания.
Нечего говорить, что последние остатки сна у меня исчезли надолго. По существу, я не спал до утра, а потом каждую минуту просыпался от кошмарных сновидений. Мне снилось, что не то крыса, не то краб хватает меня за горло…
Долго я лежал и прислушивался, не вернется ли зверь, но до конца ночи не заметил ни малейших следов его присутствия.
Должно быть, я основательно помял крысу, ибо накинулся на нее со всей силой, — и это напугало ее так, что она не осмелилась явиться снова. Я утешал себя этой надеждой, в противном случае мне бы долго не удалось заснуть.
Конечно, теперь я понял, куда делась половина галеты и кто привел в негодность мои башмаки. Их не мог так испортить более слабый сородич крысы — мышь. Крыса, значит, уже давно бегала вокруг меня, а я ее и не замечал.
В течение многих часов, которые я пролежал прислушиваясь, перед тем как заснуть, одна мысль занимала мой мозг: что делать, если крыса вернется? Как ее уничтожить или, по крайней мере, как избавиться от непрошеного гостя? Я отдал бы в то время год жизни за стальной или вообще за любой капкан, которым можно поймать крысу. Но раздобыть такой капкан было невозможно, и я стал изобретать другой способ избавиться от неприятного соседа. Я имел полное право называть крысу соседом, потому что знал, что жилище ее недалеко и что в эту минуту она возится где-то на расстоянии трех футов от моего лица — скорее всего, под ящиком с галетами или под бочкой с бренди.
Долго я напрягал мозг, но не мог придумать, как бы изловить крысу, не подвергая себя опасности. Конечно, если она приблизится ко мне, можно схватить ее руками, как я это сделал раньше. Но у меня не было охоты повторять уже проделанный опыт. Я знал, через какую щель она проникает ко мне, — через промежуток между двумя бочками: с водой и с бренди.
Я предполагал, что если она вернется, то прежним путем. Что, если все отверстия, кроме одного, заткнуть кусками материи, потом впустить крысу и сразу же отрезать ей отступление, заткнув и последнее отверстие? Таким образом, она окажется в западне. Но я и сам попаду в нелепое положение. Я тоже окажусь в западне, и при этом враг вовсе не будет уничтожен, пока я не покончу с ним в рукопашной схватке. Конечно, я смогу победить и убить крысу: все-таки я сильнее и в состоянии задушить ее руками, но при этом, конечно, получу порядочное количество серьезных укусов, а с меня и одного уже было достаточно, чтобы не желать подобного поединка.
Как обойтись без капкана? Наступило уже утро, когда, усталый от планов и предположений, я впал в полудремотное состояние, так ничего и не придумав, как избавиться от проклятой твари, причинившей мне столько беспокойства и тревоги.
Глава 38
ВСЁ ЗА КРЫСОЛОВКУ!
Несколько часов я либо дремал, либо спал урывками, но потом проснулся и уже больше не мог спать, вспоминая о большой крысе. Да и боли в пальце было достаточно, чтобы разбудить меня. Не только большой палец, но и вся рука опухла и сильно болела. У меня не было никаких лекарств — оставалось только терпеть. Я знал, что воспаление скоро пройдет и мне станет легче, и крепился изо всех сил. Но малые беды отступают перед большими. Так было и со мной. Страх перед возвращением крысы беспокоил меня гораздо больше, чем рана. Все мое внимание было поглощено крысой, и я почти забывал о боли в пальце.
Не успел я проснуться, как мысли мои снова обратились к тому, чтобы так или иначе поймать моего мучителя. Я был уверен в том, что крыса вернется, потому что замечал новые следы ее присутствия. Погода все еще была тихая, и я отчетливо слышал случайные звуки — что-то вроде топота маленьких лапок по крышке пустого ящика. Раза два до меня донесся короткий, резкий звук, похожий на треск сверчка, — характерный писк крысы. Нет ничего противнее крысиного писка, а в тот момент он казался мне вдвойне противным. Вы смеетесь над моими ребячьими страхами, но я ничего не мог поделать с собой. Я не мог побороть неприятное предчувствие, что соседство крысы угрожает моей жизни, и, как вы потом убедитесь, мое предчувствие почти оправдалось.
Я боялся, что крыса нападет на меня, когда я буду спать. Пока я бодрствую, она мне не страшна. Она может меня укусить, как это уже случилось, но в этом большой беды нет: я как-нибудь уничтожу ее. Но что, если я засну крепко и это гнусное существо вопьется мне зубами в горло? Вот что заставляло меня мучиться! Я не могу спокойно заснуть, пока крыса не будет уничтожена, поэтому необходимо ее уничтожить поскорее.
Сколько ни думал, я не мог придумать ничего другого, как поймать ее руками и задушить. Для этого надо схватить крысу так, чтобы пальцы пришлись как раз вокруг ее горла. Тогда она не сможет вонзить мне зубы в руку, а остальное уже будет просто. Но в этом и заключалась главная трудность. Ведь хватать крысу придется в темноте, наугад, и она, конечно, воспользуется преимуществом своего положения. Больше того, палец мой в таком состоянии, что я вряд ли смогу удержать крысу рукой — раненый палец был на правой руке, — а не то что задушить ее насмерть. Я соображал, как мне защитить пальцы от ее зубов. Хорошо, если бы у меня была пара толстых перчаток!
Но их не было, и думать о них было напрасно…
Нет, не напрасно! Мысль о перчатках навела меня на новую идею — заменить их чем-нибудь другим. И это «другое» у меня имелось — мои башмаки. Надо всунуть кисти рук в башмаки и, предохранив себя таким способом от острых зубов крысы, давить ее между подошвами, пока она не испустит дух. Прекрасная идея! Я немедленно приступил к ее осуществлению.
Положив башмаки наготове, я притаился возле щели, через которую могла войти крыса. Все другие отверстия я тщательно заткнул и твердо решил, пропустив крысу внутрь моей каморки, заткнуть курткой и последнюю щель. Таким образом крыса окажется в моей власти. Тогда мне останется только надеть «перчатки» и приняться за дело.
Казалось, что или крыса сознательно поспешила принять мой вызов, или сама судьба обратилась против нее.
Только что я привел в порядок свой дом для «приема гостя», как топот лапок по материи и легкий писк дали мне знать, что крыса прошла через щель и уже находится внутри. Я хорошо слышал, как она бегает кругом, пока забивал отверстие курткой. Раза два она пробежала у меня по ногам. Но я не обращал внимания на ее движения, пока не сделал все, чтобы отрезать ей отступление. Затем я всунул pyки в башмаки и начал разыскивать врага.
Я так хорошо изучил все места в моей каморке и так точно знал каждый уголок, что мне не пришлось долго искать. Я поступал так: поднимал башмаки и опускал их снова, ударяя каждый раз по другому месту. Если удастся захватить хотя бы часть тела крысы, я смогу удержать ее и потом сдавить обоими башмаками. Останется только жать изо всех сил. Таково было мое намерение, но, несмотря на всю мою изобретательность, мне не удалось его осуществить. Дело кончилось совсем по-другому.
Я действительно придавил зверька одним башмаком, но мягкая материя, на которой все это происходило, подалась под нажимом, прогнулась, и крыса, визжа, тут же выскользнула. В следующее мгновение я почувствовал, как она карабкается мне на ногу и забирается под штанину.
Дрожь ужаса пробежала по моему телу, но я уже был разгорячен поединком и, отбросив башмаки, которые больше не были нужны, ухватил крысу в тот момент, когда она подобралась к моему колену. Я держал ее крепко, хотя она сопротивлялась с поистине удивительной силой и ее громкий визг страшно было слышать.
Я сжимал ее изо всех сил, даже не чувствуя боли в большом пальце. Материя штанины предохраняла от укусов мои пальцы, но я не обошелся без ран, потому что мерзкое животное впилось мне в тело и сжимало зубы до тех пор, пока в состоянии было двигаться. Только когда мне удалось схватить крысу за горло и задушить насмерть, зубы ее разжались, и я понял, что прикончил врага.
Я отпустил тело крысы и вытряхнул его из штанов, безжизненное и неподвижное. Вынув куртку из отверстия, я выбросил мертвую крысу туда, откуда она пришла.
Я почувствовал громадное облегчение. Теперь, когда я был уверен, что «госпожа крыса» больше не станет меня беспокоить, я улегся спать, решив отоспаться за все время, которое потерял ночью.
Глава 39
ВРАЖЕСКАЯ СТАЯ
Моя уверенность в безопасности оказалась ошибочной. Не проспал я и четверти часа, как вдруг проснулся оттого, что мне показалось, будто что-то пробежало у меня по груди. Другая крыса? Во всяком случае, нечто весьма на нее похожее.
Несколько минут я лежал без движения и внимательно прислушивался. Но ничего не было слышно. Неужели мне приснилось, что кто-то по мне бегает? Нет! Только я подумал об этом, как снова услышал топот маленьких лапок по мягкой материи.
И верно: я тут же почувствовал эти лапки у себя на бедре.
Стремительно приподнявшись, я протянул руку. Ужас снова объял меня — я притронулся к огромной крысе, которая тут же отпрыгнула. Я слышал, как она пробирается в щель между бочками.
Но это не могла быть та крыса, которую я только что выбросил. Нет! Кошка может ожить после того, как ее уже считаешь мертвой, но я никогда не слышал, чтобы крысы обладали такой необыкновенной живучестью. Я был уверен, что убил крысу. Когда я выбрасывал ее, она была несомненно трупом. Конечно, это другая крыса!
Но, несмотря на всю нелепость такого предположения, я сквозь сон продолжал думать, что это та же самая крыса и она пришла мстить. Однако, проснувшись окончательно, я отбросил эту мысль. Нет, это не та крыса. Скорее всего, это ее подружка, размерами не уступающая первой, как я это заметил, когда притронулся к ней. Ну да, это самка, и она разыскивает самца, которого я убил. Но она проникла ко мне через ту же щель и, значит, видела мертвую крысу. Не собирается ли она отомстить за смерть супруга?
Сна опять как не бывало. Как мог я уснуть, зная, что рядом разгуливает отвратительное животное, которое пришло, быть может, с намерением напасть на меня!
При всей усталости я не мог позволить себе лечь спать, пока не разделаюсь с новым врагом.
Я был уверен, что крыса скоро вернется. Ведь я только дотронулся до нее, не причинив ей никакого вреда. Разумеется, она придет обратно.
Убежденный в этом, я занял прежнее положение около щели, держа куртку в руках. Приложив ухо к отверстию, я стал внимательно слушать.
Через несколько минут я вполне ясно услышал писк крысы снаружи и еще какие-то непонятные мне звуки.
Мне пришло в голову, что это какая-нибудь доска трется о пустой ящик, — такое маленькое животное едва ли могло само произвести столько шума. Шум продолжался, и я уже решил было, что крыса вошла в мою камеру, хотя звуки все-таки доносились снаружи. Значит, животное еще не внутри…
Еще раз мне показалось, что крыса прошла мимо меня, но я снова услышал писк снаружи. Опять и опять мне все чудилось, что я не один в камере, но все же я не решался заткнуть щель, боясь ошибки.
Наконец резкий писк раздался справа от меня, определенно внутри помещения. Я немедленно плотно заткнул курткой отверстие.
Я стал искать крысу, из осторожности предварительно засунув руки в башмаки. Я принял еще другую меру предосторожности ради собственной безопасности: привязал обе штанины к лодыжкам, чтобы крыса не поступила так, как ее предшественница.
Приготовившись, я стал исследовать пространство вокруг себя.
У меня не было ни малейшего желания встречаться с крысой, но я твердо решил избавиться от докуки и поспать хоть немного без помех. А это возможно только в том случае, если я убью крысу так же, как убил ее товарища.
Итак, я снова взялся за дело. Но какой ужас! Представьте себе мой безумный страх, когда я обнаружил, что вместо одной крысы у меня в помещении находится целая стая этих омерзительных существ! Тут не одна крыса, а около десятка! Они кишели повсюду, и я не мог опустить башмак, чтобы не ударить по одной из них. Они бегали вокруг меня, проносились по ногам, прыгали на руки, испуская свирепый писк, как бы угрожая мне!
По правде сказать, я был напуган почти до обморока. Я уже не думал о том, чтобы их убить. Я толком не знал даже, что делаю. Помню, что у меня хватило присутствия духа схватить куртку и вытащить ее из отверстия. Я принялся хлопать ею по полу вокруг себя, крича изо всех сил.
Мои крики и отчаянные движения произвели нужный эффект.
Я слышал, как крысы отступают в щель. И когда через несколько минут я ощупал руками пол моего убежища, я с радостью убедился, что оно пусто и все крысы ушли.
Глава 40
НОРВЕЖСКАЯ КРЫСА
Если одна крыса могла причинить мне столько мучений, то можете себе представить, как приятно сознавать, что их здесь, по соседству, целая армия! Их, вероятно, было гораздо больше, чем то количество, которое я только что обратил в бегство, потому что, затыкая курткой отверстие, я слышал писк и шорох снаружи. Наверняка здесь были десятки крыс. Я знал, что эти вредители кишат на многих кораблях, находя себе надежное убежище в многочисленных щелях между балками трюма. Я слышал также, что корабельные крысы самые свирепые. Понуждаемые голодом, они часто не останавливаются и перед тем, чтобы напасть на живые существа, не боясь даже кошек и собак. Они наносят большие повреждения грузам и причиняют много беспокойства на судах, особенно если корабль недостаточно хорошо осмотрен, заделан и очищен перед погрузкой и отправлением в рейс. Эти судовые крысы известны под именем «норвежских крыс», так как существует поверье, что они явились в Англию впервые на норвежских судах. Норвегия их родина[164] или другая страна, это не имеет большого значения, потому что они распространены по всему земному шару. Я полагаю, что в любой части земли, где когда-либо приставали корабли, обязательно есть и норвежские крысы. Если они действительно вышли из Норвегии, то они хорошо приспособились ко всем климатам, потому что особенно изобилуют и процветают в тропиках Америки. Портовые города Вест-Индии и континенты Северной и Южной Америки кишат ими. В некоторых местах они причиняют такой вред, что городские власти назначили специальную «крысиную» премию за их уничтожение. Но, несмотря на это, они продолжают существовать в неизмеримых количествах, и деревянные причалы американских портов являются для них настоящими «тихими пристанями».
Норвежские крысы, в общем, не очень велики. Крупные экземпляры встречаются среди них в виде исключения. Дело тут не в размерах, а в свирепости и вредоносности, а также в огромной плодовитости, которая делает их необыкновенно многочисленными и опасными. Замечено, что в тех местах, где они появляются, в течение нескольких лет исчезают все другие виды крыс; предполагают, что норвежские крысы уничтожают своих более слабых собратьев. Они не боятся и ласок. Если они уступают последним в силе, зато превосходят их в количестве, — в жарких странах они превосходят своих врагов в отношении ста к одному. Даже кошки их боятся. Во многих странах кошка уклонится от встречи с норвежской крысой, предпочитая в качестве добычи жертву менее свирепого нрава. Даже большие собаки, кроме породы крысоловов, считают благоразумным избегать их.
У норвежских крыс есть странная особенность: они как будто чувствуют, когда сила на их стороне. Когда их мало и им угрожает опасность быть уничтоженными, они ведут себя смирно; но в тех странах, где им удалось расплодиться, они наглеют от безнаказанности и не боятся даже присутствия человека. В морских портах тропических стран они почти не прячутся, и в лунные ночи огромные стада крыс совершенно спокойно бегают повсюду, даже не пытаясь свернуть в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему. В лучшем случае они чуть посторонятся, чтобы затем прошмыгнуть у самых ваших каблуков. Вот каковы норвежские крысы!
Всего этого я не знал, когда начались мои приключения с крысами на корабле «Инка». Но и того, что я слышал от матросов, было совершенно достаточно, чтобы я чувствовал себя очень тревожно в присутствии такого большого количества этих опасных животных. Прогнав их из своей каморки, я отнюдь не успокоился. Я почти наверное знал, что они вернутся и, возможно, в еще большем количестве. Они будут все больше страдать от голода и, следовательно, будут становиться все свирепее и наглее, пока не осмелеют настолько, что нападут на меня. По-видимому, они не очень меня испугались. Хотя я и прогнал их криками, но они скреблись и пищали где-то по соседству. Что, если они уже голодны и замышляют новую атаку на меня? Судя по тому, что я о них слышал, в этом не было ничего невероятного.
Не стоит, пожалуй, и говорить, что одно представление о такой возможности вселяло в меня тревогу. Мысль, что я буду убит и растерзан этими ужасными существами, внушала мне еще больший страх, чем тот, когда я думал, что утону. Собственно говоря, я предпочел бы утонуть, чем умереть таким образом. Когда я на секунду представил себе, что меня ждет такая судьба, кровь похолодела в моих венах и волосы, казалось, зашевелились на голове.
Не зная, что предпринять, я несколько минут сидел — вернее, стоял на коленях, ибо не поднялся с колен с тех пор, как защищался от крыс, размахивая курткой. Мне все еще казалось, что у крыс не хватит смелости приблизиться ко мне, пока я на ногах и могу защищаться. Но что будет, когда я лягу спать? Они, конечно, осмелеют, и, когда им удастся запустить зубы мне в тело, они уподобятся тиграм, которые, отведав крови, не успокоятся, пока не уничтожат свою жертву. Нет, я не должен спать!
Но и вечно бодрствовать я тоже не в состоянии. В конце концов сон одолеет меня, и я не смогу ему противиться. Чем больше я буду бороться с ним, тем крепче я буду спать потом. И наконец я впаду в такое глубокое забытье, от которого, может быть, никогда не проснусь. Это будет страшный кошмар, который лишит меня способности двигаться и сделает легкой добычей для окружающих меня прожорливых чудовищ.
Некоторое время я мучился этими опасениями, но скоро меня осенила новая идея, и я несколько воспрянул духом. Надо снова заткнуть курткой щель, через которую проникали крысы. Так я надолго от них избавлюсь.
Это был очень простой способ преодолеть трудность. Без сомнения, он пришел бы мне в голову и раньше, но тогда я думал, что крыс всего две, и с ними я рассчитывал справиться по-другому. Теперь, однако, положение изменилось. Уничтожить всех крыс в трюме корабля — слишком сложная задача, это было просто невозможно. И я перестал об этом думать. Лучшим был мой последний план: закрыть главное отверстие и все другие, через которые может пролезть крыса, и таким путем обезопасить себя от вторжения врага.
Не медля ни минуты, я законопатил щель курткой. Удивляясь, как я не подумал об этом раньше, я улегся в полной уверенности, что теперь могу спать спокойно и сколько захочется.
Глава 41
СОН И ЯВЬ
Я так устал от страхов и бессонницы, что едва опустился на свою постель, как перенесся в страну снов. Вернее, не в страну, а в море снов, потому что мне опять приснилось море. И, как и раньше, я лежал на дне, окруженный чудовищами, похожими на крабов, которые готовились меня проглотить.
Мало-помалу эти чудовища превращались в крыс. И тогда мой сон стал походить на явь. Мне снилось, что крысы собрались вокруг меня в огромном количестве и угрожают мне со всех сторон. У меня ничего нет для защиты, кроме куртки, и я размахиваю ею изо всех сил. А они становятся все смелее и смелее, видя, как мало ущерба я причиняю им этим оружием. Одна огромная крыса, больше всех остальных, ведет их в атаку. Это не настоящая крыса, а призрак той, которую я убил.
Таково было сновидение…
Я долго не подпускаю к себе противника. Но вот силы оставляют меня. Если не придет помощь, крысы одолеют. Я оглядываюсь, громко зову на помощь, но никто меня не слышит.
Враги заметили наконец, что силы мои иссякают. По знаку своего вожака они бросились на меня одновременно. Они напали на меня спереди, сзади, с боков, и, хотя я сыпал удары во все стороны в последнем, отчаянном усилии, все это было бесцельно. Я отбрасывал их дюжинами, швырял их одна на другую, но на смену упавшим приходили новые.
Больше я не мог сражаться. Сопротивление было напрасно. Они уже карабкались по моим ногам, по бокам, по спине. Они повисали на мне, как пчелиные рои виснут на ветках. И когда они уже собирались растерзать меня, я не выдержал их веса и тяжело упал на землю.
Это спасло меня: как только я коснулся пола, крысы отскочили и убежали стремглав, словно испугались того, что им удалось сделать.
Меня приятно удивила такая развязка. Сначала я не мог объяснить себе, в чем дело, но скоро мысли мои прояснились и я очень обрадовался, когда убедился в том, что все эти ужасы — только сон.
Впрочем, тут же мое настроение изменилось, и радость мгновенно исчезла. Не все здесь было сном. Крысы были на мне, и в этот момент они находились в моей каморке. Я слышал, как они носятся кругом. Я слышал их отвратительный визг. Я еще не успел приподняться, как одна из них пробежала по моему лицу.
Это было для меня новым источником ужаса. Как они проникли сюда? Уже сама таинственность этого нового вторжения потрясла меня. Как они пролезли? Неужели вытолкнули куртку из щели? Я машинально ее ощупал. Нет, куртка на месте, в том виде, как я ее оставил. Я достал куртку и снова пустил ее в ход, чтобы прогнать страшных грызунов. Опять я кричал и хлопал курткой по полу, и опять крысы ушли, но теперь я был в невероятном страхе, потому что не мог объяснить, как они добрались до меня, несмотря на все мои предосторожности.
Долгое время я сидел в глубоком унынии, пока не сообразил наконец, в чем дело: они прошли не через ту щель, которую я заткнул курткой, а через другое отверстие, забитое материей. Кусок материи был слишком мал — крысы вытащили его зубами.
Вот каким образом они прорвались! Но моя тревога от этого не уменьшилась. Наоборот, она возросла. Зачем эти существа так упорно возвращаются снова и снова? Почему мое убежище привлекает их больше, чем другие части корабля? Что им нужно? Загрызть и съесть меня?
Я не мог найти иную причину, чтобы объяснить их нападение.
Страх перед тем, что меня могут загрызть крысы, вызвал у меня прилив энергии. По часам я узнал, что проспал не больше часа, но не мог снова заснуть, пока полностью не обеспечу себе безопасность. Я решил привести мою крепость в порядок, более пригодный для обороны.
Я вынул куски материи из всех щелей и дыр и заново тщательно закупорил все лазейки. Я пошел даже на то, чтобы вынуть из ящика все галеты и достать два или три новых рулона материи для затычек. Потом уложил галеты на место и заткнул все отверстия.
Мне пришлось потрудиться возле ящика, потому что около него было много всевозможных щелей. Я вышел из затруднения при помощи большого рулона материи, поставив его стоймя и закрыв им все свободное пространство. На этой стороне теперь все было закрыто. Рулон стоял так плотно, что никакое живое существо не могло его обойти. Единственный недостаток этого укрепления был в том, что оно затрудняло мне доступ к галетам, потому что материя закрыла отверстие ящика. Но я подумал об этом заранее и сделал внутри камеры запас галет на неделю, на две. Когда я съем их, я могу отодвинуть рулон и, прежде чем крысы успеют добраться до щели, сделать запас еще на неделю.
Полных два часа ушло на то, чтобы закончить все эти приготовления. Я работал с большой тщательностью, стараясь сделать стены моей крепости попрочнее. Это не была игра: от этого зависела моя жизнь.
Проделав все самым аккуратным образом, я улегся спать. Теперь я был уверен в том, что высплюсь по-настоящему.
Глава 42
ГЛУБОКИЙ СОН
Я не ошибся — я спал двенадцать часов подряд. Хотя не без кошмаров: мне опять снились ужасные сражения с крабами и крысами. Мой сон не освежил меня, несмотря на его длительность, как будто я и в самом деле сражался со своими страшными врагами. Но приятно было, проснувшись, убедиться в том, что незваные гости не возвращались и в моих укреплениях не появилось ни одной бреши. Я ощупал и нашел все на прежнем месте.
Несколько дней я прожил сравнительно спокойно. Я не боялся крыс, хотя знал, что они неподалеку. Когда погода была тихая — а она долго не менялась, — я слышал возню животных снаружи, слышал, как они что-то там делали, носились между ящиками с грузами, иногда испускали омерзительные вопли, словно сражались друг с другом. Но их голоса больше не пугали меня, ибо я знал твердо, что крысы не могут ко мне попасть. Если мне случалось на время передвинуть один из рулонов материи, защищавших мое убежище, я немедленно ставил его обратно, прежде чем хотя бы одна крыса успевала заметить, что отверстие открыто.
Мне было очень неудобно в таком заточении. Погода стояла необыкновенно жаркая. Ни малейшее движение ветерка не доходило до меня, и воздух в моем помещении не освежался. Я чувствовал себя как внутри печки. Весьма возможно, что мы пересекали экватор или, во всяком случае, находились в тропических широтах — вот откуда такое спокойствие в атмосфере, потому что в этих широтах бури бывают реже, чем в так называемых умеренных зонах. Только раз мы попали в бурю, которая продолжалась весь день и ночь. Как всегда, началась сильная качка. Корабль качало так, как будто он собирался перевернуться вверх дном.
На этот раз я не заболел морской болезнью, но мне не за что было держаться, и я катался по полу, то ударяясь лбом о бочку, то сваливаясь в сторону, пока мое тело не оказалось избитым, словно после града палочных ударов. Колебание судна заставляло бочки и ящики немного сдвигаться с места, и от этого затычки из материи ослабевали и вываливались.
Все еще боясь крысиного нашествия, я то и дело затыкал лазейки.
В общем, это занятие все-таки было приятнее, чем безделье. Оно помогало мне проводить время, и два дня бури и волнения на море показались мне короче двух обычных дней. Самыми горькими часами моего заключения были те, в которые я был предоставлен самому себе и своим мыслям. Часами я лежал на месте без движения, иногда даже без единой мысли в голове. И, лежа во мраке, одиночестве и тоске, я боялся, что разум оставит меня.
Так прошло больше двух недель — я знал это по зарубкам на палочке. Эти недели казались месяцами, даже годами — так медленно тянулось время! В промежутках между бурями кругом меня царило однообразное спокойствие, не происходило ничего такого, что можно было бы отметить и запомнить. Все время я строго придерживался установленного мной пайка. Несмотря на то что мне часто приходилось голодать так, что я мог бы съесть недельную порцию за один раз, я все-таки не выходил за пределы установленного рациона. Часто это стоило больших усилий. Скрепя сердце я откладывал в сторону для следующей еды полгалеты, которая словно прилипала к моим пальцам, когда я клал ее на полочку. Но, в общем, я мог поздравить себя: за исключением того дня, когда я съел за один раз четыре галеты, я не нарушил расписания и мужественно подавлял разгоревшийся аппетит.
От жажды я вовсе не страдал. Никаких трудностей с водой у меня не было. Установленного количества воды хватало даже с избытком. Иногда я пил меньше, чем полагалось, и всегда мог выпить столько, сколько хотелось.
Скоро запас галет, отложенный мной, подошел к концу. Это меня обрадовало. Значит, дни идут — прошло две недели с тех пор, как я пересчитал галеты и определил необходимое на данный срок количество. Итак, пришло время отправиться в «кладовую» и взять оттуда новый запас.
И тут у меня появилось странное опасение. Оно возникло внезапно, как будто в сердце вдруг кольнула стрела. Это было предчувствие большого несчастья, вернее — не предчувствие, а страх, порожденный тем, что я заметил в последнюю минуту. Я все время слышал снаружи шум, который приписывал моим соседям — крысам. Он доносился до меня часто, почти постоянно, и я привык к нему, но сейчас звук напугал меня — он шел со стороны, где стоял ящик с галетами.
Дрожащими руками я сдвинул с места рулон и погрузил руки в ящик. Милосердный Боже! Ящик был пуст!
Нет, не пуст. Запустив руку поглубже, я нащупал в нем нечто мягкое, скользкое… крыса! Животное отскочило в сторону, как только почувствовало мое прикосновение, и так же мгновенно я убрал руку. Машинально я начал снова шарить в ящике — и наткнулся на другую крысу! И еще, еще!.. Казалось, половина ящика набита ими — одна вплотную к другой. Они разбегались кто куда, некоторые, выскочив из отверстия, даже прыгали мне на грудь, остальные бросались на стенки ящика, испуская пронзительные крики.
Вскоре я разогнал их. Но — увы! — когда они скрылись и я стал обследовать свои запасы, то увидел, к своему отчаянию, что почти все галеты исчезли. В ящике не оставалось ничего, кроме кучи крошек на дне. Эти остатки крысы и поедали в ту минуту, когда я их спугнул.
Это было страшное несчастье. Я был так подавлен своим открытием, что долгое время не мог прийти в себя.
Я легко мог представить себе, что произойдет дальше. Мои продукты исчезли — голодная смерть глядела мне в лицо. Да, нет сомнений, смерть от голода неминуема! Жалкими крохами, которые оставили мне мерзкие грабители — они бы доели все через час, не спугни я их, — нельзя было продержаться больше недели. И тогда… Что тогда? Голод, голодная смерть!
Выхода не было. Так я рассудил. Да и на что мог я рассчитывать?
Я чувствовал себя совершенно уничтоженным — настолько, что не принял никаких мер к тому, чтобы защитить ящик от дальнейших вторжений крыс. Я был уверен, что все равно мне придется отступить перед этим несчастьем — умереть от голода. Не было никакого смысла противиться судьбе. Лучше уж умереть сразу, чем через неделю. Жить еще несколько дней, зная, что тебя ожидает смерть, — ужасно, мучительно! Ожидание хуже самой смерти. И ко мне вернулись прежние мысли о самоубийстве.
Но только на минуту. Я вспомнил, что однажды стоял на пороге самоубийства, но чудесным образом избежал его. Снова луч надежды осветил мне будущее. Правда, надежда эта ни на чем не основывалась, но ее было достаточно для того, чтобы вдохнуть в меня новую энергию и спасти от полного отчаяния. Кстати, присутствие крыс тоже побуждало меня к действию. Они находились тут же, рядом, и угрожали снова забраться в ящик и уничтожить последние остатки моей еды. Теперь я мог избавиться от них, только действуя самым энергичным образом.
Крысы проникли в ящик не через то отверстие, через которое проникал в него я сам: оно было закрыто рулоном — и там они пройти не могли. Они вошли с противоположной стороны, через ящик с материей. Им удалось это сделать потому, что я сам снял одну из боковых досок этого ящика. Это произошло недавно — ведь им надо было прогрызть заднюю стенку, на что потребовалось бы, конечно, немало времени. Иначе они давно бы уже проникли внутрь и не оставили бы ни кусочка. Они, несомненно, и прошлые разы пробирались в мою каморку именно из-за этого ящика с галетами — здесь пролегал самый короткий путь к нему.
Я очень сожалел, что вовремя не подумал о сохранности моей кладовой. Собственно говоря, я думал об этом, но мне не приходило в голову, что крысы могут проникнуть в ящик сзади, а спереди его плотно прикрывал рулон материи.
Увы! Теперь уже поздно, сожаления ни к чему! И повинуясь инстинкту, который заставляет нас бороться за жизнь до последней возможности, я перенес остатки галет из ящика на полочку внутри моего убежища. Затем, забаррикадировавшись снова, я улегся на постель и стал думать о положении, которое казалось мне мрачнее, чем когда бы то ни было.
Глава 43
В ПОИСКАХ ВТОРОГО ЯЩИКА С ГАЛЕТАМИ
Долгое время размышлял я над своими делами, и ничего утешительного не приходило мне в голову. Я был в таком подавленном состоянии духа, что даже не пытался сосчитать количество оставшихся у меня галет — вернее, крошек. По величине этой небольшой кучки я примерно определил, что могу поддержать свое существование, исходя из самого маленького пайка, около десяти дней, не больше. Итак, мне осталось жить десять дней, в лучшем случае — две недели, а в конце этих двух недель умереть, причем я уже знал, что это будет медленная и мучительная смерть. Мне уже были ведомы муки голода, и я страшился испытать их вторично. Но избежать такого жребия не было надежды. В ту минуту, во всяком случае, я считал себя обреченным.
Я был так потрясен своим открытием, что долгое время не мог прийти в себя. Я был подавлен, малодушие овладело мной, мозг был словно парализован. И когда я пытался думать, мысли мои блуждали и возвращались снова и снова к моей страшной участи.
Потом я опомнился и вновь обрел способность обсудить обстоятельства, в которых очутился. Снова появилась надежда, правда настолько неопределенная и необоснованная, что ее следовало бы назвать «призраком надежды». Мне пришла в голову чрезвычайно простая мысль: если я нашел один ящик с галетами, отчего бы не поискать второй? Если он не находится рядом с первым, он может оказаться неподалеку. Я уже говорил, что при погрузке судна грузы размещаются по-разному: не по сортам товара, а по объему и форме упаковки, чтобы они соответствовали друг друг и форме трюма. Я уже в этом сам убедился, потому что вокруг меня рядом стояли самые разнообразные товары: галеты, мануфактура, бренди и бочка с водой. Хотя непосредственно рядом с ящиком с галетами не стоял другой такой же ящик, но он мог быть неподалеку. Может быть, с другой стороны ящика с сукном или в ином месте, куда я сумею проникнуть.
Энергия вернулась ко мне, и я стал размышлять, как мне найти другой ящик с галетами.
План тотчас был выработан. Способ был только один — воспользоваться ножом. Мне пришло в голову проложить ножом дорогу через бочки, ящики и тюки, заграждавшие путь к галетам. И чем больше я думал об этом, тем более выполнимой казалась мне эта идея. То, что нам кажется трудным или невыполнимым при обыкновенных обстоятельствах, становится легким, когда нам угрожает смертельная опасность и когда мы знаем, что таким путем сможем спасти жизнь. Самые тяжелые лишения и величайшие трудности становятся легкими затруднениями, когда дело идет о жизни и смерти!
Именно с этой точки зрения я вынужден был смотреть на подвиг, который мне предстояло совершить, и не очень заботился о времени и труде, только бы это дало мне возможность спастись от страшной голодной смерти.
Итак, я решил проложить с помощью ножа дорогу через груды товаров в надежде найти ящик, содержащий пищу. Если меня ждет успех, я буду жить; если нет — я умру. И еще одна мысль толкала меня к действию: лучше провести остаток жизни в надежде, чем уступить отчаянию и сидеть сложа руки. Провести две недели в ожидании смерти в тысячу раз хуже, чем сама смерть.
Лучше продолжать борьбу, питая надежду новыми усилиями. Самый труд сократит время и отвлечет меня от мрачных мыслей о безрадостной судьбе.
Так думал я, и новый прилив энергии сменил во мне прежний упадок сил.
Я стоял на коленях, с ножом в руке, полный решимости и готовый на все. Как оценил я в ту минуту счастье обладать этим куском стали! Я бы не обменял его на целый корабль, наполненный чистым золотом!
Прежде всего надо было пробиться через ящик с материей и исследовать то, что находилось за ним. Ящик с галетами был теперь пуст, и я пролез через него без труда. Вы помните, мне уже приходилось это делать — тогда, когда я набрел на сукно. Значит, дорога была знакома. Но для того чтобы пробраться через ящик с сукном, необходимо выбросить оттуда несколько рулонов и очистить дорогу к следующему ящику. Следовательно, сначала нож мне не нужен. Отложив его в сторону, в такое место, где я мог легко достать до него рукой, я просунул голову и влез в пустой ящик. В следующую минуту я уже выдергивал и вытаскивал тугие рулоны сукна, напрягая все силы и энергию, чтобы сдвинуть их с места.
Глава 44
Я ЗАЩИЩАЮ КРОШКИ
Работа стоила времени и труда, и гораздо больше, чем вам кажется. Дело в том, что материю упаковывали так, чтобы сэкономить место, и рулоны были прижаты друг к другу настолько плотно, как будто они вышли из-под парового пресса. Те рулоны, которые находились напротив сделанного мной отверстия, вынуть не составляло труда, но с прочими возни было больше. Мне пришлось пустить в ход всю свою силу, чтобы сдвинуть их с места. Когда первые были вынуты, работать стало легче. Некоторые рулоны оказались крупнее других — это было более грубое сукно. Они были настолько велики, что не пролезали через проделанные мной отверстия в ящике с материей и в ящике с галетами. Что мне оставалось делать с ними? Расширить отверстия — значит приложить очень много труда. Оба ящика расположены так, что оторвать от них лишнюю доску невозможно. Можно расширить дыру ножом, но это трудно.
Тут я придумал план, который тогда показался мне превосходным, хотя впоследствии оказалось, что я сделал ошибку. Я разрезал завязки на каждом рулоне и стал разматывать рулоны постепенно. Я вытаскивал из дыры материю, пока рулон не становился достаточно тонким, чтобы пройти через отверстие. Таким способом я освободил весь ящик, хотя работа заняла несколько часов.
Работа моя была прервана очень серьезным обстоятельством: вернувшись к себе на место с первым вынутым из ящика рулоном материи, я с ужасом обнаружил, что помещение занято двумя десятками других жильцов: опять крысы!
Кусок материи выпал у меня из рук. Я ринулся на крыс и разогнал их. Я сразу понял, что часть запасов моего жалкого продуктового склада сожрана или унесена. Впрочем, они уничтожили не очень много. К счастью, я отсутствовал недолго. Задержись я еще минут на двадцать, эти разбойники подобрали бы все, не оставив мне ни крошки.
Последствия могли оказаться для меня роковыми. Браня себя за собственную небрежность, я решил в будущем быть более осторожным.
Я расстелил большой кусок материи, насыпал на него крошки, затем свернул его кульком и завязал как можно крепче полоской той же материи. Я полагал, что теперь все будет в сохранности. Положив кулек в угол, я снова приступил к работе.
Ползая на коленях то с пустыми руками, то нагруженный материей, я походил на муравья, бегающего по своей дорожке и делающего запас на зиму. В течение нескольких часов я не уступал муравьям в усердии и деловитости. Погода по-прежнему стояла тихая, но стало еще жарче и пот катил с меня градом. Я вынужден был оторвать кусок материи, чтобы вытирать лоб и лицо. Порой мне казалось, что я задохнусь от жары. Но, однако, я работал и работал не переставая. Мне и в голову не приходило сделать передышку.
Крысы все время напоминали о своем присутствии. Они кишели около меня в щелях между ящиками и бочками, где у них были свои пути и тропы. Я встречал их и в проделанном мной туннеле. Они то пересекали мне дорогу, то наскакивали на меня, то метались позади и перебегали по ногам. Как это ни странно, но теперь я боялся их меньше, чем раньше. Это объяснялось тем, что я понял, что крыс привлекал ящик с галетами, а вовсе не я сам. Прежде у меня было впечатление, что они собираются на меня напасть, но теперь я думал, что разгадал их намерения, и у меня было меньше опасений, что они перейдут в атаку. Пока я бодрствую, они не страшны. Но я никогда не ложился спать, не приняв мер предосторожности на случай их нападения, и намеревался поступать так и впредь.
Была еще и другая причина, по которой я уже не так боялся крыс. Положение мое ухудшилось настолько, что необходимо было действовать, и все меньшие опасности померкли перед главной — опасностью голодной смерти.
Разгрузив наконец ящик с материей, я позволил себе немного отдохнуть и подкрепиться горстью крошек и чашкой воды. Работая над разгрузкой ящика, я не отрывался даже для того, чтобы глотнуть воды, и сейчас готов был выпить полгаллона. Я был уверен, что воды мне хватит надолго, и потому выпил сколько хотелось. Вероятно, когда я наконец оторвался от бочки, уровень воды в ней сильно понизился. Драгоценная влага казалась слаще меда — я чувствовал себя снова полным сил и бодрости.
Теперь я обратился к своим продовольственным запасам, но крик ужаса вырвался из моих уст, когда я ощупал кулек.
Снова крысы! Да, к своему изумлению, я обнаружил, что неутомимые грабители опять побывали здесь, прогрызли дыру в материи и уничтожили еще часть моего скудного запаса. Пропало не меньше фунта[165] драгоценных крошек, и все это произошло недавно, потому что несколькими минутами раньше я случайно передвигал кулек и там все было в порядке.
Это новое несчастье вызвало у меня и раздражение, и новые страдания. Нельзя было ни на минуту отойти от галет, не рискуя лишиться всего до последней крошки.
Я лишился уже половины запаса, вынутого из ящика. Я рассчитывал, что мне хватит его на десять — двенадцать дней, считая мелкое крошево, которое я тщательно собрал с досок. Но теперь, внимательно исследовав остатки, я увидел, что их едва хватит на неделю.
Такое открытие усугубило мрачность моего положения. Но я не впадал в отчаяние. Я решил продолжать работу, как будто никакого несчастья не случилось. Уменьшение запасов только прибавило мне энергии и упорства.
Оставался единственный способ сохранить крошки — взять с собой кулек и постоянно держать при себе. Конечно, можно было завернуть крошки в несколько слоев материи, но я был убежден, что паразиты прогрызут дыру даже в железном ящике.
Для большей надежности я заткнул дыру, проеденную крысами, и снова влез в ящик, захватив с собой кулек с крошками. Я был готов защищать его против любого, кто на него покусится.
Я поместил его между колен, взялся за нож и принялся проделывать ход в задней стенке ящика из-под сукна.
Глава 45
СНОВА УКУС
Стараясь поменьше пускать в дело нож, я сначала попытался оторвать доски руками. Уверившись в том, что я не могу их сдвинуть с места, я лег на спину и попробовал выломать их ногами. Я даже надел башмаки, думая, что мне удастся вышибить доски. Но сколько я ни колотил ногами, ничего не получилось! Доски были хорошо забиты гвоздями, и, как я впоследствии убедился, ящик был стянут железными скрепами, которые выдержали бы и более серьезные усилия. Тогда я стал работать ножом.
Я намеревался прорезать поперек одну из досок поближе к краю, а потом подвести под нее руку и оторвать, как бы прочно ни была она укреплена с другого конца.
Дерево было не слишком твердое — обыкновенная ель, и я легко прорезал бы доски даже самым простым ножом, если бы сам находился выше, а ящик стоял прямо передо мной. Но вместо этого приходилось действовать в согнутом положении, весьма неудобном и утомительном. Больше того, рука моя все еще болела от крысиного укуса, ранка не закрылась. Возможно, что вечное беспокойство, тревога, бессонница, лихорадочное состояние мешали излечению раны. К сожалению, ранена была правая рука, а левой я не умел действовать ножом. Я временами пробовал переложить нож в левую руку, чтобы правая отдохнула, но ничего не получалось. Поэтому я потратил несколько часов на то, чтобы прорезать доску в девять дюймов длины и толщиной в один дюйм. Под конец я все-таки справился. Улегшись еще раз на спину и нажав на доску каблуками, я с удовольствием убедился, что она поддается.
Однако что-то позади ящика — другой ящик или бочка — мешало до конца выломать доску. Промежуток был не больше двух или трех дюймов, и пришлось дергать, трясти, нажимать вверх, вниз, вперед, назад, пока не расшатались железные скрепы и доска не отделилась от ящика.
Просунув руку в щель, я сразу определил, что находилось за ящиком: там помещался другой ящик, и — увы! — такой же, как тот, который я опустошил. То же дерево на ощупь, — я уже говорил, что мое осязание обострилось до чрезвычайности.
Это открытие сильно опечалило меня. Я был разочарован. Но все же я решил удостовериться окончательно и стал вынимать доску из второго ящика, так же как раньше из первого: сделал поперечный надрез, потянул доску к себе… Работы здесь было больше, чем с первым ящиком, потому что добраться до него оказалось труднее. Кроме того, прежде чем взломать второй ящик, мне пришлось расширить отверстие в первом, иначе я не мог бы достать до того места, где ящики примыкали друг к другу. Расширить отверстие было нетрудно: мягкая доска поддавалась лезвию ножа.
Над вторым ящиком я трудился угрюмо, безрадостно — это была безнадежная работа. Я бы мог и вовсе оставить ее, ибо лезвие ножа уже не раз приходило в соприкосновение с чем-то мягким, рыхлым внутри ящика — это была ткань. Я мог бы бросить работу, но какое-то любопытство заставляло меня механически продолжать ее — то любопытство, которое трудно удовлетворить, пока полностью не дойдешь до самого конца. Побуждаемый этим чувством, я машинально рубил ножом, пока не выполнил свою задачу до конца.
Результат был именно тот, которого я ожидал, — в ящике лежала материя!..
Нож выскользнул у меня из рук. Побежденный усталостью, подавленный горем, я упал навзничь, потеряв сознание.
Это беспамятное, отчаянное состояние продолжалось некоторое время — я не заметил, сколько именно. Но в конце концов я был разбужен острой болью в среднем пальце, внезапной болью, словно меня укололи иглой или резанули лезвием ножа.
Еще не совсем придя в себя, я вскочил, думая, что наткнулся на нож; я вспомнил, что бросил его открытым где-то рядом с собой. Через секунду или две я понял, однако, что не нож причинил мне боль. Рана была нанесена не холодной сталью, а ядовитыми зубами живого существа. Меня укусила крыса!
Равнодушие и вялость мгновенно рассеялись и сменились сильнейшим страхом. Теперь, более чем когда бы то ни было, я убедился, что гнусные животные угрожают моей жизни. Это было первое их нападение без всякого повода с моей стороны. Хотя раньше резкие движения и громкие крики прогоняли крыс, но я чувствовал, что со временем они осмелеют и перестанут обращать внимание на неопасный для них шум. Я слишком долго пугал их, ни разу не заставив почувствовать, что они могут быть наказаны.
Ясно, что я не мог улечься спать и оказаться совершенно беззащитным, если на меня нападут крысы. Хотя надежды на избавление, к сожалению, сильно уменьшились и, вероятно, меня ждала голодная смерть, все-таки я предпочитал умереть от голода, чем быть съеденным крысами. Самая мысль о подобной смерти наполняла меня ужасом и заставляла употребить всю энергию на избавление от такого конца.
Я очень устал и нуждался в отдыхе. Пустой ящик был достаточно велик для того, чтобы лечь спать в нем, вытянувшись в полный рост. Но я решил, что в старом убежище мне легче будет бороться с крысами, и, захватив нож и кулек с крошками, снова устроился за бочкой.
Теперь размеры моей клетушки уменьшились, потому что она была завалена материей, выброшенной из ящика. В сущности, в ней как раз хватало места только для моего тела, так что это было скорее гнездо, чем помещение.
Я был хорошо защищен в этом гнезде рулонами материи, наваленными около бочонка с бренди. Оставалось только завалить другой конец, как это было раньше. Я так и сделал. И тогда, съев свой тощий ужин и запив его многочисленными глотками воды, я дал наконец отдых душе и телу, в чем давно уже так нуждался.
Глава 46
ТЮК С ПОЛОТНОМ
Мой сон не был ни сладким, ни глубоким. К мыслям о мрачном будущем прибавились еще мучения от жары — еще худшие, чем раньше, потому что все отверстия теперь были забиты. Ни малейшее движение воздуха, которое могло бы освежить меня, не достигало моей тюрьмы, и я чувствовал себя как в раскаленной печи. Но все-таки я поспал немного, и это «немного» было все, чем я вынужден был довольствоваться.
Проснувшись, я принялся за еду — за свой «завтрак». Конечно, это был самый легкий из всех завтраков на свете, и вряд ли он заслужил такое название. Я опять выпил много воды, потому что меня трепала лихорадка и болела голова, как будто готова была расколоться.
Однако все это не помешало мне снова приняться за работу. Если в двух ящиках лежит мануфактура, это еще не значит, что таков и остальной груз. Я решил продолжать розыски. Следовало произвести разведку и в другом направлении и делать туннель не через боковую доску, а через конец ящика, чтобы проложить путь не вбок, по борту судна, а прямо, где у меня могли открыться большие возможности.
Захватив с собой кулек с крошками, я приступил к работе с новой надеждой, и после долгого, упорного труда, особенно мучительного из-за ранки в пальце и согнутого положения, мне удалось взломать заднюю стенку ящика.
Там лежало что-то мягкое. Это меня несколько обнадежило. Во всяком случае, это было не сукно, но что именно, я не мог сообразить, пока совершенно не оторвал доску. Я осторожно просунул руки в отверстие и дрожащими пальцами стал щупать новый, неведомый предмет. На ощупь он казался холстом. Но это только упаковка. А что внутри?
Я не мог определить, что это такое, пока не взял нож и не разрезал холщовую оболочку. Тут, к моему разочарованию, я распознал, что лежит в ящике.
Это было полотно — тюк прекрасного полотна, скатанный в рулоны, как и сукно. Но эти рулоны были так плотно спрессованы, что, приложив все усилия, я не мог выдернуть ни одного из них.
Это открытие опечалило меня еще больше, чем если бы я обнаружил сукно. Сукно я бы постепенно вынул и продолжал дальше свою работу. Но с полотном я ничего не мог сделать, ибо после нескольких попыток выяснилось, что я не в состоянии сдвинуть с места ни один рулон. Алмазная стена вряд ли оказала больше сопротивления лезвию моего ножа, чем эта масса полотна. Для того чтобы его прорезать насквозь, понадобилось бы работать неделю. У меня не хватит пищи, чтобы прожить, пока я достигну другой стороны ящика. Но я и не думал об этом. Это было явно невозможно, и я бросил эту затею, даже не задумываясь над ней.
Некоторое время я бездействовал, соображая, что предпринять дальше. Но я недолго оставался без дела. Время было слишком дорого. Только энергичная деятельность могла спасти меня. Побуждаемый этой мыслью, я снова приступил к работе.
Мой новый план был прост — опустошить второй ящик, прорезать его противоположную сторону и посмотреть, что находится за ним. Так как ящик был уже взломан, надо было вынуть из него материю.
Так же как и в первом ящике с мануфактурой, я почувствовал, что толстые рулоны не проходят через проделанное мной отверстие. И, не желая мучиться и расширять отверстие в досках, я прибегнул к прежнему способу — разрезать завязки, развертывать рулоны и вытаскивать материю ярд за ярдом. Я думал, что так будет легче, но — увы! — это привело к таким последствиям, которые причинили мне много бед.
Я быстро продвигался и уже очистил достаточное пространство для работы внутри ящика, когда мне внезапно пришлось остановиться, потому что позади не было места для материи.
Все свободное место — моя каморка, ящик из-под галет и еще один ящик — было полно мануфактурой, которую я вытаскивал, продвигаясь вперед. Не оставалось ни одного свободного фута, где можно было положить хотя бы один рулон ткани!
Я не сразу испугался, потому что не представлял себе, какие это может повлечь за собой последствия. Но когда я хорошенько поразмыслил, то увидел, что стою перед очень опасной проблемой.
Очевидно, я не смогу продолжать работу, пока не избавлюсь от образовавшейся лавины материи, виной чему я был сам. И как от нее избавиться? Ни сжечь, ни уничтожить материю каким-либо иным путем нельзя; я не могу уменьшить ее в объеме, потому что уже умял ее изо всех сил. Что же мне теперь с ней делать?
Теперь я понял, как безрассудно было разматывать рулоны. Это и явилось причиной увеличения их объема. Вернуть их в прежнее состояние уже не представлялось возможным. Материя была разбросана в полном беспорядке, и не было места, чтобы ее свернуть, — в тесном помещении и при моем вынужденном положении тела я почти не мог двигаться. Но если бы даже и нашлось место, я все равно не смог бы довести материю хотя бы отчасти до ее прежнего объема, потому что толстый материал при всей своей эластичности потребовал бы большого винтового пресса, чтобы принять прежний вид. Я ужасно огорчился. Мало сказать: огорчился — я готов был снова впасть в отчаяние.
Но нет, я не позволю отчаянию овладеть мной! Кое-как опростав место для последних одного — двух рулонов, я сумею проделать отверстие в противоположной стенке ящика. У меня еще есть надежда. Если там окажется другой ящик с сукном или тюк с полотном, у меня хватит времени предаться отчаянию.
Трудно сломить надежду в человеческом сердце. Так было и со мной. Пока есть жизнь — есть и надежда. Воодушевленный этой мудрой пословицей, я снова взялся за дело. Скоро мне удалось убрать еще два рулона. Это позволило проникнуть внутрь уже почти пустого ящика и пустить в ход нож.
Мне удалось вышибить обе части доски и сделать отверстие, достаточное для моей цели, а она заключалась только в том, чтобы получилась щель, через которую можно просунуть руку. Увы, меня ждало самое печальное разочарование: еще один тюк с полотном! Я был обессилен, мне стало дурно, и я бы упал, если бы было куда упасть, — я остался как был, лежа лицом вниз, ослабевший и телом и душой.
Глава 47
EXCELSIOR[166]
Прошло много времени, прежде чем я снова собрался с духом и приподнялся. Если бы не голод, я бы еще долго оставался в состоянии полного оцепенения. Но природа взяла свое. Я хотел съесть свои крошки лежа, однако жажда заставила меня вернуться на старое место. Мне было все равно, где спать, потому что я мог скрыться от крыс в любом из ящиков. Но надо было находиться поблизости от бочки с водой, — вот почему я предпочел старое место.
Нелегко мне было вернуться туда. Пришлось поднять и отбросить назад много рулонов материи. Класть их надо было бережно, не то, вернувшись в свое убежище, я не смог бы расчистить для себя достаточно места.
Все же мне удалось осуществить свое намерение. Поев и утолив лихорадочную жажду, я свалился на массу материи и моментально заснул. Я принял обычные меры предосторожности, накрепко закрыв ворота своей крепости, и сон мой не был нарушен крысами.
Утром, или, вернее сказать, в тот час, когда я проснулся, я снова поел и попил. Не знаю, было ли это утро, потому что я два раза забывал завести часы и уже не отличал день от ночи. И так как я спал теперь нерегулярно, то и по сну не мог определить время суток. Еды не хватило, чтобы утолить голод. Да и всего моего запаса пищи не хватило бы, чтобы полностью насытиться; немалых трудов стоило мне удержаться от того, чтобы не уничтожить весь запас. Потребовалась вся моя решимость, чтобы сдержаться. Решимость эта поддерживалась ясным сознанием того, что мне придется есть в последний раз. Воздержание объяснялось простым страхом голодной смерти.
Позавтракав как можно экономнее и наполнив желудок водой вместо пищи, я опять углубился во второй ящик с материей, так как решил продолжать розыски, пока силы не изменят мне. Не много у меня их оставалось. Я понимал, что съеденного едва хватит, чтобы поддержать жизнь. Я чувствовал, что слабею. Ребра у меня обозначились, как у скелета, и я с трудом поворачивал тяжелые рулоны материи.
Один конец каждого ящика, как я уже говорил, был обращен к борту корабля. Конечно, не имело никакого смысла делать туннели в этом направлении. Но конец второго ящика, обращенного внутрь трюма, я еще не испробовал. Теперь я за него взялся.
Не стану описывать подробности этой работы. Она была похожа на то, что я делал и раньше, и заняла несколько часов. И в результате меня опять подстерегало горькое разочарование. Еще один тюк с полотном! Я не мог больше продвигаться в этом направлении. И вообще продвигаться больше некуда!
Я был окружен ящиками с сукном и тюками с полотном. Я не мог пройти сквозь них. Я не мог перескочить через них. Нечего было и пытаться.
Таков был грустный вывод, к которому я пришел. Снова мною начало овладевать безнадежное отчаяние.
К счастью, это недолго продолжалось, ибо мне пришли в голову мысли, которые побудили меня к дальнейшим действиям. На помощь пришла память. Я вспомнил, что когда-то читал книгу, в которой очень хорошо описывалось, как мальчик отважно борется с трудностями и не поддается отчаянию, как смелостью и настойчивостью преодолевает препятствия и добивается наконец успеха. Я вспомнил также, что этот мальчик сделал своим девизом латинское слово «эксцельсиор», что значит «все выше» или «все вверх».
Вспоминая, как боролся мальчик и как ему удалось победить трудности — а некоторые из них были так же велики, как и мои, — я решил сделать еще одно новое усилие.
Думаю, что именно странное слово «эксцельсиор» зародило во мне эту мысль, потому что я перевел слово буквально. «Все вверх, — повторял я, — надо искать наверху. Почему до сих пор это не пришло мне в голову? И в том направлении может быть пища, так же как в любом другом». Да выбора почти и не было, потому что другие направления я уже испробовал. Итак, я решил искать наверху.
В следующую минуту я уже лежал на спине, с ножом в руках. Я подпер себя несколькими рулонами материи, чтобы удобнее было работать, и, ощупав одну из досок верхней крышки ящика из-под полотна, начал резать ее поперек.
После многих усилий доска поддалась. Я рванул ее вниз. О господи! Неужели все мои надежды должны рушиться?
Увы! Это было именно так. Плотный, грубый холст, а за ним тяжелая, холодная масса полотна — вот все, что я опять нашел.
Теперь оставалась только верхняя часть первого ящика из-под сукна и крышка ящика с галетами. Надо напрячь последнее усилие… Над первым ящиком находился еще ящик с сукном, а верхушку второго полностью закрывал тюк с полотном.
— Милосердный Боже, неужели я погиб?! Вот все, что я мог сказать, и впал в полное забытье.
Глава 48
ПОТОК БРЕНДИ
Я заснул от усталости и длительного напряжения сил. Проснувшись, я почувствовал себя гораздо бодрее. Странно, что мне стало веселее и я не так отчаивался, как раньше. Казалось, меня поддерживала какая-то сверхъестественная сила — ведь обстоятельства нисколько не изменились, то есть не изменились к лучшему, и никакой новой надежды или плана у меня не возникло.
Было ясно, что мне не удастся проникнуть за ящики с сукном и полотном, — у меня ведь не было места, куда выкладывать из них материю. Поэтому я перестал и думать о них.
Но существовали еще два направления: одно — прямо, другое — налево, то есть к носу корабля.
Впереди стояла большая бочка с водой, и, конечно, через нее никак нельзя было пробраться. Пришлось бы выпустить всю воду. Одно время я думал, что можно проделать отверстие выше уровня воды, влезть в бочку, просверлить второе отверстие и пролезть через него. Я знал, что в бочке воды не больше чем наполовину, потому что в последнее время из-за жары, я, не стесняя себя, пил много воды. Но я боялся, что из-за этого большого отверстия я могу потерять всю воду за одну ночь. Вдруг налетит внезапный шквал, какие уже бывали не раз, и корабль начнет качаться. При этом валкое судно накренится набок, что уже с ним случалось, бочка перевернется, и вода из нее выльется — драгоценная влага, мой лучший друг, без которого я бы давно погиб.
Я подумал и решил не трогать бочку. Оставалась еще другая и более легкая возможность продвигаться — через бочонок с бренди.
Этот бочонок лежал, повернутый ко мне концом, и, как я уже говорил, замыкал вход ко мне с левой стороны. Его верхушка, или днище, приходилась как раз рядом со стенкой бочки с водой. Но бочонок лежал так близко к борту корабля, что за ним вряд ли оставалось пустое место. Именно поэтому почти половина его диаметра была скрыта за бочкой с водой, а другая половина образовала естественную стену моего убежища.
Вот через эту-то свободную половину бочонка я и решил прокладывать дорогу, а потом, забравшись в бочонок, просверлить вторую дыру, которая откроет мне путь через его противоположную сторону.
Может быть, за бочонком с бренди найдется пища, которая сохранит мне жизнь? Предположение не было основано ни на чем, но я молился за успех.
Плотное дубовое дерево, из которого были сделаны клепки бочонка, уступало ножу куда хуже, чем мягкая ель ящиков. Однако начало было положено уже раньше — я ведь когда-то проделал дырку в этом месте. Я ввел в нее нож и трудился, пока не прорезал одну из досок днища поперек. Тогда я надел башмаки, лег на спину и стал изо всех сил бить по днищу каблуками, стуча, как механический молот. Дело было нелегкое: дубовая доска, крепко стиснутая соседними досками, сопротивлялась долго. Но я настойчиво продолжал колотить по доске — крепления наконец ослабли, и я почувствовал, что дерево поддается. Еще несколько сильных ударов довершили дело, и доска провалилась внутрь.
Немедленно меня окатил с ног до головы мощный поток вина. Оно било не струей, а именно потоком! Прежде чем я успел вскочить на ноги, меня затопило бренди, и я испугался, что утону в нем. Каморка сразу наполнилась. И только потому, что я прижал голову к верхним балкам трюма, бренди не залило мне рот, не то я захлебнулся бы. Оно все же попало мне в горло и глаза — я ослеп и оглох. Только спустя некоторое время мне удалось избавиться от приступа чихания и кашля.
Я вовсе не был склонен веселиться по этому поводу, но я почему-то вспомнил о герцоге Кларенсе, который когда-то выбрал странный род смерти: он пожелал, чтобы его утопили в бочке с мальвазией[167]. Впрочем, наводнение кончилось так же быстро, как началось. Под полом было достаточно места, и в несколько секунд вино ушло вниз, растворилось в трюмной воде, оставшись там до конца путешествия. Только платье мое промокло, да в воздухе остался сильный запах алкоголя, из-за которого трудно было дышать.
Нос корабля в ту минуту как раз поднимался на волну — бочонок накренился, и это движение в десять минут опорожнило его до единой капли.
Я не стал больше дожидаться.
Отверстие, которое я проделал, было достаточно, чтобы влезть туда, и, кончив чихать и кашлять, я залез внутрь бочонка.
Первым делом я постарался нащупать втулку: я считал, что от нее легче будет начинать резать клепки.
Я легко нашел ее. К счастью, она была не наверху, а сбоку, на подходящей высоте.
Я закрыл нож и стал бить по втулке черенком. После нескольких ударов я вышиб ее наружу и принялся резать клепку.
Не сделал я и дюжины надрезов, как почувствовал, что силы мои удивительно возросли. Раньше я чувствовал сильную слабость, а теперь готов был рвать дубовые клепки голыми руками. Настроение вдруг поднялось, как будто я занимался не серьезным делом, а игрой, исход которой не имел особого значения. Кажется, я насвистывал и, возможно, даже пел. Я совершенно забыл, что нахожусь в смертельной опасности, и мне казалось, что все минувшие страхи просто плод моего воображения: то ли я их придумал, то ли видел во сне.
Тут меня внезапно охватила мучительная жажда, и, мне помнится, я барахтался в бочонке, стараясь вылезть наружу, чтобы выпить воды.
Кажется, я действительно вылез, но не уверен, пил ли я воду. Вообще с этого момента я ничего не помню, потому что неожиданно впал в бессознательное состояние.
Глава 49
НОВАЯ ОПАСНОСТЬ
Я оставался без сознания несколько часов, и мне даже не снились, как всегда, мучительные сны. Я не спал, но чувствовал себя так, как будто меня бросили с земли в бесконечное пространство и я быстро лечу вперед или падаю с большой высоты и не могу ни до чего долететь. Это было пренеприятное ощущение — скорее всего, чувство ужаса.
К счастью, оно продолжалось недолго. Когда я попытался приподняться, ощущения мои стали не так мучительны и наконец прошли совсем. Но теперь меня тошнило и голова раскалывалась от боли. Неужели опять морская болезнь? Нет, не может быть! Я больше не страдал морской болезнью. Даже бури я переносил довольно легко, да на море и не было никакого волнения. Дул ветер, но не сильный, и корабль шел спокойно.
Неужели это неожиданный и жестокий приступ лихорадки? Или я упал в обморок от истощения? Нет, у меня уже бывало и то и другое, но новое ощущение не было похоже на прежние.
Я терялся в догадках. Впрочем, скоро мысли мои прояснились, все стало понятно: я был пьян!
Да, я был в состоянии опьянения, хотя ни вина, ни водки не пробовал-ни глотка. Я очень не любил их. Хотя здесь полно бренди — вернее, было полно, потому что оно все ушло под пол, — и я мог утонуть в нем, но я не выпил ни капли. Правда, мне в рот могла попасть капелька или крошечный глоток, когда меня окатило потоком из бочонка. Но от такого количества нельзя опьянеть, даже если бы это был крепкий спиртной напиток. Невозможно! Я опьянел не от этого. От чего же? Ведь от чего-то я стал пьян! Хотя это случилось со мной первый раз в жизни, но я знал, что у меня были все признаки опьянения.
Продолжая размышлять, то есть становиться трезвее, я начал понимать, в чем тут загадка, и наконец раскрыл причину своего опьянения. Не бренди, а пары бренди — вот причина, и ничего более!
Прежде чем влезть в бочонок, я уже ощущал какую-то перемену в своих чувствах, ибо пары спиртного напитка еще снаружи заставили меня чихать. Но это было еще ничего по сравнению с испарениями, которые я вдыхал внутри бочонка. Поначалу я едва мог дышать, но постепенно привык и даже начал находить в них что-то приятное.
Неудивительно, что я сразу приободрился и повеселел.
Продолжая обсуждать происшествие, я вспомнил, что выбрался из бочонка, что жажда заставила меня вылезть. Как хорошо, что я последовал зову жажды! Если бы я остался в бочонке, последствия могли бы стать для меня гибельными. Каков бы ни был исход, он был бы для меня роковым. Скорее всего, я бы остался пьяным — как мог я протрезветь там? Мне становилось бы все хуже и хуже, пока… пока я не умер бы! Кто знает? Простая случайность спасла мне жизнь.
Утолил я жажду раньше или нет, во всяком случае, теперь мне так хотелось пить, что, казалось, я смогу выпить всю бочку до дна. Я немедленно нащупал и наполнил водой свою чашку и не отрывался от нее, пока не выпил чуть не полгаллона.
Мне стало значительно лучше, мозги прояснились, словно промылись водой. Придя в себя, я снова вернулся к размышлениям об опасностях, которые меня окружали.
Прежде всего я подумал о том, как мне продолжить работу, которую я так внезапно прервал. Мне казалось, что я не в состоянии буду взяться за нее снова. Что, если со мной опять произойдет то же самое, если я потеряю способность соображать и не смогу совладать с собой, чтобы выбраться из бочонка?
Быть может, надо работать, пока я не почувствую, что снова пьянею, и тогда поспешно вылезть обратно? А если я не успею и опьянение придет внезапно? Сколько я пробыл в бочонке до того, как со мной случилась эта история, я не мог припомнить. Но я отлично помнил, как это состояние овладело мной, — плавно, мягко, словно окутывая меня прекрасным сновидением, как я перестал думать о последствиях и забыл даже о всех опасностях, угрожавших мне.
Что, если все это повторится и тот же спектакль разыграется заново, только без одного эпизода: жажда не заставит меня покинуть бочонок. Что тогда будет? Я не мог никак ответить на этот вопрос. Опасения, что все повторится сначала, были так сильны, что я боялся снова влезть в бочонок. Впрочем, выхода не было. Я должен сделать это или умереть, не двигаясь с места. «Если уж моя судьба — умереть, — думал я, — так лучше умереть от опьянения». Теперь я убеждался на опыте, что такая смерть безболезненна. Подобные рассуждения прибавили мне мужества — все равно у меня не было выбора и я не мог избрать другой план. Я влез обратно в бочонок.
Глава 50
ГДЕ МОЙ НОЖ?
Вернувшись в бочонок, я стал ощупью искать свой нож. Я не запомнил, куда его положил. Искал я его снаружи, но безуспешно и решил, что он остался в бочонке. Я очень удивился тому, что не могу его нащупать, хотя обшарил пальцами всю внутреннюю сторону бочонка.
Я начал беспокоиться. Если нож пропал, то все мои надежды на спасение рухнули. Без ножа я не смогу никуда пробиться и должен буду лежать без дела и ждать, пока свершится моя судьба. Куда мог деться нож? Неужели его утащили крысы?
Я собирался было еще раз вылезть наружу, когда мне пришло в голову ощупать отверстие, над которым я работал, когда в последний раз держал в руках нож. Может быть, он там? К величайшей моей радости, он там и был — он торчал в клепке, которую я собирался разрезать.
Я тут же взялся за работу и принялся расширять отверстие. Но лезвие ножа от долгого употребления иступилось, и резать крепкий дуб было все равно, что долбить камень. Я работал четверть часа и за это время не сделал надреза глубиной и в восьмую дюйма. Я начал терять надежду проделать дыру в клепке.
У меня снова появилось странное ощущение в голове, хотя я мог еще оставаться на месте некоторое время, — таково обычно действие опьянения. Но я обещал самому себе, что при малейшем его признаке уйду из опасного места. К счастью, у меня хватило решимости выполнить обещание, и я вовремя выбрался к бочке с водой.
Я сделал это очень своевременно. Останься я в бочонке с бренди еще десять минут, я бы, конечно, потерял сознание: я опять начал чувствовать опьянение.
Но когда действие алкоголя прекратилось, я почувствовал себя еще несчастнее, чем раньше: я понял, что из-за этого препятствия рушатся последние надежды. Я убедился, что могу работать, только делая перерывы, но приходилось работать подолгу: с тупым лезвием я немногого мог добиться. Пройдет несколько дней, прежде чем я прорублю стенку бочонка. А я не мог ждать нескольких дней. Запас крошек уменьшался катастрофически. В сущности, у меня оставалась одна горсть крошек. Я и трех дней не проживу! Шансы спастись становились все меньше, и я снова был близок к полному отчаянию. Если бы я знал наверно, что за бочонком меня встретит новый запас пищи, я бы работал с большей настойчивостью и энергией. Но это было сомнительно. Десять шансов против одного, что я не найду ни ящика с галетами, ни вообще чего-нибудь съедобного.
Единственный выигрыш от того, что я взломал бочонок с бренди, был выигрыш в пространстве.
Если я проберусь дальше, за бочонок, и там не найдется пищи, то я смогу перенести какой-нибудь предмет внутрь бочонка и очистить себе дорогу для дальнейших поисков.
Дело принимало новый оборот. Но тут еще лучшая идея озарила мой мозг и придала моим мыслям радостный оттенок. Вот что я придумал: если я легко прокладываю дорогу от ящика к ящику, почему бы не проложить ход наверх и не добраться до палубы?
Мысль эта меня поразила. До сих пор она, как ни странно, ни разу не приходила мне в голову. Я объясняю это подавленным состоянием, в котором долго находился и при котором такая попытка показалась бы невозможной.
Правда, наверху огромное количество ящиков, один на другом. Они заполняют весь трюм, на дне которого я нахожусь. Я вспомнил и то, что в свое время так меня удивило: что погрузка шла необыкновенно долго — она продолжалась два дня и две ночи. Теперь все понятно. Весь огромный груз должен быть надо мной. Если считать, что там около десятка ярусов и что я могу в день пройти только через один ярус, то это составит десять дней работы — и я окажусь под палубой!
Эта отрадная мысль была бы совсем хороша, приди она мне в голову раньше, но теперь она сопровождалась величайшими сожалениями. Не слишком ли поздно я додумался, как спастись? Не глупо ли вел себя до сих пор? Будь у меня ящик с галетами, я бы легко мог привести этот план в исполнение, но теперь… увы, остались жалкие крошки! Нет, план был безнадежный.
Но все-таки я не мог отказаться от прекрасной надежды завоевать себе жизнь и свободу. Я отбросил все печальные сомнения и стал обдумывать дальнейшее положение.
Самое главное было выиграть время, и это беспокоило меня больше всего. Я боялся, что, прежде чем проделаю отверстие на другом конце бочонка, пища у меня кончится и силы оставят меня. Возможно, что я умру в самом разгаре работы.
Я погрузился в глубокое раздумье. И вдруг еще одна новая мысль зародилась у меня в голове. Это была очень неплохая мысль, хотя она может показаться ужасной тому, кто не голодал. Голод и страх смерти делают человека неприхотливым, а желудок уступчивым.
Я перестал быть разборчивым и не привередничал с едой. В сущности, я готов был съесть все, что годится в пищу. А теперь расскажу вам, что я придумал.
Глава 51
КРЫСОЛОВКА
Я уже давно не упоминал о крысах. Но не думайте, что они ушли и оставили меня в покое! Нет, они шныряли вокруг меня все так же проворно и суетливо. Нельзя было вести себя наглее! Они только не нападали на меня, но не замедлили бы напасть, если бы я не остерегался.
Что бы я ни делал, я прежде всего заботился о том, чтобы отгородиться от них стенами, построенными из рулонов материи. Только таким образом я держал их в отдалении. Переходя с места на место, я то и дело слышал их рядом и натыкался на них; два или три раза они меня кусали. Только моя исключительная бдительность и осторожность удерживали их от нападения.
По этому отступлению вы, конечно, догадаетесь, к чему я веду разговор, и поймете, что за мысль овладела мной. Мне пришло в голову, что, вместо того чтобы позволить крысам съесть себя, лучше я съем их сам. Да, вот к какому выводу привели меня размышления!
Мне вовсе не было противно думать о такой пище — и вам бы не было противно, если бы вы оказались в моем положении. Наоборот, я был очень доволен, что дошел до такой мысли, потому что с ее помощью мог осуществить свой план: добраться до палубы — другими словами, спасти свою жизнь. Больше того, я чувствовал себя уже спасенным. Оставалось только осуществить свое намерение.
Я знал, что крыс в трюме много: раньше количество их меня пугало, но теперь я относился к этому иначе. Во всяком случае, их достаточно, чтобы обеспечить мне провиант надолго. Вопрос был только в том, как их поймать.
Конечно, смело хватать их руками и душить, пока они не издохнут. Я уже пытался их ловить, но без успеха. Как вы знаете, я убил одну единственным способом, который имелся в моем распоряжении, и тем же способом я мог убить еще одну или двух, но это было все равно что ничего. Предположим, что я убью двух крыс, остальные станут меня бояться и уйдут далеко в трюм. Следовало придумать, как их поймать побольше сразу и сделать запас пищи на десять — двенадцать дней. За это время я могу ведь наткнуться и на более подходящую пищу. Это будет умнее, да и надежнее. И я стал придумывать способ убить одним ударом несколько крыс.
Нужда порождает изобретения. Полагаю, что именно нужде, а не своему таланту я обязан тем, что придумал крысоловку. Это было простейшее приспособление, но я был уверен, что оно вполне подойдет. Следовало сделать большой мешок из сукна, что было очень легко: отрезать кусок материи надлежащей длины, сложить его и прошить бечевкой. Бечевки у меня было много, потому что рулоны материи были связаны крепким шпагатом, куски которого валялись рядом. Нож послужит мне вместо иголки, и при помощи этого же инструмента я протащу вокруг отверстия мешка кусок шпагата, чтобы затягивать мешок, когда попадется крыса.
Так я и сделал. Меньше чем через час у меня был мешок с веревкой вокруг отверстия — крысоловка была готова к употреблению.
Глава 52
ОДНИМ УДАРОМ
Я приступил к выполнению своего намерения. Я тщательно все продумал, приготовляя мешок. Теперь оставалось «поставить западню».
Сначала я убрал груды сукна, чтобы очистить место. Тут мне помог пустой бочонок из-под бренди — я наполнил его материей.
Я заткнул все щели и дыры, оставив только одну, самую большую, которой крысы обычно пользовались для посещений.
Перед этим отверстием я разложил мешок так, чтобы он покрыл его целиком, остальную часть мешка я растянул на палочках, которые сделал специально для этого, придав им надлежащую длину. Встав на колени у самого отверстия мешка, я растянул его пошире, а веревку взял в руки, держа ее наготове. В таком положении я стал ждать появления крыс.
Я был уверен, что они войдут в мешок, потому что положил в него приманку. Приманка состояла из нескольких крошек — это были последние из моего запаса. Как говорят моряки, я «поставил на карту последний грош». Я рисковал всем. Если крысы съедят крошки и убегут, у меня не останется больше никакой пищи.
Я знал, что грызуны не замедлят явиться, сомневался только, будет ли хороший «улов». Я боялся, что они начнут прибегать по одной и растащат всю приманку. Поэтому я истолок крошки в настоящий порошок. Я рассчитывал, что первые посетители задержатся и в мешок постепенно набьется множество крыс. Тогда я закрою им обратный путь, затянув веревку.
Мне повезло. Не больше минуты пришлось мне стоять на коленях: я услышал снаружи топот маленьких лапок и повизгиванье пронзительных голосов. В следующий момент мешок зашевелился у меня под руками — мои жертвы наполнили его. Толчки становились все более резкими, и я убедился в том, что крыс становится все больше и каждая старается пробиться к хлебному порошку. Они толкались, взбирались друг на друга и ссорились, яростно пища.
Настала решающая минута — я потянул веревку. В следующее мгновение я плотно затянул ее, и отверстие мешка наглухо закрылось.
Ни одна крыса не вышла обратно. Я с удовольствием установил, что мешок до половины заполнен этими свирепыми существами.
Однако я не мог терять времени на возню с ними. Часть пола в моем помещении была совершенно ровная и прочная, это были твердые дубовые доски корабля. Я положил туда мешок с крысами, накрыл его доской и влез наверх, изо всех сил действуя коленями и придавливая крыс своей собственной тяжестью.
Крысы толкались, царапались, барахтались, кусались, и я слышал их вопли в мешке. Я не обращал на них никакого внимания и продолжал давить крыс, пока подо мной не прекратилось движение и не наступило полное молчание.
Затем я открыл мешок и ознакомился с его содержимым. Я был вознагражден за массовое истребление своих врагов. В «крысоловке» находилось множество крыс, и все они были убиты!
Я пересчитывал их с большой осторожностью, вынимая одну за другой из мешка. Их было десять!
— Ага, — воскликнул я, обращаясь к крысам, — наконец-то я поймал вас, негодные твари! Это вам за то, что вы мучили меня! Если бы вы оставили меня в покое, вы избежали бы своей злой судьбы. Но вы не оставили мне никакого выбора. Вы сожрали мои галеты, и, для того чтобы спастись, от голодной смерти, я вынужден есть вас!
Окончив свое обращение, я начал сдирать шкурку с одной из крыс.
Если вы думаете, что я чувствовал какую-нибудь брезгливость, то глубоко ошибаетесь. Да, голод сделал меня неразборчивым!
Я был так голоден, что не постарался даже как следует содрать шкурку. Через пять минут крыса была съедена.
Глава 53
КРУГОМ!
Дела мои теперь решительно изменились к лучшему. Продовольственный склад наполнился пищей, которой хватит по меньшей мере на десять дней, потому что я принял решение съедать по одной крысе в день. Теперь я мог надеяться на выполнение своей задачи — задачи, которая до сих пор казалась мне невыполнимой, — проложить дорогу к палубе.
«Если я буду съедать по крысе в день, — думал я, — то не только спасусь от смерти, но восстановлю свои силы. Регулярно работая десять дней подряд, я достигну верхнего яруса груза, наполняющего трюм. Может быть, даже скорее! Чем скорее, тем лучше; но за десять дней я наверняка доберусь до верха, даже если между мной и палубой лежит десять этажей ящиков».
Таковы были новые надежды, воодушевлявшие меня после удачной охоты на крыс. Снова ко мне вернулись уверенность и хладнокровие, которых я уже давно не ведал.
Только одно обстоятельство смущало меня — бочонок из-под бренди. Теперь я уже не боялся, что работа в нем займет слишком много времени, ибо времени у меня было достаточно. Но я все еще опасался испарений алкоголя, которые внутри бочонка были все так же крепки. Я опасался, что снова потеряю сознание, несмотря на мое решение быть настороже и не оставаться слишком долго в бочонке. Ведь когда я вторично влез туда, я едва успел выбраться обратно!
Все-таки я решил сопротивляться изо всех сил действию резкого запаха, царившего внутри бочонка, и отступить в ту минуту, когда почувствую, что больше не могу ему противостоять.
Хотя мне уже не приходилось так дорожить временем, как раньше, я не собирался тратить его попусту. Запив свой обед большим количеством воды из бочки, я вооружился ножом и направился к пустому бочонку, чтобы снова попытаться расширить отверстие.
Да, ведь бочонок полон материи! Увлекшись охотой на «дармоедов», я забыл, что засунул в пустой бочонок всю материю.
«Конечно, — думал я, — надо снова освободить бочонок, а то мне не хватит места для работы». Я отложил нож и стал вытаскивать рулоны.
За этим делом мне пришли в голову новые вопросы:
«Зачем я вытаскиваю материю из бочонка? Пусть она лежит там, где лежала. Зачем мне вообще нужен этот бочонок?»
Действительно, теперь незачем пробиваться в этом направлении. Раньше это имело смысл — там могла оказаться пища. Но теперь, для моего нового предприятия, вовсе не нужно было пролезать сквозь этот бочонок. Наоборот, это был самый неправильный путь. Он ведь не вел к палубному люку, а мне нужно было именно туда прокладывать туннель. Я точно знал, где находится люк, потому что помнил, каким путем шел от люка к бочке с водой, когда впервые спустился в трюм.
Я тогда сразу повернул направо и по прямой линии пролез к бочке. Все эти подробности я отчетливо помнил и был уверен, что нахожусь где-то около середины корабля, в той стороне, которую моряки называют «штирборт»[168]. Идти через бочонок — значит уклоняться от главного люка, через который я попал сюда. Мало того, длительная работа над дубовой клепкой может привести к тому, что я задохнусь в испарениях алкоголя. Гораздо легче пробиться через еловые ящики, чем через дубовую бочку; да я уже и начал пробиваться в том направлении, то есть вправо. Обсудив все, включая опасности и трудности, я пришел к выводу, что через бочонок продвигаться не следует. И я повернул направо.
Перед тем как взяться за ящики, я снова уложил материю в бочонок. Я укладывал ее аккуратнейшим образом, рулон за рулоном, и придавливал, сколько у меня хватало сил.
Я догадался также спрятать убитых крыс в мешок и затянуть веревку. Ведь не все корабельные крысы были уничтожены, и я боялся, что собратья этих мерзких созданий могут возыметь намерение съесть своих товарищей. Я слышал, что у этих отвратительных животных бывают и такие повадки, и решил уберечь свой улов.
Когда все было сделано, я выпил чашку воды и забрался в один из пустых ящиков.
Глава 54
ДОГАДКИ
Я находился в ящике из-под сукна, который стоял рядом с ящиком из-под галет. Я выбрал первый ящик отправной точкой для моего туннеля.
Вы думаете, что, забравшись в него, я сразу приступил к работе? Нет! Я довольно долго лежал не шевелясь. Но я не бездействовал, а усиленно думал.
План, который я только что составил, пробудил во мне новую энергию. Надежда на спасение овладела мной сейчас так сильно, как никогда с самого начала моего заточения. Перспективы открывались превосходные. Обнаружив в свое время бочку с водой и ящик с галетами, я испытал, правда, огромную радость — я убедился в том, что мне хватит пищи и питья до конца путешествия. Но впереди было тюремное заключение — мне предстояло претерпеть месяцы молчания и мрачного одиночества!
Теперь все шло по-другому. Если судьба мне улыбнется, то через несколько дней я увижу сияющее небо, вдохну в себя чистый воздух, увижу лица людей и услышу сладчайшие из всех звуков — голоса моих собратьев.
Я чувствовал себя как путник, который после долгого странствования по пустыне видит на горизонте признаки жизни цивилизованных людей: темные очертания деревьев, голубой дымок, поднимающийся над дальним очагом… Все это порождает в нем надежду, что скоро он вернется в среду своих товарищей.
Такая надежда была и у меня. С каждой минутой она становилась все сильнее и превращалась в уверенность.
Именно эта уверенность, может быть, и удерживала меня от слишком поспешного выполнения плана. Дело было слишком серьезно, чтобы относиться к нему легкомысленно и осуществлять его поспешно и небрежно. Могли возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за пустого случая все могло провалиться.
Чтобы избежать этого, я решил действовать с величайшей осторожностью и, перед тем как приступить к делу, обдумать все самым тщательным образом.
Одно было ясно — моя задача была совсем не легка. Я уже говорил, что находился на дне трюма, а я прекрасно знал, каким глубоким может быть трюм на большом корабле. Я вспомнил, что скользил по канату очень долго, пока добрался донизу. И когда после этого взглянул наверх, то увидел отверстие люка высоко над собой. Если все это пространство загружено товарами — а это, без сомнения, так и есть, — то предстоит проделать длинный туннель.
Кроме того, я буду прокладывать себе дорогу не только вверх, но и по направлению к люку, то есть придется пройти и половину ширины судна. Последнее меня не очень беспокоило, я знал, что все равно не удастся двигаться по прямой линии, потому что на пути непременно будут встречаться грузы. Придется обходить тюки с полотном или другими твердыми предметами такого рода. И каждый раз надо будет решить, двигаться вверх или в горизонтальном направлении, то есть выбирать то, что полегче.
Таким образом, я буду как бы подниматься по ступенькам, все время направляясь к люку.
Однако ни число ящиков, ни расстояние до палубы не беспокоило меня так сильно, как характер товаров, заключающихся в этих ящиках. Вот мысль, которая занимала меня больше всего, потому что трудности могут увеличиться или уменьшиться в зависимости от того, какие материалы придется убирать с пути. Некоторые товары, будучи распакованы, увеличиваются в объеме, и, если я не сумею их уплотнить, мне будет угрожать недостаток пространства для работы. В сущности, это было худшее из моих опасений. Я уже раз испытал, что это за несчастье, и если бы не удача с бочонком из-под бренди, то все мои нынешние планы оказались бы невыполнимыми.
Больше всего я боялся полотна. Оно «непроходимо», а если его вынимать кусками, то сложить обратно почти невозможно. Оставалось надеяться, что среди груза немного этой прекрасной и полезной ткани.
Я передумал о множестве вещей, которые могли находиться в большом деревянном хранилище «Инки». Я даже старался припомнить, что за страна Перу и какие товары туда возят из Англии, но так ничего и не вспомнил — я ведь был полным невеждой в области экономической географии. Одно было ясно: я мог встретить на своем пути любые товары, производимые в наших крупных промышленных городах. Около получаса я провел в размышлениях такого рода и убедился в их полной бесполезности. В лучшем случае это догадки. Нельзя определить, «какой металл находится в земле, пока его не тронешь ломом».
Пора было приступать к работе. Отбросив всякие рассуждения и домыслы, я начал осуществлять свою задачу.
Глава 55
Я МОГУ СТОЯТЬ ВО ВЕСЬ РОСТ!
Вы, конечно, помните, что при моей первой экспедиции в ящики с материей, когда я надеялся найти галеты или что-нибудь съестное, я обследовал и те грузы, которые их окружали, и те, которые были размещены над ними. Вы помните также, что сбоку от первого ящика, ближе к главному люку, я нашел тюк с полотном; над этим ящиком был еще один такой же ящик с материей. В последнем ящике я уже проделал отверстие, поэтому мог считать, что путь вверх мной начат. Опустошив верхний ящик, я поднимусь на одну ступень в нужном направлении. Я уже раньше пробил одну сторону первого ящика и прилегающую к нему сторону второго, — значит, время и труд, ушедшие на это дело, не потеряны напрасно. Теперь оставалось только вытащить рулоны материи из верхнего ящика и сложить их позади.
Задача была не из легких. Мне снова пришлось пройти через те трудности, что и раньше. Трудно было отделить рулоны друг от друга и стащить их с мест, где они были тщательно уложены. Однако я справился с ними. Я вынимал их по одному и относил — вернее, оттаскивал — в самый дальний угол моего помещения, возле бочонка из-под бренди. Там я их приводил в порядок, не как-нибудь, небрежно, а с величайшим старанием, чтобы они занимали поменьше места и не оставалось пустых углов между ними и балками трюма — углов, в которых могли притаиться крысы.
Впрочем, я об этом теперь не очень-то беспокоился. Я больше не думал о крысах. Я знал, что они находятся где-то по соседству, но мой последний кровавый «набег» нагнал иа них страху. Отчаянные вопли крыс, попавших в мою ловушку, разнеслись по всему трюму и послужили хорошим предупреждением для остальных. Без сомнения, то, что они слышали, сильно напугало их. Убедившись, что я опасный сосед, они уступили мне господство над трюмом на весь остаток путешествия.
Поэтому не боязнь крысиного нашествия заставила меня закупорить все лазейки, а просто экономия пространства, потому что, как я уже говорил, именно этот вопрос внушал мне самые большие опасения.
Итак, работая усиленно и осторожно, я очистил наконец верхний ящик и сложил его содержимое позади себя. Теперь я был вполне уверен, что сохранил максимум ценнейшего для меня пространства.
Результат работы меня приободрил, и я пришел в прекрасное настроение, какого у меня уже давно не было. С веселым сердцем поднялся я в верхний ящик — в тот, который только что опорожнил, — и, положив доску поперек отверстия на дне, сел на нее, свесив ноги. В таком новом для меня положении я мог сидеть выпрямившись, отчего испытывал величайшее удовольствие. Я долго находился в помещении высотой немного более трех футов — а во мне было роста четыре фута — и вынужден был стоять наклонившись или сидеть, согнув колени и упрятав в них подбородок. Это небольшие неудобства, когда их испытываешь недолго, но когда они затягиваются, начинаешь утомляться и чувствуешь боль во всем теле. Поэтому возможность сидеть, выпрямив спину и вытянув ноги, была для меня не только отдыхом, но и роскошью. Больше того, я мог даже стоять во весь рост, потому что проломленные ящики соединялись между собой и от дна одного до крышки другого было полных шесть футов.
Я недолго оставался в сидячем положении. Я встал во весь рост и сразу заметил, как приятно так отдыхать. Обычно люди отдыхают сидя, я же делал это стоя. И в этом нет ничего странного, если вспомнить, сколько долгих дней и ночей я провел сидя или стоя на коленях. Я был счастлив занять то гордое положение, которое отличает человека от других существ. Я чувствовал, что возможность стоять во весь рост — это подлинное наслаждение, и довольно долго оставался в этом положении, не шевеля ни одним мускулом.
Но я не терял времени даром. Мозг мой, как всегда, работал. Я думал о том, какое избрать направление для туннеля: прямо вверх, через крышку вновь очищенного ящика, или через тот его конец, который находился в стороне люка? Мне приходилось выбирать между горизонтальным и вертикальным направлением. Каждое имело свои преимущества — преимущества, которые противоречили друг другу. Взвесить все это и окончательно определить, в каком направлении мне продвигаться, было так существенно, что прошло порядочно времени, прежде чем я мог сделать заключение и определить, каковы будут мои дальнейшие планы.
Глава 56
ОЧЕРТАНИЯ КОРАБЛЯ
Было одно соображение, по которому мне следовало продвигаться вверх, через крышку ящика. Избрав это направление, я скорее достигну верхнего яруса груза; там я могу отыскать свободное пространство между грузом и палубой и пройти к люку. Туннель будет меньше, ибо вертикальная линия короче, чем диагональная, направленная прямо к люку. В сущности, каждый фут, пройденный по горизонтали, можно считать не пройденным вовсе, потому что после этого все равно нужно будет еще подниматься по вертикали.
Весьма возможно, что между грузом и бимсами, на которых лежит палуба, есть пустое пространство. Рассчитывая на это, я намеревался двигаться по горизонтали только в том случае, если меня вынудит к этому какое-нибудь препятствие, которого я не сумею одолеть. Но все-таки я решил начать работу именно по горизонтали по трем причинам. Во-первых, доски боковой стенки ящика почти совсем отошли, и их легко было выломать. Во-вторых, просунув нож через крышку, я нащупал мягкий, но упругий материал, очень похожий на ужасные тюки, которые уже раньше мешали мне и которые я всячески проклинал.
Я совал нож в трещину в разных местах и везде натыкался на что-то, явно напоминающее тюк с полотном. Я попробовал конец ящика — там клинку сопротивлялось дерево. Это, видимо, была ель, из которой были сделаны и другие ящики. Но будь это даже самое твердое дерево, я бы сладил с ним скорее, чем с полотном. Уже этого было достаточно, для того чтобы выбрать горизонтальное направление.
Но у меня имелось еще и третье соображение.
Это третье соображение нелегко понять тому, кто незнаком с устройством трюмов на кораблях, то есть на кораблях того времени, а это было много лет назад. Для кораблей, построенных иначе, — в частности, для тех, которые мы научились строить у американцев, — это соображение неприменимо.
Для того чтобы вы могли понять все это, придется пуститься в подробности. Но в то же время, уклонившись немного от нити повествования, я надеюсь, мои юные друзья, преподать вам урок политической мудрости, который может быть полезен и вам, и вашей стране, когда вы вырастете и сумеете им воспользоваться.
Я являюсь сторонником теории, или, вернее сказать, я уже давно осознал тот факт (потому что здесь нет никакой теории), что изучение того, что обычно называют «политическими науками», есть самое важное из всего, что когда-либо занимало внимание людей. Эта область охватывает все сферы жизни и оказывает влияние на всю общественную жизнь. Любое из искусств, наук и ремесел связано с нею, и от нее зависит их успех или неудача. Даже сама мораль есть не более как производное от политического устройства, и преступление есть следствие плохой организации общества. Политическое устройство страны есть основная причина ее благосостояния или нищеты. Никогда еще правительство не делало ничего, хотя бы похожего на справедливость. Отсюда — нет такого народа, который был бы когда-нибудь счастлив! Бедность, нищета, преступление, вырождение — вот судьба большинства во всех странах!
Итак, как я уже сказал, законодательство страны — другими словами, ее политическое состояние — распространяется на все. Сюда относится и корабль, на котором мы плывем, и повозка, в которой мы едем, и орудия нашего труда, и утварь, которой мы пользуемся в наших жилищах, и даже удобства самих жилищ. Но еще важнее то, что они влияют на нас самих — на наши тела и склонности наших душ. Росчерк пера деспота или глупое постановление парламента, которые, как кажется, не имеют личного отношения к кому бы то ни было, на самом деле могут оказать косвенное и невидимое влияние, которое в течение жизни одного поколения сделает народ безнравственным и подлым.
Я бы мог доказать то, что я заявляю, с математической точностью, но у меня нет на это времени. Хватит того, что я приведу вам один пример. Вот послушайте!
Много лет назад британский парламент утвердил закон об обложении налогом судов, ибо и суда, как и все остальное, должны платить за право существования. Возник вопрос, как распределить этот налог. Вряд ли было бы справедливо заставить владельца маленькой шхуны платить такие же громадные суммы, какие должен вносить владелец большого корабля в две тысячи тонн. Это уничтожило бы все прибыли мелкого судовладельца и разорило бы его вконец. Как же можно было выйти из этого затруднения? Нашлось разумное решение: брать налог с каждого судна в зависимости от его тоннажа.
Это предложение было принято. Но возникла другая трудность: как раскладывать налог? Ведь следует брать налог с объема корабля, а тоннаж — это вес, а не объем. Как же преодолеть эту новую трудность? Пришлось просто установить какую-то единицу объема, которая соответствует тонне веса, и потом уже измерить, сколько таких единиц вмещается в корабль. В сущности, дело свелось к измерению корабля, а не к весу.
Тогда решили мерить корабли определенным образом, чтобы установить их сравнительную величину. Это было очень точно подсчитано путем установления длины их киля, ширины бимсов и глубины трюма. Перемножив все это, мы получим сравнительную величину судов, если эти суда правильно построены.
Таким образом, был установлен закон, вполне подходящий для взимания налога, и вы, вероятно, подумаете (если вы не глубокий мыслитель), что этот закон никак не мог оказать дурное действие, разве только для тех, кто вынужден был платить налог.
Нет, дело обстояло иначе. Этот простой, с виду невинный закон, причинил человеческому роду больше зла, расточил больше времени, отнял у него больше жизней и поглотил больше богатств, чем потребовалось бы, чтобы выкупить на свободу всех рабов, имеющихся сейчас в мире.
Как это могло произойти? Не сомневаюсь, что вы спросите об этом с удивлением.
Это произошло просто потому, что не только остановился всякий прогресс и усовершенствования в области судостроения — а это одно из самых важных искусств, которыми владеет человек, — оно было отброшено назад на сотни лет. А беда приключилась вот как: владелец нового корабля, не имея никакой возможности обойти тяжелый налог, старался уменьшить его насколько возможно, ибо такие нечестные приемы являются постоянным и естественным результатом переобременения налогами. И вот владелец отправляется к судостроителю. Он приказывает построить корабль с такими-то и такими-то размерами киля, бимсов и глубины трюма — другими словами, с таким тоннажем, который соответствует определенному уровню налога. Но он не останавливается на этом. Он требует от строителя, чтобы тот, по возможности, построил судно такого объема, который на треть превысил бы законный тоннаж, с которого уплачивается налог. Это облегчит ему выплату налога и поможет обмануть правительство, наложившее такую тяжелую дань на его предприятие.
Можно ли построить корабль, который ему нужен? Вполне! И судостроитель знает, как это сделать. Для этого нужно круто выгнуть носовую часть судна, сделать его сильно выпуклым по бортам, расширить корму и, в общем, придать ему такую нелепую форму, что оно будет двигаться медленно и станет могилой для многих злополучных моряков. Да, строитель не только знает, как это сделать, — повинуясь воле судовладельца, он строил подобные суда так долго, что сам уверился, будто эта неуклюжая конструкция есть правильно построенный корабль, и теперь уже не хочет и не может построить судно по-другому. Еще более грустно, что эта неповоротливая форма корабля так запечатлелась у него в мыслях, так засела в голове, что, когда глупый закон будет отменен, понадобятся долгие годы, чтобы заставить его отказаться от хитрости и обмана. В сущности, надо дождаться, чтобы подросло новое поколение судостроителей, и тогда у нас начнут строить суда правильной и удобной формы…
Теперь вы поймете, что я имею в виду, когда утверждаю, что политические науки есть самое важное из всего, что должно занимать внимание людей.
Глава 57
СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
Добрый корабль «Инка», как и многие другие, был построен по приказу владельца-купца. Он имел «выпяченную грудь» и по бокам выдавался таким образом, что трюм его был шире бимсов. А если вы посмотрите вверх со дна трюма, то увидите, что его бока изгибаются и сходятся над вашей головой, как крыша. Я знал, что «Инка» построен именно так, потому что все торговые суда строились по одному образцу, а я перевидал немало кораблей, заходивших к нам в бухту.
Я уже говорил, что, проверяя кончиком ножа содержимое груза, который находился над опустошенным мной ящиком, я нащупал что-то мягкое, похожее на полотно. Потом я обнаружил, что тюк с полотном занимает только часть крышки верхнего ящика; около фута оставалось свободным с той стороны, где ящик прилегал к корпусу корабля. Я в двух местах просовывал кончик ножа сквозь щели, и оба раза не встречал препятствий. Я решил, что там ничего нет и около фута пространства за тюком вовсе не заполнено.
Это легко объяснить. Тюк лежал на двух ящиках с материей и находился как раз в том месте, где борт корабля начинал загибаться внутрь; сверху он упирался в балки трюма, а нижний его угол, очевидно, отходил от обшивки примерно на фут. Так получился пустой треугольник, который годился только для мелких грузов.
Я рассудил, что, если идти вверх по прямой линии, в конце концов упрешься в борт корабля, который загибается все больше по мере приближения к палубе, и мне придется на пути встретить множество препятствий — мелких грузов, с которыми труднее справиться, чем с большими ящиками. Эти соображения, как и те, о которых я уже говорил выше, заставили меня окончательно принять решение сделать свой следующий шаг по горизонтали.
Хорошенько отдохнув, я всунул руки в верхний ящик и, подтянувшись повыше, принялся за работу.
Я очень обрадовался, очутившись в этом верхнем ящике. Я оказался как бы во втором ярусе, на расстоянии шести футов от дна трюма. Я уже пробрался на три фута вверх — значит, на три фута ближе к палубе, к небу, к людям, к свободе!
Внимательно оглядев стенку ящика, в которой собирался проделать дыру, я, к полному своему удовольствию, увидел, что она держится очень плохо. Просунув нож сквозь щель, я убедился вдобавок, что соседний ящик отстоит на несколько дюймов, потому что едва мог достать его кончиком лезвия. Это было явное преимущество. Достаточно нанести сильный удар или сделать толчок — и доска выпадет из ящика наружу.
Так я и сделал: надев ботинки, лег на спину и стал выбивать дробь каблуками.
Раздался скрежет, гвозди подались; еще толчок-другой — доска вылетела и провалилась в промежуток между ящиками, куда я не мог достать.
Я немедленно просунул руки в новое отверстие, пытаясь определить, что там лежит дальше. Но хотя я нащупал шершавые доски ящика, я не в состоянии был понять, что там за груз.
Я вышиб вторую доску, потом третью, то есть последнюю, — и одна из сторон ящика оказалась открытой.
Это давало мне возможность хорошо обследовать то, что стояло дальше, и я стал продолжать свои розыски. Но, к моему удивлению, я увидел, что шершавая деревянная поверхность тянется во все стороны на большое расстояние. Она поднималась, как стена, вверх и уходила в стороны так далеко, что, как я ни вытягивал руки, я не мог достать до края или до угла.
Видимо, это был ящик иной формы и величины, чем те, которые мне встречались до сих пор, но я не имел ни малейшего представления о том, что в нем содержится. В нем не могло быть шерстяной материи, а то он был бы похож на другие ящики. Не могло в нем быть и полотна — последнее меня даже утешало.
Чтобы узнать, что это такое, я просунул клинок в щели крепкой сосновой доски. Там было что-то вроде бумаги. Но это была только упаковка, потому что дальше клинок наткнулся на нечто твердое и гладкое, как мрамор. Нажав посильнее, я почувствовал, что это, однако, не камень, а дерево, но очень твердое и к тому же с хорошо отполированной поверхностью. Я ударил ножом, и в ответ послышалось странное эхо, какой-то долгий звенящий звук, но я так и не мог понять, в чем тут дело. Оставалось только взломать ящик, и тогда я, может быть, получше ознакомлюсь с его содержимым.
Я поступил так же, как раньше: выбрал одну из стенок большого ящика и стал резать ее ножом посередине. Она оказалась шириной дюймов в двенадцать, и работа заняла много часов. Нож мой сильно затупился, и работать стало труднее.
Наконец я справился и с этой доской. Отложив нож, я принялся отгибать отрезанный конец. Пространство между двумя ящиками позволило расшатать доску настолько, что гвозди на ее концах вылетели и сама доска под конец упала вниз.
Так же я поступил и со второй ее половиной. Теперь в большом ящике открылось отверстие, достаточное, чтобы исследовать его содержимое.
По твердой и гладкой поверхности какого-то предмета были разостланы листы бумаги. Я вытащил бумагу, очистил эту поверхность и провел по ней пальцами. Это было дерево, настолько гладко отполированное, что поверхность его казалась стеклянной. На ощупь она походила на поверхность стола из красного дерева. Я бы так и остался при убеждении, что это стол, но, когда я постучал по нему суставами пальцев, снова раздался тот же звенящий гул. Я ударил посильнее — и получил в ответ долгий вибрирующий музыкальный звук, напоминающий эолову арфу. Теперь я понял, что большой предмет — это фортепиано. Я уже был знаком с этим инструментом. Он стоял в углу нашей маленькой гостиной, и моя мать извлекала из него прекрасные звуки. Да, предмет с гладкой поверхностью, загородивший мне дорогу, был не что иное, как фортепиано.
Глава 58
В ОБХОД ФОРТЕПИАНО
Я убедился в этом без особого удовольствия. Без сомнения, фортепиано на пути моего продвижения представляло серьезное препятствие, если не полную преграду. Очевидно, это было большое фортепиано, намного больше того, которое стояло в гостиной в домике моей матери. Фортепиано стояло на боку, а крышка его была обращена ко мне; и по резонансу в ответ на мои удары я сразу определил, что оно сделано из красного дерева толщиной в дюйм, а то и больше. Притом дерево было цельное, так как на всем протяжении я не нашел ни одной щелки, чтобы проделать в нем дыру. Надо было прямо резать его и сверлить.
Даже если бы это была простая ель, мне пришлось бы основательно потрудиться с таким инструментом, какой у меня был в руках, а тут передо мной было красное дерево, очень прочное благодаря полировке и лаку.
Но предположим, что удастся проделать дыру в крышке фортепиано — труд тяжелый и утомительный, но возможный, — что тогда? Придется вынуть все его внутреннее устройство. Я очень мало разбирался в механизме таких инструментов. Я припоминал только множество кусочков из белой и черной слоновой кости и огромное количество крепких металлических струн. И какие-то планки, которые располагались то продольно, то поперечно, да еще педали — трудно будет все это разобрать и вынуть. Кроме того, имеются корпус из твердого красного дерева и стенка ящика на другой стороне, в которой надо проделать отверстие, чтобы вылезть наружу.
Но были и другие трудности. Если даже мне удастся разобрать внутренние части инструмента, вытащить их и сложить позади себя, найдется ли внутри фортепиано достаточно места, чтобы я смог просверлить его противоположную стенку и стенку ящика и дальше проделать себе вход в следующий ящик? Это было сомнительно.
Нет, впрочем, сомнений не было: ясно, что я этого не смогу сделать.
Трудность этого предприятия омрачила меня. Чем больше я о нем думал, тем меньше хотелось мне браться за него.
Наконец, подумав хорошенько, я отбросил эту мысль. Вместо того чтобы идти напролом через стену из красного дерева, я решил пуститься в обход.
Необходимость принять это решение немало меня опечалила — я потерял ведь полдня в работе над ящиком. И все это оказалось напрасным. Но делать было нечего. Не было времени на пустые сожаления. И, как генерал, осаждающий крепость, я решил начать с разведки, чтобы найти лучший путь для «охвата крепости с флангов».
Я был по-прежнему уверен, что надо мной находятся тюки с полотном, и это убеждение отбило у меня всякую охоту к работе в этом направлении. Оставалось выбирать между правой и левой стороной.
Я знал, что прокладка этих путей не даст никаких особенных преимуществ. Она ни на дюйм не приблизит меня к желанной цели. Когда я сделаю следующий шаг, я все равно буду только во «втором ярусе». Это было невесело — новая потеря времени и сил! Но я так боялся ужасного тюка с полотном!
Однако у меня теперь было одно преимущество: взломав боковую стенку ящика с материей, я обнаружил, как вы уже знаете, порядочное расстояние между ним и деревянной упаковкой фортепиано. Теперь я запущу туда руку по самый локоть и прощупаю соседние грузы.
Так я и сделал. С каждой стороны было по ящику. И каждый из них, как я заключил, был похож на тот, в котором я находился, — значит, это были ящики с материей. Отлично! Я так хорошо научился взламывать и опустошать тару этого рода, что считал такую работу пустяком. Я хотел бы, чтобы весь груз в трюме состоял из этого товара, создавшего славу западной Англии.
Размышляя так и ощупывая в то же время края ящиков, я случайно поднял руку, чтобы проверить, насколько тюк с полотном выдается над краем ящика. К моему удивлению, я увидел, что он не выдается вовсе! Я сказал «к моему удивлению», потому что привык, что тюки с полотном были примерно тех же размеров, что и ящики. Этот тюк был несколько сдвинут к стенке трюма и, следовательно, должен был торчать с другой стороны. Но он не торчал — ни на один дюйм. «Значит, — подумал я, — этот тюк меньше, чем другие».
Я решил обследовать тюк более тщательно. С помощью пальцев и лезвия ножа я убедился, что это вовсе не тюк, а деревянный ящичек. Он был покрыт сверху чем-то мягким, вроде войлока, — вот почему я ошибся.
Снова у меня возникла надежда проложить ход прямо вверх, по вертикали. Я быстро удалю войлочную упаковку и потом поступлю с этим ящиком так же, как с другими.
Конечно, я больше не думал о кружных путях с правой или с левой стороны — я сразу переменил планы и решил двигаться прямо вверх.
Не стану описывать, как я пробил себе дорогу в ящик, покрытый войлоком. Я прорезал и сорвал одну из досок на крышке ящика из-под материи. Около меня было свободное место, образованное выгибом борта, и мне было легко действовать клинком среди досок.
Вслед за первой доской последовала вторая, что далось без особого труда. И вот передо мной дно обернутого ящика. Я сорвал войлок и очистил дерево — это была обыкновенная ель.
Я недолго раздумывал.
Поскольку ящик лежал на расстоянии двенадцати дюймов от балок корабля, один из его углов был почти рядом со мной. Проведя рукой по нему, я нащупал шляпки гвоздей. Их было немного, и, казалось, они не слишком плотно заколочены. Я очень обрадовался, заметив, что здесь нет никаких железных скреп. Надо будет, пожалуй, вскрыть одну из досок, действуя ножом как рычагом, и это избавит меня от долгого, утомительного просверливания.
В ту минуту мне это казалось удачей, и я поздравлял себя с успехом. Увы! В действительности это было причиной большого несчастья, которое через пять минут бросило меня в бездну величайшего отчаяния и горя.
В нескольких словах объясню, что произошло.
Я подсунул лезвие ножа под доску. Я не думал взламывать ящик таким образом, я только хотел попробовать, насколько сильно доска будет сопротивляться, чтобы найти подходящий рычаг.
На свою беду, я слишком надавил на стальное лезвие — короткий, сухой звук потряс меня сильнее выстрела… Нож сломался!
Глава 59
СЛОМАННОЕ ЛЕЗВИЕ
Да, лезвие сломалось и застряло между досками. Черенок остался у меня в руке. Я ощупал его большим пальцем — лезвие отломилось до самой пружины, так что в рукоятке осталось не больше десятой части дюйма.
Трудно описать, как огорчило меня это событие. Это было самое тяжкое несчастье: что мне было делать без ножа?!
Я был теперь совершенно беспомощен. Я не мог продолжать прокладку туннеля — я должен забыть о попытке, на которую возлагал столько надежд. Другими словами, я должен был отбросить все планы дальнейшего продвижения и предаться ожидающей меня горестной судьбе.
Еще за минуту до этого я был полон уверенности, что смогу успешно продвигаться вперед, и радовался своим успехам. Неожиданное несчастье уничтожило все и бросило меня опять в мрачную бездну отчаяния.
Я долго колебался, не мог сосредоточиться… Что делать? Я не мог продолжать работу: у меня не было для этого никакого орудия.
Мысли мои блуждали. Я снова и снова водил большим пальцем по рукоятке ножа, нащупывая короткий кусок сломанного лезвия — вернее, только толстой его части, потому что лезвие, в сущности, отсутствовало целиком. Я делал это машинально, словно желая убедиться окончательно в том, что оно сломалось. Несчастье было внезапно — я с трудом мог поверить, что оно действительно произошло. Я был ошеломлен и несколько минут находился в состоянии полной растерянности.
Когда первое потрясение прошло, самообладание постепенно возвратилось ко мне. Убедившись наконец в реальности печального события, я стал соображать, нельзя ли что-нибудь сделать сломанным ножом.
Мне пришли в голову слова одного великого поэта, слышанные еще в школе: «Уж лучше сломанным оружием сражаться, чем голыми руками». Теперь я применил к себе это мудрое изречение. Я решил, что надо обследовать лезвие. Черенок был у меня в руке, но клинок все еще торчал в углу ящика, в том месте, где он сломался.
Я вынул его и провел по нему пальцем. Он был цел, но — увы! — что делать с ним без рукоятки?
Я взял лезвие за толстый конец и попробовал, нельзя ли им резать без рукоятки. Оказалось, что можно, но с большим трудом. Лезвие, к счастью, было хорошее, очень длинное. Кое-что можно еще им сделать, если обернуть толстый конец тряпкой. Но работать им долго нельзя: это будет мучительный и долгий труд!
О том, чтобы вставить лезвие обратно в рукоятку, не могло быть и речи. Сначала я было подумал об этом, но потом понял, что тут есть затруднение, которое мне не преодолеть, — я ведь не мог соединить вновь лезвие с пружиной.
Если удалить пружину, черенок послужил бы еще в качестве рукоятки. Отломившийся конец лезвия можно легко вставить в щель черенка. У меня сколько угодно бечевки, и я мог бы крепко привязать лезвие. Но я не мог вытащить хорошо заклепанный зажим и ничего не мог сделать с пружиной.
Рукоятка теперь была мне нужна не больше, чем любой обыкновенный кусок дерева, — даже меньше, ибо как раз тут-то мне пришло в голову, что простой кусок дерева может быть полезнее. Если я найду подходящий кусок, то смогу сделать рукоятку для лезвия и резать ящики этим самодельным ножом.
Нужда подогнала мою изобретательность. Я быстро осуществил свое намерение и через час или около того держал в руке нож с новой рукояткой. Она была немного грубовата, но годилась для моей цели не хуже старой. И я снова успокоился и повеселел.
Я сделал новый черенок следующим образом: раздобыв отрезок толстой доски, я сначала обстрогал его и придал ему нужный размер и форму. Мне удалось сделать это лезвием: оно подходило для такой легкой работы, хотя и было лишено рукоятки. Потом я ухитрился расщепить дерево на глубину в два дюйма и вставил в трещину сломанный конец лезвия. Следующей моей мыслью было обмотать трещину веревкой, но я сообразил, что из этого ничего не выйдет. При работе лезвием веревка ослабнет и развяжется. К тому же, когда я начну водить ножом то в одну, то в другую сторону, бечевка расшатает и самое лезвие. Оно выпадет, может быть, завалится между ящиками, и я его потеряю. Такое происшествие могло бы оказаться роковым для всех моих планов. Нет, рисковать нельзя.
Что бы такое найти, чтобы укрепить клинок в расщелине более прочно? Если бы у меня был один или два ярда проволоки? Но проволоки нигде не было… Как нигде? А фортепиано! Струны! Ведь они-то из проволоки!
Сумей я влезть в фортепиано, я бы немедленно похитил у него одну из струн. Но как до них добраться? Об этом затруднении я не подумал заранее и теперь не знал, как быть. Конечно, с таким ножом, какой был сейчас у меня в руках, проложить себе дорогу через фортепиано невозможно, и мне пришлось оставить эту идею.
Но я тут же вспомнил о другом — о железных скрепах от ящиков. А их у меня было сколько угодно. Вот самая подходящая вещь! Они пригодятся не хуже, чем проволока. Эти гибкие, тонкие полоски, обернутые вокруг черенка и тыльной части лезвия, превосходно будут держать его на месте и не позволят ему болтаться. Поверх всего я намотаю еще и веревку. Она не даст полоскам разойтись, и у меня будет настоящая рукоятка.
Сказано — сделано. Я поискал и нашел скрепу, тщательно обернул ее вокруг черенка и лезвия — и, затянув все это веревкой, получил нож. Конечно, клинок стал короче, но все-таки он был достаточно длинен и мог прорезать самую толстую доску, какая встретится на моем пути. Я совершенно успокоился.
В этот день я работал по крайней мере часов двадцать. Я был в совершенном изнеможении — мне уже давно следовало отдохнуть. Но после того как сломался нож, я не мог думать об отдыхе. Было бы бессмысленно пытаться заснуть: мое горе все равно бы этого не позволило.
Новый нож, однако, помог мне восстановить прежнюю уверенность в будущем, и я больше не мог сопротивляться сильному желанию отдохнуть. Я очень нуждался в этом и духом и телом.
Вряд ли нужно прибавлять, что голод заставил меня снова обратиться к моему жалкому пищевому складу. Вам покажется странным — да мне и самому теперь так кажется, — что я не испытывал никакого отвращения к такой пище. Наоборот, я съел свой «крысиный ужин» с таким же удовольствием, с каким теперь ем самое утонченное блюдо!
Глава 60
ТРЕУГОЛЬНАЯ КАМЕРА
Я провел ночь, или, вернее сказать, часы отдыха, в своем старом помещении — за бочкой с водой.
Я больше уже не знал, да и не интересовался, когда день и когда ночь. В этот раз я хорошо выспался и проснулся освеженным и окрепшим. Без всякого сомнения, тут мне помогла и новая пища. Как ни отвратительна была она, все же она была полезна для голодного желудка.
Я позавтракал сразу же, как только проснулся. После завтрака я отправился в свою «галерею» и влез в пустой ящик, где провел накануне почти целые сутки.
Забравшись туда, я не без сожаления подумал, как мало мне удалось сделать за двадцать часов! Но меня поддерживала надежда, тайная мысль, что на этот раз мне больше повезет.
Я намеревался продолжать работу, которая была прервана поломкой ножа. Я уже давно заметил, что доски прибиты не очень крепко. Их можно было выломать каким-нибудь подходящим орудием, пожалуй даже палкой.
Теперь я ни за что больше не стал бы употреблять для этого нож. Больше чем когда бы то ни было я оценил сейчас это драгоценное оружие. Я прекрасно понимал, что моя жизнь зависит от его сохранности.
«Ах, если бы у меня был кусок крепкого дерева!» — думал я. Я вспомнил, что, вышибая дно у бочонка с бренди, я выбил доски довольно больших размеров. Может быть, они пригодятся?
С этой мыслью я поспешил туда, где они лежали. Сбросив несколько кусков материи, я нашел то, что искал. Порывшись, я выбрал дощечку, подходящую для моей цели. Затем я вернулся к ящику и изготовил подобие маленького лома. Действуя ножом, я придал дощечке форму клина. Клин я потом засунул под доску и загнал как можно глубже куском доски.
Когда клин зашел достаточно глубоко, я ухватился за свободный конец и, нажимая на него, вскоре с удовлетворением услышал, как с треском вылетают гвозди. Тут я стал действовать просто пальцами, и доска со скрежетом выпала из дна ящика.
Соседнюю доску я сорвал уже легче. Теперь образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы извлечь из ящика любое содержимое.
Там были продолговатые пакеты, формой напоминавшие штуки сукна или полотна, но гораздо более легкие и упругие. Да и достать их было проще, потому что не надо было срывать с них обертку.
Они не вызывали во мне большого любопытства: я уже сразу мог сказать, что тут нет ничего съестного. Может статься, я не узнал бы о них ничего и до сего дня, если бы обертка одного из пакетов не прорвалась случайно. Я нащупал какой-то мягкий, гладкий, скользкий материал и понял, что у меня в руках превосходный бархат.
Я быстро вынул содержимое ящика и бережно сложил пакеты позади себя. Затем я поднялся в пустой ящик. Еще одним ярусом ближе к свободе!
Этот большой шаг вперед не занял и двух часов. Такой успех был прекрасным предзнаменованием. День хорошо начался. Я решил не терять ни минуты времени, раз уж судьба ко мне так благосклонна.
Я спустился вниз, напился вволю воды, вернулся в бывшее вместилище бархата и снова занялся разведкой. Так же как и предыдущий, этот ящик упирался концом в фортепиано, который легко было вышибить. Я не стал медлить, вытянул ноги и принялся выбивать свою обычную дробь каблуками.
На этот раз дело пошло не так скоро. У меня не было достаточного простора, потому что ящик с бархатом был меньше, чем ящик с материей, но наконец я добился своего: обе концевые доски вылетели и провалились в промежутки между грузами.
Я встал на колени и предпринял новую разведку. Я ожидал, или, вернее, боялся, что крышка от ящика с фортепиано занимает сплошной стеной всю открытую мной поверхность. Действительно, огромный ящик был тут как тут — я тотчас нащупал его рукой. Но я едва удержался от радостного восклицания, поняв, что он занимает всего половину пространства напротив отверстия и что рядом имеется обширное пустое место — его хватило бы еще для одного ящика с бархатом!
Это был приятный сюрприз, и я сразу оценил свою неожиданную удачу. Порядочный кусок туннеля был уже готов и открыт для меня.
Я выставил руку, поднял ее — новая радость: пустота распространяется вверх на десять — двенадцать дюймов, до самой верхушки ящика с фортепиано! То же самое внизу, у моих колен. Там образовался острый угол, ибо, как я уже отмечал, эта маленькая камера была не четырехугольная, а треугольная с вершиной, обращенной вниз. Это объяснялось формой старинного фортепиано, напоминавшей большой параллелепипед, у которого один угол был как бы спилен. Фортепиано стояло боком, на более широкой своей стороне, и как раз здесь и находилось то место, которое должен был занимать этот отсутствующий угол.
По всей видимости, треугольная форма этой выемки сделала ее неудобной для грузов, потому ее и не заполнили.
«Тем лучше», — подумал я и высунул руки во всю длину, с целью произвести более тщательное исследование.
Глава 61
ЯЩИК С МОДНЫМИ ТОВАРАМИ
Это заняло немного времени. Я очень скоро заметил, что с другой стороны пустой камеры стоит объемистый ящик и такой же ящик заграждает ее справа. Слева же идет по диагонали край ящика с фортепиано, в ширину около двадцати дюймов, или двух футов.
Но я очень мало беспокоился насчет правой, левой или задней стороны. Я больше всего интересовался потолком маленькой камеры, ибо намеревался, если удастся, продолжать свой туннель именно вверх.
Я понимал, что сильно продвинулся в горизонтальном направлении, потому что главное для меня преимущество этой пустой камеры заключалось в том, что она дала мне возможность продвинуться по горизонтали на всю толщину фортепиано — около двух футов, — не считая того, что я продвинулся еще и вверх. Я не желал идти ни вперед, ни направо, ни налево, разве что какое-нибудь препятствие встанет на моем пути. «Все выше!» — вот было главной моей мыслью. «Эксцельсиор!» Еще два или три яруса, а может быть, и меньше, — и, если не возникнет препятствий, я буду свободен! Сердце мое радостно билось, когда я думал об этом.
Не без волнения протянул я руку к потолку пустой камеры. Пальцы мои задрожали, когда наткнулись на хорошо знакомый мне холст. Я непроизвольно отдернул руку.
Боже мой! Опять этот проклятый материал — тюк с полотном!
Однако я не был в этом вполне убежден. Я вспомнил, что раз уже ошибся таким образом. Надо еще раз проверить.
Я сжал кулак и сильно постучал по нижней части тюка. О, мне ответил очень приятный звук! Нет, это не тюк с полотном, а ящик, завернутый, как и многие другие, в несколько слоев грубого, дешевого холста. Это и не сукно, потому что ящики с сукном отвечали на стук глухо, а этот давал гулкий отзвук, словно был пустой.
Странно… Он не мог быть пустым, иначе зачем он здесь? А если он не пустой, то что в нем?
Я стал молотить по нему черенком ножа — опять тот же гулкий звук!
«Ну что ж, — подумал я, — если он пустой, то тем лучше, а если нет, то в нем что-то легкое, от чего просто будет избавиться. Отлично!»
Рассудив так, я решил не тратить больше времени на догадки, но ознакомиться с содержимым нового ящика, проложив в него дорогу. Я мгновенно сорвал холст, прикрывавший дно.
Я почувствовал, что мне неудобно стоять. Треугольное пространство резко суживалось книзу, и мне трудно было держаться на ногах. Но я вышел из затруднения, наполнив острый угол кусками сукна и бархата, которые были у меня под рукой. Тогда стало легче работать.
Не стоит подробно описывать способ, которым я вскрывал ящик. Я сделал это как обычно. Один раз пришлось разрезать доску — и новый нож вел себя прекрасно. Я вынул разрезанные доски.
Я был весьма удивлен, когда проник в ящик и ознакомился с его содержимым. Некоторое время я не мог понять на ощупь, что это за вещи, но, когда отделил один предмет от других и провел по нему пальцами, я наконец понял — это были шляпы!
Да, дамские шляпы — отделанные кружевами и украшенные перьями, цветами и лентами.
Если бы я знал тогда, как одеваются жители Перу, я удивился бы еще больше, найдя такой странный товар среди груза. Разве можно увидеть шляпу на прекрасной голове перуанской дамы! Но я об этом ничего не знал и просто удивился тому обстоятельству, что такой предмет входит в груз большого корабля.
Впоследствии, однако, мне объяснили, в чем дело: в южноамериканских городах живут англичанки и француженки — жены и сестры английских и французских купцов и официальных представителей, которые находятся там постоянно. И, несмотря на огромное расстояние, отделяющее их от родины, они упорно стараются следовать модам Лондона и Парижа, хотя над этими нелепыми головными уборами смеются их прекрасные сестры из Испанской Америки.
Вот для кого, следовательно, предназначалась коробка со шляпами.
Мне очень жаль, но я должен признаться, что на этот сезон их ожидания оказались обманутыми. Шляпы не дошли до них, а если и дошли, то в таком состоянии, что не способны были украсить кого бы то ни было. Рука моя была немилосердна, добираясь до ящика, — я мял и кромсал их, пока все шляпы не были затиснуты в угол и спрессованы так плотно, что заняли десятую часть того пространства, которое занимали раньше.
Не сомневаюсь, что множество проклятий сыпалось впоследствии на мою несчастную голову. Единственное, что я мог возразить, — это сказать правду. Дело шло о жизни и смерти — я не мог заботиться о шляпах. Вряд ли это могло послужить оправданием в тех домах, где ожидали прибытия этих шляп. Впрочем, об этом я никогда ничего не узнал. Я только могу прибавить, что впоследствии, много позже, чтобы успокоить собственную совесть, я возместил убыток заокеанскому торговцу модными товарами.
Глава 62
ЧУТЬ НЕ ЗАДОХНУЛСЯ
Покончив со шляпами, я немедленно вскарабкался в пустой ящик. Надо было, по возможности, снять всю крышку или хотя бы часть ее. Сначала я попытался выяснить, что находится наверху, и для этого избрал тот же план действий, которому следовал и раньше, — просунул лезвие ножа в щель. К сожалению, лезвие было теперь короче и не так уже годилось для этой цели, но все-таки его длины хватало для того, чтобы просунуть его через дюймовую доску, да еще на два дюйма дальше и определить, мягкое или жесткое препятствие заграждает мне путь.
Итак, находясь внутри ящика из-под шляп, я просунул лезвие через крышку. Груз, который лежал надо мной, состоял из чего-то мягкого и поддающегося клинку. Помню, что там была холщовая оболочка, и, погружая в нее нож по самую рукоятку, я не встретил ничего похожего на дерево, ничего напоминающего доски ящика.
Но я также знал, что это не полотно, потому что лезвие проникало туда, как в масло, а этого не случилось бы, если бы там был тюк с полотном. Раз так, я успокоился. Остальное меня не смущало.
Я пробовал в нескольких местах — по всей крышке, — и везде лезвие погружалось до самого черенка почти без всякого усилия с моей стороны. Груз состоял из чего-то нового, чего я до сих пор не встречал и о чем не догадывался.
Этот груз, как мне казалось, не станет серьезным препятствием на пути моего продвижения.
В прекрасном настроении я взялся за работу и принялся выдергивать доску из крышки, на которой этот груз лежал.
Снова пришлось заняться скучной и долгой работой — резать доску ножом. Эта работа занимала у меня больше времени и требовала больше сил, чем все остальное, вместе взятое. Но она была абсолютно необходима, так как у меня не было другого способа проложить туннель вверх через ящики. На каждый из них давил своим весом следующий верхний груз, и выломать доски, прижатые сверху тяжестью, было невозможно. Я мог удалить их, только разрезав поперек.
Крышку ящика из-под шляп мне удалось вскрыть без особого труда. Она была из тонких еловых досок, и за половину или три четверти часа я разделил надвое среднюю доску из трех, ибо крышка состояла из трех досок. Разрезанные куски я легко отогнул вниз и вынул их.
Я оторвал кусок холщовой оболочки, и рука моя достигла неизвестного груза, который покоился на ящике. Я сразу узнал, что это такое. Еще в дядином амбаре я научился узнавать на ощупь мешки. Да, это был мешок.
Он был чем-то наполнен, но чем? Пшеницей, ячменем, овсом? Нет, зерна там не было — там было что-то более мягкое и нежное. Неужели мешок с мукой?
Скоро я убедился в этом. Клинок мой вошел в мешок и проделал дыру величиной с кулак. Мне даже не пришлось всовывать руку в мешок, потому что прямо на мою ладонь досыпался сверху мягкий порошок и заполнил всю мгновенно. Сжав пальцы, я набрал целую пригоршню муки. Я поднес руку ко рту и убедился окончательно, что это так: передо мной был мешок с мукой.
Это было поистине радостное открытие. Пища, которой хватит на несколько месяцев! Теперь я не умру с голоду, и больше мне не надо будет есть крыс. Нет! С мукой и водой я буду жить, как принц. Что в том, что она сырая? Зато она вкусна, питательна, полезна для здоровья.
«Слава Богу! Теперь я спасен!»
Вот какие слова вырвались у меня, когда я полностью оценил все значение моего открытия.
Я работал уже много часов и нуждался в отдыхе. Кроме того, я был голоден и не мог удержаться от соблазна наесться вдоволь нового блюда. Наполнив карманы мукой, я вернулся в старое логовище за бочкой с водой. Предварительно я на всякий случай заткнул холстом дыру, проделанную мной в мешке, и только тогда стал спускаться вниз. Я швырнул свой мешок с крысами в первый попавшийся угол, надеясь, что больше не придется иметь с ними дело. Замешав порядочное количество муки водой, я съел тесто с таким наслаждением, как будто это был лучший из английских пудингов.
Несколько часов крепкого сна освежили меня. Проснувшись, я снова поел теста и стал подниматься в мою сильно продвинувшуюся вверх галерею.
Пробираясь через второй ярус, я с удивлением заметил что-то мягкое, похожее на порошок или пыль, покрывавшее все горизонтально положенные доски. В пустой камере около фортепиано вся нижняя часть этого пространства была заполнена той же пылью, и, вступив туда, я погрузился в нее до лодыжек. Я заметил, что на голову и плечи мне падает настоящий ливень из пыли. Когда я беспечно поднял лицо кверху, этот ливень обрушился в рот и в глаза, и я начал немилосердно чихать и кашлять.
Я испугался, что задохнусь, и первым моим движением было обратиться в бегство и спрятаться за бочкой с водой. Но незачем было уходить так далеко, достаточно было отступить к ящику из-под галет. Я недолго раздумывал над объяснением этого странного явления. Это не пыль, а мука! Корабль качнулся, холщовая затычка выпала из мешка, и мука стала высыпаться в дыру.
Мысль о том, что я останусь без муки, заставила меня похолодеть. Значит, я вынужден буду снова питаться крысами! Надо немедленно заделать дыру в мешке, чтобы сохранить хоть часть муки.
Несмотря на боязнь задохнуться, я понимал, что необходимо действовать, и, закрыв глаза и рот, ринулся к пустому ящику из-под шляп.
Повсюду в ящике лежала мука, но она больше не сыпалась. Она перестала высыпаться из мешка по самой простой причине: она вся уже высыпалась. Мешок опустел!
Я счел бы это происшествие великим для себя бедствием, если бы не обнаружил, что мука не целиком потеряна. Порядочная доля просыпалась, конечно, в щели и попала на дно трюма, но большое количество — достаточное для моих нужд — осталось на кусках материи, которые я заложил на дно треугольной камеры, да и в других местах, куда я мог проникнуть, когда мне заблагорассудится.
Впрочем, это оказалось несущественным, потому что в следующий момент я сделал открытие, которое окончательно вытеснило у меня из головы все мысли о муке и вообще о пище, о воде и всем прочем.
Я протянул руку, чтобы убедиться в том, что мешок пуст. Как будто так. Почему же не вытащить его через отверстие и убрать с дороги? Почему бы нет? Я выхватил мешок и бросил его вниз.
Потом я высунул голову из ящика в том месте, где раньше был мешок. Боже праведный! Что я вижу? Свет! Свет! Свет!
Глава 63
СВЕТ И ЖИЗНЬ
Да, глаза мои любовались светом, исходившим с неба, и сердце мое наполнилось ликованием. Не могу описать свое счастье. От страха не осталось и следа. Исчезли малейшие опасения. Я спасен!
Это была всего лишь небольшая полоска света — просто лучик. И он пробивался через щель между двумя досками. Он проходил надо мной, но не вертикально, а скорее по диагонали, примерно в восьми или десяти футах от меня.
Я знал, что свет не мог проникнуть через палубу: между досками корабельной палубы не бывает щелей. Свет шел от люка — должно быть, отогнулся покрывающий крышку люка брезент.
Никогда я не видел ничего радостнее этого тоненького лучика, сиявшего надо мной подобно метеору! Ни одна звезда на синем небе не казалась мне прежде такой блестящей и красивой! Этот свет был похож на глаз доброго ангела, который улыбался мне и приветствовал мое возвращение к жизни.
Я недолго оставался внутри ящика из-под шляп. Я знал, что работа моя приходит к концу, что мои надежды близки к осуществлению, и у меня не было ни малейшего желания откладывать свое освобождение. Чем ближе была цель, тем с большим нетерпением я к ней стремился. Поэтому без промедления я стал расширять отверстие в крышке ящика.
Свет, который я видел, убедил меня в очень важной истине — в том, что я нахожусь на верху груза. Раз я вижу луч, идущий по диагонали, следовательно, между мной и ним ничего нет и, значит, здесь пустое пространство. Такая пустота могла существовать только над грузом.
Вскоре я в этом убедился. Чтобы проделать отверстие, достаточно широкое для моего тела, хватило и двадцати минут. И, едва закончив эту работу, я скользнул в дыру, и, изогнувшись, вылез на верхушку ящика.
Я поднял руки над головой, развел их в стороны. Позади себя я нащупал ящики, тюки и мешки, которые громоздились еще выше, но впереди был только воздух.
Несколько минут я сидел, свесив ноги, на крышке ящика, в том месте, где вылез наружу. Я не рискнул даже сделать шаг, чтобы не упасть в пустоту. Я глядел на прекрасный луч, похожий на огонь маяка. Теперь он сиял еще ближе.
Постепенно глаза мои привыкли к свету. И хотя расщелина пропускала всего несколько слабых полосок света, я начал различать ближайшие предметы. Я заметил, что пустота вокруг меня не простиралась далеко. Я находился на дне небольшой выемки в виде неправильной дуги. Это было что-то вроде амфитеатра, окруженного со всех сторон громадными ящиками с товарами.
В сущности, это было пространство, оставшееся под люком после погрузки. Кругом стояли пустые бочки, лежали мешки, в которых, вероятно, находились продукты — очевидно, провизия для команды, — расположенные так, чтобы их легко было доставать по мере надобности.
Мой туннель кончился на одной из сторон этого углубления, и я несомненно находился под крышкой люка.
Оставалось только сделать один — два шага, постучать в доски над головой и позвать команду на помощь.
И хотя достаточно было одного удара или крика, чтобы освободиться из темноты, прошло много времени, прежде чем я решился постучать или крикнуть.
Пожалуй, не стоит объяснять вам причину моей нерешительности и колебаний. Подумайте только о том, что оставалось позади меня, — о том ущербе и разрушениях, которые я причинил грузу, об убытках, может быть, на сотни фунтов! Подумайте о том, что у меня не было никакой возможности вернуть или заплатить хотя бы малейшую часть стоимости этих товаров, — подумайте обо всем этом, и вы поймете, почему я так долго сидел на ящике из-под шляп.
Меня сковал страх. Я боялся развязки этой драмы во мраке — неудивительно, что я не торопился довести ее до конца.
Что скажу я суровому, возмущенному капитану? Как перенесу яростный гнев свирепого помощника? Как выдержу их взгляды, слова, упреки, может быть, даже побои?.. А вдруг они выбросят меня в море?
Холод ужаса пробежал у меня по жилам, когда я подумал о возможности такого исхода. Состояние духа моего резко изменилось. За минуту перед тем мерцающий луч света наполнял мою душу радостью, а теперь я сидел и глядел на него, и сердце у меня сжималось от страха и смятения.
Глава 64
ИЗУМЛЕНИЕ КОМАНДЫ
Я стал думать, как бы возместить убытки, но мои размышления были и глупы и горьки. У меня ничего не было — разве только старые часы. Ха-ха-ха! Их вряд ли хватит даже на то, чтобы оплатить ящик с галетами!
Впрочем, нет! У меня была еще одна вещь, и ее я сохранил до сих пор. Она была для меня гораздо дороже, чем часы, даже чем тысяча часов. Но эта вещь, так высоко мной ценимая, не стоила и шести пенсов. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Конечно, догадываетесь, и вы правы: я говорю о моем дорогом ноже!
Дядюшка, конечно, ничего для меня не сделает. Он позволял мне жить в своем доме только по необходимости, а не из чувства ответственности за ребенка. Он ни в коей мере не обязан расплачиваться за причиненные мной убытки, да я и сам ни на минуту не допускал такой мысли.
У меня была маленькая надежда, одно соображение, которое казалось мне сравнительно разумным: я предложу капитану свои услуги на долгий срок. Я стану работать у него юнгой, вестовым, слугой — чем угодно! — лишь бы отработать свой долг.
Если он меня примет (а что ему еще делать со мной, разве действительно швырнуть за борт!), тогда все уладится. Эта мысль меня ободрила. Как только я увижу капитана, сейчас же предложу ему свои услуги.
В этот момент надо мной раздался громкий топот. Похоже было, что множество людей тяжело расхаживают взад и вперед по палубе. Звуки доносились с обеих сторон люка и кругом по всей палубе.
Потом я услышал голоса — человеческие голоса! Как приятно было их слышать!.. Сначала я слышал только возгласы и отдельные слова, затем все смешалось в нестройный хор. Голоса были грубые, но какой прекрасной, музыкальной казалась мне рабочая, матросская песня!
Она наполнила меня уверенностью и смелостью. Я больше не мог терпеть свое заточение! Как только песня кончилась, я прыгнул к люку и деревянной рукояткой ножа начал громко стучать в доски над головой.
Я прислушался — мой стук услышали. Наверху шел какой-то разговор, я различал удивленные восклицания. Но хотя разговор не умолкал и к нему присоединялись все новые голоса, никто не пытался открыть люк.
Я постучал громче, начал кричать, но голос мой был тонок и слаб, как голос младенца. И я сомневался, услышат ли его наверху.
Снова раздался хор удивленных восклицаний. Голосов было много, и я решил, что вся команда собралась вокруг люка.
Я постучал в третий раз для верности и замер в беспокойном и молчаливом ожидании.
Я услышал, как что-то зашуршало над люком, — снимали брезент. И как только его сняли, свет брызнул в расщелины между досками.
В следующий момент надо мной внезапно открылось небо: поток света ударил мне в лицо и почти ослепил меня. Больше того, этот поток света вызвал у меня слабость, и я свалился назад, на ящики. Я не сразу потерял сознание, но постепенно впал в обморочное состояние, испытывая какое-то странное чувство ошеломления.
Когда люк открылся, я заметил вокруг него грубые лица — человеческие головы, склонившиеся над отверстием. Они разом отшатнулись с выражением величайшего ужаса. Я услышал восклицания, в которых чувствовался тот же ужас. Но тут звуки постепенно замерли в моих ушах, свет погас… и я окончательно потерял сознание, словно умер.
Конечно, это был только обморок. Я не слышал и не чувствовал, что происходит вокруг меня. Я не видел, как эти грубые лица снова появились над краем люка и осмотрели меня с тревогой. Я не видел, как один из них, набравшись храбрости, полез вниз и спустился на груз, за ним — другой, третий… и все они склонились надо мной. И тут снова последовал взрыв восклицаний, посыпались догадки. Я не слышал, как они бережно брали меня на руки, щупали пульс и прикладывали свои грубые ручищи к моему сердцу, проверяя, есть ли еще в нем биение жизни. Не слышал я, как рослый матрос взял меня на руки и прижал к себе, а потом, когда принесли и спустили в люк короткую лесенку, вынес из трюма и осторожно положил на шканцы. Я ничего не слышал, не видел, не чувствовал, пока холодная вода, которой плеснули мне в лицо, не пробудила меня от забытья и не вернула к жизни.
Глава 65
РАЗВЯЗКА
Когда я пришел в себя, то увидел, что лежу на палубе. Вокруг меня собралась толпа — куда ни кину взгляд, везде человеческие лица. Лица были грубые, но я не видел на них никакой неприязни. Наоборот, на меня смотрели с жалостью, и я слышал сочувственные замечания.
Это были матросы — вокруг меня стояла вся команда. Один из них, наклонясь надо мной, вливал мне в рот воду и клал на лоб мокрую тряпку. Я узнал его с первого взгляда. Это был Уотерс — тот самый, который высадил меня на берег и подарил мне драгоценный нож. Он и не догадывался в то время, какую службу сослужит мне его подарок.
— Уотерс, — сказал я, — вы меня помните?..
В ответ на мои слова он издал несколько характерных матросских восклицаний.
— Лопни мои шпангоуты! — услышал я. — Лопни мои шпангоуты, если это не тот сморчок, который все приставал к нам в порту!
— Который набивался с нами в море! — вскричали другие.
— Тот самый, убей меня Бог!
— Да, — ответил я, — тот самый и есть.
Новый взрыв восклицаний. И вдруг наступила тишина.
— Где капитан?.. — спросил я. — Уотерс, отведите меня к капитану!
— Капитан тебе нужен? Да вот он, паренек, — добродушно ответил дюжий матрос, раздвигая руками толпу, которая меня окружала.
Я посмотрел туда и увидел того хорошо одетого человека, в котором с самого начала узнал капитана. Он стоял в нескольких шагах от меня, у двери в каюту. Я поглядел на его лицо. Выражение лица было суровое, но я не испугался. Мне казалось, что взгляд его смягчился.
Я колебался некоторое время, но потом, собрав всю свою энергию, поднялся на ноги, шатаясь бросился вперед и опустился перед ним на колени.
— О сэр! — воскликнул я. — Мне нет прощения!
Не помню точно, как я выразился. Но это было все, что я мог сказать.
Я больше не глядел ему в лицо. Я смотрел на палубу и ждал ответа.
— Встань, паренек, и пойдем! — сказал он мягко. — Встань, и пойдем в каюту!
Его рука легла на мою. Он поднял меня и увел. Сам капитан шел рядом со мной и поддерживал меня, потому что я шатался! Было непохоже, что он собирается бросить меня на съедение акулам. Смел ли я надеяться, что все кончится так благополучно?
В каюте я заметил свое отражение в зеркале. Я не узнал себя. Я был весь белый, словно меня вымазали известью, — тут я вспомнил про муку. Можно было разобрать только лицо, но и лицо было белое-белое, изнуренное, костлявое, как у скелета. Страдания и голодовка совершенно истощили меня.
Капитан усадил меня на кушетку, позвал слугу и приказал принести стакан портвейна. Он не проронил ни слова, пока я пил, а затем, устремив на меня взгляд, в котором не было ни тени суровости, сказал:
— Ну, паренек, теперь расскажи мне обо всем!
Это была длинная история, но я рассказал все с начала до конца. Я ничего не утаил: ни повода, по которому я убежал из дому, ни одной подробности об ущербе, который я причинил грузу. Впрочем, он уже знал об этом, потому что половина команды успела побывать в моем логовище за бочкой с водой и во всем удостоверилась сама.
Описав все самым тщательным образом, я изложил ему свое предложение и с тревогой в сердце стал ждать ответа. Но мое беспокойство скоро исчезло.
— Храбрый парень! — воскликнул он, вставая и направляясь к двери. — Ты хочешь быть матросом? Ты заслуживаешь этой чести. И в память о твоем благородном отце, которого я знал, ты будешь матросом!.. Эй, Уотерс, — продолжал он, обращаясь к рослому морскому волку, который ожидал снаружи, — возьми этого паренька и приодень его как полагается! Как только он окрепнет, научи его обращаться со снастью!
И Уотерс научил меня обращаться со снастями — я изучил каждую из них наилучшим образом. Несколько лет подряд он был моим сотоварищем под командой доброго капитана, пока я не перестал быть просто «морским волчонком» и не был внесен в списки матросов «Инки» как «матрос первой статьи».
Но я не остановился на этом. «Эксцельсиор!» — вот что стало моим девизом.
С помощью великодушного капитана я стал впоследствии третьим помощником, затем вторым, потом первым и наконец капитаном!
Со временем я поднялся еще выше и сделался капитаном собственного судна. Это было величайшей целью моей жизни. Теперь я мог уходить в море и возвращаться, когда мне заблагорассудится, бороздить необъятный океан в любых направлениях и плыть в любую часть света.
Одним из моих первых и самых удачных рейсов — уже на собственном корабле — был рейс в Перу. Помню, что я взял с собой ящик со шляпами для английских и французских дам, живущих в Кальяо и Лиме. На этот раз шляпы дошли в целости, но не думаю, что они понравились прекрасным креолкам, которых они должны были пленить.
За продавленные шляпы давно было выплачено, так же как и за пролитый бренди и весь ущерб, причиненный сукну и бархату. В сущности, сумма была не так уж велика. И владельцы, оказавшиеся великодушными людьми, приняв во внимание обстоятельства, проявили снисходительность в переговорах с капитаном, а он, в свою очередь, постарался облегчить мне условия платежа. За несколько лет я выплатил все, или, как мы, моряки, говорим, «обрасопил реи»[169].
А теперь, мои юные друзья, мне остается добавить, что, проходив по морям долгие годы и скопив при помощи искусных торговых операций и разумной бережливости достаточные средства, чтобы обеспечить остаток своих дней, я начал уставать от океанских валов и штормов, и меня потянуло к спокойной жизни на суше. С каждым годом тяга эта все усиливалась, так что я больше не смог сопротивляться и решил уступить ей и бросить якорь где-нибудь у берега.
С этой целью я продал свой корабль и корабельные запасы и вернулся в прелестный поселок, где, как вы знаете, я родился и где намереваюсь умереть.
А теперь прощайте! Мой рассказ окончен.
ОХОТА НА ЛЕВИАФАНА (роман)
Жизнь капитана Мэси полна экзотики и головокружительных приключений. Старый вояка и гарпунер вспоминает о своей молодости, когда он согласился на предложение капитана Дринкуотера и отправился в погоню за огромным плоскоголовым морским чудовищем.
Чувствуя непреодолимую тягу к путешествиям, молодой Вилли убегает из дому и решает стать матросом. Из-за отсутствия опыта юный романтик попадает на борт корабля «Пандора» и с ужасом понимает, что ни о каком морском братстве не может быть и речи. На судне царят волчьи законы.
Глава 1
В ПОИСКАХ ФЛАМИНГО. BLUBBER — HUNTER
Для меня нет в мире более интересного уголка, чем Луизиана, где я впервые ступил на американскую землю. Я покинул школу со страстной любовью к природе и здесь мог упиваться дикими ее картинами во всей их первозданной свежести.
В этом отношении Луизиана не оставляет желать ничего лучшего. Ее неизмеримая территория, более обширная, чем Англия, представляет собою причудливую поверхность, покрытую то непроходимыми лесами и прериями, то болотами. Растительность здесь роскошная, обильная, почти тропическая. Можно насчитать более ста видов туземных пород деревьев, среди них магнолия, напоминающая собою лавр, с листьями, словно лакированными, с цветком широким, как тарелка, веерообразные пальмы, мрачные кипарисы, будто задрапированные серебряной тканью.
Все это, и многое еще сверх этого, столь же новое для меня, подстегнули мою любознательность и усилили и без того сильное увлечение разнообразием природы. Мой интерес был подстегнут тем более, что я только что совершил скучный шестинедельный переход по морю. Дело происходило в ту эпоху, когда черные султаны пароходов еще не отражались в голубых водах Мексиканского залива.
Если растительное царство Луизианы доставило мне истинное наслаждение, что сказать о царстве животном? Бесчисленные стада оленей бродили по саванне, в лесах раздавалось рычание пумы, безраздельно властвующей над более мелкой дичью — волками, рысями, лисицами, хорьками, енотами.
Единоличным тираном рек, заливов, лагун был чудовищный аллигатор, прожорливость которого являлась роковой для всего живого, что имело несчастье оказаться вблизи его пасти или ужасного хвоста. Обширные воздушные пространства и поверхности вод были населены крупными птицами с блестящим опереньем, такими, как белоснежная цапля чепура, луизианский журавль, голубая цапля или самая яркая среди них — одетая в багрец фламинго. Высоко в небе величественно парили ястребы и другие хищники соколиной породы, например, коршун с раздвоенным хвостом или белоголовый орел.
Для меня, страстного охотника, Луизиана с этим изобилием дичи казалась землей обетованной. Едва высадившись, я пустился в странствия, чтобы исследовать самые дикие уголки ее болот и лесов. В продолжение более полугода я бродил в окрестностях Нового Орлеана, чаще всего пешком, реже верхом, иногда в челноке плавал вдоль заливов.
Но все же я не был удовлетворен: ни в одну из моих охотничьих поездок мне не удалось встретить дичь, которую я всего больше хотел бы положить в свой ягдташ, — фламинго. Я забыл сказать, что стаи фламинго населяют большие болота в устье Миссисипи, на всем протяжении берега, когда они высиживают яйца.
Я сгорал от нетерпения увидеть это редкое зрелище. Но напрасно обращался я ко всем проводникам, ко всем местным судовщикам — ни один из них не мог точно указать, где гнездятся фламинго. Я уже почти отказался от мечты присоединить чучело фламинго к другим моим охотничьим трофеям, когда случай пришел мне на помощь. Я нашел то, что искал.
Однажды я познакомился с человеком, который жил, как и я, в знаменитом отеле «Сент-Шарль». В нем не было ничего примечательного, от других смертных его отличала разве что военная форма — форма офицера пограничной охраны. Наш общий друг представил мне его как капитана Мэси, командира таможенного катера «Бдительный», который в это время стоял на якоре в устье Миссисипи, осуществляя наблюдение за соседним берегом.
Как-то раз за обедом во время десерта разговор коснулся охоты, мы заговорили о животных, которые преимущественно встречаются в этой стране, и я признался в давнем моем желании посвятить денек охоте на фламинго, рассказал о своих бесплодных попытках и заявил даже, что сомневаюсь в существовании этих птиц в Луизиане.
— Фламинго! — воскликнул капитан Мэси. — Но я стрелял их десятками!
— Где? — встрепенулся я.
— Да на всем берегу к востоку от устья Миссисипи. Они плодятся в окрестностях острова Баратарии. Вы, конечно, знаете этот остров, где старый пират Лаффит со своими разбойниками имеет привычку вставать на якорь.
Это неожиданное известие только усилило мое желание поохотиться на фламинго. Я тотчас же выразил твердое решение совершить путешествие на остров пиратов.
— Конечно, если это возможно, — благоразумно добавил я.
— Если это возможно? — удивленно повторил таможенный офицер. — Почему, скажите, пожалуйста, это было бы невозможно! Если вы человек, которого не пугает наше гостеприимство, не отличающееся чрезмерной изысканностью, то вы будете желанным гостем на «Бдительном». Вы можете провести на нем неделю, даже месяц, если пожелаете. Я берусь проводить вас в места, где вы убьете столько фламинго, что нагрузите ими целую барку!
Я принял приглашение, даже для виду не заставляя упрашивать себя. Двадцать четыре часа спустя я был уже на борту катера, и мы вошли в устье Миссисипи.
Верный своему обещанию, капитан Мэси доставил меня в одно из тех мест, где действительно гнездились птицы. Я мог наблюдать их прямо у них дома, в их родных убежищах. Я думаю, что когда чучело такой птицы видишь в музее, рождается естественное желание познакомиться с нею поближе, узнать то, чего нет в энциклопедиях и сочинениях по орнитологии.
Многие считают, что существует только один вид фламинго, Poenicopterus ruber, чьи чучела можно видеть в коллекциях. В действительности же существует несколько различных видов — в Азии, Африке и Америке. Все они живут в тропиках, но никогда не встречаются на берегу моря, а только по берегам рек и внутренних озер. Тот вид, с которым я познакомился, благодаря капитану Мэси, отличается от обыкновенных красных фламинго. В классификации этих редких птиц он принадлежит Новому Свету. Натуралисты называют его Phoenicopterus chilensis. Меж этой породой и близкими к ней породами Старого Света есть много различий, например, ее оперение скорее оранжевого, чем ярко-красного цвета.
Устроив на фламинго настоящий набег, я оставил их в покое. Мое любопытство было удовлетворено, и я мог обратиться к новым впечатлениям. Здесь достаточно интересного не только для охотника или натуралиста. Эти берега пробуждают исторические воспоминания: вспоминаются исследования Луизианы испанцем де Сото, колонизация ее французом Ласалем, наконец — в более близкое нам время — дерзкие предприятия Лаффита с его разбойничьей шайкой и их оргии на острове Баратарии.
Но капитан Мэси рассказывал мне не только о Луизиане и ее прошлом, но и о приключениях, героем которых ему довелось быть. Он сыграл не одну роль на жизненной сцене, но, как скромно прибавил капитан, они никогда не были блестящи. Он участвовал во всех войнах Техаса, в ту эпоху, когда мужественная маленькая республика боролась за свою независимость. В юности он принимал участие в революционных войнах в Южной Америке, а еще раньше, едва выйдя из детского возраста, пустился в приключения, рассказы о которых были не менее интересны, чем повествования об осадах и сражениях, — он был китоловом. Скольким опасностям подвергался он, избрав эту суровую профессию! Сколько раз смотрел смерти в лицо! Я трепетал, слушая его, и в то же время узнавал массу интересных сведений о глубинах моря и существах, его населяющих. В свою очередь, надеюсь сообщить нечто новое и моим читателям, молодым или старым. То, что я собираюсь рассказать, и будет повесть о его приключениях, изложенная в том порядке, в каком рассказывал о них он сам. Не могу ручаться за безусловную точность его выражений, но я старался передать их настолько точно, насколько позволяет мне память.
Итак, читатель теперь предупрежден: рассказываю это не я, это говорит капитан Мэси — капитан Мэси, который действительно охотился на левиафана.
— Я родился в деревне, — так начал свою повесть капитан Мэси, — в глуши леса, в восточном округе штата Нью-Йорк. Несмотря на это, с самого нежного возраста я чувствовал сильное влечение к морской службе. Вероятно, это влечение я унаследовал от моего отца, морского офицера. И именно потому, что отец был моряк и погиб во время кораблекрушения, моя мать не хотела, чтобы я избрал эту профессию. Море отняло у нее мужа, и она твердо решила, что сына оно у нее не отнимет.
Не могу сказать, чтобы я помнил отца. Я был еще совсем крошкой, когда море забрало его у нас, но в дни моего детства я много слышал о нем и всегда только хорошее. Он был, как говорили, настоящий моряк с головы до ног. Эта фраза повторялась постоянно, когда речь заходила об отце, и это было мнение не только родных и друзей. Действительно, он был замечательный офицер и выдающийся моряк.
Волнение, испытываемое мною при рассказах о его подвигах, открыло мне глаза на мое призвание, — а подобные рассказы я слышал всякий раз, едва какой-нибудь гость переступал порог нашего дома.
Как бы то ни было, моя страсть к морю росла с годами, несмотря на все усилия матери побороть ее. Моя мать мечтала сделать из меня юриста, и все мое воспитание было направлено на это. Но, вместо того, чтобы заглушить мою страсть, убийственно скучные книги еще более возбуждали ее.
В каждый свой приезд домой на каникулы я убеждал мать похлопотать о том, чтобы мне было присвоено звание мичмана. Ей стоило только пожелать этого, потому что, помимо известности отца, уже служившей рекомендацией, наша фамилия сама по себе пользовалась значительным влиянием.
Но умолял я напрасно, она была глуха к моим мольбам, так как питала ненависть к морю, и это чувство было сильнее моих просьб.
В течение долгого времени этот вопрос порождал между нами частые споры, иногда бурные и принимавшие острый характер. Я пускал в ход всевозможные аргументы, но мать мужественно отражала мои атаки, и обыкновенно поле сражения оставалось за ней.
Она решила, что я непременно буду юристом. Как каждая американская мать, она надеялась когда-нибудь увидеть своего сына президентом Соединенных Штатов, а всякому известно, что кратчайший и вернейший путь к этому высокому положению — стать законоведом. Но тот же инстинкт, который влек меня к морю, заставлял ненавидеть то, что ненавидит всякий добрый моряк, точнее, всякий порядочный человек, а именно крючкотворство. От всей души презирал я это крючкотворство и мысли не мог допустить, что когда-нибудь стану членом «корпорации сутяг». В конце концов, убедившись, что мать никогда не уступит мне, я по-своему разрубил этот гордиев узел. Я бежал из дому.
Вполне естественно, что я отправился в Нью-Йорк. У меня не было ни малейшего намерения обосноваться там, но из Нью-Йорка ежедневно отходят корабли во все концы земного шара. В мире нет другого порта, где можно было бы увидеть враз такое количество кораблей под различными флагами.
Однако при поступлении в моряки мне пришлось испытать такие затруднения, что я почти впал в отчаяние. Мне едва исполнилось шестнадцать лет. Хотя в моих учебных занятиях я вполне преуспел, но вне круга классических наук решительно ничего не знал и был абсолютно не способен заработать кусок хлеба ни на суше, ни на воде.
Предлагая свои услуги на кораблях, я был заранее уверен в отказе. Несколько бесплодных попыток скоро убедили меня в этой печальной истине.
Я был уже готов на все махнуть рукой, когда встретился с одним человеком, которому — на счастье или на горе мне — суждено было иметь решающее влияние на всю мою судьбу.
Этот человек был капитаном китоловного судна. Мы встретились с ним не на борту его корабля, так как судно его стояло в Нью-Бедфорде, а просто на набережной Нью-Йорка. Я отправился на борт одного корабля, отходящего в Западную Индию, предложил свои услуги, но, по обыкновению, получил отказ. Возвращаясь по набережной, я раздумывал о своих злоключениях, когда чей-то голос окликнул меня:
— Эй! Молодой человек! Причаливайте, чтобы я мог сказать вам пару слов!
Так как эти слова не могли относиться ни к кому другому, то я обернулся и тотчас узнал человека, беседовавшего на шканцах только что оставленного мною судна. Он подошел ко мне и сказал:
— Вы хотите пуститься в плавание, не правда ли, мой мальчик? — И, не давая мне времени ответить, продолжал: — Ни слова. Я прекрасно знаю, что это так. Так вот, не угодно ли совершить маленькое путешествие со мной? У вас вид неженки, но это неважно. Не один такой уже найдется на борту «Летучего облака». У нас безопасно и не так плохо. Работа подчас тяжела, но я думаю, вы не обратите внимания на эту мелочь. Вас не должно это останавливать, если в ваших жилах течет кровь моряка, а в вас она есть, я уверен, достаточно взглянуть на вас. Итак, что сказали бы вы, если бы я предложил вам стать blubber hunter?
Во время этой странной речи, из которой я понял только половину, он не переставал перекатывать сигару из одного угла рта в другой, вынимал ее, снова брал в зубы и производил впечатление человека, жующего табак, а не курящего. Его сигара, длинная регалия, была измята и изгрызена пальца на два от губ. Такой странный способ курить и еще нечто — что именно не знаю — необычайное во всей фигуре моего собеседника заставили меня предположить, что он либо не совсем в здравом уме, либо смеется надо мною.
Последний его вопрос только укрепил меня в этом мнении. Я не имел ни малейшего понятия о том, что мог бы представлять собою blubber hunter.
— Ну, нет! — сухо и коротко ответил я. Его фамильярность меня сильно покоробила. — Всем чем угодно, только не blubber hunter, — закончил я с глубочайшим презрением.
Я уже хотел повернуться к нему спиной, но более внимательный взгляд, брошенный мною на этого оригинала, вдруг переменил мое мнение о нем. Это был человек в самом расцвете сил. Ему могло быть лет сорок — сорок пять. В выражении его темно-красного лица не было ничего отталкивающего: напротив, в нем просвечивала веселость. Оно было несколько комично, благодаря своеобразной манере курить сигару. Эта сигара, крепко зажатая в зубах, всегда образовывала острый угол относительно поверхности его лица. Ее горящий кончик то поднимался до самого носа, то опускался ниже подбородка.
Выслушав мой сухой и невежливый ответ, он вынул сигару изо рта, потом осмотрел меня с ног до головы и произнес:
— Всем чем угодно, только не blubber hunter? Да вы чудак, осмелюсь сказать! Как! Вы мечтаете наняться на корабль, вы согласны на любые условия — не отрекайтесь, я сам это только что слышал, — и вы отказываетесь сделаться китоловом! Позвольте заметить, молодой человек, что вы можете напороться на гораздо худшее. Несмотря на ваш надутый вид, мои молодцы на «Летучем облаке» имеют право считать себя не менее важными особами, чем вы!
Он повернулся и уже начал быстрыми шагами удаляться, как я понял свою ошибку. Действительно, с той минуты, как он вынул изо рта свой «снаряд», выражение его лица совершенно изменилось: в нем уже не было признака глупости или иронии, оно стало решительно и серьезно.
— Постойте, сударь! — позвал я его тоном человека, который раскаивается и извиняется, я почувствовал, что обязан это сделать. — Я понял, что вышло недоразумение, прошу вас извинить меня. Я не знал, что такое blubber hunter. Если бы я знал, что это значит «китолов», я бы сейчас же сказал «да», и я очень счастлив сказать «да»!
— Ну, мой мальчик, — сказал он, останавливаясь, — я тоже сразу сообразил, что произошло недоразумение. Я оставляю в стороне всякие выражения, которые могли бы показаться неясными, и снова предлагаю вам вопрос: хотите вы вступить в общество китоловов?
— Я не мечтаю ни о чем другом и предпочту этому что угодно!
Я говорил сущую правду: в эту эпоху профессия китолова, по крайней мере в Соединенных Штатах, была в большом почете, и ею составляли себе состояния. Меня же привлекала романтическая сторона — приключения, опасности, дерзкие вылазки, когда чувствуешь себя на волосок от смерти, — одним словом, все, о чем всегда торопятся рассказать журналы. Это был как раз тот образ жизни, о котором я мечтал, и эта жизнь сама шла ко мне!
Бесполезно говорить, что я поймал случай на лету и тут же выразил согласие служить на «Летучем облаке».
— До завтра! — сказал мне мой капитан. — Я вам дам все необходимые указания. Вы найдете меня в гостинице «Корабль и якорь», у пристани Пек. Спросите капитана Дринкуотера с «Летучего облака». Наш корабль стоит на якоре в Нью-Бедфорде. В десять часов, мой мальчик! Будьте точны, если хотите стать blubber hunter.
Затем он снова засунул в рот сигару, сильно прикусил ее и оставил меня на набережной одного.
Глава 2
«ЛЕТУЧЕЕ ОБЛАКО». РОЖДЕСТВЕНСКОЕ УТРО ПОСРЕДИ ОКЕАНА
На другой день ровно в десять часов я явился в гостиницу «Корабль и якорь».
Когда я уходил от капитана, мы уже формально скрепили договор, заключенный накануне между нами устно, и я стал частью экипажа «Летучего облака». Капитан сказал мне, где найти судно, и приказал отправляться туда немедленно. Сутки спустя я был в Нью-Бедфорде, на борту «Летучего облака», а через неделю мы уже шли по Атлантическому океану в направлении мыса Горн.
Понятно, жизнь на борту китоловного судна значительно отличалась от той, которую я вел до сих пор. Что касается общества, оно могло бы быть интеллигентней. Оно состояло из полусотни человек, преимущественно уроженцев Америки, но были представители и других стран и разных наций. Но, так как я подписал свой контракт не для того, чтобы найти подходящее общество, а из жажды приключений, то уже заранее подготовился к известным неприятностям. В сущности, мое первое впечатление не было особенно неприятным, потому что окружающая обстановка оказалась даже лучше, чем я ожидал. Через два дня я пришел к убеждению, что грубость моих товарищей более кажущаяся, чем действительная: жизнь, какую они вели на судне, наложила свой отпечаток на их характер и внешность. Уже через два дня я этого попросту не замечал, и они явились мне такими, какими были на самом деле. Я не скажу, что среди них не было людей испорченных, но большинство оказались славные ребята.
Отличительной чертой экипажа «Летучего облака» было известное чувство собственного достоинства и корректность, которых мне не случалось наблюдать у людей этого класса. Что касается дисциплины, то можно было подумать, что мы находимся на военном корабле. Явление это очень частое на американских китоловных судах. Объясняется оно очень просто: нередко можно видеть, как молодые люди высшего общества заключают контракты для службы на китоловных судах, — конечно, не из корысти, а из любви к приключениям. Я сам мог служить тому примером.
Есть и еще одна причина, объясняющая подобное чувство собственного достоинства среди команд американских китоловных судов. Все члены экипажа — юнги или матросы — являются в некотором роде совладельцами корабля, или, по крайней мере, могут рассчитывать на известную долю барыша от предприятия. Конечно, избегать всего, что может повредить успеху дела, в их прямых интересах. Достаточно одного удачного рейса в продолжение года или менее, чтобы каждый матрос опустил себе в карман маленький клад, заработанный, без сомнения, тяжелым трудом, но дающий теперь возможность заняться иным делом, если охота за китами не пришлась ему по вкусу.
На борту «Летучего облака» было несколько молодых людей вроде меня, не побывавших еще ни в одном плавании. Но с той быстротой и верностью взгляда, которые характерны для американцев (простите мне этот легкий приступ национального тщеславия), мы быстро научились обращению со снастями, а немного спустя постигли все, что необходимо делать при маневрировании корабля. Мы еще не дошли до мыса Горн, как экипаж «Летучего облака» уже не оставлял желать ничего лучшего. Однако было на этой картине одно пятно — это наш капитан. Он был далеко не таким, каким, на мой взгляд, должен был быть.
В буквальном переводе «Дринкуотер» значит «водопийца», но никто менее не соответствовал имени, которое носил, чем наш капитан. Неизмеримо больше заслуживал он имя «Дринкрум», то есть «ромопийца». Можно сказать, что он испытывал ненависть к воде и не пил ее ни капли. Для него и грог был совершенным грогом только тогда, когда к пинте грога он примешивал полпинты рома.
Но в своем роде он был неплохой человек, его характер не был дурным. Трезвый, он был и великодушен и щедр, но под влиянием рома его необузданность доходила до крайности, и степень ее могла сравниться разве что с глубиной нежности к любимому напитку — рому «Санта Круц». Не один раз она ставила в опасное положение его самого, экипаж и судно.
Любимым коньком его было утверждать, что «Летучее облако» — лучшее из всех известных парусных судов и что оно может нести сколько угодно парусов, хотя бы ветер переходил в ураган. Это был действительно прекрасный корабль, но все же я знал суда, которые могли без труда соперничать с ним. Однако плохо пришлось бы всякому, решившемуся высказать это капитану Дринкуотеру: такой человек был бы моментально и навсегда вычеркнут из списков людей, близких капитану. Под влиянием рома, принятого даже в сравнительно умеренном количестве, он в каждом судне, идущем тем же курсом или даже в противоположную сторону, видел вызов себе и, бросая дело, не думая о потерянном времени, приказывал поднимать паруса и начинал гонку, как будто речь шла о том, чтобы взять приз или выиграть пари.
Однажды мы охотились на кашалота и уже готовились опустить в море шлюпки, когда на горизонте показался наш соперник, другое китоловное судно. Оно шло по ветру и тоже гналось за кашалотом, только его кашалот был крупнее нашего, так как это был самец.
— Клянусь Иосафатом! — издал Дринкуотер свой любимый возглас и, приставив к глазам подзорную трубу, продолжал: — Если я не ошибаюсь, это «Дерзкая Сара»… Да, гром и молния! Это она! Вперед, ребята, и покажем старому Бостоку, как надо охотиться за китом!
Его приказ был тотчас же исполнен, потому что капитан Дринкуотер, трезв он был или пьян, все равно, не допускал ни малейшего противоречия, надо отдать ему справедливость. Раз приказ был отдан, он исполнялся, каковы бы ни были его последствия. Вот и сейчас капитану не пришлось повторять два раза, и в результате «Летучее облако» несколько уронило свою репутацию.
Прежде чем мы приблизились на выстрел к «Дерзкой Саре», она уже спустила шлюпки, кашалот был загарпунен и поднят на борт судна.
Когда мы были с нею борт о борт, капитан Босток стоял на гакаборте и кричал нам в рупор:
— На этот раз, Дринкуотер, слишком поздно! Если бы я знал, что «Летучее облако» идет за мною, я бросил бы канат, чтобы взять его на буксир! Лучше вам вернуться к самке, за которой вы, кажется, гнались! Только идите поскорее, чтобы захватить ее!
Никогда еще я не видел такого выражения печали на лице моего капитана! Пока мы возвращались к брошенному нами кашалоту, которого нам уже не суждено было увидеть, Дринкуотер приказал принести себе рому, и еще рому. Стакан следовал за стаканом, и скоро пришлось отнести капитана в его каюту, так как сам он уже не мог доставить себя туда.
К счастью для нас, на судне был офицер, привычки и темперамент которого представляли полную противоположность привычкам и темпераменту капитана. Это был его помощник. Его звали Элиджа Коффен, но в силу фамильярности, царившей на судне, его звали просто Лидж. Уроженец Новой Англии, он был истинным китоловом в полном смысле этого слова. Одно имя его уже было дипломом на звание китолова. Фенимор Купер, дав имя Длинного Тома Коффена герою одного из своих романов, взял это имя из жизни. Действительно, на всем побережье Массачусетса, от Нью-Бедфорда до Бостона, не найдется селения, где не встретилась бы фамилия Коффен. Китоловное судно, отправляющееся отсюда и не имеющее на борту хотя бы одного Коффена, поистине могло считаться исключением.
В этом отношении «Летучее облако» подтвердило общее правило. Если Лидж Коффен не был известен так же, как его однофамилец, герой романа, то все же он был таким же бравым моряком, шарахался от крепких напитков и не поддавался необдуманным порывам. Он был трезв, молчалив и благоразумен — это были главные черты его характера.
Но не единственные, о чем мы еще узнаем. Не раз, прежде чем мы обогнули мыс Горн, смелость Коффена подвергалась испытанию, и он всегда выходил из таких испытаний с честью. Мне было суждено видеть его мужество при таких исключительных и опасных обстоятельствах, в какие я никогда больше не желал бы попасть.
Несколько месяцев мы охотились за кашалотами в Тихом океане. Здесь их водилось очень много. Нефть еще не была открыта, и цены на спермацет были так высоки, что это делало охоту на кашалотов гораздо выгоднее всякой другой.
В двухстах лье от берегов Чили мы попали на хорошее место. Почти каждый день мы встречали кашалотов и почти каждый день загарпунивали хотя бы одного.
Наш капитан продолжал пить, и его тяга к рому «Санта Круц», по-видимому, возрастала соответственно нашим успехам. Эта прогрессия не была лишена некоторой опасности для экипажа.
Как бы то ни было, нам так повезло, что к Рождеству мы уже имели на борту столько жира, сколько могло поднять «Летучее облако», еще сотня бочонков — и наш корабль был бы полон. Естественно, мы были в прекрасном настроении и решили отпраздновать Рождество так весело, как только это возможно на борту судна.
Правда, мы были словно затеряны среди океана, в двухстах лье от берега и еще дальше от родины, но мысль о Рождестве с его мистическими обычаями так же владела нами, как если бы мы готовились к этому празднику под отеческой кровлей или у дружеского очага.
Однако за отсутствием отеческой кровли и дружеского очага мы решили на судне выполнить до мельчайших подробностей все обычные церемонии и сделать заметную брешь в запасах «Летучего облака». Товарищи сказали мне, что такова традиция на «Летучем облаке», уже не впервые проводившем этот день в море. День Рождества праздновали всегда, будь то в Ледовитом океане или в лазурных волнах южных морей.
Но на этот раз, помимо обычных причин, было и еще одно обстоятельство, располагавшее к веселью. Нас можно было сравнить со счастливыми охотниками, возвращающимися домой с полным ягдташем дичи. И в самом деле, мы очень близко подошли к моменту возвращения домой. Наши сердца согревали воспоминания о рождественских праздниках в кругу своей семьи, среди сестер, кузин или любимых. Чтобы по возможности утешить нас в отсутствии дам, наш великодушный патрон разрешил нам вино в каком угодно количестве, ром и водку, и это усилило веселье на шканцах. Что касается нашего повара-негра, то он заявил, что превзойдет самого себя и что никогда еще компания голодных китоловов не видала такого пиршества, какое готовит он для нас.
Некоторые из нас, печально настроенные, выражали сожаление по поводу отсутствия традиционных индюка и гуся. Но где их взять посреди океана? Настроенные более снисходительно полагали, что индюка и гуся могут заменить чайки, бакланы или какие-нибудь другие морские птицы, уж их-то было вокруг в изобилии. И даже альбатрос, если бы имел любезность приблизиться к нам на выстрел, без сомнения мог бы украсить наш стол.
Но и без этого наш погреб предоставлял обилие съестных припасов, которыми можно было утешиться. «Летучее облако» было снабжено провизией на продолжительное плавание, наше же было довольно кратковременно, и мы могли надеяться на настоящую оргию обжорства солониной, свининой, маринадами и консервами. У нас был бы и пудинг из лучшей муки, изюма и сушеной смородины, а вокруг пудинга запылал бы голубым огнем бренди, отпущенный нам капитаном. Мы надеялись на суп, рыбу и другие блюда, рецепт которых был у нашего достаточно искусного повара. Для экипажа, сидевшего полгода на солонине, такое меню выглядело прямо-таки эпикурейским.
В день Рождества с самого утра палуба была, насколько возможно, очищена от загромождавших ее предметов, хорошо вымыта, натерта пемзой, совершенно как на военных кораблях. Принарядились и матросы во все, что лучшего нашлось в их сундуках. Некоторые так разукрасились, словно на корабле предполагался бал, который почтит своим присутствием королева Сэндвичевых островов или Помаре, королева острова Отанти.
Только один человек держался в стороне и не принимал никакого участия в приготовлениях к празднику. Это был офицер «Летучего облака» Элиджа Коффен. В радостное рождественское утро, когда все в чудесном настроении духа обменивались шутками, на лице Лиджа лежала еще более мрачная тень, чем обыкновенно. По-видимому, Коффен старался сделать свою наружность соответствующей своему имени (в переводе с английского оно значило «гроб»). Но никто не обращал на него внимания: он никогда не принимал никакого участия в развлечениях экипажа, и вся эта церемония приготовлений не могла занимать его. Вот если бы составлялся кружок для молитвы, он охотно предложил бы свои услуги, пожалуй, даже взял бы на себя инициативу.
Однако надо заметить, что несмотря на свой холодный и сдержанный характер, Лидж Коффен не вызывал неприязни или презрения среди экипажа «Летучего облака». Все знали, что он честный малый, великолепный моряк, не имеющий себе равных в искусстве бросать гарпун. Если как офицер он не был общителен, то во всяком случае никто не мог упрекнуть его в деспотизме. Однако в этот день мне хотелось, чтобы и он участвовал в общем веселье. Возможно, только я один и заметил его отчужденность, если другие обратили на нее внимание, то без сомнения приписали это эксцентричности его характера, заставлявшей его хмурить брови в то время, как остальные надрывались от смеха.
Солнце перешло меридиан, и аппетитный запах из кухни напомнил о близости обеда. У нас уже текли слюнки, когда знакомый крик, прозвучавший сверху, сразу изменил наш настрой и выражение наших физиономий:
— Кит!
Не боясь соврать, скажу, что никогда этот крик не возбуждал меньше энтузиазма, чем теперь: на некоторых лицах появилось выражение настоящего отчаяния. Начать сейчас охоту за кашалотом значило отказаться от всех удовольствий этого дня, не считая того, что перестоявший обед ничего не стоил. Однако капитан Дринкуотер не был человеком, способным вникать в такие соображения и позволить упустить подобный случай. Даже если предположить, что он пошел бы на проявление гуманности, то его помощник не преминул бы напомнить ему о его профессиональном долге. Едва слово «кит» прозвучало на борту, как спокойный голос спросил:
— С какой стороны?
Этот голос принадлежал Лиджу Коффену.
— С бакборта, — ответил марсовой, — вот он опять!
Матросы «Летучего облака» не были бы настоящими китоловами, если бы сохранили хладнокровие в эту минуту. Спустя мгновение они уже столпились на бакборте, напряженно вглядываясь в океан. Когда кит во второй раз пустил из своего дыхала фонтан соленой воды, он был не далее трех кабельтовых от «Летучего облака». Судя по тому, что струя воды была только одна, мы легко определили, что имеем дело с кашалотом. Но были и другие признаки: толстая квадратная голова, сильно утолщенная шея, двухцветная кожа, серая голова — это был старый самец, и такой, какого мы никогда не видали.
— Клянусь Иосафатом! — вскричал капитан. — В нем сто тонн жиру! Это как раз столько, сколько нам еще нужно, если сумеем его загарпунить! Ребята, — продолжал он, — за ним! Прекрасное животное! Смотрите, он идет медленно, как рабочий вол! Он словно говорит нам: преследуйте меня, если смеете! Спустить бы сейчас шлюпки да устроить на него охоту!
При всяких других обстоятельствах капитан не говорил бы таким вопросительным тоном, а просто крикнул бы:
— Шлюпки в море!
Но теперь он видел, что экипаж не очень-то расположен к охоте на этого кашалота, так некстати появившегося. Соблазнительные запахи из кухни были более привлекательны, чем перспектива гонки за китом. И кроме того, все были одеты по-праздничному, а в таком виде не очень-то приятно приниматься за работу.
Если бы этот кашалот был обыкновенных размеров, едва ли искушение оказалось таким сильным: мы не решились бы выказать неповиновение категорическому приказу, однако действовали бы неохотно. Но старый самец, который может нам принести сто тонн, — совсем другое дело! Спермацет продавался по шестидесяти долларов тонна, это составит недурную сумму, и экипаж получит свою долю в добыче — было о чем подумать даже людям, разодетым по-праздничному. Притом кашалот словно вел за собою «Летучее облако» и имел явно вызывающий вид. Какой китолов устоял бы перед этим?
— Ребята, — вскричал капитан, — мы непременно должны взять его! Это увенчает наш рождественский обед и заменит нам гуся и индюка. Отложим немного праздник и загарпуним животное! Обещаю вам двойную порцию моего лучшего «Санта Круц»!..
Глава 3
КИТ. УДАР ХВОСТОМ. В ОТКРЫТОЕ МОРЕ!
Чтобы решиться, в последнем обещании экипаж «Летучего облака» не нуждался. Наглость кашалота победила все сомнения и колебания. Едва капитан кончил говорить, как раздался единодушный крик:
— Отлично! Мы готовы!
— Шлюпки в море и вперед! Сто долларов первой шлюпке!
Через несколько мгновений шлюпки были уже спущены в море, и охота началась.
Я попал в шлюпку под начальством старшего офицера. Нас было шестеро: четверо гребцов, считая и меня, рулевой и сам Лидж Коффен. Подгоняемые надеждой заработать сто долларов, мы творили чудеса. Все гребцы нашей шлюпки были молоды и сильны. Кроме того, у нас был лучший рулевой из всего экипажа. Поэтому, когда мы приблизились к кашалоту, то оставили всех позади минимум в ста ярдах. Минуту спустя наш командир уже встал, крепко упершись ногами, прицелился своим гарпуном и глубоко вонзил его в шею кашалота. Мы пришли первыми и заработали сто долларов, мы настигли добычу, на зависть другим шлюпкам, и радостно закричали ура. Конечно, закричали только четверо гребцов, еще очень юных. Мистер Коффен и рулевой, человек пожилой и опытный, воздержались от подобного бурного проявления чувств.
Вдруг на лице Коффена отразился испуг. Он громко крикнул:
— В сторону! В сторону!
Мы принялись грести изо всех сил, и не зря: надо было увернуться от ударов хвоста кашалота, который вспенил вокруг всю поверхность моря. Эти удары следовали ритмично, один за другим.
— Он уходит! Внимание!
Едва раздался этот крик, как чудовище бросилось вперед и понеслось с быстротой сорвавшейся с узды лошади, унося с собой гарпун. Железо, впившееся в его рану, доводило его до бешенства.
Наш канат разматывался со страшной скоростью, дойдя до последней сажени, он резко натянулся, и наша шлюпка понеслась быстрее, чем на буксире парохода. В продолжение получаса мы буквально летели по поверхности моря, и все по направлению ветра. Скоро мы потеряли из виду побежденные нами шлюпки и даже «Летучее облако». Нами начинали овладевать серьезные опасения, сам рулевой обнаруживал некоторое беспокойство. Что касается Лиджа Коффена, он был совершенно спокоен. Кто-то посоветовал обрезать канат и пустить кашалота на волю, но офицер пренебрег этим советом.
— Не-ет, — медленно произнес он таким странным голосом, как будто собирался начать псалом, — мы не можем так упустить его. Он получил удар гарпуном — он должен получить еще удар копьем. Может быть, пройдет месяц, прежде чем мы натолкнемся на такую же удачу, а через месяц будет не очень-то удобно огибать мыс Горн… Смотрите, он недолго протащит нас на буксире! Вы видите, он истекает кровью!
Это была правда. Оглянувшись, чтобы посмотреть на старого самца, мы увидели, что его фонтан красного цвета, — доказательство того, что задеты важные органы. Иногда достаточно удара гарпуна, чтобы убить кита, но на этот раз наш рулевой подумал, что кашалот смертельно ранен.
Теперь мы были так уверены в поимке кашалота, что забыли о двух других шлюпках и даже о корабле. Все наше внимание было сосредоточено на состоянии раненого гиганта. С минуты на минуту уменьшалась скорость его, что мы чувствовали по ходу нашей шлюпки, все замедлявшемуся. Наконец, он остановился.
— Пора! — торжествующим голосом воскликнул наш командир. — Тащите канат, ребята, тащите крепче!
Бросив весла, мы стали осторожно выбирать канат. Этот маневр скоро приблизил нас почти к самому кашалоту. Тогда Лидж Коффен с копьем в руке, опершись на нос шлюпки, приготовился снова поразить чудовищного зверя. Его удары были так точны, что кровь хлынула волнами изо рта кашалота. Тот сделал последнее усилие, чтобы нырнуть, но, ослабленный потерей крови, смог лишь слегка ударить хвостом и опуститься едва на несколько футов в глубину. Он тотчас же всплыл на поверхность, как обрубок дерева, и только по легкому волнению моря можно было судить о последних его усилиях в борьбе со смертью.
Теперь, когда кашалот был мертв, нам надо было вернуться назад, чтобы попросить другие шлюпки помочь нам довести его до корабля или привести корабль туда, где мы убили его. И в том и в другом случае было необходимо прежде всего обозначить место, чтобы иметь возможность снова найти его. Рулевой вспрыгнул на тело кашалота, добрался до шеи и укрепил там небольшой флаг. Потом он вытащил гарпун, мы свернули канат и уже приготовились отплыть, как вдруг раздался крик:
— Кит!
Это крикнул с кормы рулевой: он заметил нового кашалота.
Легко представить, какое волнение охватило нас. Мы только что убили одного кашалота, и тут же случай посылает нам другого! Какой триумф сообщить о том, что мы убили пару! И слава, и прибыль!
Да, это снова был кашалот.
— На весла и остаться в дрейфе! — крикнул наш командир. — Ого, — добавил он, — их двое. А, я вижу, это самка с детенышем. Они идут прямо на нас. Внимание, Билл, гарпуньте сначала детеныша!
Эти слова относились к нашему рулевому, стоящему в эту минуту с гарпуном в руке. Командир знал, что если загарпунить детеныша, самка останется рядом, и у нас явится возможность поразить и ее. Билл тоже хорошо это знал, знали и мы.
Через несколько мгновений самка поравнялась с нами, детеныш плыл рядом. К счастью для нас, он держался у левых плавников матери, именно с той стороны, где была наша шлюпка. Гарпун полетел. Смертельно раненный китенок остался неподвижен на воде. Бедная мать тоже остановилась. Не давая ей времени опомниться, Коффен, в свою очередь, пустил гарпун, глубоко впившийся в ее тело.
— Хорошо задета! — крикнул он.
Но вместо того, чтобы остаться около своего детеныша, как мы того ожидали, мать высоко выпрыгнула из воды, со страшным шумом упала снова в воду и бросилась вперед, таща за собою до звонкости натянутый канат. Канат уже стал похож на проволоку. Мы снова очутились на буксире. Наша лодка летела по морю еще быстрее, чем в первый раз.
Мы скоро потеряли из виду и старого самца и детеныша. Наш флаг постепенно скрывался из глаз и, когда раненая самка соизволила остановиться, совершенно исчез из поля нашего зрения.
Остановившись, мы начали подтягивать канат. На этот раз мы были более осторожны. Мы все понимали, как велика опасность, зная, что нет ничего ужаснее, чем самка, у которой убили детеныша.
Мы беспрепятственно подобрались к ней, она была совершенно неподвижна. Мы сочли ее мертвой, так как она потеряла много крови. Но она не была мертва. Когда мы приблизились к ней настолько, чтобы поразить копьем, мы заметили конвульсивные сокращения мускулов на спине, и тут же ее хвост взвился вверх.
— Берегитесь удара хвоста! — закричал рулевой. — Она сейчас нырнет! Берегитесь, чтобы она не разбила лодку!
Пока он кричал, кашалот поднял на воздух почти перпендикулярно всю заднюю часть тела и, быстро погрузившись головой вниз, исчез из глаз.
Мы знали об угрожающей нам опасности и при команде «На весла!» налегли на них, как люди, спасающие свою жизнь.
И вправду речь шла о спасении жизни, но, увы, было поздно… Через минуту мы почувствовали сильный толчок, сопровождаемый треском. Мне показалось, что что-то рухнуло и я падаю, но только не вниз, а вверх. Едва мелькнула у меня эта мысль, как я почувствовал, что лечу вниз, потом погружаюсь в воду так глубоко, что уже задыхаюсь.
Судя по тому, как глубоко я ушел под воду, я, должно быть, был высоко подброшен в воздух, но как я тонул и как выплывал, уже не помню. И вот я очутился на поверхности. Протерев глаза, полные соленой воды, я огляделся кругом, ища шлюпку.
Шлюпки не было! А мои товарищи? Что случилось с ними? На поверхности воды не было видно признака ни шлюпки, ни живых существ, ни даже трупов. Кашалот, разбив нашу лодку, тоже исчез в безднах моря. В безбрежном просторе я был один. Так, по крайней мере, мне казалось.
Ветер начал свежеть, поверхность моря покрылась рябью. То здесь, то там на гребнях волн показывалась пена.
Конечно, эти волны мешали мне видеть останки нашей шлюпки. Я был уверен, что она разбита вдребезги, а мои товарищи сброшены в море. Все они умели плавать, значит, они здесь, где-то рядом, борются с волнами. Я закричал что было силы. Ответа нет. Большая морская птица с криком пролетела надо мною.
Время от времени я напрягался, чтобы возможно выше поднять над водой голову и осмотреться вокруг. Я родился, так сказать, в глуши лесов, но вблизи протекала большая река, и я сделался отличным пловцом. Поэтому я без особенного страха взвешивал обстоятельства, надеясь, что увижу на волнах какой-нибудь обломок нашей шлюпки и легко воспользуюсь им.
В то время, когда мы кончали с самцом, к нам изо всех сил спешили две шлюпки. Надежда на их помощь тоже ободряла меня, и я поплыл в том направлении, где рассчитывал найти «Летучее облако». Но скоро я понял, что мои надежды были иллюзией: пока я плыл, то обдумывал свое положение и понял, что достичь корабля вплавь невозможно. И в самом деле, даже когда мы добивали кашалота, силуэты шлюпок были едва заметны, а потом и самка увлекла нас очень далеко вперед. Мое искусство плавать было бесполезно. «Летучее облако» было слишком далеко, я не смог бы достичь его, даже если бы меня вела какая-нибудь небесная звезда или огни, зажженные на мачтах «Летучего облака». Солнце заходило, и приближение ночи навело меня на эту мысль о звездах и огнях.
По примерному расчету меня отделяли от корабля миль двенадцать. Двенадцать миль! Я ни за что не смог бы их преодолеть! Я начинал чувствовать что-то похожее на отчаяние.
Я сделал последнее усилие, чтобы еще раз оглядеть пенные гребни волн. Потом лег на спину, на этот раз полный отчаяния. Мне теперь было безразлично, продолжать плыть или исчезнуть в пучинах океана.
Некоторое время, с сердцем, исполненным тоски, я оставался почти неподвижен, изредка только делая необходимые движения, чтобы удерживаться на воде. Но вскоре, считая смерть неизбежной, я решил прекратить свои мучения и погрузиться с головой. Готов ли я был к самоубийству? Если да, то разве ужас положения не смягчал моего греха? Не могу уверить вас, что в эти минуты я предавался таким философским размышлениям. Я думал о доме, о братьях, сестрах, особенно о матери. Никогда я не сознавал так ясно всей правоты ее доводов и справедливости ее упреков, которыми она осыпала меня за неповиновение. О, зачем я не послушал ее предостережений! Только теперь я понял их мудрость.
Не могу определить, сколько времени я предавался этим мыслям. Я был как во сне, только инстинкт самосохранения заставлял меня двигаться, воля здесь была ни при чем. Но я хорошо, даже слишком хорошо, помню то, что вывело меня из этого оцепенения. Это был труп человека с огромной раной, нанесенной холодным оружием. Волна пронесла его передо мною, прямо перед глазами, но я видел только его спину. Подхваченный волной, я обогнал его и увидел его лицо: это был Билл, наш рулевой. В ужасе от этого страшного зрелища, я быстро отвернулся и очутился лицом к лицу с другим потерпевшим крушение. Но этот не был мертв, по грудь в воде, он держался прямо, вероятно на каком-нибудь обломке. Высокая волна подняла его, и я увидел, что он сидит верхом на толстом бревне. Бревно было явно обломком нашей шлюпки. Что касается самого человека, то это был Коффен. Он еще держал в руке копье, которым готовился ударить самку, когда был сброшен в море. Это копье старинного образца, случайно попавшее в шлюпку, было так широко на конце, что Коффен пользовался им как веслом. Я не мог удержать радостного крика и, собрав все силы, поплыл прямо к Лиджу Коффену. Я считал себя спасенным.
Прошло всего несколько мгновений, и я убедился в своей ошибке. Когда я подплыл настолько близко, что уже мог разглядеть выражение лица Коффена, я увидел, что он стремится избежать встречи со мной, потому что он стал усиленно грести, чтобы увеличить расстояние, разделяющее нас. Его лоб омрачился, а на лице без труда читалось: «Тебе здесь делать нечего».
Но мое положение было не таково, чтобы я дал себя спровадить, вопрос, как и для него, стоял о спасении жизни, и я не хотел упустить единственный шанс. Я еще раз напряг силы и поплыл к обломку. Он заметил это и, перестав грести своим копьем, поднял его над головой. Если бы я не понял этого угрожающего жеста, то его слова рассеяли бы все мои сомнения.
— Назад! — крикнул он глухим и зловещим голосом. — Если приблизитесь, вы мертвец! Назад, в море, если дорожите жизнью!
Взгляд его глубоко запавших глаз, угрожающий тон, страшное красноречие жеста — все ясно говорило о его решимости ударить меня копьем, если я приближусь к нему на расстояние удара. Нечто еще более убедительное наглядно показывало мне ожидающую меня участь, если я не позабочусь о себе. Капризная волна опять нанесла на меня труп Билла, бросив его между мною и Коффеном. Когда Коффен заметил это, он резким жестом показал на труп и сказал:
— Вы видите это? Он сам виноват в своей смерти. Он хотел сесть рядом со мною. Но бревно может выдержать только одного, я принужден был сказать ему об этом. Но нет, он настаивал, и я должен был спасать свою жизнь… Вы поймете меня без слов, у вас есть глаза, чтобы видеть. Еще раз предупреждаю, не приближайтесь!
Я дошел до предела отчаяния, чтобы не бояться угроз, но его страшное признание заставило меня похолодеть от ужаса. Я перестал гнаться за ним и удовольствовался тем, что лишь удерживался на поверхности.
Чтобы избежать соседства с несчастным Биллом, я поплыл. Скорее какой-то инстинкт, чем воля, заставил меня издали следить за Коффеном, хотя ни малейшей надежды на помощь не оставалось. Было очевидно, что он не может помочь мне, не рискуя погибнуть сам. Я все еще видел его нахмуренный лоб, суровое безжалостное лицо, крепко сжатые губы. Он действительно мог убить меня, если бы я к нему приблизился.
Тем не менее я продолжал следовать за ним, благоразумно держась на почтительном расстоянии от грозного оружия, которому он нашел такое страшное употребление.
Глава 4
ПОМНИТЕ БИЛЛА!
Почти десять минут я плыл за Коффеном. Он направлялся все прямо, кое-как помогая себе копьем, и я следовал за ним с такой легкостью, что иногда мне казалось, будто меня тащат на буксире. Мы продвигались вперед, сохраняя между собою одно и то же расстояние. Мы не обменялись больше ни единым словом, но каждый раз, когда он оборачивался ко мне, я видел на лице его все то же холодное, неумолимое выражение.
Я думаю, для него было бы большим облегчением, если бы я пошел ко дну. Я же, уверенный в своем искусстве плавать и в своей природной силе, думал, что смогу плыть за ним до бесконечности. Но все чаще спрашивал себя: для чего? Да, для чего? Однако словно какой-то необъяснимый магнит влек меня помимо моей воли за человеком, который не мог и не хотел оказать мне никакой помощи и, не моргнув глазом, убил бы меня, если бы я только протянул руку, чтобы коснуться его бревна. Может быть, я действительно находился под властью магнетизма и был зачарован Коффеном, как птичка змеей.
Но вместе с тем это чувство было понятно: если было суждено умереть, то я предпочел бы умереть на глазах другого человеческого существа, а не в ужасной пустыне океана, покинутый всеми. Я приходил в ужас при мысли, что отстану и умру одиноким, поглощенный и захлестнутый волнами, и никто не услышит моей мольбы и не скажет мне последнего прости! Я буду слышать в час своей кончины только нетерпеливые крики голодных птиц, потому что море, как и суша, имеет своих хищников. Эти ужасные крики звучали в моих ушах. Птицы знали, что скоро я опущусь в бездну, чтобы потом снова всплыть и стать их добычей…
Ужас, охвативший меня, становился невыносимым. И физически и нравственно я едва держался. Но что делать? Перестать плыть и пойти ко дну или собрать все силы и вступить в борьбу с Коффеном за обладание его обломком, рискуя жизнью, не обращая внимания на его угрозы?
К счастью, я не прибегнул к таким крайностям, и позднее мне оказал помощь именно этот человек, на которого я смотрел как на злейшего врага.
Когда мы оба в отчаянии боролись с волнами, наши взгляды часто встречались. И вдруг мне показалось, что на его лице блеснул луч сострадания. Я знал, что по натуре он не был ни зол, ни жесток, и что не по отсутствию человеколюбия он был так неумолим. В нем говорил самый могущественный инстинкт, инстинкт самосохранения. Я и теперь в глубине души не могу осудить его за его поведение при таких условиях. Но в эти страшные минуты я и сам боролся за свою жизнь, во мне говорил тот же инстинкт. Взгляд Коффена, устремленный на меня, казалось, говорил: «Ну, бедный мальчик, вы мужественно боролись, и я в отчаянии, что ничего не могу сделать для вас. Вы видите, что этот обломок не выдержит двоих, и, конечно, не ждете, что я принесу свою жизнь в жертву, чтобы спасти вашу».
Ни одно из этих слов не было произнесено, но я готов был поклясться, что он произнес их и что я их слышал. Вот почему я сказал ему:
— Я хорошо понимаю, что это бревно не выдержит двоих, но, может быть, вы увидите что-нибудь, на чем я могу спастись? Вы выше, чем я, вы над водой. Ради Бога, взгляните вокруг!
Он сдался на мои мольбы и внимательно осмотрел поверхность моря. Я жадно следил за его взглядами и изучал выражение его лица с тягостным беспокойством.
Спустя немного времени он взглянул на меня и разочарованно произнес:
— Ничего!
— Смотрите еще! — кричал я ему в отчаянии. — Осмотрели ли вы всю линию горизонта? Может быть, видно корабль или флаг, который мы воткнули на кашалоте? Может, вы их просто не заметили?
— Я бы хотел что-нибудь увидеть, — отвечал он уныло, — я слежу уже давно. Пусть Господь сжалится над нами, но я не вижу ни того, ни другого.
Снова сжалось мое сердце, но я продолжал плыть со всей энергией отчаяния. Я следовал за Коффеном на том же расстоянии, мои взоры были по-прежнему прикованы к его лицу, но уже совершенно бессознательно, потому что я от него ничего не ждал. Я видел, что мое присутствие тяготило его. Он боялся, может быть, что в последний момент я схвачусь за его бревно и подвергну опасности его жизнь. Но я думал об этом меньше всего на свете или, по крайней мере, не больше, чем об ином.
Когда он жадно всматривался в волны, очевидно разыскивая какой-нибудь обломок, могущий меня поддержать, его сочувствие заставило меня забыть его жестокость и угрозы — я был обезоружен.
Внезапно он вздрогнул, и его взор с глубоким вниманием устремился куда-то в море.
— Что там? — спросил я без всякой надежды.
— Там, вон там, кажется, что-то похожее на весло.
— Где? Укажите мне направление поточнее!
— Вон там, направо, плывите с этой стороны, отсюда легче его различить!
Я не заставил его повторять и, руководимый его указаниями, смело поплыл вперед. Да, там, вдали, что-то было, я смутно видел какой-то предмет. Когда я к нему приблизился, то увидел, что это не весло, а ворох большой темной травы. Волна бросила меня на нее, и она окутала меня своими длинными стеблями. Она парализовала меня, сковала движения, и я уже предчувствовал свой конец.
Однако мне удалось высвободиться, и я снова поплыл к тому, кто расставил мне эту западню. Вся моя ненависть, весь мой гнев вспыхнули снова. Конечно, он хорошо знал, что плывущий предмет был просто травой, а не обломком лодки. Ему представился случай избавиться от меня, не отягчая свою совесть новым убийством. Но на этот раз я решил вступить с ним в борьбу за обладание бревном.
Я был ослеплен бешенством до такой степени, что ни на мгновение не задумался о том, на чьей стороне сила. Коффен был силен и смел. У него было двойное преимущество передо мною. Он был вооружен и имел точку опоры, чтобы действовать своим страшным оружием. У меня же не было иного оружия, кроме моих рук, без помощи которых я не мог держаться на воде. Нужно было совершенно обезуметь, чтобы решиться на такой поступок.
Но я считал это вполне естественным. По виду юноша, я обладал ростом и силой мужчины, по ловкости и смелости знал немного соперников. Еще в школе я слыл за атлета, и это воспоминание подстегивало меня напасть на Коффена, несмотря на неравенство наших положений. Что еще побуждало меня на этот шаг? Желание погибнуть в море. Я твердо знал, что рано или поздно это случится, и мне хотелось поскорее покончить с этим в короткой и бешеной борьбе, к которой я и готовился.
Разве у него больше прав на это бревно, чем у меня? Разве жизнь не одинаково притягательна и для него и для меня? Он старше меня, он больше видел свет, он многим насладился, тем больше оснований, чтобы он, а не я ушел из жизни, не я, еще не достигший возраста возмужалости, не успевший помириться с матерью… Эта последняя мысль была для меня невыносима. Она довела меня до безумия и придала моим рукам сверхъестественную силу. Как мне помнится, я никогда не плавал с такой быстротой.
Я приблизился к тому, на кого смотрел как на своего врага. Его глаза были устремлены на меня, и я легко прочел в них его намерение. Он вынул свое копье из воды и с угрожающим видом закричал:
— Еще раз предупреждаю, держитесь подальше! Помните Билла!
Ни его угрозы, ни страшный образ, вызванный его последними словами, не удержали бы меня от борьбы, нет, меня удержали чувство более благородное и мысль более возвышенная, мелькнувшая в это мгновение. Имел ли этот человек действительное намерение устроить мне западню? Не стал ли он сам жертвой оптического обмана? Может, он был искренен и я ошибался на его счет? Если это так, то кем бы я стал, покусившись на его жизнь? А если, победив, я узнаю, что он невинен, жертвой каких упреков совести я должен стать!.. Потому что он несомненно утонул бы, отними я у него копье. Всем известно, что Лидж Коффен, отличный и знающий моряк, был очень посредственным пловцом.
Я решил оставить его в покое, если он сумеет убедительно объяснить мне, что принял траву за весло.
— Мистер Коффен, когда вы сказали мне, чтобы я подплыл к этому предмету, знали вы, что это не весло?
— Нет, я не знал этого. Кроме того, я не утверждал, что это весло, я говорил совершенно честно.
— Это правда, мистер Коффен?
— Это правда, но у меня нет обыкновения клясться по пустякам, и я не вижу теперь надобности в такой клятве. Для чего я стал бы лгать? Неужели вы думаете, я боюсь, что вы отнимете у меня этот обломок? С этим копьем я держу вас в своей власти, как кошка мышь. Даже сейчас мне довольно только пожелать, чтобы убить вас. Но ни за что в мире я не хотел бы сделать это. Я жалею только о том, что ничем не могу помочь вам. Иначе как погубив себя, я не могу вас спасти.
Это объяснение рассеяло все мои сомнения. Я ошибался относительно характера этого человека, теперь я лучше узнал его и, мне казалось, смогу покорнее и терпеливее подчиниться своей участи.
По-видимому, моя драма приближалась к развязке. Я так ослаб, что мог продержаться на поверхности очень недолго. Еще раз спросил я себя, не лучше ли покончить разом и пойти ко дну, перестав сопротивляться. Я почти решился, мне стоило только перестать двигать руками, чтобы опуститься на дно бездны. Я подумал, что это будет самоубийством, хотя и вынужденным обстоятельствами, но тяжким грехом. Однако разве я уверен, что Бог окончательно покинул меня?
В эту минуту до меня донесся голос Коффена. В нем слышалась симпатия человека, тронутого моим положением. Быть может, он все это время думал, в свою очередь, о грехе эгоизма, который совершал, предоставляя меня моему печальному жребию?
— Мэси, если вы поклянетесь вернуть мне бревно по первому моему требованию, я уступлю вам его, чтобы вы могли немного отдохнуть. Я плохой пловец, но все же некоторое время продержусь на воде. Ветер падает, и мы должны быть недалеко от нашего кашалота. Мы сможем к нему пристать и дождемся лодок или корабля, определенно отправленных на поиски. Хотите дать клятву, какой я потребую?
— Да.
— Поклянитесь всеми вашими надеждами на вечное спасение.
Я едва имел силы повторить за ним слова клятвы.
— Довольно! — крикнул он и, бросившись в воду, оттолкнул бревно. Минуту спустя я уже сидел на этом обломке, и так как я был значительно легче Коффена, то бревно поднялось выше над поверхностью моря. Конечно, оно не смогло бы удержать двоих, теперь, сидя на нем, я это ясно понял.
Еще более тронула меня благородная доверчивость Коффена, когда он протянул мне свое копье:
— Возьмите его и гребите все прямо, на солнце. Думаю, корабль находится где-то в той стороне.
Он был тысячу раз прав, доверив мне копье, я скорее пронзил бы им свое сердце, чем посягнул на его жизнь.
Некоторое время я плыл в указанном направлении, все время стараясь не оставить товарища далеко позади, потом уступил ему место и поплыл сам. Мы несколько раз менялись так местами. Все время наши взгляды исследовали горизонт. Тот, кто сидел на обломке, играл роль впередсмотрящего. И Бог смилостивился над нами и вознаградил нас за наше теплое отношение друг к другу.
В ту минуту на бревне сидел я и следил за поверхностью моря. И вдруг мне показалось красное пятнышко не более носового платка — это развевался красный флаг, водруженный нами на теле кашалота. Никогда не забуду выражение лица моего товарища, когда я закричал слабым голосом ура. Я тотчас бросился в воду и уступил Коффену его копье и бревно.
— Да! — в восторге подтвердил он. — Да, конечно, это наш значок! У нас есть шанс на спасение! Капитан Дринкуотер не такой человек, чтобы забыть, что Лидж Коффен совершил с ним двенадцать экспедиций! Люди с «Летучего облака» знают, в каком направлении увлек нас кашалот. Дринкуотер обшарит все уголки океана!
У нас теперь была только одна цель — достигнуть кашалота. Мы напрягали все остатки сил, чтобы плыть и грести.
Наконец мы достигли его. Коффен глубоко вонзил копье в тело животного. Мы воспользовались древком и с его помощью вскарабкались на кита. Очутившись в безопасности, мы упали в изнеможении, более похожие на трупы, чем на живых людей.
Придя в себя, мы начали обдумывать наше положение. По правде сказать, мы не могли считать себя спасенными, а только обрели надежду. Немного передохнув и набравшись сил, мы вскарабкались до самой шеи кита, до того места, где стоял наш флаг. Но какая неожиданность! Трое из наших товарищей уже были там! Весь экипаж шлюпки был налицо, не хватало лишь Билла. Наши удивленные возгласы вывели из оцепенения обессиленных матросов, мы искренне приветствовали друг друга.
Их одиссея походила на нашу, они немногим раньше добрались до кашалота. Один из них торжественно произнес:
— Вот мы и все в сборе, нет только Билла. Никто не видел его?
Не мне было отвечать на этот вопрос. Я поднял глаза на Лиджа Коффена, наши взгляды встретились. Его взор красноречиво говорил: храните тайну.
— Я думаю, он утонул, — уклончиво произнес Коффен. — С нами случилось бы то же, если бы не подвернулся обломок лодки, который помог продержаться на воде так долго.
Наши радостные излияния скоро перешли в меланхолию, и мы серьезно задались вопросом, что нас ожидает. Что мы выиграли, взобравшись на кашалота? Немного отдыха, некоторую отсрочку, какую иногда дают осужденным на смерть, без малейшей надежды на помилование. Если судно или лодки не придут нам на помощь, мы безусловно погибнем.
Каковы шансы на помощь? Рассудок заставлял признать, что они очень слабы. Помощь могла прийти только от «Летучего облака», потому что шлюпки, потеряв нас из виду, должны были вернуться к судну. Мы были уверены, что наши товарищи приложат все силы, чтобы отыскать нас. Но к чему приведут эти усилия? Разве мы не затерялись в пустыне Тихого океана, величайшего на всем земном шаре? Остров в двадцать тысяч квадратных миль показался бы простой точкой на его безграничной поверхности. Что же представляло, в таком случае, тело кашалота, к бокам которого прилепилось пять человеческих фигур, словно раковины к борту броненосца? Судно могло пройти в миле от нас и не заметить ничего. Все зависело от состояния погоды и от большей или меньшей прозрачности воздуха.
А в эти минуты все было против нас. Нас мочил ливень, над морем поднимался туман. Вокруг же не было ничего, кроме волнующегося моря, прекрасный голубой цвет которого перешел в печальный и однообразный серый.
Настала рождественская ночь. Какой она была для пяти несчастных, которые считали себя покинутыми Богом и людьми! Разбитые усталостью, умирая от голода и жажды, с душой, полной смертельной тоски, мы уже не вспоминали и не грезили о радостях Рождества и о пиршестве, в котором могли бы принять участие. Мы были слишком заняты настоящим, мрачным и зловещим, и будущим, еще более зловещим и еще более мрачным.
Солнце зашло. Несмотря на мучительный голод, никто не решился оторвать кусок сырого мяса от горы, которая была под нами, и положить его в рот.
Глава 5
СПАСЕНИЕ. ПОЛЯРНЫЙ БАССЕЙН. ПАРИ ПО ПОВОДУ КИТА
Мы спали. Во всяком случае, я спал глубоким сном. Природа брала свое. Физическая усталость дала нам несколько часов душевного отдыха и полного забвения. Когда я проснулся, мои товарищи уже были на ногах. Коффен взобрался на самую возвышенную точку. Он пристально всматривался в океан.
— Ничего, — сказал он наконец. — Я не вижу ни корабля, ни лодок.
Когда он сошел вниз, его лицо выражало отчаяние. Мы по очереди стали наблюдать за морем. Мы делали это не потому, что питали надежды, а просто потому, что бездействие томило нас и каждый собственными глазами хотел убедиться, что от надежд пора отказаться.
Мы умирали от голода и все-таки не могли решиться попробовать сырого кашалота. Вся душа возмущалась против этого. Если бы мы еще могли развести огонь и сварить его…
Нас начинала жестоко мучить жажда. Уже накануне мы томились ею, а теперь она стала невыносимой. Наше положение усугублялось тем, что утром, в день Рождества, мы выпили двойную порцию рому, а ром, как известно, имеет свойство возбуждать, а не утолять жажду.
Вчера ливень принес некоторую свежесть, ночью ветерок обвевал наши разгоряченные головы, поэтому мы смогли немного поспать. Но в первый день Рождества солнце поднялось над ровным и спокойным морем, на котором едва можно было заметить лишь медленное и слабое колыхание. За час до полудня солнце уже жгло как огонь. Лучи отражались в воде, и море походило на расплавленное стекло.
Эта мертвая тишь и зной мучили наши тела и тревожили душу. Даже если бы на корабле знали, где мы находимся, судно не смогло бы в такой штиль сдвинуться с места.
Некоторые мои товарищи, дошедшие до отчаяния, попробовали подносить куски мяса кашалота к губам. Но это ничуть не помогло им. Мясо кашалота, имеющее в себе массу соли, только усиливало жажду.
— О милосердный Боже, когда же кончатся наши страдания!
Сколько раз раздавались эти вопли отчаяния! Иногда к ним примешивались проклятья морю, солнцу и даже чайкам, чьи белые крылья мы принимали за далекие паруса. Время от времени слышался крик:
— Парус!
Но тот, кто испускал этот вопль, тут же сознавал свою ошибку и посылал проклятья какой-нибудь невинной морской птице, невольно обманувшей его.
Когда этот крик надежды раздался в очередной раз, мы едва обратили на него внимание, до такой степени тяжело было разочаровываться. Но на этот раз магические слова произнес Лидж Коффен. И все-таки мы не сразу поверили своему счастью. Подняв головы, мы заметили, что начинается легкий ветерок. Это обстоятельство победило нашу недоверчивость. Мы все вскарабкались к флагу. Поднявшись на цыпочки, мы смотрели по направлению, указанному Коффеном.
Действительно, там можно было видеть белое пятно, и это пятно ни в коем случае нельзя было принять за крыло чайки. Это был парус, парус, надуваемый ветром. Скоро судно подошло ближе, и мы узнали «Летучее облако».
Тогда из наших уст, вернее, из наших сердец, вырвались горячие восклицания признательности Господу, чья воля спасла нас от смерти. Мы не думали больше о долгих муках, которые перенесли, все было забыто. По установке парусов и направлению хода судна мы убедились, что нас заметили, а если не нас, то, по крайней мере, красный флаг, развевающийся на кашалоте. Было совершенно невероятно, чтобы его не заметили в подзорную трубу.
Скоро мы различили нос корабля, то опускающийся, то поднимающийся, его фок, надуваемый ветром. «Летучее облако» шло прямо на нас.
В одном кабельтове от нас судно остановилось и спустило три самые большие лодки. За нами достаточно было послать всего одну. Но капитан Дринкуотер никогда не забывал дела. Я уверен, даже чрезвычайно обрадованный тем, что нашел своих людей, он не забыл и о том, что мы сидели, по меньшей мере, на сотне тонн великолепного жира.
Что касается нас, то в наших головах было нечто иное, чем кашалот с его тоннами жира. Мы бросились в первую же причалившую лодку.
Не без труда забрались мы на борт «Летучего облака» и, когда наконец очутились на его палубе, едва стояли на ногах.
— Где Билл? — спросил капитан, окинув нас быстрым взором и увидев, что одного из шестерых пропавших меж нами нет.
— Утонул, — ответил старший офицер.
Отвечая, он пристально глянул на меня, и я опять прочел в его взоре: храните тайну!
Я хранил ее, пока он был жив. Мог ли я поступить иначе, когда сам был обязан ему жизнью?
Кашалот-самка был потерян для нас так же безвозвратно, как разбитая в щепы лодка. Но так как старый самец действительно дал нам сто тонн отличного жира, наши трюмы были полны.
В этом сезоне нам больше нечего было делать в Тихом океане, и мы направились в Нью-Бедфорд, куда и прибыли благополучно.
Вместо года мое плавание продолжалось более двух лет, как это обыкновенно случается. Можно было ожидать, что я навсегда излечился от страсти если не к морю, то к охоте на китов. Но я не знал ничего лучше. Воспоминание о моем приключении — или злоключении, как вам угодно, — возбуждало во мне приятное волнение и подстрекало начать все сначала. Без сомнения, я видел смерть совсем близко, но я чувствовал сильное влечение к таким драматическим событиям. Одним словом, я решил снова наняться на «Летучее облако».
У меня уже были опыт и знания настоящего китолова, и на этот раз я мог предлагать свои услуги не как робкий новичок. Я даже мог выбирать между судами, отходящими в Атлантический океан, Тихий или Индийский. Но я остался верен своему знамени, или, вернее, своим товарищам. Кроме того, я искренне привязался к капитану Дринкуотеру: это был прекрасный человек, несмотря на некоторые неприятные привычки. Если оставить в стороне его пристрастие к спиртному, он был уважаемый член общества, хороший моряк, смелый как лев и чрезвычайно великодушный.
К старшему офицеру я не питал подобной искренней симпатии, но во всяком случае и он внушал мне дружеское расположение и, если хотите, чувство благодарности. Воспоминание о трагическом конце Билла было не из приятных, но я не мог забыть, что человек, сказавший мне: «Помните Билла!» — спас мне жизнь, рискуя своей. Я был уверен, что при необходимости он снова будет готов оказать мне такую же услугу.
У меня была еще одна причина предпочесть «Летучее облако». Капитан Дринкуотер на этот раз решил оставить в покое кашалотов и начать кампанию против китов, известных под названием «bowhead» (круглоголовые). Это самый большой из известных видов. Говорят, что они в изобилии водятся в полярном бассейне, в той части Ледовитого океана, которая начинается после Берингова пролива. Что касается китов с плоской головой, то они водятся в широтах более южных.
Мы должны были поднять паруса, лишь только капитан продаст груз спермацета и «Летучее облако» будет вновь покрашено и отремонтировано.
Читатель полагает, может быть, что я воспользовался этой передышкой, чтобы исполнить свои сыновние обязанности, повидать мать, попросить у нее прощения за горе, причиненное моим бегством из дому? Увы, в таком случае он слишком хорошего мнения обо мне. Я ограничился письмом, в котором сообщил, что еще жив и готовлюсь отправиться в новое плавание. Я не исполнил свой долг еще и потому, что «Летучее облако» ушло скорее, чем я думал. Позднее, кстати сказать, я узнал, что мать примирилась с моим выбором. Она была если не в полном смысле бедна, то почти бедна и не могла сердиться на то, что хотя бы один из ее сыновей в состоянии зарабатывать себе пропитание, даже рискуя жизнью в опасных приключениях. Уходя во второе плавание, я не знал о состоянии ее дел.
До сих пор для меня слово «океан» было связано с представлением о пространстве неизмеримом и бездонном. Но я должен был умерить свои фантазии, когда поближе познакомился с частью Ледовитого океана, лежащей в западном полушарии. Когда мы прошли Берингов пролив, мы увидели, что и океан здесь похож на широкий пролив, где можно бросить якорь в любом месте. Когда нет сильного ветра, его поверхность гладка и спокойна. Она похожа на поверхность озера. Что касается глубины, даже самой значительной, то ее смешно и сравнивать с глубиной других океанов. Во всем Ледовитом океане нет места, где лот не достал бы дна на глубине тридцати морских саженей.
Еще недавно географы знали очень мало о море, которое начинается за Беринговым проливом. Сведения, оставленные беднягами, открывшими это море, неполны и недостаточны. В продолжение долгого времени они не пополнялись и не проверялись. Короткие плавания Кука, Коцебу, Бичея в общих чертах ознакомили нас с полярным бассейном. Для того, чтобы мир получил более точные и подробные сведения об этих далеких краях, должна была вмешаться корысть, и она вмешалась, и дело загорелось, как только стало известно, что этот океан таит целые сокровища в виде китового жира.
В 1848 году капитан Ройс, владелец судна «Superior», вернулся в Тейн, порт своего отправления, с ценным грузом — реальным доказательством того, что охота на китов около берегов Гренландии может быть так же успешна, как на западе Американского континента, как в Баффиновом заливе и северной части Атлантического океана. Китоловы сейчас же обогнули мыс Горн и поднялись в моря, омывающие северо-западные берега Америки и северные берега Азии. Можно насчитать немало предпринимателей, составивших себе значительное состояние именно тогда.
В один прекрасный день в середине июля «Летучее облако», миновав острова Диомеда, бросило якорь на широте Северо-восточного мыса в нескольких милях от берега. Мы стояли не одни. Еще с дюжину судов, как и мы, пришли охотиться на круглоголовых.
Море было совершенно спокойно в тот момент, когда мы бросили якорь, и оставалось таким всю ночь, если только можно было назвать это ночью: Полярный круг начинается с Берингова пролива, и солнечный диск в июле исчезает за горизонтом лишь наполовину. Даже в полночь нет полной темноты. Это скорее прозрачные сумерки. Нет надобности ни в лампе, ни в свече, чтобы читать книгу или газету, напечатанную обыкновенным шрифтом. В любую минуту суток, таким образом, можно выследить китов и охотиться на них.
С нашей стоянки был виден на западе арктический берег, печальный и пустынный. Трудно представить себе что-либо более меланхолическое и менее привлекательное. Насколько мог охватить взор, простирались массы льда. Подобно ледяной реке они двигались вдоль берега. Мы не боялись их, потому что ни одна из этих льдин ни по своей тяжести, ни по размерам не могла угрожать судну, так солидно построенному, как «Летучее облако».
Берег в это время еще не был окружен ледяным поясом, между сушей и плавучими льдинами сохранялось значительное пространство. В этой части Ледовитого океана льдины, с которыми приходится воевать мореплавателю, не представляют собою ледяных гор, а поднимаются над поверхностью лишь на несколько футов. Они менее опасны, чем льды Гренландии или антарктических морей, где встречаются ледяные горы высотою до двухсот футов. Объясняется это довольно просто: предполагают, что ледяные горы образуются из тех ледяных масс, которые проходят в море через огромные скалистые ущелья, но в море их разбивают волны, а в окрестностях Берингова пролива земля плоска, там нет ни гор, ни скал, ни ледников, следовательно, не может быть и настоящих ледяных громад. Даже если допустить, что там могли бы быть ледяные горы, они не могли бы плыть, так как море здесь недостаточно глубоко. Попадаются льдины высотой двадцать или тридцать футов, но они стоят на дне и не могут сдвинуться.
Первую ночь экипаж был на страже, и лодки были готовы на тот случай, если бы мы заметили кита. Мы видели, что и другие китобои поступили так же. Но кита не было.
Капитан Дринкуотер не был человеком, способным бездействовать. Он приказал поднять якорь, поставить паруса и держать курс на запад, полагая, что в этом направлении мы встретим китов.
Другие суда тоже подняли якоря, и все пустились в разные стороны. Пользуясь легким попутным ветром, мы прошли в море около двенадцати миль. Капитан спустился в каюту, чтобы отдохнуть.
Когда он снова появился на мостике, то принялся ходить вокруг кабестана, потирая руки, как будто попутный ветер заставлял быстрее обращаться кровь в его жилах. Потом приказал подавать завтрак и, с веселым лицом обратясь к помощнику, произнес:
— Ну, мистер Коффен, вот мы, наконец, в великолепном полярном бассейне, где нас ждет такая чудесная охота. Что вы скажете на это?
— Пока немного, — довольно резко ответил бывалый моряк. — Жиру мы здесь еще не видели.
— Будьте покойны, в жире у нас недостатка не будет. Какое пари вы хотите, что сегодня вечером мы загарпуним кита?
— Ну, — ответил старший офицер, — не стоит держать пари «против», я предпочел бы держать «за», но почти уверен, что проиграю. Думаю, мы не найдем здесь ничего значительного, и, чтобы встретить кита, нам придется двинуться на север.
— Как бы не так! — торжествующим тоном ответил капитан. — Ну-ка взгляните туда! Кит от нас как раз на расстоянии выстрела. Хотя, по правде сказать, он не той породы, которую я предпочитаю.
С этими словами он указал своему собеседнику на finback, который уже с полчаса плавал невдалеке от судна, но никто не обращал на него особого внимания, потому что этот род китов наиболее труден для охоты и гоняться за ним не стоит труда. Китоловы его глубоко презирают, он же, словно нарочно, всюду попадается на глаза в этой части океана.
— Этот не может считаться китом, — спокойно возразил старший офицер. — Если бы вы пустились за ним, вы все равно проиграли бы пари, заключи мы его.
— Отлично, мистер Коффен. Мы загарпуним до наступления ночи кое-что получше finback. Я готов держать пари. А вы?
— Я? Мне безразлично, — ответил старший офицер.
— На что держим пари?
— На бутылку шампанского и ящик лучших сигар.
— Идет!
Старые моряки, слышавшие разговор, отлично знали, что уверенность капитана не имеет прочного основания, он спорил, просто надеясь на случай, потому что нет кита, скорость и повадки которого были бы так неожиданны, непредсказуемы и капризны, как у круглоголового кита. Ни один самый опытный китолов не мог бы предсказать наверняка, как он появится, откуда и куда уйдет. Сегодня их покажется так много, что хватит каждому судну из целой флотилии, а завтра уже не видно ни одного. И никто не сумеет сказать, есть ли шанс встретить их или они исчезли на весь остальной сезон, ушли в какую-нибудь отдаленную часть океана.
Только капитан и его помощник успели заключить пари, как вахтенный заметил стаю китов-убийц (killers). Это особый вид кита. Его узнают по длинному треугольному наросту, который матросы обыкновенно называют «стеньговым кливером». Жиру у убийц не более, чем у finbacks, и китобои их равно презирают, если под рукой есть настоящие киты.
«Летучее облако» прошло от них на расстоянии выстрела, но ни у кого даже мысли не возникло выслать в море людей за такой ничтожной добычей. Это было бы просто потерей времени.
Однако тут произошло нечто странное. Первоначально наше появление напугало китов-убийц, но вместо того, чтобы рассеяться в разных направлениях, стая тесно прильнула к нашему судну. Этот феномен скоро объяснился, несколько голосов сразу закричали:
— Кит!
Из самой середины стаи поднялся фонтан воды, выброшенный огромным китом.
— Лодки в море! — скомандовал капитан.
Минутой раньше все были беспечны и безмятежны, теперь же матросы бросились в шлюпки с ловкостью обезьян.
Глава 6
MUSCLE DIGGER СРЕДИ УБИЙЦ. МАЛЕНЬКИЙ МОРЖОНОК. ПУСТЫННЫЙ БЕРЕГ
Все приготовления были окончены в несколько минут, но для экипажа было довольно и одного взгляда, чтобы увидеть, что много шуму поднято из-за пустяков. Действительно, это был кит, известный под названием muscle digger, или ripsack, или «калифорнийский кит». Полагают, что его любимое местопребывание — северные широты. Он считается также ничтожной добычей и кажется настоящим пигмеем рядом со своими собратьями, например полярными китами. Он походит на них общим сложением, но у него нет той спинной выпуклости, которую неправильно называют плавником. Это не более как жировой нарост, инертный и неподвижный. Но форма этого нароста дает опытному китолову ясные и определенные указания, к какому классу отнести животное.
Наш кит не имел на спине того, что называют «стеньговым кливером», но по размеру и форме нароста мог быть причислен к виду muscle digger. Нам было известно, что жир у китов этой породы низшего качества и ус его ни на что не годен, поэтому мы очень удивились, когда капитан Дринкуотер приказал спустить шлюпки на воду.
Из всех китообразных этот — один из самых опасных и неуловимых. Однако на сей раз захватить его не представляло большого труда, и вот почему. Пока мы спускали в море шлюпки, кит несколько раз всплывал, чтобы запастись воздухом. Каждый раз, когда он появлялся на поверхности, его шумное дыхание меняло свой характер. Наконец, оно стало выражать бешенство и крайний ужас. Даже самые неопытные из нас легко поняли причину этого бешенства и ужаса — присутствие убийц. Они окружили его и нападали со всех сторон, как стая волков в прерии на раненого бизона.
Нам оставалось только, так сказать, сложить руки и наблюдать, как убийцы делают за нас нашу работу. Они делали ее добросовестно. Когда наши шлюпки приблизились к полю сражения, удары хвоста muscle digger становились все слабее и все реже. Было заметно, что конец его близок.
Вид наших шлюпок обратил в бегство убийц, и они рассеялись, оставив свою жертву человеку.
Когда мы приблизились к киту, то увидели, что он еще жив и не совсем истощен борьбой, и нам предстоит немало повозиться, чтобы доставить его на судно. Два гарпуна, брошенных сильной рукой, уже вонзились в его тело. Дальше все было как обычно: резкий удар хвостом, погружение в воду, быстрое разматывание каната. Весь экипаж с тревогой ждал минуты, когда чудовище снова появится на поверхности. Убийцы слишком его измучили, чтобы он мог ударом своего хвоста опрокинуть и потопить нас. Когда он вздохнул, изо рта его показался фонтан, окрашенный в красный цвет. Гарпунами он был ранен смертельно.
Но кит был еще жив, и следовало опасаться его конвульсий. К счастью, наши офицеры, командовавшие лодками, хорошо знали свое дело.
— Назад! — крикнули они в тот момент, когда гарпуны вонзились в тело животного.
И вовремя. В предсмертной агонии кит хлестал хвостом налево и направо. К счастью, мы были на достаточном расстоянии от этих ударов и в безопасности могли наблюдать за ним. Когда кит издох, наши лодки добуксировали его до судна.
— Ну, мистер Коффен, — торжествующе закричал наш капитан, пока мы прикрепляли цепи к хвосту добычи, — не говорил ли я, что мы еще до ночи загарпуним кита?
— Капитан, — ответил Лидж Коффен, бросая презрительный взгляд на muscle digger, — если вы называете это китом, то вы правы. Что касается меня, то я не считаю это животное заслуживающим название кита и думаю, что оно не стоило наших хлопот. От этой дряни не получить и трех тонн жиру.
— Отлично, — небрежно отозвался капитан, по-видимому очень довольный собою. — Я сказал «кита», и это кит. Не знаю, выйдет из него больше или меньше трех тонн, я знаю только одно: что я выиграл бутылку шампанского и целый ящик сигар. Ха-ха-ха!
Он смеялся от всей души, в то время как Коффен строил гримасы, считая себя одураченным.
Капитан продолжал тем же веселым тоном:
— А что, если мы распорядимся принести эту бутылку шампанского и выпьем ее в честь первого кита, убитого в полярном бассейне? Что касается сигар, то я могу подождать до возвращения в Бедфорд.
— Согласен!
— Эй, бутылку шампанского за счет мистера Коффена!
Бутылка с серебряной головкой появилась тотчас. Полетела пробка, вино было разлито по стаканам, и всех офицеров «Летучего облака» пригласили отметить удачу. Капитан был в это утро так доволен, что распорядился выдать экипажу двойную порцию рому. «Чтобы обмыть полярный бассейн,» — так он заявил.
Едва осушили мы наши стаканы, как около судна появилось целое стадо моржей. Каждый раз, показываясь на поверхности, эти любопытные животные испускали какое-то горловое рычание. Я не знаю ни одного звука, с которым мог бы сравнить это рычание. Одна за другой появлялись их головы на поверхности, и скоро их уже было не меньше пятидесяти, все они рычали, производя невероятный шум. Через некоторое время моржи разделились на несколько групп и окружили судно. У них был такой угрожающий вид, словно они решились напасть на нас.
— А если нам напасть на них? — произнес мистер Рэнсом, второй офицер. Это был молодой честолюбец, всегда готовый кинуться в авантюру.
— Можно нам пойти? — спросил он капитана еще настойчивей.
— Конечно, раз вам так хочется, — весело ответил капитан, предвкушая удовольствие.
Речь шла действительно только о развлечении, о времяпрепровождении. Китоловы нападают на моржей исключительно развлечения ради или, в крайнем случае, за неимением под рукой другой добычи.
— Вперед! — шутливым тоном скомандовал капитан. — Вы не найдете лучшего случая отличиться!
Мы сейчас же сели в шлюпки, еще стоявшие в море возле кита, живо взялись за весла и направились прямо к самой большой группе моржей. Поняв наше намерение, все остальные группы присоединились к той, которой мы угрожали, теперь это была целая армия. Мы ожидали, что они нырнут или обратятся в бегство, они же храбро поджидали нас, подняв из воды морды и продолжая испускать гневное рычание. Их белые зубы резко выделялись на черных мордах, что придавало им довольно устрашающий вид.
Моржей нельзя считать ничтожными врагами, иногда они становятся очень опасными противниками для людей, нападающих на них в таких простых лодках, как наши.
— Загарпуньте-ка мне этого жирного, — сказал рулевому мистер Рэнсом и указал на самого толстого в группе. Это был старый самец.
Гарпун попал в бок толстому моржу и глубоко засел в нем. Канат сильно рвануло, и мы изо всех сил принялись тащить его к себе. Целый фонтан крови брызнул из раны. Морж нырнул, и сразу же он и все остальные моржи исчезли, как по волшебству.
Через некоторое время мы вытащили раненого зверя на поверхность. С грозным ревом он бросился на нас. Мы имели прекрасную возможность убедиться, какими средствами защиты обладает морж и как легко он может опрокинуть шлюпку. Известно, что клыки у моржа направлены сверху вниз. Этим своего рода крючком он зацепляется за борт лодки и повисает на нем всей своей огромной тяжестью. Лодка переворачивается, и люди падают в море.
Наш противник готовился к атаке. Он уже поднялся из воды и выпрямился, чтобы зацепить своими крюками борт нашей лодки, но мистер Рэнсом вонзил ему в горло широкое копье. Морж снова исчез. Мы были уверены, что на этот раз он ранен смертельно, зверь бился на туго натянутом канате. Но вот канат начал всплывать, и мы решили, что морж мертв. Однако вытащив канат, на конце его мы увидели лишь рукоятку с обломком копья, его железный наконечник был сорван, когда раненое животное металось в борьбе за жизнь. Самого моржа больше мы не видели.
Зато остальные звери были недалеко. Они высунули морды из воды и грозно рычали. Мы выместили на них свою досаду и загарпунили огромную самку. Кстати сказать, моряки называют самку моржа «коровой». Это неточно. Раз самца они называют обычно «конем», то самка должна быть «кобылицей».
Остальные шлюпки тоже участвовали в охоте и были удачливы не более нас.
Я должен отметить здесь один драматический эпизод, который произвел на меня и на других глубокое впечатление. Когда мы уже готовились взять самку на буксир, вдруг совсем неожиданно появился совсем маленький моржонок, еще сосунок. Он плавал вокруг тела своей матери, испуская жалобные крики, словно блеял ягненок у трупа овцы. Все присутствовавшие при этой сцене были суровыми и закаленными моряками, но не один из них должен был сделать усилие над собой, чтобы не прослезиться. Во всяком случае, среди нас не нашлось никого, кому пришла бы в голову мысль убить этого младенца.
Пока тело его матери оставалось на поверхности воды и мы тащили его на канате к судну, детеныш следовал не отставая, время от времени испуская горестные вопли, как покинутый ребенок. Когда мы начали медленно втаскивать тело моржихи на борт «Летучего облака», он инстинктивно пытался уцепиться за него. Убийцы его матери, столпившись в узком проходе судна, смотрели на него, и на лицах их отражалось страдание. Некоторое время матросы оставались молчаливы и недвижимы, как возле гроба, который сейчас будет опущен в могилу. Трудно поверить, но я утверждаю, что видел, как некоторые из моих товарищей плакали. Один бессердечный негодяй — таких среди нас тоже было немало — позволил себе крикнуть:
— Убейте его и тащите на борт!
Этот жестокий крик произвел впечатление разорвавшейся бомбы. И все-таки бедного моржонка пришлось убить. Так приказал капитан. Приказ был отдан не из жестокости, а из сострадания. Лишенный матери, бедный сирота непременно погиб бы смертью более медленной и мучительной.
Уже несколько недель мы плавали в полярном бассейне без всякой удачи, все наши поиски были тщетны. Мы были сильно разочарованы, да и сам капитан Дринкуотер, казалось, был озадачен. Мы пришли сюда в убеждении, что здесь масса круглоголовых китов, но за все время встретили всего двух или трех. Возможно, их слишком много истребили в предшествующий сезон. О полярном бассейне говорили уже много лет, и туда ходили китоловные суда из всех стран света. В этом году наплыв охотников был так велик, что ни один кит не мог показаться на поверхности без того, чтобы за ним сейчас же не пустилось бы в погоню ближайшее судно. Преследуемые во всех уголках полярного бассейна, киты стали трусливы и осторожны.
Мы уже приходили в отчаяние. Возвращаться без груза или с половиной его было позорно: китолов готов на все, чтобы избежать этого.
Уже несколько дней мы плавали в окрестностях Северо-восточного мыса, и Рэнсом, этот, как я уже говорил, молодой честолюбец, обратился к капитану со следующим вопросом:
— Не считаете ли вы, капитан, что мы могли бы пройтись на шлюпках вдоль берега и поискать удачи?
— Почему бы и нет, — задумчиво произнес капитан, бросая внимательный взгляд на берег. — Но разве вы видите возможность приблизиться к земле? Среди этих льдов нет никакого прохода…
Льды, о которых он говорил, простирались насколько хватало глаз. Они тянулись параллельно берегу, а между ними и землей была чистая вода. Этот ледяной пояс, называемый «ожерельем», состоял из небольших льдин, и такое судно, как «Летучее облако», могло рискнуть пробраться через него. Но капитан Дринкуотер решился бы на это, только если бы знал наверняка, что по ту сторону есть киты, а в этом он не был уверен. Подзорная труба переходила из рук в руки, и никто не замечал на поверхности ни одного фонтана. Общее мнение было таково, что пытаться преодолеть «ожерелье» — значит просто терять время. Только один мистер Рэнсом придерживался противоположного мнения.
— Между льдом и сушей, с упорством настаивал он, — прекрасная водная поверхность, и море там настолько глубоко, что я полагаю, самые крупные киты чувствуют там себя совершенно свободно. Тем более, что я заметил во льдах несколько разрывов. В такую погоду, как сегодня, шлюпка свободно, без малейшей опасности, пройдет через них.
И действительно, на море царила такая тишина, что едва можно было заметить легкую зыбь.
— Отлично, — весело сказал капитан. — Вперед! Если вы рассчитываете найти там кита, ищите его. Отчего не попытать счастья?
Итак, три шлюпки были спущены в море под командованием трех офицеров. Капитан остался на борту.
Мы легко прошли через льды. Но если бы поднялся сильный ветер или посвежел бриз, этот переход был бы тяжел и опасен. Когда льдина оказывалась слишком близко, достаточно было удара багром, чтобы оттолкнуть ее. Кроме того, то здесь, то там в массе льда были промоины и разрывы. Один из таких каналов был сквозным, и мы совершили свой переход, почти не останавливаясь.
Очутившись на свободной воде, шлюпки разошлись в разные стороны в поисках кита. Если бы хоть один был где-то здесь, мы бы тотчас его заметили. Море было гладко и тихо, словно пруд в саду.
До самого полудня мы гребли вдоль берега, не замечая ничего похожего на кита, за исключением finback. Но такая добыча не стоила удара гарпуна. К тому же они были так пугливы и недоверчивы, что не подпускали к себе на выстрел.
— Можно сказать, что китов здесь нет, — с обескураженным видом произнес мистер Рэнсом. — Сойдем на сушу и пообедаем.
Мы сошли на берег. Крепко пришвартовав нашу шлюпку, мы отправились искать сухое местечко, потому что почва была сырая и болотистая. Отыскав его, поспешили приступить к нашему обеду. Он состоял из морских галет и соленого мяса, шутливо называемого «красным деревом» — за цвет и жесткость. Так как мы благоразумно отварили его заранее, то сейчас могли не разводить огня.
Местом нашего пира было подножие небольшой горки, или холмика. Когда мы кончили свой скромный обед, у мистера Рэнсома появилось желание взобраться на вершину этого холма, и он взял меня с собою.
Хотя склон холма был довольно пологий, восхождение оказалось нелегким: поверхность, сырая и скользкая, была покрыта тощими мшистыми кочками, разбросанными, как островки, между ними чернели лужи, в которые мы боялись оступиться. Мы прыгали с кочки на кочку, стараясь не задерживаться на одном месте, потому что ноздреватые кочки не давали надежной опоры, при малейшем давлении на них выступала вода. Белые пятна талого снега придавали пейзажу холодный и унылый вид. Даже в самое лучшее время года эта сторона не имела ничего, что радовало бы взор. Наши впечатления были так же грустны, как, должно быть, невеселы были впечатления французов, когда они отступали из России.
Глава 7
КИТ, КОТОРЫЙ «ПОДМИГИВАЕТ». ТРУДНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Прыгая с кочки на кочку, мистер Рэнсом довел меня до вершины холма. Я говорю «довел», потому что я буквально шел по его следам, заметив у него особенный талант выбирать самые крупные кочки. В ту минуту, когда мы достигли вершины, он вдруг остановился и сделал мне знак не двигаться.
— Тише! — прошептал он. — Подойдите ко мне и посмотрите. Это стоит того.
Я повиновался и тихонько подошел. Оказывается, то, что мы приняли за вершину холма, было хребтом скалы, высоко поднимающейся над морем. Как раз напротив нашей скалы возвышалась другая, совершенно такая же. Эти скалы отделял друг от друга узкий пролив, соединяющий море с небольшой бухтой, окруженной со всех сторон утесами.
Но не на это хотел обратить мое внимание Рэнсом. Маленькую бухту заполнял собою кит — огромный, круглоголовый, могущий дать, и это было видно по первому взгляду, до восьмидесяти тонн жиру. Он расположился у самого устья канала, выставив из воды свою спину, как будто ему было поручено охранять вход в бухту. Так как вода была совершенно спокойна и до такой степени прозрачна, что можно было разглядеть камни и раковины на дне, то мы могли и кита видеть так же ясно, словно в аквариуме.
Это был самец примерно лет ста, если судить по белым пятнам около отверстий его дыхал. С нашего места мы видели, как его дыхала то закрывались, то открывались, — китоловы называют это «миганием». Такое любопытное зрелище доводится наблюдать не часто.
— Вот чего я никогда не видел, — сказал мне мистер Рэнсом, пока мы любовались «подмигивающим» китом. — И вообще я никогда не видел живого кита так близко, хотя занимаюсь этим ремеслом с самого раннего детства. Взгляните, как этот старый самец нежится! У него вид счастливее, чем у короля!
Ей-богу, он и вправду выглядел счастливее короля. Не могу выразить, какое странное впечатление произвело на меня это замечательное чудовище, которое я мог рассматривать, как простую форель или красную рыбу в садке. Через правильные промежутки времени кит вздыхал медленным и глубоким вздохом, выпуская воздух через дыхала. Иногда, словно играя, он легонько ударял по воде своим огромным хвостом, и вода шумела и пенилась, как за винтовым пароходом.
Мы долго наблюдали за ним. Как истые китоловы, мы не могли насытиться этим зрелищем. Но тут покой старого самца был резко нарушен.
В скале напротив была расщелина, наполненная льдом, — получился глетчер в миниатюре. Несмотря на то, что на земле кое-где еще лежал снег, солнце грело сильно. Под его жаркими лучами край глетчера неожиданно оторвался и упал в тихие воды бухты. Раздался шум, похожий на удар грома, и вода сильно взволновалась. Широкие круги пошли в том месте, куда упала ледяная глыба, и, расширяясь все больше и больше, исчезали у берегов. Кит тотчас же нырнул. Но вместо того, чтобы нырнуть вниз, вертикально, как обычно ныряют киты, он нырнул боком, не подняв своего хвоста над поверхностью воды. Из этого мы заключили, что бухточка недостаточно глубока.
Несмотря на захватывающее зрелище, мистер Рэнсом не забыл своих обязанностей по отношению к «Летучему облаку» и его команде.
Лишь только кит нырнул, мы вернулись на свой бивак, спустившись с холма гораздо скорее, чем поднялись на него.
— В лодку! — крикнул он еще издали нашим товарищам. — Скорей забирайте все!
Так как собрать вещи было недолго, то мы уже через несколько минут были в лодке, на своих местах и с веслами в руках.
Мы очень старались действовать бесшумно, но несмотря на все предосторожности, когда мы достигли входа в бухту, то не нашли кита: он уже скрылся. Целый час мы наблюдали и за бухтой, и за морем, но не заметили ни одного фонтана на море, ни даже легкого волнения на его поверхности. Ледяная глыба медленно отплывала от скалы, вода в бухте становилась такой же спокойной, как до ее падения. Но где же левиафан?
Этот вопрос, на который никто не мог ответить, был истинной головоломкой для большинства из нас, особенно молодых. Но только не для нашего рулевого, старого морского волка, и мистера Рэнсома, опытного китолова, несмотря на его молодость.
Когда наше терпение истощилось, рулевой сказал:
— Кит пошел на дно и там и остается. И, — добавил он с выражением отчаяния, — неизвестно даже, сколько времени он может там оставаться, если предположить, что это действительно круглоголовый. Вы уверены, что это круглоголовый?
Молодой офицер был до крайности недоволен этим вопросом, ставящим под сомнение его профессиональные познания.
— Уверен ли я, что меня зовут Рэнсомом? — резко ответил он. — Конечно, это был круглоголовый.
— Прошу прощения, сударь, — произнес рулевой, видя, что допустил неловкость. — Я не знал, что вы видели животное так близко. Но раз это круглоголовый, то невозможно определить, сколько еще времени он останется под водою. Они сидят на дне, как крабы.
— В путь! — скомандовал мистер Рэнсом, досада которого еще, по-видимому, не улеглась. — Бесполезно терять здесь время. Поглядим, что сталось с другими лодками, и вернемся на судно.
Мы выплыли в открытое море и вскоре соединились с остальными. Мистер Коффен, как старший, подал нам сигнал идти за ним.
Мистер Рэнсом был все еще удручен нашей неудачей, тем более, что он сам настаивал на этой несчастной экспедиции. Может быть, он находил некоторое утешение в сознании, что и две другие шлюпки потерпели позорное фиаско. Могу сказать даже, более позорное. В конце концов, мы хотя бы видели настоящего кита, а они встретили только одного finback и, конечно, не стали его преследовать.
Как бы то ни было, выражение лица Лиджа Коффена было мрачно и озабоченно. Мы это заметили тотчас же, как встретились с нашими товарищами. Обычно ему было несвойственно печалиться или досадовать в случае неудачи. В чем же причина его озабоченности?
Мы очень скоро узнали это. Небо покрылось тучами, ветер стал крепнуть, сильный бриз подул с берега, и на море, до сих пор спокойном, показались небольшие волны.
Мы ясно видели в открытом море «Летучее облако», но были отделены от него ледяным поясом шириною в две мили. Если бы ветер перешел в ураган или даже значительно усилился, нам было бы очень трудно преодолеть проходы.
Чтобы вполне закончить картину грозящего бедствия, надо отметить, что был уже поздний час. Солнце стояло низко, и что еще более затрудняло наше положение, так это туман, поднимающийся надо льдами и над морем. Пока это был довольно легкий туман, но по некоторым признакам можно было ожидать, что скоро он сгустится, он уже и начал сгущаться с подветренной стороны.
Когда все три шлюпки плыли уже вместе, мистер Коффен произнес зловеще и торжественно:
— Вот туман, не предвещающий ничего доброго. Мы еще видим «Летучее облако», но если туман начнет сгущаться с этой стороны, мы его больше не увидим.
Внимательно изучив направление ветра, он обернулся к нам и проговорил чуть спокойнее:
— Ну, если мы рассчитываем ночевать сегодня на борту «Летучего облака», надо поспешить. Налечь на весла! Вперед!
Все шлюпки слышали команду, и мы двинулись прямо по направлению к льдам. Но шлюпка старшего офицера шла быстрее остальных и уже проходила ледяное поле, тогда как остальные еще не дошли до него.
Мы заметили, что вид льдов переменился. Оторванные глыбы, гонимые ветром, бились по воле волн, сталкивались и разбивались одна о другую. Даже те, кто не был знаком с особенностями арктических плаваний, и те поняли грозящую опасность. Но мы ничего не могли поделать. Оставалось только идти вперед.
Обе лодки последовали по каналу за первой, стараясь держаться по возможности ближе к ней. Наша была второй, за нею, на расстоянии весла, следовала третья, под командой офицера Гровера. Три или четыре кабельтова мы шли довольно спокойно. Но глыбы льда, оторванные ветром от берега, загромоздили все свободное пространство: помимо ветра, очевидно, их несло еще подводное течение, и притом очень быстро. Мы могли это заключить по тому, как изменялось по отношению к нам положение «Летучего облака».
Сперва судно было прямо перед нами, потом оно оказалось с бакборта и продолжало удаляться в том же направлении, или, вернее сказать, мы удалялись от него а противоположную сторону.
— Что вы об этом думаете? — спросил мистер Рэнсом, обращаясь к Гроверу.
— Я думаю, наше положение скверно.
Этот ответ заставил нас встревожиться.
— Я это хорошо вижу и сам, — заметил мистер Рэнсом. — Но что мы могли бы предпринять?
— Самое лучшее — поторопиться выйти из этих льдов.
— То есть развернуться и направиться к берегу? Мы ведь прошли едва половину ледяного поля.
«Летучее облако» еще виднелось, но уже казалось призраком в сгущающемся тумане, а лодка Лиджа Коффена — точкой. Она подошла к концу ледяного пространства, и, по-видимому, ей удалось выбраться на простор. Нас же глыбы теснили все больше и больше, а идти предстояло не меньше мили. Наконец, канал стал настолько узок, что мы с трудом действовали веслами, льдины с глухим стуком ударялись о борта лодки.
Скоро положение стало так опасно, что оба офицера, каждый со своей шлюпки, с беспокойством глядели по сторонам, не зная, идти вперед или возвратиться. Выбор был вскоре сделан. Туман с моря стал настолько густ, что не было видно положительно ничего. Ветер поднимал и колыхал этот туман, походивший на тучи дыма над горящим лесом. И «Летучее облако», и шлюпка старшего офицера скрылись из глаз одновременно. Но нас это уже не слишком тревожило, так как даже если бы мы и видели их, то добраться до них все равно не было ни малейшей возможности.
— Правьте к берегу! — крикнул мистер Рэнсом мистеру Гроверу, решившись окончательно. — Вернемся на сушу! Это единственный шанс на спасение!
Мистер Гровер не колебался ни секунды. Да и то сказать: канал так сузился, что мы едва смогли повернуть шлюпку. Вследствие этого маневра лодка мистера Гровера очутилась впереди, а мы последовали за ней. Канал все суживался, льдины все наползали, и мы на самом деле могли оказаться в тисках. Все понимали размеры опасности: если бы наши лодки были раздавлены, нам не миновать гибели.
Иногда вы вынуждены были спрыгивать на лед и отталкивать льдины ногами, чтобы очистить проход, или вытаскивать лодку и тащить ее, как сани, через какую-нибудь огромную льдину, загораживающую путь.
Каждый сознавал, что речь идет о жизни и смерти. Между нами и вечностью — только лодка, только кедровая доска толщиною в полдюйма…
Еще полмили боролись мы со льдом. Китоловам часто приходится бороться с ним, и они боятся его так же, как ветра и волн. В конце концов, мы вышли из этой борьбы победителями, хотя и не без потерь. Ледяные глыбы кое-где повредили легкий корпус лодок.
Когда мы оставляли этот берег, дикий и пустынный, он казался нам отвратительным и негостеприимным. Сейчас, возвращаясь к нему спустя несколько часов, мы смотрели на него как на землю обетованную, текущую медом и млеком, и чувствовали себя счастливыми и благодарными за спасительное убежище.
Глава 8
ЛЕДЯНОЙ БИВАК. ОСАЖДЕННЫЕ МЕДВЕДЯМИ
Причаливая, мы искали глазами то место, где уже останавливались, но не могли его найти. Сначала мы были очень удивлены, но подумав, легко объяснили это. Мы все время плыли на запад, увлекаемые льдами, и, естественно, оказались на большом расстоянии от того места, где высадились утром.
Конечно, мы не придали бы этому факту большого значения, если бы он не говорил о том, как заметно удалились мы от «Летучего облака».
Было самое время позаботиться о стоянке, так как уже наступала ночь. Мы не могли быть очень разборчивы. Единственное, чего мы желали, — найти не слишком сырое местечко, где можно было бы расположиться. Несмотря на всю скромность наших притязаний, стоило немалого труда осуществить их: по всему берегу почва была насыщена водой, это было настоящее болото.
Долго блуждали мы среди мшистых кочек, из которых под нашими тяжелыми охотничьими сапогами брызгала вода, как сок из апельсина, пока не попали на возвышенное и сравнительно сухое место. Наше внимание привлекла большая скала. Это был единственный камень на всем видимом пространстве. Очевидно, это был гранитный валун с отвесными боками и площадкой наверху — нечто похожее на пьедестал, ожидающий своей статуи. Вокруг этого пьедестала почва была довольно суха и плотна, так что мы могли здесь растянуться и спокойно заснуть.
Нечего было и думать разложить огонь, так как у нас не было дров, весла и древки гарпунов — вот все, что было у нас деревянного, да и не нужен нам был огонь для варки пищи: варить было нечего. Мы взяли с собой только необходимое всего на день и, на всякий случай, еще немного сухарей. Как нарочно, провизии было очень мало. Хлеба и воды у нас не было даже столько, сколько полагается арестантам, и наши порции были похожи на те, какие дают, когда угрожает голод.
Однако не голод причинял нам наибольшие мучения. Когда мы оставляли «Летучее облако», мы были далеки от мысли, что нам придется провести ночь на суше или вообще где бы то ни было, а не в наших удобных койках, и поэтому мы не взяли с собою ни одеял, ни даже плащей. А ветер, словно издеваясь над нашей беззащитностью и непредусмотрительностью, дул все сильнее и леденил до костей.
Наши мучения доходили уже до того, что мы подумывали сломать скамейки в шлюпках и разложить огонь, чтобы согреться. Кто-то предложил это, и мне казалось, что мы сейчас так и сделаем, как вдруг случилось происшествие, заставившее позабыть и о холоде и о голоде.
Полночь уже миновала, но никто из нас не спал. И как можно было спать, когда не попадал зуб на зуб? Некоторые, правда, улеглись на земле, другие прыгали и плясали под скалой, чтобы согреться. Заговорили о еде, стали рассуждать о том, что будем есть завтра.
— Что есть! — воскликнул старик Гровер, достаточно знакомый с этим краем. — Дети мои, да ничего!.. В этой проклятой стране нет ничего съедобного — ни животных, ни растений. Единственные животные, которых я встречал в этой части Сибири, это медведи вроде полярных. Я встречал их иногда целыми стадами, но не представляю, чем они могут питаться здесь.
— Хотел бы я, чтобы сюда пришел хоть один, — проговорил молодой китолов, испытывавший волчий голод.
— Почему это? — спросил его товарищ.
— Почему? Да потому, что я с удовольствием поужинал бы медвежьим окороком, то есть, я хотел сказать, позавтракал, так как время ужина давно прошло. Тогда, по крайней мере, стоило бы сломать для костра скамейки наших лодок. Да, впрочем, я чувствую себя способным съесть целого медведя сырым…
— При условии, что он сам вас не съест, — насмешливо произнес мистер Гровер. — Ясно, молодой человек, вы не представляете себе, что такое сибирский медведь, иначе вы не торопились бы свести с ним знакомство. Тсс! Это его рев! Да, клянусь левиафаном, это он!..
Лишь только он сказал это, все разговоры смолкли, и мы с беспокойством стали прислушиваться. Звук, который мы услышали, походил не то на рычание, не то на храп, но не был ни тем, ни другим. Он мог бы сбить с толку неопытных, если бы старые китоловы единодушно и немедленно не заявили, что это рев полярного медведя.
Вышла луна, и стало светло. Мы могли видеть далеко вокруг, но не заметили ничего, похожего на медведя или на какое-либо четвероногое животное.
Может быть, мы бы увидели что-нибудь, если бы весь снег стаял, но земля была испещрена черными и белыми пятнами, и эти пятна мешали разглядеть окрестность. Но одно не позволяло сомневаться в присутствии где-то около нас живого существа, — это странный звук, не то храп, не то кашель.
— Медведь, я уверен в этом, — произнес мистер Гровер. — И их, по крайней мере, два, — быстро добавил он, внимательно осмотрев кругом землю, испещренную пятнами. — Наверное, самец и самка. И пусть волк меня съест, если за ними не прыгает медвежонок! Пусть подойдут сюда. Теперь, дети мои, внимание! Если они подходят с дурными намерениями, будет свалка.
Мы увидели двух медведей с детенышем. Их тени резко выделялись при свете луны. Они не забрели сюда случайно, они шли по следу прямо на нас. Они почуяли нас, так как шли с подветренной стороны, и было очевидно, что они имели дурные намерения, как говорил мистер Гровер.
Что делать? Надо быстро решиться на что-нибудь, враг не оставляет нам времени на колебания! У нас было только одно огнестрельное оружие — двустволка мистера Рэнсома — и одно холодное — копье, которое захватил с собою мистер Гровер больше в качестве трости, чем оружия нападения или защиты.
Мы были так же готовы к встрече медведей, как школьники, застигнутые в разгар игры. Поняв свое бессилие, мы решили отступить к нашим шлюпкам. К несчастью, звери шли именно с этой стороны. Как мы, они шли справа по берегу. Пытаться пройти там значило, как говорится, лезть им в пасть.
Мы не знали, что предпринять. Для всех была очевидна степень опасности, но избежать ее было, по-видимому, невозможно, и мы уже сознавали, что кому-то предстоит стать жертвой этих диких зверей. Мы были вполне в их власти.
Было только одно, чего не следовало делать в нашем положении и что сделал мистер Рэнсом. Чтобы остановить животных, он выстрелил из обоих стволов. Но, так как ружье было заряжено дробью на уток, с таким же успехом можно было выстрелить в воду или вообще дать холостой выстрел. Я сказал «с таким же успехом» и ошибся: конечно, было бы разумней сделать холостой выстрел.
Произошло то, что нетрудно было предвидеть. Раны оказались слишком незначительны, чтобы вывести любого из этих гигантов из строя, но они были достаточны, чтобы привести их в бешенство. Теперь они кинулись на нас, рыча от боли и ярости.
Мы уже были готовы броситься врассыпную, предоставляя случаю решить, кому погибнуть за всех, как раздался голос:
— На скалу, ребята, там мы будем в безопасности!
Эта счастливая мысль пришла в голову старому Гроверу.
Мы не заставили его повторять и начали взбираться вверх со скоростью, с какой взбирается на дерево человек, чтобы спастись от рогов разъяренного быка. И вовремя: самка, более скорая на ногу и сильнее рассерженная, буквально наседала нам на пятки. Последним бежал мистер Гровер. Он протянул руку и ударил копьем медведицу в морду. Она сразу остановилась, и мы успели взобраться на площадку.
Первое, что пришло нам в голову, когда все оказались в безопасности, это поздравить друг друга с избавлением от очередной смертельной опасности. Мы громко закричали ура, как умеют кричать китоловы. Вероятно, эхо пустынного берега никогда не повторяло подобного крика. Второй раз в этот день мы чудом спаслись от гибели, но на этот раз наша радость была едва ли не острее. Во льдах опасность была велика, но шансы погибнуть равнялись шансам на спасение. Встреча с медведями не оставляла надежды уцелеть.
Однако скоро мы увидели, что поторопились радоваться и торжествовать победу. Мы увидели, что медведи и не думали удаляться. Они беспокойно бродили вокруг скалы и яростно рычали. Иногда они поднимали вверх свои морды, и из открытых пастей вырывались целые клубы пара, как из паровой машины.
Мы были твердо уверены, что на скалу им не взобраться, даже если бы они решились на это. Кроме того, Гровер со своим страшным оружием стоял на страже у единственного выхода на площадку.
Да, но чем все это кончится? Вот вопрос, внушавший нам тревогу. И больше всех озабочены им были опытные охотники, потому что лучше других понимали, что нам предстоит. Мы были новичками и с трудом верили тем ужасам, которые рассказывал о полярном медведе мистер Гровер. Однако вскоре нам довелось убедиться не только в том, что все это правда, но и в том, как свиреп и злопамятен этот зверь. Так же, как и его собрат, серый медведь Скалистых гор, он бросается на того, кто его ранил, не рассчитывая последствий, а если не может отомстить сейчас же, способен с диким упорством ждать случая очень долго.
Хотя мы еще не знали всего этого, но у нас были причины чувствовать печаль и озабоченность. Начать с того, что нас было двенадцать человек на площадке в двадцать четыре квадратных фута, и мы все время должны были стоять, тесно прижавшись друг у другу. Кроме того, мы были голодны, и некоторые едва держались на ногах от слабости. Но и страдания голода были ничто перед муками, причиняемыми холодом. Северо-восточный ветер буквально хлестал нас на нашей площадке, а иногда его очередной порыв действовал словно удар ножа. Чтобы хоть немного согреться, некоторые начали прыгать, словно одержимые пляской святого Витта.
Положение становилось прямо-таки невыносимо, но деваться было некуда. Можно было терпеть, если бы у нас была хоть малейшая надежда через какое-то время вырваться из этого ада, но надежды не было, совсем наоборот, Гровер и другие «северяне» не переставали твердить, что медведи снимут осаду лишь через несколько дней, только голод может заставить их уйти.
Это была достаточно печальная и страшная перспектива. Оставаться в таком положении, как мы, несколько дней, даже два, значило умереть. Без воды и пищи, промерзшие до костей, не имея возможности ни на миг закрыть глаза, принужденные все время стоять, — разве могли мы совладать с подобными мучениями?
С минуты на минуту напряжение возрастало, и вдруг кто-то заявил, что лучше было бы попытаться сойти с площадки и спасаться кто как может: чем хуже придется тем, кого настигнут звери, тем вероятнее спасутся те, у кого быстрые ноги. Не правда ли, это была смелая мысль, или, вернее, безумная? Но мы так много перенесли, что она показалась здравой. Большинство уже было готово последовать ей, когда мистер Рэнсом закричал:
— Постойте! Кажется, я нашел лучший выход!
— Какой? — спросило сразу несколько голосов с явным сомнением: подчиненные легко теряют уважение к старшим, когда они оказываются не на высоте задачи.
— Пробиться к нашим шлюпкам, — ответил мистер Рэнсом. — Надеюсь, нам это удастся. Немного терпения, и вы увидите.
Так невовремя и неудачно разрядив свое ружье, мистер Рэнсом, несмотря на то, что формально оставался начальником экспедиции, теперь, насколько возможно, оставался в стороне и не отдавал никаких приказаний. Он выглядел сконфуженным и в то же время озабоченным. Очевидно, он глубоко переживал свои промахи — первый, когда предложил предпринять эту злосчастную экспедицию, и второй, выстрелив по медведям дробью и вызвав их гнев. Можно было сказать, что он изнемогал под бременем своей ответственности. Мало того, он не мог воспользоваться и своим ружьем, ибо свинец и порох у него были, а пистоны по недосмотру оставались в лодке, и мы знали об этом.
Когда он призвал нас к терпению, это было излишне. Мы исчерпали весь запас терпения и теперь смотрели на него с надеждой и ожиданием: что он предпримет?
Каково же было наше удивление, когда он зарядил свое ружье, и не только на этот раз пулей, но и надел пистон! Оказывается, роясь в карманах, он нашел два завалявшихся пистона. Этого было довольно, так как мистер Рэнсом был таким же хорошим стрелком, как и гарпунщиком. Когда он вскинул ружье к плечу, мы уже были уверены, что блокаде конец и мы будем свободны. Надежда не обманула нас. При лунном свете мистер Рэнсом мог стрелять, как при свете дня, кроме того медведи были довольно близко. Два выстрела раздались один за другим. Взрослые медведи рухнули. Один детеныш оставался жив, однако через несколько мгновений и он отправился вслед за родителями: мистер Гровер имел зуб против всех полярных медведей, и молодых и старых, и его не могли растрогать ни младенчество, ни беспомощность врага. Он пронзил его копьем.
Глава 9
ОТЧАЯНИЕ. ФЛАГ ИЗ МЕДВЕЖЬЕЙ ШКУРЫ. НА БУКСИРЕ У КИТА
Мы горячо благодарили мистера Рэнсома и поздравляли с таким удачным двойным выстрелом. Наша благодарность имела основания. Не говоря о том, что он избавил нас от смертельной опасности, он еще и снабдил нас провиантом.
И все же мы были в большом замешательстве. До такой степени голода, чтобы есть сырое мясо, мы еще не дошли, сварить же нашу добычу было не на чем. Снова заговорили о скамейках с лодок, и по зрелом размышлении некоторые из них решили-таки употребить на топливо.
Несмотря на страшный голод, ели мы, однако, без особого аппетита, потому что мясо полярного медведя, питающегося в основном рыбой, имело отвратительный вкус. Возможно, окорока оказались бы вкуснее под маринадом с сахаром, но у нас не было ничего для того, чтобы их замариновать. Приготовленный таким способом окорок американского черного медведя — подлинное объедение. Зато нам было из чего выбирать, мы ели самые нежные куски.
Наш ужин был скорее завтраком. Мы еще не кончили его, как небо на востоке окрасилось розовым и загорелось золотом, предвещая великолепный восход солнца. Всем сердцем мы желали ясного дня. Избавившись от перенесенного ужаса и отдохнув от волнения, вызванного радостью спасения, мы снова, даже сильнее, чем раньше, были охвачены тревогой за свою дальнейшую судьбу. Где «Летучее облако»? В какой части, с какой стороны ледяного поля? В виду ли берега? Если нет, то мы подвергаемся страшной опасности. Это хорошо понимали наши ветераны.
Лишь только озарилось небо, все взоры обратились к морю. Некоторые, в том числе и оба наши офицера, взобрались на вершину скалы. Но ни простым глазом, ни в подзорную трубу нельзя было нигде заметить «Летучее облако». У берегов виднелась полоса чистой воды, потом ледяное поле и плавучие льды, было видно, как льдины плыли и сталкивались друг с другом. Дальше во все стороны, насколько хватало глаз, расстилалось зеленое море. Ни берега, ни паруса.
Когда солнце поднялось высоко, горизонт оставался все так же пустынен. Мы восприняли это как новый жестокий удар судьбы. Некоторые из нас не понимали всей безнадежности положения, пока им не объяснили его. По неопытности мы не хотели верить в серьезность ситуации, как недавно, когда нам говорили о свирепости полярных медведей, готовы были даже смеяться над этим. «Ну и что же, что мы не найдем свой корабль, — рассуждали новички, — разве мы не можем добраться до какого-нибудь населенного пункта, а оттуда тем или иным путем на родину?» Мы были согласны даже на встречу с дикарями и не исключали ее, зная, что они не злобны.
— Вы говорите о дикарях! — пытался остудить наши головы старый Гровер. — Что дикари! Нечего нам думать о дикарях и не их надо бояться. Дикари!.. Да я не хотел бы ничего лучшего, как встретиться с ними. Но их нет в этой проклятой стране, нет! Здесь нет ничего похожего на человеческое существо! Нет, нет! Не люди и не звери должны беспокоить нас. Взгляните вокруг — насколько хватает взор, вы видите все ту же негостеприимную землю. Мы можем идти две недели и не найти пищи, достаточной для того, чтобы накормить хотя бы кошку. На протяжении тысяч милей земля все такая же, как эта: черная грязь, болотные кочки, покрытые жалкой травой…
Мистер Гровер был несомненным авторитетом, и никто не подумал не только возражать ему, но даже обратиться за подтверждением его слов к другим «северянам». Даже самые неопытные начали убеждаться, что «Летучее облако» мы можем и вправду не увидеть никогда.
Чем больше и трезвее мы размышляли, тем крепче утверждались в этом. Все было против нас. Я уже не говорю о ледяном поле, которое тянулось сплошной полосой с востока на запад. Это поле меньше всего тревожило нас, мы чувствовали, что способны так или иначе преодолеть его. Но к чему нам его переходить, если нигде не видно нашего корабля?
Увы! Мы не видели его, и не было у нас надежд его увидеть вновь. Он стоял на якоре, когда его покинули три лодки. Судно оставалось на месте, поджидая их. Одна из лодок возвратилась, но какие известия она принесла на борт? Даже сам Лидж Коффен, если бы даже он был оптимистом, что утешительного мог бы он сообщить? А он был пессимистом. И в последний раз он видел нас, когда мы отчаянно боролись со льдами. Так как он сам испытал все превратности и ужас этой борьбы, проходя канал, то, конечно, вполне мог быть уверен, что мы затерты льдами. По его мнению, мы погибли, и, наверное, он так и сказал капитану Дринкуотеру.
Чем более мы думали об этом, тем более считали себя погибшими. К довершению несчастья, небо опять покрылось тучами, и с востока на нас надвигался густой туман. Это было повторением вчерашнего, только туман поднимался сегодня часом раньше. Уже в полдень мы не могли разглядеть солнца. Нас окутал сумрак. Мы совершенно упали духом. Последний луч надежды погасал в нас.
Остаток дня мы провели в полном бездействии. Даже когда туман временами давал возможность исследовать горизонт, мы не делали этого, до такой степени все пали духом. Туман, покрывший море и землю, позволял видеть не более чем на двадцать ярдов вокруг. Он стоял всю ночь — вторую ночь, которую мы проводили на этой негостеприимной земле. Даже если бы мы могли видеть сквозь туман, мы бы равным образом ничего не выиграли. Корабль не мог бы приблизиться к нам, потому что из-за тумана должен был бы стоять там, где он его захватил.
Не имея возможности видеть корабль, мы прислушивались, в надежде услышать сигнальный выстрел пушки. Но ничего не было слышно, кроме пронзительных и жалобных криков птиц, которые словно совершали погребальный обряд над нами.
Эта ночь была не теплее предыдущей, но провели мы ее не так, как накануне, на площадке, обдуваемые ледяным ветром. События страшной минувшей ночи дали возможность троим из нас выспаться в тепле. Три матроса ухитрились сделать себе одеяла из шкур убитых медведей, вывернув их наизнанку, мехом внутрь.
Мы больше не страдали от голода, но вынуждены были принести в жертву еще несколько скамеек с наших лодок, чтобы развести огонь. Теперь мы решились на это гораздо легче, мы уже были готовы пустить в ход и наши весла, и даже самые шлюпки, в полной уверенности, что нам уже больше никогда не доведется ими воспользоваться. Мы дошли до этого. Или почти дошли.
Единственное, что не позволяло нам предаться полному отчаянию, была мысль о том, что капитан Дринкуотер сделает все возможное для нашего спасения. Могло показаться странным, что мы в нашем положении еще возлагали надежды на него. Но причины этого легко понять. Когда капитан не был пьян, он действительно был в высшей степени находчив и менее всего способен опустить руки. Он никогда не терял надежды сам и не оставлял в бедственном положении матросов, кто бы они ни были. Юнга ли, поваренок ли был смыт волной или им угрожала опасность, он принимал в них такое же участие, как и в каком-нибудь самом опытном китолове. Зная, что он именно таков, мы были уверены: он постарается отыскать нас. Мы боялись только одного — чтобы он не счел нас безнадежно погибшими.
Прошедшие сутки могли дать кое-кому из нас повод скептически отнестись к его сообразительности, и обстоятельства могли оправдать этот скептицизм: мы не видели своего корабля целый день и целую ночь, не слышали его сигналов. Еще сутки в таком положении, и многие бы решились, очертя голову, броситься на поиски русских поселений на Камчатке, прямо по болоту. Но не все думали так, как они, большинство упорно верило в капитана Дринкуотера. Что касается меня, то я, как и наши офицеры, тоже верил в него.
Наша вера была вознаграждена не позднее следующего утра. После полуночи туман рассеялся, и как раз на рассвете мы услышали пушечный выстрел. Все сразу узнали голос единственной пушки «Летучего облака».
Нашему восторгу не было предела, когда мы увидели свое судно. Оно было под парусами и, очевидно, исследовало ледяное поле и полосу воды между льдами и берегом. Наша радость граничила с безумием, и мы бросились на вершину скалы. Наверное, мы вели себя так же странно, как в тот день, когда нас осаждали медведи или когда мы танцевали, чтобы согреться. На этот раз мы тоже танцевали, но иной танец и под иным впечатлением. Некоторые оглушительно кричали.
Старики вели себя более осмотрительно: в конце концов, было неизвестно, замечены ли мы экипажем «Летучего облака». Принимая во внимание расстояние, заметить нас было нелегко. Мы довольно хорошо видели корабль, но разве можно сравнить с судном под парусами одного или даже двенадцать крошечных человечков на берегу? Это точка, не более. Если корабль пройдет мимо, наше положение станет совсем безнадежным: исследовав берег и ледяное поле и не обнаружив ничего, он вряд ли возвратится обратно, и мы будем покинуты навсегда. Мы, со своей стороны, не могли и думать пробраться через ледяное поле и достигнуть корабля, тем более, что наши шлюпки потеряли большую часть своих скамеек.
Эта мысль сразу отравила нашу радость, некоторые даже кинулись из одной крайности в другую и впали в отчаяние. Более сдержанные оказались и более твердыми, когда пришел нужный момент. Старый Гровер, подцепив на острие своего копья шкуру убитого медведя, поднялся на вершину скалы. Забравшись на самое высокое место, он поднял копье в воздух. Колеблемый ветром белый мех походил на парламентерский флаг и мог привлечь внимание наших товарищей. Для большей верности мистер Рэнсом встал рядом с Гровером и начал стрелять из ружья. Выстрелы следовали один за другим.
Чем было привлечено внимание экипажа «Летучего облака» — выстрелами, пороховым дымом или медвежьей шкурой? Мы не задавались этими вопросами. Главное, что нас заметили! Когда мы увидели, что судно остановило свой ход и неподвижно встало в открытом море, взрыв радости потряс нашу маленькую команду. Мы были спасены.
Надо ли рассказывать, что произошло дальше? Это и так легко себе представить. Чтобы достигнуть «Летучего облака», нам даже не пришлось пробиваться через ледяное поле, отделяющее берег от моря. Оказалось, что к востоку от нас был проход, не замеченный нами, но открытый экипажем «Летучего облака». Судно сигналами приказало нам оставаться на месте. Если бы мы не поняли сигналов, то могли бы испугаться, потому что, к нашему величайшему удивлению, корабль поднял паруса и произвел маневр, словно удалялся от нас. Но, сделав два узла, он снова направился к нам и, насколько мы могли судить издали, спустил шлюпки в море.
Наши офицеры следили за всеми его маневрами в подзорные трубы и сообщали о них нам. Вот они сказали, что от судна отошла шлюпка. Потом передали, что она идет на ледяное поле. Мы поняли, в чем дело, когда Лидж Коффен причалил свою лодку к нашим и закричал:
— Друзья, а мы уже думали, что вы на дне океана! Счастлив видеть вас живыми и здоровыми! Скорее прыгайте в ваши лодки и следуйте за мной!
— Какой дорогой?
— Ах, черт возьми! Да тою же, какой я пришел сюда! Видите ли, на востоке есть проход между льдами, этим проходом мы и вернемся назад.
Мы не заставили себя ждать и прыгнули в лодки. Не без труда последовали мы за мистером Коффеном: очень тяжело грести без скамеек, не имея точки опоры. Но, как бы то ни было, мы совершили этот переход и скоро ступили на палубу «Летучего облака». Наш бравый капитан сердечно пожал нам руки.
К этому времени все мы уже чувствовали отвращение к полярному бассейну и круглоголовым китам, и капитан Дринкуотер — не меньше нашего. Он решил искать счастья в другом месте.
Бристольский залив на севере Алеутских, или Лисьих, островов имел в эту пору репутацию наиболее выгодного для китоловов, и мы направились к нему.
Возвращаясь по старому пути, мы снова прошли Берингов пролив и сказали «прости» полярному бассейну. Мы только жалели о том, что пришли сюда. Мы надеялись, что в Тихом океане нам повезет больше, и, говоря откровенно, в этом чувствовалась необходимость. «Летучее облако» очень мелко сидело в воде, так как не было обременено грузом жира, между тем не следовало забывать, что экипаж был заинтересован в прибылях.
Да что прибыли, когда нам нечем было покрыть даже наших издержек, так как сезон почти кончался, а мы все еще не могли рассчитывать на успех. Целыми днями мы проклинали круглоголового кита, причину наших бедствий.
Бристольский залив щедро вознаградил нас, и мы наверстали время, потерянное в полярном бассейне. Кит, плоскоголовый, настоящий левиафан, в изобилии встречается в северной части Тихого океана, и мы набили его столько, что печи «Летучего облака» пылали непрерывно, топя жир.
Нам не хватало только одного кита, чтобы груз был полон. Но вот мы встретили его, и три лодки под начальством трех офицеров отправились на охоту. Я снова попал в лодку мистера Рэнсома. Этот молодой офицер, жаждущий отличиться, заставлял нас работать сверх сил. Он даже обещал нам награду, если мы опередим другие лодки и представим ему возможность первым пустить гарпун. Естественно, мы старались изо всех сил, и мистер Рэнсом загарпунил кита первым. Гарпун глубоко вонзился в тело гиганта.
Этот кит оказался скверным животным. Со всей скоростью, на какую он только был способен, он поплыл вперед, увлекая нас за собою на буксире. Через несколько минут остальные лодки были уже далеко позади и только мелькали время от времени, когда высокая волна поднимала их на хребет. Море было неспокойно, и небо предвещало еще большее волнение.
Но мистер Рэнсом не обращал ни малейшего внимания ни на небо, ни на море, ни на отставшие лодки, которые уже не могли соперничать с нами. Он еще видел судно, и этого ему было достаточно. Но мало-помалу и «Летучее облако» исчезло за водяными валами, мы уже с трудом видели только кончик грот-мачты. Однако мистеру Рэнсому и это было безразлично: он не хотел рубить канат и отказаться от добычи. Кит же продолжал свой бешеный бег. Время от времени рулевой Греммель напоминал своему командиру об опасности, которой он подвергал всех и в том числе себя самого.
— Вы видите, сударь, — говорил он почтительным тоном, — наступает ночь, уже едва можно различить верхушки мачт. Если мы потеряем из виду корабль, бог знает, что может случиться. Не благоразумнее ли обрубить канат?
— Обрубить канат? Никогда, — упрямствовал офицер. — Верхушки мачт еще видны. Греммель, неужели мы позволим киту издеваться над собою как раз тогда, когда наносим ему последний удар? Вы только присмотритесь к нему — видно, что он долго не продержится.
— Не во гнев вам будь сказано, сударь, — ответил Греммель, — он, напротив, продержится еще долго. У него вполне достаточно сил, чтоб наделать нам хлопот. Посмотрите! Видите, как он идет!
Кит выбросил фонтаны воды через свои дыхала, и так высоко, что ветер донес брызги до нас. Молодой офицер обернулся, и лицо его выразило недовольство и разочарование, когда он увидел, что мачты «Летучего облака» уже исчезают на горизонте. Он колебался, его раздирали сожаление оставить кита в такой благоприятный момент и боязнь совершить преступное безрассудство, позволяя увлечь себя дальше.
— Я не могу решиться обрубить канат, когда на конце его кит, — печальным голосом ответил он, — да еще так хорошо загарпуненный. Я уверен, мы покончили бы с ним в одну минуту, если бы только он захотел остановиться.
Но кит как раз и не думал останавливаться, лодка продолжала прыгать по волнам, вспенивая их своим острым носом.
Молодой офицер еще раз обернулся, потом внимательно поглядел на небо и, наконец, вынув свой нож, грустно произнес:
— Я согласен, иного способа нет. Мы рискуем потерять из виду корабль, особенно сейчас, когда солнце садится. Вы это сами видите, ребята! — Он словно заранее извинялся за то, что готовился сделать. — На этот раз придется отказаться от левиафана. Эге! Что это такое? — прибавил он, кинув взгляд на море. — На нас идет туман. Возможно ли?
Мы все взглянули в том же направлении. Голубоватый пар поднимался над морем с подветренной стороны и быстро надвигался на нас.
— Это туман! — закричал встревоженный рулевой. — Режьте, сударь, режьте скорее!
Мистер Рэнсом не медлил более и одним ударом рассек канат. Кит, словно празднуя свое освобождение, хлестнул по воде огромным хвостом, быстро нырнул и больше уже не показывался.
— Правьте, Греммель, — скомандовал офицер, — готовьте мачту, поставьте паруса. Живее! Определим место, чтобы не сбиться. Живее!
Но едва он вынул из ящичка компас и разложил карту, как нас буквально окутал туман. Компас был более не нужен. Он, конечно, указывал, где север, где юг, но не мог помочь определить место, где мы находимся.
— Скорее ставьте парус! — закричал мистер Рэнсом. — На весла, ребята! Работайте скорее и энергичнее, самое лучшее для нас теперь плыть под ветром, потому что кит тащил нас против ветра. Если бы этот проклятый туман помедлил хоть пять минут, я бы смог точно определить местонахождение корабля, а сейчас уж поздно, мы в скверном положении.
В высоких широтах Тихого океана, где мы находились, туманы для китоловов представляют одну из самых грозных опасностей, и не только потому, что они часты, но главным образом потому, что они заволакивают горизонт в мгновение ока. Кроме того, никогда нельзя сказать, сколько времени туман будет висеть: они здесь настолько капризны, что обманывают самых опытных моряков. Мы знали это и отлично понимали всю серьезность своего положения.
Опасность была тем более велика, что в продолжение последних двух или трех дней мы не встретили ни одного корабля, китоловного или иного. Единственным нашим шансом могло быть только родное «Летучее облако». Но как его найти? У нас не было никаких данных, кроме ветра, чтобы определить направление. Однако ветер так же капризен, как туман, он каждую минуту может измениться и, возможно, уже изменился, пока мы колебались и раздумывали. Полагаясь на него, мы могли уходить все дальше и дальше от цели наших поисков.
Нужно оказаться в нашем положении, чтобы понять, как мучила нас неизвестность, пока мы молча гребли.
Словно для того, чтобы сделать чувство одиночества полнее и неизвестность мучительнее, ночь окутала нас тьмою, словно траурным флером, одно прикосновение которого заставляет трепетать от ужаса.
Глава 10
НАУГАД. БЕРЕМ В ПРОВОДНИКИ ЧАЕК
Есть чувства, которые нельзя себе представить, не пережив их. К числу таких относится и то, которое овладевает вами, когда вы находитесь среди густого тумана, в открытом море и не на палубе судна. Даже днем, на борту настоящего корабля, если и не испытываешь ужас, то все же чувствуешь себя прескверно посреди такого густого тумана, обманывающего все расчеты и зачеркивающего все предосторожности.
На нашей ореховой скорлупке мы имели одинаковые шансы попасть на истинный путь или окончательно заблудиться. Конечно, нами владела невыразимая тревога. Несомненно, в руках у нас были весла, мы были сильны и хорошо умели управляться с ними, но движения наши были робки и нерешительны, как у людей с повязкой на глазах.
— Ребята, — произнес наш командир, — отдохните немного. Зажгите фонарь, чтобы можно было взглянуть на компас. Ветер, как я полагаю, падает, и нам предстоит штиль. Хорошенько прислушивайтесь, не раздастся ли пушечный выстрел, и замечайте, с какой стороны.
На каждой китоловной лодке есть бочонок, где хранится фонарь и все необходимое, чтобы зажечь его. Фонарь был зажжен, и мы осветили им компас, который мистер Рэнсом держал в руках. Когда мы при этом свете разглядели его лицо, мы прочли на нем тревогу и даже отчаяние. Он тотчас определил, что ветер изменил свое направление. Да, ветер, который был нашим единственным поводырем и поддерживал надежду на спасение, изменил нам.
— Это плохо, — вполголоса сказал мистер Рэнсом, поняв, что мы заблудились. — На ветер надеяться больше нечего, придется обойтись без него. Воспользуемся же компасом, насколько возможно. Корабль должен быть от нас в направлении северо-северо-запад. Что вы думаете на этот счет, Греммель?
— Невозможно об этом судить.
Ответ Греммеля был малоутешительным.
— Но, — продолжал рулевой, — я полагаю, можно идти по этому направлению, как и по всякому другому.
— Отлично! Попытаемся же, — сказал молодой офицер решительным тоном. — Вперед, братцы! Исполняйте вашу обязанность, а я исполню свою.
Он взял фонарь из рук рулевого, а мы молча взялись за весла. Никогда, я думаю, гребцы не исполняли своей обязанности менее охотно и с меньшей надеждой. Мы гребли совершенно машинально. Никто из нас не рассчитывал в эту ночь достигнуть корабля, если вообще нам суждено было когда-нибудь его достигнуть. Надо хорошо знать море, чтобы понимать, что малейшее отклонение влево или вправо могло сбить нас с правильного пути, если допустить, что мы были на нем. С помощью компаса или без помощи компаса, мы все равно шли теперь наугад, совершенно наугад. Никто лучше мистера Рэнсома не сознавал этого. Для очистки совести он дал несколько указаний рулевому, взглянув на компас, но по голосу его было заметно: он сам не слишком верил в то, что говорил. Мы тоже не верили и часто поднимали весла, чтобы прислушаться, не раздастся ли пушечный выстрел. Наш командир прислушивался с таким же беспокойством, как и мы, и вместо того, чтобы упрекать нас в лености, чего он не преминул бы сделать при иных обстоятельствах, он сам приказывал нам делать эти паузы и не шевелиться.
Не раз убаюкивали нас волны, пока мы прислушивались, надеясь уловить желанный сигнал. Так напрягает свой слух осужденный, вслушиваясь в слова приговора, несущего оправдание или бесславную смерть. Но мы слышали только шум волн или пронзительный крик морских птиц, как и мы, затерявшихся в тумане и не знающих, в какую сторону направить свой полет.
Это было мучительное ожидание, и в таком состоянии мы находились с той минуты, как поняли, что заблудились в безбрежности океана.
Какова же была наша радость, когда до нас вдруг донесся сигнальный выстрел, которого мы долго и тщетно ждали! Мы его так ждали, а прозвучал он так неожиданно, что мы громко закричали от радости. Однако не все разделяли этот энтузиазм: старый Греммель сохранял на лице то же мрачное и озабоченное выражение.
— Ну, Греммель, что с вами? — обратился к нему командир. — Вы же слышали пушку!
— Конечно, сударь, я слышал ее, как и все остальные. Но недостаточно услышать выстрел, чтобы счесть себя в безопасности. Я не поверю никому, кто скажет, с какой стороны его услышал. Я лично заявляю, что не знаю.
Он был прав, мы скоро поняли это. Мы так обрадовались пушечному выстрелу, что и не обратили внимания на то, с какой стороны он раздался.
Мистер Рэнсом полагал, что с севера. Это направление было им избрано с самого начала. Взглянув на компас, он приказал продолжать путь на север.
Мы вяло повиновались, все наши надежды снова иссякли, потому что, обмениваясь мнениями о направлении, в котором якобы прозвучал выстрел, мы пришли в полное противоречие друг с другом. Мы снова подняли весла из воды, чтобы прислушаться и не ошибиться, когда она грянет второй раз.
На этот раз звук был глухой и слабый, словно между нами и «Летучим облаком» стояла стена. Мистер Рэнсом продолжал упорствовать, что звук идет с севера, и требовал держаться того же направления.
Мы старались производить как можно меньше шума и все время прислушивались. Но и в третий раз мы были обмануты звуком, как и раньше.
Выстрелы с корабля следовали один за другим, и наш командир начал догадываться, что мы на ложном пути. Он приказал повернуть назад.
Снова выстрел — и снова перемена направления. Но тут мы поняли, что эта перемена ошибочна, и снова нами овладела нерешительность. Очередной выстрел был слабее других и, по-видимому, донесся издалека. Мы утратили всю нашу бодрость, поняв, что удаляемся от корабля или он удаляется от нас, и что с каждой минутой расстояние между нами увеличивается. Как мы могли сократить его, не зная, в какую сторону идти?
Мы гребли только для виду, без малейшего увлечения. Мистер Рэнсом резко крикнул:
— Оставьте весла! Шлюпка вертится, как юла. Я не могу разобрать, куда мы идем. Ясно, что мы не приближаемся к судну, а напротив, удаляемся от него. Не шевелитесь и слушайте. Мы ничего не выиграем, прыгая из стороны в сторону, как кузнечик.
Приказ был исполнен, мы подняли весла и не двигались, напряженно слушая.
Однако мы ничего не слышали. Вернее, слышали только то, что могло усилить наше отчаяние, а не придать бодрости. Крики морских птиц стали резче и пронзительнее, собиралась буря, в этом не было сомнений. Ветер свежел и грозил обратиться в ураган.
К встрече с бурей мы на своей ореховой скорлупке готовы не были…
Как видите, одну из самых больших опасностей для лодки, оторвавшейся от судна, во время тумана представляет то обстоятельство, что нет никакой возможности определить направление звука. Самый опытный слух ошибается, в ту ночь мы могли убедиться в этом, и опыт, приобретенный ценою тяжких испытаний, только подтвердил наши наблюдения.
Таким образом, на все время тумана мы становились игрушкой в руках случая. Бесполезно и даже опасно было идти зигзагами, как мы двигались до сих пор, потому что это только истощало наши силы и не приносило результатов. Мы, гребцы, с облегчением услышали слова мистера Рэнсома, обращенные к рулевому:
— Греммель, я думаю, для нас лучше всего оставаться в покое. Поставьте шлюпку по ветру.
Мы снова подняли весла, и шлюпка, повинуясь рулю, приняла указанное положение.
Мы продолжали прислушиваться, но уже машинально, без всякой охоты. Обескураженные предыдущими ошибками, мы говорили себе, что и дальше нас ждет то же самое.
Буря медлила, и в настоящую минуту только дул свежий ветер. Мы получили приказ убрать одну пару весел: довольно было изредка действовать другой парой, чтобы удерживать лодку в заданном положении. Так как мы изнемогали от голода и жажды, то сочли необходимым подкрепиться. К счастью, у нас была с собой провизия и было из чего приготовить не один обед. Несмотря на такой достаток, командир приказал нам быть экономными и доступно объяснил необходимость этого.
— Мы не знаем, сколько еще времени придется нам довольствоваться этими запасами, — сказал он. — Того, что у нас есть, хватит на три дня. Если к концу третьего дня мы не встретим «Летучее облако» или какое-нибудь другое судно, как вы думаете, что нас тогда ожидает?
Все понимали, о чем идет речь.
Закончив свой скромный ужин — каждый получил ровно столько, сколько нужно было лишь для поддержания сил, — мы стали обдумывать, как получше устроиться на ночь. Было решено, что трое из шести лягут спать или хоть попробуют спать, а остальные будут на страже. Через определенное время они поменяются местами.
Слава богу, у некоторых из нас были куртки. Ими прикрыли спящих. Эти, так сказать, одеяла не выглядели роскошью, потому что хотя и была середина лета, но мы находились в таких широтах, где ночи были ледяными.
Нет, мы не спали. Не холод нас мучил, а тревога не давала уснуть. Мы спрашивали себя: что принесет нам рассвет?
Увы, он не принес ничего! Нас по-прежнему окутывал густой туман. Он приобрел желтоватый оттенок, и мы поняли, что взошло солнце, но рассмотреть что-либо было невозможно на расстоянии дальше кабельтова.
Тьма была почти такая же, как ночью, однако в утреннем воздухе чувствовалось что-то животворное и бодрящее. Это оживляло наши надежды и заставляло нас чутко прислушиваться.
Мы опять услыхали несколько выстрелов и при каждом выстреле поворачивали лодку в ту сторону, откуда он слышался. И каждый последующий выстрел заставлял думать, что предыдущий ввел нас в заблуждение. Это было невыносимо.
После утомительных метаний командир приказал остановиться. Что оставалось делать? Выстрелы прекратились, и мы решительно не знали, куда направиться.
Если бы мы могли воспользоваться не только слухом, но и зрением! Но туман висел по-прежнему. Если он не рассеется и дольше, самое лучшее, что мы могли бы сделать, это заснуть. Однако мы не могли спать, хотя и сильно нуждались в отдыхе. Все напряженно всматривались в туман. Но все та же завеса стояла перед нашими глазами, белая и зловещая, как саван. Мы смотрели, делились своими наблюдениями и спорили, долго ли еще это продлится.
Вдруг раздался голос рулевого:
— Он поднимается! Ребята, немного терпения, и вы увидите чистый океан. Будем надеяться, что мы сразу увидим и «Летучее облако».
Предсказание Греммеля исполнилось, но наши надежды не осуществились. Туман взвился, как театральный занавес, и исчез, как по волшебству. Мгновенно море стало таким же светлым, голубым, как небо. Но на всем неизмеримом пространстве не было видно ни корабля, ни барки, ни катера, ни челнока — одним словом, никакого признака присутствия человека на всем безграничном просторе Бристольского залива.
Наша радость при виде света и солнца не была продолжительной, мы снова впали в состояние, близкое к отчаянию. Окруженные туманом, ничего не видя вокруг, мы, по крайней мере, могли надеяться, что за завесой тумана сразу увидим корабль. Такую надежду поддерживали в нас выстрелы, раздававшиеся в продолжение всей ночи. Теперь было ясно, и мы не слышали сигналов, и на всем видимом пространстве не было заметно ничего, решительно ничего!
Мистер Рэнсом встал на кнехт и, держась за снасти, оглядел весь горизонт. Мы, затаив дыхание, ждали результатов его исследований.
— Я не вижу ни корабля, ни чего бы то ни было, — произнес он наконец.
В свою очередь Греммель взял подзорную трубу и начал смотреть. Мы знали, что, несмотря на старость, у него рысьи глаза. Но и Греммель был не счастливее мистера Рэнсома.
— Ничего! — коротко сказал он и занял свое место.
Несколько мгновений мы глядели друг на друга, расстроенные и опечаленные. Шлюпка качалась на волнах. Мы не брались за весла, и никто не думал поднимать парус. Зачем? И то и другое одинаково бесполезно, если неизвестно направление движения.
Это была одна из тех роковых случайностей, которых не может предвидеть и опытный мореплаватель, и тогда приходится положиться на волю судьбы.
Греммель предложил следовать за чайками.
— Как? Каким образом? — спросил мистер Рэнсом, который, как и все мы, не понял, что имел в виду старик.
— Следуя в направлении их полета… — начал Греммель.
— Нам придется следовать во всех направлениях! — возразил молодой офицер. — Разве чайки не летают беспорядочно?
— Не всегда, сударь. Будем надеяться, что сегодня они не сделают этого. Сейчас мы увидим.
С этими словами он устремил взор на море, или, вернее, на граничащую с ним часть неба.
Несколько чаек сопровождали нашу шлюпку. Остальные летали во все стороны, не придерживаясь какого-то определенного направления. Они летали вперед и назад, встречались, их пути скрещивались, некоторые парили над самой поверхностью, потом ныряли, чтобы схватить какую-нибудь рыбу и затем снова взвиться вверх.
— Нет, — произнес Греммель. — «Летучего облака» по соседству, кажется, нет. Ни его, ни какого-либо иного судна.
— Почему это? — спросил мистер Рэнсом.
Мы все хотели бы это знать.
— Очень просто, — ответил старый китолов. — Вам известно, сударь, что чайки и другие породы птиц имеют обыкновение следовать за судном, чтобы подбирать объедки, выбрасываемые за борт. Заметив судно, они обязательно полетят за ним. Если бы в эту минуту где-то поблизости находился корабль, они поспешили бы туда, во всяком случае большинство. Вместо этого они летают влево и вправо. Это доказывает, что корабля поблизости нет…
Его рассуждение было неоспоримо, а заключение неутешительно. Очевидно, мы были в полном одиночестве на всем обозримом пространстве океана.
— Ну, ребята, вы видите, каково наше положение, — сказал молодой офицер, — оно невесело. Мы могли бы погадать на монете, куда идти, но ничего от этого не выиграем. Но и оставаясь здесь, не выиграем ничего. Пожалуй, воспользуемся бризом. По крайней мере он избавит нас от необходимости работать веслами.
Никто не протестовал против этого предложения. Исходя от старшего, для нас оно было приказом. Нам оставалось только поставить парус и предоставить ветру работать.
— Если мы до ночи ничего не увидим, — произнес мистер Рэнсом после некоторого раздумья, — я знаю, что предпринять.
Мы оставались настороже до конца дня. Но солнце зашло, и ночь окутала море, а мы не заметили ничего.
Глава 11
МЫ НАПРАВЛЯЕМСЯ К ЛИСЬИМ ОСТРОВАМ
— Итак, — сказал наш командир, намереваясь объяснить, что он имел в виду утром, когда мы поднимали паруса, — нам надо изменить направление. Как я определил по компасу, мы весь день шли на северо-запад. Дальше так идти нельзя, если мы хотим достигнуть земли. Мы окончательно потеряли из виду «Летучее облако», и теперь земля — наша единственная надежда. Нам надо добраться до Алеутских островов, если только это удастся. Как вы полагаете, Греммель? — добавил он безразличным тоном.
— Это самое лучшее, — ответил рулевой. — Да, самое лучшее — добраться до Алеутских островов. Вы говорите, они к югу от нас? Значит, при этом ветре мы доберемся до них, если вытерпим голод и жажду. Кроме того, есть вероятность встретить китоловное судно из крейсирующих в заливе. Наверное, уже не один корабль пополнил здесь свой груз и готовится в обратный путь. В таком случае, нас захватят по дороге.
— Я спрашиваю себя, — задумчиво проговорил молодой офицер, — не лучше ли нам подождать здесь до завтра?.. Нет, — продолжал он решительно, немного погодя. — Мы уже давно ушли из тех мест, где охотятся за китами, миль на пятьдесят, и у нас столько же шансов встретить судно, направляясь к югу, как и оставаясь на месте. Мы только потеряем время. Идем на Алеутские острова! Как ваше мнение, ребята?
Он был нашим командиром и имел право вести нас куда хочет. Но в обстоятельствах, когда решался вопрос жизни и смерти, дисциплина, естественно, слабела, и любой член маленького экипажа мог высказать свое мнение. Кроме того, молодой офицер и сам был расположен к уступчивости. Но на этот раз ему не пришлось идти на уступки, так как мы все согласились с его предложением.
Как раз в этот самый момент, словно благоприятствуя нашему решению, поднялся северный ветер.
— Добрый знак! — воскликнул наш командир. — Примем это как хорошее предзнаменование и не будем терять время. Нос на юг и поднять паруса!
Перед этим, пока мы пребывали в нерешительности, паруса были опущены и шлюпка предоставлена сама себе, как будто в ней не было никого. Теперь все изменилось: решение плыть в определенном направлении внушило нам новые надежды. Поднятые паруса наполнились ветром, шлюпка развернулась, и мы понеслись.
— Вперед, к Лисьим островам! — весело повторял молодой офицер. — Они должны быть как раз на юге, мы не можем миновать их.
Мы могли только радоваться такой уверенности. Однако в голосе мистера Рэнсома было нечто, говорившее нам, что сам он не вполне уверен, где находятся Алеутские, или Лисьи, острова, и что свое желание он принимает за свершившийся факт.
Во всяком случае, мы не могли бы желать более благоприятного ветра, чем тот, который дул в этот момент. Он нес нас как раз туда, куда мы хотели, со скоростью восьми узлов в час. Шлюпка оставляла за собой светящийся след, так как эти воды изобиловали фосфорическими медузами.
Мы шли таким хорошим ходом уже около часа, как вдруг были остановлены непредвиденным случаем. Наш фонарь внезапно погас: кончилось масло. Скажете, странная причина для остановки парусной шлюпки? Конечно. Если бы только нам было безразлично, какой дорогой идти. Мы держались на юг, и, чтобы не сбиться с курса, должны были постоянно сверяться с компасом, а как в темноте следить за магнитной стрелкой? Невозможно на ощупь определить положение магнитной стрелки. Компас теперь был нам бесполезен так же, как солнечные часы.
Тем не менее шлюпка продолжала свой ход по указаниям мистера Рэнсома. Однако все мы ломали головы: как добыть свет? Нет ли у кого-нибудь спичек? Ни у кого, не осталось ни одной.
— Нам остается довериться ветру, — произнес мистер Рэнсом, убирая компас. — Вперед, скорее! Греммель, займитесь парусами и дайте мне руль.
Они поменялись местами, и мы отдались на волю ветра. Но мы хорошо знали, что на ветер полагаться нельзя, особенно в Тихом океане. Он мог перемениться так же неожиданно, как часом раньше. Только этого теперь мы и боялись. Однако не прошло и часа, как тревоги наши обратились на другое. Ветер стал крепчать. Нам грозил шторм, а может, и настоящая буря. И теперь нас терзала только одна мысль: спасти лодку, спасти самих себя, уже не разбирая, куда дует ветер и куда он нас занесет. Буря! Это именно то, чего мы боялись все время. И она готовилась разразиться как раз теперь, когда мы поверили в свое спасение.
— Мы должны бежать впереди бури, с подветренной стороны, — сказал командир. — Греммель, возьмите риф у парусов.
Едва был взят первый риф, как офицер приказал взять второй, а несколько минут спустя — третий, последний. Мы пошли в бейдевинд под малыми парусами. Несмотря на эти предосторожности, лодку страшно подбрасывало на хребтах огромных волн, догоняющих нас.
К довершению наших страданий, сильно давал себя чувствовать холод. Полярный ветер из снежных пустынь и льдов дул нам прямо в спину. Казалось, что вместе с ветром нас хлестал по спинам и град, а для защиты от него у нас были лишь обыкновенные курточки. Если бы все эти муки не парализовали наши силы и не затрудняли движений, мы могли бы их не замечать. Что они значили в сравнении с теми несчастьями, которые обрушивались на нас одно за другим!
Мы сосредоточили усилия на том, чтобы волны не захлестнули нашей шлюпки. Как бы быстро ни неслась она впереди волн, все же некоторые из них настигали ее и обдавали нас целым дождем брызг. Те, кто не был занят маневрированием, не переставая, вычерпывали из лодки воду всем, что попадалось под руку. Теряя силы, мы уже спрашивали себя, скоро ли лодка пойдет под воду, однако продолжали бороться, и наши старания увенчались успехом.
В этих широтах летние ночи коротки, эта же ночь казалась нам бесконечно долгой, и мы думали, что ей не будет конца. Наконец, забрезжил долгожданный рассвет, но он не обрадовал наши взоры, потому что позволил убедиться, что в безбрежном океане мы одни…
Мистер Рэнсом встал на скамейку и в подзорную трубу оглядел море. Через несколько минут он сказал:
— С сожалением должен сообщить вам, друзья, что океан пуст.
Мрачное молчание было ответом на эти слова. Мистер Рэнсом продолжал:
— Греммель, посмотрите-ка вы. Вот подзорная труба.
Старый рулевой в свою очередь встал на кнехт и долго вглядывался в горизонт. Он не был счастливее командира и сошел с кнехта, говоря:
— Я ничего не вижу, сударь, кроме вспененных волн. От китоловных стоянок мы удалились к югу, и уже давно.
С этими словами он сел на свое место.
Наступило молчание. Мистер Рэнсом обратился ко мне:
— Мэси, я знаю, у вас хорошие глаза. Возьмите трубу, посмотрите вы. Может быть, вам повезет больше.
Могу без хвастовства сказать, что природа наградила меня необыкновенным зрением. Мистер Рэнсом не раз мог убедиться в этом во время наших вылазок за левиафаном. Польщенный выказанным доверием, я влез на кнехт и долго смотрел по сторонам.
Какое-то время я видел только огромные волны, которые поднимались, сталкивались и опадали, подминая одна другую. Сперва я оглядел горизонт, потом ограничил свой обзор непосредственно окружающей нас частью стихии.
— Я ничего не вижу, — произнес я в ответ на вопрошающие взгляды товарищей, устремленные на меня, и уже хотел сойти с кнехта, как тут же мое внимание было привлечено каким-то предметом. Это был обрубок дерева, качающийся на волнах, как бакен. Вероятно, я не заметил бы его, если бы на одно мгновение его не подняла на свой хребет волна. Так как я задержался на своем наблюдательном посту, мистер Рэнсом окликнул меня:
— Вы что-нибудь видите, Мэси?
Я старался в это время убедиться, действительно ли предмет, замеченный мною, был куском дерева, и он забеспокоился:
— Что там такое?
— Я думаю, метка, сударь.
— Метка? Клянусь Юпитером, это интересно! В каком направлении?
— Впереди, примерно в трех кабельтовых!
— Я сажусь на руль. Говорите, куда держать курс!
Я исполнил его приказание. Направление шлюпки пришлось изменить очень незначительно, предмет был почти на ее пути. Обрубок дерева действительно оказался меткой, как показывали буквы, выжженные на нем.
Глава 12
ЧТО ЗНАЧИТ «МЕТКА». ПОКА В БЕЗОПАСНОСТИ
Убьют ли кита и вынуждены бросить его ради новой добычи или по какой иной причине — бросают в море метку. Это обрубок легкого дерева, на котором выжигают название корабля и порта, откуда он вышел. Маленький флаг, укрепленный на спине кита, служит только указателем, метка же китолова — своего рода тавро, каким клеймят скот, она служит для обозначения права собственности, говорит всем встречным, что животное имеет хозяина и кто этот хозяин.
Очень часто захваченный кит остается покинутым на несколько дней до возвращения загарпунивших его. Иногда они не возвращаются вовсе. Туман или буря мешают китоловам окончательно овладеть добычей. В таких случаях метка предупреждает другого китолова, нашедшего эту добычу: не трогай, не твое! И никто не трогает. Этот обычай соблюдается у всех китоловов.
Когда волна повернула бревно надписью к нам, командир прочел: «Гайлендер» — Абердин». Это было шотландское судно, которое мы встречали в Северном Ледовитом океане. Оно, как и мы, оставило полярные воды и спустилось к югу. Но что могло заставить его бросить здесь метку? Не уронили ли ее случайно с борта?..
— Может, она прикреплена к телу кита, а кит под водой?
— Это возможно, — согласился мистер Рэнсом. — И судя по тому, как колеблется метка, это действительно так. Сейчас проверим.
Когда шлюпка поравнялась с меткой, он перегнулся через борт и потащил ее из воды. К метке была прикреплена веревка. Вначале свободная, она натянулась, как только мы прошли чуть дальше. Кусок дерева вырвался из рук офицера и упал в воду, подняв тучу брызг.
По команде мистера Рэнсома четверо гребцов налегли на весла и вернули лодку к тому месту, где плавала метка. Мистер Рэнсом захватил ее с большими предосторожностями, чем в первый раз и убедился, что на другом конце веревки, что-то есть и это что-то противится всем нашим усилиям: на поверхность его поднять невозможно.
— Наверное, на другом конце кит, — сказал мистер Рэнсом. — «Гайлендер», должно быть, был здесь или поблизости недавно. Иначе кит уже всплыл бы на поверхность. Как вы думаете, Греммель?
— Согласен с вами, сударь. На другом конце рыба. — Старик Греммель упорно называл кита рыбой, вопреки зоологии. — И он там недавно, как верно вы заметили. Не более недели, как шотландец оставил это место. Может, он еще где-то близко.
Эти слова возродили в нас надежду, и опять взоры устремились на безграничную равнину океана.
Но мы прочли на ней тот же ответ: ничего! Ничего, кроме хаоса сердитых волн, ничего, кроме ужасного, приводящего в отчаяние однообразия…
Командир снова заговорил о метке:
— В любом случае хорошо, что мы ее нашли. Можно принайтовить к веревке шлюпку — это будет похоже на якорную стоянку. Будем надеяться, что веревка выдержит.
Без лишних слов обрубок был вытащен, и его прикрутили к пиллерсу. Боясь, что веревка окажется слаба, если ее будет сильно рвать, мы постарались выбрать ее, чтобы можно было потом потихонечку травить. Вдобавок, мы привязали к ней другую веревку, сделав узел как можно ниже, чтобы предохранить от трения.
— Лучше остаться на якоре и приготовиться к встрече бури, чем убегать от нее, — объяснил нам командир свои действия. — Как видите, ураган только начинается, волны пока еще только холмы, а во время урагана они обратятся в горы.
Он был прав, и очень скоро мы в этом убедились. Небо принимало все более угрожающий цвет, волны пенились, здесь и там с радостными криками носились буревестники.
Недолго мы пробыли на нашей своеобразной стоянке, благословляя ее. Лодка держалась, мы поставили ее кормой к ветру и молились лишь об одном: только бы не лопнула сильно натянутая веревка!
Она, слава богу, выдержала! Немного спустя мы уже перестали бояться и даже почувствовали облегчение, потому что поняли: бурю мы переждем, а там будь что будет!
Чтобы поддержать нас, командир, до сих пор удрученный мыслью, что его неосторожность явилась причиной нашего несчастья, — а так оно и было, — сказал несколько более оживленно, чем обычно:
— Интересно, какова же здесь глубина? Она не должна быть большой, потому что веревка метки достигает поверхности. Мне кажется, стоило бы бросить лот и убедиться в этом.
Никто не возразил, и все необходимые меры были приняты.
У нас как раз был с собою линь для ловли трески, которым мы пользовались несколькими днями раньше, так как треска водится в Бристольском заливе в таком же изобилии, как и у берегов Новой Земли.
— Сорок семь брассов! — сообщил мистер Рэнсом, промерив глубину. — С этой глубины судно может легко вытащить кита, если крепка веревка и благоприятствует погода. Неужели мы не поднимем этого кита на поверхность? Это же пустое дело!
Он шутил, чтобы успокоить нас, но тон его несколько противоречил его словам, командир был заметно озабочен. И было чем. Буря свистела и ревела с удвоенным бешенством, и наше положение становилось опасным.
Редкие, но стремительные волны бросали нашу лодку из стороны в сторону, как яичную скорлупу. Водяные валы перекатывались через нас, и мы все время были заняты вычерпыванием из лодки воды. Дело шло о нашей жизни. Но мы сознавали, что положение было бы еще более критическим, если бы мы убегали от бури, наш необычный якорь казался нам безопасным портом.
Несмотря на объединенные усилия ветра и волн, он крепко держался в продолжение дня и части ночи. Среди ночи произошла счастливая для нас перемена, вызванная случаем столь же странным, сколь и неожиданным. Надо признаться, по мере того, как на море опускалась темнота, нами уже овладевала апатия: мы не надеялись, что устоим против бури до утра. Мы измучились, вынужденные без отдыха вычерпывать из лодки воду. Некоторые объявили, что лучше будут сидеть сложа руки и предоставив себя судьбе.
Вдруг наш командир закричал:
— Веревка не натянута более, мы идем по ветру! Веревка лопнула или гарпун вырвался из тела кита! В таком случае, помоги нам Боже!
— Вероятнее всего, что мы вытащили кита, и он всплыл на поверхность, — сказал Греммель, — я не раз видал подобные случаи.
— Выберем веревку и посмотрим! — крикнул командир.
Мы бросились к веревке и стали ее наматывать. Едва начали, как раздался радостный голос старого китолова:
— Ура! Я же говорил, он всплывает!
Все взоры устремились в сторону ветра. И мы увидели огромную черную массу, всплывающую на поверхность. Это было тело кита, показавшееся только до половины. Пока тело подымалось, наш слух был поражен сухими и резкими звуками, напоминающими щелканье бича. Эти звуки прерывались порою свистом, похожим на свисток паровой машины.
Кит всплыл на поверхность под влиянием естественных причин. Так как он умер уже несколько дней назад, то начал разлагаться, и газ, образовавшийся при гниении, облегчил его вес настолько, что тело всплыло. Буря и порывистые движения нашей лодки несомненно ускорили этот процесс: тело раскачивалось все быстрее и быстрее и, наконец, было выброшено на поверхность подобно вулканическому острову.
Не было сомнения, что появление кита давало нам надежду на спасение, без него наша шлюпка давно бы затонула. Едва чудовищная масса животного встала между нами и бурей, как о его бока разбились три огромные волны. Самой меньшей из них было бы достаточно, чтобы поглотить нас.
— Ребята, нам нечего больше бояться! — произнес командир, на этот раз с искренней радостью. — За этим китом мы в такой же безопасности, как за молом Бедфордского порта. Смотрите, как спокойно стало вокруг нас!
Произошел действительно феномен, хорошо понятный всем нам. Случилось то, что происходит, когда на поверхность возмущенных волн проливают масло. Дело в том, что из полуразложившегося тела кита сочился жир, покрывая пространство, большее, чем занимало само тело. На этой заколдованной поверхности волны были бессильны.
Между тем бешенство бури достигло своего предела, ветер завывал, ревели волны. Но теперь мы могли слушать весь этот шум не только без всякого страха, но почти равнодушно. Нам уже не казались зловещими крики морских птиц, которых вокруг было больше, чем когда-либо: одни садились прямо на тушу, другие искали убежища за ней так же, как мы. Мы больше не обращали внимания ни на ледяной ветер, ни на запах sui generis, доносившийся от тела кита. При других обстоятельствах он причинил бы нам большое неудобство, и мы нашли бы его невыносимым. Но тогда мы не видели в том неудобства и не думали жаловаться на близость разлагающегося кита, потому что это огромное тело было могущественной преградой между нами и смертью.
— Бог смиловался над нами, послав нам этого кита, — сказал Греммель, убедившись, что мы в безопасности. — И если бы, — добавил он, — мы были в шлюпке мистера Коффена, мистер Коффен уже преклонил бы колена, чтобы возблагодарить Господа.
Говоря так, старый китолов не имел никакого намерения обидеть нашего командира или преподать ему урок. Отнюдь нет, потому что старина Греммель не принадлежал к числу тех христиан, которые любят молиться, и замечание, сделанное ироническим тоном, было только шуткой. Но мистер Рэнсом, хотя уже и менее озабоченный и опечаленный, все же не был расположен шутить. Он чувствовал всю тяжесть своей ответственности и на легкомысленное замечание Греммеля серьезно заявил:
— Мистер Коффен, конечно, был бы вполне прав, поступив так, как вы говорите. Конечно, мы должны возблагодарить небо. Посмотрите, какая перемена произошла в течение десяти минут. Мы оказались в безопасности между двух водяных стен, как израильтяне при переходе через Красное море. Нельзя не поверить, что тут видна рука Всемогущего. Поступим же так, как поступил бы на нашем месте мистер Коффен. Возблагодарим Господа, чудесно спасшего нас!..
Так как мы знали, что мистер Рэнсом далеко не был пуританином, то призыв его произвел впечатление. Даже и до того, как он воззвал к нашей благодарности, мы уже чувствовали ее к тому, кто нас спас, и от глубины души воздали ему хвалу.
Весь остаток ночи мы провели в безопасности, что не мешало нам задумываться о будущем. Что на этот раз принесет рассвет? Увидим ли мы все те же водяные горы, поднимающиеся и разбивающиеся с ужасающим однообразием? Или наши обрадованные взоры обнаружат корабль? Будь это даже корабль, пострадавший от бури, он, конечно, заметит тело кита и непременно обнаружит нас.
Так, от надежды к страху и от страха к надежде, мы дождались солнца. Но оно не обрадовало нас, а лишь усилило нашу печаль. Его тусклые лучи по-прежнему озаряли лишь гонимые ветром, бушующие волны: казалось, ураган никогда не истощит своей силы.
Ожидание увидеть какое-нибудь судно оставалось бесплодным. Всякий корабль ввиду такой бури не преминул бы лечь в дрейф, и если накануне мы не видели никакого судна, то было слишком мало шансов увидеть его и сегодня утром.
Однако настроение наше каждую минуту менялось, мы противоречили сами себе: решив, что шансов увидеть корабль нет, вдруг начинали предполагать, что, может быть, какое-нибудь судно, вместо того, чтобы стоять на якоре, убегает от бури, и надо хорошо осмотреться, кто знает, не увидим ли мы чего-либо… Как ни слаба была надежда, мы все же приступили к наблюдению.
Как всегда, первым забрался на кнехт мистер Рэнсом, потом он уступил место Греммелю. И, как прежде, оба заявили, что ничего не видно.
Все серьезнее и острее вставал вопрос о провизии. При хорошей погоде и благоприятном ветре с нашим запасом мы могли бы добраться до Лисьих островов. Но нас задержала буря, а ее мы в расчет не принимали.
Пока считали сухари и мерили воду, мистер Рэнсом, питавший безграничную веру в мое прекрасное зрение, подал мне подзорную трубку:
— Идите, Мэси, и посмотрите.
Я повиновался. Едва только я приложил трубку к глазам, сердце мое наполнилось беспредельной радостью, и, я думаю, сердца моих товарищей по несчастью забились так же сильно, как мое, когда я крикнул:
— Парус!
Это было неточно. Судно качалось на хребтах волн с подвязанными парусами.
— С какой стороны? — спросил мистер Рэнсом.
— Со штирборта, сударь.
— Что это, корабль или шхуна?
— Шхуна, сударь, большая шхуна.
Мой ответ разочаровал его: какое-то мгновение он надеялся, что это «Летучее облако».
— Как она маневрирует?
Я передал ему то, что видел.
— Сойдите, — сказал он, — я хочу посмотреть сам.
Я передал ему подзорную трубку.
Он встал на мое место и, всмотревшись в шхуну, воскликнул:
— Клянусь Юпитером, это шотландский китолов, тот, чью метку мы нашли! Я узнаю его оснастку! Он идет из-под ветра, тем лучше, он приближается к нам.
Излишне говорить, что мы были в крайнем возбуждении. Еще раз представлялся нам счастливый случай, и, можно сказать, верный случай, если только нас заметит экипаж шотландского судна.
Но заметит ли он нас? На этот вопрос мы пока не могли ответить. Однако судно несло прямо на лодку. Оно было еще на достаточно большом расстоянии, а море так бурлило и волновалось, что наша шлюпка должна была казаться просто точкой. К счастью, привлечь внимание моряков могла огромная туша кита.
— Выкиньте флаг! — скомандовал мистер Рэнсом. — Он послужит нам, если прояснится небо, ветер будет развевать его.
В мгновение ока на верхушку мачты взвился флаг и, развернувшись во всю ширину, начал с хлопаньем биться по ветру.
Никакого отклика: очевидно, шотландское судно нас пока не заметило. Ветер продолжал увлекать его с такой скоростью, что нас охватил ужас. Надежда, только что зародившаяся, таяла на глазах. Мы готовы были снова впасть в отчаяние. Если ветер будет с прежней быстротой нести судно и оно скроется из наших глаз, что станется с нами?
Об этом никто не спросил вслух, но подумал каждый, и ответ на вопрос был только один. Мы знали, что смерть витает над нашими головами, потому что если мы избежали опасности кануть на морское дно, то умрем от голода и жажды. И притом очень скоро, потому что ревизия запасов показала: они ничтожны. Их оставалось только на один обед, и этот обед мог стать последним в нашей жизни.
Все ужасы голода и жажды вставали перед нашим внутренним взором, когда мы следили за действиями шотландского судна. Теперь мы лучше видели его и не сомневались, что это китолов «Гайлендер» из Абердина. Мы без труда узнали его, так как несколько раз видели в Ледовитом океане, а однажды прошли так близко от него, что могли перекинуться словами. Если бы Богу было угодно, чтобы мы опять оказались бы так же близко! Чего бы мы не дали за это!
Однако «Гайлендер» не выкинул флага и не изменил ничего ни в своих маневрах, ни в парусах. Он быстро бежал перед бурей, даже быстрее нас, так как мы были привязаны к киту, и скоро скрылся, унеся с собой все надежды на спасение.
Некоторые в нетерпении советовали обрубить веревку, удерживающую нас при ките, и попытаться подойти к «Гайлендеру» на веслах и под парусами.
— Невозможно, — проговорил наш командир, вглядевшись в «Гайлендер» сквозь хаос яростных волн, — шлюпка не устоит против бури ни одного мгновения. Нам остается только одно — держаться под прикрытием кита. Очень странно, что они не заметили кита. Можно подумать, что…
Он вдруг прервал сам себя и какое-то время молчал, а когда заговорил снова, тон его был иной:
— Я думаю, что нас увидели. Или я ничего не понимаю в их действиях или… Взгляните, Греммель.
— Это не случайность, сударь, — ответил вполголоса старый китолов. — Конечно, они заметили этот спокойный островок моря, а также и кита, и шлюпку. Они маневрируют, чтобы убедиться в том, что видят.
С каким нетерпением наблюдали мы за малейшими изменениями в курсе «Гайлендера»! С каким сердцебиением увидели мы, что на бизань-мачте разворачивается парус! Если до этого у нас и были сомнения, то теперь они рассеялись: судно стало к нам носом.
— Ура!
Это ура было очень негромким, потому что мы были истощены усталостью, но я не думаю, чтобы когда-либо в минуты отчаяния люди кричали радостнее.
— Нас увидели, товарищи! — уверенно воскликнул наш молодой командир. — Мы спасены, если шотландец сумеет подойти к нам. У него превосходный экипаж, истинное наслаждение видеть его работу!
Мы охотно согласились, что зрелище великолепно. Прекрасное трехмачтовое судно то величественно вздымалось на гребень волны, то опускалось, точно в долину, с каждым таким шагом приближаясь к нам. Теперь мы были уверены в спасении, и каждый новый маневр судна вызывал у нас крик радости. Мы были преисполнены восхищением действиями этих людей, спешивших нам на помощь с опасностью для собственных жизней: при таком бурном море каждое точное движение судна давалось экипажу с трудом.
Свершилось! Наши испытания подходили к концу, трехмачтовый гигант подошел к лодке. Нам ловко бросили канат. Мы ухватились за него, готовясь обрубить веревку, соединяющую нас с китом. Но пристать к судну с подветренной стороны — дело трудное, требующее величайшей осторожности, и прежде, чем мы хорошенько уцепились за канат, он вырвался, и его тут же отнесло.
Экипаж толпился у борта. Эти загорелые бородатые люди смотрели на нас с выражением симпатии, они протягивали к нам руки, ловя момент, чтобы помочь перебраться на корабль. Иногда борт вздымало над нами футов на двадцать, а минуту спустя он приближался к нам настолько, что мы могли протянуть друг другу руки, но расстояние было еще слишком значительно, чтобы они могли перетянуть нас к себе. Вытянув шеи, напрягая зрение, мы ждали удобного момента. Наконец судно стало совсем близко, и мы услышали ободряющие слова:
— Внимание! Взбирайтесь!
Маневр был исполнен с такой точностью, что все в одно мгновение вспрыгнули на борт судна. Все, кроме меня. Поспешив, я оступился и полетел через скамейку. Однако уже спустя несколько секунд мне бросили полдюжины веревок с булинем на концах. Я ухватился за одну, обвязал себя вокруг тела и сделал знак рукой. В следующий момент я уже находился на борту, в полной безопасности. Меня спасли, но еще минута — и было бы поздно. В это время корабль бортом ударил шлюпку, она затрещала и наполнилась водой. Когда корабль поднялся, натянутая веревка оборвалась, как нитка, и маленькая лодка, которая так долго и мужественно боролась с взбесившимся морем, была отброшена с такой силой, что разбилась о волны в щепки. При этом у нас, стольким обязанным ей, сжалось сердце, как будто она была живым существом, отданным нами в жертву яростной волне.
Спустя шесть недель после того, как «Гайлендер» стал на якорь в бухте Гонолулу, мы заметили корабль, огибающий мыс Диамант, и тотчас же узнали в нем «Летучее облако». Поздней ночью по шуму цепей мы поняли, что наше судно стало на якорь и место ее стоянки недалеко от «Гайлендера». Тотчас бравый капитан шотландца предоставил нам лодку, и, не теряя ни минуты, мы направились прямо к нашему родному кораблю.
— Эй, лодка! — окликнул вахтенный офицер. — Кто вы?
— Потерпевшие крушение с «Летучего облака», — ответил мистер Рэнсом.
— Слава богу! — отозвался голос капитана Дринкуотера.
И вслед за этим показался сам капитан.
— Возможно ли? Рэнсом, это вы?
— Да, да, я!..
— А другие? Все ли с вами?
— Все, капитан! Они со мной в лодке!
— Слава богу! — взволнованным голосом повторил капитан.
Может быть, в эти минуты он вспомнил о другой лодке, разбитой китом, экипаж которой спасся за исключением бедного Билла, так таинственно исчезнувшего. Вероятно, те же воспоминания пробудились и в душе мистера Коффена, потому что мы услышали его голос, благоговейно произнесший:
— Аминь!
Мы сейчас же оказались на палубе, среди товарищей, плясавших от радости. После нашего рассказа они, в свою очередь, передали нам, что произошло с «Летучим облаком» со времени нашего исчезновения. Несколько дней они крутились вокруг того места, надеясь найти нас, вопреки всякой надежде, пока не потеряли ее окончательно и не оставили розыски, думая, что наша лодка не смогла противостоять буре.
Мы были счастливы еще раз убедиться, какой благородный и достойный человек капитан Дринкуотер. У него на глазах стояли слезы, когда он приветствовал нас, обнимая по очереди. Вероятно, никто из нас никогда не позабудет этого, так же, как и божьего милосердия, чья рука так чудесно спасла нашу жизнь.
Глава 13
СЕНЬОР САЛЬВАДОР
Товарищи рассказали, что они убили кита, и он оказался тем самым, который так быстро тащил нас за собою, что заставил обрубить канат. С гарпуном мистера Рэнсома в боку, волоча за собой канат в несколько сотен брассов, старое чудовище вернулось к кораблю, когда началась буря, и было захвачено лодкой мистера Коффена.
Груз «Летучего облака» был пополнен, и корабль направился домой. Если он и зашел в Гонолулу, то с единственной целью узнать у моряков остановившихся там китоловных судов, не имеют ли они каких-нибудь сведений о нас. В глубине души каждый надеялся получить какое-нибудь известие о нас. Тем живее была радость встречи.
По возвращении в Нью-Бедфорд капитан Дринкуотер разделил между нами прибыли компании, каждый заработал очень хорошо. На этот раз я не забыл своих обязанностей по отношению к матери. Только теперь я узнал, что она больна, и, к счастью, мог помочь ей.
Теперь у меня было больше оснований продолжать избранную мною карьеру, а у матери — меньше возражений против нее. Она не протестовала и против моего нового отъезда. Я стал мужчиной. Она, по-видимому, даже гордилась мною. В конце концов, она чувствовала себя счастливой, что ее бродяга вернулся к ней, чего она уже не ожидала.
Она, всегда гордившаяся тем, что была женой морского офицера, может быть, и ощущала себя несколько униженной, что стала матерью простого матроса. Но если это так и было, то я имел счастливую возможность перед отъездом сообщить ей новость, способную пролить бальзам на ее раны. Эта новость содержалась в письме из Нью-Бедфорда:
«Дорогой Мэси, в настоящее время я снаряжаю «Облако» для нового похода на китов. На этот раз я хочу попытать счастья в Атлантическом и Индийском океанах. Итак, если вы сохранили свое увлечение охотой на левиафана и если чувствуете прежнюю привязанность к старому кораблю, я могу предложить вам место. Я набрал себе в экипаж всех, кроме второго офицера. Если вы хотите быть вторым офицером, место вас ждет. Оно будет свободно до получения вашего ответа. Сердечно преданный вам Р. Дринкуотер».
«P.S. Коффен на этот раз не идет со мною. Босток с «Дерзкой Сары» сделал ему предложение. Но я надеюсь, или, вернее, я думаю, что его уход не станет поводом к тому, чтобы ушли и вы. Р.Д.».
Слова «я думаю», подчеркнутые капитаном Дринкуотером, возымели действие, на которое он, несомненно, и рассчитывал. Они побудили принять предлагаемый мне пост. Я тщетно старался возбудить в себе симпатию к Лиджу Коффену, но это было для меня невозможно. Он так и представлялся мне с гарпуном в руке, угрожающе занесенным над моей головой, и с криком «Помните Билла!» на устах.
Естественно, я написал капитану Дринкуотеру, что принимаю его предложение, и выразил ему свою признательность, а через день отправился вслед за своим письмом и снова поднялся на борт «Летучего облака».
Но я уже не был простым матросом. Я имел право расхаживать по шканцам, облеченный властью командира.
Я нашел на судне некоторые перемены. Не один Лидж Коффен оставил его. Ушел третий офицер Гровер и с ним много старых матросов. Их уход был вызван не каким-либо недовольством, в них просто говорила жажда перемен, свойственная морякам вообще и китоловам в особенности.
Кончив наши приготовления, мы отплыли в Атлантический океан, чтобы кратчайшим путем пройти в Индийский. Мы рассчитывали пополнить свой груз в Атлантике на обратном пути, если успех не будет нам сопутствовать в Индийском океане.
Остановившись у Кейптауна, чтобы возобновить запасы провизии и воды, мы узнали, что большие киты были замечены у берегов Африки, в частности у берегов Мадагаскара. Этого для нас было достаточно, чтобы изменить свои планы и отказаться от намерения достигнуть земли Кергелена, известной также под именем Острова Отчаяния.
Местом своей первой разведки мы избрали Мозамбикский пролив и немедленно отправились туда в надежде встретить китов. Но скоро поняли, что все разговоры о китах, водящихся у берегов Африки, имели целью ввести нас в заблуждение. Китоловы из Кейптауна прямо направились в Кергелен и не хотели, чтобы мы, иностранцы, оспаривали у них добычу.
Удрученные обманом, жертвой которого мы сделались, а также неудачей в Мозамбикском проливе, мы решили немедленно выйти из него и последовать нашему первоначальному намерению. Но так как нам было необходимо запастись провиантом, мы зашли в один из африканских портов, где была довольно убогая португальская колония.
Капитан решил лично побывать на берегу, чтобы, прежде чем вести судно в рейс, узнать, найдем ли мы там то, что ищем. Я сопровождал его в лодке, и мы полагали, что все дело будет покончено в час или два.
Как мало мы были знакомы со всеми мучениями португальской дипломатии! Во всяком случае, мы получили урок, более чувствительный, чем ожидали, и менее приятный, чем надеялись. В этом глухом уголке владений португальского короля административная рутина процветала так же хорошо, как в самом Лиссабоне. Ни одна сделка не могла быть заключена без санкции властей, а таможенные власти являли собою целую тучу болтливых чиновников, которые фланировали круглый день, как будто им нечего было делать. Из-за их бездельничанья капитан потерял день, фактически ничего не сделав.
Я оставил при лодке только одного матроса, а остальным позволил размять ноги на суше и сам последовал их примеру. Мы несколько часов гуляли по берегу, угощаясь апельсинами и другими тропическими плодами и изучая тот особый вид людей, который известен под названием португальцев-эфиопов.
Задолго до ночи, насытившись этими плодами и зрелищем, мы вернулись в лодку и принялись поджидать капитана. Он пришел только в сумерки, и лишь для того, чтобы сообщить, что не окончил своих дел и рассчитывает провести ночь на берегу.
— Отведите лодку, Мэси, — сказал он мне, — и проследите за тем, чтобы корабль был готов завтра утром рано отправиться в путь. Я нанял лоцмана, чтобы он провел наше судно на рейд, возьмите его с собою. Вот он.
С этими словами он представил мне человека, семенившего за ним. Это был темнокожий метис. Его шляпа была широка, как раскрытый зонтик. Он носил звучное имя сеньора Сальвадора.
Капитан отдал мне свои распоряжения и настоятельно посоветовал поторопиться, пока виднеются судовые огни, потому что небо начало угрожающе затягиваться с подветренной стороны.
Я и сам это видел, а сеньор Сальвадор — не хуже меня. Он заторопился вместе с нами. Наивно полагая, что умеет говорить по-английски, он счел необходимым показать нам это знание:
— Дурной погод приходит, смотрит вниз.
Старый матрос, который владел португальским так же, как тот — английским, тоже захотел похвастаться своим лингвистическим талантом:
— Дует, вы думаете? Ветер много, не так ли?
— Ветер нет, нет, немного, — с великолепным апломбом ответил лоцман, — больше… вода.
— Вода! Если только это, пусть хоть дождь идет, — ответил матрос, — мы не соль и не сахар. Посмотрите на корабельные огни, господин Большая шляпа, нам недалеко.
— Да, да, моя знает. Вы ходит вперед.
Во время этого изящного диалога мы быстро двигались среди спокойных волн, рассекая их сильными, верными ударами весел.
Скоро шлюпка начала «танцевать»: стало ясно, что мы вышли из бухты в открытое море. Наступила ночь, казавшаяся еще мрачнее, так как все небо было покрыто тучами. Крупные редкие капли дождя падали на нас и предвещали настоящий тропический ливень. Я напрасно напрягал зрение и глядел во все стороны: корабельных огней не было видно нигде. Мы были уже далеко в море.
Лоцман сидел рядом, на корме. На лице его было выражение озабоченности, почти тревоги. Очевидно, что-то ему сильно не нравилось.
— Что вы думаете об этом, сеньор Сальвадор? — спросил я.
— Что мы лучше воротиться землю, — таков был его ответ.
— Нет, это невозможно, сеньор. Мы даже еще не попытались как следует поискать свой корабль. Нехорошо так падать духом. Ребята, — обратился я к матросам, — я знаю, где судно. Мы на правильном пути. Идите вперед, и мы скоро встретим огни.
Но все было напрасно: огни «Летучего облака» не появлялись. Мы прошли милю — ничего! Ни малейшего проблеска света в ночи.
Я приказал людям перестать грести и лучше смотреть во все глаза. Потом я приказал поднять фонарь, чтобы привлечь внимание к нашей лодке, но ничей сигнал не ответил на наш.
Волны росли, кроме того, нам угрожал ливень, порывы ветра вздымали и пенили море.
И когда благоразумный сеньор Сальвадор снова посоветовал вернуться на сушу, я недолго спорил. Да и не имел на это права. Нанятый в качестве лоцмана, он брал на себя ответственность за все, что случится с нами, мы должны были повиноваться ему. Кроме того, понимал я, любой офицер, увидев, что начинается буря, поищет где-нибудь у берегов укромную стоянку. Даже если бы мы знали, где находится «Летучее облако», было бы верхом неблагоразумия искать его в такую погоду на нашей скорлупке.
Эти размышления заставили меня крикнуть:
— Поворачивай!
Глава 14
ФАНДАНГО. ЗАПОДОЗРЕННЫЙ ЛОЦМАН
Повернув назад, мы оказались в такой же неопределенности, как и раньше. В этом направлении тоже не было никакого проблеска, чтобы сориентироваться по нему. Покинув порт, мы обогнули группу скал, которые теперь скрывали от нас городок с его тремя или четырьмя скверными фонарями. Нам оставалось в темноте искать дорогу.
«Большая шляпа» теперь был нам нужнее и полезнее, чем тогда, когда мы шли в открытое море, потому что он, по-видимому, в мельчайших подробностях знал берега. Во всяком случае, не имея возможности что-либо видеть в темноте, он все же руководил нашими маневрами и по справедливости мог гордиться более своим слухом, чем зрением. Однако то, что слышали все мы, внушало беспокойство. Море ревело и билось о берега, белая линия прибоя обозначила место, где разбивались волны. Эта линия была видна в темноте.
Дождь уже лил как из ведра, ослепляя нас. Мы моментально промокли до костей, что, собственно, не очень беспокоило нас по причине тропической жары. Нас больше тревожил глухой рев волн и тяготила необходимость вычерпывать воду из лодки, иначе она наполнилась бы в несколько минут и пошла ко дну.
Мы уже начали изнемогать, когда заметили на берегу свет. Этот тусклый, слабый огонек пробивался из крохотного оконца.
— Это мой дом! — воскликнул сеньор Сальвадор, лишь только заметил его. — Гребите туда, все прямо!
Я не спрашивал себя, благоразумно ли мы поступаем. «Большая шляпа» был портовым лоцманом и должен был знать, куда ведет. Я приказал править на огонек.
Двенадцать взмахов весел — и мы оказались в водовороте вспененных волн. Вероятно, в этом месте они разбивались о какую-то подводную преграду и с такой силой, что мы вот-вот погибнем, если не вырвемся из этой западни.
— Назад! — крикнул я так громко, как только мог.
Гребцы подчинились, и скоро мы были вне опасности. Тогда я повернулся к лоцману, чтобы спросить у него объяснений, но лоцман… исчез! Место, где он только что сидел, было пусто.
В глубокой тьме он легко мог перейти на другое место, поэтому я спросил у матросов, где наш проводник. Все ответили, что его нет среди них, и были удивлены не меньше меня этим таинственным исчезновением.
Мы все были опечалены случившимся, потому что думали, что бедняга упал через борт и погиб в водовороте. Сильный толчок при повороте мог заставить потерять равновесие. Мне было особенно тяжело, так как я считал себя виновником его гибели.
Каково же было наше удивление, когда из темноты раздался голос, совсем не похожий на голос человека отчаявшегося, скорее наоборот, он был весел:
— Доброй ночи, сеньоры! Вы обогнуть скалы и вы увидеть огни порта! Еще полмили — вы безопасность! Доброй ночи!
Не было никакого сомнения в том, что это кричал сеньор Сальвадор, как не было никакого сомнения и в том, что сам он уже стоял на твердой земле. Но как он добрался до нее, как преодолел бурную полоску моря?
Это оставалось для нас настоящей загадкой. Мы могли сделать только одно предположение: он очень хорошо был знаком с берегом, особенно близ своего дома, и знал, каким путем миновать водоворот, избегнув опасности.
Как бы то ни было, какие причины заставили его покинуть лодку, даже не предупредив нас об этом? Какая ему в том была выгода? Однако раздумывать об этом было некогда. Самым важным сейчас было обогнуть скалы и добраться до безопасного места. Мы последовали указаниям лоцмана.
Гребцы удвоили свои усилия и, наконец, к величайшему удивлению, мы увидели портовые огни, вернее, их проблески, потому что дождевая завеса плясала перед глазами. Ориентируясь на эти огни, мы подошли к пристани, привязали лодку, сошли на берег и отправились искать крова.
Мокрые, как крысы с утонувшего корабля, мы добрались до города. Но, так как уже миновала полночь, все двери были заперты и, вероятно, все обыватели спали.
Проходя мимо одной лачуги, выстроенной из какой-то глиняной грязи, мы заметили, что ее обитатели явно не спали. Лучи света проникали через узкие окна без рам. Слышался шум голосов, раздавались звуки банджо или бандолы. Не предполагая найти что-либо приличнее, мы решили войти в это помещение, отнюдь не для того, чтобы наслаждаться музыкой, а чтобы укрыться под кровлей и обсушиться, если там случайно найдется очаг.
Мы постучали. Дверь открыл негр гигантского роста, типичный мозамбикский негр. Он спросил на своем жаргоне, что нам надо. Прежде чем мы успели ответить, рядом с этим негром появился другой. Можно ли вообразить наше изумление, когда в этом другом мы узнали лоцмана, так бессовестно покинувшего нас! Однако одет он был уже по-праздничному.
— А, сеньоры! — произнес он, растягивая рот до ушей. — Здесь моя пришел до вас. Счастлив видеть! Пожалуйста, входите! Может, много здесь человеков, но мы найти место для вас! Мы немножко танцевал. Вы танцевать с нами.
Он был очень скромен, говоря «много человеков». Надо было бы сказать «слишком много». Здесь можно было задохнуться. Присутствующие представляли невероятную смесь лиц, какую можно встретить только в португальской Африке. Тут были все оттенки кожи, от желтого до черного, как агат. Мы попали на фанданго — иначе говоря, на бал, где встречаются все классы мозамбикского населения.
Лачуга была наполнена испарениями и такими бьющими в нос запахами, что мы не сразу решились войти. Но ступив на порог, отступать было уже неприлично. Как можно любезнее приняв приглашение сеньора Сальвадора, мы последовали за ним.
Мы заметили, что в своем кругу он был не простой особой и свободно распоряжался расставленными угощениями, которые состояли из различных плодов. Должен признать, что сеньор Сальвадор отличался широким гостеприимством. Среди угощений была и агвардиенте, водка низкого качества, способная расстроить самый крепкий желудок. Волей-неволей нам пришлось оказать честь и ей, мы терпеливо снесли эту необходимость, хотя не могли удержаться от гримасы отвращения.
Сеньор Сальвадор не помнил себя от радости и оказывал нам всяческое внимание. Я воспользовался случаем и спросил, как он здесь очутился и как миновал водоворот. Он ответил, что для привычного человека переплыть водоворот ничего не значит. Но, как известно, на балу можно говорить лишь урывками, и точного объяснения он мне не дал. Зато когда мы вышли из танцевальной «залы», он объяснился подробнее. Оказывается, он проплыл узеньким проливчиком, пока мы огибали полуостров.
— Но почему вы нас бросили?
— Ах, сеньор, вы не знает почему! Мой дом на другой сторона, вы видал. Моя жена дома. Я хотел привести ее на фанданго. Она теперь здесь. Ваша честь позволит представить ее вам.
И я был представлен сеньоре Сальвадор — довольно живой, кокетливой желтой квартеронке. Я сказал, что она является единственной виновницей наших бедствий, так как, желая привести ее на фанданго, ее муж завел на ложный путь нас.
Как бы то ни было, и я и мои товарищи только и мечтали, как поскорее уйти из этой лачуги. Помещение было переполнено, в воздухе висел туман от мокрых одежд и табачного дыма, ноздри раздражал запах скверной водки и специфический аромат тел.
Одним словом, при первом удобном случае, несмотря на все очарование сеньоры Сальвадор и проливной дождь, ожидавший нас за порогом, мы бежали.
Весело принимая новый душ, мы устремились к центру города в поисках приличного пристанища. Не доходя до площади, мы увидели дом, резко отличающийся своей архитектурой от прочих. Около него был открытый сарай. Мы нашли его достаточно комфортабельным. Во всяком случае, он был надежной защитой от дождя, а на нас не было уже сухой нитки.
Ночь была жаркая, и принятая дождевая ванна даже несколько освежила нас, но мы встретились здесь с москитами. Они, как и мы, искали в этом сарае защиты от дождя, однако эти товарищи по несчастью были с нами крайне нелюбезны. Мы ни на секунду не смогли закрыть глаз. Только рассвет прогнал этих злодеев, как прогоняет он злых духов. Тогда мы растянулись на соломе и мгновенно забыли все наши беды.
Совершенно измотанные приключениями, мы спали, пока солнце не поднялось достаточно высоко. Проснувшись, мы постарались привести себя в порядок, и, прежде, чем вернуться на корабль, я решил повидать своего капитана.
Отправив матросов к лодке, я собирался отправиться на розыски, как вдруг одно из окон большого дома открылось, и в нем показалось лицо капитана Дринкуотера. Он смотрел на меня с крайне удивленным видом. Я был удивлен не меньше его, но не успел и рта раскрыть, как он закричал:
— Вы здесь, Мэси! Что привело вас сюда? Надеюсь, с «Летучим облаком» ничего не случилось?
— Надеюсь, что нет, но не могу ручаться за это.
— Как это? Почему?
— Потому что не был там с тех пор, как расстался с вами!
— Какого черта вы не были там! Объяснитесь, Мэси!
Я рассказал ему подробно все, что случилось с нами накануне, и сообщил о поведении сеньора Сальвадора.
— Однако странно, — задумчиво произнес капитан, — что он так внезапно сбежал, не говоря уже об опасности, которой подвергался сам. Но я думаю, что он знает свое дело и не очень рисковал. Однако зачем же ему было рисковать?
Я уже хотел рассказать, как объяснил это сам лоцман, но капитан воскликнул:
— Черт возьми! Мне кажется, я знаю, почему так поступил этот хитрый негодяй!
С этими словами он отошел от окна.
Чрезвычайно удивленный, я остался на месте, ожидая, что будет дальше. Я был уверен, что капитан сейчас выйдет. Так и было: наскоро попрощавшись с хозяином, он поспешил ко мне.
— Мистер Мэси, вы не видели мешочка в ящике на корме, маленького парусинового мешочка?
— На корме лодки?
— Конечно, лодки!
— Нет, капитан, я не заметил его.
— Но там был мешок, такой парусиновый сак. Пойдемте поскорее, посмотрим, там ли он еще.
И, не вступая в дальнейшие объяснения, он быстро зашагал, лицо его покраснело и выражало сильное волнение. Ничего не понимая, я последовал за ним.
Мы застали матросов уже на веслах, готовыми к отплытию. Им стоило немалого труда привести лодку в надлежащий вид и вылить из нее воду. Взор капитана сразу устремился на кормовой ящик, и он обратился к матросам с тем же вопросом, получив, увы, тот же ответ: они не видели парусинового мешочка ни на корме, ни в другом месте.
— Ну, — вскричал капитан Дринкуотер, сопровождая это восклицание очень крепким ругательством, — теперь я знаю, почему сеньор Сальвадор поторопился оставить вас! Отлично! Я поймаю этого негодяя, как бы хитер он ни был! Мы не будем запасаться провиантом здесь, а дойдем до острова Святого Маврикия. Значит, не надо ставить «Летучее облако» в эту бухту. Но он не будет знать этого, и я дам ему урок, какого он заслуживает. Я надеюсь, что он все же явится. Клянусь Иосафатом, я отплачу ему такой монетой, на какую он не рассчитывает!
Так как все это капитан говорил, обращаясь исключительно ко мне, я взял на себя смелость спросить, не заключал ли в себе мешочек что-нибудь ценное.
— Конечно, — ответил он, — в нем было нечто ценное. Я не таков, чтобы поднимать шум по пустякам.
— Деньги, может быть?
— Да, деньги, доллары, двести прекрасных долларов. Я уверен, что сеньор Сальвадор наложил на них лапу. Меня нисколько не удивляет, что он показал себя таким щедрым на этом фанданго. Он мог быть расточительным после такой удачной ловли.
— Но разве вы, — заметил я капитану, — не можете заставить арестовать его и предать суду?
— Зачем? У меня нет иных доказательств, кроме его присутствия в лодке. Да и имей я иные доказательства, он вышел бы из воды сухим, стоило ему только поделиться добычей с судьей. Да и нет у нас возможности из-за двухсот долларов торчать здесь месяц или год. Нет! У меня есть только одно средство наказать негодяя — заставить его принять на себя обязанности лоцмана… Ах, черт возьми, да вот и он!
И в самом деле, это был он! Менее чем через минуту он был уже возле нас и поклонился нам с достоинством лорда Честерфильда. Выражение его лица было спокойно, приветливо, как у человека с вполне чистой совестью.
Капитан, прекрасно владея собой, ответил на его поклон и любезно сказал:
— Здравствуйте, сеньор! Я только что узнал, что вам не повезло сегодня ночью. Сейчас дело пойдет лучше. Идемте же в лодку!
Лоцман доверчиво последовал за нами. Мы по прямой пересекли бухту и увидели «Летучее облако», а через полчаса уже были на борту.
На палубе произошла в высшей степени интересная сцена, участниками которой были капитан Дринкуотер и лоцман.
— Я полагаю, сеньор Сальвадор, что вы считали себя очень хитрым, когда крали мешок?
— Какой мешок, капитан?
— О, маленький парусиновый сак, который вы взяли из кормового ящика перед тем, как броситься в море. Вспоминаете?
— Боже, капитан! Вы говорите загадка. Моя не знает ничего, ничего!..
— Скоро узнает, — сказал капитан и приказал поднять паруса.
В мгновение ока паруса были подняты, и корабль вышел в открытое море. Однако разговор продолжался.
— Да, сеньор Сальвадор, — говорил капитан, — вы украли сак, а в нем было двести долларов. Но успокойтесь, я думаю, что заставлю вас их отработать, и, таким образом, вы отдадите их мне натурою. Вы не покинете борт судна, пока не отработаете все, до последнего цента.
Видел я в жизни много удивленных людей, но такого искреннего и глубокого удивления, какое отразилось на лице лоцмана, — никогда.
Он протестовал, и голос его был настолько искренним, что грех было не поверить. Он даже упал на колени с криком:
— Сеньор капитан, я невинен! Моя не брал вашего сак! Ничего, ничего не видал!
Если это была комедия, то ломал он ее очень талантливо. Никогда подражание природе не было так близко к самой природе.
Однако капитан не поддался на это. Он был глух ко всем мольбам обвиняемого и требовал точного выполнения своего требования. Корабль между тем летел вперед. Но едва мы сделали двенадцать узлов, как в настроении капитана произошел благоприятный для сеньора Сальвадора поворот. Во-первых, этот человек и впрямь мог быть неповинен. Во-вторых, с точки зрения международных правил, поступок капитана наводил на определенные сомнения и мог иметь дурные последствия. Одним словом, Дринкуотер освободил пленника и отпустил его назад с встречным береговым судном, возвращающимся в порт.
Мы все, от первого до последнего, были убеждены, что лоцман — вор, но со временем вынуждены были изменить свое мнение и очень сожалели, что обвинили его понапрасну. Спустя несколько недель, когда явилась необходимость ремонтировать лодку, мы нашли мешочек с деньгами завалившимся в глубину кормы.
Глава 15
ТРЕБУЕТСЯ ДОКТОР. НА ВОЛОС ОТ АМПУТАЦИИ
Мы шли из Мозамбикского пролива на север, чтобы попытать счастья к востоку от Мадагаскара. Капитан Дринкуотер отказался от мысли посетить в этом году остров Кергелен: во-первых, потому, что сезон был уже в разгаре, во-вторых, потому, что киты появились в большом количестве у Маскаренских островов. Об этом он узнал от человека, у которого ночевал накануне. Тот вернулся с острова Св. Маврикия, и капитан решил воспользоваться его советом.
Одно он усвоил твердо — не заходить в португальские порты. Всем необходимым мы могли запастись на острове Св. Маврикия или на Бурбоне.
На этот раз мы не ошиблись. Хотя, когда говорят об охоте на китов, об Индийском океане к востоку от Мадагаскара никогда не упоминают, мы встретили там огромное количество этих чудовищных животных. Нам повезло, и «Летучее облако» было до того загружено, что его ватерлиния оказалась ниже поверхности воды.
Мы уже думали о возвращении домой и занялись укладкой добычи в трюм. Обыкновенно этим руководит второй офицер. Но капитан Дринкуотер никому не захотел доверить этого дела и взял его на себя. В парусиновом костюме он спустился в трюм. Когда было уложено уже несколько тонн, я услышал его оклик:
— Мэси, пришлите мне номер сорок два!
— Есть, — ответил я и начал искать сорок второй номер в ряду бочек.
Ветер в это время был сильный, море неспокойное, и волны гнали «Летучее облако» вперед. Пока еще неравномерно нагруженный корабль заметно клонился на бок. В ту минуту, когда я спускал вниз потребованную бочку, корабль вдруг накренился, остов его затрещал, и в трюме послышался грохот, потом крики. Я понял, что произошло несчастье, бросился к люку спросить, что произошло, и услышал отчаянный крик:
— Он ранен, опасно ранен!
— Кто? Кто ранен?
— Капитан, сударь, на него упала бочка!..
Я уже не слушал дальше. Я понял, что произошло. Одним прыжком я очутился в трюме. Матросы с усилием оттаскивали тяжелую бочку, чтобы освободить ногу капитана, сдавленную между бочкой и стенкой.
Не надо было спрашивать, что произошло. Очевидно, при резком повороте судна одна из верхних бочек скатилась на мистера Дринкуотера. Он успел уклониться, но нога его оказалась зажатой, как в тисках.
Рана была, без сомнений, тяжела. Капитан Дринкуотер был очень мужественным человеком, но нестерпимая боль и его заставила испустить стон. Страдания его были ужасны.
С величайшей предосторожностью он был перенесен в каюту. Я жил с ним дольше, чем старший офицер, поэтому и теперь по праву занял место при капитане. Но когда я раздел его, то пожалел, что эту тяжкую обязанность не исполнил кто-нибудь другой. Рана была ужасна. Нога оказалась сломанной выше колена. К счастью, колено и ступня остались целы. Можно было предположить, что кость раздроблена.
— Да, она раздроблена на тысячу кусков, — произнес капитан со стоном. — Вот чем я стал через двадцать лет китоловной работы! Ужасно кончить, словно крыса в западне! Клянусь Иосафатом! Это ужасно!
— О, не говорите так! — воскликнул я. — О смерти не может быть и речи. Вы поправитесь, успокойтесь!
Признаюсь, я и сам не верил своим словам. Глядя на распухшую багровую ногу, я питал мало надежд на его выздоровление. Тем более, что на борту никто не имел ни малейшего понятия о хирургии, так же, как и я. Мы были так же беспомощны, как крестьяне, окружившие на пустынной дороге какого-нибудь несчастного возчика, задавленного своим тяжелым возом. Положение капитана было даже ужаснее, потому что он был на сотни лье от всякой помощи.
Я чувствовал свое полное бессилие, старший офицер тоже не знал, что делать. Наконец, мы решили, что самое лучшее — зайти в ближайший порт. Там, по крайней мере, можно найти хирурга. Ближайший к нам порт был на острове Св. Маврикия. Перевязав, как могли, рану, мы немедленно направились к этому острову. К несчастью, даже при благоприятном ветре до него было несколько недель пути.
Мне казалось, что положение капитана ухудшается с часу на час. Стали заметны признаки воспаления. Офицеры позвали на совет наиболее опытных людей из экипажа и пришли к убеждению, что единственное средство спасти капитана — ампутировать ему ногу.
Но кто произведет операцию?
Тогда мы собрали уже весь экипаж, и я обратился к нему с вопросом:
— Ребята, не приходилось ли кому-нибудь из вас присутствовать при ампутации?
Мертвое молчание длилось несколько мгновений. Потом в задних рядах произошло движение, кружок раздался, и показалась курчавая голова.
— Я, мистер Мэси, я видел ампутацию, да!
Это был наш повар, почтенный негр из Вирджинии, которого в шутку называли «доктором».
— Я видел одну ампутацию, — продолжал он, — когда был поваром на «Свободе».
— И вы помните, как ее производили?
— Я должен ее помнить, масса. Ампутацию делал старик, старый капитан «Свободы» Гернер. Я помогал ему, да! Я подавал инструменты, да! Я перевязывал жилы, да! Да, да, я делал все это!
— И больной поправился?
— О, да, да! Это нетрудно, да!
Негр говорил с такой уверенностью, что внушил нам мысль поручить ампутацию ему. Сам капитан был того же мнения и только просил не мучить его долго. Он был убежден, что умрет, если не отнять его раздробленной ноги.
Мы решились на операцию.
Никогда в жизни я не принимал, мне кажется, на себя более тяжелой ответственности. Конечно, я не один решал это, но, по молчаливому соглашению остальных, я должен был наблюдать за операцией. Если она окажется неудачной, меня обвинят в преступлении, а если и удачной, то какое ужасное зрелище видеть мужественного моряка ковыляющим на деревянной ноге! Но выбора не было. Капитан сам не видел ничего иного и требовал ампутации.
По окончании нашего совета я вошел в его каюту вместе с «доктором» и его помощниками. Я должен был сделать усилие, чтобы овладеть собой. Мне это плохо удавалось. Мои руки дрожали, когда я вынимал инструменты.
Тем временем негр, чтобы ободрить меня, подробно рассказывал, как старик Гернер производил операцию. Если верить ему, капитан «Свободы» тоже стал хирургом по необходимости. Однако негр напрасно ободрял меня. Чем ближе подходил момент операции, тем более я терялся. Мне почти стало дурно, когда я увидел разложенные на столе орудия пытки.
Видя мою нерешительность, «доктор» самым безобидным тоном сказал:
— Как вы думаете, масса Мэси, не выпить ли нам для храбрости?
Я приказал подать два стакана грогу.
Выпив свой, я почувствовал если не прилив мужества, то готовность начать. Негр давно уже был к этому готов. Я содрогался при мысли о том, с каким равнодушием он будет орудовать пилой. Видя его полное спокойствие, можно было сказать, что он собирается напилить дров для печки.
С удовольствием выпив свой грог, он изрек:
— А вы не думаете, что и пациенту следовало бы выпить? Это подбодрило бы его.
Я согласился с этим. Капитан выпил с жадностью, понимая, зачем он это делает. Нас отделяла от него полуоткрытая дверь, и он мог слышать каждое наше слово, видеть наши приготовления.
— Теперь, — произнес негр с дьявольской улыбкой, — я думаю, мы можем приступить.
Он говорил авторитетным тоном, смотря на меня как на своего помощника. Было видно, что он принимает на себя всю ответственность.
Еще минута — и капитан Дринкуотер мог бы сказать своей ноге: «Прости!» Но вдруг раздался крик:
— Парус!
В следующее мгновение я уже был наверху и прислушивался так, словно моя жизнь зависела от того, что я услышу сейчас. Сначала доносился только неясный говор: вахтенный и старший офицер стояли высоко надо мной. Но вот офицер наклонился и крикнул:
— Парус, Мэси! Большое судно! Вахтенный полагает, что это военный корабль. Я подаю сигнал, что мы хотим говорить с ним.
— Слава Богу! — вскричал я в порыве радости.
Я походил на человека, очнувшегося от ужасного кошмара. Если это военное судно, то там обязательно есть хирург или кто-нибудь знающий, кто сумел бы оперировать капитана Дринкуотера.
Когда я вернулся в каюту, негр спросил меня, приступим ли мы к делу. Это каннибальское нетерпение вывело меня из себя, и я ответил ему, что скоро у нас будет настоящий хирург. Лицо его сразу помрачнело, как у врача, которого отстраняют от операции и заменяют другим. Это было уже слишком, и я без церемоний отправил его на кухню, к его плите.
Однако пораздумав, я раскаялся в том, что наградил его довольно нелестными эпитетами. Ведь он хотел принести пользу и виноват только в излишнем усердии. Пока нам не встретилось судно, ведь я очень нуждался в нем!
Я зашел к капитану.
— Дорогой мистер Дринкуотер, я с хорошей вестью. Прямо по курсу судно, по-видимому военное, так что если вам и суждено потерять сегодня ногу, то вы потеряете ее по всем правилам искусства.
— Это уже нечто утешительное, мой милый!
Его лицо прояснилось.
Я снова поднялся наверх, посмотреть, чей это корабль. Он действительно оказался военным корветом, идущим под французским флагом.
Скоро мы могли слышать друг друга.
— Эй, чего вы хотите? — закричали с корвета.
— Доктора!
— Сейчас пришлем!
Ответ был достоин цивилизованной нации. Тотчас с корвета спустили лодку. Она направилась к нам и через десяток минут причалила. В человеке, стоящем на корме, нетрудно было признать эскулапа. Он был маленького роста, совершенно лысый, с огромной бородой, но глаза его блистали умом, и было сразу видно, что мы можем довериться ему.
Когда он ступил на борт корабля, у меня явилось желание прижать его к сердцу, потому что от него сейчас зависела жизнь, столь же дорогая для меня, как моя собственная.
Я провел его в каюту капитана и по дороге объяснил, в чем дело. Но мне не было надобности вдаваться в детали, он все понял с первого взгляда. В глубине души я даже подумал, что осмотр мог бы быть более тщательным. Не находил ли он этот случай безнадежным?
Но выражение его лица опровергло мои опасения.
— Ну, — сказал я, вводя его в комнату, примыкающую к спальне капитана, — вы сможете произвести ампутацию?
— Ампутацию! — с удивлением воскликнул он. — Зачем? Почему зашла речь об ампутации?
— Разве можно спасти его иначе?
— Нет, сударь, она нужна не более, чем ампутация головы.
— Разве кости не раздроблены?
— Конечно нет, кость цела. Хорошая повязка — вот что нужно. Потом отдых, а потом терпение. Будьте покойны, сударь, через месяц он будет вполне здоров.
Несмотря на его ужасную бороду, на этот раз я не выдержал, крепко обнял маленького человечка и расцеловал его в обе щеки. Его слова вернули мне жизнь.
Он наложил повязку и приказал давать больному питье, приготовив его собственноручно. Потом дал нам точные и ясные инструкции по уходу за больным и простился с нами.
Его предсказания исполнились буква в букву. Через месяц капитан Дринкуотер уже был на мостике «Летучего облака», и невозможно было определить, какая нога у него болела.
Из всех этих событий я вынес чувство глубокой признательности маленькому бородатому французу и непреодолимое желание избить нашего повара всякий раз, когда видел его лоснящееся лицо.
Глава 16
ТАИНСТВЕННАЯ ЛОДКА. БЕДНЫЕ ЛЮДИ!
Почти во всех морях китообразные имеют странную особенность: сегодня вы видите возле судна целую стаю, а наутро на всем океане ни одного.
Именно такое явление и происходило теперь на наших глазах. Мы в большом количестве встречали китов у островов Индии, но вот их либо испугал французский корвет, либо они ушли за ним — океан стал совершенно пуст. Это было обидно, потому что в ином случае мы за несколько дней пополнили бы трюмы «Летучего облака». Нам пришлось искать счастья в других местах, чтобы не возвращаться в Нью-Бедфорд с неполным грузом. Пополнив наши запасы в Порт-Луи на острове Св. Маврикия, мы отправились в другую часть Индийского океана, однако неудача преследовала нас. Киты, появлявшиеся в поле нашего зрения, не стоили удара гарпуна.
Наконец, капитан Дринкуотер, который вполне поправился, решил идти на запад, в Атлантику, и постараться пополнить груз у островов Тристан д'Акунья. Во время своих путешествий мы не раз пересекали Атлантический океан и знали его достаточно хорошо, чтобы не опасаться особенных приключений.
То, что я сейчас расскажу, едва ли может называться приключением, скорее, это эпизод, но эпизод, который произвел тяжелое впечатление на моих товарищей, как и на меня.
Вблизи Тристан д'Акунья мы имели дело с плоскоголовыми китами, не похожими на тех, каких встречали на севере. На этот раз мы были вознаграждены за свои труды. Действительно, это был уже спорт, а не работа, и даже забава, так как мы кончали сезон. После нескольких месяцев кампании самые страстные охотники были пресыщены.
Через несколько недель трюмы «Летучего облака» наполнились. Очень доволен был капитан. С тех пор, как он крепко встал на ноги, он находил особенное удовольствие ходить по капитанскому мостику и отдавать распоряжения.
Когда последняя тонна жира была спущена в трюм, он сказал:
— Теперь, ребята, кампания окончена, и можно смело сказать, что окончена хорошо. Надо вспрыснуть наш успех.
Он отдал приказание, и палуба превратилась в театр, где каждый с увлечением исполнял свою роль. Здесь были все — молодые и старые, матросы и офицеры. В силу традиций китоловного судна такое смешение нисколько не нарушало дисциплины. Как только праздник кончался, все возвращались к своим обязанностям, одни — приказывать, другие — повиноваться. А сейчас пир был в самом разгаре.
Корабль тихо покачивался на волнах, подталкиваемый легким бризом. Вдруг вахтенный закричал:
— Парус!
Конечно, капитан спросил, что за судно и куда идет.
— Просто шлюпка, сударь, — ответил вахтенный.
— Шлюпка! — воскликнул капитан, удивленный, как и все мы. — Но, значит, виден и корабль?
Последовало долгое молчание. Вахтенный смотрел во все стороны, и мы с живейшим любопытством ждали результатов его наблюдений. Мы были почти в ста лье к северу от островов Тристан д'Акунья и знали, что ближе никакой твердой земли нет. Шлюпка, без корабля, так далеко от берегов — это было странно, очень странно. Если бы мы встретили ее среди архипелагов Тихого океана, то просто не обратили бы на нее внимания. Но на западе Атлантического, этой водной пустыни, где острова Тристан д'Акунья и Найтингель являются уединенными оазисами, присутствие одинокой шлюпки было очень странным.
Но была ли эта шлюпка на самом деле одинокой? Вот о чем мы спрашивали друг друга, пока вахтенный продолжал свои наблюдения.
Он снова заявил, что на горизонте нет никакого иного паруса.
— Шлюпка под парусами? — спросил капитан.
— Да, сударь, — ответил вахтенный.
— Кто в ней?
— Никого, сударь.
— Но там должен быть кто-нибудь!
— Я не вижу ни одной живой души, сударь. Если там кто-нибудь и есть, он, должно быть, спрятался под скамейку.
— Клянусь Иосафатом, это странно! — воскликнул капитан тоном человека, который поражен до глубины души. — Шлюпка под парусом, которым никто не управляет! Мистер Мэси, поднимитесь наверх и посмотрите сами, не увидите ли чего-нибудь.
Я тотчас встал рядом с вахтенным, который передал мне свою подзорную трубу. Я мог только подтвердить его слова: шлюпка под парусом, и на ней никого, по крайней мере, никого видимого.
— Ну, Мэси, что там? — в нетерпении спросил капитан.
— Честное слово, сударь, я ничего не понимаю.
Этот ответ разочаровал всех.
— Я думаю, что это охотничья китоловная шлюпка. Она идет в одном направлении с нами.
— И вы тоже не видите никакого корабля?
Я не сразу ответил. До сих пор мое внимание было поглощено шлюпкой. Теперь я стал осматривать горизонт в подзорную трубу по всему горизонту. Небо было необыкновенно ясно, солнце ярко светило, море было спокойно — и ни одного иного паруса, кроме того, что на шлюпке.
Я сказал об этом капитану и услышал, как он произнес:
— Если Мэси ничего не видит, значит, ничего нет.
Если бы предметом нашего любопытства оказался корабль, а не простая шлюпка, мы вообразили бы, что имеем дело с «Летучим голландцем», кораблем-призраком из знаменитых морских легенд. Не было ни одного моряка, который бы не был твердо уверен в существовании «Летучего голландца».
— Что за чертовщина! — продолжал удивляться капитан. — Отправимся на охоту за ней, посмотрим, что это такое! Эй, Мэси, где она?
— Все там же, сударь. Курс — север.
— Скажите рулевому, что делать.
Охота началась. Мы сделали несколько узлов, все время подавая сигналы. Лодка не отвечала на наши сигналы. Мы настигали ее, но не так быстро, как хотели. Бриз, хотя и слабый, надувал ее большой парус и быстро толкал ее вперед, нашим же парусам он помогал меньше, тем более, что мы были очень нагружены.
Все это можно было легко объяснить. Гораздо труднее было понять упорное стремление шлюпки убежать от нас. Если люди в ней были просто несчастными и покинутыми, как мы готовы были подумать, их поведение было необъяснимо. В конце концов, мы пришли к убеждению, что это преступники, и тогда все понятно. Это негодяи, которые оставили свой корабль, совершив какое-нибудь ужасное преступление, может быть убийство, и у них есть основания избегать людей и людского правосудия. Может быть, они уносят с собой украденные предметы и не решаются бросить их за борт. Подобно Каину, они убегают от небесного гнева и видят мстителя в каждом встречном судне…
— Необходимо ее захватить, — сказал капитан, задетый за живое тем, что до сих пор не смог догнать шлюпку на таком быстроходном судне, как «Летучее облако». Это ставило под сомнения качества нашего корабля.
— Подумать только! — говорил он. — Эта негодная посудинка заставляет нас так долго гнаться за ней! Это смешно! Нам надо поставить больше парусов, как вы думаете, Мэси?
— Как и вы, капитан! Это китоловная шлюпка, охотничья.
Мой ответ навел всех на новые размышления о ее экипаже. Речь шла о профессиональной гордости. Если мы имеем дело с китоловной лодкой, нельзя допустить, что ее экипаж состоит из дезертиров и преступников. Такого не может быть. Мы вернулись к первоначальному предположению, что это несчастные, попавшие в беду. Но почему же они бегут от нас?
Бриз внезапно стих. «Летучее облако» беспомощно качалось на волнах. Шлюпка начала качаться, как пьяный матрос, словно за рулем в ней никого не было.
— Шлюпку в море! — приказал капитан. — Если мы не настигли ее на парусах, настигнем на веслах.
Двенадцать человек бросились исполнять приказ капитана. Прежде чем лодка была готова, снова подул капризный бриз и надул паруса как нашей, так и той странной шлюпки. Охота возобновилась.
Это было необыкновенное зрелище. Матросы начали поговаривать о чертовщине, и необычное поведение лодки давало для этого основания. Но капитан Дринкуотер не верил в сверхъестественные силы, или, вернее, не верил ни во что. Взволнованный происходящим, он приказал поднять все паруса.
— Клянусь Иосафатом! — вскричал он. — Поведение этой лодки чрезвычайно любопытно! Она похожа на блуждающий огонек.
Паруса еще не были подняты, когда я заметил, что это было бы излишней роскошью. Бриз посвежел, что благоприятствовало нашему кораблю и мешало шлюпке. Расстояние, разделяющее нас, уменьшалось каждую минуту. Нам уже оставалось недолго ждать, чтобы узнать тайну блуждающей шлюпки.
Отменяя свое приказание о парусах, капитан скомандовал:
— Пушечный выстрел! Остальные сигналы не производят на нее никакого действия. Посмотрим, что они скажут на это!
Наша маленькая пушка была выдвинута вперед.
— Следите за результатом, Мэси! — крикнул капитан в то время, как зажигали фитиль.
Я ждал, направив подзорную трубу на шлюпку.
Первый же выстрел произвел свое действие. Еще не замер его звук, как на корме показалась голова, затем — у основания мачты — другая, и еще две у борта.
— Что вы видите? — спросил капитан.
— Четверых людей, сударь, или, по крайней мере, четыре головы.
Одна голова между тем медленно поднялась над бортом, показались плечи… По-видимому, человек делал крайние усилия, стараясь не упасть. Одной рукой он обнял мачту, а другой махал чем-то вроде платка.
Трое остальных тоже поднялись и начали подавать сигналы. Они махали шляпами и какими-то тряпками. Теперь уже с нашего мостика была заметна перемена, происшедшая в шлюпке. Парус упал так, как будто бы веревки были обрезаны ножом. Шлюпка резко остановилась, словно птица, раненная в крыло, потом завертелась и запрыгала на волнах. Тогда я заметил еще двух людей, которых до того скрывал парус. Всего их было шестеро.
Тайны больше не было. И не было надобности в подзорной трубе, чтобы прочесть историю этих несчастных. Мне довольно было вспомнить, что происходило раньше со мною самим. Они заблудились в открытом море, оторвавшись от своего китоловного судна.
Да, все было именно так. Это оказалась охотничья шлюпка с полным экипажем из шести человек. Но что это были за люди! Настоящие скелеты! Кожа да кости, обтянутые мертвенно-бледной кожей, с глубоко запавшими глазами, горящими неестественным блеском.
— Слава Богу! — воскликнул наш капитан. — Они живы все до одного.
Я понял смысл этого восклицания и причину его радости. Это было эхо старого воспоминания.
И вдруг он снова закричал с изумлением:
— Элиджа Коффен!
Мы были поражены не менее его.
— Элиджа Коффен, — повторяли все, кто некогда знал старшего офицера «Летучего облака».
Это был действительно он, с трудом державшийся на ногах. Но как он изменился! Я еще удивляюсь, что мы узнали его с первого взгляда.
— Боже! — воскликнул капитан. — Вы ли это, Коффен?
— По крайней мере, то, что от меня осталось, — ответил тот слабым голосом. — А осталось немного, как видите. — И несчастный попытался улыбнуться. Но это была улыбка призрака. — Свеча догорела!
— Нет, нет! — ободряюще воскликнул наш добрейший капитан. — Зачем отчаиваться? Ободритесь! Мы вас живо поставим на ноги!
Капитан тотчас же приказал перенести несчастных на борт «Летучего облака». Им бросили канат. У тех едва хватило сил принять его и подтянуться. Через несколько мгновений их уже перетащили на борт, так как сами они идти не могли.
— Мы вас скоро поставим на ноги! — повторял капитан, обращаясь ко всем спасенным.
Это не были слова. Через несколько дней шестеро были уже вполне здоровы, благодаря усиленным заботам, которые оказывали им товарищи по ремеслу, спасшие их.
То, что они рассказали нам, мы знали заранее. Это была вечная история, с незначительными вариантами. Они были из экипажа «Дерзкой Сары», что мы узнали сразу, заметив среди них Коффена. Увлеченные преследованием кита, они зашли слишком далеко и были захвачены туманом. Поднялся ветер, разбушевалось море, и, если бы не мы, они бы погибли.
Их история была повторением того, что случилось с нами в Бристольском заливе. Только наше приключение было менее трагично. Они так ослабели, что не могли ни править рулем, ни управлять парусом, ни даже сидеть на скамейках. Один за другим они упали на дно шлюпки, чтобы там умереть.
Вот в каком состоянии были они, когда звук пушечного выстрела поразил их. Они говорили, что это была труба ангела, пробудившая их от предсмертного сна и призвавшая к жизни.
Глава 17
ОПЯТЬ «ДЕРЗКАЯ САРА». ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТРИУМФ КАПИТАНА ДРИНКУОТЕРА
Ветер нам благоприятствовал, мы дошли до острова Вознесения и остановились там, чтобы запастись водой, мясом, фруктами и овощами, не говоря уже о знаменитых черепахах. До дому оставалось еще не менее тысячи миль.
Войдя в порт, мы были приятно удивлены. Среди стоящих на якоре судов мы заметили корабль, на борту которого виднелась надпись: «Дерзкая Сара».
— Это Босток! Он не удивится, нет! — смеясь, сказал капитан Дринкуотер. — Он не сомневается, что мы привезли ему хорошие новости.
Когда «Летучее облако» приблизилось к своему сопернику, он громко закричал в рупор:
— Эй, корабль, пришлите нам лодку! Босток, у меня есть для вас подарок!
Прошло несколько минут, и капитан Босток решился ответить. Он хорошо знал Дринкуотера и на себе испытал его пристрастие к мистификациям. Но тут, словно предчувствуя правду, он ответил:
— Хорошо, Дринкуотер, я сейчас пришлю вам лодку.
Капитан Дринкуотер сам провожал наших гостей, захватив с собою меня. Прием, оказанный экипажем «Дерзкой Сары» своим шестерым товарищам, мог растрогать до слез. Капитан Босток горячо благодарил нас и оказывал всяческое гостеприимство. Происшедшее могло бы примирить самых заклятых врагов, но Босток и Дринкуотер давно были друзьями. Только в одном пункте они расходились — чей корабль быстроходнее. На этой почве между ними царили соперничество и ревность. Дринкуотер не мог забыть, как «Дерзкая Сара» в Тихом океане обошла «Летучее облако». До сих пор он не мог простить Бостоку его насмешливое предложение взять его судно на буксир. С того времени Дринкуотера не оставляла мечта взять реванш. Можно сказать, что он получил его, спасши экипаж шлюпки, но сам он находил это таким простым и естественным делом, что не мог считать происшедшее реваншем.
Когда они пожали друг другу руки перед тем, как расстаться, чтобы возвращаться в один и тот же порт, неисправимый Дринкуотер не удержался:
— Ну, мой старый Бост, нет ли у вас поручений в Нью-Бедфорд? Ваши друзья, должно быть, будут беспокоиться, ожидая вас, и вообразят, пожалуй, что больше не увидятся с вами?
— Благодарю вас, Дринк, — ответил капитан «Дерзкой Сары», — очень вам обязан, но, вероятно, прежде чем вы будете в Бедфорде, я уже отправлюсь в новую экспедицию.
Последнее слово осталось за Бостоком. Наш капитан, который никогда не отличался находчивостью в речах, поник головой и не нашел сказать ничего иного как:
— Отлично, старина, посмотрим!
Путь, которым следуют с запада Атлантического океана в Нью-Бедфорд и другие северные порты Соединенных Штатов, проходит на восток от Бермудских островов. Мы поднялись на север до широты этих островов, и море все время было спокойно. Все, по-видимому, способствовало тому, чтобы наше путешествие было вполне благополучно. Мы уже предвкушали удовольствия, которые нас ожидали в нашем старом Бедфорде, как его называют американские китоловы, вопреки приставке «новый».
Мы слышали, что за время нашего отсутствия цена на ворвань поднялась, а так как «Летучее облако» несло полные трюмы жира высшего качества, рассчитывали на великолепные барыши. Эти барыши каждый из нас уже распределил по-своему.
Но мы были пока не в Нью-Бедфорде, сотни миль отделяли нас от него, впереди же расстилались воды самого опасного из океанов. И вскоре нам пришлось вспомнить об этом. Мы еще не достигли тридцатиградусной широты, как противные ветры повлекли нас к западу и заставили спуститься почти до Багамских островов.
Если бы мы попали в Гольфстрим, то, придерживаясь его течения, при попутном ветре могли бы легко пройти на север. Но ни того, ни другого в нашем распоряжении не было, и, что всего тревожнее, мы должны были обогнуть мыс Гаттерас. Это опасное место, судя по всему, обещало взять с нас обычную дань. Бриз, который дул накануне, словно собрал все свои силы, чтобы заставить нас идти в определенном направлении. Он был так крепок, что мы были вынуждены убрать часть парусов. По всей длине берегов мы видели бурно вспененные волны: там было полно рифов. Если бы «Летучее облако» попало на них, гибели не миновать.
Все видели это и понимали опасность. Кроме капитана. Он один не знал об опасности, так как было еще очень рано, а он поздно заснул по причинам, увы, всем хорошо известным. Наконец он появился, взглянул на паруса и крикнул:
— Зачем с марселя убраны паруса?
Я был дежурным офицером и ответил:
— Ветер начинает крепчать.
— Ну, судно может нести парусов вдвое больше, даже когда ветер превращается в бурю.
— Взгляните на эти волны, — показал я ему на прибрежные рифы.
— Черт их побери! «Летучее облако» легко повинуется рулю, оно шутя…
Его панегирик «Летучему облаку» был, однако, прерван. Огромная волна отбросила судно назад, в то время как другая ударила его в борт, и сигнальный колокол прозвонил сам собою.
Я думал, эта качка заставит капитана осознать грозящую опасность, но случилось как раз наоборот. Довольным голосом он произнес:
— Браво, «Облако», тебе уже не нужны матросы, чтобы мыть палубу или звонить в колокол!
Он поглядел на берег и добавил:
— А, старина Гаттерас! Теперь, по крайней мере, мы знаем, где находимся. И если Дик Дринкуотер не ошибается, самое опасное место мы прошли.
Мы с радостью восприняли это заявление, хотя наши сомнения оно рассеяло не вполне. Не было ли оно вызвано утренней порцией, принятой, «чтобы прочистить глотку»? Вкупе с вечерней она могла довести капитана до безрассудства.
— Надо прибавить парусов, Мэси, — сказал он мне, — а то можно подумать, что судно идет под носовыми платками или циновками.
— Я не думаю, что корабль сможет это выдержать.
Но он настаивал, говоря, что он, Дик Дринкуотер, человек решительный, что медлить нечего, пусть все увидят, что из этого выйдет. Он забрал себе в голову, что мы должны отпраздновать Рождество в Нью-Бедфорде. Следовательно, нужны паруса, паруса и еще раз паруса!
Момент был критический, и я почувствовал облегчение, когда появился первый офицер, чтобы сменить меня на дежурстве. Может быть, ему удастся убедить этого бешеного.
К счастью, именно в эту минуту вахтенный крикнул:
— Парус!
Весь экипаж бросился на нос, в том числе и первый офицер с подзорной трубой в руках. Корабль виднелся примерно в двух милях от нас, и мы очень скоро должны были при нашей скорости его настигнуть.
— Это китолов! — крикнул первый офицер.
— Как вы это узнали? — спросил капитан Дринкуотер.
— По форме шлюпок и по тому, что его нос не обшит медью.
— В таком случае вы правы.
Первый офицер протянул ему подзорную трубу, и капитан вскоре воскликнул с живейшим волнением:
— Да, это китолов, и черт меня возьми, если это не «Дерзкая Сара»!
Встреча с «Дерзкой Сарой» чрезвычайно взволновала нашего капитана. Такое же впечатление произвела она и на экипаж, точнее, на тех, кто знал о давнем соперничестве двух капитанов. Несмотря на волны и опасное соседство рифов, было очевидно, что все не прочь воспользоваться случаем и помериться силами. Даже первый офицер, которого я считал более благоразумным, разделял настроение других. Я почти пожалел, что среди нас не было Коффена с его предусмотрительностью и авторитетом.
— Он возвращается, — вскричал капитан, — и он в дрейфе! Не случилось ли с ним чего-нибудь?
Он снова посмотрел в трубу.
— Нет, все цело. О чем думает Босток, ложась в дрейф?
— Может быть, — заметил первый офицер, — «Сара» не чувствует в себе достаточно силы бежать под ветром? Это хорошо только для «Летучего облака».
— Ага, на этот раз вы правы, — проговорил капитан, покраснев от удовольствия. — Сейчас я покажу Бостоку, на что способно «Летучее облако».
И он дал приказ поднять последние паруса. Этот приказ привел всех в отчаяние, но был исполнен буквально. Казалось, судно готово было выскочить из воды. Оно летело. Водяные горы поднимались, катились за ним и не могли его догнать.
— Внимание на руле! — крикнул капитан двум матросам, стоявшим у рулевого колеса. — Держать курс на мачту «Сары»!
— Я полагаю, сударь, вы не намерены пройти рядом с «Сарой»? — робко спросил первый офицер.
Я заметил, что он начал проявлять некоторые признаки беспокойства.
— Хочу пройти достаточно близко, чтобы поговорить, — категорично ответил капитан. — Таково мое намерение. Дайте мне рупор.
— Маневр не из легких, — настаивал первый офицер. — Посмотрите, какое море!
— Море великолепно! Я легко сделаю этот маневр, если рулевые не будут спать.
Несчастные рулевые и не думали спать, у них было слишком много дела, и тревога их также росла с минуты на минуту.
Дринкуотер с рупором в руках влез в одну из шлюпок на борту и уселся там в величественной позе. Его можно было сравнить с Нептуном, повелевающим морями, или Британией, правящей ими.
Между тем капитан и офицер «Сары» с удивлением и легким ужасом пытались понять, куда мы идем. У нас был такой вид, словно мы гнались за джонкой китайских пиратов или лодкой бандитов-малайцев с Целебеса.
— Эй, судно, руль налево! Живей налево! — кричал капитан Босток. — Скорей или вы наскочите на нас!
— Не бойтесь, Босток, — ответил в рупор наш капитан, — мы только хотим показать, как «Летучее облако» носит паруса, и как мы огибаем мыс Гаттерас. — И только из духа противоречия добавил: — Руль направо!
Рулевые не посмели ослушаться. Но «Облако» на какой-то миг перестало слушаться руля и сделало безумный поворот кругом. Матросы изо всех сил вцепились в руль.
Мы затаили дыхание. Сам Дринкуотер испугался. Он осознал собственное безумие и покинул свое опасное место в лодке. Но в эту секунду, к счастью, «Летучее облако» вернулось к послушанию. И вовремя. Мы сумели пройти под самой кормой «Дерзкой Сары», когда ее нос погружался в воду. Лодка, в которой только что сидел капитан, была разбита кормой «Дерзкой Сары», а капитаны в какое-то мгновение были так близки друг от друга, что могли бы столкнуться рупорами.
Когда мы со скоростью несущейся во весь опор лошади перерезали ход «Сары», капитан Дринкуотер крикнул:
— Как дела, Босток? Не хотите ли, я проведу вас немного на буксире?
Словно в наказание за наше легкомыслие, конец запасной слеги, торчавшей из заднего клюза, задел тали «Сары» и с треском и шумом обломился.
Этот случай должен был бы отрезвить Дринкуотера. Однако ничуть. И пока «Летучее облако» удалялось от «Сары», он продолжал кричать:
— До свиданья, старина Бост! Я передам вашим друзьям в Нью-Бедфорде, что вы будете к Иванову дню! До свиданья!
Капитан «Сары» не отвечал ни слова. Казалось, он был обеспокоен безрассудством своего беззаботного соперника.
А капитан Дринкуотер торжествующе заключил:
— Я сказал Бостоку, что покажу ему, и я сдержал слово!
К счастью для нас, ветер ослаб и переменился на западный, мы смогли обогнуть страшный мыс задолго до захода солнца.
Ни в этот день, ни в последующие энтузиазм капитана не ослабевал: он гордился своей победой. Тем ужаснее было его разочарование, когда мы вошли в порт. Первое судно, которое мы увидели на рейде, была «Дерзкая Сара». Его простодушное лицо побелело. И словно в довершение его унижения, когда мы проходили мимо «Сары», капитан Босток начал кричать с мостика:
— Это вы, Дринк? Рад вас видеть, старый товарищ, и вместе с тем очень удивлен, так как не ждал вас раньше Иванова дня!
И я снова могу отметить открытый и прямой характер Дринкуотера. Его лицо прояснилось, и с обычным добродушием он произнес:
— На этот раз вы победили, Босток. Чтобы извиниться за некоторый ущерб, который я причинил вам, приглашаю вас поужинать в отеле «Эверетт». Я просто умираю от желания поесть устриц.
— Я тоже, Дринк. Отлично. Я не опоздаю.
И он не опоздал, как и все офицеры «Летучего облака» и «Дерзкой Сары». И могу сказать, что мы не предавались меланхолии. Это был один из тех маленьких праздников, какие любят устраивать китоловы по возвращении из удачной экспедиции.
Не могу не вспомнить и другого праздника, еще более приятного, состоявшегося год спустя, и тоже после завершения сезона. На этот раз суда опять состязались, и «Летучее облако» было первым. Дринкуотер мог отомстить Бостоку за его прошлогодние насмешки. Но со свойственным ему великодушием, когда «Сара» пришла, он сказал:
— Рад вас видеть, Бост. Приходите в отель «Эверетт» с вашими офицерами. Мы проведем вместе несколько хороших часов.
— Отлично, Дринк, — ответил Босток, — как и в прошлом году.
На этот раз роли переменились, но вечеринка была такой же веселой. Кстати, я стал первым офицером на «Летучем облаке», а Лиджа Коффена на «Саре» уже не было.
Этот праздник имел еще одну цель — почтить Дринкуотера, оставляющего службу. Капитан откровенно и просто объяснил нам причины своего решения: он заработал достаточно для жизни счастливой и спокойной, так зачем продолжать странствия, утомительные и полные лишений?
Он продал корабль и обосновался в «одном маленьком порту». Этим «маленьким портом» стал хорошенький чистенький коттедж с видом на Нью-Бедфорд.
Я пользовался приятным преимуществом довольно часто навещать его и с радостью отметил: отказываясь от ремесла китолова, он отказался и от роковой привычки, часто подвергавшей опасности его жизнь. Читатель догадается, на что я намекаю.
ГИМАЛАЙСКАЯ ДИЛОГИЯ (цикл)
Четверо смельчаков — братья-баварцы Карл и Гас пар Линдены, их вислоухий пес Фриц да проводник-индус Оссаро — отправляются на поиски редких тропических растений. Путь их лежи! в неприступные дебри и ущелья Гималаев. Никто, даже сам проводник, никогда не бывал в этих заповедных местах. Дорогу туда яростно стерегут полосатые людоеды, косматые обитатели пещер и великаны-изгнанники, звереющие от своего одиночества. Любой переход через ледники, пропасти и подземные лабиринты может стать (а возможно, и станет) последним…
Охотники за растениями, или Приключения в Гималайских горах (повесть)
Отважный Карл Линден, в сопровождении своего брата Каспара, проводника-индуса Оссару и верного пса Фрица, отправляется в путешествие по неизведанным Гималаям…
Глава 1
ОХОТНИК ЗА РАСТЕНИЯМИ
Охотник за растениями! Что это такое? Нам приходилось слышать об охотниках на лисиц, об охотниках на оленей, об охотниках на медведей и буйволов, об охотниках на львов, но об охотниках за растениями — никогда… Постойте! Трюфели — ведь тоже растения. Их разыскивают с помощью собак, а собирателей их называют охотниками за трюфелями. Может быть, вы их имеете в виду, капитан?
Нет, мой юный читатель. Мой охотник за растениями не имеет ничего общего с тем, кто выкапывает грибы. Его занятие куда благороднее, и его цель не только в том, чтобы потакать капризам лакомки. Ему должен быть благодарен весь цивилизованный мир, в том числе и ты. Да, он подарил тебе немало радостей. Пестрота и яркость твоих садов — дело его рук. Пышная далия, колыхающаяся над клумбой; сверкающий яркими красками пион; прелестная камелия, радующая твой взор в теплице; калмии, азалии, рододендроны, белые звезды жасмина, герань и тысячи других прекрасных цветов подарены нам охотником за растениями. С его помощью Англия — холодная, туманная Англия — превратилась в сад, полный цветов, более разнообразных и ярких, чем те, какие цветут в знаменитой долине Кашмира. Многие красивые деревья, придающие прелесть нашему пейзажу, большинство прекрасных кустов, украшающих наши виллы и коттеджи, — плоды его трудов. Если бы не он, мы никогда не отведали бы за обедом и десертом многих овощей, кореньев, фруктов и ягод, которые разнообразят наш стол. Если бы не он, мы никогда не попробовали бы этих вкусных вещей. Так помянем же добрым словом охотника за растениями!
А теперь, юный читатель, я скажу тебе, кто такой охотник за растениями. Это человек, посвятивший все свое время и силы собиранию редкостных растений и цветов, — словом, тот, кто сделал это занятие своей профессией. Это не просто ботаник — хотя ему необходимо обладать знанием ботаники, — это скорее тот, кого до сих пор называли «ботаник-коллектор».
Хотя в ученом мире и не слишком высоко ценят этих людей, хотя кабинетный ученый, наверно, их недооценивает, — я смею утверждать, что самый скромный охотник за растениями принес человечеству больше пользы, чем великий Линней[170]. Это замечательные ботаники! Они не только ознакомили нас с растительностью всего земного шара, но и показали нам ее редчайшие виды, позволили нам вдыхать аромат чудесных цветов, которые, не будь этих безвестных тружеников, цвели бы незримо и расточали бы свой аромат в безлюдной пустыне.
Не думай, юный читатель, что я хочу преуменьшить заслуги ученого-ботаника. Я далек от такого намерения. Мне хочется только обратить твое внимание на людей, заслуги которых, по-моему, недостаточно оценены: я имею в виду ботаников-коллекторов — охотников за растениями.
Весьма возможно, что ты и не подозреваешь о существовании такой профессии. И тем не менее еще в седой древности были люди, занимавшиеся этим делом. Охотники за растениями существовали во времена Плиния и обогащали сады Геркуланума и Помпеи; охотники за растениями состояли на службе у богатых мандаринов Китая и царственных сибаритов Дели и Кашмира в те времена, когда наши полудикие предки довольствовались цветами своих родных полей и лесов. Но даже в Англии профессия охотника за растениями далеко не нова. Ее происхождение относится к эпохе открытия и колонизации Америки, и имена Традесканта, Бартрама, Кэтсби, этих подлинных охотников за растениями, — одни из самых уважаемых в истории ботаники. Мы обязаны им нашими тюльпанными деревьями и множеством других благородных деревьев, которые уже акклиматизировались в наших лесах и растут наравне с исконными видами.
Никогда еще охотники за растениями не были так многочисленны, как в наши дни. Поверите ли вы, что этим благородным и полезным делом заняты сотни людей? Среди них можно встретить представителей всех народов Европы: больше всего немцев, но есть и шведы, русские, датчане, британцы, французы, испанцы, португальцы, швейцарцы и итальянцы.
Их встретишь в любом уголке земного шара: в непроходимых ущельях Скалистых гор, в бездорожных прериях, в глубоких каньонах Анд, в девственных лесах на берегах Амазонки и Ориноко, в степях Сибири, в долинах среди ледников Гималаев — решительно во всех диких, безлюдных местностях, где можно надеяться открыть новые виды растений.
Охотник за растениями осматривается по сторонам зорким взглядом, внимательно вглядывается в каждый листок и цветок, бродит по холмам и долинам, карабкается на крутые утесы, переходит вброд топкие болота и быстрые реки, прокладывает себе путь сквозь колючий кустарник, сквозь чаппараль и джунгли, спит под открытым небом, терпит голод и жажду, рискует подвергнуться нападению диких зверей — таковы испытания, которыми так богата жизнь охотника за растениями.
Но почему, спросите вы, эти люди идут на такие лишения и опасности?
Разные бывают причины. Одних влечет любовь к ботанике. Другим нравится путешествовать. Третьи состоят на службе у царственных или высокопоставленных особ, у знатных любителей цветов. Многих посылают искать растения для общественных парков и дендрариев. Есть и такие, которые работают у владельцев частных питомников: это, пожалуй, самые скромные и наименее обеспеченные, но они отличаются горячим рвением и любовью к своему делу.
Вы, конечно, удивитесь, услыхав, что рядовой торговец семенами, продающий вам корневища, луковицы и рассаду, содержит целый штат охотников за растениями — опытных ботаников, рыскающих по земному шару в поисках новых растений и цветов, которые могли бы порадовать взор любителя цветов.
Нужно ли повторять, что жизнь этих людей полна приключений и смертельных опасностей? Вы сможете судить об этом сами, когда я расскажу вам о похождениях молодого баварского ботаника — охотника за растениями Карла Линдена — во время его экспедиции в величавые Гималайские горы, эти «индийские Альпы».
Глава 2
КАРЛ ЛИНДЕН
Карл Линден родился в Верхней Баварии, близ тирольской границы. Он был незнатного происхождения — отец его был садовником; однако он получил хорошее воспитание и образование, а это в наши дни самое главное. Его отец был честолюбив, хотя и мало образован; зная на опыте, как досадно быть невеждой, он решил избавить сына от такой неприятности.
Девятнадцати лет от роду Карл Линден решил, что немцы недостаточно свободны и заслуживают лучшей участи. Он был студентом одного из университетов и, естественно, проникся теми принципами свободы и патриотизма, какие в 1848 году волновали каждое немецкое сердце.
Но он не только проповедовал свое учение. Вместе со своими коллегами он сделал попытку провести его в жизнь и был одним из тех отважных студентов, которые в 1848 году освободили Баден и Баварию.
Но гидру — союз коронованных голов — не так-то легко было победить, и в числе других молодых патриотов наш герой был вынужден бежать из родной страны.
Очутившись в Лондоне в положении эмигранта — так называли этих изгнанников, — он не знал, что ему дальше делать. Отец был слишком беден, чтобы помогать ему деньгами. К тому же старик был недоволен сыном. Он был из тех, кто еще верит с божественное право королей и уважает «существующий порядок», хотя бы в стране царила тирания. Он считал, что Карл сделал глупость, вздумав стать патриотом, или «мятежником», как их любят называть коронованные чудовища. Он прочил сыну лучшее будущее — надеялся, что тот станет секретарем у какого-нибудь важного придворного, поступит в таможенное ведомство или, быть может, в лейб-гвардию какого-нибудь мелкого тирана. Любое из этих мест было бы по душе старому честолюбцу, и потому он был недоволен поведением сына. Карлу нечего было надеяться на помощь из дому, по крайней мере, до тех пор, пока старик не перестанет на него гневаться.
Что было делать молодому эмигранту? Английское гостеприимство показалось ему довольно холодным. Правда, он был свободен, то есть мог свободно бродить по улицам и просить милостыню.
К счастью, он придумал выход из положения. В прежние годы ему иногда случалось работать с отцом в саду. Он умел копать, сажать и сеять, прививать деревья и выводить новые сорта цветов. Он мог работать в парниках и теплицах, на замедленной и ускоренной выгонке. Более того, он знал названия и природу большинства растений, возделываемых в странах Европы, — словом, он был ботаником.
Все эти познания он приобрел, работая в саду одного знатного дворянина, где его отец был старшим садовником. Почувствовав призвание к этому делу, Карл изучил ботанику.
Если не найдется ничего лучшего, он может стать садовником, поступить в питомник или еще куда-нибудь — это лучше, чем бродить без дела по улицам столицы и умирать от голода среди царящего там изобилия.
С такими мыслями молодой эмигрант подошел к воротам одного из роскошных питомников, каких немало в огромном Лондоне. Он рассказал свою историю; его приняли.
Довольно скоро умный, предприимчивый владелец питомника обнаружил, что его немецкий протеже обладает обширными познаниями по ботанике. Именно такой человек был ему нужен. У него уже имелись охотники за растениями в других частях света: в Северной и Южной Америке, в Африке, в Австралии. Ему нужен был собиратель растений в Индии; он хотел обогатить свои запасы флорой Гималаев, которая тогда только что начала входить в моду благодаря чудесным растительным видам, открытым там великими охотниками за растениями Ройлом и Хукером.
Были описаны великолепные сосны, арумы, кедры, различные виды бамбука, огромные магнолии и рододендроны, в таком изобилии растущие в долинах Гималаев, и многие из них уже появились в европейских садах. Эти растения были в моде, и о них мечтал владелец питомника.
Особенно интересно и ценно было то, что многие из этих прекрасных экзотов могут расти под открытым небом в высоких широтах, так как природные условия на большой высоте, где они растут в диком виде, сходны с температурой и климатом Северной Европы.
Не один ботаник-коллектор был к этому времени послан исследовать цепь «индийских Альп», которая благодаря своему огромному протяжению представляет обширное поле для ботанических изысканий.
В числе этих охотников за растениями был и наш герой, Карл Линден.
Глава 3
КАСПАР, ОССАРУ И ФРИЦ
Английский корабль доставил охотника за растениями в Калькутту, а крепкие ноги привели его к подножию Гималаев. Он мог бы добраться туда и другим способом, ибо, вероятно, ни в одной стране не существует столько способов передвижения, как в Индии. Чтобы переносить путешественника с места на место, используются слоны, верблюды, лошади, ослы, мулы, пони, буйволы, быки, зебу, яки и… люди. Для перевозки грузов приспосабливают даже собак, коз и овец.
Если бы Карл Линден был послан правительством или служил у какого-нибудь венценосного хозяина, он, вероятно, путешествовал бы комфортабельно: либо на слоне, в пышной боуда, либо в паланкине, где его несли бы сменяющие друг друга носильщики и к его услугам была бы толпа кули. Однако у него не было денег на всю эту ненужную роскошь. Он тратил не казенные суммы, а деньги частного лица, и его средства были ограничены. Тем не менее он стремился осуществить поставленные ему задачи.
Немало больших и превосходно снаряженных экспедиций направляли в различные места, не считаясь с расходами и затратами, но многие из них возвращались, не выполнив своей задачи. «Когда поваров слишком много, обед испорчен», — эта старая, всем известная поговорка применима и к научным экспедициям. И еще вопрос, что больше содействовало прогрессу географии: частная ли инициатива или громкие правительственные предприятия. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что самыми плодотворными и продуктивными оказались те экспедиции, на которые было затрачено меньше всего средств. Так, например, для исследования северного побережья Америки было отправлено несколько кораблей; экспедиции эти поглотили колоссальные суммы денег и стоили жизни многим отважным морякам, но оказались безрезультатными. В конце концов эту задачу удалось осуществить экипажу простой лодки, отправленной компанией Гудзонова залива. Затраченной при этом незначительной суммы не хватило бы и на неделю для любой из наших крупных экспедиций по исследованию Арктики.
У нашего охотника за растениями не имелось ни дорогого оборудования, ни толпы бесполезных слуг. Он достиг Гималаев пешком и решил пешком взбираться на их крутые склоны и пересекать обрывистые долины.
Но Карл Линден был не один. Далеко не один. С ним был тот, кто был ему дороже всех на свете, — его единственный брат. Да, сильный юноша, разделяющий с ним труды и опасности экспедиции, — его брат Каспар, присоединившийся к нему в эмиграции. Они были приблизительно одного роста, хотя Каспар был двумя годами моложе. Но Каспар не утруждал себя изучением наук. Он никогда не блистал в стенах школы или в городе. Он недавно прибыл из своих родных гор, и его крепкая фигура и свежие, румяные щеки сильно отличались от хрупкой комплекции и бледного лица студента.
Одежда братьев соответствует их внешности. У Карла она темная, как подобает ученому, и на голове у него запретная геккеровская шляпа[171]. Каспар одет ярче: на нем зеленая тирольская куртка, зеленая шляпа с высокой, острой тульей, синие вельветовые брюки и блюхеровские сапоги[172].
Оба имеют с собой ружья и охотничьи принадлежности: у Каспара — охотничья двустволка, у Карла — ружье особого типа, так называемое «швейцарское охотничье».
Каспар — настоящий охотник. Еще мальчиком ему случалось преследовать серн на головокружительных тропинках в своих родных горах. Он мало образован, так как недолго был в школе, но в охотничьем деле очень искусен. Славный и веселый юноша этот Каспар, легконогий и неутомимый, и Карл во всей Индии не нашел бы себе лучшего спутника.
Но в свите охотника за растениями есть еще одно лицо — проводник Оссару. Потребовалась бы целая глава, чтобы описать Оссару, и он достоин подробного описания, но вы в дальнейшем познакомитесь с ним по его поступкам. Достаточно сказать, что Оссару — индус, хорошо сложенный, с темным цветом кожи, с красивыми, большими глазами и пышными черными волосами, характерными для его племени. Он принадлежит к касте «шикари», или охотников, не только по своему происхождению, но и потому, что Оссару — один из «славных охотников» своей провинции. Его имя широко известно, так как Оссару обладает живым умом и крепким подвижным телом; он выделился бы где угодно, но в стране, где мало таких людей, Оссару стал охотником-героем — Немвродом[173] в своей области.
Своим костюмом и снаряжением Оссару сильно отличается от товарищей по путешествию. Белая ситцевая рубашка, широкие штаны, сандалии, алый пояс вокруг талии, пестрый платок на голове, легкое копье в руке, бамбуковый лук, колчан за плечами, длинный нож за поясом, сумка на боку и множество мелких предметов, навешенных на груди наподобие брелоков. Такова была амуниция шикари.
Оссару никогда в жизни не поднимался на великие Гималаи. Он уроженец знойных равнин — охотник джунглей. Несмотря на это, ботаник взял его в проводники. Это был не столько проводник, указывающий дорогу, сколько помощник в ежедневной работе, хорошо знающий трудности бродячей жизни в пустынях Индии, привыкший ночевать под открытым небом; в этом отношении Оссару не имел себе равных.
Кроме того, экспедиция была ему по душе. Живя на равнине, он подолгу смотрел на далекие гигантские Гималаи: на крутые купола и острые вершины в одеянии вечного снега, сверкающего непорочной белизной, — и не раз мечтал отправиться туда в охотничий поход. Но ему не представлялось подходящего случая, хотя всю жизнь эти громадные вершины были у него перед глазами. Поэтому он с радостью принял предложение молодого ботаника и стал охотником и проводником в их экспедиции.
Был у них еще спутник охотничьей породы, столь же преданный общему делу, как Оссару и Каспар. Это было четвероногое, ростом с крупного дога, но черно-бурая окраска и длинные, висячие уши доказывали, что оно принадлежит к породе ищеек. Это был поистине великолепный пес, задушивший своими могучими челюстями немало рыжих оленей и диких баварских кабанов. Фриц был драгоценным псом, и хозяин высоко его ценил. Хозяином был Каспар. Он не променял бы Фрица на самого лучшего слона в Индии.
Глава 4
КРОВЬ ЛИ ЭТО?
Посмотрите, как путешествует охотник за растениями и его маленькая компания.
Это был тот самый день, когда они взяли Оссару в проводники, — первый день их совместного путешествия. Каждый нес на спине дорожный мешок и одеяло. И так как приходилось все тащить на себе, то лишнего багажа было немного. Оссару шел на несколько шагов впереди, а Карл и Каспар большей частью рядом, если позволяла тропинка. Фриц обычно трусил в арьергарде, но иной раз подбегал к проводнику, инстинктом чуя в нем прирожденного охотника. Хотя они только что познакомились, Фриц уже стал любимцем шикари.
Между тем внимание Каспара привлекли красные пятна, встречавшиеся на тропе на определенном расстоянии друг от друга. Дорожка была узкая — на ней легко было рассмотреть даже самые маленькие предметы. Пятна были похожи на кровяные, да притом еще совсем свежие.
— Это кровь, — заметил Карл, рассматривавший пятна.
— Интересно, человек это или животное? — сказал Каспар через несколько мгновений.
— Знаешь, брат, — ответил Карл, — я думаю, это — животное, и довольно крупное. Я наблюдал эти пятна на протяжении доброй мили; такого количества крови не мог бы потерять даже великан. Верней всего, это истекает кровью слон.
— Но следов слона не видно, — возразил Каспар, — по крайней мере, свежих следов, а кровь как будто совершенно свежая.
— Ты прав, Каспар, — согласился брат. — Это не может быть ни слон, ни верблюд. Интересно знать, кто бы это мог быть?
При этих словах юноши посмотрели вперед, в том направлении, куда шли, надеясь найти объяснение загадке. Впереди, насколько хватал глаз, не видно было никого, кроме Оссару. Это не могла быть его кровь — конечно, нет! Такая потеря крови уже давно убила бы шикари. Так думали Карл и Каспар.
Наблюдая за Оссару, они вдруг увидели, что он повернул голову в сторону, словно собираясь плюнуть на дорогу. Братья приметили место. И каково же было их изумление, когда, подойдя, они обнаружили на дороге еще одно красное пятно, совершенно такое же, как замеченные ими ранее! Сомнений не было — Оссару харкал кровью!
Они сильно встревожились за жизнь своего проводника.
— Бедный Оссару! — воскликнули они. — Он недолго проживет, потеряв так много крови!
И тотчас же кинулись вперед, крича ему, чтобы он остановился.
Проводник обернулся и остановился, не понимая, что случилось. Он быстро схватил лук и наложил стрелу, думая, что на братьев напал какой-нибудь враг. Собака, заразившись их тревогой, тоже примчалась и вскоре очутилась рядом с ними.
— В чем дело, Оссару? — спросили в один голос Карл и Каспар.
— «Дело», саибы?[174] Я не знать никакой дела.
— Но что у тебя болит? Ты болен?
— Нет, саибы, я не больной! Почему саибы спрашивать?
— Но эта кровь! Смотри!
И они указали на красную слюну на дороге.
Tyт шикари расхохотался, приведя братьев в еще большее недоумение. Он не хотел обидеть своим смехом молодых «саибов», но не мог удержаться от хохота при виде их ошибки.
— Поуни, саибы… — сказал он, извлекая из сумки сверток, напоминающий скрученные табачные листья, и откусил от него кусочек, чтобы убедить их, что именно поуни придает его слюне такой странный цвет.
Юноши сразу поняли свою ошибку. Перед ними был пресловутый бетель, и Оссару жевал бетель, как миллионы его земляков, а также уроженцев Ассама, Бирмы, Сиама, Китая, Индокитая, Малайи, Филиппин и других островов великого Индийского архипелага.
Юношам захотелось узнать, что такое бетель, и шикари рассказал им об этом любопытном продукте.
Бетель, или поуни, как его называют индусы, — сложное вещество; в состав его входят листья, орехи и некоторое количество извести. Лист берется с одного вечнозеленого кустарника, возделываемого в Индии специально с этой целью. Оссару сообщил, что этот кустарник обычно выращивают под бамбуковым навесом, со всех сторон защищая его от солнечных лучей. Это растение требует влажного, жаркого воздуха, а под действием солнца или сухого ветра теряет свой вкус и резкий запах. За ним нужен тщательный уход. И каждый день под бамбуковый навес входит кто-нибудь, чтобы осторожно обобрать куст. Место, где он растет, обычно привлекает ядовитых змей, и ежедневное посещение бетелевого куста — довольно опасное дело; но это такой выгодный промысел, взрослый куст приносит такую крупную прибыль, что его владелец не боится ни трудов, ни опасности. В сумке Оссару нашлось несколько целых листьев. Он назвал эти листья «поуни», но ботаник сразу же узнал редкое тепличное растение из семейства перечных. Действительно, это была разновидность перца, родственная ползучему растению, дающему черный перец. Листья у него были темно-зеленые, овальные, заостренные, как у бетеля. Вот все, что можно сказать об одной из составных частей этого своеобразного восточного «жевательного табака».
— А там, — продолжал Оссару, поворачиваясь в сторону и указывая наверх, — если саибы посмотреть, то увидеть орех поуни.
Юноши с любопытством взглянули, куда он указывал, и увидели рощицу благородных пальм высотой не менее пятидесяти футов, с гладким цилиндрическим стволом и красивым пучком перистых листьев на вершине. Листья были около двух ярдов шириной, а длиной в несколько ярдов. Каждое из перышек было более ярда длиной. Как раз под тем местом, где из ствола вырастали листья, свисала большая гроздь орехов красновато-оранжевого цвета, каждый величиной с куриное яйцо. Это и были знаменитые орехи бетеля, еще в старину упоминавшиеся в описаниях путешествий по Востоку. Карл узнал арек, или бетелевую пальму, которую многие считают красивейшей пальмой Индии.
Известно еще два вида арековых пальм: один, также исконный индийский, другой — американская пальма, еще более знаменитая, чем бетелевое дерево, так как это пресловутая «капустная пальма» Вест-Индии. Она достигает в высоту двухсот футов при диаметре ствола всего в семь дюймов. Ее прекрасные стволы часто срубают ради молодых сердцевидных листочков у вершины, которые обрабатывают особым способом и едят вместо капусты.
Оссару показал молодым саибам, как приготовляют бетель для жевания. Сперва расстилают листья бетеля-перца. На них накладывают слой извести, разведенной в воде. Затем нарезают тонкими ломтиками орех бетеля, кладут на слой извести; все это свертывают, как сигару, и складывают свертки в хорошенький бамбуковый ящичек, откуда достают всякий раз, как захочется их пожевать.
Орех сам по себе несъедобен. У него неприятный запах, а вкус чересчур вяжущий, так как в нем много танина, но в соединении с перечным листом и известью он становится мягче и приятнее на вкус. Однако он слишком едок для европейского неба и у непривычных людей вызывает опьянение. Старые потребители бетеля, вроде Оссару, ничего этого не испытывают и расхохотались бы, если бы им сказали, что от поуни может закружиться голова.
Орех бетеля отличается странной особенностью: он окрашивает слюну в темно-красный цвет, напоминающий цвет крови. Смышленый и находчивый Оссару, побывавший в большом городе Калькутте и в других частях Индии, рассказал в связи с этим интересный случай.
Молодой доктор, только что окончивший университет, прибыл из Европы на пароходе в большой индийский город. На следующее утро после своего приезда он отправился погулять за город и встретил на шоссе девушку-индуску, плевавшую, как ему показалось, кровью. Доктор пошел вслед за девушкой, которая продолжала плевать кровью чуть не на каждом шагу. Он встревожился, полагая, что бедняжка не проживет и часа, и, последовав за нею до дома, сказал ее родителям, кто он, и заявил им, что, судя по замеченным им симптомам, минуты их дочери сочтены. Родители, в свою очередь, перепугались, да и сама девушка, так как никто не сомневался в опытности доктора. Послали за священником, но не успел он прийти, как девушка в самом деле умерла. А бедняжка умерла от страха, и напугал ее доктор. Но ни ее родители, ни священник, ни сам доктор в то время этого не знали. Доктор продолжал думать, что девушка умерла от чахотки, и никто не подозревал, на чем основывался его диагноз.
Быстро распространилась молва об искусном враче. Народ валил к нему валом, и он мог надеяться, что вскоре наживет богатство. Но с некоторого времени он стал замечать у других людей признаки той же болезни, от которой умерла бедная девушка, и узнал, что они вызваны жеванием ореха бетеля. Будь он человек рассудительный, он сохранил бы эту тайну, но, к несчастью, он был болтун и не мог не рассказать своим товарищам об этом забавном случае, ибо, как это ни грустно, жизнь бедных туземцев дешево ценится европейцами.
Однако развязка оказалась для доктора далеко не забавной. Родители девушки узнали, в чем дело, да и все остальные, и друзья умершей поклялись отомстить ему. Пациенты покинули его так же быстро, как и появились, и, чтобы избегнуть угрожавших ему неприятностей и опасностей, ему пришлось уехать домой.
Глава 5
ПТИЦЫ-РЫБОЛОВЫ
Наши путешественники следовали вверх по одному из притоков Брамапутры, который берет начало в Гималаях, течет к югу и впадает в эту реку близ ее большой излучины. Охотники за растениями рассчитывали проникнуть в Бутанские Гималаи, так как туда не заходил еще ни один ботаник, а их флора славилась своим богатством и разнообразием. Охотники проходили по населенной части страны. Кругом расстилались поля риса и сахарного тростника, банановые и пальмовые рощи; некоторые пальмы, например кокосовые и бетелевые, разводят для сбора орехов, другие, как широколистные кариоты, для добывания вина.
Можно было видеть также опийный мак и манговые деревья, высокие, широколистные папавы и стебли черного перца с красивыми зелеными листьями, вьющиеся вокруг пальмовых стволов. По пути встречалось хлебное дерево, украшенное огромными плодами, смоковницы, каркасовые деревья, сосны, молочайники и различные виды померанцев.
Ботаник замечал немало растений и деревьев, относившихся к китайской флоре, да и многое другое напоминало ему то, что он читал о Китае. Действительно, эта часть Индии, примыкавшая к Ассаму, по характеру своих природных богатств имеет много общего с Китаем, и даже нравы и обычаи ее жителей несколько похожи на образ жизни сынов Небесной империи[175]. Сходство увеличивают плантации чайного куста, выращиваемого здесь с успехом.
Но, продвигаясь дальше, наши путники стали свидетелями сцены, которая еще живее напомнила им Китай, чем все, что они до сих пор наблюдали.
Обогнув группу деревьев, они увидели небольшое озеро и недалеко от берега заметили человека, стоявшего в легкой лодочке. Он держал в руках длинный тонкий шест, которым отталкивался от дна, направляясь к середине озера.
Оба молодых человека удивленно вскрикнули и сразу остановились.
Что же их так удивило? Разумеется, не лодка, не стоявший в ней человек и бамбуковый шест. Все это им каждый день приходилось видеть в пути. Почему же они так внезапно остановились и застыли в изумлении? Удивило их, что с двух сторон лодки, на бортах, сидели в ряд большие птицы, величиной с гуся. Грудь у них была белая, крылья и спина в коричневых пятнах, шея длинная, согнутая, клюв большой желтый, а хвост широкий, закругленный на конце.
Хотя человек в лодке стоял и работал шестом у них над головой то с одной стороны, то с другой, птицы не обращали на это никакого внимания, до того они были ручные, — казалось, они не были даже привязаны, а просто сидели на борту лодки. По временам то одна, то другая вытягивала над водой длинную шею, поворачивала голову немного вбок и снова втягивала ее, принимая прежнюю позу. Птицы были на диво ручные, и это зрелище поразило молодых баварцев. Они обратились к Оссару за объяснением, но он только кивнул головой на озеро и пробормотал:
— Он ловить рыба.
— А-а, это рыбак! — сказал ботаник.
— Да, саиб! Вы смотреть — увидеть.
Этого объяснения было достаточно. Юноши вспомнили, что читали о китайском обычае ловить рыбу с помощью больших бакланов, и вскоре разглядели, что находившиеся в лодке птицы были именно бакланами. Хотя они несколько отличались от обычных бакланов, у них были все характерные признаки этого семейства: длинное плоское тело, выдающаяся грудная кость, загнутый книзу клюв и широкий закругленный хвост.
Желая увидеть птиц за работой, наши путники неподвижно стояли на берегу озера. Было ясно, что рыбак еще не приступил к работе и только подплывает к нужному месту.
Вскоре он достиг середины озера, и, отложив шест, обратился к птицам. Слышно было, как он дает им указания — совсем как охотник своему пойнтеру или спаниелю, — и тотчас же большие птицы, распустив широкие крылья, поднялись с борта и, пролетев немного, все как одна погрузились в воду.
Тут наши путники увидели странную сцену: одна птица плавала, зорко всматриваясь в воду; другая нырнула, и над водой торчал лишь ее широкий хвост; третья скрылась под водой, и только рябь на поверхности показывала, где она нырнула; четвертая схватила крупную рыбу, которая отчаянно извивалась, сверкая в ее похожем на щипцы клюве; пятая уже взлетела со своей добычей и несла ее в лодку. Все двенадцать усердно занимались своим удивительным ремеслом, для которого были обучены. Озеро, еще недавно спокойное и гладкое, как зеркало, покрылось рябью, кругами, пузырями и пеной, — большие птицы ныряли и гонялись за добычей. Напрасно рыба пыталась спастись от них — баклан быстро скользит в воде и плавает под водой не хуже, чем на поверхности. Его заостренная, как нож, похожая на киль, грудь рассекает водную стихию; действуя своими сильными крыльями, как веслами, и широким хвостом, как рулем, баклан может делать крутые повороты и устремляться вперед с невероятной быстротой.
Наши путники наблюдали еще одно интересное обстоятельство. Если одной из птиц случалось напасть на крупную рыбу, которую она не могла донести до лодки, то другие бросались к ней на помощь и сообща относили рыбу.
Удивительно, что эти создания, пищей которым служит та самая добыча, какую они приносят хозяину, не глотают пойманных ими рыб. Если птицы молодые и недостаточно обучены, то порой случаются мелкие покражи. Но тогда рыбак принимает меры предосторожности, надевая баклану ошейник так, чтобы он не спускался на толстую часть шеи и не задушил птицу. Но если птицы старые и хорошо обучены, такая предосторожность является излишней. Как бы ни была голодна птица, она приносит всю добычу хозяину и получает за труд вознаграждение в виде мелких, менее ценных рыбок из ее улова.
Иной раз на баклана нападает лень — и он сидит на воде, забыв о своих обязанностях. В таких случаях рыбак подплывает к нему в лодке и, замахнувшись бамбуковым шестом, ударяет по воде в нескольких дюймах от беспечно сидящего лентяя и бранит его за безделье. Такое наказание обычно достигает цели, и крылатый ловец, взбодренный хорошо знакомым голосом хозяина, с новой энергией принимается за работу.
Ловля продолжается несколько часов, пока утомленным птицам не позволят вернуться и сесть на борта лодки; тогда хозяин снимает с них ошейники, кормит и ласкает их.
Наши путники не стали ждать, пока окончится рыбная ловля, и двинулись дальше. При этом Карл рассказал Каспару, что еще недавно в некоторых европейских странах, особенно в Голландии, обыкновенного европейского баклана обучали таким же способом ловить рыбу, а в настоящее время этот способ широко распространен в ряде областей Китая. И во многих городах вся рыба, какая продается на рынке, поймана бакланами.
Кажется, ни один народ в мире не проявляет такой изобретательности в обучении животных и в выращивании растений, как обитатели Небесной империи.
Глава 6
ТЕРАИ
Поднимаясь над уровнем моря и приближаясь к большой горной цепи, вы вступите в обширную полосу холмов, разделенных глубокими оврагами, по которым несутся быстрые ручьи и потоки. Чем выше горы, тем шире эта полоса; если горы относятся к первому классу, она бывает шириной от двадцати до пятидесяти миль. Такие пояса предгорий тянутся по обе стороны Анд в Северной и Южной Америке, а также вдоль Скалистых и Аллеганских гор. Всем известны предгорья Альп в Италии, и французское название этой местности «Пьемонт» в переводе на наш язык означает: «подножие гор».
«Индийские Альпы» также отличаются этой геологической особенностью. Вдоль их южного склона, обращенного к равнинам Индостана, тянется полоса предгорий нередко шириной свыше пятидесяти миль, для которой характерны крутые утесы, глубокие долины и ущелья, быстрые, пенящиеся потоки, горные тропы, вьющиеся над стремнинами, и дикие живописные пейзажи.
Нижняя часть этой полосы, примыкающая к знойным равнинам, известна европейцам под названием «Тераи».
Тераи — это неправильных очертаний полоса шириной от десяти до тридцати миль, тянущаяся вдоль Гималаев, от реки Сатледж на западе до Верхнего Ассама. Это своеобразная местность. Она резко отличается и от равнин Индии, и от Гималайских гор, обладая совершенно особой флорой и фауной. Это малярийная область, климат там один из самых губительных в мире. Поэтому Тераи почти необитаемы, лишь кое-где, на больших расстояниях друг от друга, разбросаны селения полудиких мэхов, их единственных жителей.
Большая часть Тераи покрыта лесами и джунглями: несмотря на свой нездоровый климат, они привлекают множество диких зверей, характерных для этой части света. Тигр, индийский лев, пантера и леопард, чита и другие крупные кошки кишат в их густых зарослях; в лесах обитают дикий слон, носорог, гайял; на покрытых густой травой полянах пасутся замбар и аксис. Ядовитые змеи, отвратительные ящерицы, летучие мыши и самые прекрасные птицы и бабочки находят прибежище в Тераи.
* * * *
Через несколько дней наши путники вышли из населенной части страны и вступили в область густых зарослей. В тот день, когда они вошли в Тераи, они рано тронулись в путь и потому прибыли на место отдыха за несколько часов до захода солнца. Молодой ботаник, восхищенный разнообразием растительности, богатой самыми редкими видами, решил остаться на этом месте несколько дней.
У путников не было палатки: это было бы для них слишком большим грузом — ведь они шли пешком. Действительно, все трое и без палаток были до предела нагружены. Каждому приходилось нести одеяло и другие принадлежности. Но все они привыкли спать под открытым небом.
На этот раз и не было нужды ни в каких лагерных принадлежностях. Природа дала им шатер, не уступающий полотняной палатке. Они расположились на ночлег под балдахином густой листвы баньянового дерева.
Юный читатель, ты, вероятно, слыхал о большой индийской смоковнице — баньяне, этом удивительном дереве, чьи ветви, вырастающие из основного ствола, выпускают воздушные корни, образуя новые стволы. И под конец одно-единственное дерево раскидывается так широко, что в его тени может укрыться целый полк кавалерии или происходить многолюдный митинг. Без сомнения, ты читал о таком дереве и видел его на картинке, поэтому мне не надо подробно описывать смоковницу. Скажу все же, что это было фиговое дерево — не то, что дает съедобные плоды, которые ты так любишь, а другой вид того же рода. Некоторые из них — это вьющиеся и ползучие растения, цепляющиеся за скалы и за стволы деревьев наподобие винограда или плюща. Другие, как, например, баньян, принадлежат к крупнейшим деревьям. Они обычно растут в тропическом поясе или в жарких странах, примыкающих к тропикам, и встречаются в обоих полушариях: и в Америке и в Старом Свете. Великолепные их разновидности растут в Австралии. Все они в большей или меньшей степени обладают замечательной особенностью, а именно выпускают из ветвей воздушные корни, образуя новые стволы, подобно баньяну.
Наши путники были свидетелями любопытного явления. Смоковница, листва которой служила им шатром, была невелика, так как это было еще молодое дерево, но из ее верхушки поднимались огромные веерообразные листья пальмы из породы пальмирских. Ствола пальмы не было видно. И не будь Карл Линден ботаником, знакомым с удивительными свойствами смоковницы, он был бы озадачен таким необычайным сочетанием. Длинные листья пальмиры расходились кверху лучами прямо из вершины баньяна и резко отличались от его листвы; зрелище получалось весьма своеобразное. Действительно, овальные, порой сердцевидные листья смоковницы контрастировали с широкими жесткими листьями пальмиры.
Вопрос был в том, как попала сюда пальма. Конечно, можно было предположить, что семя пальмы упало на вершину смоковницы, проросло там и выгнало листья.
Но как могло попасть на вершину баньяна семя пальмы? Было ли оно посажено рукой человека или занесено птицей? Последнее было маловероятно — ведь плод пальмиры величиной с детскую голову, а находящиеся в нем семена размером с гусиное яйцо. Ни одна птица не могла бы поднять такую тяжесть. Если бы это было единичным явлением, то можно было бы предположить, что пальму кто-то посадил; но в индийских лесах встречается немало таких сочетаний, даже в совершенно необитаемых местностях. Как же объяснить подобный союз?
Из всех наших путников один Каспар был озадачен этим явлением. Карл и Оссару знали, чем оно вызвано, и Карл объяснил брату.
— Дело в том, — сказал ботаник, — что не пальма выросла на фиговом дереве, а наоборот. Смоковница — настоящий паразит. Какая-нибудь птица — лесной голубь, майна или фазановый петух — унесла ягоды фигового дерева, и семена упали в пазуху листа пальмы. Это может сделать самая маленькая птица, так как плод смоковницы не крупнее мелкой вишни. Семя проросло и пустило корни, которые поползли вниз по стволу пальмы, пока не достигли земли. Эти корни так оплели ствол пальмы, что совсем его закрыли, кроме верхушки. Потом дерево выпустило боковые ветки — и теперь можно подумать, что это индийская смоковница с веерной пальмой на вершине.
Объяснение Карла было вполне правильным.
Глава 7
ПАЛЬМОВЫЙ СОК
Сложив свою ношу, Оссару тотчас же вскарабкался на баньян. Это ему легко удалось, так как ствол был бугристый, а шикари лазил с ловкостью кошки.
Но зачем он полез на дерево? Может быть, он искал плодов? Совсем нет, фиги были еще зеленые, но если бы они и созрели, это неважная еда. Может быть, он полез за орехами пальмиры? Опять нет, ибо они еще не завязались. Большое соцветие еще не раскрылось и только начало разворачивать свои зеленые оболочки. Если бы орехи уже завязались, ими можно было бы полакомиться. Как мы уже сказали, орех пальмиры достигает размеров детской головы. Он треугольный, с закругленными углами, и под его толстой, сочной желтоватой коркой лежат три семени величиной с гусиное яйцо. Эти семена едят, пока они молодые и мягкие; если же дать им созреть, они приобретают синеватый оттенок и становятся твердыми, безвкусными и несъедобными. Но Оссару и не думал их искать, так как и в помине не было ни семян, ни орехов — только цветы, да и те еще скрывались в своих зеленых чашелистиках.
Юноши внимательно следили за Оссару. Он взял с собой колено бамбука, вырезанное из очень толстого стебля. Оно было полое внутри и срезано сверху так, что получился сосуд, вмещавший более кварты[176]. Они заметили, что он захватил с собой также камень величиной с добрый булыжник и длинный нож.
В несколько секунд шикари очутился на верхушке баньяна и, цепляясь за толстые черешки, вскарабкался на огромный пальмовый лист. Затем он схватил цветок за стебель и, пригнув его к стволу, начал ударять по нему камнем с явным намерением отломить молодой отросток. Это ему удалось после нескольких ударов. Тогда он выхватил из-за пояса нож и ловким ударом отсек верхнюю часть цветоножки, которая тут же упала на землю.
Затем он взялся за бамбуковый сосуд. Шикари установил его на дереве, введя внутрь него обрезанный конец стебля. Потом привязал цветоножку вместе с бамбуком к черешкам листьев, и сосуд повис вертикально дном вниз. Закончив эти процедуры, шикари швырнул булыжник наземь, засунул нож за пояс и спустился с дерева.
— Ну, саибы, — сказал он, спрыгнув на землю, — вы ждать час — вы пить индийский вино.
Прошел какой-нибудь час, и его обещание исполнилось. Бамбуковый сосуд был отвязан и снят с дерева, и в самом деле он был полон прохладной прозрачной жидкости, которую все с удовольствием пили, сравнивая с шампанским. В Индии нет более вкусного и освежительного напитка, чем сок пальмиры, но он сильно опьяняет, и жители страны, где растет это замечательное дерево, слишком усердно пьют «индийское вино».
Из этого сока можно добывать сахар, попросту вываривая его. Для получения сахара дерево надрезают, как было описано, но в сосуд нужно положить немного извести, иначе начнется брожение и сок не будет годиться для этой цели.
Оссару остановил выбор именно на этом дереве, потому что баньян позволял ему добраться до вершины пальмы. Иначе было бы нелегко влезть по стройному гладкому стволу пальмиры, поднимающемуся на тридцать — сорок футов, без всяких сучьев и веток. Как только бамбуковый сосуд опустел, Оссару снова поднялся и прикрепил его к «крану», зная, что сок продолжает течь. Он течет несколько дней, только нужно ежедневно срезать новый слой с верхушки стебля, чтобы надрез не зарастал и отверстие оставалось открытым.
Днем было жарко, но, как только наступили сумерки, стало так свежо, что путникам пришлось развести костер. Оссару быстро высек огонь, поджег кучку сухих листьев и моха, и они ярко запылали. Тем временем Карл и Каспар наломали сучьев с сухого дерева, лежавшего поблизости, и, принеся охапку, бросили на горящие листья. Через несколько минут уже бушевало пламя; путники уселись вокруг костра и начали готовить ужин из риса и сушеного мяса, которое достали в последней деревне.
Хотя ботаник был занят делом, весьма увлекательным для голодного человека, он продолжал наблюдать окружающий растительный мир и вскоре заметил, что дерево, которое они жгли, сильно напоминает дуб. Он поднял веточку, и, отрезав от нее кусочек ножом, с изумлением увидел, что это в самом деле дуб, походивший по своему строению на гиганта северных лесов. Его удивило присутствие дуба в стране, обладавшей тропической флорой. Он знал, что можно встретить представителей этого семейства на склонах Гималаев, но сейчас он находился у их подножия, в области пальм и баньянов.
Карл в то время не знал — да это и сейчас далеко не всем известно, — что многие виды дубов относятся к тропическим деревьям; немало их обнаружено в жарком поясе, где они растут даже на уровне моря. Хотя в тропической Южной Америке, в Африке, на Цейлоне дубы не растут, но множество видов их встречается в Восточной Бенгалии, на Молуккских островах и островках Индийского архипелага, и, пожалуй, там его видов даже больше, чем в других местах земного шара.
Встреча со «старым знакомым», как они назвали дуб, порадовала молодых баварцев. После ужина они побеседовали на эту тему и решили на следующее утро поискать живые деревья для подтверждения замеченного ими странного факта.
Пора было ложиться спать, и они собирались уже закутаться в одеяла, но неожиданный случай задержал их еще часа на два.
Глава 8
ЗАМБАР
— Смотри! — воскликнул Каспар, который был зорче Карла. — Смотри вот сюда! Видишь два огонька?
— Вижу, — ответил Карл. — Две круглые яркие светящиеся точки. Что бы это могло быть?
— Какое-то животное, — заявил Каспар. — Я в этом уверен. Должно быть, дикий зверь.
— Может быть, тигр? — высказал предположение Карл.
— Или пантера, — прибавил его брат.
— Надеюсь, ни то, ни другое, — сказал Карл.
Их прервал Оссару, который также заметил светящиеся точки. Одним словом он успокоил товарищей.
— Самбу, — заявил шикари.
Братья знали, что Оссару называет «самбу» оленя, которого европейцы именуют «замбар». Оказывается, их напугали глаза оленя, в которых отразилось пламя костра. Страх внезапно сменился радостью. Они вдвойне радовались встрече с оленем: им доставляло удовольствие его застрелить — они надеялись полакомиться олениной.
Все трое были слишком опытными охотниками, чтобы действовать торопливо. Малейшее движение может спугнуть оленя — одним прыжком он скроется в чаще; стоит ему только повернуть голову, и его больше не будет видно — такой кругом мрак. Блестящие глаза — вот все, что было видно, и, если бы животное догадалось закрыть глаза, оно могло бы простоять здесь до рассвета, не рискуя попасть на прицел.
Однако любопытство так овладело оленем, что он позабыл всякую осторожность.
Он и не думал убегать и стоял как вкопанный; его большие круглые глаза были широко открыты и блестели, как два фонарика.
Каспар шепотом сказал товарищам, чтобы они молчали и не шевелились. Затем он стал медленно опускать руку, пока не достал двустволку; осторожно подняв ее к плечу, Каспар прицелился и выстрелил. Он намеренно не целился между глазами оленя. Дело в том, что ружье было заряжено не пулей, а только дробью, но дробь, даже крупная, едва ли может пробить череп такого крупного животного, как замбар. Охотник прицелился не в глаза, а футом ниже — прямо под ними. Так как глаза находились на горизонтальной линии, он заключил, что олень стоит головой к костру, и расчитывал попасть ему в горло или в грудь.
Как только он выстрелил из первого ствола, блестящие глаза погасли, как свеча, которую задули; чтобы использовать преимущества дуплета, он выстрелил и из второго.
Он мог бы и поберечь заряд, так как первый выстрел достиг своей цели: шум сухих листьев, которые олень судорожно разбрасывал ногами, доказывал, что он если и не убит, то тяжело ранен.
Фриц уже прыгнул в темноту, и, прежде чем охотники успели схватить факел и подбежать, сильная собака вцепилась животному в горло и задушила его, положив конец судорогам.
Охотники подтащили тушу оленя к костру. Они смогли сделать это лишь общими усилиями, так как замбар — крупная порода оленей, а тот, что попал им в руки, был прекрасным старым самцом с огромными ветвистыми рогами, которыми при жизни он, без сомнения, гордился.
Замбар — одна из самых замечательных пород оленей. Хотя он и меньше ростом, чем американский вапити, но гораздо крупнее европейского оленя. Это быстроногое, смелое и злое животное; когда его загонят, он становится опасным противником для людей и собак. Шерсть у него гладкая, жеcткaя, бурого, слегка сероватого цвета. Шея обросла длинными косматыми волосами; под горлом у него борода, как у американского вапити. Сверху вдоль шеи — густая грива, придающая животному еще более свирепый вид. Морда окаймлена черноватой полосой, а «салфетка» вокруг хвоста невелика и желтоватого цвета.
Такова внешность обыкновенного замбара, которого англо-индийские охотники называют оленем; в Азии водится немало родственников и разновидностей замбара.
Представители этой группы встречаются во всех областях Индии — от Цейлона до Гималаев и от Инда до островов Индийского архипелага. Они живут в лесах, обычно по берегам рек или озер.
Америку долгое время считали излюбленным местопребыванием оленей, подобно тому как Африка считается родиной антилоп. Но, по-видимому, это не так, и ошибка вызвана тем, что американский олень известен европейцам лучше других. Правда, самый крупный из оленей, лось, обитает на Американском материке, а также на севере Европы и Азии, но количество его видов на этом материке, как в северной, так и в южной части, очень ограничено.
Когда фауна Востока — я говорю обо всех странах и островах, обычно именуемых Ост-Индией, — будет доскональмо изучена, мы убедимся, что там раза в три больше видов оленей, чем в Америке.
Если мы вспомним, сколько образованных англичан — и военных и штатских — всю жизнь прожили в Индии, то можно только удивляться, что фауна этой страны до сих пор так мало изучена. Большинство английских офицеров смотрят на диких животных Индии скорее глазами охотника, чем натуралиста. Для них всякий олень — просто олень, а большое, похожее на быка животное — это буйвол, будь то гайял, или лесная корова, или гоор. Еще неизвестно, принадлежат ли все эти разновидности к одному и тому же роду. Хорошо еще, что эти джентльмены иногда догадываются прислать на родину шкуру или рога, — иначе мы бы вообще ничего не знали о животных, с которых сняты эти трофеи. Поэтому особенно приходится ценить таких исследователей, которые являются редким исключением. Если бы в каждой провинции Индии имелись подобные им люди, мы получили бы такое описание фауны этой страны, которое удивило бы даже ученых, созерцающих мир сквозь очки.
Глава 9
НОЧНОЙ ГРАБИТЕЛЬ
Оссару быстро ободрал оленя, разрубил тушу на куски и развесил их на ветвях дерева. Хотя все уже успели поужинать, волнение, вызванное охотой, снова возбудило у них аппетит; оленину испекли на дубовых угольях, поели с удовольствием и запили восхитительным пальмовым вином, а затем путники собрали мох, свисавший с деревьев, сделали из него постель, улеглись у костра, завернулись в одеяла и уснули.
Около полуночи поднялась тревога. Спящих разбудил Фриц, его яростный лай и злобное ворчание доказывали, что к костру приближается какой-то враг. Все трое вскочили и им показалось, что они слышат неподалеку крадущиеся шаги и глухое рычание дикого зверя; но различать звуки было нелегко, так как в это время года в тропическом лесу по ночам бывает так шумно, что даже собеседникам трудно услышать друг друга. Стрекочут цикады, квакают болотные лягушки, серебристо звенят древесные лягушки, вскрикивают и ухают совы и сычи — все это создает оглушительный гам, не смолкающий до самого утра.
Полаяв некоторое время, Фриц замолчал. Все снова уснули и спокойно проспали до утра.
Едва рассвело, они встали и принялись готовить завтрак.
В костер подбросили сухих сучьев и решили изжарить лопатку оленя. Оссару взобрался на дерево, а Каспар пошел за мясом.
Куски оленьей туши были развешаны на дереве шагах в пятидесяти от костра. Это место выбрали потому, что там протекал ручеек, в котором можно было вымыть мясо. Горизонтальная ветка как раз на нужной высоте соблазнила Оссару, и он решил использовать ее вместо крюка.
Внезапно Каспар подозвал к себе товарищей.
— Смотрите! — воскликнул он, когда они подошли. — Часть туши исчезла!
— Значит, здесь были воры! — заметил Карл. — Вот почему Фриц лаял.
— Воры! — воскликнул Каспар. — Только не люди! Люди унесли бы все мясо, а тут пропал лишь один кусок. Его стащил какой-то дикий зверь!
— Да, саиб, вы сказать верно, — отозвался шикари, подходя ближе. — Он дикий зверь, очень дикий зверь — большой тигр!
При имени этого ужасного хищника юноши вздрогнули и стали тревожно осматриваться. Даже Оссару обнаружил признаки страха. Подумать только, они спали под открытым небом так близко от тигра — самого страшного и свирепого из всех зверей! И это в Индии, где постоянно приходится слышать о нападениях этого хищника!
— Ты думаешь, это был тигр? — спросил ботаник, прерывая Оссару.
— Да, саиб! Смотреть сюда, саиб, видеть его следы!
Шикари показал на песчаный берег ручья. Да, там виднелись следы лап крупного зверя; присмотревшись, можно было узнать следы зверя кошачьей породы. На песке четко отпечатались подушечки лап и виднелись легкие следы когтей, ибо, хотя когти у тигра очень длинные, он может втягивать их на ходу, оставляя на песке или глине лишь очень легкие отпечатки. Следы были слишком большие для леопарда — они могли принадлежать только льву или тигру. Львы водились в этих местах. Но Оссару хорошо умел различать следы этих двух крупных хищников и без всякого колебания заявил, что это тигр.
Следовало серьезно подумать о том, что теперь предпринять. Может быть, сняться с места и двигаться вперед? Но Карлу очень хотелось провести здесь день или два. Он не сомневался, что обнаружит в этих местах несколько новых видов растений. Но невозможно было спать спокойно, зная о таком соседстве. Тигр, конечно, вернется. Едва ли он уйдет оттуда, где ему удалось так вкусно поужинать. Он, конечно, видел на дереве еще куски оленины и наверняка придет навестить ее следующей ночью. Конечно, можно развести большие костры и отпугнуть его от своего бивака, но все же нельзя будет спокойно спать. И даже днем он всегда сможет напасть на них, особенно когда они будут искать растения в чаще. В дремучих зарослях легко повстречаться с этим страшным соседом. Не лучше ли уложить вещи и продолжать путь?
За завтраком они обсуждали создавшееся положение. Каспар, страстный охотник, хотел только взглянуть на тигра; но Карл, более осторожный, а может быть, и более боязливый, считал, что лучше им перебраться в другое место. Таково было мнение ботаника, но в конце концов он уступил настояниям Каспара и Оссару, который предложил убить тигра, если они останутся здесь хоть на одну ночь.
— Как! Убить тигра из лука? — удивился Каспар. — Отравленной стрелой?
— Нет, молодой саиб, — ответил Оссару.
— Я думаю, тебе едва ли удастся убить большого тигра таким оружием. Но как ты примешься за дело?
— Если саиб Карл остаться до завтра, Оссару покажет вам: он убить тигра, он поймать его живой.
— Поймаешь живьем? В ловушку? В капкан?
— Нет ловушка, нет капкан. Вы увидеть. Оссару делать, что сказать, — он поймать тигр живой.
У Оссару был, очевидно, какой-то замысел, и братьям не терпелось узнать, в чем дело. Так как шикари обещал, что охота будет безопасной, ботаник согласился остаться и поохотиться на тигра.
Тогда Оссару рассказал им свой план. И, позавтракав, все трое занялись приготовлением к охоте.
Действовали они так. Прежде всего в соседних зарослях нарезали множество бамбуковых колен. Затем надрезали кору смоковницы и пристроили к ним бамбуковые колена так, чтобы в них стекал млечный сок. Так как каждое колено бамбука имело «донце» благодаря узлу на стволе, то оно и превратилось в сосуд для сбора сока, а на смоковнице надрезали лишь молодые, самые сочные побеги. Когда в бамбуковых сосудах собралось достаточно жидкости, ее перелили в котелок, который подвесили над слабым огнем. Затем сок стали помешивать, по временам подливая свежего, и вскоре он стал густым и липким, как самый лучший птичий клей. Это и был настоящий птичий клей, какой применяется индийскими птицеловами, почти не уступающий по качеству клею, приготовленному из остролиста.
Пока Оссару варил клей, Карл и Каспар, по его указаниям, взобрались на деревья и нарвали целую кучу листьев. Срывали их только со смоковниц, причем выбирали самые молодые деревья. Эти листья, величиной с чайное блюдечко, были покрыты мягким пушком, какой бывает только на листьях молодых деревьев, так как, когда смоковница стареет, ее листья становятся твердыми и гладкими.
Когда листья были собраны, а клей готов, Оссару начал приводить свой план в исполнение.
Оставшиеся две четверти туши оленя все еще висели на дереве. Решено было оставить их там как приманку для оригинальной ловушки, задуманной Оссару, и только перевесить повыше, чтобы тигр не мог их достать.
Повесив мясо, как ему хотелось, Оссару вместе со своими помощниками расчистил вокруг этого дерева большую площадку, вырвав все кустики и убрав хворост. Затем шикари приступил к осуществлению заключительной части своего плана. Добрых два часа он намазывал клеем собранные листья смоковницы и разбрасывал их по земле; они покрыли пространство в несколько квадратных ярдов, так что нельзя было подойти к дереву, на котором висело мясо, не наступив на клейкие листья. Они были смазаны с обеих сторон, слегка прилипали к траве, и ветерок не мог их унести.
Когда все было готово, Оссару и юноши вернулись к костру и с аппетитом пообедали. День уже клонился к вечеру, им пришлось много поработать, но они не хотели обедать, пока не закончат всех приготовлений. Теперь оставалось только ждать результатов.
Глава 10
РАЗГОВОР О ТИГРАХ
Мне нет надобности описывать тигра. Вы, конечно, его видели, хотя бы на картинке. Тигр — это большая полосатая кошка. Пятнистые кошки — это ягуары, пантеры или леопарды, рыси, гепарды, сервалы. Но вы никогда не спутаете тигра с каким-нибудь другим зверем. Он после льва самый крупный представитель кошачьего семейства, но отдельные тигры бывают ростом с крупного льва. К тому же лев кажется больше благодаря косматой гриве, покрывающей его шею. Сдерите с него шкуру, и он будет не крупнее старого тигра, также ободранного.
Подобно львам, тигры мало различаются по форме и окраске. Природа не слишком мудрит над раскраской этих могучих зверей, изощряя свою фантазию над животными меньших размеров. Характерный желтый цвет шерсти тигра может быть светлее или темнее, полосы могут быть более или менее яркими, но в общем окраска остается постоянной и любую особь можно распознать с первого взгляда.
Тигр менее распространен, чем лев. Последний встречается на протяжении всего Африканского материка и лишь кое-где в южной половине Азии, между тем тигр обитает только в Азии и на некоторых крупных островах Индийского архипелага. К западу он распространен лишь до южного побережья Каспийского моря. Тигры встречаются в Маньчжурии и в Приморской области. Из этого видно, что он совсем не такое тропическое животное, каким его обычно считают.
Если верить некоторым путешественникам, то тигры обитают не только в Африке, но и в Америке. Но тигр, о котором упоминают испано-американцы, — это ягуар, а в старину путешественники по Африке принимали за тигра пантеру или леопарда, а может быть, и сервала.
Основное местопребывание этого свирепого хищника — знойные джунгли Индостана, Сиама, Малайи и некоторых областей Китая. Там тигр — неограниченный хозяин лесных дебрей; правда, в некоторых из этих стран встречается и лев, но очень редко, о нем мало говорят туземцы и не слишком его боятся.
Мы живем так далеко от этих крупных хищников, что нам трудно себе представить, какой ужас наводят тигры в тех местах, где они обычно охотятся.
Там жить далеко не безопасно, и человек, находящийся в пути, так же боится встретить тигра, как мы — бешеную собаку. Эти страхи вполне обоснованы. В каждом селении вы услышите правдивые рассказы о нападениях тигров или о встречах с ними; в каждом поселке имеется свой список убитых или изувеченных. Вы едва ли поверите, а между тем достоверно известно, что иной раз население уходит из самых плодородных районов страны только из страха перед появившимися там тиграми и пантерами. Подобные случаи наблюдались и в Южной Америке, где они были вызваны гораздо менее опасным хищником — ягуаром.
В некоторых областях Индии туземцы почти не решаются сопротивляться при нападении тигра. Суеверие приходит на помощь свирепому чудовищу. Индусы считают, что тигр обладает сверхъестественной силой и послан богами уничтожать людей; поэтому они покорно ему сдаются, не оказывая ни малейшего сопротивления.
В других местах, где живут более энергичные племена, на тигра усердно охотятся, и в различных районах его ловят или убивают разными способами.
Иногда заряжают лук отравленной стрелой и прикрепляют к тетиве бечеву. Затем кладут на землю приманку так чтобы тигр, приближаясь к ней, зацепился лапой за бечевку, спустил тетиву и был пронзен стрелой, яд которой убивает его. Таким же образом устанавливают пружинное ружье, и тигр сам стреляет в себя.
Западня из бревен, к какой нередко прибегают жители американских лесов для ловли черного медведя, применяется в Индии для ловли тигров. Она состоит из тяжелого чурбана или бревна, установленного на другом бревне с помощью подпорки; стоит какому-нибудь животному сдвинуть эту подпорку, как бревно падает и убивает его. Для такого типа ловушки также необходима приманка.
Охотятся за тиграми и на слонах — это «королевский» спорт в Индии. Им нередко занимаются индийские раджи, а порой и английские офицеры Ост-Индской компании. Это, конечно, очень увлекательная забава, но тут не применяется никакой хитрости. Охотники вооружены ружьями и копьями, и их сопровождает толпа туземцев, которые прочесывают чащу и выгоняют оттуда животных. Немало жизней приносится в жертву при этой опасной охоте, но страдают обычно бедные крестьяне, которых берут в загонщики, ведь индийский раджа ценит жизнь трех-четырех десятков своих подданных не дороже, чем жизнь тигра.
Говорят, китайцы ловят тигров в клетку, куда в качестве приманки ставят простое зеркало. Подойдя к зеркалу, тигр видит свое отражение, кидается на него, принимая за соперника, — затвор падает, и зверь пойман. Быть может, китайцы и пользуются подобной ловушкой, но едва ли таким путем можно поймать много тигров.
Вы можете подумать, что способ Оссару был не лучше китайской западни с зеркалом. Его спутники тоже сперва выразили недоверие, когда он заявил им, что хочет поймать тигра на птичий клей.
Глава 11
ТИГР, ПОЙМАННЫЙ НА ПТИЧИЙ КЛЕЙ
Способ шикари подвергся проверке даже раньше, чем ожидали наши друзья. Они не думали, что тигр появится до захода солнца, и решили провести ночь на смоковнице. Ночевать у костра было небезопасно, потому что хищник мог неожиданно на них напасть.
Хотя эти свирепые звери обычно боятся огня, некоторые из них не обращают на него внимания, и бывали случаи, когда тигры набрасывались на людей, сидящих у ярко пылающего костра. Оссару знал несколько таких случаев и посоветовал ночевать на дереве. Правда, тигр может забраться и на смоковницу в случае, если их заметит; но, если они будут сидеть тихо, ему трудно будет обнаружить их убежище. Они заранее соорудили площадку из бамбуковых жердей и водрузили ее на дерево.
Сделали это на всякий случай, так как им не очень улыбалось ночевать на таком насесте. Но все же им пришлось просидеть там некоторое время, и они оказались свидетелями самой забавной и необычайной сцены.
До заката оставалось еще с полчаса, и охотники сидели вокруг огня, когда услыхали странный звук. Он слегка напоминал жужжание молотилки; всякому, кто бывал за городом, не раз приходилось слышать этот звук. По временам это жужжание прерывалось, затем снова возобновлялось.
Лишь один Оссару встревожился, услыхав этот звук. Остальные испытывали только любопытство. Это был необычный звук. Им хотелось поскорее узнать, чем он вызван.
Но и они, в свою очередь, встревожились, когда шикари сообщил им, что эти звуки не что иное, как «мурлыканье» тигра.
Оссару сказал это зловещим шепотом и неслышными шагами быстро направился к смоковнице, знаком пригласив братьев следовать за ним.
Они молча повиновались — один за другим взобрались на дерево и спрятались среди ветвей.
Сквозь завесу листвы им были видны куски туши, висевшие на суку, и площадка, усеянная блестящими от клея листьями.
Быть может, тигру оказалось мало куска оленины, унесенного в предыдущую ночь, и он проголодался раньше обычного. Во всяком случае, Оссару, хорошо знавший повадки полосатого вора, не ожидал его так рано, рассчитывая, что он явится, лишь когда совсем стемнеет. Но громкое «мурлыканье», все явственнее доносившееся из чащи, доказывало, что огромная кошка вышла на охоту.
Вдруг они увидели, как тигр показался из кустов по ту сторону ручья; его широкая белая шея и грудь резко выделялись на темном фоне листвы. Он подкрадывался совсем как домашняя кошка к какой-нибудь неосторожной птичке: растопырив огромные лапы, припав к земле могучим телом, — ужасное, отвратительное зрелище! Глаза его вспыхнули, когда он увидел соблазнительные куски мяса, висевшие высоко на ветке.
Осмотревшись по сторонам, он выгнул спину и мигом перепрыгнул через ручей. Потом быстро направился к дереву и остановился прямо под висящими кусками.
Оссару нарочно перевесил мясо повыше, и оно теперь находилось футах в двенадцати над землей. Хотя тигр может делать очень большие прыжки, он не способен прыгать высоко вверх, и заманчивые куски были за пределами досягаемости. Казалось, он был несколько обескуражен — в прошлый раз дело обстояло совсем иначе, — но, поглядев на мясо минуту-другую, он сердито фыркнул, припал к земле и подпрыгнул кверху.
Попытка оказалась неудачной: он упал на лапы, даже не коснувшись мяса, и выразил свое неудовольствие гневным ревом.
В следующий миг он снова подпрыгнул. На этот раз он задел лапой один из кусков, который начал раскачиваться, но не упал, так как был крепко привязан.
Внезапно внимание огромного зверя привлекло новое обстоятельство; вид у него был озадаченный. Он заметил, что у негo что-то прилипло к лапам. Он поднял одну и увидел, что к ней пристало несколько листьев. Почему эти листья так липли к его лапам? Они казались мокрыми, но что из того? Он никогда не замечал, чтобы мокрые листья прилипали к лапам больше, чем сухие. Быть может, они-то и помешали ему прыгнуть так высоко, как он хотел? Во всяком случае, ощущение было неприятное; необходимо удалить эти листья прежде, чем снова прыгнуть. Он слегка потряс лапой, но листья не упали. Он потряс сильнее — никакого толку! Ему не удавалось их стряхнуть. На них было что-то клейкое, чего он никогда еще не видел в своих странствованиях. Ему не раз случалось ходить по листьям смоковницы, но таких клейких он еще не встречал.
Тигр продолжал трясти лапами, но все было напрасно. Листья приклеились, как пластыри, — облепили его лапу со всех сторон. Некоторые прилипли даже к лодыжкам. Что бы это значило?
Видя, что трясти лапой бесполезно, он попытался освободиться от листьев другим способом — стал тереть лапой по щекам и морде. Правда, листья отстали от лапы, зато прилипли к голове, ушам и к носу, а это было еще неприятнее. Он хотел было смахнуть их лапой, но вместо того наклеил еще больше, так как на поднятой лапе оказался свежий слой налипших листьев. Он попытался проделать это другой лапой, но не тут-то было! Лапа оказалась облепленной листьями, которые отставали от нее, приклеиваясь к голове, и, несмотря на все усилия, их не удавалось оттуда сорвать. Некоторые даже налипли ему на глаза и почти ослепили его. Оставалось последнее средство — потереться головой о землю.
Задумано — сделано. Тигр прижался мордой к земле и, отталкиваясь лапами, начал изо всех сил тереться сначала одной стороной морды, потом другой, но от этого стало еще хуже: глаза были залеплены, и он окончательно ослеп, а голова и все туловище до кончика хвоста было сплошь обклеено листьями.
Тигр разъярился. Ему было уж не до мяса. Он хотел только освободиться от ужасной ловушки, в которую попал. Он принялся прыгать и дико метаться по площадке: то терся головой о землю, то скреб ее своими огромными лапами и то и дело кидался на стоявшие кругом деревья. Его отчаянный рев, рычание и визг гулко разносились по лесу.
Охотники следили за каждым его движением, с трудом удерживаясь от смеха. Оссару увидел, что пришел момент решительно действовать, спустился с дерева и с копьем в руке направился к тигру, дав знак товарищам следовать за ним с ружьями.
Шикари мог бы без особого риска подойти и пронзить тигра, но пуля все же была надежнее, и Каспар выстрелил из своей двустволки, а вслед за ним — Карл из своего ружья. Одна из пуль, попав между ребрами, положила конец мучениям тигра — он упал на траву, убитый наповал.
Осмотрев тигра, они обнаружили, что листья смоковницы залепили ему глаза и он был совершенно ослеплен. Ему не удалось содрать листья своими огромными когтями, и он не мог бы пустить в ход когти, даже если бы кто-нибудь схватился с ним врукопашную.
Когда эта волнующая сцена окончилась, охотники разразились громким хохотом. Еще бы не смеяться — королевского тигра поймали на клей, как жалкую пичужку!
Глава 12
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛОТ
Оссару поспешил содрать с тигра шкуру и поужинал большим куском грудинки, вырезанным из туши. Братья не приняли участия в этом странном пиршестве, хотя шикари уверял их, что тигровое мясо гораздо вкуснее, чем мясо замбара. Может быть, Оссару был и прав, так как известно, что мясо некоторых плотоядных зверей не только съедобно, но и очень вкусно. В самом деле, вкус мяса, по-видимому, совсем не зависит от характера пищи данного животного: свинья — всеядное животное, но что может быть лучше на вкус и нежнее жареной свинины! С другой стороны, мясо многих животных, питающихся только свежей травой или сладкими, сочными корнями и растениями, отличается горьким вкусом. Примером могут служить южноамериканский тапир, африканские зебры, квагги и даже некоторые породы антилоп, чье мясо можно есть только от голода.
То же наблюдается и среди птиц. Мясо многих хищных птиц не уступает лучшей дичи. Например, мясо крупного ястреба-перепелятника в Америке (на которого усердно охотятся негры на плантациях) ничуть не хуже мяса птиц, которыми он питается.
Но Оссару содрал шкуру с тигра не только для того, чтобы полакомиться его мясом, а ради самой шкуры, хотя она сама по ceбe и не очень высоко ценится в Индии. Будь это шкура пантеры или леопарда, или даже менее красивая шкура гепарда-читы, за нее можно было бы получить хорошие деньги. Но шкура тигра имеет условную ценность, и шикари этo было известно. Он знал, что за каждого убитого тигра дается премия в десять рупий, для получения которой нужно показать шкуру. Правда, эту премию выплачивала Ост-Индская компания и только за тигров, убитых на ее территории. Этот тигр не был убит на земле, осеняемой знаменем Англии, но что из того? Тигровая шкура остается тигровой шкурой; Оссару мечтал в недалеком будущем попасть в Калькутту. Он взобрался на высокую смоковницу и спрятал шкуру в самых верхних ветвях, с тем чтобы захватить ее нa обратном пути.
Следующие два дня они провели на том же месте, и охота за растениями была очень успешной. Были найдены семена многих редких растений; некоторые были даже неизвестны ученому миру; как и тигровую шкуру, их спрятали в надежное место, чтобы не тащить с собой в горы.
Карл решил, составляя свои коллекции, прятать найденные им семена и орехи в различных пунктах своего маршрута. Он рассчитывал на обратном пути нанять несколько носильщиков, которые отнесут их в Калькутту или другой приморский город.
На четвертый день они снова пустились в путь, направляясь к северу, в сторону гор. Они не нуждались в проводнике, так как река, вверх по которой решили идти, была достаточно надежным проводником; обычно они шли вдоль берега, но иногда непроходимая, болотистая чаща заставляла их отдаляться от него на некоторое расстояние.
Около полудня они дошли до одного из притоков реки. Он пересекал им путь, и его необходимо было перейти. Не было ни моста, ни брода, ни какой-либо переправы, а поток был широкий и глубокий. Они прошли вдоль него милю-другую, но нигде не обнаружили мели. Несколько часов разыскивали они переправу, но напрасно.
Каспар и Оссару были хорошими пловцами, но Карл совсем не умел плавать — переправу искали только из-за него. Его товарищи без колебаний бросились бы в воду. Но как быть с Карлом? При таком быстром течении даже самый лучший пловец не смог бы тащить за собой другого человека. Но тогда как же им переправиться? Они сели под деревом и стали обсуждать этот вопрос. Без сомнения, изобретательный Оссару вскоре придумал бы, как переправить молодого саиба через реку, но в это время появилась совершенно неожиданная помощь.
На противоположном берегу расстилался небольшой луг, за которым виднелся густой лес.
Они заметили, как из леса вышел человек и направился через луг к берегу. Его мускулистое сложение, густые черные волосы, небрежно падающие на плечи, одежда, состоявшая из куска материи, похожего на одеяло и подхваченного на талии кожаным поясом, голые ноги, обутые в сандалии, — все доказывало, что это полудикий обитатель Тераи.
Его появление чрезвычайно поразило всех, кроме Оссару. Удивительным был не дикий вид его и не странная одежда; тех, кто путешествует по Индостану, нелегко удивить необычной внешностью или костюмом. Наших путников, как и всякого другого человека, изумило то, что приближавшийся к берегу человек нес на спине буйвола. Не кусок его туши, не голову, а целого буйвола, черного, мохнатого, величиной с английского быка. Спина животного лежала на спине у человека, голова с рогами возвышалась над плечом, ноги торчали сзади, а хвост волочился по земле.
Наши путники не понимали, как может человек выдержать такую ношу, но дикий мэх нес ее без труда и шел по лугу легко и непринужденно, словно у него на спине был мешок с пухом.
У Карла и Каспара вырвались возгласы удивления, и они засыпали Оссару вопросами, требуя объяснений. Оссару только загадочно улыбнулся в ответ: очевидно, он мог объяснить это странное явление, но так наслаждался изумлением своих спутников, что ему хотелось подольше продержать их в неизвестности, — впрочем не дольше, чем позволяло приличие.
Удивление юношей еще возросло, когда из чащи появился другой туземец с буйволом на спине, за ним третий, четвертый — целых полдюжины, причем каждый нес по буйволу.
Тем временем первый уже подошел к берегу реки, и удивление ботаников достигло предела, когда туземец сбросил животное на землю, затем схватил его, столкнул в воду и сел на него верхом! Еще мгновение — и он уже плыл на буйволе, вернее — подталкивал буйвола, действуя руками и ногами, как веслами.
Остальные пятеро, подходя к воде, поступали так же, и вскоpe вся компания уже переплывала реку.
Только когда первый мэх, выйдя на берег около путников, вынул своего буйвола из воды и снова взял его на плечи, они с удивлением обнаружили, что принимали за буйволов надутые шкуры этих животных, которыми дикие, но изобретательные туземцы этих мест пользуются как плотами.
Такие плоты встречаются и у туземцев Пенджаба и в других частях Индии, где реки весьма редко можно перейти вброд, а мостов не имеется. С буйвола сдирают шкуру вместе с головой, ногами и рогами, чтобы удобнее было управлять плотом. Их тщательно сшивают, так чтобы воздух не проникал сквозь них, и надувают вместе с головой и ногами; надутая шкура до того похожа на живого буйвола, что даже собаки нередко ошибаются и рычат и лают на нее. Воздуха в ней с избытком хватает, чтобы держать на воде человека. Для переправы грузов или других предметов несколько шкур связывают вместе, и получается превосходный плот.
Такой же плот был тотчас же сделан и для наших путешественников. Хотя мэхи и полудикое племя, они весьма учтивы с иноземцами. Достаточно было двух-трех слов Оссару и нескольких трубок, подаренных ботаником, чтобы получить желанный плот из буйволовых шкур. Не прошло и получаса, как маленький отряд уже очутился на другом берегу и мог продолжать свой путь.
Глава 13
САМАЯ ВЫСОКАЯ В МИРЕ ТРАВА
Продвигаясь вверх по реке, нашим путникам случалось проходить обширные пространства, покрытые травой особой породы, так называемой «травой джунглей», которая заначительно превышала человеческий рост.
Ботаник измерил несколько стеблей этой гигантской травы и обнаружил, что она достигает высоты четырнадцати футов и имеет толщину у корня с палец. Ни одно животное, кроме жирафа, не может поднять голову над этой травой; но в Индии жирафов нет — эти длинношеии создания обитают лишь на Африканском материке. Однако здесь встречаются дикие слоны, самый крупный из которых может спрятаться в этой заросли, как полевая мышь в траве наших лугов.
Но в траве джунглей скрываются и другие животные. Это любимое убежище тигра и индийского льва, и наши ботаники не без опасений прокладывали себе путь среди этих высоких стеблей.
Вы, конечно, согласитесь, что трава джунглей — высокая трава. Но она далеко не самая высокая в мире или даже в Ост-Индии. Поверите ли вы, что существует трава в пять раз выше этой? А между тем такая трава растет в Индостане. Это разновидность проса, достигающая пятидесяти футов высоты, причем ее стебель не толще гусиного пера. Но эта своеобразная трава — вьющееся растение; она растет среди деревьев и, цепляясь за их ветви, добирается почти до самой вершины.
Вы, пожалуй, подумаете, что эта разновидность проса и есть самая высокая трава в мире. Ничуть не бывало! Имеется еще один вид травы, достигающий фантастической высоты — ста футов!
Вы догадываетесь, о каком виде я говорю? Разумеется о гигантском бамбуке. Это и есть самая высокая в мире трава.
Бамбук обычно называют тростником, но он принадлежит к семейству злаков, или трав, и отличается от других представителей того же семейства своими гигантскими размерами.
Мой юный читатель, я смело могу сказать, что во всем растительном мире не существует семейства, более полезного для человека, чем злаки. У всех цивилизованных народов хлеб считается основной пищей, а почти все сорта хлеба — продукты злаков. Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис — все это злаки, так же как и сахарный тростник, который так ценится благодаря своему вкусному продукту. О различных видах злаков, доставляющих человеку необходимые продукты и лакомства, можно было бы написать длинную главу, а еще больше о видах, также полезных для человека, но еще не окультуренных.
Но из всех злаков самый интересный — бамбук. Хотя это благородное растение не дает ценных пищевых продуктов, зато оно приносит человеку немалую пользу. Для жителей Южной Азии — и материка и островов — бамбук примерно то же, что различные виды пальм для туземцев Южной Америки или тропической Африки. Это изящное растение, чьи легкие, стройные стебли служат для множества полезных целей, — пожалуй, самый ценный подарок природы туземным племенам. Способы применения бамбука столь многочисленны, что их не так просто перечислить. Расскажем о некоторых из них, чтобы вам стало ясно, насколько ценен этот злак.
Молодые побеги некоторых видов срезают, пока они еще нежны, и едят как спаржу. Подросшие, но еще зеленые стебли служат футлярами, в которых можно перевозить свежие цветы на большие расстояния благодаря влаге, постоянно выделяющейся из их стенок. Когда стебли затвердеют, из них делают луки, стрелы и колчаны, древки для копий, корабельные мачты, трости, ручки для паланкинов, мостовые настилы и множество других предметов. Из самых прочных сортов бамбука строят частоколы, которые могут разрушить лишь регулярная пехота и артиллерия. Делая на бамбуковых стволах надрезы, малайцы превращают их в изумительно легкие и удобные для переноски лестницы. Листьями низкорослых пород китайцы выстилают чайные ящики. Растертые в воде листья и стебли бамбука идут на изготовление китайской бумаги, высокие качества которой можно еще повысить, добавляя в массу хлопок-сырец и тщательно ее растирая. Разрезая стебли на куски и вырезая перегородки, делают водопроводные трубы или футляры для хранения свитков. Расщепляя стебель на полоски, получают весьма прочный материал для плетения циновок, корзин, жалюзи; из него изготовляют даже паруса. Более крупные и толстые отрезки стволов китайцы покрывают восхитительными орнаментами.
Особенно ценен бамбук как строительный материал. Во многих областях Индии можно встретить бамбуковые хижины.
Бамбук легко срезать и легко заготовить в любом количестве. Поэтому дома из бамбука возводятся с удивительной быстротой. Один из выдающихся английских ботаников, Гукер, сообщает, что целый дом с мебелью, состоявшей из стола и кресел, был построен шестью его помощниками в один час.
Известно около пятидесяти видов бамбука; некоторые из них — уроженцы Африки и Южной Америки, но большинство принадлежит Южной Азии, которую можно считать родиной этих гигантских трав. Все эти виды значительно отличаются друг от друга: у одних ствол толстый и прочный, у других — легкий, тонкий, эластичный. Они бывают также весьма различной высоты: существует карликовый бамбук, тонкий, как стебель пшеницы, и высотой всего в два фута, а есть и такой, у которого стебель толщиной с человеческое туловище и высотой в добрых сто футов.
Глава 14
ЛЮДОЕДЫ
Оссару прожил всю свою жизнь в стране, где бамбук чрезвычайно распространен, и прекрасно знал все способы его применения. Он мог сделать из бамбука любой сосуд или предмет утвари. Если бы ему пришлось пересекать безводную местность, он без труда смастерил бы большой сосуд или флягу куда прочнее жестяных изделий.
Так как в тех местностях, по которым они проходили, вода встречалась чуть не через каждую милю, в крупной бамбуковой фляге не было нужды. Чтобы иметь под рукой воду всякий раз, когда захочется пить, достаточно было одного бамбукового сосуда емкостью в кварту.
Не появись мэхи в нужный момент со своими плотами из надутых шкур буйволов, Оссару, несомненно, придумал бы какой-нибудь другой способ переправиться через реку. Он доказал свою изобретательность, когда наши путники через несколько часов очутились перед таким же препятствием. На этот раз им преградило путь главное русло, вдоль которого они шли. В этом месте река образовала большую излучину, и, если бы они стали ее обходить, пришлось бы сделать изрядный крюк, к тому же проводник сообщил, что тропа несколько раз пересекает болото.
Оссару предложил переправиться через реку. Но как это сделать? Переплыть ее будет нелегко, ибо она шире, чем приток, через который они уже переправились, а туземцев нигде не было видно. Но проводник указал на небольшую бамбуковую рощицу.
— А, ты хочешь сделать бамбуковый плот? — спросил ботаник.
— Да, саиб, — ответил шикари.
— Боюсь, что это займет много времени.
— Не бойся, саиб, полчаса хватит.
Оссару сдержал свое обещание. За полчаса были построены и готовы к спуску три плота. Конструкция их была чрезвычайно проста и остроумна. Они состояли из четырех кусков бамбука, связанных ратановыми полосками так, чтобы внутри этого четырехугольника мог поместиться человек. Полые бамбуковые стебли вполне могли удержать на воде человека.
Привязав за плечами багаж и неся плоты в руках, путники подошли к реке, смело бросились в воду и поплыли. Оссару показал им, как держаться в воде вертикально и как грести руками и ногами; немало было плескания, и брызганья, и хохота, и крика, пока все трое благополучно не перебрались на противоположный берег. Впрочем, Фрицу плот не понадобился.
Так как предстояло еще раз переправиться через реку, каждый захватил с собой плот, и после новой переправы они опять очутились на тропе, по которой шли раньше. Таким образом, каждый день — чуть ли не каждый час — братьям приходилось удивляться какому-нибудь новому подвигу своего охотника-проводника и новому способу применения бамбука.
Но их ожидал еще один сюрприз. У Оссару был в запасе фокус, в котором бамбук играл большую роль. На следующий же день охотнику удалось его проделать, к великому восторгу не только своих спутников, но и целого туземного поселка, который немало выиграл от изобретательности Оссару.
Я уже упоминал, что в Индии есть немало мест, где население живет в постоянном страхе перед тиграми, а также перед дикими слонами, пантерами и носорогами. Эти люди не знают настоящего огнестрельного оружия. У некоторых, правда, имеются неуклюжие кремневые ружья, но они почти бесполезны на охоте; а луки, даже с отравленными стрелами, — плохое оружие при встрече с этими могучими зверями.
Иной раз тигр, избрав себе логово близ какого-нибудь селения, целые месяцы терроризирует его жителей, то и дело нападая на коров, буйволов и других домашних животных. Наконец, доведенные до отчаяния, туземцы устраивают облаву, отваживаясь на борьбу с четвероногим тираном. В этой борьбе некоторые погибают, а другие на всю жизнь остаются калеками.
Но бывает и еще хуже: нередко тигр, вместо того чтобы охотиться на скот, уносит кого-нибудь из жителей деревни, и, если его сейчас же не отгонят или не убьют, чудовище наверняка повторит нападение. Странно, но, к сожалению, верно, что тигр, отведав человеческого мяса, предпочитает его всякому другому и будет делать самые дерзкие попытки его добыть. Такие тигры не редкость в Индии, где туземцы называют их людоедами. Любопытно, что кафры и другие туземцы Южной Африки точно также называют львов, которые охотятся на людей.
Трудно представить себе более ужасное чудовище, чем лев или тигр с такими наклонностями; в Индии они наводят ужас на целые округи.
Местные охотники-шикари действуют сообща и либо берут тигра хитростью, либо рискуют жизнью в открытой борьбе. Оссару уже доказал свою хитрость и отвагу во многих сражениях с тиграми, ему известны были самые верные способы ловли этих зверей.
Теперь ему предстояло показать свое искусство, и его новый способ был не менее остроумен, чем поимка тигра на птичий клей.
Глава 15
СМЕРТЬ ЛЮДОЕДА
Тропа, по которой шли наши путники, привела их в туземное селение, расположенное в глубине леса. Жители селения встретили их восторженными криками. Об их прибытии стало известно заранее, и навстречу им вышла депутация жителей, приветствуя их радостными восклицаниями и жестами.
Карл и Каспар, не знавшие туземного языка, сперва не могли понять, в чем дело. Они спросили объяснения у Оссару.
— Людоед, — ответил тот.
— Людоед?
— Да, саиб, людоед из джунглей.
Этого объяснения было недостаточно. Что хотел сказать Оссару? Людоед из джунглей? Что это такое? Ни Карл, ни Каспар никогда не слыхали о людоедах в этих местах. Они стали расспрашивать Оссару.
Тот рассказал им, что такое людоед. Тигр, о котором шла речь, убил и утащил мужчину, женщину и двух детей, не считая множества домашних животных. Уже больше трех месяцев он наводит ужас на жителей поселка. Несколько семейств покинули это место только из страха перед зверем, а оставшиеся обычно запирались в домах с наступлением темноты и не смели выходить до утра. Но и этой предосторожности было недостаточно, ибо недавно свирепый хищник проломил хрупкую бамбуковую стену и унес ребенка на глазах у ошеломленных родителей.
Несколько раз злополучные жители поселка собирались вместе и отваживались нападать на своего страшного врага.
Они находили его в логове, но, так как они были неумелые охотники да к тому же плохо вооружены, тигр всякий раз уходил от них. В одной из таких схваток он убил охотника. Другие были тяжело ранены. Неудивительно, что туземцы не знали покоя.
Но почему же они так обрадовались, увидев путников?
Оссару с гордостью рассказал им, в чем дело, — у него, конечно, были основания гордиться.
Оказывается, слава шикари как великого охотника на тигров опередила его — имя Оссару было известно даже в Тераи. Туземцы услыхали, что он приближается в сопровождении двух феринги (так туземцы называют европейцев), и надеялись с помощью знаменитого шикари и саибов избавиться от ужасного разбойника.
Когда туземцы обратились к Оссару с такой просьбой, он тотчас же обещал им помочь. Ботаник не возражал, а Каспар был в восторге.
Предстояло провести в селении ночь — до наступления сумерек ничего нельзя было предпринять. Можно было бы устроить большую облаву, обыскать джунгли и напасть на тигра в его логове. Но что это дало бы? Быть может, только привело бы к гибели нескольких туземцев. Ни один из жителей селения не отважился бы на такую охоту, и не таким способом убивал Оссару тигров.
Карл и Каспар ожидали, что их спутник снова прибегнет к хитрости с листьями и птичьим клеем. Сперва он так и собирался поступить. Однако, расспросив местных жителей, он узнал, что сделать птичий клей невозможно. Они не умели его изготовлять, а поблизости не росло ни смоковниц, ни остролиста, ни других деревьев, из сока которых можно было бы сделать клей.
Как же поступит Оссару? Может быть, он откажется от своего намерения и покинет жителей поселка на произвол судьбы? Нет! Его охотничья гордость не позволяла ему этого. О нем шла слава как о великом шикари. Кроме того, ему было искренне жаль несчастных жителей поселка. К тому же Карл и Каспар заинтересовались охотой и просили его сделать все, что можно, обещая ему свое содействие.
Итак, было решено, что тигр будет убит, чего бы это ни стоило.
Оссару были известны другие способы охоты, кроме клея и облавы, и он тотчас же принялся выполнять свой план. У него было много помощников, так как жители поселка горячо взялись за дело и беспрекословно ему повиновались. Перед поселком находилась большая поляна. Она и была предназначена для этой цели.
Первым делом Оссару велел принести четыре больших деревянных столба и вкопать их в землю, отгородив четырехугольник шириной и длиной в восемь футов. Эти столбы, глубоко вкопанные, высотой в восемь футов, оканчивались наверху развилками. На развилки были положены горизонтально четыре прочных бруса, крепко привязанных сыромятными ремнями. Затем от столба к столбу были вырыты глубокие канавы, и в них вбиты толстые бамбуковые стволы. Землю на дне канавы утоптали, чтобы стволы крепче держались. Затем такие же стволы уложили горизонтально поперек стволов, поддерживаемых столбами. Их прочно привязали друг к другу и к брусьям остова, и сооружение было закончено. Оно напоминало огромную клетку с гладкими желтыми прутьями; не хватало только двери, но дверь не была нужна. Хотя это была «западня», но «птичку», для которой она предназначалась, нельзя было впускать внутрь.
Затем Оссару попросил у жителей поселка козу, у которой были козлята. Такая коза быстро нашлась. Ему понадобилась также шкура буйвола, вроде тех, которыми туземцы пользуются для переправы через реку.
Когда все было готово, уже начало темнеть, и поэтому нельзя было терять времени. С помощью жителей поселка Оссару напялил на себя шкуру буйвола; руки и ноги его заняли место ног животного, а голова с рогами была надета, как шлем, так что отверстия в шкуре приходились как раз против его глаз.
Переодевшись таким образом, Оссару вошел в бамбуковую клетку, захватив с собой козу. Один из прутьев был вынут, чтобы дать им пройти, и затем поставлен на место так же прочно, как остальные. После этого жители поселка вместе с Карлом и Каспаром разошлись по домам, оставив в клетке шикари и козу.
Всякий посторонний, проходя мимо, подумал бы, что в клетке сидят буйвол и коза. Присмотревшись, он заметил бы, что буйвол держит передним копытом копье, и это, конечно, его удивило бы. В остальном буйвол был как буйвол. Коза стояла рядом с ним.
Солнце село, и наступила ночь. Жители поселка погасили огни и, запершись в домах, затаив дыхание, напряженно ждали. Оссару тоже волновался — правда, ему не грозила опасность, но он беспокоился, придет ли людоед, так как жаждал показать свое охотничье искусство. Он очень надеялся на успех. Жители уверяли его, что свирепый хищник имеет обыкновение приходить к ним по ночам и целыми часами бродить вокруг поселка. Он не приходит несколько дней сряду, только когда поймает какое-нибудь домашнее животное и ему есть чем утолить голод; но так как за последнее время он никого не поймал, они ожидали его посещения в эту же ночь.
Оссару был уверен, что сумеет привлечь внимание тигра, если тот приблизится к поселку. Приманка была слишком соблазнительна. Разлученная со своими козлятами коза жалобно блеяла, а козлята отвечали ей из хижины в селении. Зная пристрастие тигра к козлятине, охотник не сомневался, что коза приманит его к клетке. Лишь бы он пришел!
Ждать пришлось недолго. Прошло каких-нибудь полчаса — и громкое рычание, донесшееся из леса, возвестило о приближении страшного хищника. Коза заметалась по клетке, издавая пронзительные крики.
Этого только и нужно было Оссару. Тигр услыхал козу и не нуждался в дальнейших приглашениях; через несколько мгновений он появился из чащи и направился к клетке. Он и не думал прятаться. Зверь чувствовал себя неограниченным властелином джунглей и ничего не боялся, вдобавок он был голоден. Коза, голос которой он слышал, дразнила его аппетит, и он решил тотчас же ее схватить. В несколько прыжков он очутился возле клетки.
Странное сооружение озадачило тигра — он остановился и стал его разглядывать. К счастью, светила луна, и тигр мог увидеть, что делается в клетке, а Оссару мог следить за всеми движениями хищника.
«Уж наверно, — подумал тигр, — загородку поставили эти глупые люди, чтобы коза и буйвол не убежали в лес, а может, и для того, чтобы уберечь их от моих когтей. Правда, она сделана как-то чудно. Посмотрим, крепкие ли у нее стенки».
Размышляя так, он подошел поближе, поднялся на задние лапы и, схватив огромной передней лапой один из бамбуковых стволов, начал его расшатывать. Крепкий, как железо, бамбук выдержал натиск тигра; тогда зверь быстро обежал вокруг загородки, дергая ее то там, то сям и разыскивая вход.
Входа, однако, не оказалось; убедившись в этом, тигр решил схватить козу и просунул лапу в клетку. Но коза с отчаянным криком отскочила к противоположной стенке. Тигр был бы не прочь задрать и буйвола, но тот благоразумно оставался посредине клетки и, казалось, ничуть не был испуган. Без сомнения, спокойствие буйвола несколько озадачило тигра, но, поглощенный ловлей козы, он позабыл об этом и продолжал бегать вокруг клетки, то яростно кидаясь на бамбуковую решетку, то просовывая лапу между стволами.
Вдруг буйвол кинулся прямо на тигра. Надеясь его схватить, зверь просунул лапу в клетку, но, к его удивлению, что-то острое резануло его по морде и стукнуло по зубам, так что искры посыпалось у него из глаз. Конечно, это сделал буйвол своим рогом. Разъяренный от боли, тигр позабыл о козе — он жаждал отомстить ранившему его врагу. Несколько раз он бешено бросался на бамбуковую решетку, но она устояла, несмотря на все его усилия. Тут он сообразил, что может проникнуть в загородку сверху, и одним прыжком очутился на решетке. Этого только и надо было буйволу: широкое белое брюхо было превосходной мишенью. Блеснув, как молния, страшный рог вонзился между ребрами тигра; брызнула алая кровь, раненный насмерть людоед дико взревел; несколько минут он бился в судорогах, потом затих и растянулся на решетке, неподвижный, мертвый.
Оссару свистком вызвал жителей поселка. Шикари и козу освободили. Тушу людоеда с громкими, ликующими криками потащили в деревню и до утра веселились, празднуя свое избавление. Оссару и его спутникам было предложено «почетное гражданство», и благодарные жители, как могли, оказывали им внимание и заботу.
Глава 16
ВСТРЕЧА КАРЛА С МЕДВЕДЕМ-ГУБАЧОМ
На другой день, рано утром, они снова пустились в путь и, миновав возделанные поля, опять вошли в девственные леса, покрывающие холмы и долины Тераи.
Путь был нелегкий: приходилось подниматься на холмы, спускаться в ложбины, идти по высокому берегу лесной речки, переправляться через нее вброд или по естественному мосту, образованному длинными, спутавшимися корнями фиговых деревьев.
Хотя путники поднимались все выше, их по-прежнему окружала тропическая растительность: лотосы, широколиственные арумы, бамбук, дикие бананы и пальмы; с деревьев свешивались прелестные цветы орхидей и спускались фестонами стебли ползучих растений; естественные шпалеры порой пересекали тропинку.
Ботанику выпал хлопотливый денек. Многие редкие виды уже дали семена, и он собрал такое количество, что груза хватило на всех троих. Они намеревались спрятать семена в надежном месте и оставить там до возвращения с гор.
Карл отметил в записной книжке, какие растения в это время цвели. Он надеялся, что на обратном пути сможет собрать их семена.
Около полудня путешественники остановились на отдых. Выбрали полянку в рощице пурпурных магнолий, которые были в полном цвету и разливали вокруг сладкий аромат. Хрустальный ручей с мелодичным журчанием бежал в высоких берегах, распространяя прохладу.
Путники развязали свои заплечные мешки и достали провизию; они собирались пообедать и отдохнуть часок-другой, как вдруг в кустах, по ту сторону ручья, послышался шорох.
Завзятые охотники, Каспар и Оссару тотчас же схватились за оружие и, перейдя ручей, пустились выслеживать животное, предполагая, что это олень. Карл остался один.
Он очень устал. Все утро он проработал, собирая семена и орехи, и совершенно выбился из сил. Карл даже подумывал о том, чтобы остаться здесь на ночь. Однако он не хотел сдаваться и решил принять лекарство, которое захватил с собой. Это был красный перец, маринованный в уксусе; один из друзей уверял Карла, что это прекрасное средство против усталости, куда лучше рома, бренди и даже любимой немцами вишневой настойки.
На стакан воды достаточно двух — трех капель этой настойки; если выпить такой раствор, усталость сразу проходит и силы восстанавливаются. Карл решил последовать совету своего друга и испробовать действие маринованного перца.
Взяв бутылку в одну руку, а стакан в другую, он спустился к ручью, чтобы набрать воды.
Ручеек струился в глубоком овражке; он был не шире двух ярдов и совсем мелкий. И Карл, спустившись по крутому склону, встал на сухие камешки. Не успел он нагнуться, чтобы наполнить стакан, как услышал выше по течению голоса Каспара и Оссару, по-видимому преследовавших какого-то зверя. Потом в лесу раздался выстрел; конечно, это стрелял Каспар, ибо вслед за выстрелом Карл услыхал голос брата.
Карл выпрямился. Ему пришло в голову, что надо помочь охотнику — перехватить животное, если оно побежит на него.
— Берегись! — долетел до него крик Каспара.
И в тот же миг он увидел, что прямо на него бежит большой зверь с мохнатой черной шерстью и белым пятном на груди. Сперва Карл принял его за медведя, но, заметив на спине какой-то странный горб, терялся в догадках, что это за зверь. Ему некогда было рассматривать зверя: тот был уже совсем близко. Не рискуя на него напасть, Карл решил отступить.
Первым его намерением было взобраться на откос. Он заметил, что зверь бежит по прямой линии, и единственный способ избежать встречи — это уйти с дороги. Он начал быстро карабкаться на откос. Но глинистый скат был влажный и скользкий, и, не добравшись до верха. Карл поскользнулся и мигом скатился вниз.
Он очутился носом к носу с медведем (это действительно был медведь); их разделяло не более шести футов. Разминуться в узком овраге было невозможно, и Карл знал, что, если он повернется и побежит, медведь быстро его догонит и задерет. Оружия у него не было — ничего, кроме бутылки с красным перцем. Что ему было делать?
Но размышлять было поздно. Медведь поднялся на задние лапы, страшно зарычал и бросился на него. Он уже хотел облапить Карла, когда тот размахнулся бутылкой и изо всех сил ударил медведя по голове.
Бутылка со звоном разлетелась на мелкие осколки, а настой красного перца облил медведя и потек у него по морде.
Зверь взревел от ужаса и бросился вверх по крутому откосу. Он оказался ловчее Карла и в одно мгновение очутился наверху; в следующий миг он скрылся бы в кустах, но тут подбежал Каспар и выстрелом сбил его на дно оврага.
Медведь упал мертвым к ногам Карла, и тот стал с любопытством его рассматривать. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что на спине у зверя был вовсе не горб, а два медвежонка. Теперь они скатились с мохнатого хребта и бегали вокруг трупа матери, взвизгивая, рыча и лая, как лисята. Но Фриц тут же кинулся вперед и после короткой, яростной борьбы покончил с ними.
Каспар рассказал, что в тот момент, когда они с Оссару увидели медведицу, медвежата играли на земле; но как только он выстрелил, не задев медведицу, она схватила в зубы своих детенышей, посадила их одного за другим себе на спину и убежала.
Зверь, убитый пулей Каспара, оказался длинногубым медведем, или медведем-губачом. Это название дано ему потому, что он, хватая еду, сильно вытягивает губы.
Эти неуклюжие, безобразные звери очень умны, легко поддаются дрессировке, поэтому их особенно ценят индийские фокусники.
Шерсть у медведя-губача длинная, косматая, черного цвета, и только на шее, над грудью, — белое пятно в виде буквы «У». Он почти не уступает размерами американскому черному медведю и похож на него своими повадками. Этот зверь нападает на человека, только когда его раздразнят или ранят, и, если бы Карл успел уйти с ее пути, медведица не погналась бы за ним, хотя выстрел Каспара и привел ее в ярость.
Без сомнения, не будь у Карла под рукой перца, медведь «задал бы ему перцу». Едкий уксус, попав медведице в глаза, ошеломил ее, и она пустилась наутек. Карл благодарил судьбу, что ему удалось так дешево отделаться — он потерял лишь бутылку с настойкой красного перца.
Глава 17
ОССАРУ ПОПАЛ В БЕДУ
Карл и Каспар стояли, рассматривая задушенных Фрицем медвежат, когда громкий крик привлек их внимание. По-видимому, это был крик Оссару. Шикари попал в беду, он громко вопил, и можно было разобрать, что он кричит:
— Помоги, саиб, помоги!
Что случилось с Оссару? Может быть, на него напал другой медведь? Может быть, пантера или тигр? Во всяком случае, требовалась их помощь, и Карл с Каспаром бросились в ту сторону, откуда доносились крики. Карл успел схватить ружье, а Каспар быстро зарядил свою двустволку.
В несколько секунд они добежали до Оссару и, к своей величайшей радости, убедились, что никакого зверя поблизости нет: ни медведя, ни пантеры, ни тигра. Но Оссару продолжал громко взывать о помощи, и юноши с удивлением увидели, что он пляшет на полянке, то наклоняя голову, то высоко подпрыгивая, и размахивает руками, словно отбирается от невидимого врага.
Что это значило? Уж не сошел ли Оссару с ума? Он проделывал такие уморительные прыжки и все движения его были так комичны, что можно было подумать, что это пляшет клоун. Если бы в голосе Оссару не звучал ужас, Карл и Каспар разразились бы смехом. Но они видели, что шикари находится в какой-то опасности, и им пришло в голову, что на него напала ядовитая змея и, быть может, даже укусила его. Может быть, она продолжает его кусать, забралась к нему под платье, поэтому ее и не видно.
При этой мысли им стало не до смеха. Если так, надо немедленно помочь бедняге, и, охваченные тревогой, юноши бросились к нему.
Подбежав, они сразу поняли в чем дело и наконец увидели врага, с которым сражался шикари. Вокруг головы Оссару витала какая-то туманная дымка, окружавшая его словно ореолом, и, присмотревшись, юноши обнаружили, что это пчелиный рой.
Все объяснилось. На Оссару напали пчелы — вот почему он так вопил и размахивал руками.
Карл и Каспар сдерживали смех, пока думали, что их друг находится в опасности; но увидев, что на него напали только пчелы, невольно разразились хохотом.
Оссару очень обидело, что спутники не сочувствуют его несчастью. Укусы пчел раздражали его, а смех юношей еще больше разозлил. Он решил их проучить и, ни слова не говоря, бросился к ним, увлекая с собой пчелиный рой.
Неожиданный маневр проводника сразу же прекратил их хохот, и тотчас братья стали выделывать такие же забавные прыжки. Пчелы, заметив новых врагов, мгновенно разделились на три роя, из которых каждый избрал себе жертву, так что теперь не только Оссару, но и Карл и Каспар кувыркались на поляне, как настоящие акробаты. Даже на Фрица напало несколько пчел, и он стал дико метаться, кусая себе лапы как сумасшедший.
Карл и Каспар убедились на опыте, что в положении Оссару не было ничего смешного. Лица у них были искусаны, и укусы оказались очень болезненными. Кроме того, врагов было чересчур много. Охотники начали испытывать не только боль, но и страх.
Как от них избавиться? Сколько они ни махали руками, никак не удавалось отогнать пчел. Куда бы они ни бежали, разъяренные насекомые следовали за ними, жужжа и яростно жаля.
Трудно сказать, чем бы кончилась эта сцена, если бы не Оссару. Хитрый индус придумал спасительное средство и, крикнув товарищам, чтобы они следовали за ним, бросился в лесную чащу.
Карл и Каспар устремились вслед за Оссару, спасаясь от своих преследователей.
Через несколько минут Оссару очутился на берегу ручья; в этом месте он был перегорожен обвалом и образовал глубокий прудик. Оссару мгновенно прыгнул в воду. Юноши, отшвырнув ружья, последовали его примеру, и все трое очутились по горло в воде. Они то и дело погружались с головой в воду, потом снова высовывались наружу. Наконец пчелы, видя, что жертвы от них ускользнули, улетели обратно в лес.
Когда враги отступили, охотники вылезли на берег, промокшие до нитки. Им хотелось посмеяться над своим приключением, но боль отбивала всякую охоту к смеху; вконец обескураженные, они направились к месту своей стоянки.
По дороге Оссару рассказал, чем было вызвано нападение пчел. Услышав выстрел Каспара и шум, который поднялился, когда Фриц схватился с медвежатами, он поспешил на помощь. Он бежал, не глядя перед собой, и ударился головой о большое пчелиное гнездо, висевшее на лиане. Гнездо было построено из глины и лишь слегка прикреплено к лиане. Оссару тряхнул его так сильно, что оно упало и раскололось; разъяренный рой сразу окружил шикари. Тут он закричал, и Карл и Каспар прибежали на помощь. Теперь им было стыдно, что они смеялись над Оссару. Вскоре Оссару раздобыл в лесу какой-то травы; они смазали укушенные места ее соком — боль быстро утихла, и настроение у всех улучшилось.
Глава 18
АКСИС И ПАНТЕРА
Материнская заботливость медведицы, спасавшей своих детенышей от опасности, тронула охотников за растениями, и теперь они начинали жалеть, что убили ее. Но дело было сделано, и раскаиваться было поздно. К тому же Оссару рассказал, что туземцы считают этих медведей вредными животными. Спускаясь из своих горных убежищ или выходя из джунглей во время уборки урожая, они причиняют больщой ущерб; нередко они забираются прямо в сад и за одну ночь его опустошают. После его рассказа совесть перестала мучить молодых охотников. Может быть, рассуждали они, если бы эти медвежата выросли, они вместе с матерью опустошили бы рисовое поле какого-нибудь бедного крестьянина или фермера, и его семья впала бы в нищету.
Но по дороге они долго говорили о замечательном материнском инстинкте медведицы. Карлу приходилось читать, что и другие животные проявляют такое же материнское чувство, например большой южноамериканский муравьед, опоссум и большинство пород обезьян. Братья сошлись во мнении, что это замечательное свойство животных доказывает, что даже самые дикие из них способны испытывать нежные чувства.
В тот же день им случилось наблюдать еще один пример материнской любви, но, к счастью, на этот раз обошлось без трагической развязки.
Охотники кончили свой дневной переход и расположились на опушке небольшой рощицы, в тени развесистого талаума — разновидность магнолии с очень крупными листьями. Переход был тяжелый, так как они подходили к подножию главной цепи Гималаев. И хотя им казалось, что спусков было столько же, сколько и подъемов, на самом деле они все время поднимались и к вечеру находились уже на высоте более пяти тысяч футов над равнинами Индии. Характер растительности изменился: они вступили в леса магнолий, опоясывающие подножие этих гор. В этой горной стране встречается больше всего разновидностей замечательного семейства магнолий; целые леса магнолий покрывают склоны нижних Гималаев. На высоте четырех — восьми тысяч футов магнолию с белыми цветами начинает вытеснять другая разновидность — с великолепными пурпурными цветами, — это самый красивый вид магнолии; нередко она одевает склоны холмов сплошным пурпурным ковром. Нашим путникам встречались также редкие виды каштанов, несколько видов дуба и лавра, но это были не маленькие кустики, а высокие деревья с прямыми, гладкими стволами, не уступающие по размерам дубу. В лесу попадались и клены, и древовидные рододендроны до сорока футов высотой.
Ботаника удивляло смешение европейских и тропических растительных форм. Береза, ива, ольха и орешник росли бок о бок с диким бананом, пальмой Валлиха и гигантским бамбуком, а крупные фиги различных сортов, меластомы, бальзамины, потосы, перечные кусты и гигантские ползучие лианы и орхидеи росли наряду с вероникой, ежевикой, незабудками и крапивой, столь обычными на европейском лугу. Древовидные папоротники высоко поднимались над обыкновенными папоротниками английских болот, и целые лужайки были усыпаны дикой земляникой. Правда, росшая здесь в изобилии желтая малина была одной из самых вкусных ягод в этих горах.
Наши путники только что растянулись под великолепной магнолией, чьи крупные, словно восковые цветы разливали в воздухе чудесный аромат; они хотели отдохнуть несколько минут, а затем заняться приготовлениями к ночлегу.
Occapy жевал бетель, а Карл и Каспар молча лежали, оцепенев от усталости. Фриц тоже лежал на траве, высунув язык и тяжело дыша после долгой беготни.
Вдруг Каспар схватил Карла за рукав и сказал торопливым шепотом:
— Смотри, Карл, смотри! Какая прелесть!
И он указал на животное, которое только что вышло из чащи и остановилось у самой опушки. Это животное весьма походило на лань и по своему общему облику и по размерам; стройные члены и изящество очертаний говорили о близком родстве с этим видом. Но оно сильно отличалось от лани своей окраской. Основной цвет шерсти был тот же, но она была усеяна белоснежными пятнами, придававшими ей очень нарядный вид. Животное несколько напоминало молоденького олененка. Карл сразу узнал эту породу.
— Пятнистый олень, — ответил он тоже шепотом. — Это аксис. Смирно, Фриц, дай нам на него полюбоваться.
И в самом деле это был аксис, хорошо известный вид индийского оленя, принадлежащий к азиатской породе оленей и родственный замбару. В Восточной Азии имеется несколько видов аксиса, более или менее пятнистых, но чаще всего они встречаются в той местности, где сейчас проходили путники, — в районе Ганга и Брамапутры.
Каспар схватил Фрица и крепко его держал, и охотники сидели, затаив дыхание, следя за движениями животного.
К их удивлению, из лесу вышел второй аксис, но совсем маленький, и они сразу догадались, что это детеныш.
Это был крохотный олененок, всего нескольких дней от роду, также пятнистый.
Не подозревая о присутствии путников, аксис стал спокойно пастись на лугу. Олененок еще не умел щипать траву — он играл и прыгал вокруг матери совсем как козленок.
Охотники стали шепотом совещаться между собой. Оссару хотелось раздобыть к ужину оленины, а олененок, конечно, представлял собой лакомый кусок. Каспар стоял за то, чтобы его убить, но мягкосердечный Карл запротестовал.
— Пожалейте его! — сказал он. — Посмотри, брат, какие они прелестные! Как мы жалели, когда убили медведицу, а об оленях еще не так пожалеем!
Пока они спорили шепотом, на сцене появился новый персонаж, заставивший охотников сразу позабыть о своих кровожадных намерениях.
Это был зверь величиной с аксиса, но совсем на него не похожий. Окраска его шерсти напоминала масть оленя, но была несколько темнее; он также был пятнистый, однако представлял поразительный контраст с оленем. Мы уже говорили, что пятна у аксиса были белоснежные, а у этого зверя они были черные, как смоль. Едва ли можно было их назвать пятнами. Хотя на расстоянии они казались сплошными, но, присмотревшись, можно было различить, что они имеют форму колец.
Зверь был низкорослый, с короткими, сильными лапами, длинным, суживающимся к концу хвостом и кошачьей головой. Это была пантера.
Охотники сразу же забыли об аксисе; они напряженно следили за огромной пятнистой кошкой — все трое узнали пантеру, после льва и тигра самого опасного из азиатских хищников кошачьей породы.
Им было известно, что индийская пантера нередко нападает на человека, и потому ее появление никого не обрадовало. Юноши крепче сжали ружья, а Оссару лук, готовясь выстрелить в пантеру, если она подойдет к ним поближе.
Однако пантера не собиралась нападать на путников. Она даже не подозревала об их присутствии. Все ее внимание было поглощено аксисом, мясом которого — или мясом олененка — она рассчитывала поужинать.
Пригнувшись к земле, она беззвучно приближалась к своей жертве, крадучись вдоль опушки зарослей. Еще две-три секунды, и она прыгнет, а между тем бедняжка аксис продолжал беспечно пастись. Пантера уже присела, готовясь к прыжку, и в следующий миг бросилась бы на оленя, но как раз в этот момент Каспар чихнул. У него не было намерения предупредить аксиса: все трое были так поглощены действиями пантеры, что им не могло это прийти в голову. Может быть, чиханье было вызвано запахом цветущих магнолий; во всяком случае, Каспар чихнул как нельзя более кстати.
Услыхав этот звук, мать подняла голову и осмотрелась по сторонам.
Взгляд ее упал на прижавшуюся к земле пантеру, и мигом она прыгнула к олененку, схватила удивленного малыша в зубы, кинулась, как стрела, через лужайку и скрылась в чаще джунглей.
Пантера не слыхала чиханья. Она прыгнула, но ей не удалось схватить оленя. Она бросилась вдогонку, сделала новый прыжок — опять неудача! Увидев, что добыча ускользает от нее, пантера, как это делают все хищники кошачьей породы, отказалась от дальнейшей погони. Повернув назад, она скрылась в чаще прежде, чем в нее успели выстрелить, и больше ее не видели.
Вернувшись на место привала, Карл заявил, что Каспар чихнул очень удачно. Каспар же уверял, что это была чистая случайность, что он очень сожалеет о случившемся, так как это помешало ему убить пантеру или добыть на ужин кусок оленины.
Глава 19
БИЧ ДЖУНГЛЕЙ
Много было написано и сказано в похвалу яркому солнцу и синему небу тропиков. Путешественники красочно описывают великолепные плоды, цветы и листву тропических лесов. Тот, кто никогда не бывал в этих краях, мечтает о них, как о земном рае. Ему кажется, что обитатели тропиков — счастливейшие люди в мире, и все представляется в розовом свете.
Но природа никогда не бывает слишком расточительной, распределяя свои блага между различными странами, и, если вдуматься, мы найдем, что эскимос, зябнущий в своей снежной хижине, пожалуй, не менее счастлив, чем смуглый южанин, покачивающийся в гамаке под сенью пальм и баньяна.
Растительность жаркого пояса роскошна, но там водится множество всяких насекомых и гадов, поэтому жители жаркой страны нередко испытывают еще больше неприятностей и страданий, чем обитатели полярных областей.
Легче переносить недостаток растительной пищи и жестокий холод, чем укусы насекомых и пресмыкающихся, которые так и кишат между тропиками Рака и Козерога.
В тропической зоне Америки существуют целые области, где человеку невозможно жить из-за обилия москитов, комаров, муравьев и прочих насекомых.
Вот что пишет один крупный немецкий географ:
«Люди, которым не случалось плавать по рекам экваториальной Америки, не могут себе представить, какие мучения приходится там терпеть день и ночь от москитов, санкудо, хехенов и темпранеро; они облепляют вам лицо и руки, прокалывают одежду своими длинными, иглообразными хоботками, забираются в рот и в нос, вызывая кашель и чиханье, как только вы попытаетесь говорить на открытом воздухе.
Когда в воздухе кишат ядовитые насекомые, всегда кажется жарче, чем на самом деле. Нас страшно мучили днем москиты и хехены (маленькие ядовитые мошки), а ночью санкудо, крупные комары, которых боятся даже туземцы.
В различные часы дня на вас нападают различные виды. Но когда одни из них улетают, другие не сразу прилетают им на смену, и у вас есть несколько минут отдыха — иногда до четверти часа. С половины седьмого утра до пяти часов пополудни воздух полон москитов. За час до захода солнца москитов сменяют мелкие комарики, называемые темпранеро; они появляются и на восходе солнца. Их нападение продолжается полтора часа, и между шестью и семью часами вечера они исчезают. После краткой передышки вы чувствуете, что на вас напали санкудо — другой вид комара, с очень длинными ножками. Уколы санкудо, хоботок которого снабжен остроконечными присосками, особенно болезненны, и после них опухоль держится несколько недель.
Спасаясь от этих крохотных мучителей, туземцы прибегают к самым странным мерам. В Майпуре индейцы на ночь уходят из селения и спят на островках среди речных порогов. Там они наслаждаются отдыхом, так как водяные пары имеют свойство отгонять москитов.
Возле устья Рио-Унаре несчастные туземцы зарываются в песок, оставляя снаружи только голову, накрытую платком, и так проводят ночь.»
Невероятные мучения пришлось претерпеть нашим охотникам за растениями, когда они шли по сырым лесам нижних Гималаев. Ночью и днем в воздухе тучами носились крупные и мелкие мотыльки, светляки, крылатые муравьи, майские мухи, уховертки, жуки и долгоножки. Каждый миг их кусали муравьи или москиты или же нападали крупные отвратительные клещи, какие кишат в бамбуковых зарослях. Пробираясь в лесу, совершенно невозможно их избежать. Они забираются под одежду, иногда сразу по нескольку штук, незаметно, без всякой боли прокусывают кожу и вонзают глубоко в тело зазубренный хоботок. Такого клеща можно извлечь лишь с большим трудом, и это чрезвычайно болезненная операция.
Но самое ужасное мучение им пришлось испытать на другой день после приключения с медведем и пчелами. Они прошли с утра много миль и, когда жара стала нестерпимой, решили отдохнуть немного, пока не спадет зной. Сложив на землю багаж, все трое растянулись на траве возле маленького ручейка, в тени раскидистого дерева.
Они сильно устали, от зноя клонило ко сну, и вскоре все трое уснули.
Каспар проснулся первым. Сон его был беспокоен. Москиты или какие-то другие насекомые все время кусали его и не давали крепко уснуть. Наконец он очнулся и сел. Товарищи еще спали. Глаза Каспара случайно остановились на Оссару, тело которого было больше чем наполовину обнажено: ситцевый балахон распахнулся, и виднелась грудь, а ноги были голые, ибо шикари, шагая по мокрой траве, закатал штаны. Каково же было изумление Каспара, когда он увидел, что торс и ноги Оссару усеяны черными и красными пятнами, причем последние явно были пятнами крови! Каспар заметил, что некоторые из черных пятен шевелились, то удлиняясь, то сокращаясь; присмотревшись к ним внимательнее, он понял, что это такое. Это были пиявки. Оссару был покрыт пиявками.
Каспар вскрикнул так громко, что сразу разбудил своих спутников.
Оссару был крайне раздосадован, но Карлу с Каспаром было некогда ему сочувствовать, ибо, осмотревшись, они увидели, что сами с ног до головы покрыты ползучими кровопийцами.
Трудно описать сцену, которая последовала за этим открытием. Все трое сбросили с себя одежду и принялись вытаскивать пиявок пальцами — это единственный способ от них избавиться; добрых полчаса они вынимали одну за другой. Покончив с этим, быстро оделись и пустились в путь, стремясь поскорее уйти из этого опасного района.
Сухопутные пиявки — самый ужасный бич экваториального пояса Азии. Они прямо кишат в сырых лесах по склонам Гималаев, причем встречаются даже на высоте десяти тысяч футов.
Встречаются они также в горных лесах на Цейлоне, Суматре и в некоторых частях Индии. В Гималаях на незначительной высоте попадаются крупные желтые особи, выше трех тысяч футов — мелкие черные особи. Эти пиявки не только отвратительны, но и опасны. Нередко они заползают людям в нос, горло, попадают в желудок, вызывая ужасные боли и даже смерть. Скот также подвергается нападению, и в результате погибают сотни голов.
Уберечься от них, путешествуя в этих лесах, почти невозможно. Если путник сядет хоть на минуту, пиявки незаметно наползают на него. Они двигаются с поразительной быстротой и обладают способностью очень сильно растягиваться и сокращаться. Растянувшись, они становятся похожи на нитку, но тотчас же могут сжаться в горошину. Это позволяет им быстро передвигаться с места на место и проникать в самые маленькие отверстия. Говорят, у них очень острое обоняние, и они сразу чуют человека, как только oн сядет. Они сползаются со всех сторон, и через несколько минут их оказывается на человеке чуть ли не сотня.
Особенно много их в сырых, тенистых лесах; они покрывают листья, увлажненные росой. Во время дождя они так и кишат на тропинках; в сухую же погоду они прячутся в руслах ручьев и в темной чаще.
Эти жадные проворные маленькие хищники буквально изводят путешественников: забираются в волосы, виснут на ресницах, ползают по ногам, по спине, присасываются к подошвам ног. Если их не сорвать, они сосут кровь, пока не отвалятся. Нередко, окончив дневной переход, путешественник обнаруживает, что сапоги у него полны этих гнусных тварей. Причиненные ими раны вначале не болят, но потом образуются язвы, не заживающие по месяцам; шрамы остаются на несколько лет.
Известно немало средств против них. Натирают тело табачным соком или посыпают одежду табачной пылью, но если приходится идти сквозь сырые леса и высокую влажную траву, то табачный сок быстро смывается, и так надоедает им натираться, что большинство путешественников предпочитают носить сапоги с высокими голенищами.
Глава 20
МУСКУСНАЯ КАБАРГА
Еще несколько дней пути — и наши путники вышли из леса. Они снова увидели уходящие в облака снежные вершины центрального хребта. Я говорю — снова, ибо они уже видели эти вершины, находясь более чем в сотне миль от них на равнинах Индии, но, когда они приблизились к ним и проходили через предгорья, снеговых гор не было видно.
Это явление может показаться странным, но легко объяснимо. Стоя перед домом, вы не увидите шпиля церкви, находящейся позади него, а если отойдете подальше, сразу заметите высокий шпиль.
Так происходит и с горами. Самые высокие их вершины видны издали, но, когда вы подойдете поближе, более низкие цепи или предгорья заслоняют гигантов, и, лишь миновав их или поднявшись над ними, можно снова увидеть снеговые горы.
Наши путники теперь любовались снежными вершинами Гималаев; некоторые из них поднимаются на высоту пяти миль над уровнем моря, а две-три — даже выше.
Охотники за растениями не собирались подниматься на вершину этих гигантских гор. Им было известно, что на такой высоте человек едва ли может жить. Однако Карл решил подняться до такой высоты, на какую поднимаются растения, ибо рассчитывал найти некоторые редкие виды у самой снеговой линии. Действительно, в зоне, которую можно назвать «полярной зоной Гималаев», растет несколько видов прекрасных рододендронов, можжевельников и сосен.
Итак, путники продвигались вперед, с каждым днем поднимаясь все выше и проникая все дальше в глубь Гималаев.
Несколько дней путники пробирались по диким, пустынным, совершенно необитаемым долинам; однако у них не было недостатка в еде, так как в долинах встречалось множество животных различных пород, и опытным охотникам ничего не стоило раздобыть дичи. Они встретили талина — разновидность дикой козы, самец которой весит до трехсот фунтов. Они застрелили также двух диких овец, называемых «беррелл», и горала — эту серну «индийских Альп».
Следует отметить, что в широко раскинувшихся Гималайских горах, так же как в высокогорных степях Азии, обитает немало видов диких овец и коз, а также оленей, серн и антилоп, еще не описанных натуралистами. То немногое, что о них известно, почерпнуто из записей предприимчивых охотников-англичан. Можно насчитать около двенадцати азиатских видов диких овец и столько же видов диких коз. Когда Азия будет тщательно исследована учеными, к списку жвачных прибавится немало новых названий. Почти в каждой обширной долине или на горном хребте обитает особая порода овец или коз. Одни живут в густых лесах, другие — в редких. Одни предпочитают травянистые склоны, другие — голые скалистые обрывы. Есть и такие, которые живут на границе растительности, проводя большую часть жизни в области вечных снегов. К ним относятся знаменитый каменный козел и крупный дикий баран — архар.
Но особенно интересовало путников небольшое создание, называемое мускусной кабаргой. Это животное имеет свойство выделять ароматичное вещество — мускус, поэтому на него усиленно охотятся. Оно обитает в Гималаях начиная с высоты восьми тысяч футов до границы вечных снегов. И местные охотники живут исключительно охотой на кабаргу; добывая мускус, они отвозят его на равнину и продают купцам. Мускусная кабарга вдвое меньше нашего красного оленя; она буровато-серой масти, пятнистая, причем задняя половина тела темнее передней. Голова маленькая, уши длинные и торчащие, рогов нет.
Самцы обладают одной особенностью, благодаря которой их легко отличить от других представителей оленьей породы: из верхней челюсти у них торчат книзу клыки дюйма в три длиной и толщиной в гусиное перо. Они придают животному весьма своеобразный вид. Мускус выделяют только самцы; его находят в виде шариков или зернышек в мешочке или сумке, расположенной около пупка; трудно сказать, что это за вещество и для чего оно служит животному. Оно оказалось роковым для кабарги: не будь мускуса, охотники мало интересовались бы этим безвредным животным, но выделяемое им ценное вещество создало ему много врагов, которые упорно его истребляют.
Охотники за растениями несколько раз видели мускусную кабаргу, пробираясь в горах, но, так как она чрезвычайно пуглива и очень быстро бегает, им до сих пор не удавалось подойти к ней на расстояние выстрела. Им хотелось добыть хоть одну кабаргу, и трудность задачи только подстрекала их.
Однажды, пробираясь по дикому ущелью, среди чахлых можжевельников и рододендронов, они спугнули крупную мускусную кабаргу. Им показалось, что она бежит не слишком быстро, и охотники решили ее преследовать. Они пустили по следу Фрица, и сами побежали за ней так быстро, как только позволяла неровная местность.
Вскоре лай собаки показал им, что кабарга покинула ущелье и свернула в боковую долину.
Пройдя некоторое расстояние, они увидели, что долина заполнена ледником. Это их не удивило, так как они уже встречали ледники в горных долинах.
Охотники поднялись наверх по крутой тропинке и на свежевыпавшем снегу увидали четко отпечатавшиеся следы кабарги.
Фриц остановился у края ледника, словно ожидая дальнейших распоряжений, но охотники недолго думая пошли по следам.
Глава 21
ЛЕДНИК
С великим трудом охотники прошли больше мили вверх по склону ледника, по обеим сторонам которого поднимались отвесные утесы.
Следы кабарги доказывали, что она бежит где-то впереди. Да ей и некуда было свернуть — ведь она не могла подняться на вертикальную каменную стену.
По мере того как охотники продвигались вперед, утесы все сближались и впереди, в нескольких стах ярдов, казалось, смыкались, образуя острый треугольник; как видно, ущелье там оканчивалось, и в этом направлении выхода из него не было.
Это и было как раз на руку охотникам. Если ущелье окончится тупиком, они загонят туда кабаргу и смогут ее подстрелить.
Чтобы обеспечить себе успех, они разделились и пошли по одной линии по направлению к острому углу, образованному каменными стенами.
В том месте, где они разделились, ущелье имело в ширину ярдов четыреста, и они находились на расстоянии более ста ярдов друг от друга.
Охотники старались идти вперед по прямой линии, но на поверхности льда то и дело попадались трещины или огромные глыбы, которые нужно было обходить. Мало-помалу расстояние между охотниками уменьшалось, так как долина суживалась; наконец они оказались всего в каких-нибудь пятидесяти ярдах друг от друга. Теперь, если бы животное вздумало проскочить между ними, они наверняка бы его подстрелили. Надежда на успех придавала им рвения.
Внезапно все их надежды рухнули. Охотники остановились, с удрученным видом глядя друг на друга. Перед ними во льду зияла огромная трещина, шириной в пять ярдов, пересекавшая все ущелье.
С первого же взгляда они убедились, что им не перейти через трещину — охота кончилась. Дальше не было пути. Это было всем ясно.
Ледник заполнял все ущелье — от утеса до утеса. Между льдом и скалистой стеной не было ни промежутка, ни тропинки. Стена поднималась вертикально футов на пятьсот и опускалась вниз, вероятно, на такую же глубину.
Когда они заглянули в эту страшную бездну, у них закружилась голова; из осторожности они приблизились ползком к краю трещины.
Нечего было и думать через нее перейти. Но как же перешла ее кабарга? Неужели она перепрыгнула эту страшную расселину?
Да, она ее перескочила. Следы на снегу вели к самому краю, и на уступе было видно место, с которого она прыгнула. А на другой стороне примятый снег показывал, где она опустилась, перепрыгнув пространство футов в шестнадцать-восемнадцать. Это ничего не стоило мускусной кабарге, которая на ровном месте может прыгнуть вдвое дальше; известно, что вниз по склону она может сделать прыжок на расстояние шестидесяти футов.
— Довольно! — сказал Карл, простояв несколько минут перед расселиной. — Ничего не поделаешь, приходится возвращаться назад. Что ты скажешь, Оссару?
— Вы сказать верно, саиб, нам не помочь — не перейти… Слишком много прыгать, нет моста, нет бамбука сделать мост, нет дерева здесь!
И Оссару уныло покачал головой. Он был раздосадован — особенно потому, что кабарга была очень крупной и могла дать унции две мускуса, а на калькуттском рынке платили по гинее за унцию.
Индус снова поглядел на расселину, затем отвернулся, и у него вырвалось восклицание досады.
— Ну что ж, пойдем назад… — сказал Карл.
— Постой, брат, — прервал его Каспар, — мне пришла в голову одна мысль. Не подождать ли нам здесь немного? Кабарга не может далеко уйти. Наверняка она где-нибудь в самом конце ущелья, но там она долго не задержится. Ведь там ничего нет, кроме снега и льда, — чем она будет питаться? Если где-нибудь повыше нет выхода, она непременно вернется тем же путем. Так вот: я предлагаю устроить засаду; мы подстрелим ее, как только она появится. Что ты на это скажешь?
— Что ж, давай попытаемся, Каспар, — ответил Карл. — Но лучше разойдемся и спрячемся за утесами, иначе она увидит нас и повернет назад. Больше часа не станем ждать.
— Да ей наскучит так долго стоять на одном месте, — сказал Каспар, — и она еще раньше оттуда выйдет. Впрочем, посмотрим.
Охотники разошлись в разные стороны, чтобы спрятаться за утесом или снежным бугром. Каспар взял влево и дошел до края ледника; он скрылся среди скал, поднимавшихся над снегами. Вдруг он закричал:
— Ура! Идите сюда! Мост! Мост!
Карл и Оссару вышли из засады и поспешили к нему.
Пробравшись между обломками скал, они с радостью увидели, что огромная глыба гнейса лежала поперек трещины совсем как мост, воздвигнутый человеческими руками. Но такого моста не смогли бы построить даже гиганты, так как глыба была добрых десяти ярдов в длину и почти такой же ширины.
По всей вероятности, глыба оторвалась от каменной стены и упала на ледник, когда еще не было этой огромной трещины. Ее концы лишь на каких-нибудь два фута выдавались над краем расселины, и, казалось, глыба каким-то чудом держится на хрупком ледяном настиле; однако она пролежала здесь годы — может быть, сотни лет. Казалось, достаточно одного прикосновения, чтобы она рухнула в зияющую бездну.
Будь Карл возле брата, он удержал бы его от переправы по такому опасному мосту, но он не успел подойти, как Каспар уже ступил на глыбу и быстро пробежал по ней.
Через несколько мгновений он оказался по ту сторону пропасти и, махая шапкой, кричал товарищам, чтобы они последовали за ним.
Они тоже перебежали по каменному мосту; затем снова разошлись и стали продвигаться вверх по ущелью, которое все суживалось и словно упиралось в отвесную стену.
Конечно, кабарга теперь не ускользнет от них!
— Как жаль, — заметил Каспар, — что мы не можем сбросить этот огромный камень в пропасть, чтобы кабарга снова не перескочила через трещину, — тогда мы заперли бы ее в ущелье.
— Ты прав, Каспар! — сказал Карл. — Но что сталось бы в таком случае с нами? Боюсь, что и мы оказались бы запертыми.
— Правда, брат, я не подумал об этом. Какой бы это был ужас — оказаться в каменной тюрьме! Что может быть страшнее?..
Не успел Каспар это сказать, как раздался оглушительный грохот, похожий на удар грома; по горам разнеслись гулкие раскаты, и все кругом загрохотало; казалось, огромные горы треснули и ломались на куски.
Адский шум прокатился по ущелью; орлы, сидевшие на утесах, с криком взвились кверху; дикие звери завыли в своих норах, и долина, до сих пор такая безмолвная, наполнилась грохотом, треском и гулом, — можно было подумать, что наступил конец света.
Глава 22
ЛЕДНИК ПОПОЛЗ!
— Лавина!.. — крикнул Карл Линден, заслышав грохот, но, обернувшись, увидел, что ошибся. — Нет, — прибавил он, с ужасом озираясь по сторонам, — это не лавина! Боже мой! Боже мой! Ледник двигается!
Ему не нужно было указывать товарищам! Взгляд Каспара и Оссару уже был прикован к леднику. Насколько хватал глаз, поверхность ледника двигалась, напоминая бурное море: горы льда вздымались и перекатывались с оглушительным грохотом; огромные синеватые глыбы высоко поднимались над уровнем льда и с треском разбивались об утесы. Густое белое облако снега и ледяных осколков наполнило ущелье, и под этим зловещим покровом некоторое время еще продолжались стук и скрежет.
Потом страшные звуки внезапно прекратились, и воцарившуюся тишину нарушали только крики птиц и вой зверей.
Бледные, дрожащие от страха охотники упали на четвереньки, ожидая, что вот-вот ледник под ними задвигается и их поглотит бездна или раздавят волны ледяного моря. И даже когда треск и грохот затихли, они оставались на месте, парализованные ужасом; вскоре они убедились, что под ними ледник не двигается. Но каждый миг они могли ожидать, что он начнет скользить вниз и похоронит их в глубокой расселине или раздавит глыбами льда.
Ужасная мысль! Прошло несколько минут, а они все еще оставались в неподвижности: боялись пошевельнуться, чтобы не потревожить ледяную массу, на которой стояли на коленях.
Но вскоре к ним вернулась способность рассуждать. Они сообразили, что нет смысла оставаться на месте. Ведь они все еще находились в опасности. Не лучше ли отсюда уйти? Но куда? Может быть, двинуться вверх по ущелью? В верхней его части лед оставался неподвижным. Разрушение происходило ниже трещины, которую они недавно перешли.
Может быть, искать спасения на скалах? Уж они-то, во всяком случае, не сдвинутся с места, даже если верхняя часть ледника также придет в движение. Но можно ли на них взобраться?
Охотники взглянули на ближайший утес. Он был отвесный, но, приглядевшись, они обнаружили на нем выступ — правда, очень узкий, но все же там уместятся, пожалуй, все трое, а главное, до него легко добраться, он вполне подходит.
Как люди, спасающиеся от сильного ливня или от грозящей опасности, все трое устремились к скале и через несколько минут вскарабкались на уступ. Стоять было тесно. Для четвертого не хватило бы места. Приходилось прижиматься друг к другу.
Но как ни узка была эта площадка, она все же была убежищем — ведь они стояли на твердом граните. Все трое вздохнули с облегчением.
Однако опасность еще не миновала, и у них были основания тревожиться за свою участь. Что, если придет в движение и верхняя часть ледника? Ведь лед может внезапно осесть, и они окажутся на головокружительной высоте над черной пропастью.
Даже если ледник в этом месте останется неподвижным, им было чего опасаться.
Карл знал, что случилось: это был ледниковый оползень — явление, которое редко кому удается наблюдать. Он подозревал, что оползень произошел на участке ледника ниже трещины. Если так, то трещина расширилась, огромная глыба гнейса рухнула в пропасть, и обратный путь отрезан.
Наверху ничего не было видно, кроме крутых, нависающих над головой утесов. Человек на них никак не сможет взобраться. Если в этом направлении нет выхода, шутливое пожелание Каспара может исполниться: они окажутся запертыми в этих гранитных стенах, где вместо постели — лед, а вместо крыши — небо. При этой мысли они холодели от ужаса.
До сих пор охотники еще не знали, действительно ли отрезан обратный путь. Выступ утеса закрывал от них ущелье. Инстинкт самосохранения заставил их опрометью броситься к скале. В этот момент никто не вспомнил о трещине и не оглянулся на глыбу. Но теперь они с замиранием сердца думали: не обрушится ли каменный мост?..
Часы шли за часами, а они все еще не решались спуститься на ледник. Стемнело, а они продолжали стоять на своей узкой площадке. Их мучил голод, но какой смысл был спускаться на ледник, ведь все равно там не достать никакой еды.
Всю ночь простояли они на узком карнизе то на одной ногe, то на другой, то упираясь спиной в каменную стену; до утра не сомкнули глаз. Все еще не хватало решимости ступить на лед, который казался таким ненадежным.
Но больше терпеть не было сил. С первыми лучами солнца они решили спуститься.
Всю ночь лед оставался неподвижным. Шума больше не было слышно. Мало-помалу охотники осмелели, и, как только рассвело, они спустились с выступа и снова ступили на лед.
Сначала они держались ближе к утесам, но через некотоpoe время осмелились пройти немного подальше, чтобы посмотреть, что делается в нижней части ущелья.
Каспар взобрался на скалу, поднимавшуюся над ледником. С ее верхушки было видно на большое расстояние. Трещина стала шире на много ярдов. Каменный мост исчез!..
Глава 23
ПРОХОД
Причины движения ледников еще не вполне установлены. Ученые предполагают, что нижняя поверхность этих огромных ледяных масс отделяется от почвы в результате таяния, постоянно происходящего благодаря теплу, излучаемому землей. Вода также вызывает их отделение, так как под ледниками текут потоки и даже большие реки. Лежащие на наклонной плоскости массы, отделившись от своей опоры, увлекаются вниз собственной тяжестью.
Иной раз приходит в движение лишь небольшой участок нижней части ледника; тогда над сдвинувшимся участком образуется трещина, которая может закрыться, если вышележащий участок, в свою очередь, сдвинется. Сильное таяние льдов во время исключительно жаркого лета также может вызвать движение ледника; порой ему дает толчок лавина или сильные оползни почвенных слоев.
Разумеется, тяжесть трех наших охотников была незначительна в сравнении с весом ледяных масс, и она не могла бы вызвать движения ледника; но возможно, что каменная глыба, по которой они переходили, находилась в неустойчивом равновесии. Лед вокруг нее подтаял, и она еле держалась; как перышко может опустить чашу весов, так и их переход мог нарушить равновесие глыбы и вызвать обвал.
Эта огромная глыба, вклинившаяся в глубокую трещину, могла, в свою очередь, привести в движение участок ледника, находящийся в неустойчивом равновесии, и вызвать катастрофу.
Но наши путники не собирались выяснять причины этого страшного явления. Они оказались в таком бедственном положении, что им было не до размышлений. Один за другим взобрались они на скалу и воочию убедились, что трещина расширилась, каменный мост исчез — обратный путь отрезан!
Через некоторое время они отважились приблизиться к ужасной пропасти. Они добрались до самого ее края и заглянули в глубь трещины. Она была шириной в несколько десятков ярдов, а глубина ее достигала, вероятно, нескольких сот футов. Не было никакой возможности перекинуть через нее мост. Итак, нельзя было надеяться вернуться назад, спускаясь по леднику. Потрясенные, они отошли от пропасти и начали подниматься по ущелью.
Они шли неуверенными шагами; почти не разговаривали, лишь изредка вполголоса перебрасываясь фразами; по дороге напряженно разглядывали скалы, обступившие ущелье.
Справа и слева возвышались черные утесы, хмурые и неприветливые, как тюремные стены. Ни выступа, ни площадки, ни ложбины, по которой можно было бы перебраться в соседнюю долину. На отвесных и гладких утесах не было опоры для человеческой ноги; на них могли взлетать только орлы и другие птицы, которые с криком носились над ущельем.
Но все же охотники не теряли надежды. Так уж устроен человек: он не поддается отчаянию, пока не убедится, что положение совершенно безнадежно. Они еще могли предполагать, что из ущелья имеется какой-нибудь выход, и продолжали идти вперед.
Вскоре они заметили на снегу следы мускусной кабарги. Но следы были не свежие — вчерашние.
У них появилась надежда, и они с радостью двинулись по этим следам. Но это не была радость охотника, который предвкушает добычу. Ничуть не бывало! Хотя их мучил голод, они боялись нагнать кабаргу, боялись обнаружить свежие следы.
Это вас удивляет, а между тем это легко объяснить. Они рассудили, что, если наверху имеется выход, кабарга наверняка ушла туда из ущелья. Если же нет, животное можно настигнуть где-нибудь в верхнем его конце. Встреча с кабаргой была бы для них самым неприятным сюрпризом.
Казалось, их надежды были близки к осуществлению. На леднике не видно было свежих следов. Следы кабарги тянулись вверх по леднику. Видно было, что животное даже не останавливалось, не отклонялось в сторону. Оно бежало по прямой линии, словно направляясь к какому-то знакомому убежищу. Правда, по временам ему приходилось огибать трещины во льду или глыбы, загораживающие ему путь.
Охотники шли по следу с замиранием сердца, внимательно оглядывая утесы и снег.
Наконец они дошли почти до конца ущелья — оставалось лишь каких-нибудь сто шагов до замыкающей его каменной стены, а выхода все еще не было видно. Со всех сторон их обступили высокие отвесные скалы. Ни расселины, ни тропинки…
Куда же могла уйти кабарга?
Перед ними лежало лишь несколько крупных камней. Не спряталась ли она за ними? Если так, они вскоре ее найдут, ибо находятся в нескольких шагах от камней.
Охотники осторожно подошли с ружьями наготове. Хоть они и боялись увидеть кабаргу, но, если бы она оказалась там, ее конечно бы подстрелили — ведь необходимо было утолить голод.
Каспара послали на разведку, а Карл и шикари остались на месте, чтобы перехватить кабаргу, если она вздумает повернуть назад.
Каспар беззвучно подползал к каменным глыбам. Приблизившись к самой крупной, он приподнялся и заглянул через нее.
За глыбой не было ни кабарги, ни следов на снегу.
Он осмотрел одну за другой все глыбы. Теперь он стоял на самом верху ледника, откуда можно было охватить взглядом все ущелье.
Кабарги не было и в помине, но открывшееся перед ним зрелище обрадовало Каспара куда больше, чем встреча с целым стадом оленей, и у него вырвался восторженный крик.
Он выскочил из-за камней и закричал, направляясь к Карлу:
— Сюда, брат! Мы спасены! Здесь есть проход! Есть проход!
Глава 24
ДОЛИНА, ЗАТЕРЯННАЯ В ГОРАХ
Действительно, между утесами открывался проход, похожий на большие ворота. Охотники не заметили его раньше, потому что ущелье поворачивало немного вправо, и казалось, будто каменные стены смыкаются.
Пройдя ярдов сто, они вошли в тесный проход между скалами, и перед ними открылся чарующий, восхитительный вид.
Трудно представить себе более причудливое зрелище. Прямо перед ними, несколько ниже уровня ледника, простиралась долина. Она была почти круглая, больше мили в поперечнике. Посередине было озеро диаметром в несколько сот ярдов. Дно долины было плоское — лишь немного выше уровня воды. Кругом расстилались изумрудные луга, были живописно разбросаны группы кустов и рощицы; листья деревьев отличались удивительным богатством оттенков. На лугах и в кустарниках бродили стада оленей и газелей, а в голубой воде озера плескались водяные птицы.
Уединенная долина была так похожа на парк, что глаз невольно искал человеческое жилье.
Казалось, вот-вот они увидят над деревьями вьющийся дымок, трубы и башни какого-нибудь замка или дворца, гармонирующего с красотой ландшафта.
Правда, они вскоре обнаружили дымок, но на поверку оказалось, что это белый пар, клубившийся на краю долины. Это удивило и озадачило путников. Они не могли понять, в чем дело, но ясно было, что это не дым от очага.
Долину такой же формы и размеров, с озером, лугами, деревьями, пасущимися стадами и стаями птиц, можно было бы встретить в другом месте земного шара. Не эти ее особенности заставили нас назвать пейзаж одним из самых причудливых в мире.
Дело в том, что долину со всех сторон опоясывала гигантская ограда. Это был ряд утесов, которые круто поднимались с ровного дна долины. Иначе говоря, долина была окружена неприступной стеной. На расстоянии стена казалась высотой всего в несколько ярдов, но это был обман зрения.
Над темной оградой скал поднимались голые каменистые склоны гор, над которыми высились снежные вершины самых причудливых форм: то острые, как шпиль, то закругленные, как купола, то конусообразные, как пирамиды.
Казалось, в эту странную долину можно проникнуть лишь через проход, в котором сейчас стояли путники. Они находились несколько выше уровня долины, но туда легко можно было спуститься по пологому скату, усеянному обломками скал.
Несколько минут охотники стояли в проходе, глядя на эту удивительную картину; они были охвачены восторгом, к которому примешивалось удивление и страх. Солнце только что поднялось над горами, и косые лучи, дробясь в мельчайших кристалликах снега, переливались всеми цветами радуги. Снег нежно розовел, а местами отливал золотом. В голубом диске озера отражались белые пики гор, черный пояс утесов и зеленые кроны деревьев, обступивших берега.
Карл Линден мог бы часами смотреть на эту сказочную сцену. Ее прелестью был очарован и Каспар, хотя и менее чувствительный к красотам природы. И даже Оссару, уроженец индийских равнин, осененных пальмами и бамбуковыми рощами, признался, что еще не видел места красивее. Всем были известны поверья местных жителей относительно Гималайских гор. Туземцы убеждены, что в одиноких долинах, затерянных среди неприступных вершин, обитают их боги. В этот момент путники были готовы поверить этой легенде.
Но вскоре поэтическая иллюзия рассеялась. Голод давал себя знать, и приходилось подумать о том, как бы поскорее его утолить.
Итак, они вышли из прохода и стали спускаться долину.
Глава 25
ХРЮКАЮЩИЕ БЫКИ
В долине на лугу паслось немало животных различных пород, но охотники были так голодны, что решили подстрелить первых попавшихся. Ближайшее к ним стадо состояло из особей разных размеров: одни величиной с крупного быка, другие — не больше ньюфаундлендской собаки. Их было около десяти, по-видимому, одной породы.
Ни один из охотников не мог сказать, какие это животные. Даже Оссару никогда не видел таких созданий на равнинах Индии. Но ясно было, что это какая-то порода быков или буйволов. Особенно выделялся вожак, этот патриарх стада, огромный бык, ростом с добрую лошадь. У него были могучие изогнутые рога, длинная густая волнистая шерсть, и он отличался свирепым видом, характерным для животных буйволовой породы. Но удивительнее всего были длинные густые волосы, которые свисали бахромой с боков, с шеи и брюха, почти касаясь травы, так что он казался коротконогим.
Карл нашел у этого старого быка значительное сходство с редкостным мускусным американским быком, чучело которого он видел в музеях. Но наблюдалось между ними и заметное отличие. Мускусный бык почти бесхвостый, вернее — хвост у него такой короткий, что еле заметен в густой массе волос, украшающей его круп, а у странного животного, которое паслось на лугу, хвост был длинный и пышный, с огромной пушистой кистью волос на конце. Масть быка издали казалась черной, хотя в действительности была темно-шоколадной.
В стаде находился только один большой бык — очевидно, вожак и повелитель всех прочих. Остальные были коровы и телята. Коровы были чуть не вдвое меньше старого быка; рога у них были менее массивные, а хвост и волосяная бахрома не такие длинные и пышные.
Телят было несколько, различного возраста; от полувзрослых бычков до новорожденных малышей; последние катались по земле или прыгали возле своих матерей. У этих малышей наблюдалась одна особенность: у них еще не выросли длинные волосы на боках и спине, но шерсть была черная и курчавая, как у сеттера или ньюфаундленда. Издали они очень напоминали этих животных, и все стадо можно было принять за буйволов, среди которых замешалось несколько черных собак.
— Не знаю, что это за животные, — заметил Каспар, — но думаю, что мясо их вполне съедобно. Вероятно, это какая-то разновидность быков.
— Говядина, оленина или баранина — одно из трех, — добавил Карл.
Оссару в этот момент готов был съесть какое угодно мясо, даже волчатина показалась бы ему вкусной.
— Надо подкрасться к ним, — продолжал Карл. — Придется проползти сквозь эти заросли.
Без труда они достигли зарослей и, пробираясь ползком между деревцами, подкрались к самой опушке. Это были вечнозеленые рододендроны. Их густая листва служила великолепным укрытием. Дикие быки не сразу почуяли приближение врагов. Стрела Оссару не долетела бы до животных, но в них вполне можно было попасть из ружья, которое было заряжено крупной дробью.
Карл шепнул Каспару, чтобы он взял на мушку одного из телят, а сам стал целиться в более крупное животное.
Бык был слишком далеко. Он стоял в стороне, видимо карауля стадо; правда, на этот раз он не проявил особой бдительности. Но вскоре он заподозрил, что не все в порядке, и не успели они выстрелить, как он стукнул о землю массивными копытами и издал странный звук, похожий на хрюканье свиньи. Сходство было так велико, что наши охотники даже оглянулись, подумав, что где-то поблизости свиньи.
Но в следующий миг они поняли, что хрюкал именно бык. Карл и Каспар прицелились и выстрелили.
Выстрелы эхом прокатились по долине, и тотчас же все стадо, с быком во главе, галопом понеслось по равнине. К великой радости охотников, на лугу остались лежать подстреленные теленок и корова. Выйдя из засады, охотники подошли к своей добыче.
Они решили сперва изжарить теленка, чтобы утолить голод, и уже начали его свежевать, как вдруг раздалось громкое протяжное хрюканье. Обернувшись, они увидели, что большой бык несется прямо на них, пригнув голову к земле и яростно сверкая глазами. Он отбежал не слишком далеко, воображая, что за ним следует все его семейство, но, заметив, что двоих недостает, вернулся, чтобы помочь им или отомстить за них.
Хотя охотники в первый раз видели это животное, не приходилось сомневаться в его силе. Широко расставленные рога и сверкавшие бешенством глаза доказывали, что перед ними грозный враг. Нечего было и думать вступать с ним в бой. Спасая свою жизнь, охотники со всех ног бросились наутек.
Они устремились к зарослям, но молодые деревца не представляли надежной защиты. Их преследователь бросился вслед за ними в кусты, с треском ломая их и громко хрюкая, как дикий кабан.
К счастью, среди молодняка росло несколько крупных деревьев, и на них было нетрудно взобраться. Через несколько мгновений все трое сидели уже высоко в ветвях и находились в безопасности — у их врага были на ногах не когти, а копыта, и он не мог взобраться на дерево.
Некоторое время бык с хрюканьем метался по зарослям, но, не обнаружив врагов, решил вернуться на луг, где лежали убитые животные. Он подошел сперва к корове, затем к теленку, потом стал переходить от одного к другому, обнюхивая их и издавая какое-то жалобное хрюканье. Выразив так свое горе, бык поднял голову, оглядел равнину и мрачно побрел в том направлении, куда скрылось стадо.
Охотники не сразу решились спуститься с деревьев. Но голод наконец взял верх над страхом; спустившись, они подобрали ружья, которые побросали на землю, вновь их зарядили и вернулись к своей добыче.
Они перетащили туши убитых животных к опушке рощи, чтобы, в случае если бык вздумает вернуться, можно было быстрей добежать до спасительных деревьев.
Вскоре теленок был освежеван, костер разведен, несколько кусков мяса зажарено на угольях и быстро съедено. Такой превосходной телятины им еще не приходилось есть. Дело было не только в голоде — мясо действительно было отменное, и этому не приходилось удивляться, ибо они теперь знали, кого подстрелили. Когда бык бежал к зарослям, Оссару, сидя на дереве, успел его рассмотреть и узнал по хвосту. Сомнений не было! Много таких хвостов видел и держал в руках в детстве Оссару. Немало мух отогнал он таким хвостом, как же было его не узнать!
Когда они вернулись к добыче, Оссару указал на хвост коровы, который был вдвое короче, чем у быка, но такого же вида, и, многозначительно поглядев на товарищей, заявил:
— Я теперь знаю, саибы: это чоури!
Глава 26
ЯКИ
Оссару хотелось сказать, что он узнал хвост; он не имел понятия о животном, которому принадлежал этот придаток. Для Оссару хвост был чоури, то есть опахало, каким пользуются в жарких областях Индии, чтобы отгонять мух, москитов и других насекомых. Оссару нередко отгонял в детстве таким хвостом мух от старого саиба, своего хозяина.
Однако слово «чоури» навело на размышления охотника за растениями. Он знал, что чоури привозят в Индию через Гималаи, из Монголии и Тибета, что это хвосты одного вида быков, характерного для этих стран и известного под названием «яки» или «хрюкающие быки». Несомненно, убитые животные были яками.
Догадка Карла оказалась верной. Охотники столкнулись со стадом яков, так как в этих местах они встречаются в диком состоянии.
Линней назвал это животное хрюкающим быком. Трудно было бы придумать лучшее название, но оно не удовлетворило современных кабинетных ученых, которые, найдя некоторые различия между ним и другими быками, решили создать новый род для этого единственного вида и таким образом только затруднили изучение зоологии. Действительно, некоторым из этих господ хотелось бы создать отдельный род для каждого вида, даже для каждой разновидности, хотя эта абсурдная классификация порождает только путаницу в понятиях.
Як, которого называют также «сирлак» или «хрюкающий бык», весьма своеобразное и полезное животное. В Тибете и соседних странах он встречается не только в диком состоянии — там немало домашних яков. В самом деле, для народов, живущих в холодных горных странах, простирающихся к северу от Гималаев, як то же самое, что верблюд для арабов или северный олень для жителей Лапландии. Из его длинной темной шерсти изготовляют ткань для шатров или вьют веревки. Из шкуры выделывается кожа. На спине он таскает поклажу или же людей, если им захочется ездить верхом; он тянет за собой повозку. Его мясо — прекрасная, вкусная еда, а молоко, доставляемое коровами, равно как сыр и масло, составляет основную пищу тибетских народов.
Хвосты яков являются ценным предметом торговли. Их вывозят во все области Индии, где они употребляются для различных целей — главным образом как чоури, или опахала от мух. Монголы носят их на шапке как знак отличия, что разрешается только вождям и прославленным военачальникам. В Китае их носят с той же целью мандарины, предварительно окрасив в ярко-красный цвет. Хороший, пышный хвост яка высоко ценится в Китае и в Индии.
Существует несколько разновидностей яков. Прежде всего дикий як — тот самый, с которым повстречались наши путники. Он значительно крупнее домашних пород, а быки отличаются огромной силой и свирепостью. Охота на них чрезвычайно опасна; обычно охотятся верхом и с крупными собаками.
Домашние яки разделяются на несколько классов: на одних пашут, на других ездят верхом и так далее; масть у них не темно-бурая, как у дикой породы, а серо-бурая; встречаются пятнистые яки и даже белоснежные. Однако преобладает бурая или черная масть, часто при белом хвосте. Мясо теленка — лучшее в мире, но, если отнять теленка у матери, та перестает давать молоко. В таком случае ей приносят телячьи ножки или даже чучело теленка, которое она облизывает, выражая свое удовлетворение коротким хрюканьем, и продолжает доиться.
Когда яка используют как вьючное животное, он может пройти в день двадцать миль, неся два мешка с рисом или с солью или же четыре — шесть сосновых досок, подвешенных у него по бокам. Обычно погонщики прокалывают якам уши и украшают их пучками красных шерстяных ниток. Подлинная родина яка — холодные плоскогорья Тибета и Монголии или же еще более высокие горные долины Гималаев, где он кормится травой или кустарниками. Яки пасутся на крутых склонах и любят карабкаться на скалы; они спят или отдыхают на вершине одинокой глыбы, где их со всех сторон прогревает солнце. Перевезенные в более теплые страны, они начинают тосковать и вскоре умирают. Вероятно, их можно было бы акклиматизировать в различных европейских странах, если бы за это взялись правительства. Но тираны не слишком заботятся о благе своих подданных.
Глава 27
ЗАГОТОВКА МЯСА ЯКОВ
Путешественникам очень понравилось мясо теленка яка, и втроем они быстро уничтожили добрую его четверть.
Утолив голод, охотники стали совещаться, как действовать дальше. Они уже решили провести в этой прекрасной долине несколько дней, посвятив их охоте за растениями. Карл не сомневался, что флора здесь чрезвычайно богата и разнообразна. Действительно, проходя через заросли, он заметил множество любопытных, незнакомых растений, и ему хотелось открыть какие-нибудь новые виды, еще неизвестные в ботанике. Он мечтал привезти редкие, невиданные растения и обогатить свою любимую науку. Эта мысль заставила радостно биться его сердце.
Своеобразное положение долины, окруженной снеговыми горами, изолированной от других растительных зон и защищенной высокими утесами от ветров, давало надежду на своеобразную флору. К своему удивлению, Карл увидел здесь множество видов тропических растений, хотя долина находилась по меньшей мере на высоте пятнадцати тысяч футов, а снеговые горы, поднимавшиеся над ней, были чрезвычайно высоки. Тропическая растительность немало его озадачила, и он решил, что необходимо найти объяснение такому странному явлению.
Каспара обрадовало решение брата провести в долине несколько дней. Он не слишком интересовался растениями, но заметил, что в долине множество диких животных, и с удовольствием думал об охоте.
Быть может, Оссару вздыхал о жарких равнинах, о пальмовых рощах и зарослях бамбука, но и он был не прочь поохотиться в долине.
К тому же в долине было гораздо теплее, чем в окрестных ущельях.
Охотников очень удивила такая разница в температуре; и ее можно было объяснить лишь тем, что долина со всех сторон защищена от ветров.
Итак, они решили побыть здесь несколько дней; прежде всего необходимо было позаботиться о пропитании. Правда, дичи было, по-видимому, много, но охота не всегда бывает удачна, а тут под рукой у них туша самки яка, мяса которой могло хватить на несколько дней, — следовало заготовить его впрок.
Поэтому они тотчас же приступили к заготовке мяса. Без соли трудно справиться с этой задачей; на севере обычно засаливают мясо, но Оссару был жителем тропиков, где соли мало и она дорога, и знал другие способы заготовки мяса, кроме засола. Он умел его вялить. Этот способ прост и состоит в том, что мясо разрезают на тонкие ломтики и либо развешивают на деревьях, либо раскладывают на камнях, а солнце делает остальное.
Однако, как назло, день выдался облачный, и нельзя было провялить мясо на солнце. Но Оссару не так легко смутить: ему был известен еще один способ, применявшийся в подобных случаях, — он умел коптить мясо.
Набрав побольше хвороста, он развел костер и развесил мясо вокруг огня на шестах на таком расстоянии, что до него достигал дым, но оно не жарилось и не горело. Оссару уверял своих спутников, что, провисев таким образом день-другой, мясо прокоптится и высохнет и его можно будет сохранять месяцами без всякой соли.
Все эти заботы потребовали несколько часов; и, когда все было окончено, было уже далеко за полдень.
Затем приготовили и съели обед, что заняло еще час; и хотя было еще совсем светло, всех клонило ко сну после бессонной ночи, проведенной на уступе, — они растянулись у костра и задремали.
После захода солнца резко похолодало, и только теперь охотники вспомнили о своих одеялах и других вещах, оставшихся на месте последней стоянки. Но при мысли о своем снаряжении они только вздыхали. Вернуться к брошенным ими вещам прежней дорогой было невозможно. Без сомнения, им придется сделать большой обход через горы, чтобы добраться до места стоянки.
Оссару придумал, чем заменить одеяло. Он растянул шкуру яка на раме и поставил ее перед огнем. К ночи она уже высохла, и в нее можно было закутаться. Действительно, Каспар завернулся в это необычайное одеяло, шерстью внутрь, и, проснувшись, уверял, что никогда в жизни не спал так сладко.
Все трое хорошо отдохнули. Но если бы они знали, какое открытие ожидает их утром, их сон не был бы таким крепким, а сновидения — такими приятными.
Глава 28
КИПЯЩИЙ ИСТОЧНИК
Охотники позавтракали вяленым мясом яка и запили его водой. У них не было даже чашки, чтобы набирать воду; они становились на колени и пили прямо из озера. Вода была прозрачная, но не очень холодная, как можно было ожидать на такой высоте. Они заметили это еще накануне и были очень удивлены. У них не было термометра, чтобы измерить температуру воды, но было очевидно, что она теплее воздуха.
Откуда взялась вода в озере? Оно не могло образоваться от таяния снегов, так как в подобном случае вода в нем была бы куда холоднее. Может быть, где-нибудь поблизости есть горячий источник?
Это было весьма вероятно, ибо, как это ни странно, в Гималаях немало горячих источников, и некоторые из них бьют среди снега и льдов.
Карлу приходилось читать о таких источниках, и он высказал предположение, что где-то неподалеку находится именно такой источник. Иначе почему бы вода в озере была теплой?
Тут им вспомнилось, что накануне утром они заметили странное облачко пара, поднимавшееся над деревьями на краю долины. Теперь его не было видно, так как они спустились со склона; но они запомнили, в какой стороне его видели, и отправились разыскивать источник.
Вскоре они пришли к этому месту. Предположения их оправдались. Между камнями кипел и пенился горячий источник, который переходил в ручей, вливавшийся в озеро. Каспар опустил руку в воду и тотчас же выдернул ее с криком боли и удивления. Это был почти кипяток.
— Что ж, — сказал он, — это большое удобство. Как жаль, что у нас нет ни чайника, ни котелка! Но, во всяком случае, здесь можно иметь горячую воду в любое время дня.
— Теперь я все понял! — воскликнул Карл, осторожно окунув пальцы в источник. — Так вот чем объясняется высокая температура в этой долине, вот почему здесь такая роскошная растительность и встречается немало тропических растений! Посмотри на эти магнолии! Это любопытно! Я не удивлюсь, если мы встретим здесь пальмы или бамбук.
Внезапно внимание путников было отвлечено от горячего источника. К ним приближалось легкими прыжками красивое животное, но, не добежав ярдов двадцати, остановилось и несколько мгновений смотрело на пришельцев.
С первого же взгляда по ветвистым рогам они узнали оленя. Он был величиной почти с европейского оленя, масть у него была рыжевато-серая, на крупе белая салфетка. Но это был азиатский представитель того же рода, известный у натуралистов под названием «олень Валлиха».
Заметив людей, стоявших у источника, олень скорее удивился, чем испугался. Возможно, он впервые видел двуногих существ. Он не знал, друзья это или враги.
Бедняга! Скоро он понял, с кем имеет дело.
Раздался выстрел, и в следующий миг олень уже лежал на земле.
Выстрелил Карл, так как Каспар стоял дальше. Все трое бросились к добыче, но, к их огорчению, олень вскочил на ноги и кинулся в заросли. Фриц устремился за ним по пятам. Видно было, что олень бежит на трех ногах, а четвертая, задняя, перебита и волочится по земле.
Охотники погнались за ним, надеясь его настичь; но, выбежав из чащи, увидели, что олень мчится у подножия утесов, далеко опередив собаку.
Пес продолжал гнаться за оленем, и охотники со всех ног неслись за ним. Карл и Оссару бежали вдоль утесов, а Каспар — на некотором расстоянии от них, чтобы перехватить животное, если оно повернет в сторону озера.
Так пробежали они около мили, не видя оленя. Наконец громкий лай Фрица возвестил, что пес нагнал добычу.
Так и оказалось. Фриц загнал оленя к самым зарослям; но едва появились охотники, как тот метнулся в кусты и скрылся в чаще.
Они пробежали еще с полмили, и Фриц снова загнал оленя, но, как и в первый раз, с приближением охотников животное кинулось в заросли и исчезло.
Досадно было упустить такую прекрасную дичь, которая была почти в их руках, и они решили продолжать охоту, если даже она продлится целый день. У Карла были еще основания преследовать оленя. Он был на редкость добрый и чуткий человек: зная, что животное, у которого была перебита нога, все равно умрет от этой раны, он хотел положить конец его мучениям. К тому же он был очень не прочь добыть оленины.
Поводив за собой охотников, олень снова появился, но и на этот раз скрылся в кустах.
Олень казался прямо неуловимым, они уже начали терять надежду.
Почти все время он держался вблизи утесов, и охотники не могли не заметить, какая крутая каменная стена высится у них над головой. Утесы поднимались на высоту нескольких сот футов почти везде отвесно.
Но охотники были слишком поглощены погоней за оленем, чтобы обратить серьезное внимание на это обстоятельство; они бежали, не останавливаясь, — разве на минутку, чтобы перевести дыхание; шесть или семь раз показывался раненый олень, и Фриц загонял его, но в награду за свое усердие получал лишь свирепые удары рогов.
Охотники пробежали мимо прохода в скалах, через который они проникли в долину, и помчались дальше.
Громкий лай собаки оповестил их, что олень загнан, и они снова кинулись вперед.
На этот раз они увидели, что олень загнан в небольшой водоем и стоит по самые бока в воде. Каспару удалось подкрасться к нему на расстояние нескольких ярдов. Грянул выстрел, и с оленем было покончено.
Глава 29
ТРЕВОЖНОЕ ОТКРЫТИЕ
Вы, конечно, подумали, что охотники очень обрадовались, успешно закончив погоню. Так было бы при иных обстоятельствах, но сейчас их занимали другие мысли.
Подойдя к водоему, чтобы вытащить оленя из воды, они заметили нечто, заставившее их обменяться многозначительными взглядами. Это был горячий источник, возле которого началась охота. Мертвый олень лежал в каких-нибудь ста ярдах от того места, где получил первую рану.
Действительно, водоем был образован тем самым ручьем, который вытекал из источника и впадал в озеро.
Я сказал, что охотники, увидав источник, обменялись многозначительными взглядами. Ясно было, что они вернулись туда, откуда начали погоню. Итак, преследуя оленя, они обежали вокруг всей долины. Они ни разу не повертывали вспять, не пересекали долины, даже не видели озера в продолжение погони. Карл и Оссару все время бежали у подножия утесов — то сквозь заросли, то по открытому месту.
Что было в этом примечательного? Это значило, что долина небольшая, круглой формы и что ее можно обежать за час. Почему же наши охотники стояли как вкопанные, с недоумением глядя друг на друга? Быть может, их удивило, что олень вернулся умирать туда, где был ранен? Конечно, это было немного странно, но из-за такого пустяка не омрачились бы их лица. Взгляд их выражал не удивление, а тревогу, страх перед какой-то опасностью, еще не совсем ясной и определенной. Но что же это была за опасность?
Несколько минут все трое стояли молча: Оссару рассеянно вертел в руках свой лук, Карл опирался на ружье, а Каспар с немым вопросом смотрел брату в глаза.
Каждый хотел догадаться, о чем думают другие. Олень лежал у их ног в водоеме, над водой виднелись лишь его огромные рога, а пес стоял на берегу и лаял.
Но вот Карл прервал молчание. Казалось, он говорил сам с собой — так он был поглощен своими мыслями.
— Да, стена утесов идет вокруг всей долины. Я нигде не видел перерыва. Правда, кое-где есть ущелья, но они упираются в такие же утесы. Ты не видал выхода, Оссару?
— Нет, саиб. Мой бояться — долина закрыта, нет выход из эта ловушка, саиб.
Каспар промолчал. Он все время держался в стороне от скал, а иной раз и вовсе терял их из виду — деревья скрывали от него их вершины. Однако он вполне понимал беспокойство брата.
— Так ты думаешь, что скалы окружают долину со всех сторон? — спросил он Карла.
— Боюсь, что да, Каспар. Я не видел выхода, Оссару тоже. Правда, мы его не искали, но я все время смотрел на скалы — нет ли там выхода. Я не забыл, в каком опасном положении мы очутились вчера, и меня беспокоит этот вопрос. Я заметил, что из долины ведет несколько ущелий, но, кажется, все они замкнуты отвесными скалами. Правда, погоня не позволила мне как следует все рассмотреть, но мы можем заняться этим сейчас. Если выхода из долины нет, то мы попали в неприятное положение. Эти утесы поднимаются на добрых пятьсот футов — они совершенно неприступны… Идемте! Я готов к самому худшему.
— Что ж, мы вытащим оленя? — спросил Каспар, указывая на рога, торчавшие из воды.
— Нет, оставим его здесь: с ним ничего не сделается до нашего возвращения. А если мои опасения оправдаются, у нас будет более чем достаточно времени… Идемте!
С этими словами Карл направился к подножию скал, а товарищи последовали за ним.
Фут за футом, ярд за ярдом осматривали они суровые отвесные утесы.
Они исследовали сперва их подножие, потом, отойдя, оглядывали до самых вершин. Расселин было немало, и все они напоминали морские заливы: дно у них было на одном уровне с долиной, и они были окружены отвесными гранитными утесами.
В некоторых местах утесы прямо нависали над головой охотников. Кое-где попадались груды камней и валялись обломки скал, иной раз огромного размера. Отдельные глыбы достигали пятидесяти футов в длину и высоту; порой встречались колоссальные груды камней на значительном расстоянии от утесов, и было ясно, что они не могли упасть сверху. Возможно, что они были занесены сюда льдами, но братьям в этот момент было не до геологических проблем.
Они шли все дальше, занятые обследованием скал. Они заметили, что утесы не везде одинаковой высоты, но даже в самых низких местах невозможно на них подняться, так как они были не менее трехсот футов в вышину, а отдельные участки стены поднимались чуть ли не на тысячу футов.
Итак, они продвигались вдоль подножия скал, внимательно осматривая ярд за ярдом. По этому пути они уже однажды прошли, но более легким шагом и с более легким сердцем. На этот раз они сделали обход за три часа и остановились у каменных ворот, придя к безотрадному заключению, что это ущелье — единственный доступный человеку выход из таинственной долины.
Долина походила на кратер погасшего вулкана; можно было подумать, что лава прорвалась сквозь эту расселину, оставив «бассейн» пустым.
Охотники не стали вновь обследовать заполненное ледником ущелье. Они уже убедились, что в этом направлении нет выхода. Стоя у входа в долину, они смотрели на белый пар, курившийся над источником. Отсюда была видна каменная стена, поднимавшаяся позади него. В этом месте скалы были особенно крутые и высокие.
Охотники уселись на камнях. Все трое молчали и, казалось, были близки к отчаянию.
Глава 30
ПЛАНЫ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Однако отважные люди нелегко поддаются отчаянию. Карл был человек мужественный, Kacпаp, несмотря на свой юный возраст, не уступал в храбрости брату. Шикари тоже был далеко не трус. Его не устрашил бы ни тигр, ни гайял, ни медведь, но, как и все индусы, он был суеверен. Теперь он уже не сомневался, что в этой долине обитает один из богов и что люди будут наказаны за то, что проникли в его священное убежище.
Но, несмотря на этот суеверный страх, Оссару не падал духом. Напротив, он всей душой был готов помогать своим спутникам, если они сделают попытку бежать из этой земли, принадлежавшей Браме, Вишну или Шиве[177].
Все трое напряженно размышляли, стараясь найти выход из создавшегося положения. Этим и объясняется их молчание.
Но как они ни ломали голову, им не удавалось придумать ничего путного. Необходимо взобраться на утес высотой в пятьдесят футов. Как совершить такой подвиг?
Сделать лестницу? Нелепая мысль. Ни на какой лестнице в мире не доберешься и до четверти высоты скал. Будь у них даже под рукой веревки, их все равно нельзя использовать. С их помощью можно спуститься в пропасть, но для подъема они совершенно бесполезны.
У охотников мелькнула мысль — выдолбить ступеньки в скале и таким образом выбраться из долины. Издали это может показаться возможным. Но если бы вы сами оказались в положении наших путников — сидели, как они, перед мрачной гранитной стеной, — и если бы вам сказали, что вы должны взобраться на нее, своми руками высекая в ней зарубки, то вы, вероятно, отказались бы от такого предприятия.
Оставили эту мысль и охотники.
Несколько часов просидели они на камнях, погруженные в размышления. Почему у них нет крыльев, на которых можно было бы улететь из ужасной темницы?..
Не придумав никакого выхода, они печально направились к месту стоянки.
В довершение беды, дикие звери, вероятно волки, навестили стоянку во время их отсутствия и унесли вяленое мясо до последнего кусочка. Это было печальное открытие, ибо при создавшихся обстоятельствах провизия была им нужнее, чем когда-либо.
У них еще оставался олень. Может быть, его еще не унесли? И они поспешили к водоему, который находился неподалеку. К счастью, олень оказался на месте: вероятно, вода не позволила хищникам до него добраться.
Найдя, что место стоянки выбрано неудачно, охотники перетащили оленью тушу к горячему источнику, где можно было удобнее расположиться. Там ее ободрали, развели костер, пообедали жареной олениной, а все остальное мясо Оссару решил провялить, но теперь он, из предосторожности, повесил его так, чтобы четвероногие разбойники не могли достать.
Они так дорожили олениной, что припрятали даже кости, и Фрицу пришлось поужинать внутренностями.
Благоразумный, как большинство его соотечественников, Карл предвидел, что им придется долго пробыть в этой странной долине.
Как долго, трудно было сказать, и не хотелось об этом думать, но возможно, что всю жизнь. Он предвидел трудности, какие могут вскоре представиться — может даже не хватить еды, — и потому нельзя выбрасывать ни кусочка.
Вечером, сидя вокруг костра, они обсуждали, как добывать еду, говорили о животных, которые могут встретиться в этой долине, об их количестве и породах, о плодах и ягодах, о кореньях, которые можно откопать в земле, — словом, обо всем, что можно здесь найти для поддержания жизни.
Они проверили свои охотничьи припасы. Их оказалось даже больше, чем они предполагали. Большие пороховницы Карла и Каспара были почти полны. Им мало приходилось стрелять с тех пор, как они пополнили запасы пороха. Был также большой запас дроби и пуль, хотя без них и можно было обойтись: в случае нужды найдется чем их заменить.
Но порох ничем не заменишь!
Впрочем, если порох придет к концу, у Оссару остается его меткий лук, для которого не требуется ни пороха, ни свинца. Тонкая камышинка или гибкая ветка — вот все, что нужно шикари, чтобы сделать смертоносную стрелу.
Они были уверены, что смогут убить всех животных, какие только им встретятся в этом месте. Если даже у них не окажется стрел, в таком замкнутом пространстве всегда можно будет окружить и поймать любую дичь. Они могли не опасаться, что какое-нибудь четвероногое от них уйдет. Ведь из долины нет иного пути, кроме того, каким они сюда пробрались. Только через ущелье входили в долину ее четвероногие обитатели: они, наверное, протоптали тропинку на леднике, но сейчас она занесена снегом. Весьма вероятно, что это ущелье посещают самые разнообразные животные; возможно также, что некоторые из них постоянно живут в долине и там же размножаются. В самом деле, трудно было бы найти более подходящее местожительство для диких животных. И, судя по всему, их тут несметное количество.
Правда, охотники еще не потеряли надежду найти выход из своей необычной тюрьмы. Если бы они отчаялись отсюда выбраться, у них было бы тяжело на душе и они не могли бы так оживленно разговаривать. Птицы и животные, плоды и коренья в таком случае мало бы их интересовали.
Но они смутно на что-то надеялись. Приняв решение на следующий день снова обследовать утесы, охотники улеглись спать.
Глава 31
ИЗМЕРЯЮТ ТРЕЩИНУ
На следующее утро каменная стена была снова тщательно осмотрена и обследована. Еще раз совершили обход долины. Охотники даже взбирались на деревья, чтобы лучше разглядеть поднимавшийся над ними гребень утесов. Результатом была полная уверенность в том, что взобраться на обрыв решительно нигде нельзя.
До сих пор они не помышляли о том, чтобы вернуться в расселину, ведущую к леднику, но, потеряв надежду уйти другим путем, снова туда отправились.
Они шли не легким, быстрым шагом людей, уверенных в успехе, а как-то вяло, машинально, подчиняясь какому-то бессознательному импульсу. До сих пор они еще не обследовали ледяную пропасть.
Испуганные ледниковым оползнем, они поспешили уйти подальше от пропасти. Они бросили на трещину всего один взгляд, но сразу же увидели, что перейти через нее невозможно. В то время, однако, они не знали, что спасение так близко. Они не заметили высокого леса в каких-нибудь пятистах ярдах от трещины. Да едва ли и могла возникнуть у них такая мысль, пока они еще не знали о безвыходности своего положения.
Но в ту минуту, когда они проходили сквозь каменные ворота в ущелье, эта мысль пришла в голову всем троим. Карл первый ее высказал. Внезапно остановившись, он произнес, указывая на лес:
— А что, если нам сделать мост?
Никто не спросил, о каком мосте он говорит. В этот момент все трое думали об одном и том же и знали, что он имеет в виду мост через трещину.
— Сосны здесь высокие, — заметил Каспар.
— Не довольно высокий, саиб, — возразил шикари.
— Можно их соединить, — продолжал Каспар.
Оссару ничего не ответил, только покачал головой.
У них снова появилась надежда, и все трое ускорили шаг. По пути они осматривали утесы со всех сторон, но эти скалы уже раньше были обследованы.
Они осторожно приблизились к краю расселины. Посмотрели иа противоположную сторону. Расселина была не менее ста футов шириной. Став на колени, заглянули в зияющую бездну. Отвесные утесы уходили вниз на глубину нескольких тысяч футов. Пропасть суживалась книзу. Голубоватые у вершины, ледяные утесы становились все темнее и зеленее по мере того, как спускались вниз. Кое-где виднелись застрявшие в щелях каменные глыбы и смерзшийся снег; со дна пропасти доносился глухой шум воды. Глубоко подо льдами струился поток — без сомнения, там нашли себе выход избыточные воды озера.
Зрелище было великолепное, но жуткое: нельзя было смотреть в бездну без головокружения, а голоса, повторенные эхом, звучали так гулко и странно, что охотников прохватывала дрожь. Спускаться на дно провала было бы безумием, да они и не думали о таком предприятии. Они знали, что, даже если бы это им удалось, все равно невозможно будет вскарабкаться на противоположную отвесную стену.
Единственно, на что они могли надеяться, — это перебросить мост через трещину, и только об этом они и думали.
Такой проект может показаться нелепым. Люди, менее мужественные, сразу же отказались бы от него: так поступили бы и они сами, будь у них хоть малейшая надежда выбраться отсюда другим путем. Но теперь это был вопрос жизни или смерти.
Отказаться от всякой надежды вернуться домой, к друзьям, провести остаток жизни в этой каменной тюрьме — такая перспектива были бы не многим лучше смерти.
Все трое не могли даже допустить подобной ужасной мысли. Но сознание, что им угрожает трагическая судьба, если они не найдут выхода из этого тяжелого положения, заставляло их мысль напряженно работать, и каждый новый план горячо обсуждался.
Глядя на зияющую пропасть, они пришли к убеждению, что вполне возможно перебросить через нее мост.
Карл первый высказал эту мысль. Пылкий Каспар быстро присоединился к мнению брата. Оссару долго возражал, но в конце концов согласился, что стоит попытаться.
Изобретательный ботаник вскоре придумал план, правда требовавший больших усилий, но все же казавшийся выполнимым.
Прежде всего необходимо было определить ширину трещины. Но как это сделать?
Оценке на глаз нельзя было доверять, и в самом деле, все трое по-разному определили ширину трещины. Карл считал, что она шириной в сто футов, Оссару полагал, что сто пятьдесят, а Каспар — что сто двадцать.
Необходимо было точное измерение. Но как его произвести?
Таков был первый вопрос, вставший перед ними.
Будь у них соответствующие инструменты, Карл вполне мог бы определить расстояние путем триангуляции, но у них не было ни квадранта, ни теодолита.
Я сказал, что трудные обстоятельства заставляли их пускаться на всякие изобретения. В самом деле, проблема измерения расселины вскоре была решена — и не кем иным, как Оссару.
Карл и Каспар стояли в стороне, обсуждая этот вопрос. Они даже не спрашивали мнения шикари. Внезапно они увидели, что он разматывает длинную бечевку, которую достал из кармана.
— Эй, Оссару, — крикнул Каспар, — что ты делаешь? Ты хочешь измерить пропасть бечевкой?
— Да, саиб, — ответил шикари.
— А кто перенесет твою бечевку на ту сторону, хотел бы я знать? — спросил Каспар.
Действительно, смешно было думать, что трещину можно измерить бечевкой; однако природная изобретательность Оссару подсказала ему простой и верный способ.
Вместо ответа он вынул из колчана стрелу и сказал, показывая братьям:
— Это, саиб, понести бечевка.
— Правильно! Верно, верно! — радостно воскликнули братья, сразу догадавшись о намерении шикари.
Оссару быстро привел в исполнение свой замысел. Он размотал бечевку во всю длину. Она оказалась длиной около ста футов. Ее туго натянули, чтобы расправить все завитки, и привязали одним концом к стреле. К другому ее концу привязали камень, затем шикари натянул тетиву — и стрела взвилась в воздух.
Крик радости вырвался у всех, когда они увидели, что стрела упала на снег по ту сторону трещины; видна была и бечевка, повисшая над бездной, как паутина.
Оссару схватил бечевку и осторожно подтянул стрелу к самому краю пропасти; отметив заранее на бечевке узлом это место, он дернул ее, сбросив стрелу в пропасть, и начал сматывать бечевку.
Через несколько минут и стрела и бечевка оказались у него в руках. Наступил важный момент: измерение бечевки.
Сердца у наших охотников усиленно бились, пока они отсчитывали фут за футом. У всех вырвался радостный возглас, когда оказалось, что оценка Карла ближе всех к истине. Ширина трещины равнялась примерно ста футам.
Глава 32
ХИЖИНА
Карл не сомневался, что им удастся перекинуть мост через пропасть. Правда, единственными их орудиями были ножи и небольшой топорик, случайно оказавшийся за поясом у Оссару, когда они пустились в погоню за мускусной кабаргой. Имелись у них ружья, но разве они могли пригодиться при постройке моста!
Нож Оссару, как мы уже говорили, имел длинное лезвие; это был полунож-полумеч, какие в ходу у обитателей джунглей. Топорик был не больше индейского томагавка. И при помощи таких орудий Карл Линден собирался построить мост длиною свыше ста футов.
Он подробно рассказал о своем замысле товарищам и сумел их убедить, что его план вполне осуществим. Не приходится и говорить, что у всех поднялось настроение.
Правда, они сознавали, что это трудная задача и предприятие может не удасться, но все же крепко надеялись на успех.
Сделав все нужные приготовления, измерив самую узкую часть трещины и хорошенько заметив это место, они вернулись в долину бодрые и веселые.
Сооружение моста было делом не одного дня и даже не одной недели; возможно, на это потребуется больше месяца. Если бы можно было строить мост сразу с двух сторон пропасти, они окончили бы его гораздо скорее. Но, как вам известно, им приходилось работать только на одной стороне и перебрасывать оттуда мост на другую. Если бы им удалось протянуть через трещину хотя бы канат, это вполне заменило бы для них мост. Но откуда взять канат? Придет время, и у них будет канат или толстая веревка, но покамест они могли пользоваться только бечевкой, которую должна была перенести на тот берег стрела.
Изобретательный Карл не только создал проект моста, но и придумал, как перебросить его через пропасть. Для этого потребуется немало сноровки и труда. Но не приходится жалеть ни сил, ни времени, когда речь идет о жизни и свободе.
Прежде всего пришлось построить хижину. Ночи были свежие и становились все холоднее, так как приближалась гималайская зима, и уже нельзя было спать на открытом воздухе даже возле ярко пылающего костра.
Итак, они построили грубую хижину из бревен и каменных глыб; пришлось прибегнуть к камням, так как трудно было раздобыть достаточное количество бревен нужной длины, а распиливать стволы было нечем.
Стены были толстые и прочные; щели замазали глиной, взятой со дна ручейка; крышей служил настил из осоки, срезанной на озере, а пол устлали листьями душистого рододендрона. В крыше проделали отверстие для выхода дыма. Небольшие гранитные глыбы служили табуретками, в столах не было надобности; матрацы заменял толстый настил сена и сухих листьев.
Такое жилище вполне удовлетворяло охотников. Они были слишком заняты мыслями о будущем и легко мирились с самой убогой обстановкой.
На постройку хижины они потратили всего один день. Будь под рукой бамбук, Оссару построил бы дом вдвое скорее и гораздо красивее.
На следующее утро охотники приступили к постройке моста.
Они решили разделить между собой работу. Карл и Оссару работали как дровосеки, орудуя топориком и большим ножом, а Каспар ходил на охоту, добывая дичь, и в случае нужды помогал товарищам.
Но Каспар был полезен не только тем, что добывал мясо. Им нужны были веревки — длинные, прочные веревки, — и они решили заменить их ремнями, вырезанными из шкур животных. Поэтому роль Каспара была очень важной. Потребуются два крепких, толстых ремня, сказал ему Карл, длиной в сто футов и еще много других ремней и ремешков. Чтобы добыть их, придется усердно поохотиться. Ведь на ремни пойдет не меньше десяти шкур. Каспар был создан для такой работы и горячо принялся за дело.
Необходимо было выбрать деревья для постройки. С самого утра на четырех деревьях были сделаны зарубки.
Это были сосны, известные под именем тибетских; они очень высокие, стройные, и ветви у них начинаются на высоте добрых пятидесяти футов над землей. Карл не брал особенно толстых деревьев, так как их пришлось бы слишком долго обстругивать, а для этого не имелось соответствующих орудий.
Он выбирал деревья, подходящие по толщине, которые было легче обрабатывать. Ободрав кору и отрубив комель, необходимо было придать стволу одинаковую толщину на всем его протяжении.
Но труднее всего было соединить по длине два ствола — эта работа требовала особенной сноровки и внимания.
Итак, каждый приступил к своему делу. Карл и Оссару отправились в сосновый бор, а Каспар стал собираться на охоту.
Глава 33
ЛАЮЩИЙ ОЛЕНЬ
«Хорошо бы напасть на след того самого стада яков! — сказал себе Каспар, вскидывая двустволку на плечо и выходя из хижины. — Мне думается, это самые крупные животные в долине, и мясо у них недурное, особенно молодое. Интересно знать, сколько ремней можно выкроить из шкуры старого быка?»
Тут Каспар принялся вычислять в уме, сколько ярдов сыромятного ремня шириной в два дюйма можно сделать из шкуры яка-самца. Карл сказал, что такая ширина будет вполне достаточной, если шкура яка окажется не менее прочной, чем бычья.
Мысленно сняв шкуру с большого быка, разостлав ее на земле и измерив, молодой охотник пришел к выводу, что из нее получится около двадцати ярдов крепкого ремня. Затем он таким же образом измерил шкуру коровы. В стаде четыре коровы: раньше было пять, но одну убили. Каспар решил, что из шкуры коровы выйдет десять ярдов ремня, ибо корова чуть ли не вдвое меньше быка. К тому же шкура у нее тоньше и не такая прочная.
Были также молодые бычки и телки — всего четыре. Каспар успел их пересчитать во время охоты. Из шкур этого молодняка можно нарезать всего каких-нибудь тридцать ярдов. Таким образом, все шкуры — быка, коров и годовиков, — по расчетам Каспара, могут дать ремень длиной в девяносто ярдов. Как жаль, что не сто! Ведь Карл сказал, что ремень должен быть именно такой длины. В стаде, правда, были и маленькие телята, но от них не было никакого толку.
«Может быть, в долине не одно стадо яков, — продолжал размышлять Каспар. — Если так, то все благополучно. Еще один бык — и дело сделано».
Тут охотник снял с плеча двустволку, проверил кремни и затравку, снова вскинул на плечо и весело зашагал дальше.
Каспар не сомневался, что рано или поздно перебьет все стадо. Ведь животные, как и сам охотник, не могли выбраться из долины. Если они имели обыкновение уходить на другие пастбища, то должны были идти через ледник, но теперь путь был отрезан. Они были во власти охотника — можно сказать, в загоне.
По правде сказать, долину нельзя было назвать загоном. Она была шириной в добрую милю и едва ли не больше в длину. Это был маленький мирок. Местность была пересеченная. Множество холмов, высокие утесы; хаотически нагроможденные глыбы, поднимавшиеся на высоту нескольких сот футов; глубокие лощины, где в трещинах скал росли деревья. Были в долине и дремучие леса и густые, трудно проходимые заросли. О, здесь имелось множество убежищ, и самое глупое животное могло спрятаться от самого хитроумного охотника! Но все же добыча не могла окончательно уйти, и, хотя яки на время могли скрыться, они должны непременно вернуться, и Каспар надеялся со временем истребить их всех.
Каспару представлялся замечательный случай показать свое охотничье искусство. Освобождение его друзей и его самого зависело от него — на юношу была возложена ответственная задача раздобыть шкуры. Неудивительно, что нервы его были до крайности напряжены.
Выйдя из хижины, он направился вдоль берега озера. Несколько раз ему попадались китайские гуси и дикие утки, но, предвидя встречу с яками, он зарядил оба ствола пулями. Это было сделано в расчете на большого быка, ибо даже крупная дробь не пробила бы его толстой шкуры. Нечего было и думать стрелять по водяной птице. Он мог легко промахнуться, а между тем порох и свинец следовало экономить. Итак, он приберег заряд для лучшей добычи и зашагал дальше.
Некоторое время он шел вдоль берега озера, но яков не было видно; тогда он направился к утесам. Он надеялся найти стадо среди скал.
Карл, знакомый по книгам с привычками этих животных, рассказал ему, что они любят пастись среди скал и утесов.
Каспар прошел через лесок, и перед ним открылась небольшая поляна, поросшая густой, высокой травой; кое-где разбросаны группы кустов и низкорослых деревьев.
Он шел осторожно, как подобает охотнику, оглядываясь по сторонам и чутко прислушиваясь.
Когда Каспар пересекал поляну, его внимание привлек странный звук. Он очень напоминал тявканье лисицы, которое Каспару не раз приходилось слышать на родине. Однако этот лай показался ему громче и отрывистее лисьего.
Пройдя несколько шагов, он увидел животное, ничуть не похожее на лисицу, но именно оно издавало эти звуки.
Каспар чуть не расхохотался, увидав, что тявкает не лисица, не собака и даже не волк, а животное, от которого никак нельзя было этого ожидать, — олень!
Это было маленькое изящное создание, не выше двух футов, причем рога были длиной в семь — восемь дюймов. Его легко было принять за антилопу, но Каспар заметил у него на рогах отростки, совсем крохотные, длиной около дюйма. Несомненно, это представитель семейства оленей. У него была светло-рыжая шерсть, короткая и гладкая. Присмотревшись, Каспар обнаружил, что из уголков рта у животного торчат клыки, как у мускусной кабарги. Действительно, это был ее близкий родственник — какур, или лающий олень, названный так благодаря издаваемому им звуку, привлекающему внимание охотников.
В Индии встречается немало разновидностей лающих оленей, еще почти неизвестных натуралистам; к ним относится так называемый мунтжак. У него также имеются клыки и один отросток на стволе рогов.
Лающие олени нередко встречаются в предгорьях Гималаев и обычно не заходят выше семи — восьми тысяч футов; но иной раз они поднимаются по течению реки или по долине на значительно большую высоту. Тот, которого увидел Каспар, очевидно, забрел в эту прекрасную долину летом, идя по леднику и побуждаемый любопытством или каким-нибудь инстинктом. Бедное маленькое создание! Ему не суждено было вернуться назад…
Но Каспар не сразу решился выстрелить: некоторое время он колебался, стоит ли тратить заряд на такого крошку, и даже позволил ему уйти.
Когда олень убегал, охотника удивил странный звук, издаваемый им на бегу, похожий на стук костяшек или кастаньет. Этот стук был слышен ярдов за пятьдесят, а может быть, и дальше; но внезапно животное остановилось, повернуло голову и снова начало тявкать.
Каспар не понимал, чем вызван этот странный стук, да и ни один натуралист не мог бы объяснить это явление; может быть, этот звук издавали копыта, вернее — половинки копыт, ударявшиеся друг о друга, когда ноги взлетали над землей.
Известно, что подобный же звук, только гораздо более громкий, издают копыта крупного лося. Каспар недолго ломал голову над этим вопросом. Животное, стоявшее на расстоянии выстрела, было слишком заманчивой мишенью, и первый же выстрел оборвал его тявканье.
— Не тебя я хотел убить, — сказал Каспар. — Но у старого оленя слишком жесткое мясо. Уж, наверно, ты, малыш, окажешься более нежным, и я уверен, что из тебя получится замечательное жаркое. Я повешу тебя на дерево, а потом вернусь за тобой.
С этими словами Каспар связал какуру ноги и повесил тушу на дерево.
Потом, снова зарядив правый ствол, он двинулся дальше на поиски яков.
Глава 34
АРГУС
Каспар шел по-прежнему осторожно, намереваясь незаметно подкрасться к якам. Он оставил Фрица в хижине, так как собака была бесполезна при такой охоте.
Он действовал с такой необычайной осторожностью по двум причинам: во-первых, нужно было подойти к якам на расстояние выстрела; во-вторых, он опасался свирепого нрава животного.
Юноша не забыл, как вел себя старый бык при их первом знакомстве. Перед уходом Каспара Карл настоятельно его предостерегал, советуя действовать осторожно и не попадаться на рога быку. Поэтому Каспар решил не стрелять, если поблизости не окажется дерева или другого укрытия, куда можно будет спастись от преследований быка.
Он выбирал подходящее место для нападения, и это значительно усложняло охоту.
Он бесшумно продвигался вперед, пересекая лужайки, минуя перелески, пробираясь сквозь густые заросли. Выходя на открытое место или на прогалину, он всякий раз останавливался, прячась в кусты, и зорко осматривался. Ему не хотелось наскочить на яков и оказаться носом к носу со старым быком. Он не собирался подходить к ним ближе чем на пятьдесят — шестьдесят ярдов. Его ружье как раз подходило для стрельбы с такого расстояния.
Несколько раз ему перелетали дорогу крупные птицы; он обратил внимание на прекрасных фазанов-аргусов, которые красотой своего оперения почти не уступают павлину.
Эти птицы, заметив охотника, замирают на ветке, и нужен исключительно зоркий глаз, чтобы различить их в листве. Действительно, яркая раскраска их оперения, делающая аргуса таким заметным среди других птиц, помогает ему оставаться незаметным в листве. С головы до хвоста птица испещрена яркими золотистыми крапинами и благодаря этому сливается с фоном листвы. Будь эта птица менее яркой окраски, но одноцветной, ее куда легче было бы заметить. К тому же листва деревьев, если смотреть на нее снизу, пронизана солнечными бликами, на которые так похожи крапины, усеивающие оперение аргуса.
Быть может, таким путем природа охраняет красивую и довольно беспомощную птицу, ибо этот пернатый красавец плохо летает, и не будь у него способности прятаться, он легко становился бы добычей врагов.
Натуралисты и охотники уже давно заметили, что дикие животные принимают окраску окружающей их среды. Казалось бы, ягуары, леопарды и пантеры с их желтыми пятнистыми шкурами должны бросаться в глаза, но в действительности их трудно различить среди зарослей, в которых они обитают. Животное такой же величины, но одноцветное, было бы заметнее, чем они. Самая пестрота делает их невидимыми, так как многочисленные пятна как бы раздробляют большое их тело на множество мелких пятен, и неопытному глазу нелегко уловить контуры зверя на пестром фоне зарослей.
По этой же причине фазана-аргуса крайне трудно заметить среди листвы и сучьев, когда он сидит на дереве. Но, незаметный для охотника, он видит все, что происходит внизу. Он назван очень метко. Хотя глазки на его оперении и слепы, но у него есть два глаза, которые могут соперничать по зоркости с глазами пресловутого стража, чье имя он носит[178]: аргус все время следит за охотником и сразу почует, что его заметили, и в тот момент, когда щелкнет курок, улетает, громко хлопая крыльями.
Но, как мы уже говорили, аргус плохо летает. Его главные маховые перья слишком малы, а второстепенные малоподвижны, поэтому он летает тяжело, как все птицы его породы. Зато он быстро бегает по земле, помогая себе крыльями, подобно дикой индейке, которой он приходится сродни. Когда аргус спокоен, его оперение не так ярко и красиво. Во всей своей красе он предстает перед самками. Тогда он распускает свои пестрые крылья — совсем как павлин. Хвост также развертывается и поднимается кверху, между тем как в обычное время он вытянут в одну линию с телом и два его длинных пера лежат одно на другом.
Аргус обитает в южной части Азии, хотя пределы его распространения еще не вполне изучены. Он встречается повсюду в Индии, а также в Китае.
Но аргус не единственный красивый фазан этих стран. Индия, вернее — Южная Азия, является также родиной настоящих фазанов. Натуралистам уже известно больше десяти видов этих птиц. Некоторые из них гораздо красивее райской птицы. Когда фауна Индийского архипелага будет глубже изучена, вероятно, там откроют еще несколько пород фазанов.
Глава 35
ОХОТА НА ЯКОВ
Каспар не собирался охотиться за аргусами и потому дал красивым птицам улететь невредимыми. Ему нужен был хрюкающий бык.
Где могло находиться стадо? Он обошел уже половину долины, не встретив яков; но в этом не было ничего странного. Среди скал и деревьев очень легко укрыться, а дикие животные, даже крупные, обладают такой способностью прятаться, что нередко удивляют охотника. Даже гигантский слон может скрыться в реденькой заросли, а огромный черный буйвол иной раз неожиданно выскакивает из кустов, которые не выше его самого. Мы знаем, что куропатка может притаиться в низенькой травке, а белка — вытянуться вдоль тонкой ветки, но и крупные дикие животные умеют прятаться в самом незначительном укрытии.
Это было известно молодому охотнику, и потому он не слишком удивился, что не сразу встретил яков. Первое нападение на них, при котором они потеряли двоих, сделало яков осторожными, а шум, производимый при постройке хижины, несомненно, заставил их уйти в самую уединенную часть долины; туда-то и направлялся теперь Каспар.
Он рассчитывал найти их где-нибудь в чаще и уже начинал жалеть, что не взял с собой Фрица, как вдруг увидел все стадо. Животные спокойно щипали траву на открытой поляне. Телята, как и в тот раз, играли друг с другом, прыгали, тоненько похрюкивали, как поросята. Коровы и годовички беспечно паслись, по временам приподнимая голову и оглядываясь, но в их взгляде не было ни малейшей тревоги. Быка не было видно.
«Где же может он быть? — спросил себя Каспар. — Или это другое стадо? Раз, два, три… — И он начал пересчитывать животных. — Нет, по-видимому, это те же самые, — продолжал он рассуждать. — Три коровы, четыре годовика, телята — их как раз столько же, только нет быка. Где же спрятался этот старый негодяй?»
Каспар внимательно оглядел всю прогалину и опушку леса, но быка нигде не было видно.
«Куда же девался старый ворчун? — снова спросил себя Каспар. — Что, если он ушел один или с другим стадом? Нет, наверняка в долине оно только одно. Яки — животные общительные, — так говорил Карл. Если бы их было больше, они собрались бы здесь все. Должно быть, бык ушел один, по какому-нибудь своему делу. Я думаю, что он недалеко. Вероятно, притаился в кустах. Готов биться об заклад, что старый як придумал какую-нибудь хитрость. Он охраняет стадо, а сам остается невидимым. Это дает ему преимущество перед всяким врагом, какой вздумает на них напасть. Если бы волку, медведю или другому хищнику пришло в голову сейчас напасть на телят, он наверняка стал бы подкрадываться в этих зарослях. Да я и сам бы так поступил, если бы не подозревал, что там находится бык. Прячась за деревьями и под кустами, я потихоньку подобрался бы как можно ближе. Но теперь я не стану этого делать: я почти не сомневаюсь, что старый як притаился вон в тех кустах. Он кинется на меня, как только я туда направлюсь, а в этой заросли нет ни одного большого дерева, так что и кошке не спастись, если он за нею погонится. Только мелкие кустики и терновник. Это не годится — я не стану подкрадываться к ним с этой стороны. Но откуда же мне подойти к ним? Другого прикрытия нет… А, вон тот валун пригодится!»
Каспар уже давно заметил валун — в тот самый момент, когда увидел стадо. Его нельзя было не приметить: он лежал посреди прогалины, и его не закрывали ни кусты, ни деревья. Это был огромный четырехугольный камень, величиной с сарай, с ровной, как площадка, вершиной. Но Каспар не собирался за ним прятаться: чаща кустарника казалась ему более надежной.
Однако теперь, когда Каспар боялся встретиться в зарослях с быком, он остановил внимание на валуне.
Если он будет идти так, чтобы валун оставался между ним и яками, животные его не заметят, и он сможет приблизиться к стаду на расстояние выстрела. Каспару казалось, что стадо тоже приближается к валуну, и он рассчитывал, что к тому времени, как сам доберется до камня, оно окажется достаточно близко и он сможет прицелиться в самое крупное животное.
Не выходя из зарослей, в которых он стоял все это время, Каспар стал продвигаться вдоль опушки, пока валун не оказался между ним и стадом. Хотя камень был очень велик, он не вполне закрывал стадо, и нужно было подкрадываться крайне осторожно, чтобы приблизиться к животным, не испугав их. Каспар сообразил, что если ему удастся незаметно пройти первые сто ярдов, то валун заслонит его от стада и он сможет спокойно идти дальше. Но первые шаги будут очень опасны. Придется продвигаться ползком. Каспар не раз подкрадывался к сернам в своих родных горах, и ему частенько приходилось ползать по скалам и камням, по снегу и льду. Поэтому проползти каких-нибудь сто ярдов было для него сущим пустяком.
Недолго думая он опустился на колени, затем распластался на траве и пополз, как огромная ящерица. К счастью, трава, вышиной в добрый фут, скрывала его от взглядов животных. Он продвигался, толкая перед собой ружье и время от времени осторожно приподнимая голову над травой и следя глазами за стадом. Когда оно изменяло направление, он тоже слегка отклонялся в сторону и старался так держаться, чтобы валун все время находился между ним и стадом.
Минут через десять охотник очутился шагах в тридцати от валуна. Теперь камень целиком его скрывал. Каспару надоело ползти, и он рад был снова встать на ноги. Вскочив, он пустился бежать и через миг уже спрятался за валуном.
Глава 36
КАСПАР ОТСТУПАЕТ К ВАЛУНУ
Только теперь Каспар заметил, что каменная глыба состоит из двух камней разной величины. Тот, что покрупнее, как мы уже сказали, был величиной с небольшой домик или с порядочный стог сена; тот, что поменьше, — не больше фургона. Они лежали почти вплотную друг к другу; между ними был узкий промежуток, шириной в фут, что-то вроде коридора. Этот промежуток напоминал трещину. Вероятно, обе глыбы некогда составляли одну огромную скалу, которая раскололась в результате какого-то землетрясения.
Каспар почти бессознательно отметил все эти особенности скалы. Он искал глазами место, откуда можно было бы стрелять в животных, оставаясь для них невидимым. На поверку валун оказался плохим прикрытием: у него были гладкие отвесные бокa, ни одного выступа, на который можно было бы опереть ружье; ни одной выбоины, чтобы спрятаться. Вершина валуна слегка нависала, так как была шире основания. Вокруг него не было ни кустика, ни высокой травы — скрыться решительно негде. Земля была почти голая, вся растительность вытоптана — по-видимому, это было любимое место отдыха яков — их «скребница». В самом деле, кругом на земле виднелись следы яков — некоторые из них совсем свежие и такие крупные, что, без сомнения, это были следы быка.
Вид этих широких свежих следов навел Каспара на невеселые размышления: «Что, если як стоит по другую сторону валуна?» Охотник был в затруднении. До этой минуты ему не приходило в голову, что бык может оказаться за скалой.
«Гром и молния! — воскликнул про себя Каспар. — Если он там, то, чем скорее я вернусь в лес, тем лучше для меня. Как я об этом не подумал! Он затопчет меня в полминуты. Бежать некуда… А-а! Какая удача!»
Восклицание это вырвалось у охотника, когда он бросил взгляд наверх. Он заметил, что у того валуна, который поменьше, одна сторона была пологой и по ней легко будет взобраться на вершину, а оттуда можно перебраться на большой валун.
«Вот это здорово! — размышлял Каспар. — Там я буду в безопасности и смогу быстро туда взобраться, если бык за мной погонится. Валун ничуть не хуже дерева. Он меня спасет. Есть там бык или нет — я буду стрелять!»
Он еще раз осмотрел ружье и, опустившись на колени, пополз, огибая большой валун.
То и дело он осматривался по сторонам, глядя с опаской на выступ, за которым, как он думал, скрывался бык. По временам он прислушивался, ожидая услышать дыхание или хрюканье старого яка.
«Если бык за валуном, то я уже совсем близко от него, — подумал Каспар, — и вполне могу услышать его дыхание». Один раз охотнику даже почудилось, что он слышит хрюканье. Но сознание, что он сможет в любой момент взобраться на камень, придавало ему уверенность.
Все эти размышления и действия заняли не более пяти минут. Еще минуту-другую он полз, огибая валун, и наконец увидел стадо.
Быка все еще не было видно. Вероятно, он стоял за камнем. Теперь стадо находилось прямо против Каспара, на расстоянии выстрела, и, позабыв о быке, он решил стрелять в ближайшее к нему животное.
В одно мгновение юноша вскинул ружье, нажал на спуск — грянул выстрел, и эхо гулко прокатилось по долине,
Одна из коров упала на траву, убитая наповал. Раздался второй выстрел, и пуля перебила ногу молодому бычку, который, хромая, потащился к кустам. Остальные яки опрометью бросились прочь и мигом скрылись в зарослях.
Возле упавшей коровы остался маленький теленок. Он бегал вокруг, подскакивая к ней и тоненько похрюкивая; видимо, он был ошеломлен и не понимал, что такое стряслось с его матерью.
При других обстоятельствах Каспару стало бы жалко теленка, так как, несмотря на страсть к охоте, сердце у него было доброе. Но сейчас ему было не до жалости. Он поспешил снова зарядить ружье, прицелился в теленка, и палец его уже лежал на спуске, когда послышался звук, от которого у него екнуло сердце. Рука дрогнула — и годовичок получил пулю не в грудь, а в ногу. Каспара испугало хрюканье старого быка; оно показалось ему таким близким, что охотник опустил ружье и стал озираться по сторонам, думая, что животное рядом с ним.
Он не увидел быка, но был уверен, что тот находится всего в нескольких футах, за валуном. Опомнившись, Каспар вскочил на ноги, как молния бросился к камню и начал на него взбираться.
Глава 37
ВСТРЕЧА С РАЗЪЯРЕННЫМ БЫКОМ
Каспар быстро поднимался по откосу более низкого валуна. Он озирался по сторонам, ожидая, что бык вот-вот выскочит из-за угла. Но, к его удивлению, як все не появлялся, хотя, огибая валун, Каспар несколько раз слышал его грозное хрюканье.
Очутившись на верху невысокого валуна, он решил взобраться оттуда на вершину большого. Там он окажется в полной безопасности, оттуда будет видна вся поляна, и он сможет следить за быком. Юноша ухватился за выступ и стал подтягиваться кверху. Задача была нелегкая, ибо край валуна приходился на уровне его подбородка. Пришлось пустить в ход всю свою силу и ловкость.
Подниматься было так трудно, что Каспар даже не заглянул на площадку. Но, очутившись наверху, охотник с ужасом увидел, что он не один. Бык тоже был там!
Да, он все время находился на широкой каменной площадке; вероятно, спокойно лежал, греясь на солнце и следя, как пасется внизу на лужайке его стадо. Так как он лежал на дальнем краю площадки, то охотник его не увидел, приближаясь к валуну. Каспар не подумал даже взглянуть в ту сторону, как не стал бы искать старого быка на вершинах деревьев. Он совершенно забыл слова Карла, уверявшего, что яки очень любят лежать на вершинах скал и на больших валунах, — иначе он не попал бы в такое затруднение.
Увидев быка, молодой охотник остолбенел от ужаса; несколько мгновений он стоял как вкопанный, не зная, что предпринять.
К счастью, бык стоял на дальнем конце площадки, наблюдая за тем, что делается в долине. Он очень тревожился за свое семейство и громко хрюкал, словно призывая своих назад. Он не мог понять, что вызвало такую суматоху, хотя был уже знаком с ужасными последствиями этих громких звуков. Он подошел к самому краю, словно собираясь спрыгнуть с вершины, забыв о том, что гораздо безопаснее спуститься по отлогому склону.
Когда Каспар карабкался иа площадку, бык услыхал, как звякало ружье, ударяясь о камень, и как только юноша встал на ноги, як повернулся, и взгляды их встретились.
На мгновение оба замерли. Каспар оцепенел от ужаса; его противник, вероятно, был изумлен неожиданной встречей. Правда, пауза была краткой. В следующий миг разъяренный як ринулся вперед, издавая свирепое хрюканье.
Избежать столкновения было невозможно, увернуться некуда! Даже самый искусный матадор не мог бы уклониться от рогов быка на таком тесном пространстве. К тому же Каспар стоял у самого края валуна.
Оставалось только спрыгнуть с площадки на нижний утес и спуститься вниз тем же путем, каким он поднялся. Это и сделал Каспар, повинуясь инстинкту самосохранения.
Скатившись кубарем по склону нижнего валуна, он упал ничком на землю и услышал стук копыт по камню у себя за спиной, и через миг бык ринулся вслед за ним с валуна.
К счастью, Каспар не разбился, и, к счастью, сила инерции, заставившая его упасть ничком, бросила его врага на землю довольно далеко от него. И не успел бык подняться, как молодой охотник вскочил на ноги.
Но куда бежать? Деревья были слишком далеко — ему ни за что не добежать до них! Не успеет он пробежать и половину прогалины, как свирепый зверь догонит его и пронзит своими ужасными рогами… Куда деться? Куда?..
В смятении и нерешительности он повернулся и кинулся обратно к большому валуну.
На этот раз он быстрее взбежал по его склону и ловчее поднялся на площадку, но у него не было надежды на спасение. Он действовал безотчетно, в порыве смертельного ужаса.
Огромное животное мгновенно тоже взбежало по склону и вспрыгнуло на площадку с легкостью серны или дикой козы. С пеной у рта и горящими глазами бык бросился вперед.
Каспар почувствовал, что пришла его последняя минута. Он пробежал гранитную площадку и стоял на самом ее краю. Вернуться назад и спуститься по склону было невозможно: мстительный враг преграждал путь. Оставалось либо спрыгнуть с валуна, либо быть сброшенным вниз рогами свирепого быка. Высота была головокружительная — больше двадцати футов! — но другого выхода не было. И Каспар бросился в пустоту…
Он упал на ноги, но страшный толчок ошеломил его, и он свалился. В следующий миг небо над ним потемнело — это бросился вслед за ним огромный бык, — и тотчас же он услышал, как копыта яка тяжело стукнулись о камни.
Охотник с трудом поднялся на ноги и тут же снова упал. Одна нога отказывалась служить. Он понял, что случилось что-то неладное, — вероятно, у него сломана нога.
Но даже эта страшная мысль не сломила духа отважного юноши. Он увидел, что бык тоже очнулся и снова приближается к нему. Тогда Каспар подполз к валуну, волоча за собой больную ногу.
Вы подумаете, что надежды для Каспара больше нет и разъяренный бык, ринувшись, наверняка затопчет его насмерть. Так и случилось бы, если бы у Каспара не хватило духа на новое усилие.
Повернувшись к валуну, он увидел в нескольких шагах от себя расселину — и у него вспыхнула надежда.
Как мы уже говорили, она была шириной около фута, но кверху постепенно суживалась, так что глыбы соприкасались верхушками.
Каспар тотчас же сообразил, что ему делать. Если ему удастся добраться до трещины и вовремя в нее заползти, он будет спасен. Трещина достаточно широка, чтобы он мог туда залезть, но окажется слишком тесной для его врага.
Он быстро пополз на четвереньках, подгоняемый отчаянием. Очутившись возле трещины, он ухватился за выступ камня и забрался внутрь. Еще секунда — и было бы поздно.
Он услышал, как бык ударился рогами о края трещины; вслед за ударом раздалось свирепое хрюканье.
У охотника вырвался крик радости: он понял, что спасен.
Глава 38
КАСПАР В РАССЕЛИНЕ
Каспар глубоко вздохнул, переводя дух. От пережитого ужаса, от стремительного бега, от прыжков по скалам и от боли у него захватило дыхание. Еще минута — и он потерял бы сознание.
Встретив неожиданное препятствие, бык, казалось, еще больше рассвирепел. Он бросался из стороны в сторону, издавая гневное ворчание, и по временам ударял рогами о скалы, словно надеясь разбить их и добраться до своей жертвы. Один раз он даже просунул голову в трещину, и покрытая пеной морда чуть не коснулась Каспара. К счастью, широкая, мохнатая грудь быка не могла просунуться дальше, и ему с трудом удалось высвободить рога из расселины.
Каспар воспользовался этим и, схватив первый попавшийся камень, начал так яростно колотить быка по морде, что животное быстро отскочило от валуна. И хотя оно продолжало метаться у входа в расселину, но уже не решалось повторить нападение.
Почувствовав себя в безопасности, Каспар с беспокойством подумал, что у него сломана нога. Неизвестно, сколько времени ему придется просидеть здесь взаперти, — он знал, что мстительный як ни за что не уйдет, пока перед ним будет находиться его враг. Эти животные готовы разорвать на клочки разозлившее их существо, но, как только потеряют его из виду, словно забывают о нем.
Бык вовсе не собирался уходить. Он расхаживал взад и вперед, свирепо хрюкая и время от времени ударяя рогами о край расселины, как будто все еще надеясь достать свою жертву.
Каспар теперь смотрел равнодушно на маневры врага. Его гораздо больше занимала нога, и он стал ее исследовать, как только ему удалось поудобнее устроиться.
Он осторожно ощупал ногу книзу от колена, так как знал, что бедро у него цело. Он опасался, что кость сломана у щиколотки. Нога распухла и посинела, но признаков перелома Каспар не обнаружил.
«В конце концов, — сказал он себе, — возможно что я только ее вывихнул. Если так, то еще не беда».
Он продолжал осмотр, пока наконец не пришел к заключению, что у него только вывих.
К нему опять вернулось хорошее настроение; правда, нога сильно болела, но Каспар умел стоически переносить боль.
Он начал размышлять о своем положении. Как избавиться от этой свирепой осады? Услышат ли Карл и Оссару, если он закричит? Едва ли. Он почти в миле от них, их отделяют от него леса и холмы. К тому же они, вероятно, рубят деревья и ни за что не услышат его призыва. Но ведь они не все время будут работать, а он будет кричать без передышки. Он уже заметил, что в долине, со всех сторон замкнутой утесами, звуки разносятся на большое расстояние, повторенные эхом. Без сомнения, Карл и Оссару в конце концов его услышат, особенно если он пронзительно свистнет; ведь Каспар умел свистеть очень громко и часто вызывал эхо в Баварских горах.
Он готов был вызвать эхо и в Гималаях и уже поднес пальцы к губам, когда ему пришло в голову, что этого не следует делать.
— Нет, — сказал он после краткого размышления, — я не стану их вызывать. Я знаю, что мой свисток призовет Карла. Брат прибежит на мой сигнал. Я не смогу его остановить, и он побежит прямо к этим скалам и попадет на рога к быку! Нет, я не имею права рисковать жизнью Карла. Не буду свистеть!
И он отнял пальцы от губ.
— Если бы только у меня было ружье, — сказал он после паузы — если бы только у меня было мое ружье, я бы живо расправился с тобой, гадкая скотина! Благодари свою судьбу, что я его бросил!
Ружье выпало из рук Каспара в момент, когда он повалился ничком, спрыгнув с валуна в первый раз. Без сомнения, оно лежит там, где упало, но он не знал, в какую сторону оно отлетело.
— Если бы не нога, — размышлял он вслух, — я бы еще мог выбежать за ним. О, только бы мне достать ружье! Мне бы удалось прикончить старого ворчуна, прежде чем он успеет махнуть хвостом. Уж я бы с ним расправился!.. Постой! — продолжал охотник, помолчав несколько минут. — А ведь ноге, кажется, лучше. Она сильно распухла, но не очень болит. Это только вывих! Ура, это только вывих!.. Клянусь честью, я попытаюсь достать ружье!
Каспар встал на ноги и, держась за стенки, направился к выходу. Он мог свободно продвигаться вперед, так как расселина была всюду одинаковой ширины.
Но — странное дело! — увидев, что охотник направился к противоположному концу трещины, старый бык кинулся туда и уже приготовился поднять его на рога.
Каспар не ожидал от быка такой хитрости. Он надеялся, что ему удастся сделать вылазку с одной стороны валуна, пока враг сторожит другой выход; но теперь он убедился, что животное не уступает ему в хитрости. Валун был не так велик — бык живо обежит вокруг и догонит его, если он осмелится отойти футов на шесть от выхода.
Он попробовал было сделать такую вылазку, но был загнан обратно в расселину противником, который едва не задел его рогами. Теперь як стал еще внимательнее следить за своей жертвой, ни на минуту не спуская с нее глаз.
Однако охотник кое-что выиграл от своей вылазки. Он разглядел, где лежит его ружье, и рассчитал расстояние от него. Будь у него хоть тридцать секунд, он достал бы оружие. Он начал ломать голову, как бы отвлечь внимание врага.
Внезапно у Каспара возник план, и он решил его испробовать.
Як стоял у самого отверстия трещины, опустив голову чуть не до земли; он свирепо вращал глазами, и из пасти у него капала пена.
Каспар мог бы ткнуть быку в голову копьем, будь оно у него, или ударить дубиной.
«Нет ли способа ослепить это животное?» — подумал он.
— А, клянусь честью, я придумал! — воскликнул он, когда ему пришла счастливая мысль.
Он быстро снял через голову свою пороховницу и пояс; потом, сняв куртку, растянул ее, насколько позволяла ширина трещины. Затем он стал приближаться к выходу из расселины, надеясь, что ему удастся набросить куртку быку на рога и, ослепив его на несколько мгновений, выбежать за ружьем.
Идея была хорошая, но — увы! — ее не удалось привести в исполнение. Расселина была очень узкая — Каспар был стеснен в движениях и не смог достаточно метко бросить куртку. Она упала быку на лоб; он отшвырнул ее презрительным движением головы и продолжал наблюдать за противником.
На мгновение Каспар упал духом; понурив голову, он вернулся в глубь расселины.
«В конце концов, пожалуй, придется вызвать Карла и Оссару, — подумал он. — Нет, нет! Подожду их вызывать. Я нашел новый выход. И на этот раз мой план удастся, клянусь честью!»
Он схватил пороховницу и вынул из нее пробку. Затем снова подполз к выходу, возле которого стоял бык. Держа пороховницу за широкий конец и вытянув руку как можно дальше, он насыпал кучку пороха на самое ровное и сухое место, потом, постепенно притягивая пороховницу к себе, сделал дорожку длиной в несколько футов.
Хрюкающий як не подозревал, какой сюрприз его ожидает.
Каспар достал кремень, огниво, трут, в один миг высек искру и поджег пороховую дорожку.
Как он и рассчитывал, як был напуган вспышкой и окутан густым сернистым дымом. Слышно было, как животное мечется по сторонам, не зная, куда бежать. Этого мига и ждал Каспар, стоявший наготове, — он тотчас же выскочил из расселины и кинулся к ружью.
Он поспешно схватил его и, забывая о вывихнутой ноге, помчался назад с быстротой оленя. Но даже и теперь он едва успел отступить, так как бык, оправившись от неожиданности, увидел его, погнался и снова ударился рогами о валун.
— Ну, — сказал Каспар, обращаясь к своему свирепому врагу, — на этот раз ты скорее испуган, чем ранен, но в следующий раз, когда я зажгу порох, дело будет посерьезнее… Стой где стоишь, старик! Дай мне еще минуту — и я покончу с этой осадой. Не жди от меня пощады!
С этими словами Каспар стал заряжать ружье. Он зарядил оба ствола; впрочем, хватило бы и одного, потому что первый же выстрел сделал свое дело — свалил старого быка и навсегда прекратил его хрюканье.
Каспар вышел из расселины, приложил пальцы к губам — и громкий свист разнесся далеко по долине. Такой же свист раздался в ответ из леса. Через четверть часа Каспар увидел, что к нему бегут Карл и Оссару. Вскоре они слушали рассказ Каспара о его приключении и поздравляли со спасением.
Убитых яков ободрали, разрубили туши на куски и понесли к хижине. Неподалеку они заметили раненого молодого быка, и Оссару прикончил его ударом копья; его также ободрали и разрубили. Все это сделали Карл и шикари: у Каспара разболелась нога, и им пришлось нести его на спине.
Глава 39
ТАР
У Карла и Оссару тоже было приключение, хотя и не такое опасное, как у Каспара. На этот раз они были скорее зрителями, чем участниками. Настоящим героем был Фриц: пес вышел живым из схватки, получив большую рану в бок.
Они выбрали сосну и начали ее рубить. Из лесу послышался странный шум — смесь тявканья и воя. Охотники прервали работу и стали прислушиваться. В этом месте лес был негустой; среди кустарника кое-где поднимались сосны, и можно было видеть на большое расстояние.
Внезапно мимо них пробежало, видимо спасаясь, какое-то крупное животное. Бежало оно не слишком быстро, и они успели хорошо его разглядеть. Крепкие заостренные рога, дюймов в двенадцать, показывали, что оно принадлежит к парнокопытным. Шерсть у него была жесткая и грубая, спина темно-бурая, бока рыжеватые, живот еще светлее; на шее, передних ногах и по бокам шерсть была очень длинной и свисала, словно грива; шея толстая, а голова довольно крупная. Рога были загнуты назад и почти касались шеи; ноги толстые и сильные; вид у этого животного был довольно нелепый, и бежало оно тяжело и неуклюже.
Ни Карл, ни Оссару еще не видели подобного животного, но они решили, что это тар — разновидность породы антилоп, называемого козерогом; в Ост-Индии их имеется несколько видов.
И в самом деле это был тар.
Но тар был не один. Правда, он бежал не слишком быстро, но со всей скоростью, на какую был способен. Он убегал от стаи зверей, которые гнались за ним по пятам. Карл принял их за волков, но Оссару сразу узнал диких красных собак. Их было около дюжины, каждая ростом с волка; у них были длинные шеи и туловища, довольно длинные морды, длинные прямые уши с закругленными концами. Шерсть рыжая, на животе светло-бурая; хвост длинный, пушистый, на конце темный, между глазами темное пятно, придававшее им свирепое, волчье выражение. Они-то и издавали вой и тявканье, яростно преследуя тара.
Услыхав этот дикий концерт, Фриц стал метаться, явно желая к ним присоединиться. Хорошо, что Карл перед началом работы привязал его к дереву, чтобы пес не попал в какую-нибудь беду. Фрицу волей-неволей пришлось остаться на месте.
Тар и собаки промчались мимо и вскоре исчезли из виду, хотя вой еще раздавался вдали.
Через некоторое время вой стал громче, и охотники, заметив, что животные возвращаются в их сторону, прервали работу, желая посмотреть, чем все это кончится. Снова на полянке показался тар, а собаки по-прежнему бежали за ним по пятам.
Они опять исчезли, но через некоторое время шум стал вновь нарастать, и охотники с удивлением увидели, что собаки снова гонят тара по лесу.
Видно было, что собакам ничего не стоит догнать тара, — они не отставали от него, и каждая могла бы вцепиться ему в горло. Казалось, они гонят его для забавы и могут окончить травлю когда захотят.
Охотники были отчасти правы. Дикие собаки могли бы в любой момент перегнать тара, но они и делали это, так как не раз уже заставляли его поворачивать. Но вместе с тем они гнали его не только для забавы. Они гоняли свою жертву взад и вперед для того, чтобы загнать ее ближе к своим логовищам и избавить себя от труда тащить туда ее тушу. Такова была цель красных собак, и этим объяснялось их странное поведение. Оссару, хорошо знакомый с дикими собаками, уверял Карла, что, когда у них родятся щенята, они гоняют крупных животных с места на место, до тех пор пока не загонят поближе к своим логовам, а там прыгают на жертву, перегрызают ей горло; а щенята сбегаются к туше и терзают ее в свое удовольствие.
Охотник за растениями уже слышал об этой странной повадке и наблюдал ее у диких собак Южной Африки, так что не очень удивился рассказу Оссару.
Впрочем, Карл и Оссару вели эту беседу несколько позже. В данный момент они были слишком поглощены этим зрелищем — тар снова промчался ярдах в двадцати от того места, где они стояли.
Казалось, он был вконец затравлен, и чувствовалось, что преследователи скоро его свалят. Но этого они, видимо, не хотели делать. Им нужно было угнать его еще немного подальше.
Однако животное не собиралось им уступать, хотя выбивалось из сил. На пути ему попалось большое дерево — ствол имел несколько футов в диаметре; у основания оно разветвлялось в разные стороны, причем развилка была так глубока, что там вполне поместилась бы лошадь. Именно такого места искал тар — он бросился к дереву, вскочил в развилку и, повернувшись к врагам, приготовился к обороне.
Этот внезапный маневр, видно, сбил c толку свирепых преследователей. Многие из них были знакомы с таром и испугались направленных на них рогов. Они знали, что, заняв такую позицию, он становится опасным противником.
Поэтому почти все старые собаки отступили, поджав хвост. Но в стае было несколько молодых собак, быстрых и горячих, — им стыдно было опускать хвост перед врагом, и они тотчас же набросились на тара. Последовала сцена, глядя на которую Оссару хлопал в ладоши и хватался за бока от смеха. Завязалась отчаянная битва. Со всех сторон налетали дикие собаки, но в следующий миг с визгом отползали назад, раненые, искалеченные. Одна или две уже лежали, пронзенные насмерть острыми рогами тара. Оссару наслаждался этой сценой, так как питал большое отвращение к диким собакам, нередко отбивавшим у него добычу.
Неизвестно, чем окончился бы этот бой, так как он был внезапно прерван. Фрицу удалось сорваться с привязи, и он тотчас же помчался к месту свалки. Дикие собаки были испуганы его появлением не меньше, чем их жертва, и, не желая знакомиться с пришельцем, все как одна разбежались и вскоре исчезли в лесу.
Фриц никогда еще не видал тара, но, считая, что это настоящая дичь, сразу же кинулся на него. Легче было бы ему справиться с саксонским диким кабаном! Тар нанес псу несколько ударов рогами; борьба была упорная и длилась бы еще долго, если бы Карл не пришел на помощь Фрицу, одним выстрелом покончив с таром.
Охотников интересовала только шкура тара, так как мясо у него жесткое и невкусное. Однако жители Гималаев усердно охотятся на тара, тем более что охота эта считается нетрудной, а вкус у них неприхотливый.
Глава 40
ОССАРУ И ДИКИЕ СОБАКИ
Как мы уже сказали, Оссару всей душой ненавидел диких собак. Они часто перехватывали у него добычу, когда он уже готов был подстрелить антилопу или оленя, а сами не стоили выстрела: мясо у них несъедобное и шкуру почти невозможно продать. Оссару считал их нечистыми животными, которых следует уничтожать.
Поэтому шикари ликовал, видя, что старый тар избивает своих врагов.
Но Оссару суждено было в этот же вечер жестоко поплатиться за свое злорадство. Его ожидало еще одно приключение, о котором мы сейчас расскажем.
Поляна, где были убиты яки, находилась далеко от хижины — их разделяли добрых три четверти мили. Карлу и Оссару пришлось несколько раз ходить туда и обратно, чтобы перенести мясо и шкуры. Каспар лежал с вывихнутой ногой и не мог им помочь. Мы уже сказали, что его самого пришлось нести домой.
Они перетаскивали мясо до самого вечера; начало смеркаться, а между тем оставалось принести еще четверть туши. За этой последней четвертью Оссару отправился один, а товарищи занялись приготовлением ужина.
Разрубив туши на куски, охотники предусмотрительно развесили мясо высоко на ветвях, чтобы дикие звери не могли его достать. Они знали по горькому опыту, что в долине множество хищников, которые могут уничтожить бычью тушу в несколько минут. Правда, им было неизвестно, какой хищник утащил мясо самки яка. Карл и Каспар думали, что это волки, так как волки различных пород встречаются во всех частях света, а в Индии их несколько видов: например, ландгах, или индийский волк, бериа — волк желтой масти, ростом с борзую, с длинными прямыми ушами, как у шакала. Там встречается и шакал и обыкновенная, или пятнистая, гиена, поэтому трудно было сказать, какой из этих хищников произвел грабеж. По мнению Оссару, это сделали не волки, а дикие собаки — быть может, та самая стая, которая в этот день гналась за таром. По существу, большой разницы нет, ибо эти дикие собаки — скорее волки, чем собаки, и не менее свирепы и прожорливы, чем волки. Но вернемся к Оссару.
Когда шикари возвратился на поляну, он был не слишком удивлен, увидев множество шнырявших там диких собак. С полдюжины их собралось под деревом, где висело мясо: некоторые подпрыгивали кверху, и все смотрели на соблазнительный кусок жадными, голодными глазами. С обрезками и потрохами они уже покончили — не оставалось ни кусочка. Оссару пожалел, что не захватил с собой ни лука со стрелами, ни копья — словом, никакого оружия. Даже свой длинный нож он оставил, чтобы удобнее было нести увесистую четверть туши.
Но Оссару не устоял перед искушением попугать проклятых собак и, набрав крупных камней, бросился прямо в середину стаи, швыряя камни направо и налево.
Ошеломленные внезапным нападением, собаки шарахнулось в кусты. Но Оссару заметил, что они не слишком-то испуганы: иные из них отступали нехотя, злобно ворча; отойдя на несколько шагов, останавливались и, казалось, готовы были вернуться.
Первый раз в жизни Оссару ощутил что-то похожее на страх перед дикими собаками. Он привык нападать на них, как только завидит, и они всякий раз разбегались, стоило ему крикнуть. Но таких огромных и свирепых собак ему еще не приходилось встречать, и у них был явно воинственный вид.
Между тем стемнело, а ночью такие звери становятся куда смелее, чем днем. Действительно, темная тропическая ночь — самое подходящее время для грабежа и нападений. К тому же эти собаки, вероятно, никогда еще не встречали человека, а потому и не обнаруживали перед ним страха.
Шикари стало не по себе — ведь он был совсем один, да к тому же безоружен.
Он расшвырял все камни, но несколько собак еще оставались на поляне; в серых сумерках они казались гораздо больше, чем на самом деле.
Оссару хотел было набрать еще камней, чтобы расправиться с собаками, но, поразмыслив, решил, что лучше их не затрагивать. Ведь он уже почти разогнал собак, а если их разозлить, они могут наброситься на него всей стаей. Итак, он решил оставить собак в покое и делать свое дело.
Он поспешно снял мясо с дерева и, взвалив его на плечи, зашагал по направлению к хижине.
Не прошел он и нескольких шагов, как ему стало казаться, что собаки идут за ним следом. Вскоре он в этом убедился, услыхав за спиной шелест сухих листьев и приглушенное рычание. Шикари шел, согнувшись под тяжестью мяса, и не мог повернуть голову и осмотреться по сторонам.
Но топот лап слышался все ближе, все громче тявканье и рычание. Опасаясь, как бы на него не напали сзади, Оссару остановился и обернулся.
Зрелище, которое ему представилось, могло нагнать ужас даже на храбреца. Он ожидал увидеть собак шесть, но их было несколько десятков разного возраста и размера. Казалось, на него ополчились все собаки, обитавшие в долине.
Но отважный шикари не упал духом. Он слишком презирал диких собак, чтобы их испугаться, и решил снова отогнать свору.
Прислонив свою ношу к дереву, он наклонился и начал шарить по земле. Набрав крупных камней, величиной с добрый булыжник, он отошел на несколько шагов и стал изо всех сил швырять их в своих преследователей, целясь прямо в морды. Ему удалось ранить нескольких собак, которые с воем убежали прочь; но самые сильные и свирепые не отступили, только злобно ощерились и зарычали; в лунном свете зловеще поблескивали их оскаленные зубы.
Оссару понял, что ничего не выиграл от этой новой стычки, и, взвалив мясо на плечи, двинулся дальше, но вскоре заметил, что собаки не отстают от него.
У него был уже соблазн бросить мясо, но внезапно ему пришла счастливая мысль — он придумал, как избавиться от своих отвратительных спутников.
Оссару уже приближался к озеру. Его отделяла от хижины широкая полоса воды — залив озера. Он знал, что залив довольно мелкий и его можно перейти вброд. Еще сегодня он переходил его, сокращая дорогу. Сейчас он находился ярдах в ста от этого брода; быть может, он успеет добежать до воды прежде, чем собаки нападут на него. Он бросится в воду, и это их отпугнет. Как ни дерзки его враги, они, конечно, не пустятся за ним вплавь.
Тут он снова вскинул мясо на плечи и быстро зашагал к озеру. Ему не было времени осматриваться по сторонам. Он и без того знал, что стая бежит за ним по пятам, ибо по-прежнему раздавались топот, взвизгивание и рычание. Эти звуки все приближались, и, когда наконец Оссару подошел к озеру, ему показалось, что он чувствует горячее дыхание зверей у себя на ногах.
Он спустился с берега и быстро пошел по дну, по колено в воде. Теперь он уже ничего не слышал, кроме плеска рассекаемой им воды, и не оглядывался на своих преследователей, пока не выбрался на другой берег залива. Тут он остановился и огляделся. К его досаде, вся стая плыла за ним, как гончие за оленем. Они уже находились на середине залива. Конечно, собаки не сразу решились пуститься вплавь, что позволило Оссару довольно далеко уйти вперед; если бы не это, они вышли бы на берег в одно время с ним. Но, во всяком случае, они скоро его нагонят.
Оссару хотел уже бросить мясо и убежать, но охотничья гордость не позволяла ему позорно отступить перед дикими собаками. Он побежал по тропинке со своей ношей. До хижины было уже недалеко. Он все еще надеялся добраться до нее, прежде чем псы решатся на него напасть.
Он бежал со всех ног. Но собаки его нагоняли — все ближе раздавались их ворчание, тявканье, рычание, горячее дыхание обдавало ему ноги. Тут он почувствовал, что его ноша становится все тяжелее. Внезапно она перетянула его — и он упал навзничь на землю. Несколько собак вцепились в мясо и повалили ношу и носильщика.
Но Оссару тут же вскочил и, схватив большую палку, которая случайно оказалась у него под рукой, начал изо всех сил колотить собак, громко крича.
Началась дикая свалка: собаки яростно боролись, хватали зубами палку, наскакивали на охотника, но шикари ловко действовал своим импровизированным оружием, отражая натиск врагов.
Он уже начал уставать; без сомнения, еще немного — и он окончательно выбился бы из сил, и собаки растерзали бы его на клочки. Но в эту страшную минуту какое-то большое пятнистое тело выпрыгнуло из темноты и ринулось в самую гущу собак.
Это был Фриц. А с Фрицем прибежал его хозяин Карл, вооруженный двустволкой; грянули выстрелы, и страшная свора рассеялась, как стадо баранов, оставив на месте несколько трупов.
Битва быстро закончилась, Оссару был спасен; но он дал страшную клятву отомстить диким собакам.
Глава 41
МЕСТЬ ОССАРУ
Оссару так обозлился на собак, что поклялся не ложиться спать, пока им не отомстит. Карлу и Каспару любопытно было знать, что он собирается делать. Они предполагали, что собаки будут всю ночь бродить вокруг хижины. Действительно, невдалеке раздавался их вой. Но каким образом Оссару с ними расправится? Тратить порох и пули на этих гнусных тварей не стоило; к тому же вряд ли можно было бы застрелить хоть одну из них в такой темноте.
Может быть, Оссару хочет перестрелять их из лука? Но разве ночью в них попадешь! А между тем он грозился устроить им настоящую гекатомбу[179]. Разумеется, лук и стрелы не годились для этой цели. Но, в таком случае, как же он хочет с ними расправиться?
Братья знали, что ни в одну западню не поймаешь больше одной собаки; и даже самую простую западню было бы долго сооружать, не имея нужных инструментов. Правда, можно было в несколько минут сделать «медвежью ловушку» из бревен, которые валялись кругом, но она убьет только одну жертву, и Оссару придется снова и снова ее налаживать. Кроме того, умные собаки, увидев, что одна из них погибла, не полезут второй раз в ловушку.
Карл с Каспаром никак не могли догадаться, что именно задумал Оссару, но ясно было, что у него уже созрел какой-то план; поэтому они не задавали ему лишних вопросов и молча следили за его приготовлениями.
Первым делом шикари собрал жилы всех убитых ими животных: тара, лающего оленя, подстреленного утром, и яков, которых принесли неободранными. Вскоре в руках у него оказался целый пучок жил; он высушил их на огне, потом скрутил из них тонкие бечевки. Получилось больше двадцати штук. Карл с Каспаром работали под его руководством, помогая ему. Эти туго скрученные бечевки были похожи на грубые струны. Оставалось только завязать мертвую петлю — и струна превращалась в силок.
Теперь братья начали догадываться о намерении Оссару: он решил ловить собак в силки. Но как он будет ставить эти силки — разве годится для этого тонкая струна? Ведь собаки быстро перегрызут ее. Без сомнения, так бы и случилось, если бы силки были поставлены обычным способом. Но у Оссару была какая-то своя система, и он рассчитывал переловить всех собак.
Когда веревка была готова, Оссару вырезал из сырых шкур яков двадцать прочных ремней. Затем он нарезал в кустах штук двадцать палочек и заострил их с одного конца. Далее вырезал для приманки двадцать кусков из туши тара, мясо которого было не слишком хорошо на вкус. После всех этих приготовлений Оссару отправился ставить силки.
С ним вышли и братья. Прихрамывая на одну ногу, Каспар нес вместо факела ярко пылающую сосновую ветку — луна зашла, и для работы нужен был свет. Карл тащил ремни, палочки и куски мяса, а Оссару — силки.
Невдалеке от хижины росло множество деревьев, нижние ветви которых были горизонтально расположены над землей. Это была разновидность горного ясеня, называемая также «ведьмин орешник». Ветви у него длинные, тонкие, но крепкие и упругие, сучьев не так много, а листва негустая. Это было как раз то, что требовалось Оссару; он приметил эти деревья еще в сумерках, подходя к хижине и думая о том, как бы расправиться с дикими собаками. От тотчас же подошел к деревьям.
Подпрыгнув, шикари поймал одну из веток, пригнул к земле, затем отпустил, чтобы испытать ее упругость. По-видимому, он остался доволен; тогда он оборвал с ветки листья, обломал сучья и привязал к ее верхнему концу сыромятный ремень. К другому концу ремня привязал палочку, которую затем воткнул в землю. Она прочно удерживала ветку в согнутом положении, но при малейшем толчке ветка должна была разогнуться.
Затем шикари привязал к ремню кусок мяса так, что до него нельзя было дотронуться, не вытащив из земли палочку, после чего ветка должна была подняться кверху. Наконец был поставлен силок с таким расчетом, что всякое животное, пытаясь схватить приманку, непременно попадало в скользящую петлю.
Поставив западню, Оссару перешел к другому дереву и там проделал то же самое; затем — к третьему, и так далее. Когда все двадцать силков были поставлены, охотники вернулись в хижину.
Все трое просидели еще с полчаса, чутко прислушиваясь. Они надеялись, что еще с вечера в западню попадется хоть одна дикая собака.
Но, вероятно, собак напугал яркий факел, потому что ни вой, ни лай, ни рычание не нарушали ночной тишины. Наконец охотникам надоело ждать — они затворили дверь своей хижины и крепко уснули.
Кажется, никогда в жизни им не приходилось так тяжело работать. Они до смерти устали и с наслаждением растянулись на душистых листьях рододендронов.
Не будь их сон так глубок, они всю ночь слышали бы разноголосый шум: лай, ворчание, тявканье, вой, рычание, отчаянный визг и треск ветвей. Этот адский концерт, казалось, разбудил бы и мертвеца. Перед рассветом все трое проснулись и, увидев, что в щели хижины проникает свет, быстро вскочили и бросились наружу. Солнце еще не взошло, но, когда они протерли заспанные глаза, им представилось зрелище, при виде которого Карл и Каспар разразились громким смехом, а Оссару стал прыгать как сумасшедший, издавая ликующие крики.
Почти в каждую западню попалась жертва, почти на каждом дереве в ветвях висела дикая собака; одни, повешенные за шею, уже издохли; другие захваченные поперек тела, отчаянно барахтались; третьи, схваченные за лапу, висели головой вниз, почти касаясь земли, высунув покрытый пеной язык.
Зрелище было удивительное. Оссару сдержал свою клятву и жестоко отомстил собакам. Он довершил мщение: схватив свое длинное копье, прикончил тех, которые еще корчились в предсмертных судорогах.
Глава 42
МОСТ ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНУ
Я не стану утомлять тебя, юный читатель, описывая со всеми подробностями, как происходила постройка моста. Достаточно сказать, что все работали без передышки и днем и ночью, пока не закончили сооружение.
Строить мост пришлось целый месяц. Это была всего-навсего длинная жердь, дюймов шести в поперечнике и более ста футов длиной. Она была составлена из двух тонких, сосновых стволов, крепко связанных сыромятными ремнями. Но этим стволам нужно было придать одинаковую толщину на всем протяжении, а в распоряжении охотников был лишь небольшой топорик и ножи. Затем следовало просушить древесину на костре и как можно тщательнее и прочнее соединить стволы, чтобы они не разошлись под тяжестью людей. Кроме того, нужно было заготовить множество ремней, а для этого пришлось застрелить и поймать множество животных; необходимы были и другие приспособления; все эти приготовления заняли немало времени.
К концу месяца мост был готов. Вот он лежит в ущелье на снегу, и его конец находится в нескольких футах от трещины. Охотники перенесли его сюда и теперь собираются поставить на место.
Но как же они смогут уложить эту жердь поперек зияющей трещины? — спросите вы. Жердь достаточно длинна, чтобы достать до другого края трещины, — ведь они точно рассчитали ее длину. И по нескольку футов будет лежать по обоим краям. Но как они ее перебросят? Если бы кто-нибудь стоял на другом краю трещины, держа конец ремня, привязанного к жерди, то было бы нетрудно это сделать. Но как быть, когда у них нет такой возможности? Ясно, что толкать жердь вперед невозможно: конец такой длинной жерди опустится книзу прежде, чем дойдет до противоположного края, а как тогда его поднять? Действительно, когда жердь продвинется больше чем наполовину, она перегнется вниз, и тяжесть ее будет так велика, что им даже втроем ее не сдержать — она выскользнет у них из рук и упадет на дно пропасти, откуда, конечно, невозможно будет ее достать. Так печально окончится затея, стоившая им огромных трудов.
Но охотники не такие простаки, чтобы проработать целый месяц, не разрешив предварительно всех этих задач. Карл тщательно разработал проект переброски моста. Вскоре и вам будет ясно, как они собирались преодолеть эту трудность.
Вы видите здесь лестницу длиной футов в пятьдесят, прочный блок со шкивом и ремнями в несколько мотков крепкого сыромятного ремня.
А теперь они будут перебрасывать мост через пропасть. Для этого охотники и пришли сюда со всеми сооружениями. Не теряя времени, они приступили к работе.
Лестницу приставили к отвесной скале, нижний ее конец укрепили во льду как можно ближе к краю пропасти.
Мы сказали, что лестница была длиной в пятьдесят футов; следовательно, верхний ее край находился на высоте пятидесяти футов. На этом уровне в скале удалось найти небольшое углубление, вероятно выщерб, которое легко можно было углубить.
Работая топориком и железным острием копья, Оссару проделал в скале отверстие глубиной в фут. На это ушел час.
Затем в отверстие вставили крепкий деревянный кол, подогнав его как можно точнее, а чтобы он держался плотнее, вокруг него забили несколько клиньев.
Кол выдавался из скалы примерно на фут; на нем сделали глубокие зарубки и привязали ремнями блок.
Блок состоял из двух шкивов, оси которых были достаточно прочны, чтобы выдержать груз в несколько сот фунтов. Этот механизм был предварительно подвергнут испытанию.
Затем в утес, в нескольких футах от пропасти, вбили еще один кол, чтобы наматывать на него ремень, когда понадобится затормозить движение.
После этого ремень был накинут на шкив. Это было делом всего нескольких минут, так как ширина ремня была тщательно подогнана к желобам шкивов.
Затем ремень, или «канат», как его называли юноши, был привязан к длинной жерди, которая должна была служить мостом. Один канат был привязан к ее концу, другой — к середине, как раз у места соединения стволов.
Узлы затягивались чрезвычайно тщательно, особенно тот, что посередине: этот канат имел большое значение. Он должен был играть роль главной опоры или устоя моста — не только не позволять длинной жерди «нырнуть» вниз, но и не давать ей разломиться.
Если бы изобретательный Карл не придумал такой опоры, то сделанный ими тонкий шест не выдержал бы веса человеческого тела, а сделай они его толще, им не удалось бы перебросить шест через трещину. Центральной опоре было уделено особое внимание, и этот канат и шкив, через который он перекидывался, были гораздо прочнее остальных. Второй канат должен был поддерживать дальний конец жерди с таким расчетом, чтобы, приблизившись к противоположному краю трещины, его можно было приподнять над поверхностью льда.
Закрепив хорошенько ремни, каждый занял свое место. Оссару, как самый сильный, должен был толкать жердь вперед, а Карл и Каспар — тянуть ремни. Под жердь подложили катки, ибо хотя она была всего шести дюймов толщиной, но вследствие значительной длины было бы трудно ее продвигать даже по скользкой поверхности мерзлого снега.
По сигналу Карла жердь пришла в движение. Вскоре ее конец уже выдвинулся над пропастью у подножия черной скалы.
Медленно, неуклонно он двигался вперед. Все работали молча, поглощенные своим делом.
Наконец передний каток подошел к краю трещины, и пришлось остановить движение, чтобы его переместить.
Сделать это было очень просто: несколько оборотов ремня вокруг болта — и механизм остановился. Шкивы работали превосходно, и ремни легко скользили по желобкам.
Катки были переставлены, ремни размотаны, и мост вновь пришел в движение.
Медленно, но уверенно продвигался он все дальше. И вот дальний его конец лег на противоположный край трещины и прополз еще несколько футов по твердому льду. Ближний конец жерди прочно закрепили другими ремнями — и зияющая пропасть была перекрыта мостом.
Только теперь строители остановились, чтобы взглянуть на дело своих рук; когда они увидели это странное сооружение, которое должно было вернуть им свободу, у них невольно вырвалось громкое, ликующее «ура».
Глава 43
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНУ
Вероятно, вам кажется смешным это жалкое подобие моста, и вам любопытно узнать, как по нему переправились охотники.
Взобраться на призовую мачту — сущий пустяк по сравнению с такой переправой. Подняться на шест толщиной в тесть дюймов на высоту нескольких ярдов — дело нетрудное, но когда речь идет о том, чтобы проползти по жерди добрую сотню футов да еще над страшной пропастью, от одного вида которой кружится голова и замирает сердце, это немалый подвиг. Но если бы не было другого способа переправы, наши герои, вероятно, на это отважились бы.
Оссару не раз приходилось взбираться по высоким стволам бамбука и пальм, и он легко бы с этим справился, но для Карла и Каспара, которые не были опытными верхолазами, такой переход был опасен. Поэтому они придумали более легкий способ.
Для каждого было сделано нечто вроде большого стремени. Для этого срезали прочный молодой ствол, подержали его над огнем и согнули в виде треугольника. Этот грубый равнобедренный треугольник был крепко связан у вершины сыромятным ремнем, и к нему привязан другой ремень, образовавший петлю и скользивший по жерди, как ролик. Пассажир должен опираться ногами на стремя; одной рукой он будет держаться за шест, а другой постепенно передвигать ролик. Таким способом все переправятся через пропасть. Ружья и другие вещи привяжут на спину. Возьмут с собой лишь самое необходимое. Что же касается Фрица, то они долго ломали голову, как его переправить. Оссару решил эту задачу, предложив завернуть пса в шкуру, привязать себе на спину и перенести через пропасть. Для шикари это была сущая безделица.
Через каких-нибудь полчаса после наводки моста все трое были уже готовы к переправе. Каждый стоял, держа в руке свое стремя; вещи были крепко привязаны за спиной. Фриц был закутан в косматую шкуру яка, и только его голова торчала над плечом шикари; у пса было крайне удивленное выражение, и в этот момент он был очень комичен. Казалось, он недоумевал, что с ним собираются делать.
Оссару вызвался переправиться первым, но отважный Каспар заявил, что он легче всех и должен идти первым. Однако Карл возразил, что так как проект моста принадлежит ему, то он первый обязан испытать свое сооружение. Карл был начальником отряда, самым авторитетным лицом и сумел настоять на своем.
Осторожно подойдя к концу жерди, лежавшему на льду, он перекинул через жердь ремень и опустил стремя. Затем крепко схватился руками за жердь и стал обеими ногами в стремя. Несколько раз он сильно давил на него ногой, испытывая его прочность, при этом он держался руками за жердь; потом левой рукой протолкнул петлю по жерди на фут вперед. При этом стремя продвинулось на такое же расстояние; Карл слегка покачнулся и повис над пропастью.
Зрелище было страшное, и товарищи с замиранием сердца следили за каждым движением Карла, но положение их было настолько трагично, что они сознательно шли на опасность.
Через несколько минут Карл был далеко от края ледника и, казалось, висел на ниточке между небом и землей.
Если бы тот или другой конец жерди соскользнул со скалы, отважный Карл полетел бы в бездну; но они приняли все меры предосторожности: ближний конец жерди они закрепили, навалив на него крупные камни, а дальний удерживался канатом, натянутым так туго, как только позволял блок.
Несмотря на все это, жердь сильно прогнулась посередине под тяжестью Карла, и было ясно, что, не будь системы блоков, им ни за что бы не переправиться. Когда Карл находился на полпути между берегом и опорным канатом, жердь прогнулась гораздо ниже уровня ледника, и ботанику пришлось подвигать петлю вверх по склону. Ему удалось однако, благополучно добраться до места соединения стволов.
Наступил «узловой» момент, действительно, петля не могла двигаться дальше, ибо канат преграждал ей путь. Нужно было снять ее с жерди и снова надеть по другую сторону каната.
Карл зашел слишком далеко, чтобы отступить перед такой пустячной трудностью. Он уже обдумал, как ему поступить в данном случае, и только на миг остановился, чтобы передохнуть. Ухватившись рукой за канат, он уселся верхом на жердь и без особого труда перенес петлю по другую сторону каната. Сделав это, он снова «ступил в стремя» и продолжал свой путь.
По мере того как он приближался к противоположному краю пропасти, ему становилось все труднее двигаться, ибо приходилось подниматься кверху, но, вооружившись терпением и напрягая силы, он неуклонно продвигался вперед; все ближе, ближе… наконец стукнулся ногами о ледяную стену.
Еще последнее усилие — и он взобрался на ледник и, отойдя на шаг от края, сорвал шапку и стал махать товарищам. На его торжествующий крик ему ответило с другого края звучное «ура». Но еще более громкое и радостное «ура» огласило ледник, когда через каких-нибудь полчаса все трое стояли рядом, по ту сторону трещины, глядя на оставшуюся позади зияющую пропасть.
Только тот, кому случалось избегнуть страшной опасности, вырваться из тюрьмы или спастись от смерти, может понять, какое глубокое, радостное волнение овладело в этот момент Карлом, Каспаром и Оссару.
Но — увы! — недолго продолжалась их радость; пережитый ими восторг был как бы проблеском света, который быстро угас, когда надвинулась мрачная туча.
Прошло не более десяти минут. Они освободили Фрица из его мохнатой оболочки и направились вниз по леднику, спеша выбраться из этого мрачного ущелья. Но не сделали они и пятисот шагов, как вдруг остановились; все трое побледнели и в ужасе преглянулись между собой. Никто не произнес ни слова, но все с многозначительным видом указали друг другу на что-то видневшееся впереди. Слова были излишни, все было понятно и без слов.
Перед ними зияла вторая трещина — гораздо шире той, через которую они перешли. Она тянулась от утеса до утеса, пересекая весь ледник. Шириной она была по крайней мере в двести футов, а какая глубокая! Ух! Они едва осмелились заглянуть в эту ужасную бездну. Было ясно, что переправиться через нее нет никакой возможности. Даже пес, казалось, это понимал, так как испуганно остановился на краю и печально завыл.
Я не буду передавать их унылых разговоров. Не стану подробно описывать их возвращение в долину. Мне незачем рассказывать, как они переправлялись обратно через пропасть и какие чувства испытывали, совершая этот опасный подвиг. Все это нетрудно себе представить.
Приближалась ночь, когда, измученные, обескураженные, они добрались до хижины и бросились на свои подстилки.
— Боже мой, боже мой! — в отчаянии воскликнул Карл. — Долго ли еще эта конура будет нашим домом?!
Глава 44
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Ночь прошла почти без сна. Печальные мысли никому не давали уснуть, а душу терзала острая боль обманутых надежд. Когда они засыпали, было еще хуже: им снились зияющие пропасти и отвесные утесы; снилось, что они висят в воздухе, каждый миг готовые упасть в страшную бездну, где ждет их гибель. Эти сны — искаженное отражение дневных испытаний — были необыкновенно ярки и еще ужаснее действительности. То один, то другой внезапно просыпался, разбуженный каким-то страшным переживанием, и предпочитал лежать без сна, чем снова испытать хотя бы во сне все эти ужасы.
Даже Фриц беспокойно спал в эту ночь. Его жалобные повизгивания доказывали, что и ему снятся тревожные, мучительные сны.
Яркое солнечное утро подействовало на охотников благотворно: оно разогнало ночные страхи. За завтраком к ним вернулось хорошее настроение. Каспар быстро развеселился, уписывая за обе щеки жареное мясо. Правда, все ели с аппетитом, так как накануне у них почти не было времени поесть.
— Если уж нам суждено навсегда остаться здесь, — заявил Каспар, — то зачем морить себя голодом! Еды здесь достаточно, у нас может быть очень разнообразный стол. Почему бы нам не наловить рыбы? Я видел, как форель играет в озере. Что ты скажешь, Карл?
Каспар говорил все это, желая ободрить брата.
— Не возражаю, — спокойно ответил ботаник. — Я думаю, в этом озере есть рыба. Я слышал, что в гималайских реках водится очень вкусная рыба; ее называют «гималайская форель»; однако неправильно, потому что это не форель, а разновидность карпа. Вероятно, мы и здесь ее найдем, хоть я не представляю себе, как она могла попасть в это уединенное озеро.
— Я только не знаю, — продолжал Каспар, — как ее вытащить из воды. У нас нет ни сетей, ни удилищ, ни крючков, ни лесок. Да и сделать их не из чего… Ты не знаешь какого-нибудь способа ловить рыбу, Оссару?
— Ах, саиб! — ответил шикари. — Дать мне бамбук — я живо сделать сетка ловить рыбка… Нет бамбук — нет сетка! Нет ничего для сетка — Оссару отравить вода, достать вся рыбка!
— Как — отравить воду?! Как ты это сделаешь? Где же взять яду?
— Я скоро достать отрава — бикх-трава годится.
— «Бикх-трава» — что это такое?
— Идем, саиб! Я показать вам бикх-трава — тут много.
Карл и Каспар встали и последовали за шикари.
Пройдя несколько шагов, проводник остановился и указал на густые заросли. Травянистый стебель этого растения поднимался футов на шесть над землей и был увенчен негустой кистью ярко-желтых цветов; листья были широкие, лапчатые.
Каспар быстро схватил одно из этих растений и, сорвав соцветие, понюхал его, чтобы узнать, пахнут ли цветы. Но вдруг он выронил из рук цветок, испуганно вскрикнул и, теряя сознание, упал на руки брату. К счастью, он успел лишь неглубоко вдохнуть ядовитый аромат, иначе слег бы на несколько дней. Да и то он еще несколько часов спустя испытывал головокружение.
Карл с первого же взгляда узнал растение. Это был один из видов аконита, или «волчьего зелья», близкий к европейскому «борцу», из корней которого добывают очень сильный яд.
Растение все целиком ядовито: и листья, и цветы, и стебли; но самая эссенция яда содержится в корнях, похожих на маленькие брюквы. Во всех частях света встречается немало видов этого растения, а в Гималаях — около двенадцати. То, на которое указывал Оссару, называется у ботаников Aconitum ferox, и из него добывают знаменитый индийский яд бикх.
Оссару предложил отравить рыбу, бросив в озеро побольше корней и стеблей этого растения.
Но Карл отверг это предложение, заметив, что хотя таким способом можно добыть сразу очень много рыбы, но они уничтожат ее больше, чем смогут съесть, а может быть, и совсем истребят.
Карл уже помышлял о будущем, предполагая, что им придется провести немало времени на берегу этого прелестного озера. Все трое уже стали подумывать о том, что, быть может, никогда не найдут выхода из долины; правда, каждый старался скрыть от других эти печальные мысли.
Увидав, что Каспар повеселел, Карл тоже попытался шутить.
— Не будем больше мечтать о рыбе, — сказал он. — Правда, рыба всегда бывает на первое, но что поделаешь! Уж как-нибудь обойдемся без нее. Что до меня, то мне надоело жареное мясо без хлеба и овощей. Я думаю, что здесь можно раздобыть и то и другое, потому что благодаря своему необычному климату наша долина обладает богатой, разнообразной флорой, какую можно увидеть только в ботаническом саду. Идемте же! Поищем, из чего бы нам сварить суп.
С этими словами Карл пошел вперед, а за ним Каспар, Оссару и верный Фриц.
— Посмотрите! — сказал ботаник, указывая на высокую сосну, стоявшую поблизости. — Взгляните на эти крупные шишки. Внутри мы найдем зернышки величиной с фисташку и очень приятные на вкус. Если их собрать побольше и поджарить, они вполне могут заменить хлеб.
— В самом деле, — воскликнул Каспар, — это сосна! Какие крупные шишки! Они не меньше артишока…
— Что это за порода, брат?
— Это один из видов, называемый «съедобные сосны», потому что их семена можно употреблять в пищу. Этот вид называется у ботаников «неоза». В других частях света также встречаются сосны со съедобными семенами: например, сибирская сосна или сибирский кедр, японский гик, сосна Ламберта в Калифорнии и несколько видов в Новой Мексике, где их называют «пиноны». Таким образом, сосна дает человеку не только ценную древесину, смолу, скипидар и канифоль, но и пищу. Из этих шишек ничего не стоит получить хлеб.
Карл шел все дальше по направлению к озеру.
— А вот и ревень! — воскликнул он, указывая на высокое растение. — Посмотрите-ка!
В самом деле, это был настоящий ревень, который нередко встречается в диком виде в Гималайских горах; на фоне крупных, широких листьев, окаймленных красной полосой, резко выделялась высокая пирамида желтых прицветников. Это одно из самых красивых травянистых растений. Жители Гималаев употребляют в пищу его толстые, кислые на вкус стебли в сыром или вареном виде, а листья высушивают и курят, как табак. Но невдалеке рос ревень другой породы, несколько мельче, листья которого, по словам Оссару, еще лучше подходят для этой цели. Оссару знал в этом толк: он высушивал и курил листья некоторых растений, с тех пор как охотники попали в долину. Действительно, у Оссару давно вышел бетель, и шикари очень страдал без своего любимого возбуждающего средства. Он очень обрадовался, что сможет заменить бетель «чулой» — так называл он дикий ревень. Оссару пользовался весьма оригинальной трубкой, которую мог соорудить в несколько минут. Поступал он так: втыкал в землю палочку и проделывал под землей горизонтальный канал длиной в несколько дюймов, потом вынимал палочку с другой стороны; таким образом получалась норка с двумя отверстиями. В одно отверстие он вставлял камышинку вместо мундштука, другой конец набивал листьями ревеня и закуривал. Можно сказать, что ему служила трубкой сама земля.
Такой способ курения в ходу у полудиких обитателей Индии и Африки, и Оссару предпочитал свою трубку всем остальным.
Карл шел все дальше, указывая своим спутникам различные съедобные породы кореньев, плодов и овощей. Среди них был дикий порей, который годился на похлебку. Было немало ягод — несколько видов смородины, вишен, земляники и малины, — давно уже известных в европейских странах, и братья приветствовали их как старых знакомых.
— Посмотрите! — сказал Карл. — Даже в воде можно найти растительную пищу. Видите эти большие белые и розовые цветы? Это знаменитый лотос. Стебли у него съедобные; а при желании из полых стеблей можно сделать сосуды для питья. А вот рогатый водяной орех, он тоже очень вкусный. О! Нам нечего жаловаться на судьбу! Еды у нас вдоволь!
Хотя Карл старался казаться веселым, на сердце у него было тяжело.
Глава 45
СНОВА ОБСЛЕДУЮТ УТЕСЫ
Да, у всех троих на душе скребли кошки, хотя охотники вернулись в хижину, нагруженные плодами, кореньями, орехами и овощами, и надеялись в этот день пообедать лучше, чем за последнее время.
Весь остаток дня они провели около хижины, усердно занимаясь кулинарией. Не то чтобы они уж так интересовались хорошим обедом, но это занятие отвлекало их от мрачных мыслей. Вдобавок им больше нечего было делать. До сих пор они целые дни напролет работали над изготовлением ремней и жерди для переправы, и за этим занятием время проходило незаметно, к тому же у них была надежда выбраться на свободу. Но теперь, когда надежда рухнула, когда затея кончалась неудачей, они не находили себе места и не знали, чем бы заняться.
Поэтому приготовление обеда из этих новых разнообразных овощей и плодов было приятным развлечением.
Все трое с удовольствием пообедали. В самом деле, они уже давно не ели овощей и отдали честь новым блюдам. Скромные дикие плоды показались им вкуснее самых лучших фруктов, созревающих в садах Европы. Было уже за полдень, когда они приступили к десерту. Они сидели под открытым небом, перед хижиной. Каспар говорил больше всех. Он изо всех сил старался развеселить товарищей.
— Давненько я не ел такой замечательной земляники, — заявил он. — Правда, с сахаром и сливками она была бы еще вкуснее… Как ты думаешь. Карл?
— Пожалуй, — кивнул головой ботаник.
— Напрасно, — продолжал Каспар, бросив выразительный взгляд на разостланную на земле шкуру яка, — мы перебили всех коров…
— Представь себе, — прервал его Карл, — я как раз думал об этом. Если нам суждено оставаться до конца наших дней в долине… Ах!.. — Это восклицание вырвалось у Карла против воли. Он не закончил фразу и снова погрузился в молчание.
Через несколько дней Карл вышел из хижины и, ни слова не сказав своим товарищам, направился к утесам. Правда, у него не было никакого определенного плана — ему просто захотелось на всякий случай еще раз обойти долину и обследовать окружающие ее скалы.
Никто из товарищей не предложил его сопровождать, даже не спросил, куда он идет. Оба были заняты своими делами: Каспар вырезал палочку, готовя шомпол для ружья, а Оссару занялся плетением сети — ему хотелось поймать одну из больших красивых рыб, которых много было в озере.
Итак, Карл отправился один.
Добравшись до утесов, он медленно пошел вдоль каменной стены; чуть ли не на каждом шагу он останавливался, вглядываясь в скалы и утесы. Он осматривал обрыв на всем его протяжении, фут за футом, еще тщательнее, чем раньше, хотя они в свое время очень внимательно его исследовали.
Что, если взобраться на утесы?..
Обследовав скалы, охотники убедились, что на них невозможно вскарабкаться. Но ведь можно и другим способом подняться на отвесный обрыв, и у Карла уже зародился новый план.
Вы спросите: что же он задумал? Уж не хочет ли он взобраться при помощи веревок?
Ничуть не бывало! Веревки при подъеме на скалу были бы совершенно бесполезны. Другое дело, если бы они были укреплены на ее вершине, тогда и Карл и его товарищи сумели бы по ним взобраться. Они могли бы сделать лестницу даже из одной веревки, привязывая к ней на некотором расстоянии друг от друга палочки вместо ступенек. Такое приспособление вполне бы годилось, если бы им пришлось спускаться в пропасть; тогда они привязали бы к скале веревку и спустились бы по ней. Но им приходилось подниматься. Кто же привяжет им наверху веревку? Ведь для этого надо предварительно вскарабкаться на обрыв…
Ясно, как день, что в данном случае нельзя было использовать веревочную лестницу. Поэтому Карл и не думал о ней.
Но он все же подумывал именно о лестнице — не о веревочной, а о деревянной, состоящей из боковин и ступеней; как всякая другая лестница.
«Как! — удивитесь вы. — Вскарабкаться на утес по лестнице? Но ведь вы сказали, что он высотой в триста футов. Самая длинная лестница в мире не дойдет и до половины утеса».
«Совершенно верно, я это знаю не хуже вас, — ответил бы Карл. — Но я и не собираюсь подниматься на утес по лестнице. Я имею в виду не лестницу, а лестницы».
«Вот как! Ну, это другое дело».
Карл прекрасно знал, что одной лестницы не хватит, чтобы подняться на такую высоту. Если бы даже им и удалось построить такую лестницу, ее все равно невозможно было бы установить.
Но ему пришло в голову, что можно было бы подняться по нескольким лестницам, поставив их одну над другой на уступах утеса.
В самом деле, тут не было ничего невероятного, хотя Карл и понимал, какое это отчаянное предприятие. Лишь бы в каменной стене оказались подходящие уступы! С этой целью он и обследовал скалы.
Итак, он медленно шел вдоль скал, внимательно их оглядывая.
Глава 46
КАРЛ КАРАБКАЕТСЯ НА УСТУП
Шаг за шагом обследуя скалы, Карл дошел до края долины, то есть до места, наиболее удаленного от их хижины.
Однако его поиски не увенчались успехом. Правда, уступов было немало и некоторые из них достаточно широки, чтобы можно было поставить на них лестницу и придать ей нужный наклон. Уступы виднелись на разной высоте, но, к несчастью, нельзя было встретить несколько уступов друг над другом. В большинстве случаев они отстояли один от другого довольно далеко, так что, если бы даже и удалось взобраться на один из них по лестнице, все равно оттуда не перебраться на вышележащий.
Итак, все эти уступы явно не подходили для задуманной Карлом операции; со вздохом разочарования он шел дальше.
На дальнем краю долины среди скал темнела расселина. Как мы уже упоминали, на всем протяжении каменной ограды было несколько таких расселин, но эта была глубже остальных. Она была очень узкая, шириной всего в несколько ярдов и около ста ярдов в длину. Ее дно находилось почти на одном уровне с долиной, хотя в некоторых местах поднималось немного выше благодаря обвалившимся с утесов камням и обломкам скал.
Карл вошел в эту расселину и стал внимательно оглядывать ее каменные стены. Всякий, кто увидел бы его в эту минуту, был бы поражен тем, как внезапно изменилось его лицо, еще минуту назад такое мрачное: глаза его вспыхнули радостью, и на губах появилась улыбка. Что же вызвало такую резкую перемену в его настроении? По натуре молодой ботаник был серьезен, а теперь, после пережитых неудач, стал еще серьезнее. Что же его так обрадовало?
Достаточно было взглянуть на скалы, чтобы понять причину его радости. Дело в том, что окружавшие расселину утесы были ниже, чем в других местах, — вероятно, всего около трехсот футов в вышину. Но Карл не этому обрадовался — сделать лестницу длиной в триста футов все равно невозможно, — он увидел в стене скал ряд уступов, один над другим, напоминавших полки шкафа.
Хотя утес был гранитным, он состоял из нескольких пластов, лежащих горизонтально. Пласты были разной толщины, и уступы находились на различном расстоянии друг от друга. Одни из них были шире, другие уже, но почти все — достаточной ширины, и на них можно было поставить лестницу.
Чтобы подняться на нижние уступы, казалось, хватило бы лестницы футов в двадцать — тридцать длиной, но было очень трудно определить ширину верхних уступов и промежутки между ними с такого расстояния. Промежутки были как будто не слишком велики, но верхние уступы казались очень узкими; если же это был оптический обман, то Карл мог ошибаться и относительно ширины пластов, — возможно, что они окажутся такими толстыми, что никакая лестница не достанет до верха.
Если когда-нибудь вам приходилось стоять на дне глубокого оврага, то вы могли заметить, как трудно определить размер предметов, находящихся наверху. Уступ шириной в несколько футов покажется простой впадиной в скале, а сидящая на нем птица — совсем крохотной. Как человек осторожный, Карл принимал во внимание и это обстоятельство.
Он был знаком с законами перспективы и не торопился делать окончательные выводы. Чтобы точнее определить ширину пластов и расстояния между ними, он отошел как можно дальше от скал. К сожалению, расселина была узка, и отойти можно было лишь на несколько шагов.
Тогда он вскарабкался на один из крупных валунов и стал смотреть оттуда; правда, его не удовлетворял этот «наблюдательный пункт», но лучшего не было. И Карл довольно долго простоял на этом пьедестале, глядя на отвесную стену: он то пристально рассматривал какое-нибудь место скалы, то пробегал глазами весь утес сверху донизу.
Лицо Карла снова омрачилось, так как он обнаружил препятствие, показавшееся ему непреодолимым. Один из промежутков между уступами был слишком велик, чтобы перекинуть через него лестницу, к тому же находился очень высоко. Туда невозможно будет подняться по лестнице.
Он заметил, что нижний пласт самый тонкий, а следующий — уже вдвое толще его.
До сих пор он только старался определить на глаз высоту, но тут ему пришло в голову, что необходимо измерить толщину нижнего пласта. Это нетрудно сделать, а измерив этот слой, можно будет судить и о толщине вышележащих.
Но как измерить толщину пласта? Уступ отстоял от земли на добрых сорок футов — вряд ли можно было бы измерить его рулеткой. Но у Карла не было и рулетки, и он собирался действовать по-другому.
Вы думаете, что он стал искать у подножия скал высокое дерево, вершина которого достигала бы до уступа, а потом измерил бы его высоту? Конечно, это было бы очень удобно, и Карл охотно применил бы этот способ, если бы не подвернулся другой, который показался ему еще проще.
Он мог бы определить высоту путем триангуляции, но для этого тоже понадобилось бы дерево и вдобавок — нудные вычисления, отнимающие много времени и не дающие надежных результатов.
Если взобраться на уступ, будет очень легко измерить его высоту. Нужно только спустить с него бечевку с камешком на конце, вроде плотничьего отвеса.
Случайно у него оказался довольно длинный ремешок, вполне пригодный для этой цели, и Карл решил тотчас же подняться на уступ.
Вынув ремешок из кармана и привязав к нему камешек, он подошел к утесу и начал на него взбираться.
Это оказалось труднее, чем он думал, и он с немалым трудом вскарабкался на уступ. Для Каспара такое восхождение было бы сущей безделицей, так как молодой охотник привык лазить по альпийским скалам, гоняясь за сернами.
Но Карл был неважным альпинистом, — добравшись до уступа, он совсем запыхался и даже удивлялся своей смелости.
Пройдя несколько шагов по уступу до места, где обрыв был вертикальным, он опустил камешек на ремешке и быстро измерил толщину пласта. Увы! Уступ оказался гораздо выше, чем он предполагал, стоя внизу. Увидев результат измерения, Карл упал духом. Теперь он уже не сомневался», что верхние промежутки невозможно перекрыть никакой лестницей.
Грустный и унылый, он подошел к тому месту, где поднимался. собираясь спуститься вниз.
Но иной раз сказать легче, чем сделать; представьте себе смущение Карла, когда он увидел, что спуститься со скалы так же невозможно, как взлететь кверху. Сомнений не было: он оказался в тупике — буквально приперт к стене!
Глава 47
КАРЛ В ТУПИКЕ
Легко понять, почему Карл очутился в таком затруднении.
Всякий, кто поднимался по крутому склону — по стене, по мачте, даже по обыкновенной лестнице, — отлично знает, что подниматься гораздо легче, чем спускаться; а если подъем очень крут и труден, то зачастую человек, поднявшись наверх, не может спуститься обратно.
Но Карл не мог оставаться здесь на ночь. Нужно было что-то предпринять, чтобы выйти из этого неприятного положения, и, собравшись с духом, он сделал попытку спуститься.
Он встал на колени на краю уступа, лицом к утесу. Затем, вцепившись в край скалы обеими руками, осторожно спустил ноги. Ему удалось нащупать небольшой выступ и встать на него, но на этом дело и кончилось. Он не решался отпустить руки, чтобы сделать еще один шаг вниз, а опуская ногу в поисках новой опоры, не находил ничего. Несколько раз он прощупывал ногой поверхность скалы, стараясь найти впадинку или выступ, но опереться было решительно не на что, и в конце концов он был вынужден подтянуться наверх и снова очутился на уступе.
Карл решил поискать более подходящее место для спуска.
Можно было спокойно ходить по уступу, который был шириной в несколько футов. Он тянулся вдоль скалы футов на пятьдесят, и ширина его была почти одинакова на всем протяжении.
Но вскоре Карла постигло разочарование. Спуститься с уступа могла бы разве кошка или другое животное, вооруженное крючковатыми когтями — во всяком случае, не находилось места, удобного для спуска, — и он вернулся к тому месту, где вскарабкался на утес, сильно опасаясь, что ему так и не удастся спуститься.
Карл разыскивал спуск и был всецело поглощен осмотром нижней части утеса. Но, идя назад, он стал осматриваться по сторонам и заметил в скале, в нескольких футах над уступом, темное отверстие. Оно было величиной с обыкновенную дверь, и, приглядевшись. Карл обнаружил, что это вход в пещеру. Он заметил также, что пещера постепенно расширяется и, вероятно, очень велика. Однако в данный момент она его не интересовала. У него лишь промелькнула мысль, что ему, может быть, придется там переночевать. Это было вполне вероятно, если, конечно, Каспар и Оссару не хватятся его до наступления ночи и не освободят из этой «тюрьмы». Но они вполне могли этого не сделать — ведь случалось, что тот или другой из них уходил надолго, и товарищи нисколько за него не тревожились. Вероятно, они начнут беспокоиться о нем, лишь когда стемнеет. Но в темноте они могут пойти не в ту сторону и будут долго блуждать по лесу, пока не приблизятся к месту, где он находится. Он был в самом дальнем конце долины, в расселине, замкнутой скалами и загороженной высоким лесом, поэтому издали не будет слышно его криков.
Он прекрасно понимал, что сам не в силах выбраться отсюда. Остается ждать прихода Оссару или Каспара. Итак, вооружившись терпением, Карл уселся на краю уступа.
Не думайте, что он сидел молча. Он понимал, что, если будет молчать, охотникам будет трудно его найти, поэтому по временам он вставал и зычно кричал; эхо подхватывало его крик и разносило по расселине. Но на его призыв отвечало только эхо. Хотя он кричал очень громко, ни Каспар, ни Оссару его не слышали.
Глава 48
ТИБЕТСКИЙ МЕДВЕДЬ
Целых два часа просидел Карл на уступе. Он уже начинал терять терпение и ругал себя за свой легкомысленный поступок. Он не слишком тревожился за свою дальнейшую участь, так как был уверен, что товарищи в конце концов выручат его. Правда, может случиться, что они не разыщут его в этот день или в эту ночь и ему придется просидеть до утра на уступе. Но это также его не смущало. Он может обойтись без ужина, может проспать ночь в пещере, это не в диковинку человеку, привыкшему недоедать и ночевать под открытым небом. Даже если бы у него не было никакого убежища, он преспокойно растянулся бы на уступе и проспал бы так всю ночь. Утром товарищи наверняка отправятся на поиски. Он криками подзовет их к себе, и приключение кончится благополучно.
Так размышлял Карл, утешая себя тем, что в его положении нет ничего опасного.
Но неожиданно его встревожил странный звук.
Сидя на краю уступа, он услыхал какое-то фырканье, похожее на то, какое издает осел, перед тем как зареветь.
Невдалеке от утеса росли кусты, и звук доносился из их чащи.
Карл начал прислушиваться и всматриваться в кусты. Через минуту звук повторился, хотя животное, которое его издавало, не показывалось. Однако ветка шевелилась, в чаще кто-то пробирался, а громкий треск сучьев и веток доказывал, что это животное большое и грузное.
Через мгновение Карл увидел, как из кустов на поляну вышел большой зверь.
Он сразу же узнал это животное. Не было сомнений, что перед ним медведь, хотя Карлу еще не приходилось встречать такой породы. Все члены семейства мишек так похожи друг на друга, что всякий, кто видел хоть одного — а кто их не видал! — легко узнает остальных.
Тот, которого увидел наш охотник за растениями, был средней величины, то есть меньше полярного медведя или гризли Скалистых гор, но крупнее породы, обитающей на Борнео, или малайского медведя. Он был немного меньше медведя-губача, с которым у Карла было такое смешное приключение в предгорьях Гималаев, и тоже совершенно черный, хотя шерсть была не такая длинная и косматая. Как и у губача, нижняя губа у него была беловатая, а на шее красовалось белое пятно в виде буквы «У»: продольная полоска шла посередине груди, а развилки — к плечам; такое пятно характерно для нескольких пород медведей, обитающих на юге Азии.
Впрочем, вид у медведя был весьма своеобразный: у него была на редкость толстая шея, большие уши, плоская голова и странно вытянутая морда, в противоположность медведю-губачу, у которого очень крутой лоб. Был он приземистый и неуклюже переступал на толстых лапах, вооруженных короткими, тупыми когтями.
Таков был медведь, вышедший из кустов. Охотник никогда еще не встречал такой породы, но по описаниям узнал тибетского медведя — одну из пород, населяющих высокие плоскогорья Тибета; предполагают, что она обитает на всем протяжении верхних Гималаев, так как встречается в Непале и других местах.
Я сказал, что Карл очень испугался, увидев этого черного зверя, но он быстро оправился от страха. Во-первых, он читал, что эти медведи отличаются мирным характером, они не плотоядные, питаются только плодами и никогда не нападают на человека, пока их не раздразнят или не ранят. Тогда они, конечно, защищаются, как и всякое даже самое безобидное животное.
Кроме того, Карл находился на такой высоте, что медведь едва ли мог к нему залезть. Вероятно, зверь пройдет мимо скалы и, если Карл не будет шуметь, даже не посмотрит в его сторону. Итак, Карл замер на месте, притаившись, как мышь.
Но Карл ошибся, воображая, что медведь пройдет, не заметив его.
Медведь не собирался уходить — у него были совсем другие намерения.
Некоторое время он бродил среди камней, по-прежнему пофыркивая, затем подошел как раз к тому месту утеса, на котором сидел Карл. Потом выпрямился, оперся передними лапами о скалу, и глаза его встретились с глазами ошеломленного охотника за растениями.
Глава 49
ОПАСНЫЙ СПУСК
Должно быть, медведь в этот момент был ошеломлен не менее Карла, хотя и не так испуган. Он, по-видимому, встревожился, так как, заметив охотника, опустился на передние лапы и, казалось, некоторое время раздумывал, не повернуть ли ему назад и не скрыться ли в чаще.
Несколько раз он озирался, тревожно ворча; потом, словно победив свой страх, снова подошел к утесу, явно собираясь на него вскарабкаться.
Когда появился медведь. Карл сидел на краю уступа, в том месте, где поднялся на скалу. И по тем же самым выступам собирался подниматься и медведь. Разгадав его намерение, Карл вскочил и в ужасе заметался по уступу, не зная, что делать, куда бежать.
Нечего было и думать о том, чтобы остановить медведя. У Карла не было никакого оружия, даже ножа, а если он попытается бороться с медведем, надеясь только на свою силу, то борьба наверняка кончится тем, что огромный зверь задушит его в своих объятиях или сбросит с утеса. Поэтому Карлу даже не приходило в голову защищаться — он думал только об отступлении.
Но как отступить? Куда бежать? На тесном уступе от медведя все равно никуда не спрячешься, а если зверь намерен на него напасть, то Карл вполне может остаться на месте и встретить его здесь.
Карл все еще колебался, не зная, как поступить. Медведь уже начал карабкаться на утес, когда охотник вдруг вспомнил о пещере. Может быть, там он сможет спрятаться?
У него не было времени обдумывать свое решение. Подбежав к отверстию пещеры, он влез в нее и, пройдя в темноте два-три шага, спрятался за выступ скалы у входа.
К счастью, он прижался к стене. Он сделал это для того, чтобы скрыться в темноте. Если бы он остался на середине прохода, медведь задавил бы его, навалившись всей своей тушей, или задушил огромными лапами — Карл и пикнуть бы не успел. Едва он спрятался, как медведь вошел в пещеру, продолжая рычать и фыркать, но не остановился у входа, а побежал дальше; судя по удаляющемуся шуму, он ушел далеко в глубь пещеры.
Охотник за растениями спрашивал себя, что делать дальше: оставаться ли там, где он стоит, или вернуться на уступ?
Конечно, его положение не из приятных. Если медведь вернется, то наверняка увидит его. Карлу было известно, что эти звери обладают способностью видеть почти в полной темноте; поэтому медведь заметит его, а если и не приметит, то почует.
Оставаться в пещере было бесполезно, и хотя снаружи ему угрожала не меньшая опасность, он все же решил выйти. Во всяком случае, там будет светло, и он увидит неприятеля прежде, чем тот нападет, — его ужасала мысль, что он погибнет во мраке пещеры, задушенный невидимым врагом. Если он встретит там свою смерть, то ни Каспар, ни Оссару даже не узнают, что с ним случилось, — его кости навеки останутся в темной пещере; это было бы так ужасно!
При мысли об этом Карл бросился вон из пещеры.
Он мигом добежал по уступу до того места, где начинался спуск со скалы; здесь он остановился и простоял несколько минут, то тревожно озираясь на отверстие пещеры, то со страхом поглядывая на головокружительный спуск.
Карл был далеко не трус, хотя при других обстоятельствах едва ли решился бы спуститься с утеса. Но сейчас, когда он был так напуган, ему представлялось, что спуск не так уж опасен, к тому же мишка мог вот-вот вернуться, — и Карл решил сделать еще одну попытку.
Против ожидания, ему сразу удалось нащупать ногами выступ и встать на него. Это придало ему уверенности, и он уже начал надеяться, что через минуту-другую окажется внизу и сможет спастись от медведя на дереве или же выстрелить в него — ведь заряженное ружье лежало у подножия утеса.
Неудивительно, что он смотрел на уступ взглядом, полным тревоги. Если медведь сейчас нападет на него, как ужасна будет его судьба!
Но медведь все не показывался, а Карл мало-помалу спускался все ниже и ниже.
Карл проделал около половины спуска, и до земли оставалось еще добрых двадцать футов, когда внезапно он потерял опору под ногами. Он ступил было на выдававшийся камень, но тот отломился, — не оставалось даже места, куда упереться носком ноги. Карл успел ухватиться за выступ и повис на руках.
Это был страшный момент. Если он не найдет опоры для ног, то неминуемо свалится в расселину!
Поверхность утеса оказалась гладкой, как стекло, — ни малейшей опоры! Карл решил, что он погиб.
Он попытался было подтянуться и взобраться на уступ, но это ему не удалось. Спасения не было…
Но он все еще боролся с тем упорством, с каким юное существо цепляется за жизнь, и продолжал висеть на руках, сознавая, что каждый миг может оборваться.
Вдруг он услышал снизу голоса, возгласы ободрения, крики: «Держись, Карл! Держись!»
Он узнал голоса, но товарищи пришли слишком поздно. Он мог ответить им только слабым криком. Это было его последнее усилие. Руки у него разжались — и он полетел с утеса.
Глава 50
ТАИНСТВЕННОЕ ЧУДОВИЩЕ
Бедняга Карл! Наверно, он разбился насмерть о камни или переломал себе кости…
Не торопись, читатель! Карл не разбился, даже не ушибся. Падение повредило ему не больше, чем если бы он упал с кресла или скатился с мягкого дивана на ковер в гостиной.
Сейчас я расскажу, как он спасся.
Каспар и Оссару ожидали, что Карл вернется рано.
Видя, что он долго не возвращается, они решили, что с ним случилось что-то недоброе, и отправились на поиски. Они не нашли бы его так быстро, если бы не Фриц. Пес повел их по следу. Им не пришлось разыскивать Карла в долине, и вскоре они достигли расселины, где и разыскали его.
Они явились в тот критический момент, когда Карл делал последнюю попытку спуститься с утеса. Они кричали ему, чтобы он остановился, но он был так поглощен спуском, что даже не слыхал их. Это было как раз в тот миг, когда ботаник потерял опору, и Каспар с Оссару видели, как он беспомощно шарит по скале ногами.
Сообразительный Каспар быстро догадался, что делать. Они подбежали к скале и вытянули руки кверху, чтобы подхватить Карла при его падении. У Оссару на плечах оказался широкий кожаный плащ: он сбросил его по приказанию Каспара, и они поспешно растянули его, держа высоко над головой. Занимаясь этими приготовлениями, они кричали Карлу: «Держись!» Едва успели они поднять плащ, как Карл упал прямо на него. И хотя толчок свалил всех троих с ног, они тотчас же вскочили целые и невредимые.
— Ха-ха-ха! — расхохотался Каспар. — Вот это называется поспеть вовремя! Ха-ха-ха! Сегодня для меня счастливый день, хотя можно ли назвать его счастливым, когда oн чуть было не оказался роковым для обоих моих спутников?
— Для обоих? — удивленно спросил Карл.
— Ну да, брат! — ответил Каспар. — Сегодня я спас двух людей.
— Как, Оссару тоже угрожала опасность?.. Ба! Да oн весь мокрый, до нитки! — сказал Карл, подойдя к шикари и потрогав его одежду. — Да и ты тоже, Каспар… Что это значит? Вы упали в озеро? Тонули?
— Ну да, — ответил Каспар, — Осси тонул. (Каспар часто называл Оссару этим уменьшительным именем.) Даже хуже, чем тонул. Нашему товарищу грозила еще более ужасная гибель — он чуть не был проглочен!
— Проглочен? — в изумлении воскликнул Карл. — Что ты хочешь сказать, брат?
— Только то, что я сказал: Оссару едва не был проглочен… Еще немного — и от него не осталось бы и следа…
— Ах, Каспар, ты, кажется, смеешься надо мной! В озере нет китов, и наш бедный шикари не мог очутиться в роли Ионы. Нет ни акул, ни других больших рыб, которые могли бы проглотить взрослого человека. Так о чем же ты говоришь?
— Честное слово, брат, я говорю совершенно серьезно. Мы с тобой чуть было не потеряли своего товарища — он находился на краю гибели, совсем как ты. И если бы мне не удалось спасти Оссару, мы с ним не пришли бы тебе на помощь, и я потерял бы и тебя. Я мог лишиться сразу вас обоих! Что бы тогда было со мной?.. Нет, сегодняшний день нельзя назвать удачным! Ведь о пережитых опасностях потом даже вспоминать тяжело. Меня бросает в дрожь, как подумаю, что нам сегодня угрожало…
— Говори же, Каспар! — перебил его ботаник. — В чем дело? Расскажи, что с вами случилось, почему вы такие мокрые. Кто собирался проглотить Оссару? Рыба, зверь или птица? Скорей всего, рыба, — прибавил он шутливо, — раз вы оказались в воде.
— Конечно, рыба играла тут известную роль, — отвечал Каспар. — Оссару доказал, что в озере есть крупные рыбы, — он поймал рыбину, пожалуй, не меньше его самого. Но едва ли там оказалась бы такая, которая могла бы его проглотить. А между тем то чудовище, которое собиралось совершить такой подвиг, наверняка проглотило бы его, и от бедняги осталось бы лишь одно воспоминание.
— Чудовище! — воскликнул Карл в крайнем изумлении и ужасе. — Каспар, ты раздразнил мое любопытство. Прошу тебя, не теряй времени и скорее расскажи мне, что с вами произошло!
— Я предоставляю это Осси, потому что приключение было с ним, а не со мною. Я даже не видел, как все это случилось, но, к счастью, пришел туда в решительную минуту и протянул руку помощи. Бедный Осси! Не приди я вовремя — интересно, где он был бы? Наверно, на глубине нескольких футов под землей. Ха-ха-ха! Конечно, это дело серьезное, брат, и смеяться не следует, но, когда я увидел Оссару, прибежав ему на выручку, он находился в таком необычном положении и у него был такой потешный вид, что я никак не мог удержаться от смеха… Да и сейчас меня невольно разбирает смех, стоит мне представить себе эту картину.
— Каспар, — воскликнул Карл, раздосадованный недомолвками брата, — ты кого угодно можешь вывести из терпения!.. Рассказывай, Оссару, я хочу знать все, что с тобой произошло. Не обращай внимания на Каспара — пусть себе смеется. Говори же, Оссару!
Тут шикари рассказал о своем приключении, которое едва не стало для него роковым.
Глава 51
«БАНГ»
Оссару удалось сделать настоящую рыболовную сеть. Так как ему не позволили отравить озеро «волчьим зельем», а бамбука для верши у него не было, он стал искать другой материал для сети и вскоре нашел растение, которое в изобилии росло в долине, особенно же на берегах озера.
Это было высокое однолетнее растение с лапчатыми, зазубренными по краям листьями, увенчанное кистью зеленоватых цветов. С виду в нем не было ничего замечательного, только стебель его был покрыт короткими жесткими волосками и, не разветвляясь, поднимался на высоту двадцати футов. Много этих растений росло в одном месте; все трое уже обратили на них внимание, и Каспар сказал, что это растение похоже на коноплю. Он не ошибся — это и была конопля, ее индийская разновидность, вернее — вещество, из нее добываемое, называется индийской коноплей.
Как известно, конопля дает превосходный материал для выделки грубых тканей, всевозможных канатов и веревок. Для этой цели используют волокнистую оболочку стебля, отделяемую от него почти тем же способом, каким обрабатывают лен. Коноплю связывают в пучки и некоторое время мочат в воде. Высушив, ее мнут, треплют, а когда отделятся волокна, их расчесывают, причем они становятся все более тонкими. Тонкость волокна не зависит от размеров стеблей, ибо высокие, грубые стебли итальянской и индийской конопли дают столь же тонкое волокно, как и более низкорослые мелкие северные сорта.
В России из семян конопли добывают масло, которое идет в пищу, а художники разводят на нем краски.
Конопляное семя дают также домашней птице, так как, по народному поверью, куры от него хорошо несутся. Мелкие птички также очень его любят, но при этом наблюдается странное явление: если кормить снегирей и щеглов исключительно конопляным семенем, то их яркое красное и желтое оперение постепенно чернеет.
Несмотря на все свои ценные свойства, это растение может быть не только вредным, но и опасным. Оно содержит сильное наркотическое вещество; любопытно, что индийская конопля и вообще южные сорта значительно богаче этим веществом, чем европейские ее виды. Это, конечно, объясняется разницей в климате. Всякий, кто долго пробудет в коноплянике, наверняка испытает неприятное действие конопли — головную боль и головокружение. В жарких странах конопля действует еще сильнее и вызывает своего рода опьянение.
Восточные народы давно уже обратили внимание на эти свойства конопли и стали приготовлять из нее снадобье, которое употребляют наряду с опиумом, — оно оказывает точно такое же действие: опьянение, экстатический подъем духа, за которым неизменно следует тяжелая реакция — полный упадок сил. Это снадобье известно у турок, персов и индусов под различными названиями: например, «банг», «гашиш», «кинаб», «ганга» и др; оно разрушительно действует на весь организм и на умственные способности.
Но Оссару не задумывался о вредных последствиях курения этого наркотика; заметив в долине коноплю, он вскрикнул от радости и принялся готовить себе порцию «банга».
Шикари был очень доволен, обнаружив в долине коноплю. Он давно страдал от отсутствия бетеля, который не могли заменить листья ревеня; конопля как нельзя лучше устраивала Оссару: из нее можно было получить опьяняющий напиток, а ее листья годились для курения; их нередко употребляют для этой цели, смешивая с табаком.
Но у Оссару были и другие основания радоваться этому открытию: он знал, что из волокон конопли можно сделать бечевки, из бечевок — сеть, а сетью ловить рыбу.
Оссару тотчас же приступил к делу. Нарвав конопли, он связал ее в пучки, отнес к горячему источнику и погрузил в воду, где она некоторое время мокла. Замечено, что в горячей воде достаточно продержать коноплю или лен всего несколько часов, между тем как в холодной приходится мочить их весколъко недель.
Оссару вскоре приготовил достаточное количество волокна, отделив его вручную. Работая без устали, он через несколько дней сделал настоящую сеть длиной в несколько ярдов.
Оставалось только забросить ее в воду и узнать, какая рыба ловится в этом уединенном горном озере.
А теперь перейдем к приключению Оссару.
Глава 52
СЕТЬ ЗАБРОШЕНА
Вскоре после Карла ушли и его товарищи. Каспар и Оссару отправились в разные стороны: Каспар с ружьем — на охоту, а Оссару — к озеру ловить рыбу.
Подойдя к озеру, шикари быстро выбрал место, где лучше всего было поставить сеть. На одном конце озера был небольшой залив, вдававшийся в берег ярдов на двадцать; в него впадал ручей, начало которому давал горячий источник.
Устье залива было узкое и напоминало небольшой пролив. Залив был довольно глубокий, но в проливчике не было и трех футов глубины. Дно его покрывал белый песок, блестевший на солнце, как серебро. В ясную погоду с берега можно было наблюдать, как рыбы всевозможных пород и размеров резвятся в прозрачной воде, на фоне серебристого песка. Охотникам доставляло удовольствие смотреть, как играют рыбы, и они не раз ходили на берег залива.
Оссару испытывал при этом скорее досаду, чем удовольствие: эти красивые рыбки, казалось, были совсем близко, но поймать их он не мог. Даже в заливе на самом мелком месте ему не удалось построить плотину. Оссару безуспешно перепробовал несколько способов рыбной ловли. Он пытался стрелять в рыбу, но она плавала слишком глубоко и ему никак не удавалось в нее попасть. Дело в том, что Оссару еще никогда не приходилось стрелять в рыбу, и, не имея понятия о законах преломления света, он всякий раз промахивался, потому что целился слишком высоко.
Будь он индейцем, уроженцем Северной или Южной Америки, а не жителем Восточной Индии, его стрелы всякий раз попадали бы в цель.
Ему приходилось входить в воду лишь для того, чтобы вылавливать свои стрелы. Поэтому он испытывал досаду, глядя, как весело и беспечно играет рыба на серебристом песке; эта досада и подстрекнула его поскорее сделать сеть.
Но вот сеть была готова, и Оссару с торжествующей улыбкой понес ее к озеру, радуясь, что сможет наконец отомстить рыбам; он сердился на бедных рыбок за то, что они так долго ему не давались.
Шикари собирался поставить сеть поперек залива и сделал ее как раз такой длины, чтобы можно было растянуть от одного берега до другого.
К верхнему краю сети был привязан прочный ремень, сделать который было легче, чем веревку, к другому краю — веревка с закрепленными на ней грузилами. Грузила, а также поплавки из легкого, сухого дерева, привязанные к верхнему краю сети, должны были как следует растягивать сеть и удерживать ее в вертикальном положений.
Сеть должна была перегородить устье залива так, чтобы рыба не могла ни войти, ни выйти из него. У сети были крупные ячейки, так как Оссару не нужна была мелкая рыбешка. Теперь уж рыба не уйдет от него!
Оссару поставил сеть в самом узком месте залива, как раз у самого выхода из него. Это ему легко удалось сделать. Он привязал ремень к молодому деревцу, стоявшему у самой воды. Потом, держа сеть за верхний край, чтобы она не запутывалась, он перешел залив вброд и закрепил веревку на другом берегу. Грузила потянули нижний край сети на дно, а поплавки удерживали верхний край на поверхности воды.
На другом берегу залива росло большое дерево, ветви которого простирались над водой чуть не до самой его середины. И когда солнце склонилось к закату, густая листва бросила тень на воду, придавая ей темноватый оттенок. В это время рыбу нелегко было увидеть, даже на фоне серебристого песка.
Но Оссару выбрал час, когда солнце скрывается за деревом, так как знал, что в ярком солнечном свете рыба заметит сеть, испугается и уйдет. Поэтому он решил заняться ловлей после полудня.
Закрепив оба конца сети, он уселся на берегу и, вооружившись терпением, стал ждать результатов.
Глава 53
ОССАРУ КРЕПКО СХВАЧЕН
Больше часа просидел Оссару, следя за малейшей рябью на поверхности залива, за малейшим движением поплавков; но можно было подумать, что в озере нет ни одной рыбы. Раз или два набегала легкая рябь, поплавки чуть вздрагивали, и Оссару казалось, что «клюнуло»; но, войдя в воду и осмотрев сеть, он не находил там ни одной рыбешки и возвращался на берег с пустыми руками. Эту рябь вызывала либо мелкая рыбка, проскользнувшая сквозь сеть, либо крупная, которая, подойдя к сети и коснувшись ее носом, пугалась и уходила обратно в омут, откуда вышла.
Оссару уже начинал терять терпение и с досадой думал о том, что товарищи поднимут его на смех, когда он ни с чем вернется в хижину. Он рассчитывал блеснуть своим рыболовным искусством, а теперь ему грозил постыдный провал. Внезапно ему пришла в голову блестящая мысль: нужно попросту загнать рыбу в сеть, войдя в озеро, наделав побольше шуму и взбудоражив воду. План был превосходный, и Оссару поспешил привести его в исполнение. Вооруживвяеь длинной палкой и набрав крупных камней, он вошел в залив выше того места, где стояла сеть, и направился к ней, с шумом рассекая воду, колотя по ней палкой и швыряя камни в самые глубокие места; он наделал такого шуму, что перепугал всю рыбу в озере.
Его затея увенчалась успехом: непрошло и трех минут, как поплавки стали дергаться, доказывая, что в сеть попалась рыба. Шикари перестал будоражить воду и бросился вытаскивать добычу. Подойдя, он увидел, что рыба попалась довольно крупная. Она находилась в самой середине сети, и Оссару довольно быстро схватил ее. Рыба оказалась сильной и отчаянно билась, пытаясь вырваться из рук врага, но тот прикончил ее, стукнув по голове камнем.
Шикари уже хотел выйти со своей добычей на берег, когда, к своему изумлению, обнаружил, что не может ступить ни шагу. Он попытался двинуть одной ногой, потом другой — напрасно! Обе ноги были крепко схвачены, словно тисками. Сперва он был только озадачен и изумлен, но его изумление сменилось отчаянием, когда он почувствовал, что не в силах двинуть ногой, сколько бы ни старался. Он сразу же сообразил, в чем дело, ибо тут не было ничего таинствеииого. Пока шикари возился с рыбой, он незаметно начал погружаться в зыбучий песок. Он ушел в песок уже выше колен, так что даже не мог согнуть ноги и стоял неподвижно как вкопанный.
Я сказал, что Оссару в первый момент только удивился, но это чувство быстро сменилось отчаянием и ужасом, когда он обнаружил, что постепенно все больше погружается в песок. Да, сомнений нет: он уходит все глубже и глубже! Песок доходил ему уже до бедер, а так как вода здесь была глубиной почти в ярд, то его подбородок почти касался воды. Еще каких-нибудь шесть дюймов — и он утонет стоя; он захлебнется, и некоторое время его глаза будут над водой, а небесный свет будет отражаться в его мертвых зрачках. Ему грозила ужасная судьба!
Не надо думать, что Оссару молча переносил это страшное испытание, — как только он понял, что ему угрожает смерть, он принялся изо всех сил кричать и пронзительно засвистел; лес и скалы загудели вокруг, и эхо далеко разносило его отчаянные призывы.
К счастью, Каспар бродил с ружьем неподалеку от озера. Он тотчас же побежал на крики и вскоре очутился на берегу залива. Однако ему не сразу удалось вызволить Оссару. Каспар вошел в воду и приблизился к шикари, но был не в состоянии его вытащить. Действительно, стоило только Каспару остановиться, как он сам начинал погружаться в песок, поэтому ему приходилось все время двигаться и переступать с ноги на ногу. Было ясно, что у него не хватит сил спасти шикари, и наши друзья приуныли.
В первую минуту Каспар от души расхохотался, увидев, что Оссару стоит по горло в воде с убийственно мрачным видом, но когда он понял, какая смертельная опасность угрожает шикари, его смех оборвался и лицо омрачилось тревогой.
Каспар был чрезвычайно сообразителен и не терял голову в момент опасности; он мгновенно придумал план спасения Оссару. Крикнув шикари, чтобы тот стоял спокойно, юноша выскочил на берег, отвязал сеть, выдернул ремень из ее верхнего края, обрезав ячеи и поплавки. Потом быстро влез на большое дерево и прополз вдоль горизонтальной ветки, нависавшей как раз над тем местом, где стоял шикари. Он захватил особой ремень. Бросив Оссару один его конец и приказав ему обвязаться вокруг пояса, он перекинул другой конец через ветку и спрыгнул в воду.
Оссару быстро обвязал себя ремнем под мышками, затем Каспар схватился за другой конец и стал изо всех сил его тянуть. К великой его радости, у него оказалось достаточно сил.
Постепенно песок начал отпускать Оссару из своих цепких объятий. Каспар продолжал изо всех сил тянуть и дергать ремень; наконец ноги шикари высвободились из песка — он был спасен! Оба выскочили на берег и радостными криками пробудили в скалах эхо, которое еще недавно повторяло отчаянные вопли шикари.
Глава 54
НУЖЕН МЕДВЕЖИЙ ЖИР
Только что пережитая смертельная опасность отбила у Оссару охоту к рыбной ловле, по крайней мере на ближайшее время. К тому же сеть сильно пострадала, когда Каспар выдергивал из нее ремень, и ее необходимо было починить, прежде чем снова ставить. Итак, захватив пойманную рыбу и сеть, Каспар и Оссару направились к хижине.
Придя домой, они удивились, что Карл еще не вернулся. Уже вечерело. Не случилось ли с ним чего-нибудь? Сильно встревоженные, они тотчас же отправились его искать.
Как мы уже знаем, Фриц повел их по следу. И они подоспели как раз вовремя, чтобы спасти Карла.
— Скажи, брат, — спросил Каспар, — зачем ты туда полез?
Карл подробно рассказал о своем приключении и посвятил их в свой план, состоявший в том, чтобы подняться на утес по лестницам.
Когда он заговорил о медведе, Каспар насторожился.
— Как! Медведь? — воскликнул он. — Ты говоришь, медведь? Куда же он ушел?
— В пещеру. Он и сейчас там.
— В пещере? Отлично! Мы его захватим. Давайте сейчас же за ним полезем.
— Нет, брат, я думаю, опасно нападать на него в пещере.
— Ничуть, — возразил отважный охотник. — Оссару говорит, что здешние медведи — большие трусы и что он не побоялся бы выйти на такого зверя с копьем один на один… Правда, шикари?
— Да, саиб. Он медведь — большой трус, я его не бояться.
— Помнишь, Карл, как удрал от нас тот медведь? Ну совсем как олень!
— Но этот другой породы, — возразил Карл и подробно описал встреченного им медведя.
Оссару сразу же по описанию узнал зверя и заявил, что это животное почти такое же трусливое, как медведь-губач.
Он участвовал в одной экспедиции и охотился на тибетских медведей в горах Силхета, где их очень много. По его мнению, охотники вполне могли войти в пещеру к медведю.
В конце концов товарищи убедили Карла. Он стал думать, что медведь, быть может, вовсе и не гнался за ним, — иначе непременно выбежал бы наружу, не найдя его в пещере; скорее всего, он жил в пещере и бросился туда, убегая от Карла, чтобы спрятаться в своем логовище. Это легко можно было допустить — ведь охотники довольно долго простояли внизу, а мишка так и не появился на уступе.
Итак, решено было забраться в пещеру втроем и убить медведя.
Правда, решение приняли после длительного обсуждения. Были приведены весьма веские доводы, которые решили дело в пользу охоты на медведя.
Прежде всего зверь им действительно нужен.
Речь шла не только о теплой шкуре, хотя она может им очень пригодиться — ведь зима уже не за горами, и не простой охотничий азарт толкал их на это рискованное предприятие. Нет, у них совсем другая цель: им нужна медвежья туша, или, вернее, медвежий жир.
Зачем, спросите вы? Чтобы приготовить помаду для ращения волос? Но у всех троих волосы, уже давно не видавшие ножниц, были и без того очень длинные.
У Каспара кудри вились по плечам, а черные волосы Оссару спускались до пояса, жесткие и прямые, как конский хвост. Шелковистые локоны Карла придавали ему весьма романтический вид… Нет! Медвежий жир был им нужен не для ращения волос, а для готовки. Прежде всего они собирались на нем жарить. Медведь был особенно для них ценен, так как им приходилось большей частью охотиться на жвачных животных, у которых очень мало жира.
Тому, кто живет в стране, где сколько угодно сала и масла, трудно себе представить, как можно обходиться без этих важных продуктов. В большинстве культурных стран все необходимое количество жира дает свинья. И вы не можете себе представить, насколько важен этот продукт, пока не попадете в страну, где свиньи нет в числе домашних животных. В таких местах жир высоко ценится, так как без него трудно готовить.
Судьба медведя была решена. Охотники знали, что у этих зверей много жира, который был им нужен теперь и понадобится в долгие зимние ночи. Может быть, в пещере и не один медведь — тем лучше: они перебьют их всех. Каспар привел еще другой, более веский довод, окончательно убедивший Карла, что необходимо проникнуть в пещеру.
— А вдруг, — сказал он, — нам удастся выбраться наружу через эту пещеру? Что, если она ведет кверху и у нее есть выход где-нибудь наверху или по ту сторону горы?
Карл и Оссару невольно вздрогнули при его словах. Эта мысль сильно их взволновала.
— Я читал, что бывают пещеры, — продолжал Каспар, — которые прорезают гору насквозь. В Америке есть пещера, которую исследовали на протяжении двадцати миль, — кажется, она называется Мамонтовой. Ведь и эта пещера может оказаться сквозной. Ты говорил, она глубокая, Карл? Давайте исследуем ее и посмотрим, куда она ведет!
Правда, надежда была слабая, но все же следовало сделать попытку, тем более что обследовать, вероятно, пещеру будет легче, чем сооружать лестницы для подъема. Вдобавок после исследования каменной стены они убедились, что на утесы все равно невозможно взобраться, и почти отказались от мысли о лестницах. Если у этой пещеры окажется выход по ту сторону горы, они смогут уйти из своей ужасной «тюрьмы».
Они сознавали фантастичность своего замысла, но зародившаяся надежда все же вдохнула в них бодрость.
Решено было исследовать пещеру на следующий день. Хотя солнечный свет и помог бы им, они вполне могли бы начать свою разведку и ночью. Однако они не были готовы к ней. Необходимо было изготовить побольше факелов, срубить дерево и сделать зарубки на его стволе, чтобы взобраться по нему на утес. К завтрашнему утру все будет готово.
Они вернулись в хижину и сразу же начали заготовлять факелы и добывать ствол для лестницы. Работали до поздней ночи, и никто не думал о сне, пока не была закончена большая часть приготовлений.
Глава 55
ОХОТА НА МЕДВЕДЯ ПРИ СВЕТЕ ФАКЕЛОВ
Едва рассвело, они снова принялись за работу. Наконец все было готово, и маленький отряд направился к расселине.
Каспар и Оссару несли импровизированную лестницу — сосновый ствол футов сорока длиной, на котором были сделаны топором зарубки на расстоянии примерно фута друг от друга. На более тонкой части ствола зарубок не было, так как ветки, коротко обрубленные, вполне заменяли ступени.
Будь дерево свежим, даже двум сильным мужчинам было бы тяжело нести ствол длиной в сорок футов. Но им удалюсь найти давно упавшее, сухое дерево. Тем не менее нести его пришлось вдвоем. Карл нес ружья, факелы и длинное копье шикари. Фриц не нес ничего, кроме своего хвоста, но нес его так лихо, словно знал, что замышляется что-то необычайное и что в этот день они убьют большого зверя.
Они шли медленно, делая частые передышки, и через два часа добрались до расселины и подошли к скале.
На установку лестницы потребовалось около часа. Ее водрузили почти против устья пещеры, а не на том месте, где взбирался Карл, так как в скале нашлась удобная трещина, в которой можно было прочно установить лестницу. Верхний конец ствола втиснули в трещину, и он плотно в ней засел. Нижний конец неподвижно укрепили, навалив вокруг него целую кучу тяжелых валунов. Теперь оставалось только подняться, зажечь факелы и войти в пещеру.
Однако вставал вопрос: а пещере ли еще медведь? Этого никто не мог сказать.
Со вчерашнего вечера он сто раз мог уйти, и вполне можно было допустить, что он отправился на ночную прогулку. Но вернулся ли он домой, встретит ли гостей или еще бродит по чаще, обрывая ягоды с кустов и лакомясь медом из ульев диких пчел?
Невозможно было узнать, дома ли хозяин, но дверь была открыта и гости могли войти.
Некоторое время охотники колебались и обсуждали вопрос: не лучше ли подождать в засаде, пока медведь выйдет из пещеры или вернется в нее? Несомненно, его берлога находилась в пещере. Видно было, что медведь часто поднимался на уступ все тем же путем. Камни были исцарапаны его когтями. Карл это заметил еще в прошлый раз, и потому можно было именно здесь встретить медведя.
Его легко было бы поймать в ловушку, и это избавило бы их от борьбы, но такой способ не нравился ни Каспару, ни шикари, а Фриц энергично подавал голос за борьбу.
Оссару уверял, что охота на медведя не опаснее, чем охота на замбара, — ведь они так хорошо вооружены. Он высказал, кроме того, предположение, что может пройти несколько дней, прежде чем они увидят медведя. Если зверь уснул в своей берлоге, он проспит целую неделю, а потому ждать его бесполезно. Медведя нужно разыскать в пещере и сразиться с ним в его мрачной крепости. Так советовал шикари. Карл, самый осторожный из всех, сперва настаивал на ловушке, но вскоре сдался: ему, как и всем остальным, не терпелось обследовать пещеру.
Слова Каспара произвели на него глубокое впечатление, и как ни слаба была надежда на освобождение, она все же могла оправдаться. Они хватались за нее, как утопающий за соломинку.
Охотники водрузили лестницу, и вскоре все четверо (считая Фрица) уже стояли на уступе перед устьем пещеры.
Каждый взял свое оружие: Карл — ружье, Каспар — двустволку, Оссару — копье, лук, стрелы, топорик и нож.
Факелов было два, длиной в ярд, причем рукоятка была такой же длины. Сделаны факелы были из сосновых щепок, валявшихся на месте, где обтесывали стволы для моста. Щепки хорошо высохли и, связанные в пучок, должны были превосходно гореть. Охотники не в первый раз применяли факелы. Им и раньше приходилось пользоваться таким освещением, и они знали, что факелы очень пригодятся в пещере.
Они вошли в пещеру, не зажигая факелов; решили прибегать к ним лишь в случае необходимости. Но, может быть, пещера окажется совсем небольшой. Правда, Карл этого не думал. В тот раз ему показалось, что медведь ушел довольно далеко, судя по его ворчанию и фырканью, которое становилось все глуше.
Этот вопрос был вскоре решен. Отойдя на несколько десятков шагов от входа, когда вокруг них уже сгущалась темнота, они заметили, что по мере углубления в недра горы подземный коридор все расширяется и своды его становятся все выше, — он уходил во тьму, как огромный туннель. Ему не видно было конца.
Подожгли заранее приготовленный трут, поднесли к факелам, и они ярко вспыхнули.
Пещера заискрилась мириадами огней. Тысячи сталактитов, свешивающихся с ее сводов, всеми своими гранями отражали колеблющееся пламя факелов; эти гигантские сосульки были усеяны каплями кристально чистой воды, сверкавшими алмазным блеском. Нашим юным охотникам чудилось, будто они очутились в сказочном дворце Аладдина.
Они шли все дальше по широкому проходу, держа факелы высоко над головой, останавливаясь на каждом повороте и исследуя все закоулки в надежде обнаружить медведя. До сих пор нигде не было видно его следов, хотя возбужденный лай Фрица доказывал, что не так давно здесь прошел либо сам мишка, либо другой зверь. Пес, очевидно, бежал по горячему следу, и так быстро, что охотники с трудом за ним поспевали.
Вдруг собака бросилась в темноту, что-то заметив в углублении скалы. Охотники остановились и приготовились стрелять, думая, что зверь загнан.
На через несколько мгновений Фриц выскочил из-за угла и побежал дальше по следу. Заглянув в закоулок, они увидели при свете факелов большую груду сухих листьев и травы. Это была уютная берлога мишки; сено еще сохраняло тепло его огромной туши; но хитрого зверя не удалось захватить в «постели». Его поднял шум, и он отступил в глубину пещеры.
Фриц бежал по следу, по временам издавая рычание. Основным его достоинством была удивительная преданность хозяину и безумная отвага в схватке со зверем. На него вполне можно было положиться: если он пустился по следу, то можно было рассчитывать на добычу.
Охотники не сомневались, что Фриц ведет их прямо к медведю, и лишь старались не терять собаку из виду. Валявшиеся на пути камни и крупные сталагмиты не позволяли псу быстро бежать. Видно было, что медведь довольно часто сворачивал в сторону и останавливался — ведь ему нелегко было пробираться в темноте. Фриц то и дело останавливался на поворотах, и охотники почти все время его видели.
По временам пес исчезал в темноте, тогда все трое замирали и несколько мгновений стояли в нерешимости, но, услыхав вой собаки, гулко отдававшийся под сводами пещеры, бежали дальше.
Вас удивляет, что они по временам теряли направление. Вы думаете, что, продолжая идти вперед, они должны нагнать собаку или встретить ее, когда она будет возвращаться. Дело обстояло бы так, будь в этой огромной пещере только один ход, но им встречались десятки проходов, расходящихся в разные стороны. Они давно уже не раз сворачивали то вправо, то влево, заслышав вдалеке лай бежавшего по следу Фрица или увидав его рыжую спину.
Пещере, казалось, не будет конца — там было множество «залов», ходов, коридоров и «камер»; иные были так похожи друг на друга, что охотникам казалось, будто они блуждают по лабиринту, проходя все по одним и тем же местам.
Карл уже начал опасаться, что они продвигаются слишком быстро. Ему пришло в голову, что если они будут идти все дальше, не делая никаких отметок на стенах, то могут заблудиться.
Он хотел было окликнуть товарищей и обсудить с ними этот вопрос, как вдруг раздался своеобразный шум: яростный лай собаки смешивался со свирепым рычанием медведя. Ясно было, что мишка и Фриц схватились «врукопашную».
Глава 56
ЗАБЛУДИЛИСЬ В ПЕЩЕРЕ
Сражение происходило где-то неподалеку — ярдах в двадцати, и охотникам нетрудно было найти дорогу. Они побежали на шум, спотыкаясь о сталагмиты, то и дело стукаясь головой об острые концы сталактитов, и увидали в свете факелов посередине огромного «зала» собаку и медведя. Бой был в самом разгаре: медведь стоял на обломке скалы фута в три высотой, а пес наскакивал на него, впиваясь ему в шерсть зубами. Медведь яростно оборонялся; порой, наклонившись, выбрасывал лапы вперед, стараясь схватить собаку.
Фриц понимал, как опасно попасть в лапы к медведю, поэтому нападал сзади, бросаясь на него с разных сторон и кусая его в спину и за лапы. Защищая свой тыл, медведь все время поворачивался.
Сцена была весьма занятной и, если бы охотники преследовали медведя только ради забавы, они дали бы драке еще некоторое время продолжаться, не вмешиваясь в нее. Но о забаве тут не могло быть и речи — надо было добыть медвежий жир. Вдобавок охотники понимали, что в этом гигантском подземном лабиринте нетрудно потерять медведя. Он мог от них убежать так же легко, как если бы они находились в дремучем лесу.
Итак, они спешили положить конец борьбе и завладеть своей добычей. Нельзя было упустить такой случай. Стоявший на каменном пьедестале медведь был превосходной мишенью и для ружейных пуль и для стрел. К тому же они, будучи меткими стрелками, не рисковали поранить Фрица.
Охотники прицелились — грянули выстрелы, просвистела стрела, вонзившись в толстую мохнатую шкуру, и в следующий миг черная туша тяжело рухнула со скалы и распростерлась на камнях; медведь дергал лапами в предсмертных судорогах. Тут Фриц прыгнул на зверя, вцепился мертвой хваткой в шею и душил, пока тот не застыл на месте.
Фрица оттащили. Поднеся поближе факелы, охотники стали разглядывать убитого ими зверя. Это был великолепный экземпляр, на диво крупный и увесистый; из его туши, конечно, можно будет получить немало драгоценного жира.
Но не успели они об этом подумать, как у них блеснула в голове другая мысль, от которой они невольно содрогнулись; несколько мгновений они стояли в молчании, глядя друг на друга с немым вопросом. Каждый ожидал, что заговорят другие, и, хотя никто не обмолвился ни словом, всем было ясно, что они попали в тяжелое положение.
Почему же в тяжелое положение? — спросите вы. Со зверем покончено. Разве так трудно вытащить его из пещеры и отнести домой, в хижину?
Но, любуясь своей добычей, они вдруг заметили, что факелы у них догорают. Правда, они еще не погасли, но ясно было, что при свете их можно будет пройти лишь каких-нибудь двадцать ярдов. Факелы уже начали меркнуть и мигать, — еще несколько секунд, и они совсем погаснут. А что тогда?
Да, что тогда? Эта мысль встревожила охотников; оттого-то они и стояли, тревожно глядя друг на друга.
Они еще не осознали весь ужас своего положения. Они знали, что сейчас окажутся в темноте — в абсолютном мраке подземелья! — но им не приходило в голову, что они могут больше никогда не увидеть света.
Они думали только о том, как неприятно остаться без факелов и что, пожалуй, будет трудно найти выход из пещеры. К тому же — как они потащат медведя? Им сперва придется ощупью выбраться из пещеры, запастись новыми факелами и вернуться за добычей; но это не беда: главное — у них будет медвежий жир, а теплая мохнатая шкура, из которой получится превосходная шуба, вознаградит их за все пережитые трудности.
Но вот факелы погасли и охотники очутились в непроглядном мраке. И только когда они несколько часов пробродили в темноте, ощупывая стены, спотыкаясь о камни, проваливаясь в глубокие трещины, когда они потеряли надежду выбраться на свет и окончательно заблудились в подземном лабиринте, — они наконец осознали весь ужас своего положения и начали опасаться, что им больше не суждено увидеть свет.
Проблуждав несколько часов, охотники остановились в полном изнеможении, держась за руки, съежившись, прижавшись друг к другу и чувствуя себя безнадежно затерянными в глубоком, беспросветном мраке… гималайская земляника не отличалась ни запахом, ни вкусом; зато
Глава 57
БЛУЖДАНИЯ ВО МРАКЕ
Надо сказать, что их страхи не были лишены оснований. В самом деле, пещера тянулась в глубь горы на целые мили, в ней было столько запутанных ходов и наши друзья так далеко зашли в погоне за медведем, а кругом царил такой мрак, что трудно было надеяться найти выход.
Особенно угнетала их темнота: они не видели друг друга, нельзя было разглядеть даже собственной руки.
Если вы окажетесь в полной темноте, то удивитесь, как трудно пройти в том или ином направлении. Действительно, вы не сможете идти по прямой линии, даже если у вас не будет никаких препятствий на пути.
Пройдя несколько шагов, вы начнете уклоняться в сторону и, возможно, через некоторое время даже опишете полный круг. Нет нужды об этом говорить: ведь вы играли в жмурки и сами прекрасно знаете, что, повернувшись два-три раза, вы не можете сказать, к какой стене стоите лицом, пока не прикоснетесь к роялю или к какому-нибудь другому знакомому предмету.
Наши друзья находились совершенно в таком же положении, как играющие в жмурки, с той лишь разницей, что в пещере не было ни рояля, ни мебели, ни других предметов, по которым можно определить, где находишься. Они не знали, куда повернуть, — окончательно потеряли ориентацию.
Довольно долго простояли они в странном оцепенении, крепко держа друг друга за руки. Они не решались разжать руки, боясь потерять товарищей. Правда, этого нечего было бояться, так как всегда можно было позвать друг друга, но ими овладел ужас, они чувствовали свою беспомощность и по-детски жались друг к другу.
Простояв некоторое время, они снова пустились в путь, держась за руки. Во время ходьбы эта предосторожность была нужнее, чем при остановке, — охотники боялись, как бы кто нибудь из них не свалился с высокого уступа или в глубокую расселину, а если они будут держаться друг за друга, то меньше шансов упасть.
Так проблуждали они несколько часов. Им казалось, что они прошли уже много миль; в действительности же они продвигались очень медленно, так как приходилось на каждом шагу нащупывать путь. Все трое выбились из сил; по временам они садились на камни, чтобы передохнуть, но владевшая ими тревога гнала их дальше, — тогда все поднимались снова и брели в темноте неизвестно куда.
Долго блуждали так охотники; они уверяли друг друга, что прошли немало миль, но не видели ни одного проблеска света, ни одного предмета, по которому можно было бы ориентироваться. Порой им казалось, что они отошли на несколько миль от входа в пещеру; иногда им чудилось, что они второй или третий раз проходят по одному и тому же коридору; наконец все трое узнали скалы, мимо которых уже проходили.
У них появилась надежда, что со временем можно будет изучить различные повороты и проходы и выбраться из лабиринта. Но на это уйдет немало времени, а чем они будут питаться, занимаясь этим изучением? Поразмыслив, они поняли неосновательность этой надежды.
Фриц шел то впереди, то рядом, а то и позади своих хозяев. Казалось, он тоже был смущен и испуган. Он не издавал ни звука и только когда перебирался через лежащую на дороге глыбу, было слышно царапанье его когтей. Но какой толк от Фрица? В такой тьме он не видит даже кончика своей морды. Но нет, ему очень может пригодиться его чутье, и, пожалуй, он может выручить своих хозяев.
— Постойте! — воскликнул Каспар, когда эта мысль пришла ему в голову. — Брат, Оссару! Разве Фриц не может нас вести? Разве он не может найти чутьем дорогу из этой ужасной темницы? Ведь ему здесь осточертело не меньше, чем нам!
— Что ж, попробуем, — откликнулся Карл, но в его тоне слышалось, что он не слишком-то надеется на этот опыт. — Подзови его, Каспар, ведь он к тебе так привязан!
Каспар окликнул собаку, прибавив несколько ласковых слов, и Фриц тотчас же к нему подбежал.
— Как нам поступить? Не предоставить ли его самому себе? — спросил Каспар.
— Боюсь, что он будет стоять на месте и не пойдет вперед, — возразил Карл.
— Посмотрим.
Все трое остановились и стали прислушиваться.
Они стояли долго, выжидая, что будет делать собака, но Фриц не понимал, что от него требуется, и терпеливо стоял рядом с ними, не обнаруживая желания идти вперед. Опыт не удался.
— Ну что же, — предложил Карл, — пусть он идет вперед, мы за ним. Быть может, он выведет нас.
Фрицу приказали идти вперед, и он двинулся в путь, слабо повизгивая; но, к своей досаде, они не могли догадаться, в каком направлении он ушел. Когда он бежал по следу какого-нибудь животного, то лаял, и легко было определить направление его пути, как это имело место при погоне за медведем. Но теперь он бежал бесшумно, и, хотя порой царапал когтями о камни, этот звук был слишком слаб, чтобы по нему ориентироваться. Опыт опять не удался, и Фрица снова подозвали.
Однако этот опыт все же имел благие последствия. Как и другие неудачные опыты, он заставил задуматься и вызвал усовершенствования.
Каспар ломал голову, придумывая новый выход. Оссару тоже напряженно размышлял. Вдруг он воскликнул:
— Веревка на хвост!
— Нет, — возразил Каспар, — не на хвост — так он не пойдет. Давайте сделаем ему ошейник и поводок по всем правилам. Так будет лучше, я ручаюсь!
Сказано — сделано. Сняли пояса и ремни с пороховниц и сумок, сделали поводок, повязали его собаке вокруг шеи и пустили ее вперед.
Каспар держал поводок, а остальные шли на голос Каспара.
Так прошли они еще около ста ярдов, как вдруг пес заскулил, потом залаял, словно напал на след, и через несколько секунд внезапно остановился.
Поводок натянулся, и Каспар понял, что пес прыгнул вперед и что-то схватил. Юноша нагнулся и стал ощупывать рукой камни. Неожиданно он почувствовал под рукой густую косматую шерсть.
Увы! Надежды их рухнули, — вместо того чтобы привести к выходу из пещеры, Фриц привел их обратно к медвежьей туше.
Глава 58
ПЕЩЕРНАЯ ЖИЗНЬ
Все трое были сильно разочарованы. Особенно же их огорчило, что, придя к убитому медведю, пес не пожелал идти дальше. Ни приказания, ни ласковые слова не могли заставить его расстаться с тушей. Даже когда его оттаскивали на несколько шагов и снова отпускали, он всякий раз приводил Каспара все на то же место. Было от чего прийти в отчаяние!
Так им сперва казалось, но, поразмыслив, Карл пришел к заключению, что этот неприятный инцидент имеет свою хорошую сторону. Он уверял товарищей, что судьба им благоприятствует и что у них есть шансы благополучно выбраться из унылого подземелья, куда они так неосторожно попали.
Слова Карла ободрили охотников, и они согласились, что это большая удача: не будь у них туши, им нечего было бы есть и они вскоре погибли бы от голода.
Но теперь, найдя медведя, они смогут несколько дней прокормиться его мясом и за это время, наверно, найдут выход. Необходимо тщательно изучить место, где лежит туша. Делая отсюда вылазки в разные стороны, они всегда будут оставлять отметины, по которым смогут вернуться назад.
К счастью, в пещере имелась вода. Кое-где со скал падали капли, и можно было напиться, а совсем недавно они перешли через ручеек, бежавший в одном из проходов. Они знали, что его легко будет найти, а потому не беспокоились о питье.
Вопрос был лишь в том, долго ли они будут искать выход и хватит ли им на это время медвежатины.
Находка туши открывала новые перспективы, и, когда охотники уселись обедать, на душе у них было веселей.
Кругом было так темно, что вполне можно было назвать эту трапезу ужином. К тому же с тех пор, как они позавтракали утром, прошло уже много часов, хотя они не могли бы сказать, сколько именно; но так как после завтрака они ничего не ели, то назвали свою трапезу обедом. Никогда еще обед или ужин не был так быстро приготовлен, потому что он вовсе не готовился — ведь у них не было огня.
Но охотники были не склонны привередничать. Прошло уже очень много времени после их скудного завтрака. Карл и Каспар сперва не решались есть сырое мясо, но муки голода становились нестерпимыми, и сырая медвежатина показалась достаточно вкусной. Для Оссару это был ужин — он не страдал такими предрассудками и давно уже съел свой обед, поэтому был далеко не так голоден, как его спутники.
Карл и Каспар ели с таким аппетитом, как если бы обедали при свете канделябров. Быть может, отсутствие света даже помогло им победить свое отвращение. Обед был весьма изысканный — медвежий окорок; ведь охотники уверяют, что вареный, жареный или даже сырой медвежий окорок — вкусное блюдо.
Пообедав, все трое ощупью направились в ту сторону, где слышалось журчание ручейка.
Они нашли место, где вода сочилась из расселины скалы, падая частыми каплями, и, припав губами к этому подземному источнику, быстро утолили жажду.
Затем они вернулись в свою «столовую». Утомленные долгими странствованиями, все трое растянулись на камнях; их сильно клонило ко сну. Правда, ложе было жесткое, но совсем не холодное, так как в больших пещерах никогда не бывает холодно. Температура там ровнее, чем на открытом воздухе: там холоднее летом и теплее зимой, так что разница между временами года почти не ощущается; во всяком случае, там не бывает ни мороза, ни жары. Таковы климатические условия в Мамонтовой пещере в Кентукки и в других больших пещерах; поэтому у врачей возникла мысль, что людям с больными легкими полезно жить в пещерах. Это побудило многих туберкулезных больных поселиться в Мамонтовой пещере, где они живут в прекрасном отеле и наслаждаются комфортом и даже роскошью.
Но Карл, Каспар и Оссару не обращали внимания на приятную, умеренную температуру в пещере. Они с радостью променяли бы ее на самую знойную страну экваториального пояса или на самое холодное место полярной области. Злые москиты или свирепая стужа были бы им куда желаннее, чем мягкий, ровный климат пещеры, где никогда не сияло солнце и не шел снег.
Несмотря на их угнетенное состояние, усталость наконец взяла верх, и все трое уснули крепким сном.
Глава 59
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЩЕРЫ
Охотники проспали долго и, когда проснулись, не могли определить, день сейчас или ночь. Они только гадали об этом, вспоминая, сколько времени прошло с тех пор, как они проникли в пещеру; но такого рода суждениям вообще нельзя доверять. И в самом деле, они сильно разошлись в своих предположениях: Карл считал, что они блуждают уже два дня и ночь, а по мнению его товарищей, они находились в пещере всего сутки.
Карл приводил в доказательство тот факт, что они зверски проголодались, — значит, прошло много времени; кроме того, он уверял, что они спали именно ночью, ибо инстинкт подсказал им это время отдыха. Впрочем, Карл и сам сознавал всю шаткость второго своего довода: ведь после бессонной ночи они вполне могли заснуть в любое время дня.
Возможно, однако, что Карл был и прав. Они долгое время блуждали взад и вперед и много раз отдыхали. Терзавшая охотников смертельная тревога гнала их вперед, и неудивительно, ведь они потеряли всякое представление о пройденных расстояниях и о времени, потраченном на бесплодные поиски. Охотники долго возились, устанавливая лестницу, и день уже клонился к вечеру, когда они вошли в пещеру. Поэтому можно допустить, что они уснули лишь на вторую ночь после того, как попали в это мрачное подземелье.
Так или иначе, они спали долго и крепко, хотя и неспокойно; им снилось, что на них нападают медведи и свирепые косматые яки. Они падали в бездонную пропасть и тщетно старались взобраться на высокие утесы. Впрочем, неудивительно, что в подобных обстоятельствах они видели такие страшные сны.
Пробуждение стало мучительным. Вместо радующего глаз солнечного света и синего утреннего неба они не увидели ничего — кругом царил мрак. Вместо пения птиц или просто веселых звуков они не услышали ничего — кругом стояла могильная тишина.
В самом деле, эта пещера могла оказаться их могилой: сперва они будут здесь заживо погребены, но рано или поздно она станет усыпальницей, где будут покоиться их кости.
Таковы были их мысли при пробуждении. Действительность оказалась ужаснее сновидений.
Если отсутствие света не мешает человеку превосходно спать, то на аппетит оно влияет еще меньше. Трапеза снова состояла из сырой медвежатины без хлеба и соли.
Насытившись, они принялись за дело, решив привести в исполнение замысел Карла. Он уже успел сообщить свой план товарищам.
Они должны были делать вылазки во все стороны от того места, где был убит медведь. Отсюда расходилось лучеобразно множество проходов — они заметили это, когда факелы еще горели. Решено было исследовать их все, один за другим. Исследовать постепенно, отрезок за отрезком, пока не изучат проход, идущий в каком-нибудь направлении. Шаг за шагом они будут ощупывать скалы по обе стороны прохода, пока не запомнят всех выступов или других ориентиров. Если ориентиров не окажется, то они их сделают, насыпая кучки камней или отбивая куски сталактитов топориком. Они хотели «переметить» все проходы, чтобы потом их узнавать, подобно тому как охотник отмечает свой путь в непроходимом лесу.
Это была очень удачная мысль, и при известном терпении и настойчивости их усилия могли увенчаться успехом. При таком планомерном обследовании пещеры была некоторая надежда выбраться из нее — ведь нельзя рассчитывать на счастливую случайность, находясь в сложном лабиринте путаных ходов.
Они знали, что для выполнения такого плана нужно время и терпение, но терпению все трое уже научились. Сооружение моста было хорошей школой. Возможно, что этот план потребует немного времени, но вполне вероятно, что его удастся осуществить не очень скоро. Они должны быть готовы и к тому и к другому.
Но, скорее всего, пройдет немало времени, прежде чем они снова увидят солнечный свет. О, как они мечтали увидеть светлый круг у входа в пещеру, на который они едва взглянули, уходя в глубь прохода!
Поэтому охотники решили избрать одно направление и тщательно обследовать данный проход, прежде чем входить в другие. Когда первый будет пройден до конца или они убедятся, что взяли неверное направление, они оставят его и начнут исследовать другой. Таким образом, рано или поздно они неизбежно найдут проход, который выведет их из этой гигантской «тюрьмы».
Прежде чем приступить к работе, они еще раз подвергли испытанию Фрица, но пес ни за что не хотел расставаться с тушей, и, хотя Каспару порой удавалось увлечь его за собой на некоторое расстояние, он всякий раз возвращался назад к медведю. Убедившись, что Фриц не может быть их проводником, они отвязали его с поводка и приступили к выполнению плана.
Они применили довольно остроумный способ: ощупывали стены, пока не обнаружили широкий проход, который вел из «зала», где они находились. Этот проход они решили обследовать в первую очередь.
Чтобы не заблудиться на обратном пути, один из них оставался на определенном месте, а двое других шли вперед, по временам останавливаясь и отмечая свой путь. Если бы двое разведчиков свернули в неправильном направлении и заблудились, они стали бы кричать — и третий указал бы им дорогу.
Таким образом они продвигались без особых затруднений, но очень медленно. Вы можете подумать, что они могли бы идти быстрее, зная, что не заблудятся на обратном пути. Но по дороге встречалось множество препятствий. Каждый боковой проход — а их были десятки — нужно было как-то отметить для будущих разведок, и знаки следовало сделать очень приметные, на что требовалось довольно много времени. Отметки делались на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы их легче было найти на обратном пути. Приходилось также перебираться через большие валуны и переправляться через трещины, повсюду пересекавшие их путь, — все это тоже отнимало время.
Итак, они продвигались медленно и с большой осторожностью, и, когда настала ночь, то есть когда они устали и проголодались, по их расчетам, они прошли примерно полмили. За эти долгие, трудные часы их не порадовал ни один луч света, но, когда они вернулись к месту отдыха, в сердце у них теплилась надежда. Завтра или послезавтра, или днем позже — не все ли равно! — они твердо верили, что снова увидят солнце.
Глава 60
ЗАГОТОВКА МЕДВЕЖАТИНЫ
Их тревожил вопрос о пище: надолго ли хватит медвежатины? Медведь был большой и жирный, в этом можно было убедиться на ощупь, и если они будут есть его понемногу, то его хватит надолго. Но как сохранить мясо? Если тушу оставить неободраниой, мясо вскоре испортится, хотя не так скоро, как на открытом воздухе: в достаточно глубоком погребе мясо сохраняется лучше, чем когда оно выставлено на солнечный свет…
Хотя местами в пещере имелась вода, но в основном там было очень сухо. Камни повсюду были сухие, а в некоторых местах покрыты слоем пыли. Они заметили это, еще когда преследовали медведя. Приблизившись с факелами к месту побоища, они увидели, что медведь и собака окутаны облаком пыли. О сухости воздуха можно было судить и по тому, что у них пересыхало в горле.
Опасаясь, что мясо может испортиться, прежде чем они выберутся из пещеры, охотники начали придумывать способ его сохранить. Соли у них не было, так что о засолке не могло быть и речи. Будь у них материал для костра, они могли бы обойтись и без соли, прокоптив мясо; но дрова было так же трудно найти, как и соль. Находись они на открытом воздухе, под горячим солнцем, они могли бы высушить мясо так, что оно сохранялось бы долгие месяцы.
Увы, солнечные лучи были столь же недоступны, как соль и дрова!
Обнаружив чрезвычайную сухость воздуха, они подумали, что если нарезать мясо тонкими ломтиками и развесить их или разложить по камням, то оно может долго сохраняться — продержится дольше, чем если бы лежало сплошной массой. Эту мысль подал Оссару, и мысль была удачной. Во всяком случае, невозможно было придумать ничего лучшего, и после зрелого размышления они принялись заготавливать мясо.
Но где достать огня? Как ободрать медведя, не видя его? Как резать и раскладывать мясо?
Задача эта была не из трудных и отнюдь не смущала наших искателей приключений. К этому времени они уже освоились с темнотой, а Оссару ничего бы не стоило ободрать медведя. Итак, с помощью товарищей, державших тушу в правильном положении, он начал работать своим острым ножом почти так же ловко, как если бы ему светила дюжина свечей, и, сняв мохнатую шкуру, отложил ее в сторону на камни.
Разрезать мясо на полоски и ломтики было нетрудно, хотя это заняло много времени, так как приходилось работать с величайшей тщательностью: слишком толсто нарезанное мясо быстрее бы испортилось.
Но шикари был очень опытен в этом деле и так ловко справился со своей задачей, что, если бы вынести нарезанные куски на свет, никто не догадался бы, что они сделаны в темноте.
Ломтики, нарезанные Оссару, переходили в руки его товарищей, а те, расстелив на земле шкуру шерстью вверх, раскладывали их.
Возник вопрос, как лучше высушить мясо, — разложить на камнях или развесить на бечевках.
— Развесить, конечно, лучше, — подал мысль Оссару, и все с ним согласились.
Они считали, что таким образом мясо высохнет быстрее; кроме того, оно не попадется Фрицу, который, если за ним не усмотрят, может прокрасться к туше и истребить чуть не половину всего запаса.
Как бы то ни было, лучше держать мясо подальше от него.
Но как это осуществить? Где достать веревок? У них не было ни шестов, ни веревок, чтобы протянуть между шестами. Правда, у Оссару имелась длинная веревка, которую он свил из пеньки, когда готовил свою сеть, но ее все равно бы не хватило. Для такого количества мяса нужно было много ярдов веревки. Что же делать?
— Разрезать шкуру на полоски! — воскликнул Каспар.
Сказано — сделано. Сырую медвежью шкуру растянули на камнях, нарезали из нее ремней шириной около дюйма, и когда их связали вместе, то получился ремень длиной от одной стены большого «зала» до другой. Концы его прикрепили к скале: один перекинули через высокий камень, другой положили на небольшой выступ и закрепили, придавив тяжелым обломком, — таким образом ремень протянули через весь «зал» наподобие веревок для сушки белья.
Испытав его прочность и убедившись, что он пригоден для намеченной цели, они стали приносить мясо, кусок за куском, и аккуратно развешивать его на ремне.
Когда на ремне уже не оставалось свободного места, пришлось сделать второй ремень; как и первый, его прикрепили к камням. На него повесили остальное мясо. Дневной труд был закончен; правда, охотники не знали — ночь это или день, но они долго работали и, закончив работу, рады были отдохнуть.
Поужинав, они улеглись, намереваясь проспать лишь несколько часов, а затем встать и с новыми силами устремиться на поиски солнца и свободы.
Глава 61
СНОВИДЕНИЯ
Люди, находящиеся в темноте, всегда мечтают о свете, и Карлу приснилось, что в пещере вдруг стало светло. Ее стены и своды заискрились алмазным блеском; он мог разглядеть все закоулки, все расходящиеся отсюда проходы и коридоры. Но ни он, ни его товарищи не удивлялись свету — только радовались, что смогут найти выход. И вот, без сожаления бросив межвежью тушу, пройдя множество галерей и «залов» (некоторые из них они пробежали в погоне за медведем и узнавали теперь), они достигли наконец входа в пещеру и снова увидели небо и солнце.
Эта развязка так взволновала Карла, что он проснулся, громко вскрикнув от радости. Но его восторг быстро сменился разочарованием. Все это было только сном — обманчивой иллюзией, действительность была по-прежнему мрачной и безотрадной.
Восклицание Карла разбудило его товарищей, и он почувствовал, что Каспар очень возбужден. Он не видел брата, но сразу понял это по его голосу.
— Я видел сон, — сказал Каспар, — странный сон!
— Сон? Что же тебе приснилось?
— О! Я видел во сне свет! — ответил Каспар.
В сердце Карла шевельнулось что-то похожее на суеверный страх. Неужели Каспару приснилось то же, что и ему?
— Какой же это свет, Каспар?
— О! Яркий свет, который может вывести нас отсюда! Но пусть меня повесят, если это мне приснилось! Клянусь честью, брат, я уже наполовину проснулся, когда эта мысль пришла мне в голову! Ведь правда замечательная мысль?
— Какая мысль? — спросил Карл, изумленный и несколько встревоженный, — ему пришло в голову, что Каспар во сне лишился рассудка. — Какая же это мысль, Каспар?
— О чем же мне думать, как не о свечах!
— О свечах? О каких свечах?
«Ну конечно, — с ужасом подумал Карл, — бедняга помешался! Эта ужасная тьма свела его с ума…»
— Ах, я еще не рассказал тебе свой сон, если только это был сон! Я сам не знаю, что говорю… Не помню себя от радости! Мы не будем больше ходить ощупью в этой проклятой темноте — у нас будет свет… много света, обещаю вам! Как это мы до сих пор об этом не подумали!
— Но в чем дело, брат? Что ты видел во сне? Расскажи!
— Теперь, когда я окончательно проснулся, мне кажется, что это был не сон или, вернее, не совсем сон. Я думал об этом, засыпая, вот и увидел свои мысли. Помнишь, брат, я тебе говорил, что, когда я размышляю над каким-нибудь вопросом, ко мне нередко приходит решение в полусне; так было и на этот раз. Я уверен, что нахожусь на верном пути.
— На каком же это верном пути, Каспар? Уж не выведет ли нас этот путь из пещеры?
— Надеюсь, что да.
— Но что же ты предлагаешь?
— Заняться производством сальных свечей.
— Производством свечей?! «Бедный мальчик! — снова подумал Карл. — Так оно и есть — бедняга потерял рассудок!..»
Но, конечно, он не высказывал вслух своих грустных мыслей.
— Да, именно этим производством… — продолжал Каспар все тем же слегка шутливым тоном. — И наделать побольше свечей.
— А из чего же ты сделаешь свечи, милый Каспар? — спросил Карл, делая вид, что сочувствует идее брата, — он боялся ему противоречить, чтобы не раздражать больного.
— Ну конечно, из медвежьего жира! — заявил Каспар.
— Вот как! — воскликнул Карл. Он сразу изменил тон, заметив, что в этом безумии есть своя логика. — Ты говоришь — из медвежьего жира?
— Ну конечно. Карл! Ведь его брюхо битком набито жиром. Почему бы нам не наделать из жира свечей, которые помогут нам выбраться из этого чудовищного каменного лабиринта?
Карл уже больше не думал, что его брат сошел с ума. Он понял, что Каспара осенила замечательная мысль. И хотя он еще не знал, как ее привести в исполнение, было ясно, что это не пустая выдумка.
Глава 62
НАДЕЖДЫ
Оссару разделил радость своих друзей, и все трое стали обсуждать предложение Каспара и способы его выполнения.
Но ни Карлу, ни Оссару не пришлось высказывать своего мнения, так как изобретатель уже как следует обдумал свой план. В самом деле, он думал о свечах перед сном, а потому, когда проснулся, ему показалось, что он увидел это во сне. Когда они разрезали на ломтики медвежатину, у него зародилась мысль о свечах из медвежьего жира.
— Представьте себе, — начал Каспар, — мне пришла в голову эта мысль, когда мы с Оссару разделывали тушу медведя. Когда я брал в руки некоторые куски, то чувствовал на ощупь жир. Тут я спросил себя, не может ли гopeть медвежий жир. Ведь в брюхе медведя пропасть жира, а из него можно делать свечи. Только будет ли он гореть? Вот какой вопрос меня занимал. Я боялся, что если не вытопить жира и не вставить в него фитиль, то гореть он не будет. Но откуда достать огонь, чтобы вытопить жир, и где взять для него сосуд? Вот в чем загвоздка!
— К сожалению, это так, — сказал Карл разочарованным тоном.
— Так думал и я и совсем было оставил эту мысль. Даже вам ничего не сказал. Я ведь знал, что мы не можем наделать дров из камней, и мне стало ясно, что я зашел в тупик.
— Да, в тупик, — машинально повторил Карл.
— Да нет же, брат, нет! — возразил Каспар. — Слушай дальше. Я никак не мог отделаться от этой мысли и продолжал размышлять. Как добыть огонь, чтобы вытопить жир? Я знал, что ничего не стоит высечь искру, ведь у нас есть трут и порох. Но где взять топлива для костра и сосуд, чтобы собрать жир? Сначала я думал исключительно об огне. Если только нам удастся развести костер, можно обойтись и без сосуда — мы можем нагревать тонкий, плоский камень и понемногу топить на нем жир. Если нельзя сделать настоящие свечи, можно обмакнуть в жир фитиль, и получится светильня. Я знал, что у нас есть фитиль, — я вспомнил про длинную веревку, которую сделал Оссару из пеньки. Она отлично сойдет. Со всеми этими задачами легко справиться, но труднее всего добыть дров для костра.
— Очень остроумно, Каспар! Признаюсь, мне это никогда не пришло бы в голову. Продолжай, брат!
— Так вот, друзья мои, я нашел дрова!
— Браво! Молодец! — воскликнули в один голос Карл и Оссару. — Ты нашел дрова?
— Да, я придумал, как их достать, в тот момент, когда засыпал, а потом мне показалось, что я видел это во сне. Когда я начал просыпаться, то снова принялся об этом думать — и придумал сосуд, в котором можно топить жир. Мне думается, нам удастся его сделать.
— Ура! Вот это замечательно!
— Сейчас вам расскажу свой способ. Я все время его обдумывал, пока говорил. Может быть, вы мне еще что-нибудь подскажете. Но вот что я предлагаю.
— Говори, Каспар, поскорей!
— У нас два ружья. У Оссару копье, топорик, лук и полный колчан стрел. К счастью, колчан тоже бамбуковый, толстый и сухой, как трут. Итак, я предлагаю прежде всего расщепить топориком приклады ружей вместе с шомполами — мы сделаем другие, когда выберемся отсюда, — а также древко копья, лук, стрелы и колчан… Ничего, Оссару, ты потом сделаешь новые… Этого материала у нас хватит на большой костер, на котором мы сможем натопить сколько угодно жира…
— Хорошо, — перебил его Карл. — Но где мы возьмем котел?
— Сначала это мне тоже казалось непреодолимой трудностью, — ответил молодой изобретатель, — но внезапно я вспомнил про свою пороховницу; ты знаешь, ведь она патентованная и крышка у нее отвинчивается. Мы можем снять крышку, высыпать порох в карман и пустить в ход пороховницу. Жаль только, что она мала. Ну что ж, можно топить сало маленькими порциями.
— Значит, ты предлагаешь наделать из веревки фитилей и обмакивать их в растопленный жир?
— Ничуть не бывало, — отвечал торжествующим тоном Каспар, — ничего мы не будем макать! Правда, сперва я подумывал о светильне, но она меня не удовлетворила. У нас будут настоящие свечи — литые!
— Как — литые свечи? Как же ты их сделаешь?
— Со временем узнаете. Когда Оссару собирался поймать тигра, он не захотел нам открыть свой план, и в отместку ему я тоже покамест ничего не скажу. Ха-ха-ха!
И Каспар залился веселым смехом. Они смеялись в первый раз с тех пор, как вошли в пещеру; впервые под ее мрачными сводами раздавался человеческий смех.
Глава 63
ИЗ МРАКА К СВЕТУ
Не теряя времени, все трое принялись за работу под руководством Каспара. Первым делом они разобрали ружья, вывинтили замки, отделили от ложа все железные части. Затем осторожно сняли ложе и раскололи топором на мелкие щепки, не пощадили даже шомполов, сохранив их головки и шурупы. У охотников теперь была твердая надежда выбраться из пещеры. И они знали, что им еще пригодится ценное оружие, которое они сейчас разрушают. Поэтому они не выбрасывали ни одной части, которую нельзя было бы впоследствии заменить: пожертвовали только деревом, но тщательно сохранили все железные части, до малейшего гвоздика и винтика; отделив от дерева, их собрали и связали в один пакет.
Затем так же разделались с оружием Оссару. С копья сняли наконечник, а древко разрубили на куски. С лука сняли тетиву и превратили его в щепки, затем разломали стрелы и расщепили колчан. Это был прекрасный горючий материал, который должен был вспыхнуть, как порох.
Неожиданно у них оказались еще новые ресурсы топлива. Охотники вспомнили о длинных рукоятках, приделанных к факелам, — они были сделаны на манер ручек для метлы. Когда факелы догорели, рукоятки бросили, и, вероятно, они валялись где-нибудь поблизости. Все трое принялись шарить по земле и вскоре нашли рукоятки, из которых получилось довольно много смолистых сосновых щепок.
Это была большая удача — им не хватало как раз сосновых щепок, чтобы разжечь огонь. Хорошо просушенные и пропитанные смолой, стекавшей с горящих факелов, они должны были мгновенно воспламениться.
Когда собрали все топливо, получилась порядочная груда. Решили покамест пощадить топорик Оссару. С него можно будет в любую минуту снять ручку, но, вероятно, это не понадобится.
Однако было очевидно, что, если разжечь обычный костер, дрова сгорят, прежде чем они успеют отлить свечи. Вот будет беда! Необходимо было принять меры во избежание такой катастрофы.
Поэтому они сложили небольшой очаг, дюймов шести-восьми в поперечнике. Его быстро соорудили извалявшихся кругом камней. В очаг положили лишь немного дров. Как известно, очаг требует гораздо меньше топлива, чем костер. Весь жар направляется кверху, и сосуд, поставленный над огнем, получает вдвое больше тепла, чем если бы он висел над костром, где пламя мечется во все стороны.
Вскоре они сообразили, что, когда дерево разгорится, можно замедлить процесс горения, положив сверху куски медвежьего сала. Таким способом они не только продлят горение дерева, но и получат более жаркий огонь. Мысль была очень удачная — теперь им должно было хватить топлива. Очаг суживался кверху; отверстие было сделано как раз по размерам пороховницы.
Работали сначала без света. Но вот очаг был сложен. На дно его положили щепки, высекли искру из кремня, подожгли трут, поднесли его к просмоленным сосновым щепкам — и через мгновение обширный зал озарился ярким пламенем, стены его заискрились, словно усыпанные алмазами.
Освещение позволило значительно ускорить работу. Все стали действовать увереннее. Склонившись над тушей, Оссару вырезал из нее большие куски жира и раскладывал их на камнях. Карл поддерживал огонь в очаге. Когда он подбросил в пламя несколько кусков жира, оно стало гореть ярко и ровно. Каспар, стоя рядом, что-то проделывал со своей двустволкой.
Что делает Каспар с ружьем? Конечно, оно сейчас никуда не годится без замка и без ложа! Ошибаетесь! Именно теперь оно стало полезным и даже незаменимым. Понаблюдайте немного за Каспаром, и вы увидите, что он возится со стволами. Смотрите! Вот он отвинтил оба бойка и продевает в каждый из стволов по куску бечевки. Это и есть фитили, приготовленные из пеньковой веревки. И мне нечего говорить вам, как намерен Каспар использовать свои превосходные стволы: ведь вы уже сами теперь догадались.
«Свечные формы!» — воскликнете вы.
«Разумеется, свечные формы, — отвечу я. — Это будут замечательные формы, лучших не бывает!»
Итак, работа продолжалась: фитили были вставлены, и, как только первая порция жира была вытоплена, его влили в один из стволов. Эта процедура повторялась несколько раз, пока, ко всеобщему восторгу, оба ствола не наполнились доверху.
Правда, они были еще горячие, и жир внутри совсем жидкий. Приходилось терпеливо ждать, пока они остынут и свечи затвердеют. Чтобы ускорить остывание, стволы отнесли в проход, где со сводов капала холодная вода, и поставили вертикально, чтобы вода стекала вдоль стволов; затем вернулись к очагу.
Огонь в нем немедленно погасили, оставив лишь несколько искорок, чтобы его можно было снова разжечь. Необходимо было экономить топливо, так как они намеревались отлить еще две свечи. У них оставалось достаточно топлива, чтобы вытопить жира еще на две свечи; веревки для фитилей тоже должно было хватить, а жира в огромной туше было более чем достаточно.
Вы спросите: почему не пустили в ход ствол от ружья Карла? Это легко объяснить. У Карла была винтовка, и ee нарезной ствол не годился для этой цели. Если бы они вздумали отливать в нем свечу, то ее невозможно было бы вытащить, и их труды пропали бы даром.
Пока остывали стволы, охотники занялись изготовлением фитилей из пеньковой веревки. Затем они поджарили на маленьком огне несколько кусков медвежатины, с аппетитом их съели и почувствовали новый прилив сил.
Они терпеливо ждали, пока остынут стволы и можно будет вынуть свечи. Ждать пришлось довольно долго; наконец стволы сделались холодными, как лед, а жир внутри окончательно затвердел.
Тогда снова в очаг подбросили дров, слегка разогрели железные формы и начали медленно извлекать из них свечи. У всех троих вырвался крик радости, когда появился белый стержень, медленно и плавно выходивший из ствола. Так же удачно вытащили вторую свечу. Теперь к их услугам были две огромные свечи, длиною в три фута.
Их тут же испытали, и оказалось, что обе превосходно горят.
Через некоторое время появились еще две свечи. Теперь в распоряжении охотников был запас свечей, которого могло хватить на сто часов. Они могли бы наделать и еще свечей — у них оставалось достаточно жира и топлива, — но и этих было вполне достаточно. Разве за сто часов они не выберутся на солнечный свет!
И они увидели его гораздо скорее: не прошло и восьми часов, как они уже выбрались из пещеры.
Я не буду описывать подробно их странствования по сводчатым переходам этой гигантской пещеры. Достаточно сказать, что они наконец увидели яркое, как метеор, пятно, указывавшее на выход из пещеры. Бросив свечи, они ринулись вперед и с восхищением смотрели на сияющие небеса…
Глава 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы можете подумать, что после такого опасного приключения в огромной пещере охотники никогда больше не вступят под ее мрачные своды. Разумеется, они ни за что бы туда не вернулись, если бы существовал выход из долины, которая стала их тюрьмой. Но они все еще надеялись, что один из ходов пещеры выведет их по ту сторону горы.
Упорно цепляясь за эту надежду, они решили тщательно обследовать пещеру и целую неделю занимались приготовлением больших факелов и отливкой свечей.
Заготовив их в достаточном количестве, они отправились на разведку.
День за днем, упорно и методически они обследовали пещеру. Но попытки их не увенчались успехом. Второго выхода из нее не существовало.
Прошло несколько недель. Охотники побывали во всех закоулках этого гигантского лабиринта, исследовали все его проходы и, лишь когда убедились, что все они заканчиваются тупиком, отказались от своей затеи.
Итак, они вышли из пещеры, решив больше в нее не возвращаться. Теперь у них уже не оставалось надежды выбраться из долины. В полном отчаянии все трое уселись на камнях у входа в пещеру. Долго сидели они молча. У всех была одна и та же мысль — печальная мысль о том, что они навсегда отрезаны от всего света и больше никогда не увидят человеческих лиц, кроме лиц своих товарищей.
Каспар первым нарушил молчание.
— О, — простонал он, — какая ужасная судьба! Здесь суждено нам прожить всю жизнь, здесь мы и умрем — вдали от родины, от людей, в полном одиночестве!
— Нет, Каспар, — возразил Карл, пытаясь подбодрить брата, — это нельзя назвать одиночеством! Нас здесь трое, и мы будем поддерживать друг друга. Постараемся же найти какой-нибудь другой выход, а пока эта долина пусть будет нашим домом!
Ползуны по скалам, или Хижина, затерянная в Гималаях (повесть)
Братья Карл и Каспар, а также их проводник индус Оссару и верный пёс Фриц, оказываются отрезанными от цивилизации высоко в Гималаях…
Глава 1
ГИМАЛАИ
Кто не слыхал о Гималаях — об этих гигантских горных массивах, вставших между знойными равнинами Индии и холодным плоскогорьем Тибета, — об этой мощной преграде между двумя величайшими империями в мире: Великих Моголов и Небесной? Самый невежественный в географии новичок и тот скажет вам, что это высочайшие на земле горы, что не менее шести их вершин поднимается над уровнем моря на высоту больше пяти миль; что более тридцати вершин достигает высоты свыше двадцати тысяч футов и макушки этих гор одеты вечными снегами. Более опытный географ или геолог расскажет сотни других любопытных фактов, относящихся к этим величественным горам. Интереснейшими сведениями об их фауне, лесах и флоре можно было бы заполнить толстые тома. Но в рамках этой повести, мой юный читатель, мы сможем набросать лишь несколько наиболее характерных черт; они дадут тебе представление о титаническом величии этих мощных, увенчанных снегами горных массивов, которые высоко вздымаются, то хмурясь, то сияя улыбкой, над великим королевством Индии.
В литературе Гималаи называют обычно «горной цепью». Испанские географы именуют их «сьерра» (пила) — термин, который они применяют к американским Андам. Но ни то, ни другое название не подходит для Гималаев, так как огромное пространство, ими занимаемое — свыше двухсот тысяч квадратных миль — и втрое превосходящее площадь Великобритании, никак нельзя сравнить по форме с цепью. Длина Гималаев всего в шесть — семь раз больше их ширины; они тянутся почти на тысячу миль, в то время как их ширина охватывает чуть ли не два градуса географической широты.
Кроме того, на всем своем протяжении от западных отрогов, в Кабуле, до восточных, у берегов Брамапутры, они несколько раз прерываются, не оправдывая названия «горная цепь». Между этими двумя точками они прорезаны огромными долинами, которые образованы руслами больших рек; а эти реки, вместо того чтобы течь на восток и запад, как тянутся сами горы, текут в поперечном направлении, нередко прямо на север или на юг.
Правда, путешественнику, направляющемуся к Гималаям из любой части Великой Индийской равнины, эти горы представляются одним непрерывным рядом, тянущимся вдоль горизонта с востока на запад. Однако это лишь оптический обман. Гималаи следует считать не одним горным кряжем, а целым пучком горных цепей, покрывающих пространство в двести тысяч квадратных миль, причем эти цепи идут в стольких же направлениях, сколько румбов на компасе.
В пределах этой обширной горной страны климат, почва и растительность сильно меняются. В районе невысоких холмов, примыкающих к Индийской равнине, и в некоторых глубоких долинах центральной части Гималаев флора носит тропический или субтропический характер. Здесь в изобилии растут пальмы, древовидный папоротник и бамбук. Выше появляется растительность умеренной зоны, представленная лесами гигантских дубов различных пород, смоковницами, соснами, орехами и каштанами. Еще выше растут рододендроны, березы и вереск, за которыми простирается область травянистой растительности — склоны и плоскогорья, покрытые густой травой. Еще выше, вплоть до линии вечных снегов, встречаются тайнобрачные — лишаи и мхи альпийского типа, какие растут за пределами Полярного круга. Таким образом, путешественник, начинающий восхождение из какого-нибудь пункта Индийской равнины к высоким гребням Гималаев или поднимающийся из глубокой долины к снежной вершине, за несколько дней пути испытает смену всех климатов и будет наблюдать представителей всех видов растительности, какие только известны на земле.
Гималаи нельзя считать необитаемыми. Напротив, в их пределах находятся одно крупное королевство (Непал) и множество мелких государств, каковы Бутан, Сикким, Гурвал, Кумаон и знаменитый Кашмир; некоторые из них обладают известной политической независимостью, но большинство находится под протекторатом либо Англо-Индийской империи (на юге), либо Китая (на севере). Жители этих государств принадлежат к смешанным расам и сильно отличаются от народов Индостана. К востоку — в Бутане и Сиккиме — живут главным образом монгольские племена, одеждой и обычаями напоминающие тибетцев и, подобно им, исповедующие буддистскую религию. В Западных Гималаях смешиваются горцы-гурки, индусы, пришедшие с юга, сикхи — из Лагора и магометане — из древней империи Моголов. И здесь можно встретить в полном расцвете все три великие азиатские религии: магометанскую, буддистскую и браманистскую.
Однако население весьма немногочисленно по сравнению с пространством, по которому оно рассеяно: в некоторых областях Гималаев на пространстве тысячи квадратных миль не живет ни одно человеческое существо, не дымится ни один очаг. Встречаются также, особенно среди высоких, покрытых снегами гор, огромные долины и ущелья, которые либо никогда не были исследованы, либо исследованы лишь случайно, каким-нибудь отважным охотником. Есть места совершенно недоступные. А высочайшие пики — Чомолари, Кинчинджунга, Даулагири и другие им подобные — находятся высоко за пределами досягаемости даже для самых отважных альпинистов. Кажется, еще никто никогда не поднимался на высоту пяти миль над уровнем моря, и еще вопрос, может ли человек существовать на такой высоте. Вероятно, на таком уровне всякая жизнь прекращается вследствие крайнего холода или разреженности атмосферы.
Хотя Гималаи известны были еще на заре истории (древние писатели называют их «Имаус» или «Эмодус»), но в Европе только в XIX веке стали получать сколько-нибудь точные сведения об этих горах. Португальцы и голландцы первые европейские колонисты в Индии — упоминают о них лишь изредка, и даже англо-индийские писатели долго не затрагивали этой интересной темы. Преувеличенные рассказы о враждебности и жестокости гималайских горцев точнее называемых гурками — удерживали частных лиц от исследований. О Гималаях было написано всего каких-нибудь пять-шесть книг, в которых главным образом говорилось о западной части этих гор и которые представляли лишь небольшую научную ценность, так как авторы их не обладали достаточными познаниями. Таким образом, эта обширная область оставалась до наших дней очень мало известной.
Однако в последнее время мы глубже ознакомились с этой интересной страной. Ботаники, привлеченные богатой флорой Гималаев, открыли нам целый новый мир растительности, а Ройлу и Гукеру[180] удалось дополнить эти открытия.
Зоологи, которых привлекло сюда разнообразие фауны, познакомили нас с новыми формами жизни животных. Мы также многим обязаны спортсменам и охотникам Маркхему, Данлопу и Уилсону-«горцу».
Но кроме имен исследователей, которые прославились, опубликовав отчеты о своих работах, есть и другие имена, никому не известные. Охотник за растениями — этот скромный, но полезный служитель предприимчивого владельца питомника — продолжил свой путь в Гималаи; он проник в самые отдаленные ущелья, карабкался на крутые утесы, бродил у границ вечных снегов. В поисках новых форм листа и цветка он переходил вброд мутные реки, отважно пересекал вплавь бурные потоки, боролся с сокрушительной лавиной и переправлялся через глубокие трещины в ослепительно сверкающих ледниках; и хотя в печати не встретилось отчетов о его отважных подвигах, он значительно помог нам ознакомиться с этим обширным горным миром. О его достижениях можно прочесть в цветнике — по цветам пурпурной магнолии, деодару, рододендрону. Их можно встретить в теплице — в образе причудливых орхидей и странной, закрученной винтом сосны; в саду-в виде ценных кореньев и плодов, давно уже ставших нашим любимым десертом. Нам предстоит рассказать историю одной скромной экспедиции такого рода — повесть о приключениях молодого охотника за растениями, который состоял на службе у предприимчивого, небезызвестного в Лондоне семеновода.
Глава 2
ВИД С ЧОМО-ЛАРИ
Место действия — самое сердце Гималаев, область, наименее исследованная английскими путешественниками, хотя и не слишком удаленная от англо-индийской столицы — Калькутты. Интересующая нас точка находится к северу от этого города — в той части Гималаев, которую охватывает большая излучина Брамапутры.
Это место действительно можно назвать точкой по сравнению с окружающим его обширным, пустынным пространством, беспредельной пустыней, пересеченной каменистыми гребнями, где сверкают ледники и снежные вершины вздымаются одна над другой или нагромождены беспорядочно, как тучи в небесах.
Посреди этого хаоса камней, льдов и снегов поднимает свое величавое чело Чомо-лари в белых ризах и белом венце, как и подобает священной горе. Вокруг нее толпятся другие вершины — ее спутники и свита, — уступающие ей высотою, но все же могучие горы, подобно ей облаченные в одеяния, сверкающие вечной белизной.
Если бы вы стояли на вершине Чомо-лари, то внизу под вами, на глубине нескольких тысяч футов, оказалось бы место действия нашей повести — арена, где разыгрывались различные ее эпизоды. Место это напоминает амфитеатр, отличаясь от него лишь малым количеством действующих лиц и полным отсутствием зрителей.
Глядя вниз с Чомо-лари, вы увидели бы среди скал, у подножия этой величавой горы, долину необычайного вида, до того необычайного, что она сразу же привлекла бы ваше внимание. Вы заметили бы, что она правильной овальной формы и не окружена покатыми склонами, но, по-видимому, со всех сторон обнесена почти отвесными утесами. Эти темные гранитные утесы круто встают на высоту нескольких сот футов прямо со дна долины. Над зубцами этих утесов поднимается темный склон соседней горы; она увенчана пиком и гребнями, которые, находясь выше снеговой линии, вечно покрыты чистой, белой мантией, упавшей на них с небес.
Все эти подробности вы заметили бы с первого взгляда. Затем ваш взгляд вновь устремился бы на долину, лежащую внизу, и остановился бы там, привлеченный необычностью картины, зачарованный ее мягкой прелестью, резко отличающейся от суровых окрестностей, на которые вы до сих пор смотрели.
Форма долины внушает мысль, что это огромный эллиптический кратер какого-нибудь давно погасшего вулкана. Но вместо черных сернистых шлаков, которые там можно было ожидать, вы увидите прелестный зеленый пейзаж, где лужайки перемежаются с рощами и группами деревьев, как в парке, а там и сям виднеются груды скал, словно нагроможденные искусственно, для украшения. Вдоль утесов тянется темно-зеленый пояс лесов, а в центре долины лежит прозрачное озеро, на серебристой поверхности которого в известный час дня отражается увенчанная снегами вершина, где вы стоите, — конус Чомо-лари.
С помощью хорошей подзорной трубы вам удастся увидеть животных различных пород, пасущихся на зеленых лугах; птиц всевозможных видов, летающих над долиной или отдыхающих на воде озера.
Вам приятно было бы увидеть среди этих красот природы какой-нибудь прекрасный замок. Но напрасно вы будете обводить взглядом долину в надежде заметить над деревьями башни и трубы.
Правда, в одном месте, у подножия утеса, вы увидите белые пары, клубящиеся над землей. Но не подумайте, что это дым, — это всего лишь пар, поднимающийся над горячим источником, который вытекает, кипя, из скал и образует маленький, похожий на серебряную ниточку ручеек, впадающий в озеро.
Очарованные видом этой прелестной долины, вы захотите посетить ее.
Вы спуститесь по длинному склону Чомо-лари и, с трудом пробравшись сквозь лабиринт крутых отрогов у подножия, подойдете к краю отвесных скал, окружающих долину; но здесь вам придется остановиться — дороги вниз нет; и если вам все же захочется попасть на берега этого озера, то вам придется спускаться с утесов по веревке или веревочной лестнице длиной в несколько сот футов.
С помощью товарищей вам это удастся; но, попав в долину, вы сможете выбраться из нее, лишь снова поднявшись по веревочной лестнице, так как иного пути оттуда нет.
В одном конце долины вы заметите среди утесов расселину и, пожалуй, подумаете, что через нее можно выбраться на склон соседней горы. Вы быстро до нее дойдете, поднимаясь по отлогому склону; но, пройдя по расселине, вы попадете в ущелье, огражденное, как и долина, с обеих сторон отвесными утесами. Это ущелье наполовину заполнено ледником, спускаясь по которому вам удастся продвинуться вперед на некоторое расстояние. В конце спуска вы увидите, что ледник прорезан огромной трещиной, футов ста глубиной и такой же ширины. Не перейдя этой трещины, нельзя двигаться дальше; а если вам удастся через нее перебраться, то, спускаясь по леднику, вы встретите другие трещины, еще более глубокие и широкие, переправиться через которые невозможно.
Вернитесь же и исследуйте странную долину, в которую вы попали. Вы встретите здесь различные породы деревьев, зверей, птиц, насекомых; вы найдете всевозможные виды животных, кроме человека. Но если вы не найдете человека, то обнаружите его следы. Близ горячего источника вы увидите грубую хижину, что-то вроде навеса, прислоненного к скале; стенами ей служат каменные глыбы, скрепленные илом, взятым со дна ручья. Войдите в хижину. Она пустая, холодная и выглядит нежилой. Мебели нет. Каменные ложа, устланные осокой и травой, на которых люди спали, два-три гранитных обломка, на которых они сидели, — вот и все. Несколько шкур, развешанных по стенам, и кости животных, валяющиеся на земле, снаружи, показывают, чем питались обитатели хижины. Они, конечно, были охотниками. К такому выводу вы неизбежно придете.
Но как они вошли в долину и как оттуда выбрались?
Разумеется, спустились, а потом поднялись по веревочной лестнице, так же как и вы.
Вот какое напрашивается объяснение; и оно было бы удовлетворительным, если бы не одно обстоятельство, которое только сейчас вам бросится в глаза.
Оглядывая «фасад» утеса, вы остановитесь на странной подробности. Вы заметите прерывистую линию, вернее — ряд линий, идущих от основания скалы в вертикальном направлении. Подойдя ближе, вы увидите, что это лестницы, из которых нижняя стоит на земле и доходит до уступа, на котором стоит другая; эта вторая доходит до второго уступа, служащего опорой третьей лестнице, и так далее, до шестой. На первый взгляд вам покажется, что бывшие обитатели хижины выбрались из долины с помощью этих лестниц, и этот вывод был бы правильным, не будь тут одной подробности, опровергающей его: лестницы не достигают до верхнего края утеса. Между верхней лестницей и краем обрыва остается большой промежуток, для преодоления которого понадобились бы еще две или три такие лестницы. Добраться доверху без добавочных лестниц невозможно. Где же они? Едва ли их могли втащить наверх; а если бы они свалились в долину, они лежали бы на земле. Однако их не видно, нет даже обломков.
Но оставим эти догадки. Достаточно короткого обследования утеса, чтобы убедиться, что план выбраться с помощью лестниц не удался. Уступ, о который опирается верхний конец верхней лестницы, оказался, вероятно, слишком узким, чтобы на него можно было поставить следующую лестницу, или, вернее, этому помешала нависшая над ним скалистая стена. Очевидно, этот план был испробован и оставлен.
Из этой попытки видно, что люди, ее предпринявшие, находились в отчаянном положении — они оказались запертыми в этой окруженной утесами долине, откуда не было возможности вырваться, и им приходилось изобретать способы спасения.
Более того, обследовав это место вдоль и поперек, вы не придете к убеждению, что они вообще вырвались из своей странной «тюрьмы»; и вам остается лишь строить догадки о том, что за люди попали в эту затерянную долину, как они вошли сюда, как выбрались, да и удалось ли им выбраться. Ваши догадки окончатся, когда вы прочтете повесть о «Ползунах по скалам».
Глава 3
ОХОТНИК ЗА РАСТЕНИЯМИ И ЕГО СПУТНИКИ
Карл Линден, молодой немецкий студент, принимавший участие в революционной борьбе 1848 года, был выслан из Германии и нашел себе убежище в Лондоне.
Подобно большинству изгнанников, он оказался без средств; однако он не опустился морально, а стал искать работу и устроился в одном из великолепных питомников, какие встречаются в пригородах этой столицы. Вскоре своими ботаническими познаниями он привлек внимание владельца питомника. Это был один из тех предприимчивых, смелых людей, которые, не удовлетворяясь простым разведением обычных садовых и тепличных цветов и деревьев, тратят крупные суммы на посылку разведчиков во все страны света; эти посланцы должны находить и привозить в Англию все новые редкие и красивые виды растений.
Эти разведчики, собиратели флоры, или «охотники за растениями», как их можно назвать, выполняя свои задачи, исследовали и продолжают исследовать самые дикие и отдаленные места земного шара: дремучие, темные леса на Амазонке, Ориноко и Орегоне в Америке, жаркие экваториальные области Африки, тропические джунгли Индии, девственные леса на островах Востока словом, они побывали всюду, где только можно открыть и добыть новые украшения для цветника или парка.
Исследование Гималаев в Сиккиме выдающимся ботаником Гукером, описанное в книге, посвященной его путешествиям и не уступающей трудам великого Гумбольдта, привлекло внимание к богатой и разнообразной флоре этих гор. Поэтому владелец питомника, давший Карлу Линдену временную работу в своем саду, выдвинул его на более ответственный и интересный пост, послав в качестве охотника за растениями в Тибетские Гималаи.
В сопровождении своего младшего брата, Каспара, молодой ботаник прибыл в Калькутту и, пробыв там некоторое время, направился в Гималаи, на север от столицы, расположенной на Ганге.
Он взял себе в проводники известного местного охотника, или шикари, по имени Оссару; этот охотник был единственным спутником и помощником братьев, если не считать крупного пса охотничьей породы, привезенного из Европы, которого звали Фрицем.
Молодой ботаник прибыл в Индию с рекомендательным письмом к директору Калькуттского ботанического сада — учреждения, всемирно известного. Там его приняли радушно, и, проживая в столице, он проводил на территории сада немало часов. К тому же тамошние руководители, заинтересовавшись его экспедицией, сообщили ему все, что знали, о намеченном им маршруте, правда, знали они очень мало, ибо та часть Гималаев, которую он собирался обследовать, была в то время «белым пятном», даже для англичан, проживавших в Калькутте.
Нет нужды подробно рассказывать о всех приключениях, выпавших на долю нашего охотника за растениями и его спутников по дороге в Гималаи и после того, как они вступили в величавые ущелья этих гор. Достаточно сказать, что, преследуя изящное маленькое животное — мускусную кабаргу, они попали в ущелье, заполненное огромным ледником, каких немало в верхних Гималаях; что это преследование завело их далеко вверх по ущелью и затем привело в странную, напоминающую кратер долину, уже описанную нами; что, попав в эту долину, они не нашли другого выхода из нее, кроме ущелья, по которому туда проникли; и что, возвращаясь по своим стопам, они обнаружили, к великому своему ужасу, что трещина в леднике, через которую они перешли, за время их отсутствия расширилась и перебраться через нее стало невозможно.
Они приняли смелое решение перебросить через эту трещину мост и потратили немало времени, чтобы построить его из сосновых стволов. Им удалось наконец переправиться через пропасть; но ниже по леднику они встретили другие трещины, перейти через которые не смогли при всей своей изобретательности.
Пришлось им оставить эту мысль и вернуться в долину, прелестную на вид, но сделавшуюся им ненавистной, так как они знали, что она стала их тюрьмой.
Пока они жили в долине, у них было немало приключений с дикими животными различных пород. Там обитало небольшое стадо яков, или хрюкающих быков, мясом которых они некоторое время питались. Каспар, младший брат Карла, был более опытным охотником: он едва спасся от нападения старого самца-яка; в конце концов он убил это опасное животное. Оссару едва не был растерзан стаей красных собак, которых вскоре ему удалось перебить всех до одной; и тот же Оссару оказался в большой опасности, так как его чуть не поглотил враг совсем особого рода — зыбучие пески, в которых он завяз, выбирая рыбу из сети.
Карл также едва не погиб и спасся в последний миг: за ним по уступу скалы гнался медведь, и Карлу пришлось совершить крайне опасный прыжок. Впоследствии наши охотники соединенными усилиями, с помощью пса Фрица, затравили медведя в его пещерном логове и наконец убили.
Эта медвежья травля завела их в беду; правда, им удалось убить зверя, но они заблудились в обширной пещере со множеством запутанных, как в лабиринте, ходов; им удалось найти выход из нее, лишь когда они развели костер из обломков ружейных прикладов и, растопив жир медведя, сделали из него свечи.
Преследуя медведя, а затем разыскивая выход наружу, наши искатели приключений были поражены огромными размерами пещеры, в которой скрывался зверь; надеясь, что один из подземных проходов ведет сквозь гору и позволит им уйти из долины, они сделали свечи и исследовали пещеру из конца в конец. Все было напрасно!
Убедившись, что через пещеру выбраться невозможно, они отказались от разведок.
Отсюда мы будем продолжать более подробно повесть об их попытках вырваться из горной «тюрьмы», а это, как они убедились, можно было сделать, лишь вскарабкавшись на скалы, ее окружавшие.
Глава 4
НАЗАД В ХИЖИНУ!
Выйдя из пещеры после своих бесплодных исследований, все трое — Карл, Каспар и Оссару — уселись на камнях у подножия утеса и некоторое время сидели молча. В их глазах отражалось глубокое отчаяние. У всех была одна и та же мысль. Печальная это была мысль: они отрезаны от всякого сообщения с миром людей и, вероятно, больше никогда не увидят другие человеческие лица, кроме лиц своих товарищей.
Каспар первый высказал это мрачное предчувствие.
— Ах, брат! — простонал он, обращаясь к Карлу, сидевшему рядом с ним. Какая ужасная судьба! Здесь мы должны жить, здесь должны и умереть — далеко от дома, от людей, одни, совсем одни!
— Нет, — ответил Карл, до глубины души потрясенный отчаянием своего брата, нет, Каспар, ты не будешь один! Нас здесь трое, и мы будем поддерживать друг друга; это уже не одиночество. Мы будем искать другой выход, а пока не найдем его, пусть эта долина будет нашим домом.
Хотя Каспар и сознавал, что брат его прав, но слова Карла не подбодрили его. Он, конечно, заметил, что Карл сказал их не слишком уверенно, явно желая утешить его. Ясно было, что Карл изо всех сил старается сохранить бодрый вид и внушить надежду своим спутникам, но именно это и убеждало их, что у него в душе не было ни бодрости, ни надежды.
На утешительные слова Карла его брат ничего не ответил, а Оссару с сомнением покачал головой.
Каспар и Оссару, казалось, были совершенно подавлены. Карл же, по-видимому, смотрел на вещи не так мрачно и, сидя на камне, о чем-то напряженно размышлял.
Через некоторое время товарищи заметили это, но не решились оторвать его от размышлений. Они догадывались, что он вскоре сам расскажет им, о чем думает.
Они не ошиблись — через несколько минут Карл заговорил:
— Будет вам! Разве можно так отчаиваться! Не будем сдаваться, пока мы не разбиты в пух и прах! Я говорил вам, какая у меня была цель, когда я в первый раз взобрался на этот уступ и обнаружил пещеру с ее ворчливым обитателем — медведем. Я думал тогда, что, если нам удастся найти несколько уступов один над другим и достаточно близко друг от друга, можно будет поставить на них лестницы и таким образом добраться доверху. Вы видите такой ряд уступов прямо перед нами. К несчастью, там, наверху, где утес всего темнее, есть один промежуток шириной не менее шестидесяти семидесяти футов. Я установил это, сравнивая его с высотой пещеры над землей, но не успел его измерить, как встретился с медведем. Мы, конечно, не сможем сделать лестницу такой длины, а если даже и сделаем, нам ни за что не поднять ее наверх. Поэтому нечего и думать взобраться на утес в этом месте!..
— Может быть, — перебил его Каспар, уловив мысль брата, — на обрыве есть какое-нибудь другое место, где уступы находятся ближе друг от друга! Все ли ты осмотрел вокруг?
— Нет. Я дошел только до этого места, когда встретился с мишкой. И вы знаете, что наше приключение с ним и разведки в пещере с тех пор занимали все время и вытеснили у меня из головы мысль о лестницах. Но теперь мы можем этим заняться. Прежде всего нам нужно обойти долину и посмотреть, нельзя ли найти место получше этого. Сегодня уже поздно. Начинает темнеть, а для такого дела нужен дневной свет. Пойдемте домой, в хижину, поужинаем и ляжем спать. Мы встанем в более бодром настроении и с самого утра отправимся на разведку.
Ни Каспар, ни Оссару ничего не возразили. Напротив, при упоминании об ужине — оба были очень голодны — они живо вскочили на ноги. Карл зашагал впереди, товарищи за ним, а Фриц позади всех.
Они вернулись в хижину. Ужин был приготовлен и съеден с усердием, какое человеку придает голод, даже если мясо не из вкусных. Затем все трое улеглись на свои травяные ложа с новой надеждой в сердце.
Глава 5
ПОЛУНОЧНОЕ НАПАДЕНИЕ
Они проспали уже несколько часов, когда их внезапно разбудил лай Фрица. Верное животное обычно ночевало в хижине, лежа на подстилке из сухой травы. Услышав снаружи необычный шум, пес всегда выскакивал и некоторое время бродил вокруг хижины; удостоверившись, что врагов поблизости нет, он тихонько возвращался на свою подстилку.
Фриц был далеко не шумливым псом. Он слишком долго нес службу и многому научился, чтобы лаять попусту; он подавал голос лишь в серьезных случаях. Но тогда уж он лаял оглушительно.
На этот раз — дело было около полуночи — трое спящих были разбужены его тревожным воем; зловещие звуки, отражаясь от утесов, разносились по всей долине. Издав предостерегающий клич, собака кинулась из хижины, и теперь ее лай доносился со стороны озера.
— Что это такое? — одновременно вырвалось у охотников, разбуженных Фрицем.
— Видно, что-то сильно испугало Фрица, — ответил Каспар, знавший характер пса лучше других. — Он не станет так лаять на зверя, если знает, что может одолеть его. Ручаюсь, что это был какой-то зверь не слабее его самого. Если бы старый як был еще жив, я сказал бы, что это он и есть.
— В долине могут быть и тигры. Мне это раньше не приходило в голову, заметил Карл. — А сейчас я вспомнил, что читал об этом в учебниках по зоологии; да, это вполне вероятно. Считается, что тигр живет только в тропических или субтропических областях. Это неверно. На Азиатском материке королевский бенгальский тигр распространен далеко к северу и встречается на той же широте, на какой находится Лондон. Я знаю, что тигры попадались на Амуре, у пятидесятого градуса широты!
— Боже мой! — воскликнул Каспар. — Это может быть тигр, а мы и не подумали сделать дверь у своей хижины! Если это он…
Слова Каспара были прерваны доносившимся издали странным звуком, к которому примешивался лай Фрица.
Звук этот несколько напоминал трубный, только был резче и выше по тону. Казалось, трубили в грошовый игрушечный рожок, и все же в этом звуке было нечто, наводящее ужас.
Должно быть, этот звук напугал Фрица: едва заслышав его, пес вбежал в хижину, словно за ним гналось целое стадо диких быков; хотя Фриц и продолжал сердито лаять, он вовсе не собирался выходить наружу.
Только одному из троих охотников приходилось в своей жизни слышать такого рода звуки. Это был Оссару. Шикари сразу же их узнал. Ему было хорошо известно, какой инструмент их производит, но сперва он не осмеливался сказать об этом товарищам, до того он был поражен и испуган, услыхав это гудение в долине.
— Клянусь колесницей Джаггернаута![181] — пробормотал он. — Так не бывать… не бывать… Невозможно ему бывать здесь!
— Кому? Чему? — в один голос спросили Карл и Каспар.
— Смотри, саиб! Это он… он! — поспешно ответил Оссару зловещим шепотом. Мы все погибнуть — это он… Он… бог могучий… страшный, страшный!..
В хижине не было света, кроме слабого отблеска луны, ярко сиявшей снаружи; но и без света было видно, что шикари напуган чуть не до потери рассудка. По звуку его голоса товарищи заметили, что он пятится в самый удаленный от двери угол хижины. Тут же они услыхали его слова, сказанные шепотом: он советовал им притаиться и молчать.
Не зная, в чем заключается опасность, братья повиновались и продолжали сидеть на своих ложах в полном молчании. Оссару, прошептав слова предостережения, тоже умолк.
Странный звук раздался снова — на этот раз казалось, что производивший его инструмент просунут в дверь хижины. В тот же миг лужайка, освещенная яркой луной, покрылась какой-то огромной тенью, словно царица ночей внезапно скрылась за черной тучей. Между тем луна сияла по-прежнему. Затмило ее не облако, а какое-то гигантское существо, медленно ступавшее по земле и остановившееся перед хижиной.
Карлу и Каспару показалось, что снаружи стоит чудовищных размеров животное с огромными, толстыми ногами. Оба они были напуганы этим видением так же, как и Оссару, хотя и по другой причине. Фриц, вероятно, испугался не меньше людей и от страха, как и Оссару, лишился голоса. Забившись в угол, пес не издавал ни звука, словно родился безгласным динго.
Безмолвие, царившее в хижине, видимо, оказало действие на страшную тень: испустив еще раз пронзительный трубный клич, она удалилась беззвучно, как призрак.
У Каспара любопытство взяло верх над страхом. Увидев, что странный гость уходит от хижины, юноша прокрался к выходу и выглянул наружу. Карл последовал его примеру. И даже Оссару отважился выйти из своего укрытия.
Они увидели удаляющуюся по направлению к озеру черную массу, напоминавшую гигантское четвероногое. Она двигалась в величавом безмолвии; но это, конечно, не была тень, ибо когда она переправлялась через ручей — у того места, где он впадал в озеро, — послышалось тяжелое шлепанье ног по воде и по зеркальной глади разбежались волны. Разумеется, тень не могла бы взбудоражить воду.
— Саибы, — сказал Оссару с таинственным видом, — Это… или сам бог Брама, или…
— …или что? — спросил Каспар.
— Старый бродяга.
Глава 6
РАЗГОВОР О СЛОНАХ
— «Старый бродяга»? — повторил Каспар. — Что ты хочешь сказать. Осси?
— Вы, феринги, называть его бродячий слон.
— А, слон! — в один голос воскликнули Карл и Каспар, которых сразу успокоило это естественное объяснение.
— Конечно, так и надо было ожидать, — заметил Каспар. — Но как же слон попал в эту долину?
Оссару не мог ответить на этот вопрос. Его тоже озадачило появление огромного животного; по правде сказать, он был все еще склонен думать, что это один из троицы браманистских богов[182] принял образ слона. Поэтому он не задавался вопросом, как слон проник в долину.
— Возможно, что он забрел сюда из низины… — задумчиво заметил Карл.
— Но как он мог попасть в долину? — снова спросил Каспар.
— Тем же путем, как и мы, — ответил Карл. — Вверх по леднику и через расселину.
— А трещина, которая преградила нам путь? Ты забыл о ней, брат? Слону ни за что не перебраться через нее — ведь у него нет крыльев.
— Разумеется, — согласился Карл. — Я и не говорил, что он перебрался через трещину.
— А-а, ты хочешь сказать, что он пришел сюда раньше нас?
— Вот именно. Если это действительно был слон, — продолжал Карл, — то он, конечно, пришел в долину раньше нас. Удивительно, что мы до сих пор не обнаружили его следов. Ты, Каспар, исходил окрестности вдоль и поперек. Не случалось ли тебе видеть чего-нибудь похожего на слоновые следы?
— Ни разу. Мне и в голову не приходило их разыскивать. Кто бы мог подумать, что сюда вскарабкается большущий слон? Разве могут такие неуклюжие животные подниматься на горы?
— Ошибаешься, друг мой. Как это ни странно, слон прекрасно умеет лазить и может пробраться почти повсюду, где пройдет человек. Достоверно известно, что на острове Цейлон слонов нередко встречают на вершине Адамова пика; а подняться туда — тяжелая задача даже для самых выносливых альпинистов. Ничего нет удивительного, что слон оказался здесь. Теперь я уверен, что мы видели именно слона. Он вполне мог попасть в долину раньше нас — подняться вверх по леднику, как и мы, и перейти через трещину по каменному мосту: я уверен, что слон на это способен. А может быть, — продолжал Карл, — он пришел сюда уже давно, еще до того, как образовались трещины. Кто знает, возможно, что он прожил здесь уже очень долго — всю свою жизнь, а это означает добрую сотню лет.
— Я думал, — заметил Каспар, — что слоны водятся только на равнинах, где богатая тропическая растительность.
— Еще одно обычное заблуждение, — возразил Карл. — Слоны не любят тропических низин и предпочитают держаться повыше в горах, куда взбираются при первом же удобном случае. Они любят прохладную атмосферу горных высот, где их не так мучат мухи и другие назойливые насекомые: ведь, несмотря на свою огромную силу и на толщину своей кожи, они сильно страдают от таких крохотных существ, как мухи. Как и тигров, их нельзя считать исключительно тропическими животными — они прекрасно могут жить в горах, где прохладный климат, или в высоких широтах умеренного пояса.
Карл добавил, что ему совершенно непонятно, каким образом никто из них до сих пор не встречал следов этого гигантского животного, которое, очевидно, жило с ними по соседству все время, пока они находились в долине. Каспар разделял его удивление. Но Оссару был далеко не так удивлен. Шикари все еще был во власти той суеверной мысли, что они видели не земное животное, а воплощение Брамы или Вишну.
Не пытаясь опровергать эту нелепую фантазию, его товарищи терялись в догадках, почему они не встретили слона раньше.
— В конце концов, — высказал предположение Каспар, — тут нет ничего странного. В долине есть немало мест, которые мы еще не обследовали, например, широкая полоса темного леса у верхнего ее края. Мы побывали там только в первые два дня, когда гонялись за оленем и когда осматривали утесы. Что до меня, то я ни разу не ходил на охоту в ту сторону, — я всегда встречал добычу в открытых местах у озера. А слон мог найти себе убежище в этом лесу и, вероятно, выходит оттуда только по ночам. Я уверен, что следов множество, но мне не приходило в голову их искать. Дело в том, что сперва мы были поглощены постройкой моста, а потом занялись исследованием пещеры. Где же нам было думать о чем-нибудь другом!
Карл согласился с доводами брата; по-видимому, все обстояло именно так.
С тех пор как они оказались запертыми в долине, их не покидала тревога за будущее, и они только и думали о том, как бы им оттуда выбраться, и мало обращали внимания на все, что не имело непосредственного отношения к их задаче. Даже бродивший с ружьем Каспар обошел только часть долины; впрочем, он не слишком часто выходил на охоту. В три или четыре дня ему удалось сделать большой запас мяса. Оссару тщательно прокоптил его, и оно составляло их основную пищу. Лишь в редких случаях пользовались ружьями, чтобы добыть свежего мяса, — подстрелить на озере нескольких диких уток или другую мелкую дичь, которая почти каждое утро приближалась к хижине на ружейный выстрел. Поэтому многие участки долины остались необследованными, и легко можно было допустить, что слон все время жил в лесу, не замеченный охотниками.
Все трое просидели больше часу, делая различные предположения. Но предмет их тревоги, по-видимому, удалился, и вскоре они решили, что в эту ночь он не вернется. Успокоившись, все трое снова улеглись спать, решив в дальнейшем зорко следить за неожиданно появившимся опасным соседом.
Глава 7
ПОЧИНКА РУЖЕЙ
На следующее утро все поднялись спозаранку и на рассвете вышли из хижины. Карлу и Каспару не терпелось поскорее узнать, что это был за слон, но Оссару все еще сомневался в его существовании. В самом деле, слон издал всего три-четыре резких крика, появился и исчез так беззвучно и таинственно, что охотникам начало казаться: уж не во сне ли они его видели?
Но такое огромное животное не могло не оставить после себя следов. А так как оно переходило через ручей, или, вернее, через маленький залив, куда впадал ручей, то следы его должны были остаться на песчаном берегу. Поэтому, едва рассвело, все направились к тому месту, где животное переходило вброд.
Придя туда, они убедились, что ночью к ним приходил именно слон. Огромные следы — величиной чуть ли не с днища бочонка — глубоко вдавались в рыхлый песок, и такие же следы виднелись на берегу по ту сторону залива, где животное вышло из воды.
Оссару уже не сомневался, что эти следы принадлежат слону. Он охотился на слонов в бенгальских джунглях и был хорошо знаком с этими огромными животными. Такие следы мог оставить только настоящий слон.
— Да еще какой большой! — уверенно заявил шикари и добавил, что может определить рост слона с точностью до дюйма.
— Как ты это сделаешь? — не без удивления спросил Каспар.
— Я это узнать легко, саиб, — ответил Оссару, — только нужно смерить бродяге ногу. Вот так, саиб…
С этими словами шикари вытащил из кармана кусок бечевки и, выбрав самый отчетливый след, старательно уложил бечевку вокруг него. Таким образом он узнал окружность стопы слона.
— Вот, саибы… — сказал Оссару, показывая, какой длины бечевка, уложившаяся вокруг слоновьего следа. — Два раза эта длина достать до верха плеча; отсюда Оссару узнать — он большой слон.
Стопа оказалась шести футов в окружности; из этого следовало, как уверял шикари, что слон был ростом около двенадцати футов. Значит, слон из очень крупных, решил Карл. Он не сомневался, что вывод правилен: ему приходилось слышать от опытных охотников, что рост слона, как правило, вдвое больше окружности его стопы.
Отказавшись от мысли, что в образе слона явился один из его богов, Оссару с уверенностью заявил, что этот слон — не кто иной, как бродяга. Карл сразу же его понял. Он знал, что слон-бродяга — это старый самец, поссорившийся со своим стадом и изгнанный из него за дурной нрав. Отрезанный от своих сотоварищей, он ведет одинокую жизнь, становится поэтому чрезвычайно угрюмым и раздражительным и не только нападает на всякое животное, встретившееся ему на пути, но даже ищет таких случаев, словно для того, чтобы сорвать свою злость. Таких слонов немало и в индийских, и в африканских джунглях; они нападают без разбора на всех и каждого, в том числе и на человека. Поэтому такой слон считается в местности, где он повадился бродить, крайне опасным животным. Известно много случаев, хорошо проверенных, когда жертвой ярости этих гигантских чудовищ становились люди; в других случаях слон-бродяга прятался в засаду у проезжей дороги, чтобы убивать неосторожных путников. В долине Дхейра-Дун слон-бродяга (когда-то он был приручен, но потом бежал из плена) убил около двадцати прохожих, прежде чем его удалось уничтожить.
Хорошо зная такие наклонности слона-бродяги, Оссару посоветовал товарищам впредь соблюдать сугубую осторожность. Благоразумный Карл охотно принял его совет; не стал возражать даже отважный, порывистый Каспар.
Поэтому было решено первым делом привести в порядок оружие на случай встречи со слоном, а затем уже продолжать обследование утесов.
Нужно было сделать для ружья новые приклады, насадить топорик на новую рукоятку, а копье Оссару — на новое древко, так как все деревянные части оружия были расколоты и сожжены, когда пришлось изготовлять свечи из медвежьего жира, освещавшие путь из пещеры.
Приходилось отложить поиски уступов и сперва как следует вооружиться, чтобы быть готовыми встретить любого врага.
Придя к этому мудрому решению, они вернулись к хижине, развели огонь и приготовили завтрак. Подкрепившись, они отправились на поиски дерева, необходимого для починки оружия.
Им легко удалось найти нужный материал, так как в долине росло множество деревьев самых ценных пород. Вблизи хижины лежали деревья, срубленные для других целей и уже достаточно высохшие.
Охотники знали, что, дружно взявшись за работу и упорно трудясь с утра до темноты и в ночные часы, они быстро справятся с таким пустячным делом, как изготовление нового приклада для ружья или древка для копья.
Глава 8
ОБСЛЕДОВАНИЕ УТЕСОВ
Усердно проработав ножами два дня подряд, охотники привели в исправность ружья, топорик и копье. Оссару сделал себе также новый лук и колчан, полный стрел.
На третий день, позавтракав, все трое отправились на разведку, решив исследовать утесы все до одного.
Часть каменной стены между хижиной и пещерой была уже тщательно обследована Карлом, поэтому они начали разведку прямо с того места, где он кончил.
Правда, они однажды уже осматривали все утесы кругом; но это было сразу после того, как они попали в долину, и тогда у них была совсем иная цель.
Тогда они только искали, где бы им выбраться, и мысль об установке лестниц еще не приходила им в голову.
Теперь, имея в виду этот план, они снова отправились на разведку с целью убедиться, выполним ли он. На этот раз они искали совсем другое — смотрели, не найдется ли ряд уступов, лежащих один над другим, которые можно было бы соединить лестницами. Лишь бы хватило сил сделать их в нужном количестве!
Охотники не сомневались, что им удастся сделать очень длинные лестницы, только надо будет долго и напряженно работать.
Им было известно, что недалеко от хижины растет множество тибетских сосен, из каких они строили мост через трещину; выбрав самые тонкие, стройные стволы, они получат боковины для нужного числа лестниц — почти готовые боковины длиной в сорок-пятьдесят футов.
И если бы удалось найти ряд уступов на расстоянии не более сорока футов один от другого, у них появилась бы твердая надежда вскарабкаться на утесы и уйти из этой долины; этот прелестнейший в мире уголок стал для них отвратительным, как мрачная темница.
Ко всеобщей радости, вскоре были обнаружены такие уступы; казалось, они отвечали всем необходимым условиям. Отстояли они, по-видимому, не более чем на тридцать футов друг от друга; часть каменной стены, где находились эти уступы, была несколько выше утесов, которые в свое время измерял Карл. Она была вышиной не более трехсот пятидесяти футов — высота, конечно, огромная, но казавшаяся незначительной по сравнению с другими участками того же обрыва.
Чтобы добраться до ущелья, потребуется всего каких-нибудь десять лестниц длиной в двадцать-тридцать футов каждая. Сделать такие лестницы при помощи инструментов, какими они располагали, будет чрезвычайно трудно. Но не думайте, что эта колоссальная трудность заставила их отказаться от своей задачи. Постарайтесь вникнуть в их положение, примите во внимание, что это была единственная надежда вырваться из горной «тюрьмы», и вам станет ясно, что они охотно взялись бы даже за гораздо более тяжелую работу. Правда, на ее скорое окончание нельзя было надеяться. Речь шла не о нескольких днях или неделях, даже не о месяце — они знали, что потребуется несколько месяцев, чтобы изготовить эти лестницы, а затем предстоял еще новый труд поставить их на место: придется втаскивать их одну за другой по крутизне на уступы и там устанавливать. Всякий скажет, что невозможно поднять на такую высоту лестницы длиной в тридцать футов, не имея под руками необходимых механизмов.
Разумеется, невозможно, если иметь дело с лестницами обычного веса. Но охотники предвидели эту трудность и решили сделать лестницы очень легкими, чтобы они только могли выдержать тяжесть человека.
Они были почти убеждены, что в этом месте можно подняться на обрыв задуманным ими способом, и решили исследовать утесы подробнее; затем охотники намеревались обойти всю долину и посмотреть, не найдется ли место, где подняться будет еще легче.
Место, где они остановились, находилось возле густого леса, о котором говорил Каспар и куда никто из них еще ни разу не заглядывал. Между деревьями и утесом тянулась узкая безлесная полоса, где валялись скатившиеся с горы камни. В траве довольно близко друг от друга лежало несколько крупных валунов, а один был в виде столба, высотой футов в двадцать и диаметром в пять-шесть футов. Этот валун походил на обелиск, и можно было подумать, что он поставлен руками человека. Однако это была игра природы; вероятно, его оставил при своем отступлени когда-то находившийся здесь ледник. На одной из граней валуна виднелись ложбинки, по которым ловкий человек мог бы на него взобраться. Оссару и сделал это, отчасти для забавы; к тому же ему хотелось лучше осмотреть утес. Шикари постоял на вершине лишь несколько минут и, удовлетворив свое любопытство, спустился.
Глава 9
ПРЕРВАННАЯ РАЗВЕДКА
Хотя все трое, отправляясь утром на разведку, помнили о слоне и благоразумно решили действовать с оглядкой, — им до того не терпелось обследовать обнаруженные накануне уступы, что мысль о гигантском животном вскоре вылетела у них из головы. Они только и думали, что об уступах и лестницах, и громко обсуждали, как бы их получше сделать и покрепче установить. Но как раз в тот миг, когда Оссару спускался с похожего на обелиск камня, Фриц, рыскавший на опушке леса, принялся отчаянно лаять точь-в-точь, как ночью, когда слон посетил хижину.
В его лае звучал дикий ужас; казалось, пес был в опасности и чем-то очень напуган. Мысль о слоне мелькнула у охотников, и они мигом повернулись в ту сторону, откуда доносился лай. Инстинктивно все схватились за оружие: Карл вскинул ружье, Каспар — двустволку, а Оссару натянул свой лук.
Все были ошеломлены и еще острее почувствовали опасность, когда Фриц внезапно выскочил из кустов и кинулся к ним с поджатым хвостом. Пес глухо урчал. По-видимому, на него напал какой-то зверь, а его хозяева знали, что доблестного Фрица мог обратить в позорное бегство лишь очень страшный враг.
Им не пришлось долго гадать о том, кто напугал Фрица: вслед за ним из кустов высунулся длинный, змееобразный серый предмет, торчавший между двумя желтоватыми полумесяцами, похожими на огромные костяные рога. Потом показались громадные уши, похожие на лохмотья толстой кожи, и наконец круглая, массивная голова гигантского слона.
Проломившись сквозь кусты, чудовище выбралось из чащи и помчалось по поляне, угрожающе крутя перед собой хоботом. Слон гнался за Фрицем, который, очевидно, вызвал его ярость.
Выскочив из чащи кустов, пес кинулся прямо к своим хозяевам и таким образом направил слона на них.
Нечего было и думать защищать Фрица от страшного преследователя. Увидя новых врагов, более достойных его бивней, слон, казалось, забыл о рассердившем его маленьком четвероногом и сразу же напал на двуногих, словно решил наказать их за дерзость слуги.
Охотники, стоявшие бок о бок, с первого взгляда поняли, что ярость слона направлена уже не на Фрица, ибо чудовище мчалось теперь прямо на них.
Совещаться было некогда — в такой момент не до советов! Каждый должен был действовать, как ему внушал инстинкт. Так они и поступили. Карл послал пулю из ружья в промежуток между бивнями надвигавшегося врага, а Каспар выпалил сразу из двух стволов в голову чудовища. В хобот слону вонзилась стрела Оссару, и в следующий миг мелькнули пятки шикари.
Карл и Каспар тоже побежали, так как оставаться еще хоть миг в этом опасном соседстве было бы явным безумием.
Однако справедливость требует сказать, что Карл с Каспаром побежали первыми, так как первыми стреляли, а выстрелив, каждый спасался как мог. Они бежали рядом. На счастье, поблизости оказалось большое дерево с низкими горизонтальными ветвями, по которым удалось быстро вскарабкаться на вершину.
Оссару обратился в бегство всего секундой позже их, но этот краткий миг определил выбор слона, и его гнев обрушился на шикари.
Шикари хотел было броситься к дереву, к которому мчались остальные, но хобот слона уже протянулся в этом направлении и схватил бы его прежде, чем он успел вскарабкаться на нужную высоту. Несколько мгновений Оссару стоял в нерешительности, видимо потеряв обычное хладнокровие.
Между тем слон надвигался на него, размахивая тонким, как веревка, хвостом и вытянув горизонтально хобот, в котором торчала стрела Оссару. Очевидно, он знал, кто воткнул ему в хрящеватый хобот эту колючку, которая, вероятно, ранила его больнее, чем свинцовые шарики, расплющившиеся о его толстый череп; поэтому он решил прежде всего отомстить шикари.
Положение Оссару было крайне опасным; Карл и Каспар, находившиеся в сравнительной безопасности, вскрикнули от ужаса, решив, что их верному проводнику и спутнику пришел конец.
Казалось, Оссару был ошеломлен надвигавшейся гибелью. Но это продолжалось только миг, пока он колебался, не кинуться ли ему к дереву. Увидев, что спастись таким образом невозможно, он бросился в противоположную сторону.
Куда? К обелиску? Да, к счастью, каменный столб, с которого он только что спустился, был всего шагах в десяти, и Оссару в пять прыжков домчался до него. Он отшвырнул бесполезное теперь оружие и, цепляясь за выступы камня, вскарабкался наверх с быстротой белки.
Шикари блестяще доказал свою ловкость. Еще секунда, еще полсекунды — и было бы поздно: не успел он достигнуть вершины, как слон схватил его остроконечным хоботом за край балахона, и будь его одежда из более прочного материала, Оссару был бы сдернут и мгновенно скатился бы наземь.
Однако изношенная, повидавшая виды бумажная ткань разорвалась с громким треском: «фалды» у шикари были оторваны, но он был без памяти рад, что ветхая одежда спасла ему жизнь.
Глава 10
ОССАРУ НА ОБЕЛИСКЕ
Еще миг — и Оссару стоял на вершине обелиска. Но он далеко еще не был уверен, что избежал опасности, так как слон не потерял надежды добраться до него. Обнаружив свою неудачу, разъяренное животное презрительно отшвырнуло хоботом оторванный клок ткани, поднялось на задние ноги и, выпрямившись, уперлось передними в каменный столб.
Можно было подумать, что слон хочет вскарабкаться на обелиск; к счастью, он не мог этого сделать. Во всяком случае, Оссару далеко не был в безопасности: слон стоял на задних ногах, и его гибкий, вытянутый во всю длину хобот был на расстоянии каких-нибудь шести дюймов от ног шикари.
Оссару стоял на своем пьедестале, выпрямившись, как статуя, хотя лицо его, искаженное ужасом, ничуть не напоминало статую. Весь его вид говорил о крайнем смятении. И неудивительно: он понимал, что, если слону удастся вытянуть хобот еще на несколько дюймов, он будет сброшен с обелиска, как ничтожная муха.
Поэтому он стоял в крайней тревоге, наблюдая, как чувовище изо всех сил старается до него добраться.
Слон действовал разумно и энергично. Сперва он выпрямился во весь рост можно сказать, встал на цыпочки, — потом, найдя, что этого недостаточно, упал на четвереньки и снова выпрямился, пытаясь вытянуться еще выше.
Он старался достать шикари с различных сторон обелиска, словно надеясь найти у его подошвы маленькую возвышенность, которая позволила бы ему подняться еще на несколько дюймов и схватить свою жертву.
К счастью для Оссару, наибольшей высоты слон достиг, когда в первый раз поднялся на задние ноги; и хотя он продолжал бродить вокруг обелиска, ему удавалось коснуться хоботом лишь края маленькой ровной площадки, на которой стоял шикари.
Оссару был уже доволен и этим; он мог бы считать себя в безопасности, если бы не одно встревожившее его обстоятельство. Стоя на крохотной площадке, диаметр которой едва превышал длину его ступни, он с большим трудом сохранял равновесие. Будь он на земле, это не представляло бы для него затруднения; но на высоте двадцати футов дело обстояло иначе, а так как нервы у него были до крайности напряжены перед лицом грозившей ему опасности, то он удерживал равновесие с большим трудом.
Хотя Оссару был всего лишь «кротким индусом», он обладал незаурядной отвагой — он был уже много лет охотником и привык рисковать жизнью. Будь Оссару трусом и человеком, не привыкшим к опасностям, он, вероятно, умер бы от страха и свалился на спину к безжалостному чудовищу. Однако при всей храбрости он был в состоянии лишь сохранять равновесие. К несчастью, Оссару не мог опираться на большое копье, так как бросил его, когда полез на скалу. Он вытащил из-за пояса охотничий нож, но не для обороны, а чтобы лучше балансировать. Правда, его подмывало отхватить кусочек хрящеватого хобота, но он не рисковал наклониться, опасаясь потерять равновесие.
Ему ничего не оставалось, как сохранять вертикальное положение; собрав все мужество, он стоял прямо и неподвижно, как бронзовая статуя.
Глава 11
ВСЕ РУХНУЛО!
В таком положении Оссару оставался несколько минут, и все это время слон пытался дотянуться до него.
Карл и Каспар, сидевшие высоко на дереве, были свидетелями этой сцены с начала до конца. Положение Оссару могло бы показаться Каспару забавным, если бы не опасность, какой подвергался шикари. Она была так очевидна, что Каспар и не думал смеяться и смотрел на Оссару с тревогой. Карл тоже с волнением ожидал развязки. Но братья ничем не могли ему помочь, так как были безоружны — они побросали свои ружья, когда полезли на дерево.
Понаблюдав некоторое время за слоном, Каспар убедился, что животное не может дотянуться до Оссару, пока тот сохраняет равновесие на вершине скалы. Карл пришел к такому же выводу. И они стали криками ободрять шикари, чтобы он держался крепче. Но вскоре Карл обнаружил одно обстоятельство, ускользнувшее от внимания Каспара, и это открытие заставило его содрогнуться. Он заметил, что всякий раз, как слон вставал и опирался на обелиск, тот слегка покачивался. Оссару тоже это заметил и не на шутку встревожился, потому что ему становилось все труднее сохранять равновесие. Наконец и Каспар обратил внимание, что скала покачивается, но это не слишком его обеспокоило — зная ловкость шикари, он был уверен, что тот сумеет устоять на обелиске. Но молодой ботаник не только боялся, что Оссару упадет со скалы, — его приводила в отчаяние одна мысль, которая не приходила в голову менее проницательному брату.
Колебание скалы заставило Карла подумать о весьма опасных последствиях. Но каких? Нам всё объяснят слова, с которыми он в этот момент обратился к Каспару.
— Ах, брат! — воскликнул он, заметив опасность. — Что, если скала упадет…
— Не бойся, — прервал его Каспар, — она стоит достаточно прочно. Правда, она слегка вздрагивает, когда эта скотина прыгает на нее. Но я думаю, пока нечего опасаться.
— А по-моему, опасность налицо, — возразил Карл, и в голосе его прозвучала тревога. — Вернее сказать, — прибавил он, — сейчас, пока слон пытается достать Оссару, шикари ничего не грозит, но слон может изменить тактику. Эти твари удивительно умны. И если только он заметит, что столб покачивается от его тяжести, ему в голову придет новая мысль, и тогда для Оссару все будет кончено!
— А, я начинаю тебя понимать, — сказал Каспар, заражаясь тревогой брата. Так вот в чем опасность! Что же теперь делать? Будь у нас ружья, мы могли бы открыть огонь по чудовищу. Быть может, мы его и не убили бы, но, во всяком случае, нам удалось бы отвлечь внимание от Оссару или помешать зверю додуматься до того, о чем мы сейчас говорили. Нам нужно спуститься и достать ружья. Что может нам помешать? Слон сейчас слишком занят своим делом, чтобы заметить нас.
— Верно, прекрасная мысль, Каспар!
— Ну, так приведем ее в исполнение. Я спущусь на землю, ты спускайся за мной — до нижней ветки, и я передам тебе ружья… Держись крепко и не бойся, Осси! — громко крикнул молодой охотник. — Мы сейчас его прогоним… пощекочем ему толстую шкуру — вкатим унцию-другую свинца!
С этими словами Каспар начал быстро спускаться с ветки на ветку, а Карл следовал за ним на некотором расстоянии. Каспар добрался уже до нижней ветки, а Карл до предпоследней, как вдруг раздался оглушительный грохот и пронзительный крик. Братья в ужасе обернулись. За короткое время, пока они не смотрели на обелиск, в этой любопытной картине произошла коренная перемена. Каменный столб высотой в добрых двадцать футов уже не стоял вертикально, а лежал на земле чуть не горизонтально, придавив своей вершиной целую кучу древесных ветвей. Основание обелиска было вывернуто из земли, а возле него находился слон уже не на двух ногах и даже не на четырех — он лежал на спине, дрыгая всеми четырьмя ногами и изо всех сил старался подняться. Оссару нигде не было видно.
Случилось то, чего опасался Карл. Сообразив, что ему не достать до шикари хоботом, и почувствовав, что обелиск пошатывается, слон встал на ноги, уперся в скалу могучей грудью, навалившись на нее всей своей тяжестью; столб рухнул на стоявший рядом высокий каштан — дерево сломалось и с треском упало. Неуклюжий гигант потерял равновесие и свалился на землю вслед за обеликом. Словом, все четверо не устояли на месте: ни дерево, ни животное, ни скала, ни человек, ибо Оссару, разумеется, упал вместе с обелиском.
Но куда же исчез Оссару? Это было первое, о чем подумали и Карл и Каспар.
— Ах, брат, — простонал Каспар, — боюсь, что он погиб!..
Карл промолчал, но все же громко сказанные слова Каспара не остались без ответа. Едва они слетели с его уст, как из ветвей рухнувшего каштана послышался знакомый голос, от которого сердца у братьев радостно забились.
— Нет, молодой саиб, — отвечал невидимый Оссару, — меня не убить, мне не повредить. Только уйти от старый бродяга, и я здоровый, как всегда. Вот я бежать!..
В тот же миг шикари выскочил из ветвей дерева, в которых временно был погребен, и со всех ног помчался к дереву, на котором братья нашли убежище.
Не успел слон подняться на ноги, как Оссару уже занял безопасную позицию на верхних ветвях высокого дерева, куда взобрались и Карл с Каспаром, позабыв о своих ружьях.
Глава 12
БЕГ ПО КРУГУ
Все трое сидели высоко в ветвях. Слона уже не приходилось бояться, и они могли наблюдать за ним, чувствуя себя в полной безопасности. Опасность угрожала только Фрицу; но псу были уже хорошо известны злобные повадки гиганта, и он был настолько умен и бегал так быстро, что всегда мог от него спастись.
Слон же, поднявшись на ноги, несколько мгновений стоял, хлопая своими громадными ушами, в явном недоумении, словно ошеломленный неожиданным приключением. Однако он недолго сохранял эту спокойную позу. Стрела, все еще торчавшая у него в хоботе, пробудила в нем жажду мщения. Сердито задрав хвост и издавая пронзительные крики, он кинулся к рухнувшему дереву и погрузил свой длинный хобот в его ветви. Он перебрал их одну за другой, словно что-то разыскивая, — он искал шикари.
Через некоторое время он бросил это занятие и стал оглядываться с явно озадаченным видом, не понимая, куда девался человек. Он не видел, как убегал шикари, так как тот успел скрыться, пока он еще валялся на спине. Но тут ему попался на глаза Фриц, — пес притаился под ветвями дерева, на котором укрылись его хозяева, и явно завидовал их удачной позиции.
Фриц сразу привлек внимание мстительного зверя. Ведь он первый напал на слона, когда тот брел по чаще, он подвел его под этот ужасный град пуль и стрел. И как только взгляд слона упал на собаку, ярость проснулась в гиганте с удвоенной силой: круто задрав хвост, слон стремглав кинулся на своего заклятого врага.
Напади на него кабан или даже бык, Фриц ни за что бы не убежал — он отскочил бы в сторону, чтобы избегнуть удара и, в свою очередь, напал бы на врага. Но это четвероногое было величиной с дом, и Фриц, не будучи уроженцем востока, был мало знаком с ним. Да и что можно было с ним поделать, когда у этого великана такое страшное оружие — язык длиной в несколько футов и чудовищные клыки? Поэтому неудивительно и ничуть не позорно для Фрица, что он повернулся и помчался прочь. Бежал он так быстро, что уже через полминуты не только его хозяева, сидевшие на дереве, но и гнавшийся за ним слон потеряли его из виду. Пробежав за ним несколько десятков футов, животное сообразило, что гонится впустую, и отказалось от дальнейшей погони.
Когда слон погнался за псом, у охотников появилась надежда, что погоня завлечет опасного зверя подальше и они успеют спуститься на землю и убежать.
Однако их постигло разочарование, так как, отказавшись преследовать пса, толстокожий гигант вернулся назад, снова перешарил хоботом сломанные ветви каштана и принялся бродить вокруг поверженного обелиска, причем все время описывал правильные круги, словно готовясь исполнить какой-то цирковой номер. Больше часа продолжал слон эту круговую прогулку, изредка останавливаясь и издавая пронзительный вопль, но почти все время он двигался в угрюмом молчании. Порой он устремлял взгляд и даже протягивал хобот к ветвям упавшего дерева, словно все еще подозревая, что там прячется тот, кто пустил ему в хобот стрелу. Действительно, глядя на его движения, можно было подумать, что он сторожит это место, чтобы враг не убежал. Он давно уже вытащил из хобота стрелу, наступив на нее ногой и вздернув голову.
Между тем Фриц прокрался к опушке леса и залег в кустах, припав к земле, так что слону не было его видно.
Охотники, засевшие на дереве, были сильно раздосадованы, что их плен так затянулся, и начали подумывать, как бы им вырваться отсюда. Было предложено сделать вылазку и подобрать ружья, но Карлу это показалось слишком опасным. От дерева до рухнувшего обелиска было не более двадцати ярдов, а слон, внимательно оглядывавший все вокруг, конечно, заметит, как они будут спускаться с дерева. Хотя это грузное животное обычно выступает неспешным, плавным шагом, но оно может бежать почти со скоростью лошади, несущейся галопом, и если сразу их приметит, то они едва ли избегнут его цепкого хобота.
Кроме того, если даже им удастся вернуться на дерево, при виде их слон снова разъярится и тогда уж не уйдет отсюда.
Было и еще одно соображение, заставившее их терпеливо сидеть на дереве. Охотники захватили с собой порох и пули лишь в ограниченном количестве, заряды подходили к концу, и благоразумие требовало их экономить. У Карла осталось всего две пули и пороху ровно на два выстрела, да и у Каспара в пороховнице и в сумке было не гуще. Они рискуют истратить весь запас свинца и все-таки не убить животное, которое может преспокойно ходить с двумя десятками пуль в толстой коже. Эти выстрелы могут только разозлить его, и оно ни за что не уйдет.
Это был настоящий «бродяга», как назвал его Оссару, да к тому же старый клыкач — поэтому он был крайне опасен. И хотя они знали, что не будут в безопасности в этой долине, пока не убьют его, все согласились, что разумнее будет оставить его в покое, пока не представится более удобный случай покончить с ним.
Взвесив все эти обстоятельства, они решили смирно сидеть на дереве и терпеливо ожидать окончания странного бега по кругу, который все еще выполнял старый клыкач.
Глава 13
СТРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Добрый час терпение охотников, угнездившихся на дереве, подвергалось жестокому испытанию. Бродяга по-прежнему расхаживал вокруг скалы, пока не вытоптал дорожку, похожую на цирковую арену после вечернего представления.
Разумеется, для зрителей время тянулось очень медленно, не говоря уже о Фрице, который, конечно, удовлетворился бы куда более короткой программой.
Что касается людей, то им пришлось бы пережить весьма неприятный час, если бы это скучное представление не было прервано интермедией, весьма их заинтересовавшей, — особенно же натуралиста Карла. Увлекшись ею, они даже позабыли о близости свирепого врага и о том, что находятся в осаде.
Сидя не дереве, они случайно стали свидетелями любопытной сцены, какую можно подсмотреть лишь в самом уединенном уголке девственного леса.
Невдалеке от дерева, на котором они сидели, стояло другое таких же размеров, но иной породы. Даже Каспар, совершенный профан в ботанике, сразу определил, что это за дерево. Оно обладало гладкой корой и широко раскинутыми ветвями: это была смоковница, ничем не отличающаяся от своего европейского родича.
Это красивое дерево с годами становится дуплистым. Большие дупла образуются не только у корня, но встречаются в стволе на значительной высоте и даже в толстых ветвях.
Смоковница стояла в нескольких ярдах от дерева, на котором сидели Карл, Каспар и Оссару. Она находилась прямо перед ними, и порой, когда им надоедало следить за однообразными движениями слона, они бросали взгляд на смоковницу. Сквозь редкую листву виднелся ствол и отходившие от него в разные стороны толстые ветви.
Чуть ли не с первого взгляда Каспар обнаружил на дереве что-то странное. У этого юноши был зоркий взгляд и острая наблюдательность. На главном стволе смоковницы, футах в шести над первым разветвлением, он приметил нечто, сразу же привлекшее его внимание: это было что-то вроде большого козьего рога; вернее, это можно было сравнить с изогнутым рогом носорога или с клыком очень молодого слона; рог этот ничуть не походил на сук.
Раз или два Каспару показалось, что этот предмет движется, но он еще не был в этом уверен и ничего не сказал товарищам, боясь, что его поднимут на смех. Карл нередко посмеивался над братом, уличая его в невежестве.
Странное явление, замеченное Каспаром, заинтересовало его, и он начал украдкой следить за ним. Вскоре он заметил вокруг изогнутого рога что-то похожее на диск дюймов восьмидесяти в диаметре и гораздо темнее коры смоковницы. Сразу же было видно, что этот диск — не из дерева: он резко выделялся на фоне ствола, как и торчавший из него костяной изогнутый предмет. Если бы Каспара спросили, что ему напоминает вещество этого диска, он ответил бы: оно удивительно похоже на грязь, из которой ласточки лепят свои гнезда.
Каспар продолжал наблюдать оба эти любопытных предмета: рогообразный нарост и темный круг, из которого он торчал; и, только убедившись, что первый принадлежит живому существу, решил сообщить об этом своим товарищам. Он пришел к такому выводу, увидев, что рог внезапно исчез, словно втянутый внутрь дерева, и на его месте осталось лишь круглое темное отверстие. Потом желтоватый рог снова появился в отверстии и высунулся наружу, заполняя его целиком.
Каспар был слишком поражен, чтобы хранить про себя такой секрет, и немедленно рассказал о своем открытии Карлу и Оссару.
Оба одновременно взглянули в указанном направлении. Карл был озадачен этим явлением так же, как и Каспар.
Но не Оссару. Едва увидев изогнутый костяной рог и темный круг, он сказал равнодушным тоном, каким говорят о самых обычных предметах:
— Носорог-птица на гнезде.
Глава 14
ЛЮБОПЫТНОЕ ГНЕЗДО
В этот момент изогнутый нарост исчез в дупле, и осталось лишь темное отверстие. Карл смотрел в полном недоумении, как и Каспар за минуту перед тем.
— Гнездо? — повторил Каспар, удивленный словами шикари. — Птичье гнездо? Ты говоришь о птичьем гнезде, Осси?
— Да, саиб. Гнездо большой-большой птица. Феринги называть ее носорог.
— Да, — сказал Каспар, который немногое понял из объяснений шикари, — это очень любопытно. Мы видели кое-что вроде рога, торчавшего из дерева, хотя это больше похоже на кость, чем на рог. Может быть, это птичий клюв. Но скажи, пожалуйста, где же сама птица и ее гнездо?
Оссару ответил, что гнездо находится в дупле, а птица на гнезде, где ей и полагается быть, и они видели только ее клюв.
— Как! Птица сидит в той дыре, откуда торчит эта белая штука? Да ведь рог заполняет целиком всю дыру, и если птица действительно там, если этот предмет — ее клюв, то я могу сказать, что клюв у нее, должно быть, величиной со все ее тело. Иначе, как же она пройдет в такую маленькую дыру? Другого отверстия, кроме этого, нет. А может быть, эта птица — тукан? Я слыхал, что тукан пройдет везде, куда просунется его клюв… Не тукан ли это, Оссару?
Оссару не мог сказать, тукан это или нет, так как никогда не слыхал о такой птице. Его орнитологические познания не шли дальше птиц Бенгалии, а тукан живет в Америке. Он повторил, что эту птицу феринги называют «носорог» или «птица-носорог». Оссару добавил, что она величиной с гуся и что туловище у нее в несколько раз толще клюва, хотя клюв кажется очень толстым.
— И ты говоришь, что гнездо у нее там, в дупле? — спрашивал Каспар, указывая на маленькое круглое отверстие, едва ли больше трех дюймов в поперечнике.
— Ну да, молодой саиб, — был ответ Оссару.
— Разумеется, там должно находиться какое-то живое существо, раз мы видели, что этот рог двигается; а если эта птица величиной с гуся, то не объяснишь ли ты нам, как она входит в дупло и выходит оттуда? Вероятно, с другой стороны ствола есть второе отверстие, побольше?
— Нет, саиб! — твердо возразил Оссару. — То, что вы видать перед собой, один вход в гнездо носорога.
— Вот это здорово, Осси! Ты хочешь сказать, что птица величиной с гуся может входить и выходить через эту дыру? Да в нее воробей с трудом протиснется!
— Птица-носорог не входить, не выходить. Он остаться там, пока птенцы готовы уйти из гнездо.
— Будет тебе, Осси! — насмешливо сказал Каспар. — Эта сказка хороша для маленьких детей. Неужели ты думаешь, что мы этому поверим? Разве птица может оставаться в гнезде, пока птенцы не вырастут? А тогда что? Разве птенцы помогут матери выбраться оттуда? И как они выберутся сами? Ведь я полагаю, они не уйдут из гнезда, пока не вырастут… Слушай, добрый шикари, довольно с нас загадок, и расскажи нам все как есть!
Тут шикари рассказал все, что знал об этой удивительной птице. Готовясь выводить птенцов, сказал он, птица-носорог выбирает в дереве дупло как раз такого размера, чтобы там могли поместиться она сама и гнездо, которое она строит. Когда гнездо построено и яйца снесены, самка садится на них и остается в дупле не только до тех пор, пока выведутся птенцы, но и долгое время спустя — пока птенцы не оперятся и не смогут жить самостоятельно. Чтобы защитить ее на это время от нападения куниц-лакати, мангуст и прочей «нечисти», самец, едва только самка сядет на яйца, принимается за работу каменщика. Пользуясь своим большим клювом сперва как ведерком, потом как лопаткой, он замуровывает вход в гнездо, оставляя лишь небольшое отверстие, которое целиком заполняет клюв самки. Материалом служит ему глина, добываемая из ближайшего ручья или болота и напоминающая тот материал, из какого сооружает свое удивительное гнездо обыкновенная ласточка. Высохнув, глина становится такой твердой, что может выдержать нападение любой птицы или зверя. А когда огромный клюв самки торчит наружу, целиком заполняя отверстие, в дупло не может пробраться даже скользкая древесная змея. Находясь таким образом в полной безопасности, самка спокойно высиживает птенцов.
Тут Каспар прервал Оссару вопросом.
— Как? — сказал он. — Она просиживает на гнезде целые недели, ни разу не выходя наружу? Чем же она кормится?
Не успел Оссару ответить на этот вопрос, как они услыхали страшный шум, доносившийся сверху, словно с неба. Этот шум мог бы испугать человека, слышащего его в первый раз и не знающего, в чем дело. Это был какой-то хлопающий, щелкающий звук, вернее — ряд звуков, похожих на лесной шум во время бури.
Оссару сразу же узнал этот звук. Не отвечая на вопрос Каспара, он сказал:
— Погоди, саиб. Старый носорог приходить. Он показать, как кормить самку.
Не успел он договорить, как его товарищи поняли, что вызвало странный шум. Это была большая птица, которая, сильно хлопая крыльями, пролетела мимо дерева, где они сидели, к тому, где находилось гнездо.
Через миг они обнаружили, что птица сидит на остром суку, непосредственно под дуплом, и Оссару мог уже не объяснять товарищам, что это самец птицы-носорога. Большой клюв с отростком, похожим на рог, как и у того клюва, что высовывался из отверстия, был увенчан чем-то вроде огромного шлема, поднимавшегося над головой и прикрывавшего клюв сверху, так что его можно было принять за второй клюв; такой странный «головной убор» мог принадлежать только самцу птицы-носорога.
Глава 15
ПТИЦА-НОСОРОГ
Правда, Карлу еще не приходилось видеть живых птиц-носорогов, но он видел их чучела в музее, и ему нетрудно было узнать птицу. Он даже мог определить, к какому виду она принадлежит, так как существует несколько разновидностей носорогов. Перед ними сейчас находился топау, или рогатая индийская ворона, ибо по внешности и по повадкам она напоминает эту примелькавшуюся нам птицу.
Оссару не преувеличил размер этой птицы, сравнив ее с гусем. Напротив — он скорее приуменьшил, так как самец был гораздо крупнее гуся. Он был более трех футов длиной, считая от кончика хвоста до конца изогнутого клюва, который сам был почти в фут длиной. Оперение у самца было сверху черное, а брюшко бледно-желтое; на хвосте перья ярко-белые, пересеченные посередине черной полосой. Клюв, как и у самки, был бледно-желтый, красноватый у основания, а «шлем» — пестрый, черный с белым.
Оссару пришлось рассказать все, что он знал об этой любопытной птице. Правда, в Индии живет несколько разновидностей птицы-носорога, но встречаются они там не так часто.
Карл знал гораздо больше шикари об этой породе птиц, о ее характерных особенностях и повадках, и, конечно, рассказал бы товарищам, не будь они поглощены другим. В самом деле, разъяренный слон держал их в осаде, они лишь ненадолго отвлеклись, наблюдая за птицей, и у Карла не было никакой охоты читать лекцию по орнитологии. Он мог бы рассказать, как долго спорили орнитологи относительно классификации птицы-носорога: одни причисляли его к туканам, другие полагали, что его нужно отнести к семейству ворон. Его сближает с туканом не только огромный клюв. Как и тукан, он подбрасывает добычу кверху, подхватывая и проглатывая ее на лету. Но, в противоположность тукану, эта птица не может лазить по деревьям, так что ее нельзя отнести к лазающим. Ее считают всеядной, но, как мы уже сказали, есть немало разновидностей птицы-носорога, и большинство авторов, вероятно, смешивают повадки различных видов, сильно отличающихся друг от друга. Существуют африканские виды, индийские и индонезийские, один или два своеобразных вида можно встретить на Новой Гвинее. Все эти виды различаются между собой не только по размерам, цвету, форме клюва и нароста над ним, но и по употребляемой ими пище. Например, африканская птица-носорог и некоторые азиатские виды являются плотоядными, а иные даже питаются падалью. Это отвратительные птицы, у которых мясо и оперение издают резкую вонь, как у коршунов. С другой стороны, в Индонезии, особенно на Молуккских островах, обитает разновидность, питающаяся только мускатными орехами, благодаря чему ее мясо отличается восхитительным вкусом и ароматом и высоко ценится восточными гастрономами. На клюве у этих птиц в известном возрасте появляются желобки, или бороздки. Наблюдаются эти бороздки только у старых птиц, и голландские колонисты, живущие на Молуккских островах, пытаются определять по ним возраст птицы, считая, что каждая бороздка соответствует одному году. Поэтому носорог получил у них название «годовая птица».
Как мы уже сказали, Карлу были хорошо известны все эти разновидности птицы-носорога. Но в данный момент он и не думал делиться своими знаниями с товарищами, так как все трое пристально следили за самцом. Несомненно эта птица принадлежит к плотоядным, так как, когда самец спускался, видно было, что у него из клюва свешивается что-то длинное, похожее на кусок веревки; они разглядели, что это кусок змеи — голова и часть туловища. Очевидно, и самка не привыкла к растительной пище, так как по движениям самца наблюдатели поняли, что змея предназначается ей. Без сомнения, это был ее обед, так как время близилось к полудню.
Ей не пришлось долго ждать.
Опустившись на длинный сук, ее кормилец движением головы подбросил кусок змеи в воздух и поймал его на лету — не для того, чтобы проглотить, а чтобы схватить поудобнее и половчее всунуть в клюв самки, торчавший из отверстия и раскрытый в ожидании еды.
Еще миг — и лакомый кусочек перешел из клюва самца в клюв самки; могучие щипцы, словно сделанные из слоновой кости, крепко зажали змею и мгновенно скрылись в дупле.
Самец ни на минуту не задержался на дереве. Он принес самке обед и, вероятно, должен был принести десерт. Он тут же взлетел, громко хлопая крыльями, причем его роговые челюсти щелкали, как кастаньеты, и этот необычный звук мог бы напугать человека, незнакомого с подобными птицами.
Глава 16
ЧЕТВЕРОНОГИЙ БАНДИТ
Когда улетела птица, о которой молодые искатели приключений узнали столько интересного, слон снова занял их внимание. Не потому, что он изменил свою тактику — он по-прежнему описывал круги, — но охотники знали, что, пока он здесь, им нельзя спуститься с дерева; и они обернулись к слону посмотреть, не собирается ли он уходить.
Ho, увы! Слон не обнаруживал намерения покинуть это место.
Наблюдая за своим врагом, они отвернулись от смоковницы и, вероятно, не скоро бы на нее взглянули, если бы не услышали звук, доносившийся со стороны гнезда птицы-носорога. Это был тихий, довольно жалобный звук, не похожий на крик птицы, да и вообще его не могла издавать птица. Казалось, это крик животного или даже человека — отчетливо раздавалось: «ва-ва-ва».
Но это не был человек. Оссару с первого звука догадался, кто это; братья тоже быстро поняли, в чем дело. Повернувшись к смоковнице, они увидели на длинном суку, где недавно сидел самец-носорог, существо совсем другого рода — представителя четвероногих.
У него было массивное округлое туловище и очень толстый пушистый полосатый хвост; морда у зверька была короткая и круглая, вроде кошачьей, гладкий, блестящий мех одевал его с головы до пят пушистой шубкой. У него была темно-рыжая, с золотистым отливом спина, глянцевитый черный живот, белые щеки и желтая полоска на морде. Каспар должен был признаться, что ему редко приходилось видеть такое красивое создание.
В ответ на восторженное восклицание, вырвавшееся у брата, Карл сказал, что известный натуралист Кювье еще задолго до Каспара оценил красоту этого животного.
Оссару знал, что его называют «ва» (звукоподражательное название), а иногда «читва» или «панда».
Услыхав это название от Оссару (да и сам зверь «назвал» себя), Карл сразу же понял, с кем имеет дело.
Увидев зверька на высоком суку, Карл и Каспар с первого же взгляда убедились в его ловкости, а в следующий миг убедились, что он не прочь полакомиться птичьими яйцами. Не прошло и минуты, как они сообразили, что он охотится за яйцами птицы-носорога, а может быть, собирается отведать мяса самой птицы.
Стоя на суку, он поднялся на свои массивные задние лапы, как маленький медведь, и начал царапать передними длинную стенку, на возведение которой самец затратил столько времени и труда. Быть может, если бы зверьку никто не препятствовал, ему и удалось бы проникнуть в гнездо; во всяком случае, у него было такое намерение. Однако ему помешали. Правда, самка, находившаяся в дупле, не очень-то могла обороняться, хотя все время то высовывала, то втягивала обратно клюв, и ее сердитое шипение доказывало, что она понимает грозящую ей опасность и знает, какой враг атакует ее крепость.
Зверек изо всех сил царапал стенку, и возможно, что она развалилась бы под ударами его когтей, но вдруг над деревьями раздалось громкое хлопанье, щелканье и стук; а через миг широкие, раскидистые крылья старого самца засвистели над головой четвероногого разбойника и длинный, острый, подобный кинжалу, клюв мигом прервал его злодейские труды.
Захваченный врасплох, панда струсил, ибо старый самец, подобно всякому главе семейства, который, возвращаясь домой, находит там грабителя, налетел на него с бешеной яростью.
Однако разбойник, видимо, привыкший к такого рода отпору, вскоре овладел собой: вместо того чтобы убежать, он плотнее укрепился на суку и, повернувшись к своему пернатому противнику, приготовился к битве.
И битва началась: птица то и дело налетала на врага, била его своими мощными крыльями и клевала огромным клювом, а зверь бешено отбивался зубами и лапами, иной раз вырывая пучки перьев из груди своего крылатого противника.
Глава 17
ФРИЦ ВМЕШИВАЕТСЯ
Чем окончилось бы единоборство панды и птицы-носорога, об этом можно лишь догадываться. По всей вероятности, четвероногое одержало бы победу над двуногим, стенка гнезда была бы взломана, самка сброшена с гнезда, скорее всего, убита и съедена, а вслед за нею были бы истреблены и яйца.
Но, видно, в книге судеб была предначертана иная развязка этой маленькой драмы, так как внезапно произошло нечто, изменившее характер борьбы, и после ряда инцидентов битва окончилась совершенно неожиданным образом как для ее участников, так и для наблюдателей.
Первый инцидент, резко изменивший положение дел, был весьма забавного свойства и рассмешил зрителей, сидевших на дереве.
В пылу борьбы стоящий на задних лапах панда отвернулся от маленького отверстия, представлявшего вход в гнездо. Не помышляя об опасности с этой стороны, грабитель старался уберечь свои глаза от самца, нападавшего свepxy. Но самка в гнезде, которой было довольно хорошо видно все происходящее снаружи, и не думала оставаться пассивной зрительницей; улучив момент, когда враг оказался совсем близко от дупла, она тихонько высунула свой длинный, твердый, как слоновая кость, клюв и изо всех сил ударила панду в глаз; острие клюва, словно кирка, вонзилось до самой кости.
Ошеломленный этим неожиданным нападением, зверек испустил от боли резкий крик и мигом скатился с дерева; казалось, он думал только о бегстве. Это ему, несомненно, удалось бы, несмотря на потерю глаза; но за ним следил еще один враг, с которым ему предстояло схватиться. Привлеченный шумом стычки, Фриц выглянул из кустов, окружавших дерево, и, подойдя поближе, следил за сражением. Честный Фриц не мог не сочувствовать безвинной птице, на которую напал подлый враг; и едва панда появился внизу, как пес бросился на него и начал трепать, словно этот зверек был его давнишним, заклятым врагом.
Положение панды было отчаянным, но разъяренный зверек не хотел сдаваться без борьбы. И хотя напавший на него пес был гораздо сильнее его, он все же хотел оставить врагу на память одну-две царапины, следы которых тот носил бы до могилы.
Но в этот миг Фрицу грозила куда более серьезная опасность, чем удары когтей панды. Если бы в пылу битвы он не взглянул случайно в сторону обелиска, то оказался бы во власти противника, который проявил бы к нему не больше милосердия, чем он сам к злополучному панде.
Но случай ему помог: бросив взгляд на своего преследователя, он увидел, что слон направляется прямо на него; в глазах его сверкала ярость и хобот был угрожающе вытянут вперед. Фриц мгновенно решил, как ему поступить. Бросив панду, словно почуяв, что мясо его ядовито, он метнулся прочь от слона и через несколько мгновений скрылся в зарослях.
Из всех принимавших участие в этой необычной схватке больше всего пострадал злополучный панда, так как вместе с этой драмой окончилась и его жизнь. На него нападали все новые враги, а под конец он повстречался с самым ужасным врагом, который вскоре с ним покончил. Это был слон. Он собирался уничтожить Фрица, но, увидев, что тот убежал, решил не упустить подвернувшуюся ему жертву. Итак, он не стал преследовать Фрица в чаще, и его ярость обрушилась на панду. Гигант понимал, что зверьку не уйти от него: наполовину ослепленный клювом птицы, полузадушенный Фрицем, он не заметил приближения слона. Быть может, он и увидел опасность, но было уже поздно: слон стоял над ним — и ему нельзя было убежать.
Не успел панда опомниться, как слон обвил его цепким хоботом и поднял кверху, будто перышко. Потом безжалостное чудовище сделало несколько шагов к поверженному обелиску и, словно выбрав подходящее место, опустило барахтающегося панду наземь, наступило на него огромными передними ногами и принялось его топтать, пока от раздавленного зверька не остался лишь бесформенный комок кровавого мяса и клочки шерсти.
Для сидевших на дереве зрителей это было неприятное зрелище; но за ним последовало другое, доставившее им радость: слон повернул в сторону леса и стал удаляться, видимо решив совсем уйти отсюда.
Удовлетворил ли он жажду мести, убив панду, или отправился на поиски Фрица — этого никто не мог бы сказать; во всяком случае, он уходил — что-то заставило его снять осаду, которая порядком уже надоела охотникам.
Глава 18
«СМЕРТЬ БРОДЯГЕ!»
Когда слон скрылся из виду, осажденные начали совещаться: можно ли им сойти на землю? Они очень устали сидеть на дереве все в той же позе. Правда, ничего не стоит просидеть несколько минут верхом на ветке, но если такое сидение затягивается, оно становится мучительным, почти невыносимым. Каспар больше всех страдал от вынужденного бездействия и был очень зол на бродягу. Несколько раз он собирался покинуть свой насест и прокрасться за ружьем, но Карл догадывался о его намерениях и убеждал брата, что благоразумие требует подождать.
Всем троим не терпелось сойти с дерева, и они спустились бы на землю, как только исчез страшный враг, если бы были уверены, что он больше не вернется. Но они подозревали, что он ушел только на время, — быть может, бродяга пустился на эту уловку, чтобы выманить их из убежища: ведь известно, что слоны-бродяги умеют хитрить не хуже двуногих бродяг.
Они не могли сразу решить, как лучше поступить, но тут Оссару положил конец их колебаниям, предложив спуститься первым. Он решил прокрасться по следам слона, чтобы удостовериться, действительно ли тот ушел отсюда или стоит в засаде на опушке леса.
Шикари умел скользить в кустах бесшумно, как змея, и братья знали, что он не будет подвергаться чрезмерной опасности, если только не заберется слишком далеко. Он, конечно, своевременно заметит слона, а в случае, если тот вернется и погонится за ним, сможет снова найти убежище на дереве.
Не успели товарищи дать согласие, как Оссару начал спускаться по ветвям, а очутившись на земле, быстро и бесшумно зашагал в том направлении, в каком скрылся слон.
Карл и Каспар оставались на дереве еще минут пять; но так как шикари все не возвращался, они потеряли терпение и тоже спустились на землю.
Первым делом они разыскали ружья и перезарядили их; потом встали около дерева, чтобы в случае внезапного нападения можно было снова взобраться на ветви, и начали поджидать Оссару.
Прошло довольно много времени, а от шикари не было ни слуху ни духу. Не слышно было вообще ничего: царило глубокое молчание, лишь изредка нарушаемое хлопаньем крыльев птицы-носорога. Самец все еще держался близ гнезда, видимо озадаченный таинственным стечением обстоятельств, так внезапно избавившим его от четвероногого врага.
Но птица больше не интересовала ни Карла, ни Каспара, которых беспокоило долгое отсутствие Оссару.
Вскоре, однако, они с радостью увидели, что шикари вынырнул из зарослей и быстро к ним приближается. Их обрадовало также, что по пятам за Оссару следовал Фриц. Оссару встретил пса на опушке, где тот спрятался от разъяренного слона.
Когда Оссару подошел ближе. Карл и Каспар заметили по выражению его лица и поспешности, с какой он шагал, что тот хочет сообщить им нечто важное.
— Ну, Осси, — спросил Каспар, — что нового? Видел ты бродягу?
— Ах, он бродяга, это верно, — ответил Оссару, и в его голосе послышался затаенный страх. — Вы верно говорить, саиб, он бродяга, если не хуже.
— Что случилось? Ты видел что-нибудь?
— Видел, саиб! Вы думать, куда он пойти?
— Куда же?
— К хижине.
— К хижине?..
— Прямо. Ах, саибы, — продолжал шикари, понижая голос, и на лице его отразился суеверный ужас, — он уж слишком умный для зверя, слишком много знать! Боюсь, он не слон совсем, а злой дух принять вид слона. Зачем он пойти туда?
— Да, зачем, интересно знать? — повторил Каспар. — Ты думаешь, он хочет подстеречь нас возле хижины? Если так, — продолжал он, не дожидаясь ответа, то нам не будет покоя, пока он жив. Одно из двух: либо мы должны его убить, либо он нас.
— Саиб, — заметил шикари, многозначительно покачав головой, — мы не убить его: слон не умирать никогда.
— Что за ерунда, Осси! — возразил Каспар, которому был смешон суеверный страх шикари. — Впрочем, думай как хочешь, но я-то не сомневаюсь, что мы сможем его убить, как только он подвернется под хороший выстрел. Честное слово, чем скорее мы это сделаем, тем лучше! Он недаром пошел в нашу хижину — ясно, что у него какое-то скверное намерение. Может быть, он вспомнил, что Фриц там в первый раз напал на него, и так как он думает, что пес ушел туда, то и отправился его искать… Э, Фриц, старина, тебе нечего бояться! Ты можешь ускользнуть от него в любой миг. Твоим хозяевам хуже приходится, чем тебе, дружище.
— А ты уверен, Оссару… — спросил Карл после минутного раздумья, — ты уверен, что он пошел к хижине?
Оссару, конечно, не мог утверждать, что слон направился именно туда, где стояла хижина; но он прошел по следам слона по густому лесу, а потом, взобравшись на дерево, видел, что гигант двинулся в сторону хижины. Оссару почти не сомневался, что слон пошел именно туда, но он был так напуган, что ничего не соображал и даже не пытался догадаться о намерениях слона.
— Ясно одно, — снова заговорил Карл, поразмыслив некоторое время: бесполезно продолжать задуманную нами разведку, пока мы не избавимся от слона. Ты верно сказал, Каспар! Теперь он выследил нас, и к тому же он разъярен ранами, которые мы ему нанесли, и едва ли забудет об этом приключении. У нас не будет ни минуты покоя, и нечего думать о безопасности, пока не удастся уничтожить его. Почему бы нам не заняться этим делом сейчас же? Речь идет о нашей жизни, и над нами будет висеть угроза, пока мы с ним не расправимся.
— Идемте же! — вскричал Каспар. — И пусть нашим девизом будет: «Смерть бродяге!»
Глава 19
ХИЖИНА В РАЗВАЛИНАХ
Наши охотники немедленно направились к хижине: именно туда пошел слон, как можно было судить по его следам, которые уже обнаружил зоркий шикари и на которые по дороге указал своим спутникам. Там и сям на мягкой почве виднелись огромные отпечатки, а где их не было, путь бродяги обозначался сбитыми на землю листьями и поломанными сучьями, а также крупными ветвями, валявшимися в траве; видно было, что слон волок их некоторое время, а потом бросил.
Шикари не раз приходилось выслеживать диких слонов в джунглях Бенгалии, и он был знаком с их повадками. Он сообщил товарищам, что бродяга и не думал пастись, так как на сучьях и листьях не видно было следов зубов; слон шел довольно быстро и, казалось, с определенным намерением. Валявшиеся на земле ветки были сломаны, вероятно, с досады — он просто срывал на них свою злобу.
Оссару не приходилось напоминать товарищам об осторожности. Они знали не хуже его, что с разъяренным слоном, будь то бродяга или обыкновенный слон, лучше не встречаться; а этот бродяга был до крайности разъярен — в этом они убедились и сами, и со слов шикари.
Поэтому они продвигались крайне осторожно, осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь, шли они в полном молчании, лишь изредка перешептываясь.
Они возвращались домой не тем путем, каким шли на разведку. Обследование утесов завело их довольно далеко, и теперь они шли по следам слона, которые вели, как и предполагал Оссару, прямо к хижине.
Приближаясь к своему примитивному жилищу, они догадались по некоторым признакам, что враг где-то совсем близко. Зная, что вблизи горячего источника, у которого стояла хижина, нет ни крупных деревьев, ни других безопасных мест, куда можно было бы укрыться в случае нападения, они удвоили осторожность. Они могли увидеть хижину лишь с довольно близкого расстояния, подойдя к ней ярдов на двести. Сперва надо было пройти полосу невысоких зарослей, закрывавших ее.
Охотники углубились в эти заросли и вскоре с тревогой обнаружили свежие следы слона. Не оставалось сомнений, что он недавно прошел здесь, направляясь прямо к хижине.
Что ему там было нужно? Этот вопрос, конечно, пришел в голову всем троим. Право, было похоже, что слон их там разыскивал! Вероятно, потеряв их из виду, он подумал, что они вернулись домой, и решил нанести им визит.
После того, что им пришлось увидеть, невольно являлась мысль, что это гигантское животное наделено каким-то сверхъестественным умом. Разумеется, они гнали эту нелепую мысль, но все же в душе оставалась странная, гнетущая тревога. То, что они обнаружили, выйдя из чащи, усилило эту тревогу; более того — привело их в ужас.
Хижины больше не существовало. Виднелись лишь ее развалины. Крупные валуны, из которых были сложены стены, балки и настил, составлявшие крышу, травяные постели, примитивная посуда и другая утварь, — все это было разбросано по земле. Никто бы не догадался, что на этом месте недавно находилось человеческое жилье. Да, охотники нашли одни руины — не осталось и камня на камне.
Они смотрели на это разрушение с невольным ужасом. Теперь они уже не решились бы обвинить в суеверии язычника, поклонявшегося Браме или Вишну. Его молодые спутники-христиане, казалось, готовы были также поверить в чудесное. Им было ясно, кто разрушил хижину. Хотя самого злодея нигде не было видно, но они знали, что это был слон. Другого объяснения не оставалось; и пугал их не сам факт, а мысль о том, что это животное обладало прямо-таки человеческим, вернее — дьявольским, разумом, который толкнул его на такое мщение; значит, можно было ожидать чего-нибудь еще более ужасного.
Хотя хижина была разрушена всего за несколько минут до их прихода, слон, по-видимому, уже ушел отсюда. По крайней мере, поблизости его нигде не было видно, хотя они тщательно разыскивали его. Опасаясь с ним повстречаться, охотники держались под прикрытием кустов и лишь издали смотрели на развалины. Прошло немало времени, пока наконец они решились выйти из зарослей и приблизиться к месту катастрофы.
Подойдя, они убедились, что хижина совсем разрушена.
Охотники остались без крова. Но еще больше их огорчала потеря находившегося в хижине небольшого запаса зарядов — порох, который они так старательно сберегали, был рассыпан среди мусора и безвозвратно потерян. Они хранили его в большой тыквенной фляге, сделанной специально для этой цели, а она вместе с остальной утварью погибла под ногами слона. Запасы провизии были вытащены из кладовой и втоптаны в землю. Но это еще не такая беда. Провизию можно снова заготовить, хотя это будет и не так легко сделать. Но как восстановить порох?
Глава 20
СНОВА НА ДЕРЕВЕ
Охотники еще долго бы стояли на месте разрушения, оплакивая свою безвозвратную потерю, если бы не боялись, что слон вернется. Куда он ушел? Они спрашивали об этом друг друга, тревожно озираясь по сторонам.
Бродяга ушел, должно быть, всего несколько минут назад: раздавленная его тяжелыми стопами трава была еще влажна, выпущенный ею сок не успел высохнуть. И все же вокруг, на расстоянии доброй четверти мили, слона нигде не было видно. Вблизи хижины не было зарослей, где могло бы скрыться такое крупное животное, как слон.
Так думали Карл и Каспар, но Оссару был другого мнения. Он заявил, что слон вполне может укрыться в полосе зарослей, из которых они недавно вышли. Ему было известно на основании охотничьего опыта, что слон, даже очень крупный, умеет ловко спрятаться в самом незначительном укрытии, выбрав подходящее место, хотя бы и такое, где ему не повернуться; он зачастую ухитряется, стоя совершенно неподвижно, обманывать самого опытного охотника. Карл с Каспаром не слишком-то ему верили, но Оссару был убежден, что слон спрятался в неширокой полосе джунглей совсем близко от них.
К несчастью, мнение Оссару очень скоро подтвердилось.
Пока они стояли, зорко оглядывая джунгли и напряженно прислушиваясь, чтобы уловить малейший звук, доносящийся оттуда, вершины высоких молодых деревьев, поднимавшихся над зарослями, вдруг закачались. Еще миг — и оттуда вылетели, шумя крыльями, два великолепных аргуса; они издавали громкие, тревожные крики.
Птицы пролетели над головой наших искателей приключений и так громко кричали, что Фриц залился продолжительным лаем.
Выжидал ли враг в засаде удобного случая напасть или лай собаки, уже знакомый ему и ненавистный, донесся до него и снова разжег в нем ярость, но не успели охотники перекинуться словом, как из редких кустов появились длинный хобот и толстые, массивные ноги, и они увидели, что чудовище идет прямо на них. Казалось, слон приближался неспешной трусцой, но на самом деле он мчался с быстротой лошади, несущейся галопом.
Еще мгновение охотники стояли неподвижно — не потому, что ожидали нападения и хотели его отразить, а просто потому, что не знали, куда бежать.
Нападение слона их ошеломило так, что в первый момент им даже не приходил в голову никакой план спасения.
Инстинктивно, почти автоматически. Карл и Каспар прицелились, хотя у них было мало надежды, что пули, пущенные из их малокалиберных ружей, остановят такую страшную атаку.
Оба выстрелили одновременно, затем Каспар выпустил второй заряд, но, как они и ожидали, слон продолжал наступление.
К счастью, шикари не воспользовался своим луком. Он знал по опыту, что в таких обстоятельствах стрела — бесполезное оружие. С таким же успехом он мог бы лягнуть слона или воткнуть ему в хобот булавку — это значило бы только еще пуще его разозлить.
Итак, шикари и не думал обороняться; он поспешно осматривался по сторонам, соображая, куда бы укрыться.
По правде сказать, окружающая их местность не обещала ничего хорошего.
На скалах не видно было уступов, где можно было бы спастись от бродяги; правда, чаща могла временно их приютить, но смышленый зверь быстро бы их там разглядел. К тому же слон находился как раз между ними и джунглями, и отступать в эту сторону — значило бежать навстречу врагу.
Что делать? На что решиться? Но вот взгляд шикари упал на одинокое дерево, стоявшее неподалеку. Это дерево однажды уже спасло ему жизнь. Оно росло на самом берегу залива, где Оссару ставил свои сети, и, сидя на его ветвях, Каспар вытащил шикари из зыбучих песков.
Дерево было очень высокое; оно стояло на открытом месте, и его ветви широко раскинулись во все стороны, нависая над заливом.
Оссару не стал терять драгоценные мгновения на пустые раздумья: криком и жестом приказав молодым саибам следовать его примеру, он кинулся к дереву со всей быстротой, на какую был способен, и, только взобравшись на третий или четвертый ярус ветвей, оглянулся, ища глазами товарищей.
Братья сломя голову бросились вслед за шикари и вскоре очутились на дереве.
Глава 21
ЯРОСТНАЯ ОСАДА
Фриц добежал вместе со своими хозяевами до подножия дерева, но, разумеется не мог на него взобраться вслед за ними. Однако он не собирался оставаться под деревом, так как это означало бы верную гибель; не медля ни минуты, он кинулся в воду и поплыл через залив.
Выбравшись на берег, он нырнул в заросли камыша и притаился там.
На этот раз слон не обратил на него внимания. Взгляд егo был устремлен на охотников, и на них была обращена вся его ярость. Он гнался за ними по пятам, когда они бежали по открытому месту, и видел, что они взобрались на дерево. Он был так близко, что Карлу и Каспару пришлось снова бросить ружья, чтобы удобнее было карабкаться.
Малейшая задержка могла бы оказаться для них роковой.
Карл карабкался вслед за братом и едва успел перебраться с одной ветки на следующую, повыше, как бродяга обвил ветку хоботом и сломал ее пополам, точно хворостинку.
Но Карл находился уже в безопасности, и все трое порадовались своему спасению.
Слон был до крайности разъярен. Враги снова от него ускользнули, и вдобавок он получил три свежие раны; правда, пули только оцарапали его толстую шкуру, но все же причинили немалую боль. Испустив резкий, трубный клич, он высоко взметнул хобот и стал хватать ветку за веткой и отламывать их от ствола, как тонкие прутики.
Ветви были густые и начинались близко от земли. Вскоре все они были обломаны до высоты примерно двадцати футов, а земля вокруг дерева усеяна сучьями и листьями; чудовище в ярости топтало обломанные ветви своими широкими, грузными стопами, смешивая их с землей.
Но этого было ему мало — старый клыкач обвил хоботом ствол и начал тянуть изо всех сил, словно надеясь вырвать дерево с корнем.
Убедившись, что такой подвиг ему не под силу, он переменил тактику и принялся толкать дерево грудью.
Правда, дерево содрогалось от его толчков, но вскоре он увидел, что оно стоит слишком прочно, и бросил эти попытки.
Однако он стоял под деревом и вовсе не собирался уходить, видимо задумав новую каверзу.
Хотя охотники знали, что в настоящий момент им нечего бояться, но им было не до веселья, так как они понимали, что лишь на время укрылись от врага и, если он в конце концов уйдет и они смогут спуститься, угроза останется и на будущее. У них было мало надежды убить этого могучего противника, так как оставался всего один заряд. Им казалось, что слон умышленно рассыпал порох, с целью поставить их в беспомощное положение.
Какой бы охотники ни построили себе дом, они будут в нем не в большей безопасности, чем на открытом месте, так как бродяга уже доказал, что способен разрушить самые крепкие стены; итак, придется спасаться от него на вершине дерева, а им вовсе не улыбалось вести жизнь обезьян или белок.
Тут Каспару пришла в голову счастливая мысль. Он вспомнил о пещере, где они убили медведя. Туда можно добраться только по лестнице и пещера недоступна для слона, как только окончится осада, можно будет искать убежища в пещере.
Глава 22
ДОСТАЛИ ВОДУ!
Мысль о пещере обрадовала и несколько успокоила охотников. Но она не вполне их удовлетворяла; правда, слон туда не проберется, но они не смогут там делать все, что захотят. Отсутствие света не позволит им сооружать лестницы, а когда они будут заняты рубкой деревьев и работой над лестницами, то в любой миг могут подвергнуться нападению беспощадного врага.
Перспектива была довольно мрачной, хотя пещера являлась бы надежным убежищем, куда можно скрыться в случае нападения.
Некоторое время слон стоял сравнительно спокойно, и охотники могли обдумать планы на будущее. Чувствуя себя в данный момент в безопасности, они даже забыли о своем тяжелом положении.
Но вскоре к ним снова вернулась тревога. Они задали себе вопрос: сколько времени придется еще просидеть на дереве?
Хотя никто не мог ответить на этот вопрос, всем было понятно, что осада обещает затянуться, быть может, она продлится гораздо дольше той, какую пришлось недавно испытать: бродяга был крайне озлоблен и жаждал мести, а его мрачный вид доказывал, что он не скоро отсюда уйдет. Охотники снова встревожились. Их положение было не из приятных: приходилось сидеть верхом на тонких ветвях. Мало того, в случае если осада затянется, им, как и большинству осажденных, будет угрожать голодная смерть. Еще выходя из дому, они были голодны, как волки. Они лишь наспех позавтракали и с тех пор ничего больше не ели, так как некогда было приготовить обед. Было уже далеко за полдень, и, если враг останется здесь на всю ночь, им придется лечь спать без ужина. Лечь спать? Не тут-то было! Видно, в эту ночь нельзя будет ни лежать, ни спать. Разве уснешь на этих жестких ветках! Если они хоть на миг потеряют сознание, то свалятся прямо на своего безжалостного врага. Даже если они привяжут себя к дереву, все равно на таком ложе не уснуть.
Итак, в тот вечер не приходилось думать ни об ужине, ни о сне. Но вскоре они подверглись новому испытанию, еще более мучительному, чем голод или дремота. Это была жажда.
Весь день, с самого утра, они были в непрестанном движении: карабкались по деревьям, пробирались в густой чаще, несколько раз находились на волосок от смерти; естественно, что у них давно пересохло в горле и они начали изнемогать от жажды. Вдобавок совсем близко внизу блестела вода, и от этого жажда усиливалась, становясь нестерпимой.
Довольно долго терпели они эту муку без всякой надежды на избавление. Глядя, как сверкает на солнце озеро и как струится течение в заливе, они переживали поистине танталовы муки. Не видно было конца этим мучениям. Но вдруг у Каспара вырвалось восклицание:
— Гром и молния! О чем мы думаем? Мы сидим на дереве и умираем от жажды, а между тем вода у нас под руками!
— «Под руками»? Хотел бы я, Каспар, чтобы это было так, — возразил Карл довольно безнадежным тоном.
— Ну конечно, под руками. Смотри!
С этими словами Каспар достал свою медную пороховницу, которая была почти пуста. Карл все еще не понимал, в чем дело.
— Что мешает нам, — спросил Каспар, — спустить ее, зачерпнуть воды и снова поднять?.. Есть у тебя веревочка, Осси?
— Да, саиб, — живо ответил шикари, вытаскивая из-за пазухи моток пеньковой бечевки и подавая молодому охотнику.
— Она достаточно длинна, — заметил Каспар и обвязал ее вокруг горлышка пороховницы.
Высыпав порох в мешочек для пуль, он стал спускать пороховницу, пока она не погрузилась в воду. Подождав, пока она наполнилась, он поднял ее и с радостным возгласом подал Карлу, посоветовав ему пить в свое удовольствие. Карл охотно исполнил совет.
Пороховница быстро опустела. Ее опять спустили в воду, наполнили и снова опустошили; так проделывали они несколько раз, пока все не напились. Таким образом сидевшие на дереве охотники избавились от жажды.
Глава 23
ГИГАНТСКИЙ ШЛАНГ
Достав благодаря изобретательности Каспара нужное количество воды, осажденные подбодрились и набрались сил. Призвав на помощь философию, они готовы были потерпеть еще некоторое время, как вдруг, к их великому изумлению, на них обрушились целые потоки воды, причем самым неожиданным образом.
Трудно сказать, догадался ли слон, увидя пороховницу, погружавшуюся в воду, или эта мысль пришла ему в голову без всякой подсказки, но в тот момент, когда «фляжка» в последний раз была поднята наверх — не успели еще разбежаться круги по воде, — бродяга кинулся в озеро и глубоко погрузил в воду хобот, словно намереваясь пить.
Некоторое время он оставался неподвижным, очевидно наполняя водой свой объемистый желудок.
Разумеется, он должен был испытывать не меньшую жажду, чем сидевшие на дереве люди, и они сперва подумали, что огромный зверь пошел напиться.
Однако он слишком долго оставался в воде, как-то по-особому ее втягивал, и, казалось, у него была другая цель; в этом охотники скоро убедились, когда он начал действовать. При других обстоятельствах выходка слона могла бы показаться забавной. Но в данном случае зрители сами стали жертвами шутки — если это можно было назвать шуткой, — и, пока она продолжалась, ни у одного из них не было ни малейшей охоты смеяться. Вот как поступил слон: наполнив хобот водой, он высоко его поднял; затем повернулся к дереву и, нацелившись так же спокойно и точно, как астроном наводит свой телескоп, выпустил воду обильной струей прямо в лицо осажденным. Сидевшие рядом охотники были окачены с головы до ног и в несколько мгновений промокли до нитки; одежда их пропиталась водой, словно они провели несколько часов под проливным дождем.
Но слон не ограничился одним душем. Как только запас воды у него иссяк, он снова погрузил хобот в озеро, набрал воды, прицелился и опять выпустил ее им в лицо.
Он продолжал таким образом набирать воду и выбрасывать ее своим мускулистым хоботом; раз двенадцать подряд окатил он охотников.
Положение их было крайне незавидным, так как водяная струя, пущенная с огромной силой, словно из брандспойта, могла их смыть с ненадежного насеста, не говоря уже о том, что такой душ был весьма неприятен.
Трудно сказать, какая цель была у слона. Может быть, у него появилась надежда прогнать их с дерева или сбросить с его ветвей, а может быть, просто хотелось досадить им и хоть немного удовлетворить свою злобу.
Трудно было также сказать, долго ли будет продолжаться эта забава — быть может, много часов, так как запас воды был неисчерпаем… Но внезапно ей пришел конец, совершенно неожиданный и для самого слона, и для его жертв.
Глава 24
ПРОВАЛИЛСЯ!
Забава была в разгаре: слон усердно работал своим насосом, явно злорадствуя. Но вдруг он остановился, и его большое тело стало раскачиваться из стороны в сторону: он поднимал то одну, то другую ногу, а длинный хобот описывал в воздухе круги; животное издавало резкие крики, говорившие о боли или о страхе.
Что это означало? Слон был, очевидно, чем-то сильно испуган. Но что же могло так его напугать? Мысленно задавали себе этот вопрос Карл и Каспар. И не успели они высказать свое недоумение, как шикари уже ответил им.
— Го-го! — закричал он. — Здорово, очень здорово! Слава богам великого Ганга! Смотри, саибы! Бродяга пойдет вниз — он тонуть в песке, который чуть не глотил Оссару! Го-го! Тонуть… он тонуть!..
Карл с Каспаром быстро поняли смысл восторженной речи Оссару. Следя за движениями животного, они убедились, что шикари прав: слон явно погружался в зыбучие пески.
Они заметили, что, когда он вошел в воду, она была ему немного выше колен. Теперь она омывала его бока и медленно, неуклонно поднималась все выше. Отчаянные попытки, какие делал слон, вздергивая плечи и голову, издавая яростные крики; хобот, лихорадочно метавшийся из стороны в сторону, словно в поисках опоры, — всё подтверждало слова Оссару: бродяга погружался в песок. И он погружался быстро. Не прошло и пяти минут, как вода плескалась уже почти на уровне спины слона и все поднималась, дюйм за дюймом, фут за футом, пока не покрыла его круглую спину, и над поверхностью оставалась только голова с длинным хоботом.
Вскоре спина перестала двигаться, и огромное тело медленно погрузилось в пески.
Хобот был все еще в движении, то яростно взбивая пену на воде, то слегка шевелясь и непрестанно издавая отчаянные вопли.
Наконец поднятая кверху голова и гладкие длинные клыки исчезли под водой и остался только хобот, торчавший, как огромная болонская колбаса. Резкие трубные звуки прекратились, слышалось лишь тяжелое дыхание, иногда прерываемое бульканьем.
Карл с Каспаром оставались на дереве, с невольным ужасом наблюдая эту сцену. Не так поступил шикари: его уже не было на дереве. Увидев, что слон цепко схвачен смертельными объятиями зыбучего песка, который не так давно едва не поглотил его самого, Оссару ловко спустился с ветвей.
Некоторое время он стоял на берегу, следя за тщетными усилиями, которые делал слон, чтобы освободиться, и все время говорил со своим врагом, осыпая его язвительными насмешками; особенно был возмущен шикари ущербом, нанесенным его балахону. Когда над водой оставался только конец хобота, шикари больше не мог удержаться. Выхватив свой длинный нож, он бросился в воду и одним ударом отсек кончик хобота, как срезают серпом сочные побеги травы.
Отрезанный конец хобота упал в воду и пошел ко дну; несколько красных пузырьков поднялось на поверхность, свидетельствуя о том, что гигантский слон окончательно исчез с лица земли. Он погрузился в глубокие пески, где ему суждено было окаменеть, возможно, для того, чтобы через много веков быть откопанным лопатой какого-нибудь изумленного землекопа.
Таким образом, необычайный случай избавил охотников от неприятного соседа, вернее — от опасного врага, с которым им было бы чрезвычайно трудно справиться. Ведь нечего было и думать его застрелить. Драгоценный порох был весь рассыпан, а трех оставшихся у них зарядов было бы недостаточно, чтобы его прикончить из таких мелкокалиберных ружей.
Без сомнения, со временем такие отважные охотники, как Каспар и Оссару, и такой остроумный изобретатель, как Карл, придумали бы способ окружить бродягу и покончить с ним; но все же они были очень рады, что странное обстоятельство избавило их от этого труда, и поздравляли друг друга со счастливым исходом дела.
Услышав голоса хозяев и увидев, что они спустились с дерева, Фриц, скрывавшийся неподалеку, выскочил из своего укрытия и кинулся к ним. Переплывая залив, Фриц едва ли подозревал, что огромное животное, преследовавшее его, находится в этот момент очень близко и что его лапы, рассекающие воду, только на дюйм не достают до страшного хобота, от которого оставался лишь обрубок.
И хотя Фриц ничего не знал об удивительном происшествии, случившемся в его отсутствие, и, быть может, недоумевал, куда скрылся враг, но, когда он переплывал залив, красный цвет воды в одном месте, или, вернее, запах крови, сказал ему, что здесь произошла какая-то кровавая сцена, и, легко рассекая грудью волны, он разразился возбужденным лаем.
Фриц явился получить поздравления. Хотя верное животное убегало всякий раз, как подвергалось нападению, этим оно не запятнало собачьей чести. Пес обнаружил разумную осторожность, так как разве у него были шансы устоять перед таким грозным противником? Поэтому он правильно поступал, обращаясь в бегство; глупо было бы оставаться на месте: тогда он был бы убит при первой же встрече у обелиска, а слон, вероятно, был бы жив и все еще осаждал их на дереве. К тому же Фриц первый подал сигнал тревоги и таким образом дал людям время приготовиться к встрече с врагом.
Охотники считали, что Фриц достоин награды, и Оссару решил угостить пса куском слонового хобота. Но, снова войдя в ручей, шикари, к своей досаде, увидел, что доблестный пес останется без награды: кусок, так ловко отсеченный им, разделил судьбу слоновой туши и находился теперь глубоко в песке.
Оссару не пытался его откапывать. Предательский грунт внушал ему страх; осторожно ступая, он тотчас же вернулся на берег и последовал за саибами, которые уже направлялись к разрушенной хижине.
Глава 25
ДЕОДАР
Теперь охотники отказались от мысли поселиться в пещере. Эта мысль была внушена опасным соседством слона, но его больше не существовало. Трудно было допустить, чтобы в долине находился другой бродяга. Оссару быстро успокоил товарищей на этот счет, заверив их, что в одном и том же районе он никогда не встречал двух подобных животных, ибо два существа с таким злобным характером наверняка не могли бы ужиться вместе.
Возможно, что по соседству обитали и другие звери, не менее опасные, чем слон. Могли встретиться пантеры, леопарды и тигры или даже еще один медведь; но пещера не была бы надежным убежищем от этих врагов; от нее было бы не больше толку, чем от их прежней хижины. Придется построить новую, еще прочнее старой, и навесить крепкую дверь, чтобы обезопасить себя от ночных посещений. За это дело они принялись, как только пообедали и высушили свою одежду, насквозь промокшую после чудовищного душа, каким угостил их слон незадолго до своей гибели.
Несколько дней ушло на постройку хижины, — это было гораздо более совершенное жилище. Зимняя погода почти установилась, и необходим был теплый очаг; поэтому охотники тщательно замазали все щели глиной, соорудили очаг с трубой и сделали крепкую дверь.
Они знали, что им понадобится немало времени, чтобы изготовить лестницы более дюжины длинных лестниц, каждая из которых должна быть легкой, как тростинка и прямой, как стрела.
В более теплые зимние дни они смогут работать на воздухе; вообще большую часть работы придется производить вне хижины. Но все же им необходимо жилище, не только на ночь, но и на время бурь и холодов.
Итак, они проявили предусмотрительность и приняли все меры предосторожности, прежде, чем думать о сооружении лестниц, а также сделали свое жилище уютным и удобным.
Теперь им не страшны были зимние холода — у них имелось жилье; к тому же уцелело несколько шкур, содранных с яков, пригодился и мех зверей, которых подстрелил из двустволки Каспар. Таким образом охотники были обеспечены теплой одеждой для дневной работы, и им было чем укрыться во время сна.
Их гораздо больше беспокоило то, чем они будут питаться зимой. Слон не только уничтожил все средства для добывания пищи, но испортил уже имевшиеся запасы, втоптав их в грязь. Уцелевшие куски сушеной оленины и мяса яков были собраны и спрятаны в надежное место; возможно, что охотникам больше не удастся раздобыть мяса, поэтому решено было растянуть мясные запасы на все время, какое придется пробыть в этой скалистой тюрьме. Правда, пороха больше не было, но они не теряли надежды увеличить свои запасы продовольствия. У Оссару были стрелы, а капканами и ловушками можно будет поймать немало диких животных, которые, подобно им, забрели в эту своеобразную, отрезанную от всего мира долину и оказались здесь в «тюрьме».
Окончив приготовления к зиме, они снова отправились на разведку утесов, которую слон заставил прервать.
Внимательно осмотрев уступы, обнаруженные в тот богатый событиями день, они продолжали обход, пока не сделали полного круга по долине. Они не пропустили ни одного фута скалистой стены: все было обследовано самым тщательным образом; разумеется, утесы, ограждавшие ущелье, заполненное ледником, были исследованы так же, как и все остальные.
Оказалось, что удобнее всего подниматься на обрыв по лестницам как раз в том месте, которое они уже присмотрели; и хотя не было полной уверенности, что они смогут выполнить эту громадную работу, все же они решили попробовать и тотчас занялись изготовлением лестниц.
Первым делом необходимо было выбрать достаточное количество деревьев нужной длины и свалить их. Сперва они остановили выбор на красивых тибетских соснах, из которых в свое время построили мост через трещину, когда вдруг обнаружили еще одно дерево, столь же красивое и более подходящее для их целей. Это был деодар, один из видов кедров. Оссару снова пожалел, что здесь нет его любимого бамбука: будь он здесь в достаточном количестве, шикари сделал бы сколько угодно лестниц, причем вчетверо скорее, чем из сосен. Оссару нисколько не преувеличивал: срубленный ствол большого бамбука — это готовая боковина для лестницы; в нем только нужно вырезать отверстия для ступенек. К тому же бамбук легок и пригодился бы для задуманных ими лестниц лучше всякого дерева: поднимать бамбуковые лестницы на уступы было бы куда легче, чем всякие другие. Хотя в долине рос один вид тростника, который жители холмов называют «рингалл», его стволы не обладали нужной для этой цели длиной и толщиной. Оссару сетовал, вспоминая гигантский бамбук тропических джунглей, заросли которого им попадались по дороге в более низких отрогах Гималаев; нередко его стволы поднимались на высоту ста футов.
В благоприятных условиях деодар достигает крупных размеров: выше в горах встречаются деревья в поперечнике до десяти футов и высотой до ста футов. Такие длинные стволы весьма пригодились бы им и сократили бы их работу.
Поэтому, за неимением бамбука, они выбрали лучший материал, какой мог предоставить им лес, — высокий деодар.
Это дерево, известное жителям Гималаев под именем кедра, давно уже произрастает в английских садах и парках под названием «деодар» — так оно именуется в ботанике. Это настоящая сосна; она нередко встречается в Гималаях почти на любой высоте и на любой почве, как в низких, знойных долинах, так и у границы вечных снегов, но чаще всего — на высоких холмах. Хотя это дерево не отличается красотой, оно высоко ценится, так как из его сока извлекают смолу.
Если деодары растут близко друг от друга, их высокие стволы утончаются кверху, ветви становятся короче, и они принимают конусообразную форму, характерную для елей. Если же дерево стоит одиноко, далеко от других, то у него бывает совсем другой вид. Оно протягивает длинные массивные ветви горизонтально во все стороны; а так как отдельные мелкие ветви и сучья растут тоже горизонтально, каждая ветвь становится плоской, как стол. Деодар нередко достигает высоты ста и более футов.
Деодар высоко ценится решительно повсюду. Он весьма пригоден для строительных целей, хорошо обрабатывается, почти не гниет и легко расщепляется на доски — неоспоримое достоинство в стране, где пилы почти неизвестны. В Кашмире из него строят мосты, которые служат по многу лет. Иные из этих мостов остаются под водой больше чем по полугоду, и, хотя им уже больше ста лет, они еще в хорошем состоянии.
Если подвергнуть деодар тому процессу, каким из других сосен извлекают смолу, он дает жидкость, гораздо более текучую, чем смола, темно-красного цвета, с очень неприятным запахом. Эта жидкость известна под названием «кедрового масла», и горцы применяют ее как средство от кожных заболеваний и от парши у скота.
Деодар растет очень медленно, поэтому в европейских странах он пригоден лишь для украшения парков и садов.
Деодар был выбран для изготовления лестничных боковин именно потому, что он легко расщепляется на доски или небольшие, правильной формы, куски. Охотники не были опытными плотниками, к тому же не располагали необходимым инструментом, и им пришлось бы чрезвычайно долго обтесывать крупные стволы до нужной им толщины. Это был бы каторжный труд. Топорик Оссару и ножи вот все их орудия. Но так как деодар можно раскалывать с помощью клиньев, он был как раз подходящим деревом.
Когда они обследовали деодар, им попался на глаза еще один вид сосны, так называемая «чиль».
Может быть, они прошли бы мимо нее, не обратив внимания, если бы не Карл: как опытный ботаник, он осмотрел сосну и обнаружил, что чиль обладает очень ценными для них свойствами. Карл знал, что чиль принадлежит к соснам, древесина которых богата скипидаром и годится на факелы; ему приходилось читать, что именно так ее используют жители Гималаев, для которых эти факелы заменяют свечи и лампы.
Карл мог бы также сказать своим спутникам, что сочащаяся из дерева живица применяется как мазь для заживления ран. Сосна чиль почти всегда встречается по соседству с деодаром, главным образом в лесах, преимущественно состоящих из деодаров.
Карл мог бы также сообщить им, что в Гималаях растут не только деодар и чиль, но и другие сосны. Он мог бы назвать различные породы. Например, моренда — стройное, красивое дерево с очень темной хвоей, один из самых высоких представителей хвойных, нередко достигающий поразительной высоты: до двухсот футов. Сосна рай, высотой почти не уступающая моренде и, пожалуй, еще красивее. Колин, или обыкновенная сосна, образующая обширные леса на хребтах, имеющих высоту от шести до девяти тысяч футов над уровнем моря; эта сосна лучше всего чувствует себя на сухой, каменистой почве, и можно лишь удивляться, в каких местах она иногда укореняется и растет. Крупные деревья этой породы встречаются на отвесных обрывах гранитных скал. В обрыве оказалась еле заметная трещинка. Туда каким-то образом попало семечко, проросло и с годами превратилось в могучее дерево, которое растет на голых камнях, где, по-видимому, нет ни крупицы земли; можно подумать, что оно извлекает соки прямо из скалы.
Карл не без удовольствия смотрел на чили, которых было так много вокруг. Он знал, что из них можно приготовить сколько угодно факелов, и в темные зимние вечера, вместо того, чтобы сидеть, ничего не делая, в темноте, они смогут работать в хижине до позднего часа, изготовляя ступеньки для лестниц и занимаясь другими мелкими поделками.
Глава 26
ЛЕСТНИЦЫ
Рубка деревьев отняла не много времени. Охотники выбирали лишь тонкие стволы: чем тоньше, тем лучше, лишь бы они были достаточной длины. Больше всего подходили деревья высотой футов в пятьдесят; когда обрубали тонкие верхушки, оставался ствол длиной футов в тридцать, а иногда и больше. Деревья эти были в среднем всего лишь нескольких дюймов в диаметре, и из них легко получались боковины для лестниц — стоило только ободрать кору и расколоть ствол пополам.
Делать ступеньки было тоже нетрудно, но на это ушло много времени, так как их требовалось огромное количество.
Как они и предвидели, труднее всего было просверлить отверстия для ступенек, и это заняло больше всего времени — больше, чем рубка и обтесывание стволов вместе взятые. Будь у них сверло, долото или хотя бы хороший бурав, они легко бы справились с такой задачей. Но им нечем было просверлить хотя бы такое отверстие, чтобы всунуть мизинец. А между тем требовалось проделать сотни отверстий. Как их сделать? Небольшим ножом трудно выдолбить ямку, и пришлось бы долго работать. А ведь им предстояло выдолбить по крайней мере четыреста таких ямок! Сколько бы им пришлось потратить на это времени и сил! Это была бы нудная и бесконечная работа, и еще неизвестно, удалось бы ее выполнить. Лезвия ножей могли затупиться или сломаться задолго до ее завершения.
Правда, будь у них в нужном количестве гвозди, они обошлись бы и без отверстий. Ступеньки просто-напросто прибивались бы к боковинам. Но — увы! — у них не было ни гвоздей, ни инструментов. Гвозди имелись только в подошвах, да, пожалуй, в ружейных прикладах.
Итак, охотники оказались в большом затруднении. Но Карл предвидел эти трудности и заранее принял нужные меры. Решив сооружать лестницы, он обдумал и этот вопрос, найдя удачное решение. Правда, только теоретическое; но позже, когда его теория была применена на практике, она блестяще подтвердилась, чего нельзя сказать об иных научных теориях.
Карл утверждал, что отверстия можно сделать с помощью огня, — иначе говоря, просверлить их раскаленным докрасна железом.
Но где достать железо? Задача, казалось бы, невыполнимая. Но изобретательный Карл и здесь нашел выход. К счастью, у молодого ботаника имелся одноствольный карманный пистолет с совершенно гладким стволом, на котором не было ни мушки, ни колечек для шомпола. Карл предполагал раскалить ствол пистолета и превратить его в сверло. Так он и сделал: сотни раз подряд он его нагревал и вдавливал в боковины лестниц, и в конце концов ему удалось прожечь необходимое число отверстий, то есть вдвое больше, чем было сделано ступенек.
Нет нужды говорить, что эта необычная работа потребовала значительного времени. Прошло много дней, пока ботанику удалось просверлить таким путем четыреста отверстий. Немало пролил он пота, немало пролил и слез — правда, не от досады, а от дыма медленно тлеющего кедрового дерева.
Когда Карл закончил взятую им на себя работу, оставалось сделать уже немногое: сложить каждую пару боковин, вставить ступеньки, прочно связать по концам — и лестница готова.
Они заканчивали их одну за другой и относили к подножию утеса, на который собирались взобраться.
Но эта попытка была сделана наугад и, к сожалению, окончилась неудачей. Одну за другой летницы поднимали на уступы, пока не поднялись на три четверти высоты утеса. Но увы! — тут пришлось внезапно остановиться ввиду непредвиденного обстоятельства. Добравшись до одного уступа (это был четвертый, считая сверху), они с досадой обнаружили, что скала над ним не отступает немного назад, как над остальными уступами, а нависает, выдаваясь на несколько дюймов над его краем. Приставить лестницу к такой скале было невозможно: никакая лестница не встала бы на этом уступе, даже отвесно. Они и не стали поднимать сюда лестницу. К несчастью, стоя у подножия скалы, нельзя было увидеть, что в этом месте утес так нависает над уступом. Но, взобравшись на верхнюю лестницу. Карл сразу же увидел глазом инженера, что это непреодолимая трудность. Убедившись в этом, молодой охотник за растениями медленно, с тяжелым сердцем спустился к своим товарищам, чтобы сообщить им неприятную весть.
Ни Каспар, ни Оссару не собирались снова подниматься. Они уже побывали на уступе и пришли к такому же выводу. Заключение Карла было окончательным.
Все их надежды были разбиты, все труды пропали даром, время потрачено впустую, выдумка не удалась, светлое небо их будущего снова омрачено черными тучами, — и все это из-за одного непредвиденного обстоятельства…
Как и в тот раз, когда они вернулись из пещеры после долгих, бесплодных поисков выхода, — они опустились на камни у подножия скалы, печальные, обескураженные, в полном отчаянии.
Они сидели, то устремив глаза в землю, то переводя их на утес; в каком-то отупении глядели они на прерывистые линии, напоминавшие сеть, сплетенную гигантским пауком, — на длинные лестницы, установленные с таким трудом, по которым они взбирались только один раз и никогда больше не поднимутся!
Глава 27
ПУСТАЯ КЛАДОВАЯ
Долго просидели охотники в глубоком молчании. Воздух был очень холодный, так как была уже середина зимы, но они даже не замечали этого. Глубокое разочарование и горькая досада овладели ими, и теперь им было все безразлично: если бы в этот момент они увидели, что на них катится со снежных высот лавина, никто из них и не подумал бы спасаться.
Им давно уже стала ненавистной эта огромная «тюрьма»; они с ужасом думали, что, быть может, обречены остаться здесь навсегда.
Соломинка, за которую они так долго, с такой надеждой цеплялись, вырвана у них из рук. Они снова тонут.
Охотники просидели с добрый час в мрачном унынии. Пурпурные блики, заигравшие на вершинах снеговых гор, сказали им, что солнце спустилось уже низко и надвигается ночь.
Карл первый это осознал и прервал молчание.
— Братья, — сказал он, называя братом и Оссару, как товарища по несчастью, идемте! Незачем оставаться здесь. Пойдемте домой!
— «Домой»! — повторил Каспар, грустно улыбнувшись. — Ах, Карл, лучше бы тебе не произносить этого слова! Раньше оно было таким приятным, а сейчас звучит для меня, как эхо из глубины могилы. «Домой»! Увы, милый брат, мы никогда не вернемся домой!
Карл ничего не ответил на безнадежную речь брата. У него не находилось слов надежды или утешения. Он молча поднялся с камня, остальные за ним, и все трое уныло направились к своему первобытному жилищу, которое сейчас уже по праву могли назвать своим домом.
Но охотников ожидало новое разочарование. Запас провизии, уцелевшей после разрушительного набега слона, расходовался очень экономно. Но они были так заняты лестницами, что не могли тратить время на что-нибудь другое, и в кладовую ничего не добавлялось: ни рыбы, ни мяса. Запасы быстро таяли, и к тому дню, когда они решили испробовать лестницы, у них оставался лишь кусок сушеного мяса, которого могло хватить только на один раз.
Проголодавшись после целого дня, проведенного в напрасных трудах, они расчитывали поужинать куском мяса и не без удовольствия предвкушали еду ведь природа предъявляет свои права при любых обстоятельствах, и даже самые тяжкие душевные муки не заглушат приступов голода.
Когда они приблизились к хижине и заметили грубую дверь, приветливо открытую им навстречу, когда, взглянув на камышовую крышу, подумали о том, как тепло и уютно там внутри, когда, голодные и озябшие, они представили себе, как трещит на очаге огонь, как шипит в пламени мясо яка, — настроение у них повысилось, и бедняги значительно приободрились.
Так уж устроен человек, и, быть может, это к лучшему. В человеческой душе происходит примерно то же, что и на небе: тучи время от времени скрывают солнце, но оно всякий раз выходит из-за туч.
В этот миг нашим друзьям казалось, что темная туча скрылась, и в сердце снова блеснул луч надежды.
Но это был лишь краткий просвет. Они высекли искру и развели огонь; вскоре пламя ярко разгорелось. Одна потребность была удовлетворена — они могли согреться. Оставалось утолить другую потребность, гораздо более сильную; они стали искать кусок сушеного мяса, из которого хотели приготовить себе ужин, но мясо исчезло.
За время их отсутствия в хижину прокрался неведомый грабитель. Кладовая была опустошена.
Какой-то дикий зверь — волк, пантера или другой хищник — вошел в дверь, которую утром они забыли закрыть, торопясь испытать лестницы. Дверь нашли открытой; но пословица говорит, что незачем запирать конюшню, когда лошадь уже украдена; так было и на этот раз.
Не оставалось ни куска мяса, не было никакой другой еды, и нашим охотникам, а с ними и Фрицу в этот вечер пришлось лечь спать без ужина.
Глава 28
НА ПОИСКИ ЗАВТРАКА
Они так измучились, таская и устанавливая лестницы, что быстро уснули, несмотря на пустоту в желудке. Их сон, однако, не был ни глубок, ни продолжителен; то один, то другой просыпался среди ночи и лежал без сна, размышляя о выпавшей им печальной судьбе и безотрадных перспективах.
У них не было даже обычного утешения, что утром они смогут что-нибудь поесть. Они знали, что, прежде чем позавтракать, придется поискать завтрак в лесу. Пока они не подстрелят какую-нибудь дичь, нечего и думать о еде. Но их тревожил вопрос не только о завтраке, но и об обеде и об ужине — словом, они не знали, что будут теперь есть. Обстоятельства резко изменились. До сих пор кладовая постоянно пополнялась, ибо Каспар был искусным охотником, но теперь она была пуста. Будь у него порох, он быстро снова наполнил бы ее. Но без пороха искусство Каспара было ни к чему; олени и другие животные, которых в долине было множество — не говоря уже о ее пернатом населении, — будут только смеяться, если Каспар вздумает пугать их своей двустволкой. От такого ружья не больше толку, чем от железной палки.
Оставалось всего два заряда, по одному на каждый ствол, и еще один — для винтовки Карла. Когда эти заряды будут истрачены, ни один выстрел не нарушит больше царящую в долине тишину и не разбудит эхо в окружающих ее утесах.
Но охотники даже не допускали мысли, что им больше не убить ни одного из животных, которых кругом так много. Если бы они так думали, то поистине были бы несчастны, и, вероятно, им не удалось бы уснуть в эту ночь ни на миг. Но они не смотрели на будущее безнадежно. Они надеялись, что и без ружей добудут достаточно мяса для пропитания. Перед рассветом они уже проснулись и обсуждали этот вопрос.
Оссару сильно надеялся на свой лук и стрелы; если от них не будет проку, то у него имелась сеть для рыбы; а если бы и она оказалась пустой, опытный шикари знал десятка два других способов перехитрить зверей на суше, птиц в воздухе и чешуйчатых обитателей воды. Карл заявил, что намерен с наступлением весны разводить некоторые съедобные растения и коренья; их было здесь не так много, но при умелом уходе они могли дать хороший урожай. Кроме того, охотники решили в наступающем году запасать съедобные плоды и ягоды и таким образом обезопасить себя от голода в зимние месяцы. Отчаявшись выбраться отсюда при помощи лестниц, они уже не сомневались, что до конца своих дней обречены жить в этой горной долине: никогда им не выйти за пределы окружавшей их гигантской тюремной стены!..
Под впечатлением этой неудачи они обсуждали, на что им можно сейчас рассчитывать и чем они будут питаться в ближайшем будущем. Так незаметно прошел предрассветный час.
Когда первые лучи восходящего солнца озарили снежные вершины, которые можно было увидеть из дверей хижины, все трое были уже заняты какими-то важными приготовлениями. Легко было догадаться, что именно собираются они предпринять. Каспар заряжал двустволку, и заряжал тщательно, ибо это был «последний его заряд».
Карл тоже возился с ружьем, а Оссару вооружался на свой лад, осматривая тетиву лука и наполняя остро отточенными стрелами плетеный мешочек, служивший ему колчаном. Очевидно, они решили заняться охотой и пойти втроем. Действительно, они отправились поискать себе чего-нибудь к завтраку. А так как хороший аппетит — залог успеха, им едва ли грозила неудача, ведь все трое были голодны, как волки.
Фриц был голоден не меньше своих хозяев, и видно было, что он изо всех сил постарается помочь им раздобыть дичи на завтрак. Попадись ему в это утро какой-нибудь зверь или птица — им ни за что бы не вырваться из его могучих челюстей!
Решено было, что охотники пойдут в разные стороны, ибо тогда у них будет больше шансов встретить дичь. А чем скорее они добудут себе что-нибудь на завтрак, тем лучше. Если Оссару удастся застрелить птицу или зверя из лука, он громко свистнет, созывая товарищей к хижине; а если братья подстрелят какую-нибудь дичь, то сигналом будет самый выстрел.
Сговорившись об этом и шутливо поспорив, кто из них настреляет больше всех, охотники разошлись: Каспар двинулся направо, Оссару — налево, а Карл с Фрицем — прямо вперед.
Глава 29
КАСПАР В ЗАСАДЕ
Через несколько минут охотники потеряли друг друга из виду. Карл и Каспар пошли в обход озера с противоположных сторон, а Оссару направился вдоль подножия утеса, надеясь, что здесь ему больше повезет.
Каспар рассчитывал прежде всего встретить на своем пути какура, или лающего оленя.
Этих маленьких животных в долине, казалось, было больше всего. Каспар видел их чуть не каждый раз, как выходил на охоту, а в иных случаях какур оказывался его единственной добычей.
Юноша научился остроумному способу подманивать этих животных на расстояние выстрела — надо было спрятаться в засаду и подражать их крику, который, как можно догадаться по их названию, похож на лай или, скорее, на тявканье лисицы, только гораздо громче.
Какур издает это тявканье всякий раз, как заподозрит, что поблизости притаился враг, и то и дело повторяет его, пока не решит, что опасность миновала, или сам не уйдет подальше от опасности.
Это простоватое небольшое жвачное животное не подозревает, что звук, которым оно, вероятно, предостерегает своих товарищей, нередко приносит гибель ему самому, выдавая его присутствие охотнику или другому смертельному врагу. Не только человек, но и тигр, леопард, чита и другие хищники пользуются этой глупой повадкой лающего оленя и, незаметно подкравшись, убивают его.
Человек легко может подражать его лаю. И Оссару обучал этому искусству Каспара, который с одного урока постиг его в совершенстве. Даже Карл, только присутствовавший на уроке, научился воспроизводить эти характерные звуки.
В настоящий момент голод заставлял Каспара охотиться на какура, так как его было легче всего встретить. Мясо других оленей и птиц гораздо вкуснее, чем у лающего оленя. Оленина такого сорта не слишком ценится. Осенью и зимой она бывает вполне съедобна, но ни в какое время года не бывает вкусной.
Но в это утро Каспар был не слишком разборчив и знал, что товарищи тоже не откажутся от мяса какура: голод лишил их всякой привередливости. Поэтому Каспар шел все в одном направлении, не блуждая по сторонам, как обычно делают охотники в поисках дичи.
Он знал место, где какура можно было встретить почти наверняка. Это была живописная прогалина, окруженная густыми зарослями вечнозеленых кустарников; она находилась невдалеке от озера, на противоположном от хижины берегу.
Каспару случалось заглядывать на эту прогалину, и всякий раз ему попадались какуры, которые или паслись в густой траве, или лежали в тени кустов. Поэтому сейчас он надеялся, как всегда, встретить на прогалине этих животных.
Он шел, не останавливаясь, пока не очутился в нескольких шагах от места, где надеялся раздобыть мяса на завтрак; тут он вошел в кусты и стал продвигаться медленно и крайне осторожно. Чтобы вернее добиться успеха, он опустился на четвереньки и пополз в зарослях бесшумно, как кошка, крадущаяся за добычей. Так добрался он до края прогалины, старательно прячась за густыми кустами, чтобы его не приметил какур или какое-нибудь другое животное, которое могло находиться на полянке.
Подкравшись к краю прогалины, Каспар остановился; осторожно приподнявшись, он слегка раздвинул густые ветки и выглянул. Достаточно было нескольких секунд, чтобы оглядеть прогалину, и, когда осмотр был окончен, на лице охотника отразилось разочарование. Вокруг не было видно никакой дичи: ни какура, ни других четвероногих.
Молодой охотник не без досады обнаружил, что полянка совершенно пуста; он был огорчен, увидав, что не достанет здесь мяса на завтрак. К тому же он надеялся, зная местность лучше других, первым раздобыть дичи, что польстило бы его охотничьему самолюбию, а теперь это едва ли удастся.
Однако неудача не обескуражила Каспара. Если какуров нет на полянке, они могут быть в окружающих ее зарослях; может быть, ему удастся выманить одного из них на открытое место, применив уловку, к которой он уже прибегал.
Итак, он присел на корточки за кустом и залаял, искусно подражая какуру.
Глава 30
ПОДКАРАУЛИЛИ ДРУГ ДРУГА
Довольно долгое время призывы Каспара оставались без ответа; по-видимому, кругом не было ни одного живого существа.
Несколько раз он принимался лаять, потом чутко прислушивался, и ему уже казалось, что в этих местах нечего рассчитывать на добычу.
Он залаял в последний раз, старательно подражая оленю, и хотел уже встать и перейти на другое место, как вдруг на его призыв ответил настоящий какур; казалось, крик доносился из чащи, с другой стороны прогалины.
Звук был слабый, словно животное находилось далеко, но Каспар знал, что раз какур ответил на его зов, то вскоре непременно приблизится. Поэтому он снова принялся лаять, потом стал прислушиваться, надеясь уловить отклик.
Тявканье какура снова донеслось по ветру, и эти звуки были до того похожи на издаваемые Каспаром, что он принял бы их за эхо, если бы не знал, что издает их олень. Обнадеженный успехом, Каспар еще раз повторил свой зов. На этот раз, к удивлению молодого охотника, ответа не последовало. Он чутко вслушивался в тишину, но до него не донеслось ни звука.
Он пролаял еще раз и снова прислушался. Кругом царило глубокое, ненарушимое безмолвие.
Но вдруг тишину нарушил другой звук — это не был лай какура, но звук, не менее приятный для слуха молодого охотника. По ту сторону полянки листья зашелестели, словно в зарослях пробиралось какое-то животное.
Присмотревшись, Каспар заметил (или ему только показалось?), что в той стороне, откуда доносился звук, шевельнулись ветки. Нет, ему не показалось: еще через минуту он различил позади шевелившегося куста какой-то темный предмет. Это мог быть только какур. Хотя животное находилось совсем близко-ведь полянка была шириной в каких-нибудь двадцать ярдов, — Каспару никак не удавалось его разглядеть. Оно было скрыто листвой, к тому же его не позволяли рассмотреть предрассветные сумерки. Было, однако, достаточно светло, чтобы прицелиться, а так как оленя закрывали лишь тонкие ветки, то Каспар не боялся, что они помешают пуле. Медлить не приходилось. Нельзя упустить такой случай; если он будет еще ждать или снова залает, то какур может заметить обман и скрыться в зарослях.
— Ну так вот же тебе! — пробормотал Каспар; он привстал на одно колено, вскинул ружье и прицелился.
У правого ствола его ружья был великолепный замок — из тех, что громко щелкают, когда их взводят, и этим доказывают, что спускная пружина в порядке.
В глубокой утренней тишине щелканье раздалось так громко, что его вполне можно было услышать по ту сторону прогалины или несколько дальше. Каспар даже подумал, что оно вспугнет оленя, и, взводя курок, не спускал глаз с кустов. Животное не шевельнулось. Но почти одновременно со щелканьем его курка, словно это было эхо, до слуха охотника донеслось другое щелканье, явно исходившее из кустов, где стоял какур.
К счастью, курок Каспара щелкнул достаточно громко; к счастью, он услыхал ответный звук, иначе он мог бы застрелить своего брата, или брат застрелил бы его, или же они убили бы друг друга.
Как бы то ни было, второе щелканье заставило Каспара вскочить на ноги. В тот же миг по другую сторону полянки вскочил и Карл, и оба стояли с наведенными друг на друга ружьями, словно готовые начать смертельную дуэль.
Если бы кто-нибудь увидел их в этот момент, то по их позам, по их возбужденным взглядам решил бы, что намерения их именно таковы, и не сразу бы отказался от этой страшной мысли, ибо прошло несколько секунд, прежде чем братья смогли произнести хоть слово, — так они были потрясены.
Это было не просто удивление — это был леденящий страх, ужас: ведь чуть было не разыгралась трагедия. Но мало-помалу они пришли в себя и стали благословлять счастливый случай, который спас их от братоубийства.
В течение нескольких секунд братья молчали, затем у них вырвались краткие, прерывистые восклицания. Словно повинуясь одному и тому же импульсу, они разом швырнули ружья наземь. Потом ринулись с двух сторон через полянку и сжали друг друга в объятиях.
Объяснений не требовалось. Карл, обходя озеро с другой стороны, случайно уклонился в сторону этой прогалины. Приближаясь к ней, он услышал тявканье какура, не подозревая, что это лает, приманивая добычу, Каспар. Он ответил на зов и, видя, что какур не двигается с места, направился к полянке, чтобы подстеречь и убить его. Подойдя ближе, он перестал отвечать на зов, полагая, что найдет какура на открытом месте. А когда он был уже на опушке, Каспар снова изобразил какура, да так искусно, что Карл невольно поддался обману. Разглядев сквозь зелень листвы темное пятно, он уже не сомневался, что перед ним какур; Карл готов был взвести курок и пронзить оленя пулей, когда раздалось щелканье двустволки Каспара, и этот зловещий звук вовремя остановил охотника. Таким образом, дело обошлось без трагедии.
Глава 31
СИГНАЛ ШИКАРИ
Братья всё еще были под впечатлением пережитого ими смертельного ужаса, когда их мысли отвлек новый звук, долетевший со стороны озерка. Это был резкий, раскатистый свист, повторенный эхом. Через некоторое время сигнал донесся уже из другого места, доказывая, что Оссару что-то раздобыл и возвращается к хижине.
Услыхав сигнал, Карл и Каспар многозначительно переглянулись.
— Итак, брат, — сказал Каспар, как-то странно улыбаясь, — ты видишь, Оссару со своим жалким луком и стрелами опередил нас. Но что было бы, если бы один из нас выстрелил раньше него?
— Или, — заметил Карл, — если бы выстрелили мы оба? Слушай, Каспар, — прибавил он содрогнувшись, — ведь мы чуть было не уничтожили друг друга! Страшно и подумать!..
— Не будем же об этом думать, — ответил Каспар, — а пойдем домой и посмотрим, что принес нам на завтрак Осси. Интересно знать, дичь это или рыба?.. Одно из двух, — продолжал он, помолчав. — Должно быть, дичь, потому что, обходя озеро, я слышал какие-то странные крики со стороны утесов, куда направился Оссару. По-видимому, это кричали какие-то птицы, но, мне кажется, я в первый раз слышу такой крик.
— А мне приходилось его слышать, — возразил Карл. — Кажется, я догадался, какая птица издает такие дикие крики. И если шикари застрелил одну из них, у нас будет царский завтрак. Думаю, сам Лукулл не отказался бы от него… Но пойдем на зов шикари и посмотрим, действительно ли нам выпало такое счастье.
Братья уже успели подобрать свои ружья. Повесив их за плечо, они покинули полянку, едва не ставшую местом трагических событий, и, пройдя по берегу озера, быстро зашагали к хижине.
Подходя к ней, они увидели шикари, сидевшего на камне у порога, а на коленях у него — великолепную птицу, самую красивую из всех, какие только летают в воздухе, плавают по воде или ходят по суше: павлина. Это была не та похожая на индюка птица, что важно расхаживает по птичьему двору, гордясь своей красотой, а дикий индийский павлин, на диво изящный и стройный, с оперением, сверкающим, как драгоценные камни, и — что всего важнее для охотников — с нежным и вкусным мясом, как у самой лучшей дичи. Было ясно, что Оссару ценит павлина именно за это его качество. Изящную форму он уже уничтожил, блистательное оперение обрывал и пускал по ветру, как самый обыкновенный куриный пух.
И жесты шикари показывали, что к великолепным хвостовым перьям и роскошному пурпурному нагруднику он питает не больше уважения, чем если бы на коленях у него лежал старый гусь или индюк.
Оссару не проронил ни слова, когда подошли товарищи. С первого взгляда он обнаружил, что молодые саибы возвращаются с пустыми руками, и в глазах у него блеснуло торжество. Впрочем, Оссару, и не глядя, уже был уверен, что с добычей вернулся он один. Ведь если бы один из братьев убил дичь или только нашел ее, шикари услыхал бы ружейный выстрел, а между тем ни один звук такого рода не будил отголосков в долине. Поэтому Оссару знал, что охотники идут с пустыми ягдташами.
Не в пример молодым саибам, с ним не было никаких особых приключений. Его охота протекала без малейшего звука и, как большинство подобных охот, окончилась смертью преследуемой птицы. Он услышал крик старого павлина, сидевшего на вершине высокого дерева, подкрался к нему на расстояние выстрела и, пронзив стрелой сверкающее горло, свалил наземь. Потом он грубо схватил прекрасную птицу за лапки и поволок крыльями по земле, словно нес на калькуттский базар обыкновенную курицу, пойманную на навозной куче.
Карл с Каспаром решили не тратить времени, рассказывая шикари о происшествии, в результате которого он чуть было не остался единственным и неоспоримым владельцем их уединенного жилища и всех земель вокруг него. Голод подгонял их; пришлось отложить рассказ на будущее время и помочь Оссару в его кулинарных приготовлениях. С их помощью вскоре был разведен яркий огонь, и над ним жарился павлин, не слишком тщательно ощипанный, а Фриц быстро управился с потрохами.
Глава 32
КАМЕННЫЙ КОЗЕЛ
Правда, павлин был крупный, однако после столь изысканного завтрака от него почти ничего не осталось — одни кости, да и те были начисто обглоданы, так что Фриц имел бы основания жаловаться, если бы уже не угостился потрохами.
Вкусный завтрак значительно подбодрил охотников; но все же они с тревогой помышляли о том, как будут впредь добывать себе провизию: обстоятельства резко изменились с тех пор, как погиб их порох.
У Оссару еще оставались лук и стрелы; можно было сделать и другие луки, если этот сломается.
Каспар собирался даже завести собственный лук и упражняться в стрельбе под руководством шикари, пока не овладеет этим старомодным и всемирно известным оружием.
Старомодным его вполне можно назвать, так как он существовал еще на заре истории, и всемирно известным — также, ибо, куда бы мы не отправились, даже в самых отдаленных закоулках земного шара, мы найдем в руках у дикаря лук, не скопированный с какого-либо образца и не привезенный из других мест, но, очевидно, искони находившийся в этой стране и у этого племени, словно это оружие было вложено человеку в руки, как только он был создан.
В самом деле, факт распространения лука и его неизбежной союзницы — стрелы — среди диких племен, которые обитают в различных странах света и, разумеется, не могли заимствовать друг у друга это изобретение, — один из самых странных фактов в истории человечества; его можно объяснить лишь тем, что использование энергии туго натянутой струны было, вероятно, весьма ранним открытием человеческого разума и что эта идея зародилась самостоятельно у различных народов, всякий раз воплощаясь по-новому.
Лук и стрела, безусловно, очень древний вид оружия и чрезвычайно распространенный. Опытному этнографу этот предмет может рассказать немало интересного о быте и нравах наших далеких предков…
Как уже сказано, после вкусного жаркого охотники почувствовали себя бодрее, но все же их весьма беспокоил вопрос, как добывать пищу.
Ловкость Оссару обеспечила им завтрак. Но как быть с обедом, а потом с ужином? Даже если для следующей трапезы и подвернется что-нибудь, в дальнейшем им не всегда будет так везти. Ведь питаться лишь тем, что попадется под руку, — ненадежный способ существования, и они постоянно будут под угрозой голодной смерти.
Поэтому, как только покончили с павлином и пока Оссару, который ел медленнее всех, еще шлифовал зубами павлиньи косточки, братья уже завели речь о необходимости иметь запасы. И все согласились, что главная задача наполнить кладовую провизией. Поэтому они решили заняться охотой, пользуясь всеми известными им средствами и придумывая новые, если этих окажется недостаточно.
Итак, надо прежде всего решить, что у них будет на обед: рыба, дичь или мясо? Они не надеялись достать сразу и то, и другое, и третье — в их положении не приходилось думать о настоящем обеде. Хватит с них и одного блюда, лишь бы быть уверенным, что оно у них всегда будет.
Идти ли им за рыбой с сетью, которую сплел Оссару, или попытаться поймать еще одного павлина, фазана-аргуса или несколько гусей, или же им лучше пойти в лес и разыскивать там более крупную добычу — этот вопрос все еще оставался открытым, когда произошел случай, сразу решивший проблему их обеда. Без малейшего усилия, не затратив ни одного патрона, ни одной стрелы, им удалось раздобыть мясо не только на один обед, но и на целую неделю, а обрезков хватило и для Фрица.
Они сидели, по своему обыкновению, на больших камнях, лежащих перед хижиной. Утро было ясное и тихое, но холодное; ослепительно сверкали снега на горных вершинах; охотники отдыхали и грелись на солнышке.
В хижине было немного дымно, так как пришлось долго жарить павлина, поэтому они предпочли завтракать на воздухе и там же совещались о своих дальнейших предприятиях.
Беседуя, они услышали звук, несколько напоминавший блеяние козы; казалось, он доносится с неба, но они знали, что его издает какое-то животное, которое находится на вершинах утесов.
Взглянув наверх, они увидели это животное, и если его голос показался им похожим на козий, то и внешность подтверждала это сходство.
Сказать по правде, это и была коза, хотя и необычной породы, вернее — это был каменный козел.
У Карла еще раз оказалось преимущество перед своими спутниками: как опытный естествоиспытатель, он сразу определил породу животного.
С первого же взгляда он решил, что это каменный козел. Он никогда еще не видел их живыми, но по характерному облику, по лохматой шкуре и особенно по огромным кольчатым рогам, плавно загибающимся назад, Карл узнал это животное, сравнив его с рисунками, какие приходилось видеть в книгах, и с чучелами, которые рассматривал в музеях.
Оссару тоже подтвердил, что это козел, — верно, какая-то порода диких коз, решил он; но Оссару раньше никогда не поднимался так высоко в горы, не бывал в тех местах, где часто встречается каменный козел, а потому и не знал его. Он сразу увидел только, что животное похоже на козла, и это сходство уловил и Каспар.
Животное, величаво стоявшее на выступе скалы, было видно им с ног до головы; с такого расстояния оно казалось не больше козленка, хотя в действительности было гораздо крупнее всякой домашней козы. На ярко-синем небе четко вырисовывались контуры его стройного тела и длинные, красиво изогнутые рога.
Первой мыслью Каспара было схватить ружье и выстрелить в козла, но товарищи поспешили его остановить, сказав, что в него невозможно попасть с такого расстояния. С первого взгляда казалось, что козел не так далеко, но на самом деле он находился от них значительно дальше, чем в ста ярдах, ибо стоял на утесе высотой по крайней мере в четыреста футов.
Поразмыслив об этом, Каспар отказался от своего намерения и через минуту сам подивился своему безрассудству: он чуть было не потратил заряд, да еще предпоследний, на животное, находящееся в добрых пятидесяти ярдах за пределами досягаемости для его пули.
Глава 33
КОЗЫ И ОВЦЫ
Каменный козел все еще оставался на краю обрыва, видимо не собираясь уходить; он стоял неподвижно, как статуя, и охотники продолжали за ним наблюдать. Но это не мешало им вести беседу. Животное стояло, словно позируя для портрета, и Карл решил набросать его портрет словами. Он говорил, обращаясь к обоим своим спутникам, но ему хотелось сообщить эти сведения главным образом Каспару.
— Каменный козел, — начал он, — это животное, еще издавна знаменитое, о котором кабинетные ученые написали немало ерунды, как, впрочем, почти обо всех животных, существующих на Земле. По их мнению, это попросту коза конечно, дикая, но все-таки коза, повадками и внешностью весьма напоминающая свою домашнюю тезку. Как известно, разновидностей обычной козы примерно столько же, сколько стран, где она водится. Впрочем, это не совсем так, ибо в пределах одной страны можно встретить три — четыре породы, например, в Великобритании. И эти козьи породы почти так же различаются между собой, как и породы собак; поэтому среди зоологов было немало споров о том, от какой именно породы диких коз они произошли. И вот, по моему мнению, — продолжал охотник за растениями, — домашние козы, встречающиеся у различных народов, произошли не от одного дикого вида, а от нескольких, подобно тому как породы домашних овец произошли от нескольких диких видов, хотя многие зоологи отрицают этот очевидный факт.
— Значит, существует несколько видов диких коз? — спросил Каспар.
— Да, — отвечал молодой ботаник, — правда, их не слишком много — вероятно, десять — двенадцать. До сих пор зоологам известны далеко не все породы диких коз, но несомненно, когда центральные области Азии и Африки с их обширными горными цепями будут исследованы учеными-натуралистами, будет установлено, что этих пород не менее двенадцати.
Отвлеченные теоретики, определяющие род и вид животных на основании какого-нибудь маленького бугорка на зубе, уже создали удивительную путаницу в семействе коз. Они разделили это семейство на пять родов, которые почти все состоят лишь из одного вида. Таким образом, они напрасно усложняют и затрудняют изучение предмета.
Не подлежит сомнению, что все козы, дикие и домашние, включая каменного козла, образуют в мире животных отдельное семейство, которое легко отличить от овец, оленей, антилоп и быков. По внешнему виду дикие козы иногда очень похожи на некоторые породы диких овец, но козы гораздо смелее диких овец и вообще значительно отличаются от них всеми своими повадками.
Вот этот каменный козел, — продолжал Карл, бросив взгляд на животное, стоящее на утесе, — относится к диким козам. В Гималаях есть и другие виды дикой козы — например, тагир, который сильнее и крупнее каменного козла. Можно думать, что когда эти великие горы как следует обшарят, — тут Карл невольно улыбнулся, поймав себя на том, что употребил далеко не научное выражение, — то обнаружат еще несколько видов.
Существуют и другие виды каменного козла, обитающие в Альпах, в Пиренеях, на Кавказе и в горах Африки.
Что касается животного, находящегося перед нами, или, вернее, над нами, то оно мало отличается от других представителей этого семейства; а так как оно превосходно описано одним знаменитым натуралистом, то я лучше всего процитирую вам его слова.
«Самец, — пишет он, — бывает величиной почти с тагира. Кроме периода непосредственно после линьки, когда шерсть у него сероватая, каменный козел бывает обычно грязного желтовато-бурого цвета. Шерсть у него короткая и в холодное время года смешана с очень мягким, пушистым подшерстком, похожим на тибетскую шалевую шерсть. Характерный вид каменному козлу придают главным образом красивые рога, подаренные ему природой. У взрослого животного рога, грациозно изогнутые над спиной, достигают трех-четырех футов в длину. Борода у него черная, лохматая, длиной в шесть-восемь дюймов. Самка отличается светлой желтовато-бурой окраской и втрое меньше самца; рога у нее трубчатые, суживающиеся к концу, длиной всего в десять-двенадцать дюймов. Это очень ловкое и грациозное создание.
Летом каменные козлы поднимаются в поисках корма как можно выше.
Это переселение начинается, едва станет сходить снег, и совершается постепенно: животные переходят с холма на холм и остаются на каждом месте по нескольку дней.
В это время года самцы держатся большими стадами отдельно от самок. В жаркое время дня они обычно спят на снежных сугробах в лощинах или на скалах и голых, каменистых склонах выше границы растительности. К вечеру они отправляются на свои пастбища. Сперва они идут очень медленно, но если им предстоит пройти большое расстояние, то пускаются рысью. Как можно заключить из рассказов туземцев, самцы остаются на высотах до конца октября, когда начинают смешиваться с самками и мало-помалу спускаются с гор, направляясь на зимние квартиры. Самки не забираются так высоко; многие остаются на одном и том же месте круглый год. Они приносят детенышей в июле, обычно двоих за раз, хотя, как и у других стадных животных, многие оказываются бесплодными.
Каменные козлы — осторожные животные, одаренные очень острым зрением и превосходным обонянием. Они чрезвычайно пугливы, и бывали случаи, когда целое стадо при виде человека обращалось в бегство, не подпустив его на выстрел.
Известно, что каменный козел с необычайной ловкостью карабкается по скалам и легко перепрыгивает через пропасти. Иной раз он взбирается на самую неприступную с виду высоту. Кажется, ничто не может его остановить. Поразительное зрелище представляет собой вспугнутое выстрелом стадо каменных козлов, которое мчится по прямой линии в диких, непроходимых горах: они прыгают с утеса на утес, проносятся у самого края отвесного обрыва, прорываются сквозь осыпь, ускользают от лавины и, нырнув в ущелье, из которого, кажется, нет выхода, через несколько секунд из него выбегают; при этом они ни на миг не уклоняются от прямого направления и делают до пятнадцати миль в час. Трудно найти животное, быстротой и ловкостью превосходящее каменного козла».
Глава 34
ПОЕДИНОК КОЗЛОВ
Не успел Карл окончить свой рассказ, как с животным, которое они наблюдали, произошел любопытный случай, наглядно показавший им нравы каменных козлов.
Внезапно на утесе появился еще один козел, направлявшийся к первому. Это был тоже самец, что подтверждали его огромные, изогнутые рога; он был не меньше первого и похож на него, как родной брат. Однако это было маловероятно. Во всяком случае, второй козел не обнаруживал братских чувств. Напротив, он двинулся вперед с явно враждебными намерениями: опустил голову так, что борода коснулась земли, а рога взметнулись высоко вверх; короткий хвост был поднят и болтался из стороны в сторону, выдавая его злобные намерения. Все это охотники могли разглядеть даже на таком большом расстоянии, так как козлы отчетливо выделялись на фоне неба и легко было уловить их малейшие движения.
Сперва второй козел приближался медленно, крадучись, словно намеревался внезапно прыгнуть на соперника и столкнуть его с утеса. Впоследствии обнаружилось, что таковы и были его замыслы, и, если бы первый козел еще пять-шесть секунд простоял все в той неподвижной позе, его врагу сразу же удалось бы выполнить свой коварный замысел.
К сожалению, через некоторое время это ему удалось — правда, после яростной борьбы, во время которой он сам рисковал свалиться в пропасть, куда хотел сбросить соперника. Крик Каспара отсрочил роковую развязку, но, увы, ненадолго. При виде коварно подкрадывавшегося козла у молодого охотника невольно вырвался предостерегающий возглас. Козел, находившийся в опасности, не понял, в чем дело, но сразу же насторожился и стал оглядываться по сторонам. Тут он заметил опасность и мгновенно принял меры, чтобы ее предотвратить. Взвившись на дыбы, он повернулся вокруг своей оси и снова встал на четыре ноги, глядя в упор на противника. Он и не думал отступать и принял вызов как что-то вполне естественное. Правда, ему не так просто было отступить. Утес, на котором он стоял, выдавался вперед наподобие мыса, и всякое отступление было отрезано противником. С трех сторон был отвесный обрыв. Если он не примет битву, то будет сброшен в бездну. Волей-неволей ему приходилось обороняться.
Едва он успел принять защитную позицию, как противник ринулся на него. Оба одновременно испустили свирепое фырканье и, взвившись на дыбы, стояли друг против друга вертикально, как два борца. Именно так дерутся обыкновенные козлы, которые унаследовали воинственные повадки своих диких предков. Вместо того чтобы бодаться, оттесняя друг друга назад, как это делают бараны, козел поднимается на дыбы и снова падает на ноги, выставив рога, чтобы ринуться, как таран, на врага и, пригнув его к земле, раздавить в лепешку.
Раз за разом, без передышки, противники поднимались на дыбы и ударяли рогами сверху вниз; но вскоре стало очевидным, что тот, кто напал первым, будет победителем. Положение у него было более выигрышным: площадка, на которой стоял его противник и с которой ему нельзя было уйти, была недостаточно широка, чтобы как следует развернуться, а боязнь поскользнуться и сорваться с утеса, видимо, стесняла движения злополучного козла. Нападавший, у которого было больше простора, мог налетать и отступать, сколько ему угодно, то пятясь назад шаг за шагом, то бросаясь вперед, вновь поднимаясь на дыбы и снова падая на ноги. Всякий раз он повторял нападение с новым пылом, так как сознавал все преимущества своего положения и, промахнувшись, всегда мог повторить удар: между тем для его противника один неудачный удар или даже неверный шаг повлек бы за собой неизбежную гибель.
Был ли козел, подвергшийся нападению, слабее другого или же он занимал слишком невыгодное положение, но вскоре стало ясно, что ему не устоять перед противником. С самого начала он, по-видимому, только оборонялся, и, вероятно, если бы ему было куда бежать, он сразу же пустился бы наутек. Но о бегстве нечего было и думать с самого начала поединка, и податься было некуда. Его мог бы спасти только огромный прыжок: надо было перескочить через противника, не задев его рога.
Кажется, это и пришло ему в голову, так как, внезапно переменив тактику, он взметнулся высоко вверх, вероятно пытаясь перемахнуть через рога противника, чтобы искать спасения на снежных вершинах.
Если таково и было его намерение, оно окончилось роковой неудачей. В то мгновение, когда он, оттолкнувшись от земли, высоко подпрыгнул, противник со страшной силой ударил его в бок своими огромными рогами и отшвырнул, словно мяч, далеко от утеса.
Удар был так страшен, что козел стремглав полетел вниз; перевернувшись в воздухе несколько раз, он тяжело рухнул на дно долины, где, ударившись о камни, подпрыгнул на добрых шесть футов и неподвижно растянулся на земле.
Зрители были так поражены этим неожиданным происшествием, что не сразу пришли в себя. Однако подобные случаи нередко происходят в диких ущельях Гималаев, где постоянно разыгрываются битвы между самцами каменных козлов, тагиров, беррелов, диких баранов или гигантских архаров.
Иной раз такие поединки происходят на краю отвесного обрыва, так как все эти животные любят бродить высоко в горах, и тогда исход битвы бывает таким, какой видели наши охотники: один из противников поднимает другого на рога или сталкивает его в пропасть.
Не следует думать, что побежденный всякий раз бывает убит. Если обрыв не так высок, тагир, каменный козел или беррел после падения встает на ноги и убегает или уходит, хромая, и, быть может, поправившись, опять попытает счастья в новой схватке с тем же врагом. Поразительный случай такого рода описан ученым-охотником, полковником Маркхемом. Приведем его описание: «Я был свидетелем невероятного подвига, совершенного старым тагиром. Я выстрелил в тагира, когда он стоял на высоте примерно восьмидесяти ярдов, на самом краю скалы. Он пролетел это расстояние по вертикали, не касаясь каменной стены, упал на землю, подскочил и свалился ярдах в пятнадцати дальше. Я думал, что он разбился вдребезги, но он поднялся на ноги и побежал прочь, и, хотя мы долго шли за ним по кровавым следам, нам все-таки не удалось его найти».
Мои юные читатели, вероятно, вспомнят, что немало подобных случаев наблюдалось в Скалистых горах в Америке, где живут горные бараны — крупные дикие животные, которые так похожи на гималайских архаров, что некоторые натуралисты относят их к одному виду. Местные охотники уверяют, что горный баран бесстрашно бросается вниз с высокого утеса, ударяется о землю рогами и, подскочив, словно мяч, как ни в чем не бывало встает на ноги, ничуть не ошеломленный этим страшным, головоломным прыжком.
Разумеется, в этих «охотничьих рассказах» есть некоторая доля преувеличения, но не подлежит сомнению, что большинство разновидностей диких баранов и коз, а также некоторые горные антилопы — например, серна и козерог — могут проделывать поразительные прыжки, которые кажутся прямо невероятными человеку, незнакомому с повадками этих животных. Трудно понять, каким образом тагиру, о котором рассказывает полковник Маркхем, удалось упасть с высоты двухсот сорока футов, не говоря уж о вторичном падении в сорока пяти футах от места первого, и не разбиться вдребезги. Но как ни трудно поверить такому факту, его все же не следует отрицать. Кто знает, может быть, кости у этих животных обладают особой эластичностью, позволяющей им выдерживать такие необычайные падения.
У некоторых животных можно встретить органы, назначение которых не совсем еще выяснено. Как известно, природа чудесно приспосабливает свои создания к окружающей их среде. Можно допустить, что дикие козы и овцы — своего рода Блондены[183] и Леотары[184] среди четвероногих — снабжены известными приспособлениями, которые отсутствуют у других животных. Не изучив в совершенстве анатомию животных, мы не вправе оспаривать слова такого авторитета, как полковник Маркхем, который, конечно, не имел оснований преувеличивать.
Но в данном случае нельзя было ожидать, что козел уцелеет. Он упал с такой страшной высоты на камни, что в нем не могла сохраниться хотя бы искра жизни. И в самом деле, подойдя поближе, охотники увидели, что животное лежит неподвижно, безжизненно распростертым на земле.
Глава 35
БЕРКУТЫ
Охотники от души порадовались, что их кладовая так неожиданно пополнилась мясом, упавшим к ним прямо с неба, как библейская манна.
— Наш обед! — весело крикнул Каспар, услышав стук падения. — А также ужин! добавил он. — Нет, больше того: такой туши хватит на целую неделю!
Все трое вскочили и готовы были кинуться за своей добычей, когда услыхали дважды повторенный резкий крик, раздавшийся, по-видимому, с вершины утеса или даже с горного склона над ней.
Может быть, это крик победителя-козла, торжествовавшего победу? Нет, козел не мог так кричать; не могло и ни одно четвероногое. Охотники не сомневались в этом. Взглянув кверху, они увидели существо — вернее, два существа, издававшие эти крики.
Козел-победитель все еще стоял на скале. Несколько секунд, пока внимание зрителей было занято другим, он, казалось, любовался только что совершенным злодеянием и, возможно, наслаждался победой над неудачливым противником. Во всяком случае, он остановился на выступе скалы, где только что стоял его враг.
Однако крик, услышанный охотниками, в тот же миг долетел и до слуха козла; подняв голову, они увидели, что козел озирается с явной тревогой. В воздухе, в нескольких ярдах над ним, виднелись два силуэта, в которых легко было узнать летящих птиц. Они были крупные, черного цвета; по четким очертаниям и по огромному размаху крыльев сразу было видно, что это хищные птицы.
Охотники живо определили их породу: это были орлы того вида, который в Гималаях и в Тибетских степях известен под названием «беркут».
Они описывали в воздухе короткие, изломанные кривые, время от времени резко вскрикивая одновременно, и по их возбужденному виду, по всем движениям можно было догадаться об их намерениях. Они готовились напасть на врага, и этот враг был не кто иной, как каменный козел.
Козел, видимо, понимал, что ему угрожает. Несколько мгновений он словно колебался, как ему поступить. У него уже не было гордого, вызывающего вида, как недавно, когда он нападал на противника одной с ним породы: он стоял, как-то съежившись, точно парализованный страхом. Такого эффекта и добивались своими криками орлы, и это как нельзя лучше удалось свирепым птицам.
Охотники не спускали глаз с действующих лиц этой новой драмы, с величайшим интересом следя за движениями птиц и животного. Всем хотелось увидеть, какую кару понесет козел за свой зверский поступок.
Как видно, их желание должно было исполниться — убийце суждена была гибель. Они ожидали, что сражение будет длительным, но обманулись. Стычка оказалась столь же краткой, как и приготовления к ней: не прошло и десяти секунд, как беркуты ринулись с высоты, напали на козла и стали бить его то клювом, то когтями.
Несколько мгновений козел был почти скрыт широко раскинутыми крыльями беркутов; но по временам можно было увидеть, что он не слишком-то энергично обороняется. Внезапная атака столь странных врагов, видимо, ошеломила козла, и он был словно скован страхом.
Но вскоре козел опомнился и, взвившись на дыбы, стал яростно отбиваться рогами. Однако беркуты были начеку: всякий раз, как животное бросалось вперед, они легко избегали удара, отлетали в ту или другую сторону, а потом, быстро повернув, нападали на него сзади.
Во время битвы козел оставался там же, где подвергся нападению, и то бросался в разные стороны, то стоял, сдвинув передние копыта, то поднимался на дыбы, поворачиваясь вокруг своей оси.
Ему лучше было бы стоять на четырех ногах, так как в этой позе он смог бы дольше продержаться — быть может, до тех пор, пока не отбил бы своих крылатых противников или не измотал их продолжительной обороной.
Но сражаться «на четвереньках» было не в его обычаях. Это противоречило традициям его племени, все представители которого с незапамятных времен привыкли сражаться, стоя на задних ногах.
Следуя этому правилу, он выпрямился во весь рост и нацелился было ударить в грудь одного из беркутов, налетавшего на него спереди, когда другой, слегка отлетев назад для разгона, бросился на него, как стрела, и, вцепившись когтями козлу в шею, коротким, сильным толчком загнул ему голову так далеко назад, что тот потерял равновесие и свалился с утеса. В следующий миг козел очутился в воздухе, падая с той самой страшной высоты, которую недавно измерила его жертва.
Зрители ожидали, что он упадет на землю, больше не подвергаясь нападению своих крылатых врагов. Но случилось по-другому. Не успел козел пролететь и половины высоты, как второй беркут молнией упал на него и снова ударил, отклонив от вертикального падения. Наконец туша упала наземь довольно далеко от места, где лежал первый козел, а вместе с нею спустился и беркут, распустив крылья, растопырив лапы, словно все еще держа ее в когтях.
Непонятно было, почему беркут продолжает сжимать козла когтями, — животное умерло, вероятно, еще прежде, чем достигло земли. В поведении птицы было что-то необычное, и последние сорок-пятьдесят ярдов она спускалась как-то странно. Теперь она отчаянно взмахивала крыльями и сидела на туше в такой неестественной позе, что, казалось, с ней творится что-то неладное.
Вскоре охотники поняли, в чем дело. Беркут по-прежнему взмахивал крыльями или, вернее, яростно и беспорядочно хлопал ими, но было ясно, что он остается на трупе своей жертвы не по собственному желанию, а делает все, что может, чтобы уйти от него. Это стало еще очевиднее, когда он начал издавать дикие крики, не злобные и угрожающие, как раньше, а выражавшие величайший ужас.
Охотники бросились к нему, полагая, что случилось что-то из ряда вон выходящее.
Когда они подбежали к птице, которая продолжала биться и кричать, загадка сразу разъяснилась.
Они увидели, что беркут попал в ловушку: его когти погрузились в тело козла и увязли так крепко, что, несмотря на всю мощь своих жилистых лап и упругих крыльев, он не мог освободиться.
Налетев на падавшего козла, птица глубоко вонзила ему в мягкое брюхо свои крючковатые когти, но, когда хотела их вытащить, оказалось, что лапы запутались в густой, свалявшейся шерсти; и чем больше она билась, пытаясь высвободиться, чем больше вертелась во все стороны, тем прочнее и туже становилась веревка, свивавшаяся из этого прославленного материала шалевой шерсти Кашмира.
Беркут, конечно, попал в скверное положение, и хотя его вскоре освободили от шерстяных уз, но лишь для того, чтобы еще надежнее связать более прочной веревкой, вынутой Оссару из кармана.
Другой беркут не отлетал от них, словно намереваясь спасти своего товарища из рук похитителей; издавая громкие крики, он подлетал то к одному, то к другому, всем поочередно угрожая длинными, острыми когтями.
Так как все трое были вооружены, им удалось отогнать разъяренную птицу: но для Фрица, который, в свою очередь, стал предметом ее яростных атак и у которого не было другого оружия, кроме зубов, дело могло бы кончиться печально.
Зубы были плохой защитой против орлиных когтей, и Фриц, вероятно, лишился бы глаза, а то и двух, если бы не стрела, пущенная Оссару. Пронзенная ею прямо в горло, огромная птица с глухим стуком рухнула на землю.
Но она была еще жива. Увидя, что она простерта на земле, пес хотел было схватить ее, но, когда к нему протянулись острые когти и могучий, крючковатый клюв, он предпочел отступить и держаться на почтительном расстоянии; покончить с беркутом он предоставил шикари, который тут же пронзил птицу своим длинным копьем.
Глава 36
НАДЕЖДА НА БЕРКУТА
Итак, охотники получили неожиданно богатый запас провизии, которая в буквальном смысле слова свалилась с неба.
Оставалось только благословлять счастливый случай, а шикари благодарил своих богов.
Некоторое время они с любопытством разглядывали и козлов и беркута: их волновала мысль, что еще совсем недавно эти создания блуждали далеко за пределами горной «тюрьмы» и прибыли сюда из внешнего мира, куда так рвались охотники. Чего бы они ни дали, чтобы иметь крылья подобно беркуту! С их помощью они быстро выбрались бы из этой долины, которая поистине стала для них долиной слез, за грани окружающих ее снежных гор.
Когда Карл размышлял об этом, в его философском уме зародилась мысль, от которой лицо у него немного прояснилось.
Правда, эта мысль была далеко не блестящей. Но она что-то сулила, а так как утопающий хватается и за соломинку, то Карл, несмотря на странность этой идеи, продолжал упорно размышлять и через некоторое время поделился своим замыслом с товарищами.
На эту мысль навел его беркут. Это была сильная, мускулистая птица; как и все орлы, беркут может взлететь вверх, как стрела. В несколько минут — даже в несколько секунд — он достигнет снежных вершин, возвышающихся вад ними…
— Что ему помешает, — неуверенным тоном спросил Карл, указывая на птицу, — понести?..
— …понести что? — перебил брата Каспар. — Ведь не нас же, Карл? — добавил он с оттенком легкой иронии. — Надеюсь, ты не думаешь этого?
— Разумеется, не нас, — серьезно ответил Карл, — а веревку, которая может нас поднять.
— А-а! — воскликнул Каспар, просияв от радости. — Пожалуй, это идея!
У Оссару тоже вырвалось радостное восклицание.
— Что ты думаешь об этом, шикари? — серьезно спросил его Карл.
Шикари не выразил пылких надежд, но был готов помочь им советами. Этот план будет нетрудно привести в исполнение. Нужно только свить длинную веревку из пеньки, которой у них достаточно, привязать ее к лапе беркута и выпустить птицу на волю. Можно не сомневаться, куда полетит орел. Ему опостылела долина, и он, конечно, захочет улететь отсюда при первой же возможности.
С первого взгляда план казался выполнимым, но, когда его подвергли подробному обсуждению, встретились два значительных затруднения, и внезапно вспыхнувшая надежда чуть было не погасла.
Во-первых, можно было опасаться, что беркут при всей своей силе не поднимет веревку, достаточно толстую, чтобы выдержать вес любого из них. Бечевку он легко занесет не только на вершину утеса, но и гораздо дальше, но простая бечевка будет бесполезна. Чтобы выдержать вес человека, да еще энергично карабкающегося на скалы, понадобится очень толстая веревка. Она должна быть и весьма длинной — ярдов в двести или больше, — а с каждым ярдом возрастает тяжесть, которую должен поднять орел.
Не надо думать, что охотники намеревались подняться по этой веревке «на руках». Будь скала высотой ярдов в двенадцать или около того, это им, пожалуй, и удалось бы. Но надо было подниматься на высоту ста пятидесяти ярдов, и самый ловкий на свете моряк — даже сам легендарный Синдбад-мореход — не одолел бы и половины такого расстояния. Они предвидели эту трудность с самого начала, и изобретательный Карл, как мы увидим дальше, сразу же нашел средство ее избегнуть.
Второй вопрос был такой: если даже беркут сможет поднять достаточно толстую веревку, удастся ли за что-нибудь зацепить ее там, наверху?
Разумеется, тут уже они ничего не могли поделать, и можно было лишь надеяться на счастливый случай. Когда птица будет перелетать через горы, веревка легко может запутаться среди утесов или ледяных глыб. Оставалось только сделать попытку, у которой, конечно, были известные шансы на успех.
Первая трудность была, пожалуй, устранима, так как они легко могли определить толщину и вес веревки. Некоторые данные можно было получить опытным путем, другие — путем соответствующих вычислений. Охотникам было нетрудно определить, какой толщины потребуется веревка, чтобы выдержать вес любого из них, а по такой веревке можно будет подняться на утес. Силу орла также можно было определить довольно точно, и не приходилось сомневаться, что беркут постарается изо всех сил вырваться из долины, где с ним так бесцеремонно обошлись.
Вопрос обсуждался с различных сторон, и вскоре они пришли к заключению, что важнее всего — приготовить нужную веревку. Если удастся сделать ее достаточно тонкой, чтобы не перегрузить беркута, и достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека, то первую трудность они преодолеют. Поэтому веревку необходимо было сделать с величайшей тщательностью. Волокна должны быть из самой лучшей конопли, нити скручены совершенно одинаковыми по толщине и пряди свиты весьма аккуратно. Такую веревку мог сделать только Оссару. Он умел прясть не хуже манчестерских прядильщиц, работающих на станках, и у него получалась безупречная продукция.
В конце концов решено было изготовить веревку. Оссару будет руководить работой, а остальные — посильно помогать ему.
Однако, прежде чем приступить к работе, они решили обезопасить себя от голода, заготовив впрок мясо козлов. Мясо беркута решили съесть в свежем виде.
Итак, в этот день у них была на завтрак «птица Юноны»[185], а на обед — «птица Юпитера»[186].
Глава 37
КОЛОДКА НА ЛАПЕ
Развесив куски козлятины на веревках, чтобы их провялить, и распялив шкуры для просушивания, охотники занялись изготовлением веревки, которая должна была им помочь выбраться из «тюрьмы». К счастью, у них имелся большой запас пеньки. Этот запас сделал Оссару, когда плел рыболовную сеть, а так как пенька хранилась в сухой впадинке утеса, то была в прекрасном состоянии. Имелась также большая веревка, довольно прочная, но, к сожалению, недостаточно длинная. Это была та самая, которой они пользовались, перебрасывая через трещину бревенчатый мост; веревку уже давно сняли с блоков и перенесли в хижину. Она была как раз нужной толщины: более тонкая едва ли выдержала бы тяжесть человека. Им предстояло висеть на головокружительной высоте, и следовало позаботиться о прочности веревки. Они могли бы сделать прочную, толстую веревку, которая выдержала бы эту операцию, но в таком случае у орла могло не хватить сил ее поднять. Если веревка окажется слишком тяжелой для беркута, все их труды пропадут даром.
— Почему бы нам не выяснить все это заранее? — предложил Карл.
— Но как это сделать? — возразил Каспар.
— Я думаю, нам это удастся, — отвечал ботаник, видимо занятый какими-то сложными вычислениями.
— Ничего не могу придумать, — сказал Каспар, вопросительно взглянув на брата.
— Ну, а я, кажется, придумал, — произнес Карл. — Что мешает нам узнать вес веревки и установить, может ли птица ее поднять?
— Но как же ты узнаешь вес веревки, когда она еще не сделана?
— Очень просто, — заявил Карл. — Вовсе не обязательно закончить веревку, чтобы узнать ее вес. Мы примерно знаем, какой длины веревка нам нужна, а взвесив тот кусок, который у нас под руками, сможем вычислить вес для любой ее длины.
— Ты забываешь, брат, что у нас нет никакого прибора для взвешивания, даже для самого маленького веса. Ни коромысла, ни чашек, ни гирь!
— Пустяки! — заявил Карл тоном знатока. — Все это нетрудно достать. Коромыслом может служить любая ровная палочка, если ее хорошо уравновесить, а чашки сделать так же просто, как и коромысло…
— Но гири? — прервал его Каспар. — Как быть с гирями? Чашки и коромысла будут бесполезны, если не окажется подходящих гирь. Что мы будем делать без фунтов и унций?
— Я удивляюсь, Каспар, твоему легкомыслию! Ты не даешь себе труда как следует подумать. Мне кажется, я могу сделать набор гирь в любых условиях, лишь бы у меня был нужный материал, а именно — дерево и камни.
— Но как же это, брат? Расскажи нам, пожалуйста.
— Ну так вот: прежде всего я знаю вес собственного тела.
— Допустим. Но ведь ты знаешь только общий свой вес. Как же ты получишь его составные единицы — фунты и унции?
— Я сделаю коромысло и уравновешу на нем свое тело с кучей камней. Затем я разделю камни на две кучки, которые также уравновешу. Таким образом я получу половину своего веса, то есть известной мне величины. Разделив эту кучку камней пополам, я получу еще меньший вес, и так далее, пока не дойду до такого малого веса, какой мне нужен. Таким способом я могу получить и фунт, и унцию, и любую весовую единицу.
— Правильно, брат, — ответил Каспар, — и очень остроумно! Твой план безусловно удался бы, если бы не одно маленькое обстоятельство, которое ты, наверно, упустил из виду.
— Какое же именно?
— Точные ли у тебя данные? — простодушно спросил Каспар.
— Что ты имеешь в виду?
— Исходную величину, с которой ты хочешь начать и на которой основываешь все свои расчеты. Я говорю о весе твоего тела. Ты его знаешь?
— Конечно, — отвечал Карл. — Во мне ровно сто сорок фунтов.
— Ах, брат, — возразил Каспар, грустно покачивая головой, — в тебе было сто сорок фунтов в Лондоне, я это знаю, да и во мне почти столько же; но ты забываешь, что от всех перенесенных нами испытаний и тревог мы оба похудели. Да, дорогой брат, я вижу, что ты сильно исхудал с тех пор, как мы покинули Калькутту, а ты, конечно, замечаешь, такую же перемену во мне. Разве это не так?
Карл был вынужден признать, что Каспар прав. Его данные оказались неточными. Вес человеческого тела — непостоянная величина, из которой никак нельзя исходить. Им предстояло произвести весьма ответственные расчеты, требующие величайшей точности. Карл сразу понял свою ошибку, но это его не обескуражило.
— Что же, брат, — сказал он с улыбкой, взглянув на Каспара (видимо, его радовала догадливость брата), — должен признаться, что на этот раз ты меня переспорил, но это не заставит меня отказаться от своего плана. Можно определить вес предмета и другими способами. И если бы я поразмыслил, то, конечно, придумал бы что-нибудь, но, к счастью, нам не нужно больше ломать голову над этим вопросом. Если не ошибаюсь, весовая единица у нас уже есть.
— Какая же? — спросил Каспар.
— Свинцовая пуля твоего ружья. Ты как-то говорил, что у тебя унцевые пули?
— Их идет ровно шестнадцать на фунт — значит, в каждой ровно унция. Ты прав, Карл, это и есть нужная нам весовая единица.
Больше обсуждать было нечего, и они немедленно принялись определять вес веревки длиной в двести ярдов. Вскоре весы были готовы, и чашки уравновешены так тщательно, словно охотники собирались взвешивать золотой песок. Моток веревки был уравновешен камнями, вес которых определили уже при помощи пуль, и таким образом узнали, сколько в нем содержится фунтов и унций. Восьмикратный вес соответствовал веревке длиной в сто шестьдесят ярдов, которую им предстояло сделать.
Необходимо было узнать, сможет ли орел поднять такую ношу на значительную высоту. Правда, птице не придется поднимать всю веревку сразу, так как часть ее будет оставаться на земле, но если беркут поднимется до вершины каменной стены даже в самом низком месте, то все же на лапе у него будет висеть добрых сто ярдов веревки, а если он взлетит еще выше, то и значительно больший груз.
Естественно было предположить, что беркут устремится туда, где каменная стена ниже всего, особенно если почувствует, что его полет тормозит странная ноша, привязанная к лапе, а если случится именно так, то тяжесть будет не очень велика. Направить беркута к самому низкому месту можно при помощи этой же веревки, которую они будут держать в руках.
Взвесив все эти обстоятельства, братья слегка приободрились, так как убедились, что у них есть шансы на успех.
Теперь предстояло испытать силу орла.
Задача была также весьма ответственной, и они приступили к ней лишь после долгих размышлений. Они взяли обрубок дерева и обтесали его так, чтобы вес его равнялся весу веревки длиной в двадцать ярдов (уже применявшейся ими раньше с другой целью). Затем привязали эту веревку одним концом к чурбану, а другой обвязали вокруг лапы орла.
Когда все было готово, птицу освободили от остальных пут и отошли в сторону, чтобы дать ей свободно расправить крылья.
Вообразив, что он наконец на воле, беркут вскочил с камня, на который его положили, расправил свои широкие крылья и взмыл кверху почти по вертикали.
Первые двадцать ярдов он пролетел легко и быстро, и у зрителей вырвались радостные восклицания.
Увы! Их надежды погибли, едва успев родиться. Развернувшись во всю длину, веревка сдернула орла на несколько футов книзу. В то же время чурбан поднялся от земли всего на несколько дюймов. Птица забила крыльями, ошеломленная этой неожиданной помехой, затем, найдя равновесие, вновь попыталась взлететь ввысь.
Веревка снова натянулась, но, как и в первый раз, чурбан был лишь слегка приподнят над землей, между тем как орел, словно ожидавший на этот раз толчка, был задержан в полете не так уж резко.
Но все же он должен был опуститься, пока его якорь не «коснулся дна». После новой попытки взлететь, столь же неудачной, он, казалось, убедился, что ему невозможно подняться кверху, и направил полет горизонтально вдоль линии утесов.
Чурбан потащился по земле, подпрыгивая на бугорках, иногда взлетая в воздух, но всякий раз лишь на несколько секунд.
Наконец зрители пришли к убеждению, что беркут не в силах взлететь на вершину утеса с привязанной к лапе веревкой, равной по весу чурбану.
Словом, план оказался неудачным. Потеряв надежду на успех, наши охотники предоставили орлу волочить свой деревянный якорь, куда ему вздумается.
Глава 38
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОПЫТКИ
Трое зрителей, наблюдавших неудачные попытки орла, некоторое время хранили молчание, какое обычно следует за разочарованием. Каспар казался менее подавленным, чем остальные, но никто не спросил его, о чем он думает.
Молчание длилось недолго, как и вызвавшая его досада. Она была мимолетна, как летняя тучка, которая на миг омрачает небо, — скроется тучка, и по-прежнему сияет ясная лазурь.
Этой счастливой перемене настроения охотники были обязаны Каспару. Юноше пришла в голову мысль — вернее, новый план, — и он тотчас же поделился им с товарищами.
Строго говоря, план Каспара нельзя было назвать новым. Он был только дополнением к тому, который был предложен Карлом, и беркут, как и раньше, играл в нем главную роль.
Рассчитывая, какой длины потребуется веревка, чтобы добраться до вершины утеса, Каспар уже подумывал о том, как ее укоротить, то есть как добиться, чтобы хватило более короткой. Некоторое время он обдумывал это, но не хотел говорить товарищам, пока они не испытают силу орла. Теперь, когда беркут был «взвешен и найден легковесным», можно было предположить, что им больше не будут интересоваться, — разве что просто съедят. Так думали Карл и Оссару, но Каспар думал иначе. Он был уверен, что птица еще может быть им полезной.
Каспар полагал, и вполне справедливо, что орлу мешает подняться лишняя тяжесть. Однако она не слишком превышала его силу. Будь веревка вдвое легче или даже немного меньше, чем вдвое, беркуту удалось бы поднять ее до края обрыва.
Что, если эту тяжесть уменьшить?
Каспар не считал нужным сделать веревку тоньше. Он знал, что это невозможно, так как вопрос уже обсуждался и был решен отрицательно.
Но что будет, если они пустят в ход более короткую веревку: например, длиной не в сто пятьдесят ярдов, а только в пятьдесят? Тогда орел, конечно, сможет взлететь так высоко, как позволит длина веревки.
Никто не возражал Каспару: это была бесспорная истина, но что из нее следовало?
— Ну и пусть себе орел заносит веревку хоть на луну, — сказал Карл, — да нам-то на что такая короткая веревка? Ведь если даже беркут поднимет один ее конец на вершину утеса в самом низком его месте, все равно другой конец будет болтаться в добрых пятидесяти ярдах над землей.
— Ни на ярд, брат, ни на фут над землей! Другой конец будет у нас в руках, у нас в руках, говорю тебе!
— Хорошо, Каспар, — спокойно возразил его брат. — Ты говоришь уверенно, но, по правде сказать, я не вижу, к чему ты клонишь. Ты же знаешь, что этот проклятый обрыв нигде не бывает ниже ста ярдов.
— Знаю, — ответил Каспар все так же твердо, — но мы можем держать веревку в пятьдесят ярдов — даже вдвое короче — за один конец, а другой будет над краем обрыва.
Карл был озадачен, но шикари, на этот раз оказавшийся сообразительнее философа, уловил мысль Каспара.
— Ха-ха-ха! — воскликул он. — Молодой саиб думать лестницу! Вот что он думать!
— Совершенно верно! — сказал Каспар. — Ты угадал, Осси. Именно об этом я и думал.
— Ну, тогда в самом деле можно… — медленно произнес Карл и погрузился в раздумье. — Может быть, ты и прав, брат, — добавил он после паузы. — Во всяком случае, попробовать нетрудно. Если твой план удастся, нам не придется делать новые веревки. Той, что у нас имеется, вполне хватит. Давайте сейчас же попробуем!
— Где беркут? — спросил Каспар, оглядываясь по сторонам.
— Вон там, саиб, — ответил Оссару, указывая на утес. — Вон там он сидеть на камне.
Орел сидел, как-то странно скорчившись, на нижнем уступе скалы, куда опустился после неудачных попыток взлететь. Он выглядел измученным, и, казалось, его можно взять голыми руками. Но когда Оссару приблизился к нему с таким намерением, птица, вероятно вообразив себя на свободе, снова отважно взвилась кверху.
И она вновь почувствовала, что веревка тянет ее за лапу вниз.
Напрасно хлопая крыльями, птица спустилась, притянутая сперва тяжестью чурбана, а потом сильной рукой шикари.
Чурбан убрали, а вместо него к лапе орла привязали веревку более пятидесяти ярдов длиной.
Беркута снова отпустили, причем Оссару крепко держал обеими руками конец веревки; на этот раз великолепная птица взмыла ввысь так стремительно, словно пределом ее полета была не вершина утеса, а величавый пик Чомо-лари.
На высоте пятидесяти ярдов ее гордый полет был внезапно остановлен Оссару, который, потянув за веревку, напомнил орлу, что он все еще пленник.
Опыт оказался удачным. План Каспара обещал многое, и они тотчас же стали делать необходимые приготовления.
Глава 39
БЕГСТВО ОРЛА
Прежде всего следовало проверить качество веревки и испытать ее прочность. Лестницы по-прежнему стояли там, где их поставили. Проверив веревку, нужно было только привязать ее к лапе беркута, подняться на последний уступ, до которого достигали лестницы, и отпустить птицу.
Если беркут поднимется над утесом и веревка за что-нибудь зацепится, они могут считать себя свободными. Это казалось им вполне возможным, и при мысли о близком освобождении все трое заметно повеселели.
Они не надеялись, что им удастся подняться на руках по веревке длиной почти в пятьдесят ярдов: перед таким подвигом встал бы в тупик самый ловкий матрос, когда-либо вязавший шкоты на ноке брам-стеньги. Они и не собирались подниматься по веревке таким способом, а давно уже придумали и обсудили другой. Они намеревались — как только убедятся, что веревка плотно зацепилась наверху, — сделать на ней ступеньки, всовывая между ее прядями на больших промежутках деревянные палочки, на которые можно будет ставить ногу при подъеме. Как мы уже сказали, все это было обдумано заранее, и теперь уже ничто не мешало им заняться испытанием веревки, от прочности которой будет завасеть их жизнь.
Карл с Каспаром думали, что достаточно будет привязать веревку к дереву и тянуть ее соединенными усилиями. Но Оссару был другого мнения. У этого сына Востока родился в голове иной план, который показался ему лучше, и он начал приводить его в исполнение, несмотря на возражения товарищей. Захватив один конец веревки, он взобрался на высокое дерево, прополз по горизонтальной ветви и на высоте пятидесяти футов над землей крепко привязал веревку. По его указанию молодые саибы схватились за веревку, и оба, поджав ноги, на несколько секунд повисли в воздухе.
На веревке не было обнаружено ни малейшего растяжения или разрыва, и было очевидно, что она свободно выдерживает тяжесть двух человек и, во всяком случае, выдержит одного. Убедившись в этом, шикари спустился с дерева.
Взяв орла под мышку правой руки, а в левую руку сверток веревки, Оссару направился к тому месту каменной стены, где были приставлены лестницы. Карл с Каспаром шли за ним по пятам, а Фриц — в арьергарде; все четверо двигались молча и как-то торжественно; видно было, что они заняты важным делом.
Новый опыт, как и испытание силы орла, не отнял много времени. Если бы он удался, наши охотники потратили бы несколько часов и в результате с торжеством стояли бы на вершине утеса, а Фриц весело носился бы по снежному склону, словно желая загнать какого-нибудь большого архара на поднебесную вершину Чомо-лари.
Ах, как отличалась от этой картины та, какая представилась вечером этого богатого событиями дня! Незадолго до захода солнца можно было видеть, как охотники печально и медленно возвращаются в свою хижину — в ту опостылевшую им хижину, которую они так жаждали навсегда покинуть.
Увы! В длинный список безуспешных попыток им пришлось внести еще одну неудачу.
Оссару с беркутом под мышкой поднялся по лестницам до самого верхнего уступа. Отсюда он «запустил» орла, дав ему взлететь на всю длину веревки. Это был опыт весьма опасный для шикари и чуть было не оказавшийся последним актом его жизненной драмы.
Шикари стоял, балансируя на узком уступе, вполне уверенный, что беркут взлетит прямо кверху, и то, что произошло в следующий миг, было для него полной неожиданностью: вместо того чтобы взмыть вверх, орел ринулся по горизонтали и летел все в том же направлении, пока не вытянул за собою всю свою привязь; потом, никуда не сворачивая, даже не задержавшись в полете, но волоча все пятьдесят ярдов веревки, за другой конец которой Оссару, к счастью, больше не держался, он полетел через всю долину к утесам на противоположной ее стороне и без труда достиг их вершины.
Не без досады следили Карл и Каспар за полетом беркута; некоторое время им казалось, что Оссару не справился с задачей, которую ему поручили.
Но вскоре они услышали объяснения Оссару и признали их справедливость. Было очевидно, что, не выпусти он вовремя веревку, ему бы пришлось сделать такой скачок, после которого он уже был бы не в состоянии объяснить товарищам, как и почему улетел орел.
Глава 40
ФРИЦ И КОРШУНЫ
С чувством глубокого, горького разочарования наши искатели приключений покинули лестницы, которые снова обманули их надежды, и направились к хижине.
Как и в тот раз, они шли медленно, с понурым видом. Фриц уныло брел за ними, разделяя их настроение.
Они молча подходили к хижине, но при виде примитивного жилища, с которым им никак не удавалось расстаться, Карлу пришла в голову новая мысль, заставившая его нарушить молчание.
— Вот наш истинный друг! — произнес Карл, указывая на хижину. — Пусть все другие нам изменят — она останется нам верна! Правда, она грубая, но ведь грубыми бывают и самые верные друзья. Мне становится мила наша честная хижина, и я уже начинаю смотреть на нее, как на свой домашний очаг.
Каспар ничего не ответил. Он только вздохнул. Юный охотник, преследовавший когда-то серн в Баварских Альпах, думал о другом очаге, находившемся далеко, в стороне заходящего солнца, и, пока им владела такая мысль, он не мог примириться с вынужденным пребыванием в Гималаях.
Мысли Оссару были тоже далеко. Он думал о бамбуковой хижине на берегу хрустального ручья, под сенью пальм и других тропических деревьев. Еще больше мечтал он о рисовом пилаве и четни, но более всего — о своем любимом бетеле, который не мог ему заменить конопляный банг.
Но у Каспара была еще одна мысль, доказавшая, что он не потерял надежды вернуться в свой родной дом. И когда они покончили с ужином, состоявшим из вареной дичи, он поделился замыслом с товарищами.
Юноша не решился первым нарушить молчание. Он лишь ответил на вопрос Карла, который, заметив рассеянный вид брата, спросил, что с ним.
— Я напряженно размышлял, — сказал Каспар. — С тех самых пор, как орел улетел, я думал о другой птице, о которой мне кое-что известно. Эта птица может сослужить нам службу не хуже беркута, а то и лучше.
— О другой птице? — спросил Карл. — О какой птице ты говоришь? Уж не думаешь ли ты о китайском гусе, что живет на озере? Правда, его нетрудно поймать живьем, но позволь тебе сказать, брат, что его крылья способны поднять лишь собственное увесистое тело, а если ты прибавишь еще фунт-другой, привязав ему к лапе веревку, то он не сможет улететь из долины, совсем как мы с тобой. Нет, нет! Об этом нечего и думать. Кроме орла, никакая другая птица не в силах выполнить то, что ты от нее требуешь.
— Птица, о которой я думал, — возразил Каспар, — принадлежит к тому же роду, что и орел… Кажется, я выражаюсь вполне научно. Не так ли, ученый брат? Ха-ха-ха! Ну что же, называть мне ее? Наверно, ты уже догадался?
— Конечно, нет, — ответил Карл. — В этой долине нет птиц, принадлежащих к одному роду с орлом, кроме разве коршунов; впрочем, по мнению некоторых натуралистов, они не одного с ним рода, а лишь одного семейства. Если ты думаешь о коршуне, то их здесь несколько пород, но самый крупный из них поднимет на вершину утеса разве что толстую бечевку… Смотри, вот два коршуна, — продолжал он, указывая на птиц, круживших в воздухе ярдах в двадцати над землей. — Их называют «черки». Это самые крупные из гималайских коршунов. Ты имел в виду эту птицу, брат?
— Так это коршуны? — спросил Каспар, переводя взгляд на крылатые существа, которые описывали круги в воздухе, словно выслеживая добычу.
— Да, — ответил натуралист. — И они принадлежат к одному семейству с орлами. Надеюсь, ты не их имеешь в виду?
— Нет, не совсем… — протянул Каспар, многозначительно улыбаясь. — Но посмотри на них: они парят совсем как воздушные змеи… О! Что это? воскликнул он, заметив, что птицы ведут себя как-то странно. — Что они делают? Клянусь жизнью, они нападают на Фрица! Неужели они думают, что могут справиться с нашим славным старым псом?
Действительно, коршуны внезапно спустились с высоты, на какой до сих пор парили, и теперь описывали быстрые круги над головой у баварского пса, который прилег в траве, на опушке маленькой рощицы, ярдах в двадцати от хижины.
— Может быть, там, в рощице, у них гнездо? — высказал предположение Карл. Потому-то они и злятся на собаку. У них явно рассерженный вид.
И впрямь это можно было подумать, судя по поведению птиц, которые нападали на пса: они то поднимались на несколько футов, то бросались вниз по кривой, напоминавшей параболу. С каждым взлетом они все приближались и приближались к Фрицу, пока не начали задевать его морду крыльями. При этом коршуны издавали резкие крики, похожие на лай рассерженных лисиц.
— Должно быть, у них где-то поблизости детеныши, — заметил Карл.
— Нет, саиб, — ответил Оссару. — Нет гнездо, нет детки. Фриц уйти ужинать кусок мяса от козла. Черки хотеть забрать ужин у собаки.
— А, так Фриц ужинает? — сказал Каспар. — Тогда все понятно. Но как же глупы эти птицы, если воображают, что им удастся отнять ужин у нашего отважного Фрица, особенно когда он так им наслаждается!.. Смотрите, он даже не обращает на них внимания!
Действительно, до сих пор Фриц едва ли замечал своих крылатых врагов, и их враждебные демонстрации лишь изредка вызывали у него отрывистое рычание. Когда же они стали подлетать ближе, ударяя его крыльями по глазам, Фрицу стало уже невмоготу, и он начал выходить из себя. Его рычание становилось все громче, и раза два он привставал, чтобы вцепиться в перья врагу.
Эта странная сцена между собакой и птицами продолжалась минут пять, причем финал был довольно любопытен и весьма неприятен для Фрица.
С самого начала коршуны действовали порознь. Один налетал спереди, а другой вел атаку с тыла. Ввиду такой тактики врагов пес был вынужден бороться на два фронта, и ему приходилось бросаться из стороны в сторону.
То он рычал и хватал врага, нападавшего спереди, то быстро поворачивался, чтобы пригрозить более трусливому черку, налетавшему на него с тыла. Однако второй черк оказался назойливее и крикливее и наконец, не довольствуясь случайными ударами крыльев, осмелился вонзить свои острые когти в его почтенное седалище.
Это было уже чересчур — терпение Фрица лопнуло. Бросив кость, которую он все время глодал, пес вскочил, быстро повернулся к оскорбителю-черку и прыгнул, чтобы его схватить.
Но осторожная птица предвидела это, и пес еще не успел вцепиться в нее зубами, как она уже взмыла кверху — гораздо выше, чем может прыгнуть любое четвероногое.
Заворчав с досады, Фриц повернулся и хотел снова взяться за свой кусок, но досада его еще усилилась, когда он обнаружил, что мяса больше нет. Первый черк только оцарапал ему шкуру, но второй отнял у него ужин.
В последний раз Фриц увидел свой кусок козлятины в клюве у коршуна, высоко в воздухе, и птица становилась все меньше и меньше, быстро удаляясь, пока не исчезла в туманной дали.
Глава 41
ФРИЦ ОСКОРБЛЕН
Занятный маленький эпизод с собакой и черками прервал беседу братьев на тему, затронутую Каспаром. Но беседа не возобновилась сразу по окончании этой сцены, ибо у Фрица был такой смешной вид, когда он смотрел на улетающих птиц, ловко выманивших у него кусок мяса, что зрители разразились громким, продолжительным хохотом.
На «физиономии» Фрица отражались самые необычайные чувства. Не только глаза, но и вся поза собаки выражала крайнее изумление, досаду и вместе с тем невероятную ярость; некоторое время он стоял, подняв голову, вытянув морду кверху, следя за коршуном взглядом, в котором сквозила неукротимая жажда мести.
Ни разу в жизни, даже когда над ним трубил слон, не приходилось Фрицу так сожалеть об отсутствии крыльев. Никогда еще он так не сетовал на несовершенство своего сложения и на отсутствие этих столь полезных придатков, и будь у него волшебная палочка, он воспользовался бы ею в этот момент, чтобы получить пару крыльев, — не прекрасных, это для него было дело десятое, а сильных и широких, которые позволили бы ему догнать черков и покарать их за неслыханную дерзость.
Фриц был глубоко оскорблен и жестоко обманут тварями, к которым он относился с величайшим презрением, и именно эта смесь изумления и ярости, придававшая ему столь трагикомический вид, так рассмешила людей. У него было весьма забавное выражение, когда, повернувшись, он взглянул на своих товарищей-людей. Он увидел, что они потешаются над ним, и в его глазах можно было прочесть и укор и мольбу, что еще пуще их рассмешило. Переводя взгляд с одного на другого, он словно искал сочувствия поочередно у Карла, Каспара и Оссару.
Но мольба его была напрасна. Охотниками овладело неукротимое веселье, и бедняга Фриц не встретил сочувствия.
Несколько минут не смолкал их громкий, раскатистый хохот, но предмет их веселья не стал дожидаться, пока они успокоятся, и поспешил покинуть недоброе место, где у него отняли ужин. Ограбленный и униженный, он скрылся под сенью хижины. В пылу веселья никто не заметил его исчезновения. И через несколько минут все трое перестали думать о Фрице.
Быть может, вы удивитесь, что в столь тяжелых обстоятельствах наши друзья могли поддаться такому буйному веселью. Но тут нет ничего удивительного. Наоборот, вполне естественно, что они так развеселились, ибо такова уж человеческая природа: веселье и грусть так же неизбежно сменяют друг друга, как день следует за ночью или ясная погода наступает после бури.
Правду мы не знаем, почему так бывает, но все это в природе вещей. Один сладкогласный поэт сказал:
Была бы скучным временем весна, Когда б одна весна царила в мире,и мы по собственному опыту знаем, насколько справедливы его слова.
Тот, кто живет в тропических странах, где царит вечная весна, где листья никогда не опадают и цветы никогда не вянут, может подтвердить этот факт: даже весна со временем надоедает! Мы жаждем зимы, с ее инеем, снегами и холодными, бурными ветрами. Хотя все мы так любим веселый, зеленый лес, порой нам радует глаз его пожелтевший наряд, и мы любуемся мрачным небом, по которому несутся причудливые свинцовые тучи. Как это ни кажется странным, не подлежит сомнению, что наша душа, так же как и природа, нуждается в бурях.
Глава 42
ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
Как только утих порыв веселья, Карл и Каспар вернулись к разговору, который так внезапно был прерван.
— Итак, брат, — сказал Карл, возвращаясь все к этой же теме, — ты говоришь, что есть птица из породы орлов, которая в силах поднять канат на утесы. Какую именно птицу ты имеешь в виду?
— Ах, Карл, ты сегодня что-то очень недогадлив! Мне кажется, коршуны могли бы навести тебя на мысль.
— Так ты говоришь о какой-то разновидности ястреба?
— Да, о ястребе с очень широкой грудью, очень тонким туловищем и очень длинным хвостом: как раз о таком, каких мы с тобой, бывало, делали еще не так давно.
— А-а, о бумажном змее!.. — произнес Карл и погрузился в раздумье. — А знаешь, брат, — прибавил он, помолчав, — в твоем предложении, пожалуй, есть смысл. Будь у нас бумажный змей — разумеется, очень большой, — он мог бы занести веревку на вершину обрыва; но, увы!..
— Можешь не продолжать, Карл, — прервал его Каспар. — Я знаю, что ты хочешь сказать: что у нас нет бумаги, из которой можно было бы смастерить змея. Да, тут уже ничего не поделаешь. Нечего больше и думать о змее, раз у нас нет нужного материала. Его корпус и хвост мы легко могли бы сделать. Но ведь нужны еще крылья — ах, крылья! Как бы я хотел иметь под руками пачку старых газет! Но что пользы желать — ведь у нас их нет!
Карл молчал и, казалось, не слышал слов Каспара, — во всяком случае, не обращал на них внимания. Он, видимо, снова погрузился в глубокие размышления.
— Может быть, — заговорил снова Карл через некоторое время, с надеждой поглядывая на лес, — у нас окажется не так уж мало материала, о котором ты говорил.
— Ты хочешь сказать — бумаги?
— Мы находимся в той области земного шара, где она растет, — продолжал Карл, не отвечая на вопрос брата.
— Как!.. Где растет бумага?
— Нет, — возразил Карл, — я не хочу сказать, что здесь растет бумага, но здесь имеется сырье, из которого можно сделать эту полезную вещь.
— Что же это такое, брат?
— Это дерево, или, вернее, кустарник, принадлежащий к семейству ягодковых, или дафнад. Разновидности этого отряда встречаются во многих странах, но главным образом в более прохладных областях Индии и Южной Америки. Представители его имеются даже в Англии, так как красивый волчеягодник лавровый наших лесов и живых изгородей, который так помогает от зубной боли, — самая настоящая дафнада. Пожалуй, самая интересная разновидность их — это пресловутая лагетта, или кружевное дерево Ямайки, из коры которого дамы на этом острове делают воротнички, манжеты и накидки. Они так искусно вырезают узоры и так прекрасно отбеливают свои изделия, что те имеют вид настоящих кружев! До отмены рабовладения мароны и другие ямайские беглые негры делали себе одежду из лагетты, в изобилии растущей в горных лесах этого острова. Хозяева этих же негров, тоже до отмены рабовладения, находили для кружевного дерева другое применение, менее приятное. Жестокие тираны из его волокон сплетали ремни для своих бичей.
— И ты думаешь, что из этих деревьев можно сделать бумагу? — спросил Каспар, которому не терпелось узнать, есть ли какая-нибудь возможность раздобыть покрышку для змея.
— Существует несколько видов дафнад, — ответил ботаник, — кору которых можно превратить в бумагу. Одни встречаются на мысе Доброй Надежды, другие на Мадагаскаре; но самые подходящие для нас виды растут в Гималаях и в Китае. В Непале имеется дафнада бхолуа, из которой непалийцы приготовляют плотную, прочную упаковочную бумагу, и у меня есть основания думать, что она растет также в Бхотанских Гималаях, которые совсем недалеко от нашей долины. Кроме того, в Китае и Японии, по другую сторону этих гор, есть два или три вида этого растения, из которого китайцы выделывают желтоватую бумагу — ты, вероятно, видел их книги — и ею же оклеивают свои чайные коробочки. Итак, прибавил ботаник, пытливо глядя на лес, — поскольку годная на бумагу дафнада растет в Китае, восточнее нас, и в Непале и Бхотане, западнее нас, то естественно предположить, что какие-нибудь ее виды растут и в этой долине, где климат как раз подходящий для нее. Птицы вполне могли занести сюда семена дафнады, так как многие виды птиц любят ее ягоды и поедают их без всякого вреда для себя, что очень странно, так как ягоды эти ядовиты для всех видов четвероногих.
— Как ты думаешь, брат, ты узнал бы такой куст, если бы его увидел?
— По правде сказать, я не думаю, чтобы сразу его узнал, но если бы я увидал цветок дафнады, я, непременно, отличил бы его по ботаническим особенностям. Листья у годных на бумагу видов дафнады — продолговатые и красноватого оттенка, гладкие и блестящие, как у лавра, с которым дафнады в близком родстве. К сожалению, кусты в это время года не цветут, но если нам удастся найти ягоды и несколько листьев, то я думаю, что смогу их опознать. Кроме того, у них характерная, очень жесткая кора. В самом деле, у меня есть основания думать, что мы найдем их не очень далеко отсюда. Вот почему я так уверенно сказал, что у нас может оказаться не так уж мало материала для выделки бумаги.
— Какие же у тебя основания, брат? Может быть, ты видел что-нибудь похожее?
— Видел. Не так давно я забрел в заросли невысоких кустов, достигавших мне до середины груди. Они были тогда в цвету; цветы были сиреневые и росли на концах веток небольшими зонтиками. Венчиков у них не было — одни только чашечки. А все это характерно для дафнады. К тому же листья были продолговатые, бархатистые, красноватого оттенка, а у цветов очень сладкий запах, как у всех дафнад. Я и не думал тогда их исследовать, но теперь, вспоминая все эти признаки, я почти уверен, что кусты относились к этому виду.
— А как ты думаешь, сможешь ты разыскать этот кустарник?
— Ну конечно! Он растет не очень далеко от того места, где у нас с тобой чуть не произошел страшный поединок.
— Xa-xa-xa! — засмеялся Каспар в ответ на многозначительные слова брата. Постой, брат, — сказал он через мгновение, — предположим, что это именно тот самый куст. Но какой нам от этого прок, если мы не знаем, как превратить его в бумагу?
— Почему ты так уверен, что мы не знаем? — возразил Карл. — Мне кое-что об этом известно. Один старинный автор в своей книге описывает этот способ. Он очень прост, и, кажется, я его хорошо запомнил и смогу применить. Может быть, бумага получится слишком грубая для письма, но она вполне пригодится для наших целей. Нам не нужен лучший, «кремовый» сорт. Ведь, к сожалению, здесь нет почтового отделения. Но если нам удастся сделать что-то вроде толстой упаковочной бумаги, то, я думаю, она вполне будет годиться для змея.
— Правильно! — ответил Каспар. — Даже лучше, если бумага будет толстая и крепкая. Но послушай, дорогой Карл, почему бы нам сейчас же не отправиться на поиски этих кустов?
— Этим мы немедленно и займемся, — заявил Карл, поднимаясь с камня.
Они пошли на разведку в полном составе, так как Оссару был не меньше товарищей заинтересован в ее результатах, а Фриц, заметив, что его хозяева отправляются в какую-то новую экспедицию, забыл свое огорчение и, выйдя из хижины, побрел вслед за ними.
Глава 43
БУМАЖНОЕ ДЕРЕВО
К величайшей радости охотников, предположения Карла вскоре оправдались. Заросль, о которой он говорил, состояла главным образом из кустов дафнады, судя по опавшим листьям и по нескольким сохранившимся на ветках ягодам. Карл решил, что кусты принадлежат именно к данному виду.
Это доказывала и кора, весьма эластичная и очень едкая на вкус: она обожгла рот Оссару, который имел глупость ее пожевать.
Внимательно исследовав листья, ягоды и кору, ботаник пришел к выводу, что перед ним настоящая дафнада. Так оно и было в действительности: это был вид, известный в Непале как дафнада бхолуа, из которой, как уже говорилось, непалийцы вырабатывают толстую, мягкую бумагу.
Убедившись, что это именно так, охотники решили привести план Каспара в исполнение и сделать опыт с воздушным змеем.
Если бы Карл был только ботаником-теоретиком и, хорошо зная особенности растений и деревьев, не владел бы практическими познаниями и не был знаком со способами их применения, от найденной ими дафнады не было бы никакой пользы. Глядя на это растение, никак нельзя было догадаться, что из него можно получить бумагу. Со многих других деревьев кора снималась более широкими полосами и больше напоминала бумагу, между тем как кора дафнады, снимавшаяся узкими полосками, казалась меньше всего пригодным для воздушного змея материалом. Но Карл знал способ превратить ее в бумагу и немедля принялся за дело, а товарищи ему помогали, следуя его указаниям.
Все трое усердно принялись работать ножами, и в невероятно короткий срок несколько десятков деревьев были ободраны от самых корней до нижних веток. Деревьев не срубали, так как в этом не было надобности. Их легко было обдирать на корню, и потому их оставили на месте.
До самого заката солнца проработали наши «каскарильеры», сделав перерыв лишь на несколько минут, чтобы пойти в хижину и наскоро поесть козлятины. И когда солнце опускалось за величавую вершину Чомо-лари, можно было увидеть, как они медленно возвращаются домой с тяжелыми связками коры, а Фриц весело бежит за ними.
Взглянув на заросли, где охотники проработали весь день, можно было догадаться, чем они занимались. У всех деревьев на площади свыше полуакра с тонких стволов была полностью ободрана кора, словно здесь паслось огромное стадо коз.
Вернувшись в хижину, они и не подумали отдыхать и тотчас же занялись производством бумаги.
Было уже поздно, и работать пришлось при свете сосновых факелов, заготовленных заранее. Факелы горели ярким, ровным пламенем, не хуже свеч.
Первичная обработка материала не требовала особой тщательности, и ее можно было выполнить в хижине не хуже, чем в гигантском цехе бумажной фабрики. Требовалось лишь искрошить кору на мелкие кусочки. Это заняло весь вечер. Во время работы они весело разговаривали, перебрасываясь шутками. Им вспомнилось, что в тюрьмах арестанты обычно треплют пеньку; да, они не без оснований могли сравнить себя с заключенными.
Закончив эту работу, они поужинали, как всегда, куском мяса и легли спать, думая лишь о том, что будут делать завтра.
На другое утро дела у них было немного, так как следующий процесс требовал не столько труда, сколько терпения.
Тщательно искрошенную кору дафнады насыпают в большой чан или котел с водой. Затем добавляют щелок, приготовленный из древесной золы, и кипятят массу в продолжение нескольких часов.
Но у наших «фабрикантов» не было ни чана, ни котла, и они могли бы стать в тупик перед непреодолимым препятствием, не будь у них обильного запаса непрерывно кипящей воды в горячем источнике близ хижины.
По-видимому, им нужно было только засыпать приготовленную кору в источник и оставить ее там на какой-то срок. Но там, где вода была горячее всего, она находилась в непрестанном движении — бурлила, кипела и клокотала, как в котле, и очень скоро не только были бы унесены волокна коры, но и зола отделилась бы от остальной массы, и от нее не было бы никакого толку.
Как преодолеть это затруднение? Довольно легко. У них уже заранее был намечен план работ, согласно которому кору вместе с золой следовало поместить в одну из больших шкур яков, прекрасно сохранившихся, связать ее в узел, как белье для стирки, опустить шкуру вместе с содержимым в источник и оставить там до тех пор, пока кипящая вода не сделает свое дело. Этот остроумный способ позволил им обойтись без всякого котла.
Когда Карл нашел, что кора достаточно разварилась, ее вынули из воды, а затем из шкуры яка и положили на плоский камень, чтобы она обтекла и обсохла.
Пока кора кипятилась, а потом обсыхала на камне, никто не сидел без дела. Каспар был занят изготовлением крепкого деревянного песта, необходимого для некоторых дальнейших операций, а Оссару мастерил другую, также очень нужную вещь. Это было что-то вроде сита из тонких бамбуковых полосок, вставленных в раму из более толстых полос того же бамбука рингалл.
Оссару взялся за эту работу потому, что умел искусно изготовлять из бамбука всевозможные предметы, и, хотя он сейчас был занят совершенно новым для себя делом, ему удалось под руководством Карла смастерить сито, которое вполне отвечало своему назначению. С какой целью было сделано сито, будет сказано ниже.
Как только кора высохла, пустили в ход пест: с его помощью кусочки коры разбивали на поверхности плоского камня, пока не получилась густая масса.
Массу сложили в шкуру яка, собранную по краям, и этот примитивный чан снова погрузили в воду, но не в кипящий ручей, а в холодное озеро, и держали там, пока чан не наполнился водой. Затем массу перемешали палочкой, отчего крупные частицы всплыли на поверхность; их удалили. Эта процедура была повторена несколько раз, пока вся масса, первоначально немного слизистая, не сделалась чистой и мягкой на ощупь.
Следующей и последней операцией было изготовление бумаги, и она была проведена самим Карлом. Операция была довольно простой, но требовала известной ловкости и сноровки. Некоторое количество массы клали в бамбуковое сито и покачивали его из стороны в сторону, держа все время горизонтально под водой, пока масса не распределится равномерно по всей поверхности. Потом сито осторожно вынимали из воды, удерживая в горизонтальном положении, чтобы не потревожить ровного слоя массы. После этого оставалось лишь положить рамку на подставки и дать мякоти обтечь и высохнуть. Высохнув, она превращалась в бумагу.
Правда, пользуясь лишь одним ситом, нельзя было получить все нужное количество бумаги за один раз; но как только лист высыхал, его снимали с сита и туда снова наливали массу, и так далее, пока вся разваренная кора не была превращена в бумагу; оказалось, что больших листов так много, что можно сделать змей величиной хоть с дверь каретника.
Так как приходилось дожидаться, пока высохнет каждый лист, то процесс этот занял несколько дней; но и в эти дни охотники не теряли времени даром. Карл с Каспаром усердно трудились над «скелетом» змея, а Оссару взялся сделать для него хвост.
Веревка, на которой предстояло запустить змея, отняла много времени, и ее приготовление оказалось значительно сложнее остальных процессов. Каждую ее прядь необходимо было чрезвычайно тщательно свить и проверить прочность чуть не каждого волокна. Если бы они сделали очень толстую веревку, им не приходилось бы так усердствовать, но змей мог не поднять толстой веревки.
Понятно, что веревка средней толщины должна была быть безупречного качества, иначе они бы рисковали жизнью при подъеме.
Нечего и говорить, что Оссару приложил все усилия, чтобы сделать веревку как можно лучше, — каждую ее прядь он скручивал между большим и указательным пальцами так ровно и гладко, как если бы готовил ее для лески.
Рамку для змея они сделали из расщепленных пополам стволов бамбука рингалл, который превосходит прочностью, упругостью и легкостью все остальные виды деревьев; клей для наклеивания бумаги — из корня аронника, который мелко наскоблили и разварили, пока он не превратился в клейкий крахмал.
Через какую-нибудь неделю после того, как мысль о змее шевельнулась в мозгу у Каспара, «птицу» уже можно было видеть перед дверью хижины, вполне оперенную и готовую к полету.
Глава 44
ПУСКАЮТ ЗМЕЯ
Изготовив таким образом змея, они стали ожидать, когда ветер станет достаточно сильным и будет дуть в нужную сторону, то есть по направлению к той части каменной стены, куда они предполагали направить бумажную птицу. Это было то самое место, где все еще стояли лестницы и откуда они неудачно пытались запустить беркута.
Охотники уже поднимались на большую каменную глыбу, стоявшую в долине почти напротив этой части обрыва, и с ее вершины им удалось рассмотреть — хотя и не слишком хорошо-часть горного склона над обрывом. Казалось, он был покрыт снегом, на поверхности которого кое-где выступали большие темные бугры вероятно, валуны или льдины. Наши охотники напряженно в них вглядывались, как и в тот раз, когда они готовились выпустить беркута. Теперь эти бугры подавали им надежду. Если удастся запустить змея так, чтобы он упал на эти бугры, то не только возможно, но и весьма вероятно, что либо веревка запутается среди них, либо сам змей достаточно прочно застрянет между ними. Чтобы вернее добиться успеха, они снабдили крылья змея «шпорами», то есть приладили к ним поперечную палку, выступающую почти на фут за края бумажного щита, а по концам его прочно привязали под прямым углом еще несколько палок, которые должны были цепляться, как лапы якоря.
Они не жалели трудов, проявляли чудеса изобретательности и сделали всё, что только было в человеческих силах, чтобы обеспечить ycпex предприятию.
Судьба, видимо, благоприятствовала им — не пришлось слишком долго ожидать. Всего через каких-нибудь два-три дня ветер стал дуть в нужную сторону именно так, как они хотели. Это был ровный бриз, тянувший в одном направлении и достаточно сильный, чтобы поднять самого большого воздушного змея в мире.
Придя к месту, где стояли лестницы, стали приготовлять змея к полету. Карл должен был запустить и управлять его подъемом, а Каспар и шикари постепенно отпускать веревку, ибо только соединенными усилиями можно было удержать такую широкогрудую птицу, летящую против ветра.
Они предусмотрительно срезали все кусты на большой площади против утеса, расчистив себе поле действий; таким образом, ничто не мешало им разматывать веревку.
Уговорились, что Карл будет направлять движение змея и подаст сигнал ко взлету.
Все трое сильно волновались, когда встали на заранее определенные места: Карл со змеем, держа его одной рукой за среднюю планку, а другой за хвост; Оссару, схватившись за веревку; а Каспар рядом с ним, держа моток веревки наготове.
Карл поставил птицу на хвост, с трудом поднял ее на несколько футов над землей и звонким, высоким голосом выкрикнул сигнал.
Тотчас же Каспар и шикари отбежали назад, натягивая веревку, и змей взмыл кверху, словно огромный коршун с распростертыми крыльями. Он поднимался величаво и ровно и вскоре взлетел над соседними деревьями, держа направление к вершинам утесов.
Карл вскрикнул от радости, увидев его удачный взлет. Остальные были слишком заняты каждый своим делом, и им было не до радостных возгласов; лишь когда змей взлетел высоко в небеса и, казалось, взмыл над краем обрыва, Каспар и Оссару ответили на восклицание Карла, выразив свой восторг длительным «ура».
— Теперь отпускай, Оссару! — крикнул Карл, стараясь перекричать ветер. — А ты, Каспар, крепко держи за конец веревки!
Оссару, повинуясь приказанию, отпустил веревку и в тот же миг подбежал к Каспару, чтобы вместе с ним ухватиться за конец.
Отпущенный таким образом змей, как огромная, раненная насмерть птица, ринулся головой вниз; описывая в воздухе спирали и вертя длинным хвостом из стороны в сторону, он устремился к горному склону. Наконец, перемахнув через край утеса, птица скрылась от взглядов людей, которые помогали ей в гордом взлете, а потом дали беспомощно упасть.
До сих пор желания охотников исполнялись как нельзя лучше. Змей опустился именно там, где было нужно.
Но теперь встал вопрос: останется ли он на месте? Иначе говоря, застрял ли он между камнями и удержится ли там?
Если нет, то им придется запускать его снова и снова, до тех пор пока он не застрянет наверху или пока все их попытки не закончатся полным крахом.
Карл шагнул вперед, чтобы выяснить, как обстоит дело, а остальные следили за ним жадным взглядом, в котором отражалось лихорадочное нетерпение.
Рука у Карла слегка дрожала, когда он взялся за веревку. Сперва он потянул ее слегка, осторожно, только чтобы выбрать провис.
Потом веревка начала натягиваться, и нужно было тянуть ее все сильнее, словно змей был еще свободен и волокся по снегу.
Это не обещало ничего хорошего, и по мере вытягивания веревки — фут за футом, дюйм за дюймом — лица наших охотников омрачались.
Но тень, набежавшая на их лица, быстро исчезла, когда веревка вдруг остановилась и натянулась в руках у Карла. Тот дернул ее сначала не слишком сильно, словно опасаясь, что она опять поползет. Потом, убедившись в ее неподвижности, дернул изо всех сил — веревка не подалась ни на дюйм.
Тут Каспар и Оссару также взялись за веревку, и все трое потянули вместе.
Ура! Змей не сдвинулся с места. Веревка больше не подавалась, натянувшись во всю длину, как корабельная ванта.
У всех вырвались радостные восклицания. Некоторое время они стояли, крепко схватившись за веревку, не выпуская ее, словно опасаясь, что она будет вырвана у них какой-то невидимой враждебной силой.
Продолжая натягивать веревку — ибо, ослабив, они могли бы сдвинуть якорь наверху, — они осторожно приблизились вплотную к подножию каменных утесов. И пока Карл с Каспаром крепко держали веревку, Оссару выбрал провис позади них и, несколько раз обмотав веревку вокруг большого камня, надежно ее закрепил. Оставалось лишь сделать ступеньки, закрепить их в нужных местах, затем взобраться на вершину утеса — и они станут свободны, как горный ветер, который будет веять вокруг них!
У всех радостно билось сердце при мысли о близком освобождении, и они стояли вокруг камня, к которому была привязана веревка, поздравляя друг друга, словно уже вырвались из своей «тюрьмы».
Они знали, что еще потребуется немало времени, чтобы сделать и укрепить ступеньки; но так как они больше не сомневались, что смогут подняться наверх, это время пройдет довольно весело. Итак, они вернулись в свою мастерскую в самом лучшем настроении и приготовили себе такой вкусный обед, какой им еще не приходилось есть с того дня, как они обнаружили кусты дафнады.
Глава 45
ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА
Понадобился еще день, — причем они работали ножами с утра до ночи, — чтобы приготовить палочки, которые должны были стать ступеньками веревочной лестницы. Их предстояло сделать больше сотни, так как утес в том месте, где застряла веревка, был высотой более ста ярдов.
Ступеньки решено было помещать на равных расстояниях, примерно в двух футах друг от друга.
Сперва они хотели вставлять ступеньки между прядями, образующими веревку, но потом передумали. Ведь если раздвигать пряди для просовывания палочек, то веревка может растрепаться и легко порваться. Поэтому решили не портить веревку и накрепко привязывать к ней перекладины прочными бечевками. Перекладины будут крепко держаться на месте, тем более что ни одной из них не придется выдерживать целиком всю тяжесть человека, ибо он будет, карабкаясь, хвататься руками за веревку. Таким образом, если даже одна из перекладин и сдвинется с места, это не вызовет несчастного случая.
Весь следующий день они вили бечевки для привязывания перекладин, а на третий день вернулись к утесу, чтобы превратить веревку в веревочную лестницу.
Придуманный ими способ был очень прост. Перекладины накладывались поперек веревки и привязывались так крепко, чтобы не могли выскользнуть. Первую нужно было привязать на уровне пояса человека, вторую — на уровне подбородка. Затем, встав на первую перекладину и держась левой рукой за веревку, можно было привязать следующую, снова на уровне подбородка. Поднявшись на вторую, можно было привязать четвертую еще выше, и так далее, до самой вершины утеса.
Разумеется, никто из них не воображал, что один человек, работая без передышки, сможет привязать все перекладины; не думали они также, что им удастся быстро покончить с этим делом. Напротив, все знали, что эта работа займет несколько дней и что всякому, кто возьмется ее выполнить, будут необходимы длительные перерывы для отдыха. Подолгу стоять на такой ненадежной опоре будет утомительно и неприятно. Им хотелось представить себе все трудности этой работы, прежде чем к ней приступить.
Подойдя к веревке, они тотчас же принялись за дело. Вернее, принялся только один из них, так как эту работу — вероятно, последнюю, которую им придется проделать в этой уединенной долине, — можно было выполнить только поодиночке.
Привязывать перекладины к веревке должен был Оссару, так как он умел обращаться с веревками. Братьям оставалось быть только зрителями и подбадривать шикари своим присутствием и словами.
К счастью, на протяжении тридцати футов перекладины не нужно было привязывать. Подняться на такую высоту без помощи перекладин позволяла одна из ранее сделанных длинных лестниц. Можно было бы подняться и по остальным лестницам, если бы змей занес веревку поближе к ним. К сожалению, этого не случилось, и удалось использовать лишь одну из них.
Водрузив лестницу почти параллельно веревке, Оссару поднялся по ней и, стоя на верхней ступеньке, начал привязывать перекладины. Он захватил их с собой около дюжины, положив вместе с бечевками в сумку, сделанную из полы ситцевого балахона.
Карл с Каспаром, сидевшие на камнях внизу, и Фриц, лежавший у их ног на земле, молча, с напряженным вниманием следили за движениями шикари.
Первые две перекладины Оссару привязал довольно быстро; затем, покинув лестницу и встав обеими ногами на первую поперечину так, чтобы они уравновешивали друг друга и поддерживали ее в горизонтальном положении, он принялся привязывать третью на уровне своего подбородка.
Для такой процедуры требовалась незаурядная ловкость, но Оссару был одарен этим качеством в высшей степени и чувствовал себя на веревке так непринужденно, словно был одной из священных обезьян, которых чтят браманисты.
Всякий другой быстро устал бы, стоя на столь тонкой перекладине, но Оссару привык карабкаться на высокие, статные пальмы, и пальцы его ног приобрели цепкость; маленькой веточки и выступа на стволе дерева или узла на веревке было для него достаточно, чтобы продержаться несколько минут. Поэтому ему нетрудно было балансировать на уже привязанных перекладинах или подниматься с одной на другую, по мере того как он их привязывал. Он продолжал работать, пока захваченный им запас перекладин не иссяк и сумка не опустела. Тогда, переступая с перекладины на перекладину и осторожно перейдя на деревянную лестницу, он спустился к подножию утеса.
Карл и Каспар могли бы избавить его от спуска, так как им ничего не стоило подняться по лестнице и принести ему новый запас перекладин, но у Оссару для спуска имелась другая причина: ему необходимо было отдохнуть и освежиться.
Он оставался внизу недолго — ровно столько времени, чтобы кровь стала снова циркулировать в его босых ногах, а затем со вздувшейся, наполненной перекладинами сумкой он опять поднялся по лестнице, повис на веревке и вскарабкался по уже привязанным поперечинам. Опустошив сумку, он снова спустился вниз, отдохнул и опять поднялся.
Оссару продолжал работать весь день, причем большой перерыв был сделан для обеда, который Карл с Каспаром, не занятые ничем другим, приготовили очень старательно. Они не уходили в хижину для кулинарных операций. От этого не было бы толку, так как кухонное оборудование в хижине было ничуть не лучше, чем там, где они находились, а в кладовой не было ничего, кроме того, что они уже захватили с собой, то есть козлятины. Но Карл не сидел все это время сложа руки и набрал различных плодов и кореньев, которые послужили отличной приправой к мясу; обед показался восхитительным, ибо все трое уже давно стали неприхотливыми в еде.
После обеда Оссару долго курил свой любимый банг и, подбодрившись, с новой энергией взялся за дело.
Работа шла успешно, и до заката солнца он успел привязать целых пятьдесят ступенек, так что можно было подняться почти на треть всей высоты.
Только темнота положила конец этому тяжелому труду. Исполнитель и зрители направились обратно к хижине, намереваясь продолжать эту работу на следующий день, причем Карл и Каспар оказывали Оссару такое уважение, словно он был архитектором, а они — простыми каменщиками. Даже Фриц явно считал шикари самым важным лицом в их отряде: всякий раз, как Оссару спускался с утеса, пес «воздавал ему должное», бегая и прыгая вокруг него и упорно заглядывая ему в глаза, словно радуясь, что шикари вскоре их освободит.
По дороге домой Фриц продолжал свои демонстрации, прыгая вокруг шикари так, что иногда мешал ему идти; видимо, пес был убежден, что Оссару — герой дня.
Глава 46
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ СПУСК
На следующее утро, наспех позавтракав, они вернулись к работе, то есть по-прежнему работал Оссару, а остальные наблюдали.
К несчастью, в этот день погода была неблагоприятной для работы. Дул сильный ветер, налетавший резкими, бурными порывами.
Когда Оссару висел на веревке на высоте нескольких десятков футов, ветер, подхватывая его, относил иногда на несколько футов от утеса и сильно трепал из стороны в сторону, хотя веревка была закреплена с обоих концов.
Страшно было смотреть, как он висит и качается высоко над землей. По временам у зрителей замирало сердце: казалось, вот-вот отважный шикари либо разобьет голову от обвесный утес, либо, сорвавшись с веревочной лестницы, отлетит далеко в сторону, упадет на камни и разобьется вдребезги.
Вначале Карл и Каспар так за него боялись, что нередко кричали Оссару, чтобы он поскорее спустился, а когда он спускался, уговаривали его больше не подниматься, пока ветер не затихнет и опасность не уменьшится.
Однако все уговоры были напрасны. Шикари, привыкший всю жизнь воевать со стихиями, не страшился их; напротив, бросая вызов опасности, он испытывал какую-то гордость и настоящее наслаждение.
Даже относимый ветром от утеса и качаясь вдоль каменной стены, как маятник гигантских часов, он продолжал затягивать бечевки и закреплять деревянные ступеньки так хладнокровно, словно стоял на твердой земле у подножия скал.
Таким образом Оссару усердно проработал почтя до полудня — правда, с обычными перерывами для отдыха, во время которых Карл с Каспаром уговаривали его отложить работу до более благоприятного времени. Фриц ласкался к отважному охотнику и как-то пытливо заглядывал ему в лицо, словно знал, какой опасности подвергается шикари во время работы.
Однако шикари не слушал их уговоров — казалось, он презирал опасность и после отдыха всякий раз без колебаний вновь принимался за свое дело.
И он, наверно, успешно выполнил бы свою задачу, если бы обстоятельства не изменились. Ветер ни за что не стряхнул бы его с веревки, на которой он держался цепко, как паук; будь прочна опора, ему не страшен был бы даже ураган.
Смертельная опасность нагрянула совершенно неожиданно, и за минуту перед тем о ней никто не думал.
Время было около полудня, и Оссару уже удалось сделать ступеньки почти до половины высоты утеса. Он спустился за новым запасом перекладин и, поднявшись по деревянной лестнице, перешел на веревку и начал карабкаться кверху, как это делал уже десятки раз.
Карл и Каспар не отрываясь следили за его движениями, так как, хотя он уже много раз поднимался, опасность всегда ему угрожала и зрелище было поистине потрясающее.
Не успел Оссару перейти с лестницы на веревку, как у него вырвался крик, от которого зрители содрогнулись, так как это был крик ужаса. Они вскоре поняли, какая опасность грозит шикари. Он не по своей воле спускался по веревке вдоль утеса, а веревка ползла вместе с ним; как видно, змей высвободился из камней и под тяжестью Оссару съезжал вниз по снежному склону.
В первый момент казалось, что Оссару спускается медленно; если бы не его крики и не ослабевшая веревка, стоящие внизу не поняли бы, в чем дело. Но уже через несколько мгновений они увидели, какой ужасной опасности подвергается их верный шикари.
Теперь уже не оставалось сомнений, что змей высвободился и вслед за веревкой неуклонно ползет к краю обрыва.
Встретит ли он на пути какую-нибудь преграду или будет продолжать медленно скользить? Или волочащийся по снегу якорь попадет на гладкий склон и быстро скатится вниз? Другими словами, угрожает ли Оссару падение с высоты тридцати футов?
Но зрителям в этот момент было не до рассуждений. Они знали только одно: что их товарищ на краю гибели, а они ничем не могут ему помочь.
С ужасом они заметили, что Оссару скользит все быстрее и быстрее; порой он двигался плавно, иногда резко срывался вниз и наконец оказался футах в двадцати над землей. У них блеснула надежда, что, если он таким образом опустится еще на несколько ярдов, опасность минует, но как раз в этот момент над краем утеса показалась широкая грудь змея, и он, как огромная птица, спрыгнул со скалы и взмыл над долиной.
Оссару, все еще висевшего на веревке, отнесло на несколько футов от утесов, но его тяжесть, к счастью, превысила сопротивление, какое оказывал воздух широкой поверхности змея, не то шикари подняло бы еще выше. И перевес этот был настолько мал, что не вызвал слишком быстрого падения.
Как бы то ни было. Оссару опустился плавно, как голубь, встал на ноги и выпрямился во весь рост, как Меркурий[187] на вершине «поднебесной горы».
Ощутив под своими ногами твердую почву, шикари упруго отскочил в сторону и отшвырнул от себя веревку, словно это было раскаленное железо.
Оказавшись на свободе, огромный змей стал метаться по ветру из стороны в сторону, с каждым поворотом спускаясь все ниже и ниже, — наконец, собрав остаток сил, обрушился на Оссару, как гигантская хищная птица на свою жертву.
Шикари едва успел отскочить в сторону, счастливо избегнув удара, который наверняка раскроил бы ему череп.
Глава 47
ЗМЕЙ УЛЕТЕЛ
Чудесное спасение Оссару так обрадовало братьев, что они не слишком досадовали на свою неудачу со змеем, тем более что считали беду поправимой. Вероятно, виной всему был ветер, поднявший змея с того места, где он застрял, и отцепивший его от камней или других предметов, которые его задерживали.
Охотники не сомневались, что им удастся снова запустить змея и закрепить, как раньше, и это позволило им довольно легко перенести свою неудачу.
Так как ветер в этот день дул не в том направлении, какое им было нужно, они решили отложить следующую попытку до более благоприятного случая, а чтобы змей не испортился от дождя, его подняли и вместе с веревкой унесли в хижину.
Прошло около недели, прежде чем подул благоприятный для них ветер, но охотники не сидели в бездействии. Допуская, что им придется пробыть еще некоторое время в этой долине, они решили пополнить запасы провизии и охотились целые дни напролет: им не хотелось трогать заготовленное впрок мясо каменного козла, которого оставалось еще довольно много.
Охотники совсем не пользовались ружьями. Последние заряды еще оставались в стволах, но их надо было сохранить на тот случай, если больше нельзя будет добывать пищу другими способами.
Теперь у них была твердая уверенность, что они выберутся из своей «тюрьмы», и порой они уже воображали, как будут спускаться с гор, и говорили, что придется держать ружья наготове, так как на обратном пути можно встретить крупных зверей. Они знали, что в долине вполне можно обойтись без ружей, достаточно было лука Оссару. Звон его тетивы то и дело раздавался в лесу, и стрела шикари пронзала грудь какой-нибудь прекрасной птицы: павлина, фазана-аргуса или красивого китайского гуся, каких было немало на озере.
Сети и удочки у Оссару также не оставались без дела. Рыба попадалась различных сортов и превосходного качества. Одна порода рыб встречалась в несметном количестве. Это были крупные угри; вода прямо кишела ими, и стоило забросить крючок с червем, чтобы мгновенно вытащить угря добрых шести футов длиной.
Так как угри им не нравились, они не слишком часто занимались их ловлей. Но все же приятно было сознавать, что этих скользких тварей такое неисчерпаемое множество и, если даже все прочие ресурсы иссякнут, они всегда будут обеспечены обильной, здоровой пищей.
Наконец подул благоприятный ветер, и змея снова перенесли на то же место, что и раньше. Его опять запустили, и он точно так же взвился и зареял над утесом, а когда веревку отпустили, упал на горный склон.
Они порадовалась такому удачному началу, но — увы! — вскоре их постигло горькое разочарование.
Потянув веревку, они увидели, что якорь не зацепился. Веревка без сопротивления поползла назад; чувствовалось, что ее лишь слегка тормозит трение о край утеса и тяжесть змея, скользившего по. снежному склону.
Они осторожно вытягивали веревку фут за футом, ярд за ярдом, пока над краем утеса не появилась широкая, изогнутая дугой грудь бумажной птицы.
Снова запустили змея в воздух; опять веревка была отпущена, пока птица не поднялась на всю длину своей привязи, и снова ей дали упасть.
Затем веревку потянули вниз — и она опять стала подаваться, и вновь светлая дуга появилась над краем утеса, четко вырисовываясь на фоне синего нeбa, но это была не радуга, символ доброй надежды, а скорее символ разочарования и досады.
Опять взлет — опять неудача… опять и опять. Все трое уже теряли терпение и выбивались из сил.
Ведь это была не игра. Они запускали змея не для забавы, — запускали его, чтобы вырваться на свободу, и все трое были кровно заинтересованы в удаче, ведь от этого зависела их жизнь.
Но силы и терпение их явно подходили к концу. Все же сдаваться было нельзя, и они продолжали свои попытки, хотя с каждой неудачей у них оставалось все меньше и меньше надежд.
Больше двадцати раз подряд запускали они змея и подтягивали его к краю утеса, причем делали это в разных местах.
Но всякий раз результат был один и тот же. Птица упорно не хотела вцепиться когтями в скалы, в ледяные глыбы или в кучи мерзлого снега, которыми был усеян горный склон.
Наши искатели приключений никак не могли понять, чем вызваны все эти неудачи, — ведь в первый раз змей сразу же зацепился; если бы он не зацепился ни разу, они, пожалуй, пришли бы к убеждению, что план невыполним, и отказались бы от дальнейших попыток. Но достигнутый ими с самого начала успех был залогом того, что успеха можно добиться еще раз, и они убеждали друг друга продолжать попытки.
Еще добрых шесть раз запускали они змея, но фортуна по-прежнему от них отворачивалась, и они прекратили попытки, оставив бумажную птицу на краю утеса; казалось, она сидела там, готовясь к новому полету.
К этому времени у змея был уже весьма потрепанный вид — оперение его сильно пострадало от острых скал и ледяных глыб. Когда он взлетал, в его щите светилось немало дыр, и его полет уже не был величав, как прежде. В скором времени предстояло его починить. Наши охотники на несколько минут прервали свою работу, чтобы обсудить, когда можно будет заняться починкой и следует ли попытаться запустить змея в другом месте.
Бросив с досады веревку на землю, все трое отошли от нее на несколько шагов и стояли в тяжелом раздумье. На этот раз они и не подумали закрепить веревку, ибо никому не приходило в голову, что рискованно оставлять ее непривязанной.
Они поняли свою ошибку слишком поздно — когда увидели, что веревка вдруг дернулась кверху, словно притянутая незримой рукой.
Все трое кинулись ее ловить, но опоздали. Конец веревки болтался уже на такой высоте, что самый рослый из них, даже встав на цыпочки, не мог дотянуться до нее.
Оссару высоко подпрыгнул, стараясь поймать веревку. Каспар кинулся за длинным шестом, надеясь ее зацепить, а Карл быстро поднялся на приставленную к утесу лестницу, близ которой болталась веревка.
Но все усилия оказались напрасными. Секунду или две конец веревки висел, вздрагивая, у них над головой, словно дразня неудачников; потом будто незримая рука вновь дернула за веревку — она быстро поднялась кверху и вскоре исчезла за гребнем утеса.
Глава 48
БУМАЖНЫХ ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ НЕТ
В исчезновении веревки не было ничего таинственного. Змея больше не было видно на вершине утеса. Ветер унес его, а вместе с ним, конечно, и веревку.
Когда первый момент изумления миновал, охотники обменялись взглядами, в которых сквозило нечто большее, чем разочарование. Сколько бы раз змей ни отказывался зацепиться, один раз он уже держался крепко, и было естественно предположить, что это снова ему удастся. К тому же в некоторых местах каменная стена была даже ниже, чем там, где они делали попытки, и это давало им шансы на успех. Словом, все говорило за то, что, не упусти они змея, рано или поздно им удалось бы выбраться из этой скалистой «тюрьмы» по веревочной лестнице; но теперь всякая возможность была потеряна, унесена дуновением ветра.
Вы можете подумать, что это несчастье не было непоправимым. Можно соорудить еще одного змея, скажете вы, и из такого же материала, из какого был сделан улетевший. Но утверждать это — значит говорить, не зная всех обстоятельств.
Эта мысль уже возникала у охотников, когда они заметили, что змей с каждым разом все больше рвется и приходит в негодность.
— Нам нетрудно будет сделать второго, — сказал Каспар.
— Нет, брат, — ответил Карл, — боюсь, что нам это не удастся. У нас осталось достаточно бумаги, чтобы починить змея, но не хватит на второго.
— Но ведь мы можем сделать новый запас бумаги, не правда ли? — настаивал Каспар.
— Нет, — ответил Карл, покачав головой, — нам это не удастся — ни одного листа!
— Но почему же? Ты думаешь, что больше нет кустов дафнады?
— Думаю, что нет. Ты ведь помнишь, мы ободрали все, какие были в той заросли, а потом, предполагая, что нам понадобится еще бумага, я обошел всю долину и обследовал ее вдоль и поперек, но не нашел ни кустика дафнады. Я почти уверен, что их больше нет.
Разговор о бумаге происходил задолго до потери змея. Когда это случилось, они уже знали, что нельзя будет сделать змея: потеря была невозместима.
В какую сторону улетел змей? Разве ветер не мог протащить его вдоль утесов и снова сбросить в долину?
На это можно было надеяться, и все трое отбежали от утеса, чтобы получше разглядеть вершину обрыва.
Долго стояли они, надеясь увидеть, как большая бумажная птица возвращается к месту своего рождения. Но она не вернулась, и наконец они убедились, что никогда не вернется. В самом деле, приостановившись, чтобы определить направление ветра, они увидели, что змей никак не может вернуться. Ветер дул от утесов, по направлению к снежным склонам. Несомненно, змей был унесен вверх по склону и либо перелетел через гору, либо застрял где-нибудь в глубокой расселине, откуда ветер уже не сможет его поднять. Во всяком случае, было ясно, что и змей и веревка навсегда для них потеряны.
— Ах, какое несчастье! — с досадой воскликнул Каспар убедившись, что змей потерян безвозвратно. — Горькая наша судьба!
— Нет, Каспар, — с упреком сказал ему Карл, — не вини судьбу в том, что сейчас случилось. Я согласен, что это большое несчастье, но ведь мы сами во всем виноваты. Только по своей небрежности мы лишились змея, а вместе с ним, быть может, и последней возможности вырваться на свободу.
— Ты прав, — ответил Каспар, и в голосе его прозвучало раскаяние, — это наша вина, и мы наказаны по заслугам… Но уверен ли ты, Карл, — продолжал он, возвращаясь к прежнему разговору, — вполне ли ты уверен, что в долине больше не осталось бумажных деревьев?
— Я не стану утверждать, что их больше нет, — ответил охотник за растениями, — но боюсь, что это так. Мы сможем ответить на этот вопрос, когда тщательно обследуем долину. Быть может, найдется какое-нибудь другое растение, которое тоже пригодится для этой цели. В Гималайских горах растет береза, встречающаяся и в Непале, и в Тибете. Береста с нее снимается широкими полосками и пластами, которых бывает не меньше восьми, каждый толщиной с лист писчей бумаги, и эти пласты вполне могут заменить ее…
— Как ты думаешь, она годится для змея? — прервал его Каспар.
— Я в этом уверен, — ответил ботаник. — Эти пласты даже прочнее, чем бумага из дафнады, и если бы я надеялся найти здесь эту березу, то предпочел бы сделать змея именно из ее коры. Но мы едва ли ее найдем. Я не встречал здесь ни одной березы, и мне известно, что большинство разновидностей берез предпочитает более холодный климат, чем в этой долине. Весьма возможно, что она растет где-нибудь высоко в горах, но нам до нее все равно не добраться… Но не будем отчаиваться, — добавил он, стараясь казаться веселым, — может быть, она попадется нам здесь, а если не она, то еще одна заросль дафнады… Пойдемте на поиски!
По правде сказать, у Карла было мало надежды на успех. И в самом деле, потратив на поиски целых три дня, обшарив вдоль и поперек всю долину, им не удалось разыскать ни столь желанной им березы, ни милой их сердцу дафнады, ни какого-нибудь другого вида дерева, из которого можно было бы приготовить бумагу.
Итак, больше нечего было думать о змее, и мало-помалу их мысли приняли другой оборот.
Глава 49
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ
Едва ли можно говорить о бумажном змее, не думая о другом, более крупном летательном аппарате — воздушном шаре.
Карл уже давно о нем думал; думал и Каспар, так как змей в одно и то же время внушил эту мысль им обоим.
Вы спросите, почему же они оставили ее и не пытались осуществить, — ведь шар мог бы вынести их из горной «тюрьмы» гораздо скорее, чем змей!
Но они не оставляли мысли о воздушном шаре, во всяком случае Карл, который тщательно обдумывал этот вопрос. Каспар вскоре охладел к этому плану, решив, что им не удастся сделать шар, а Карла останавливало лишь отсутствие материала. Он думал, что, если бы у них был подходящий материал, он сумел бы сделать шар, правда самый простой, но все же вполне пригодный для их цели.
Пока они были заняты бумажной птицей, он продолжал обдумывать этот проект, так как, по правде сказать, не слишком-то надеялся на успех змея.
Долго и напряженно думал он о воздушном шаре, стараясь припомнить все, что ему было известно по аэростатике, и мысленно проверял все доступные им материалы и предметы, надеясь обнаружить что-нибудь, из чего можно было бы соорудить шар.
К сожалению, ему не удавалось придумать ничего подходящего. Бумага из дафнады, будь ее даже много, все равно не годилась бы, так как даже самая плотная бумага не обладает достаточной прочностью, и, если сделать из нее большой шар, рассчитанный на подъем значительного груза, он не выдержит давления атмосферы. Но о бумаге вообще не могло быть речи, ибо ее оставалось очень мало. Из чего же, в таком случае, сделать оболочку шара?
Карлу было известно, что воздушный шар должен быть непроницаем для воздуха. Сперва он подумал о шкурах животных, но те шкуры, которые можно было достать в нужном количестве, не годились, будучи слишком толстыми и тяжелыми. Правда, кругом росло множество конопли, из которой удалось бы соткать ткань и пропитать ее смолой, потому что в долине было несколько видов изобилующих смолой деревьев. Но еще вопрос: удастся ли им сделать из конопли ткань, достаточно легкую и после просмаливания? Во всяком случае, пришлось бы долго упражняться в ткацком искусстве, прежде чем они добились бы нужного результата. Итак, не приходилось надеяться на успех; об этом плане не стоило серьезно думать, и Карл отказался от него.
Это было еще до опыта со змеем, так неудачно окончившегося. Но теперь, когда все надежды на змея рухнули, мысль о шаре снова засела у него в мозгу; явилась она и Каспару; и братья впервые заговорили на эту тему.
— Мы можем наделать сколько угодно веревок, — заметил Каспар, — но они будут бесполезны, раз у нас не из чего сделать большой шар. Его делают из шелка, не правда ли?
— Да, — ответил Карл, — шелк — самый подходящий для него материал.
— Почему? — спросил Каспар.
— Потому, что он обладает тремя ценными качествами: легкостью, прочностью и плотностью; он значительно плотнее всех других тканей.
— А из чего еще можно сделать покрышку шара?
— О, небольшой шар, способный поднять лишь незначительный груз, можно сделать из различного материала, даже из бумаги. Такой шар выдержит груз в несколько фунтов — например, кошку или собаку. И в некоторых странах находились такие жестокие люди, которые отправляли этих тварей в воздушное путешествие, нимало не заботясь об их дальнейшей судьбе.
— Конечно, это было очень жестоко с их стороны, — согласился Каспар, который, хотя и был охотником, далеко не отличался жестокостью. — Таких людей самих следовало бы заставить летать на бумажном шаре.
— Да, если бы бумажный шар мог их поднять, но, к сожалению, он не выдерживает тяжести человека. Даже будь у нас неограниченный запас бумаги, она бы нам не пригодилась. Нам нужен более прочный и тонкий материал.
— Не придумать ли нам что-нибудь? Попробуем, Карл!
— Ах, милый брат, я день и ночь ломаю голову, и все напрасно! В этой долине нет ничего подходящего для нашей цели.
— Может быть, годится парусина? Ты о ней думал?
— Думал. Она слишком груба и тяжела.
— Но мы постараемся сделать ее достаточно легкой. Можно выбрать самые тонкие конопляные волокна, выпрясть и соткать их самым тщательным образом. Оссару в этом отношении — настоящая Омфала. Ручаюсь, что за прялкой он превзойдет самого Геракла.
— Однако, — не без удивления воскликнул Карл, — сегодня ты разглагольствуешь, как какой-нибудь классик! Откуда ты знаешь историю Геракла? Ведь тебя никогда не видали в стенах университета.
— Ты забываешь, Карл, что сам занимался со мной классическими предметами. Впрочем, должен признаться, эти знания мне не пригодились в жизни, и я прибегаю иногда к ним лишь для украшения речи. Думаю, что и впредь от них не будет никакого толку.
— Я с тобой согласен, Каспар, — ответил ботаник, — и не стану защищать классическое образование. Правда, я познакомил тебя с мифологией, но в ту пору у нас с тобой было много свободного времени, иначе я бы не стал этим заниматься. Ты уже знаешь мое мнение на этот счет — я убежден, что от изучения классической древности для мыслящего человека не больше пользы, чем от китайской мнемоники. Я только даром потратил время на изучение мертвых языков, и все приобретенные мною знания не поднимут нас ни на фут. Ни Юпитер, ни Юнона не помогут нам выйти из положения, и мое знакомство с Меркурием не даст нам крыльев. Итак, оставим мифологию и посмотрим, не помогут ли нам научные знания. У тебя изобретательный ум, Каспар. Но придумаешь ли ты, из чего бы нам сделать непроницаемую для воздуха оболочку шара? Конечно, я имею в виду доступный нам материал.
— Но сможешь ли ты сделать шар, если у тебя будет нужный материал? спросил Каспар, которому все еще не верилось, чтобы такой чудесный аппарат мог соорудить кто-нибудь другой, кроме опытного аэронавта.
— Ба! — возразил философ. — Сделать шар ненамного труднее, чем мыльный пузырь. Возьми мешок из непроницаемого для воздуха материала, надуй его горячим воздухом — вот тебе и воздушный шар! Весь вопрос в том, какую тяжесть он может поднять, включая материал, из которого сделан.
— Но как же ты наполнишь шар горячим воздухом?
— Очень просто: внизу шара сделаю отверстие и разведу под ним костер.
— Но ведь воздух быстро остынет!
— Да, и тогда шар упадет на землю, так как находящися в нем воздух, остыв, сделается таким же тяжелым, как и наружный. В самом деле, — продолжал философ, — ты знаешь, что горячий воздух гораздо легче холодного; вот почему шар, наполненный горячим воздухом, поднимается кверху, пока не достигнет такой высоты, где окружающий его разреженный воздух не тяжелее заключенного в нем. Дальше он не может подниматься, и вес оболочки заставит его упасть. Представь себе плавающий пузырь или закупоренную бутылку, погруженную в воду, и ты поймешь, как это происходит.
— Я и так понимаю, — возразил Каспар, несколько обиженный тем, что ученый брат говорит с ним, как с ребенком. — Но я думал, что необходимо постоянно поддерживать огонь в очаге, который находился бы в корзинке, подвешенной к шару. Ну, а если бы у нас был шелк и мы сделали большой шарообразный мешок, то где найти железо, чтобы сделать очаг?
— Нам не понадобится очаг, о котором ты говоришь. Он необходим лишь в том случае, если шар должен оставаться довольно долго в воздухе. А если требуется лишь кратковременный подъем, то достаточно наполнить шар горячим воздухом, и он взлетит. Собственно говоря, нам только это и нужно. Даже если бы нам понадобилось поддерживать огонь в очаге, подвешенном к шару, я полагаю, тебе ничего не стоит изобрести что-нибудь в этом роде.
— Ну, я не вполне уверен, что это бы мне удалось… А как бы ты вышел из положения?
— Да сделал бы обыкновенную корзину и обмазал ее глиной. Она держала бы огонь не хуже железного или чугунного очага и вполне пригодилась бы. Но в настоящее время не пользуются огнем для надувания шаров. Горючий газ более пригоден для этой цели; но так как его у нас нет, то нам пришлось бы прибегнуть к старому способу — тому самому, какой применили братья Монгольфье, изобретатели воздушного шара.
— Значит, ты думаешь, что можно обойтись без очага и вся задача в том, чтобы сделать из необходимого материала большой шарообразный мешок и наполнить его горячим воздухом?
— Да, — ответил Карл. — Придумай что-нибудь, и я обещаю тебе сделать шар.
Каспар охотно принял вызов брата и долго сидел молча, погрузившись в размышления. Он перебирал в уме всевозможные материалы, какие только можно было найти в долине.
— Ты говоришь, он должен быть легким, непроницаемым и прочным? — спросил он через некоторое время, видимо имея в виду какой-то материал.
— Легким, непроницаемым и прочным, — подтвердил Карл.
— Последние два качества налицо, — продолжал Каспар, — я сомневаюсь только насчет первого.
— А что это? — живо спросил Карл, видимо заинтересованный словами брата.
— Шкурки угрей, — был лаконичный ответ.
Глава 50
КОЖАНЫЙ ШАР
— Да, шкурки угрей, — повторил Каспар, видя, что Карл не спешит высказать свое мнение. — Как ты думаешь: они годятся?
Карл чуть было не воскликнул: «Это как раз то, что нужно!», но что-то заставило его удержаться от такого высказывания.
— Может быть, может быть… — сказал он, видимо обдумывая этот вопрос, вполне возможно, и все же я боюсь…
— Чего ты боишься? — спросил Каспар. — Ты думаешь, они недостаточно прочны?
— Они достаточно прочны, — возразил Карл. — Я не этого боюсь.
— Но ведь воздух не пройдет сквозь шкурку угря?..
— Дело не в этом.
— Ты думаешь, он пройдет сквозь швы? Но Оссару сошьет их не хуже любого сапожника.
Шикари был мастер на все руки. Карл знал это. Видимо, он опасался чего-то другого.
— Так ты имеешь в виду их вес? — снова спросил Каспар.
— Вот именно, — ответил Карл. — Боюсь, что они окажутся слишком тяжелыми. Принеси-ка одну, Оссару, посмотрим.
Шикари поднялся с камня, вошел в хижину и вскоре вернулся, неся какую-то длинную сморщенную ленту, — это и была высушенная шкурка угря.
В хижине их было немало, так как охотники тщательно сохраняли шкурки всех пойманных ими угрей, — что-то подсказывало им, что эти шкурки когда-нибудь понадобятся.
И на этот раз мудрая предусмотрительность сослужила им службу.
Карл взял шкурку и положил на ладонь, пытаясь определить ее вес.
Каспар следил за выражением лица брата и ждал, что он скажет, но Карл выразил свои мысли лишь покачиванием головы; это, по-видимому означало, что он отвергает шкурку угря.
— Их можно сделать гораздо более легкими, брат, — предложил Каспар, — надо их выскоблить. А потом, почему бы их не прокипятить, тогда они станут еще легче. Кипячение удалит из них все маслянистые, жировые вещества.
— Ты дело говоришь, — ответил Карл, которому понравилось предложение брата. Если их как следует прокипятить, они станут значительно легче. А ну-ка, попробуем…
С этими словами Карл направился к кипящему источнику и погрузил шкурку в воду.
Она оставалась там с полчаса. Затем ее вынули, выскоблили ножом и расстелили на камне, чтобы просушить на солнце.
Все терпеливо ждали, пока просохнет шкурка. Их так волновал вопрос, будут ли пригодны шкурки, что не хотелось заниматься ничем другим.
Наконец шкурка просохла, и можно было приступить к испытанию. Карл снова положил ее на ладонь.
Даже на таких несовершенных весах он сразу обнаружил, что шкурка стала значительно легче, и по глазам философа было видно, что теперь ее вес кажется ему более подходящим.
Все же он не питал особых надежд и высказался весьма сдержанно:
— Вполне вероятно. Что ж, попытка не пытка. Итак, попробуем…
«Попробуем» означало: «сделаем шар». Товарищи, не возражая, приняли его предложение.
Решено было тотчас же приступить к этой сложной работе.
Хотя шкурок было много, их не хватило бы на оболочку шара, — поэтому Оссару взялся за свои лески и крючки, чтобы наловить еще несколько сот угрей. Карл мог сказать, сколько их потребуется, — вернее, приблизительно определить нужное количество. Он задумал шар двенадцати футов в диаметре, так как знал, что шар меньших размеров не поднимет и одного человека. Разумеется, Карл умел вычислить, чему будет равна поверхность шара диаметром в двенадцать футов. Для этого достаточно было умножить диаметр на длину окружности, или квадрат диаметра на постоянное число 3,1416 (или определить поверхность описанного цилиндра, или же учетверенную поверхность большого круга шара).
Любым из этих способов можно было получить правильный результат.
Сделав вычисления, он нашел, что поверхность шара диаметром в двенадцать футов равна четыремстам пятидесяти двум квадратным футам и нескольким дюймам. Итак, на его оболочку потребуется четыреста пятьдесят два квадратных фута шкурок угря.
Так как угри были крупные — в среднем длиной более ярда и четырех дюймов в окружности, — то в распластанном виде шкурка занимала площадь, равную примерно одному квадратному футу. Принимая во внимание, что будут попадаться и небольшие шкурки, и учитывая, что придется отрезать головы и хвосты. Карл вычислил, что на оболочку шара пойдет пятьсот шкурок. Но так как их приходилось срезать наискось, чтобы получить шаровую поверхность, то могло потребоваться еще больше, а потому Оссару должен был держать свои снасти в воде, пока не наловит достаточного количества угрей.
Оссару была поручена еще одна работа, отнимавшая у него больше времени, чем ловля угрей (за удочками приходилось лишь время от времени приглядывать): предстояло выпрясть нитки для сшивания шкурок, и это была сложная, кропотливая работа, ибо нити должны были быть тонкими и прочными. Как сказал Каспар, Оссару искусно владел веретеном, и из-под его ловких пальцев уже вышло несколько больших мотков тончайших ниток.
Покончив с нитками, Оссару принялся за бечевки и за более толстые веревки, которые были необходимы, чтобы подвесить гондолу и удерживать шар, когда он будет готов к полету.
Каспару приходилось обдирать угрей, затем выскабливать шкурки, кипятить их и просушивать, а Карл, взявший на себя роль главного инженера, следил за всеми работами, занимался окончательной отделкой материала и выкраивал из шкурок полоски, которые следовало потом тщательно стачать.
Карл совершил также экскурсию в лес и принес большое количество смолы, которую извлек из дерева, принадлежащего к породе фикусов; эта смола своего рода каучук и содержится в различных видах фикуса, растущих в нижних Гималаях. Он знал, что это вещество потребуется для проклейки швов, чтобы сделать их непроницаемыми для воздуха.
В таких делах прошло около недели. Наконец они решили, что у них уже достаточно всех этих материалов, и Оссару принялся стачивать шкурки. К счастью, у них имелись иголки, так как охотники за растениями, отправляясь в экспедицию, непременно берут их с собой.
Ни Карл, ни Каспар на владели этими острыми орудиями-и шитье было поручено Оссару. Прошла еще неделя, прежде чем он закончил эту сложную работу скорняка.
Наконец огромный мешок был готов, но его следовало еще просмолить. На это ушел один день. Теперь оставалось лишь прикрепить «лодку», или «гондолу», которая должна понести их в отважном полете в «лазурные поля небес».
Глава 51
ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ
Из всех троих один Карл был немного знаком с аэростатами и имел некоторое понятие о том, как их надувают. Если бы им предстояло лететь долгое время, то понадобился бы прибор для поддержания огня. Карл уже давно его придумал: плетеная корзинка, обмазанная глиной, могла заменить очаг; но так как нужно было лишь взлететь на вершину утеса, то не требовалось поддерживать огонь, достаточно было лишь наполнить шар горячим воздухом, поэтому никто не думал об очаге.
Корзина для пассажиров, называемая иногда гондолой, в большинстве случаев имеет вид лодки, и если бы они собирались в продолжительный полет, ее изготовление заняло бы немало времени; но в данном случае можно было ограничиться глубокой плетеной корзиной, подвешенной на веревках. Она была уже готова, и оставалось лишь прикрепить ее к дну огромного мешка.
В данном случае «дно мешка» — лишь риторический оборот. По существу говоря, никакого дна не было: вместо него было круглое отверстие, обрамленное прочным кольцом из бамбука рингалл, к которому была пришита кожаная оболочка; к этому кольцу предстояло прикрепить веревки для подвешивания корзины и канат для удерживания шара.
Легко понять назначение этого отверстия. Сквозь него внутрь шара должен поступать горячий воздух.
Но как получить горячий воздух? На этот вопрос мог ответить один Карл. Правда, воздух можно нагреть, разведя костер, но как наполнить им мешок? Способ был известен только Карлу. И теперь, когда пришло время проделать эксперимент, он наконец соблаговолил объяснить своим помощникам, что именно он собирается сделать.
Мешок следовало подвесить, прикрепив к высоким, воткнутым в землю шестам, так чтобы нижний конец с отверстием находился над землей. Непосредственно под отверстием нужно было развести костер, но лишь тогда, когда все остальное будет готово. Горячий воздух, поднимаясь к отверстию, войдет в мешок и раздует его, придав шарообразную форму. Если впустить еще больше горячего воздуха, весь холодный будет вытеснен, шар станет легче наружного воздуха, и давление атмосферы заставит его подняться кверху. Охотники ожидали, что все так и произойдет, — они на это надеялись.
По правде сказать, сам «инженер-конструктор» далеко не был уверен в успехе, у него была лишь смутная надежда. Он отлично видел, что даже после тщательной обработки шкурки угрей были тяжелее шелка, и вполне допускал, что их опыт может и не удаться. Карла тревожило и другое обстоятельство, которое могло помешать шару подняться. Он не забывал, что их долина находится на высоте почти десяти тысяч футов над уровнем моря. Ему было известно, что на такой высоте воздух весьма разрежен и что шар, на уровне моря легко поднимающийся на несколько тысяч футов, может и не подняться над землей, если его перенести на вершину горы высотой в десять тысяч футов. Все это сильно тревожило молодого философа, и он не питал особых надежд на успех своего предприятия.
Он с самого начала хорошо понимал положение вещей и несколько раз был готов отказаться от этого проекта. Но он недостаточно знал законы аэродинамики, чтобы убедиться в том, что их постигнет неудача, и продолжал работать, упорно добиваясь успеха.
Так обстояло дело в тот день, когда должен был впервые взлететь их большой воздушный корабль.
Все было готово с раннего утра. Огромный мешок помещен между шестами; к нему подвешена гондола и прикреплены канаты, которые должны удерживать шар на месте; другим концом они привязаны к прочным колышкам, глубоко вбитым в землю, а под шаром сложен из камней небольшой очаг для костра.
Топливо для костра было заранее заготовлено на этом месте. Но это не было ни дерево, ни хворост; правда, пригодиться могло бы то и другое, но Карл предпочел иной материал. Он вспомнил, что Монгольфье и другие воздухоплаватели до изобретения светильного газа применяли для надувания шаров рубленую солому и шерсть, считая это самым подходящим веществом. Карл решил следовать их примеру и заготовил рубленой травы вместо соломы, а вместо бараньей шерсти собрал в большом количестве шерсть каменного козла и других убитых животных — драгоценную шалевую шерсть Кашмира. Гондола, представлявшая собой глубокую корзину, имела в поперечнике не более трех футов. Там, конечно, не могли поместиться трое пассажиров да еще большая собака, ибо, разумеется, Фрица не собирались здесь оставлять. Верный пес слишком долго разделял участь охотников, чтобы его можно было покинуть на произвол судьбы.
Но гондола вполне соответствовала своему назначению, ибо она была рассчитана только на одного человека.
Карл отлично знал, что шар не сможет поднять сразу всех троих, так как их общий вес превышал четыреста фунтов. Он был бы счастлив, если бы удалось подняться хоть одному из них. Только бы высадиться на вершине утеса, тогда воздушный корабль можно бросить! Совершив это путешествие, шар может совершить и другое — направиться либо на юг, в Калькутту, либо на восток, в Гонконг, если ему больше нравится Китай.
В самом деле, если одному из них удастся подняться на утес, то он сможет быстро переправиться через горы, дня через два добраться до одного из туземных селений, какие встречались им по пути в долину, и в скором времени привести спасательный отряд с веревочными лестницами.
Даже если бы и нельзя было рассчитывать на постороннюю помощь, они все равно вышли бы из положения. Пусть лишь один из них поднимется на утес — и он спустит веревочную лестницу, чтобы могли подняться и его товарищи.
Легко догадаться, что роль воздухоплавателя взял на себя Оссару. Шикари сам вызвался совершить опасный подъем: товарищи охотно приняли его предложение. Не потому, что они боялись за свою жизнь — оба уже не раз доказали свою храбрость — но Оссару мог лучше других справиться с этой задачей: выбравшись из долины, он быстро спустится с гор, дойдет до ближайшего селения и сумеет объясниться с туземцами на их родном языке, растолковав им, какая от них требуется помощь.
Глава 52
ЕЩЕ ОДНА НЕУДАЧА
Наконец наступила решительная минута. Всеми владела одна мысль: выдержит ли испытание их воздушный корабль?
Все трое стояли перед кучкой травы и шерсти, которую оставалось только поджечь.
Карл держал в руке пылающий факел. У Каспара в руках была толстая веревка, и он должен был удерживать шар от слишком быстрого подъема. А Оссару с дорожным мешком за плечами стоял у гондолы, готовый в нее вскочить.
Увы! Как обманчивы людские предположения! Самые точные расчеты иной раз оказываются ошибочными, а в данном случае не могло быть и речи о непредвиденной ошибке, ибо с самого начала Карл сомневался в успехе и теперь был скорее разочарован, чем обманут в своих надеждах.
Оссару не суждено было сесть в плетеную корзину и совершить подъем на воздушном шаре.
Карл прикоснулся факелом к кучке рубленой травы и шерсти.
Вспыхнуло пламя, взвился дым, стебельки быстро обуглились; подбросили еще топлива — костер ярко разгорелся. Горячий воздух проникал в отверстие, раздувая мешок, который мало-помалу принимал шарообразную форму.
Еще миг — и шар дрогнул и стал метаться из стороны в сторону, как огромный раненый зверь. Он поднялся на несколько дюймов над землей, упал, снова взлетел, опять упал и продолжал подпрыгивать, но — увы! — ему ни разу ни удалось поднять корзину хотя бы на высоту человеческого роста.
Карл снова и снова подбрасывал в костер рубленую траву и пучки шерсти, но все было напрасно. Шар был наполнен до отказа горячим воздухом, и, если бы они находились на уровне моря и оболочка была из более легкого материала, он мог бы взлететь на огромную высоту.
Итак, все их усилия оказались напрасными. Гигантский шар не мог подняться и на шесть футов над землей. Ему не поднять бы даже кошку — не то что человека. Словом, их постигла еще одна неудача, увеличив и без того длинный список горьких разочарований.
Более часа поддерживал Карл огонь в костре. Он даже пробовал жечь ветки смолистой сосны, надеясь, что сможет заставить шар подняться ввысь, но от этого не было никакого толку. Шар подпрыгивал, как и прежде, но упорно отказывался взлететь.
Наконец терпение истощилось, и, окончательно потеряв надежду, инженер отвернулся от аппарата, который стоил им таких огромных трудов. С минуту он стоял в нерешительности. Потом тяжело вздохнул, сожалея о потраченных даром усилиях, и медленно, с поникшей головой побрел прочь. Каспар вскоре последовал за братом, также испытывая жестокое разочарование.
Но Оссару расстался с надутым чудовищем по-другому. Подойдя к шару, он несколько секунд молча смотрел на него, словно скорбя о том, что ему пришлось так долго корпеть над ним понапрасну, и, выкрикнув фразу, означавшую: «Ни к черту не годен — ни на земле, ни в воде, ни в воздухе!», он с такой яростью пнул шар ногой, что туго натянутые шкурки лопнули по швам. Шикари гневно отвернулся и ушел, бросив бесполезную махину на произвол судьбы. Участь шара была весьма печальна. Не успели наши горе-воздухоплаватели отойти, как находившийся в нем воздух начал остывать, огромный шар стал морщиться, сжиматься и наконец грузно осел на сосновые угли, еще тлевшие под ним. В следующий миг просмоленные по швам шкурки, веревки и деревянные части вспыхнули, как солома. Пламя бурно взметнулось кверху; алые змеи поползли по шару и лизали его огненными языками, и, когда наши неудачники, стоя на пороге хижины, обернулись в его сторону, они увидели, что шар пылает, как огромный факел.
Случись этот пожар двумя часами раньше, это было бы для них величайшим несчастьем. Но теперь они взирали на пылающий шар так же равнодушно, как, по преданию, некогда взирал Нерон на пожар великого города, расположенного на семи холмах[188].
Глава 53
ПРИСТУП ОТЧАЯНИЯ
Кажется, за все время своего пребывания в этой «долине скорби» охотники еще ни разу не испытывали такого отчаяния, как в тот злополучный день, когда лопнул их огромный мыльный пузырь. Все средства исчерпаны. Больше ничего нельзя было придумать! Да и не хотелось больше бороться. Все трое упали духом и, казалось, были морально убиты. Было ясно, что теперь им уже не на что надеяться.
Правда, это было не то отчаяние, какое овладевает человеком перед лицом надвигающейся на него неотвратимой гибели, — их жизни ничего не угрожало, и все же ими овладело горькое чувство. Они знали, что, быть может, проживут в этой долине так же долго, как прожили бы в любом другом месте земного шара. Но какую цену имеет такая жизнь? Ведь они навсегда отрезаны от мира людей, и им суждено влачить жалкое, одинокое существование.
Ни у кого из них не было ни малейшей склонности к отшельничеству. Никто из них не пожелал бы стать вторым Симеоном Столпником[189]. Вы, пожалуй, подумаете, что ревностно изучавшему природу Карлу было бы легче переносить такое уединение. Правда, у него были приятные спутники, с которыми не скоро соскучишься, но едва ли Карл стал бы уделять им много внимания, ибо человека, знающего, что он одинок в мире, и одинок навсегда, уже ничто не интересует: ни человеческая душа, ни книга природы.
Что до Каспара, то при одной мысли, что ему предстоит до конца дней прожить в этой долине, у него кровь холодела в жилах.
Оссару был опечален не менее своих товарищей по несчастью и вздыхал по своей бамбуковой хижине на жаркой равнине Индостана так же, как они по родному очагу в далекой Баварии.
Правда, их все же было трое, и это было огромное преимущество. Им мог бы позавидовать любой мореплаватель, потерпевший крушение и выброшенный на необитаемый остров. Они сознавали это и благодарили судьбу. У каждого было двое товарищей. Но у них невольно сжималось сердце, когда они думали о будущем: кто знает, быть может, недалек тот час, когда один из них покинет долину без помощи веревочной лестницы и воздушного шара, за ним другой, и последний останется в полном, безотрадном одиночестве…
В таких печальных размышлениях провели они этот вечер и весь следующий день. Они не замечали времени, и у них даже не было желания хоть что-нибудь приготовить себе на обед. Мысль отказывалась работать, и, казалось, их навсегда покинула энергия.
Но такое положение вещей не могло долго продолжаться. Как мы уже говорили, в душе человека таятся неисчерпаемые силы, и она способна возрождаться. Человек может оправиться после самого тяжелого удара. Иной раз кажется, что сердце его разбито, но пройдет время, затянутся глубокие сердечные раны, и вновь восстановится душевное равновесие. Закованный в цепи раб, узник в мрачной темнице, беглец, приютившийся на пустынном острове, — порой испытывают такую же яркую, живую радость, как царь, восседающий на троне, или победитель на своей триумфальной колеснице.
Не существует на земле счастья без примеси горечи, и, должно быть, не бывает безутешной печали.
Не прошло и двух дней после этого тяжелого потрясения, как все трое начали выходить из оцепенения: они снова почувствовали голод и жажду, ибо эти потребности всегда настойчиво заявляют о себе.
Карл первым вернулся к действительности.
Если им и не суждено выбраться из этой долины, рассуждал он, все же незачем предаваться отчаянию. Какой толк, если они будут мрачно сидеть целые дни напролет, как плакальщики на похоронах? Лучше вести деятельную жизнь, создать хорошие условия и питаться как следует, — ведь при некоторой изобретательности ничего не стоит добыть еду. Правда, перспектива не из веселых, но, если они будут постоянно заняты делом, им будет не до меланхолии.
Вот о чем думал Карл, проснувшись утром через день после неудачи с воздушным шаром. Карл решил подбодрить Каспара, который был до крайности подавлен. Оссару также нуждался в ободрении, и ботаник постарался поднять дух товарищей.
Сначала это ему плохо удавалось, но мало-помалу он их убедил, что необходимо действовать, — хотя бы для того, чтобы не умереть от голода. И они тут же решили вернуться к своим прежним занятиям и всеми доступными средствами добывать съестные припасы.
Каспару, как и прежде, была поручена охота, а Оссару — рыбная ловля, так как он лучше других умел обращаться с крючками, лесками и сетями.
Ботаник занялся прежним своим делом: стал обходить долину в поисках съедобных семян, растений и корней, не забывая и о лекарственных травах, которые могли пригодиться в случае болезни. Молодому охотнику за растениями приходилось встречать немало таких растений, и он отметил их на случай, если они понадобятся.
К счастью, до сих пор еще никто не прибегал к лечебным средствам, какие Карл достал в аптеке природы, и можно было надеяться, что им никогда не придется проверять их на себе. Тем не менее Карл собрал несколько видов лекарственных растений и, тщательно обработав, спрятал в хижине.
Одним из самых питательных растительных продуктов были семена сосны. Шишки этой замечательной сосны были крупные, величиной с артишок, и в каждой — по нескольку семян, с виду похожих на фисташки.
Они запаслись также диким петушиным гребешком. Из его семян, поджаренных и растертых между камнями, получалось что-то вроде муки, из которой Оссару пек лепешки. Эти лепешки, хотя и не такие аппетитные, как домашний хлеб или даже выпеченный в рядовой пекарне, казались достаточно вкусными людям, у которых не было другого хлеба.
Озеро, кроме рыбы, вылавливаемой Оссару, давало и растительную пищу. Исследуя его, ботаник обнаружил несколько видов съедобных растений, в том числе любопытный рогатый водяной орех, известный туземцам гималайских областей под названием «сингара» и широко употребляемый ими в пищу.
Встречались также великолепные водяные лилии — лотосы с очень широкими листьями и крупными белыми и розовыми цветами.
Семена и корневища их были съедобны, и Карлу приходилось читать, что ими питаются бедняки в Кашмире. Лотос в изобилии растет на озерах этой знаменитой долины.
Увидя впервые прекрасные лотосы, которых было так много на маленьком озере в их долине, Карл воспользовался случаем рассказать брату (Оссару тоже внимательно слушал), какую пользу приносит это растение обитателям Кашмира. Юноши, отплывая в лодках в жаркие дни, срывают широкие блестящие листья лотосов и покрывают себе голову, защищаясь от палящих лучей, а также утоляют жажду, пользуясь как трубками их полыми стеблями. Молодой ботаник сообщил товарищам немало интересных случаев применения этого красивого водяного растения, но интереснее всего для них был тот факт, что его семена и корневища съедобны, — это сулило им обильный запас растительной пищи.
Глава 54
«ПИФАГОРОВЫ БОБЫ»
Лотос не был для них новостью. Они и раньше знали о его существовании и не раз посещали озерную заводь, где он рос в изобилии. Это растение привлекло их внимание через несколько дней после прибытия в долину и не потому, что бросалось в глаза, — его широкие круглые листья, лежащие на воде, трудно заметить с берега, правда, когда распускались большие бело-розовые цветы, их было видно даже издали, — нет, их привлекло к заводи, где росли лотосы, одно странное явление, сперва казавшееся им загадочным и необъяснимым.
Заросль лотосов, в то время находившихся в полном цвету, была хорошо видна с того места, где они устроили свой первый лагерь; и каждое утро, тотчас после восхода солнца, а иногда и среди дня, они видели возле этих цветов каких-то птиц, которые проделывали необычный трюк: казалось, они ходили по воде.
Это были крупные птицы, стройные и длинноногие. Карл с Каспаром признали в них представителей семейства водяных курочек.
Не приходилось сомневаться, что они ходят по воде — то медленно, то быстро, — но еще невероятнее было то, что они иногда стояли на воде. А что всего поразительнее — они проделывали этот фокус на одной ноге!
Это могло бы показаться таинственным, но Карл сразу же сообразил, чем вызвано такое «нарушение» закона тяготения. Он предположил, что птицы ходят по каким-то плавающим водяным растениям, образовавшим плотный ковер между поднимающимися над водой черешками лотоса.
У ботаника была хорошая память. Он вспомнил похожий случай. Не так давно он читал опубликованный за несколько лет перед тем доклад об открытой в тропической Америке гигантской водяной лилии — Виктория Регия; в статье упоминалось о крупных птицах из семейства голенастых, которые опускаются на ее огромные листья и спокойно по ним расхаживают, как по твердой земле.
Придя через некоторое время к озеру, они обнаружили широкие круглые листья лотоса, почти такие же крупные, как у его американского сородича.
Карл рассказал своим спутникам об особенностях этого лотоса, росшего на озере. Ему было известно, что семена неломбии и есть знаменитые «пифагоровы бобы», о которых упоминают греческие писатели, особенно Геродот и Теофраст. Эти писатели говорят, что «пифагоровы бобы» в изобилии растут в Египте; несомненно, что в древности их там разводили, но в наши дни они позабыты. Изображения этого цветка встречаются на египетских памятниках, а у греческих авторов это растение описано весьма подробно.
Некоторые ученые предполагают, что именно это растение и было пресловутым лотосом древности, которым питались некоторые сказочные народы; это весьма возможно, ибо жители стран, где оно растет, едят его, причем не только его корневища, но и семена, или бобы. Бобы эти весьма питательны, а стебель так сочен, что хорошо утоляет жажду. Китайцы называют эту лилию «льен вэй» и приготовляют утонченные блюда из ее семян и ломтиков корневища, смешанных с орехами и зернами абрикосов и переложенных слоями льда; этим лакомством знатные мандарины угощают английских послов, посещающих Небесную империю.
Корневища льен вэй сохраняют на зиму в маринованном виде. Японцы не употребляют в пищу это растение: они считают его священным и нередко изображают своих богов сидящими на его широких листьях.
Цветы лотоса испускают чудесное благоухание, несколько напоминающее запах аниса, а их похожие на желуди семена вкусом и ароматом не уступают миндалю.
Глава 55
ВОДЯНОЙ УРОЖАЙ
Карл еще раньше рассказывал своим спутникам о любопытных особенностях лотоса. Им было известно, что семена этого растения съедобны: Каспар и Оссару частенько их пробовали и убедились, что это настоящее лакомство.
Поэтому они сразу же подумали о лилиях. Над водой больше не видно было огромных розоватых венчиков, а это означало, что бобы созрели и готовы для уборки.
Итак, выйдя из хижины, все трое отправились на своеобразную жатву; над озером на длинных стеблях колыхалось множество плодов, и сбор обещал быть богатым.
Каждый захватил с собой по корзинке; шикари плел их в долгие зимние вечера для других целей, но теперь их решили использовать для сбора «пифагоровых бобов», потому что они были как раз подходящей формы и размеров.
Карл и Каспар закатали брюки выше колен, чтобы не замочить их, бродя в воде, а Оссару, у которого брюк не имелось, попросту подобрал подол своего ситцевого балахона и заткнул его за пояс.
Они обогнули берег озера, направляясь к тому месту, близ которого находились лотосы. Водяные курочки, завидя «жнецов», полетели в заросли осоки, надеясь там найти более надежное убежище.
Войдя в воду, «жнецы» принялись срывать плоды и высыпать из них семена в корзинки. Они и раньше бывали в этой заводи и знали, что здесь неглубоко.
Корзинки быстро наполнились «пифагоровыми бобами», и «жнецы» собирались уже возвращаться на сушу, когда внимание их привлекла какая-то темная тень, скользнувшая по зеркальной поверхности озера; вслед за нею пронеслась и вторая точно такая же тень.
Все трое заметили тени и подняли головы, чтобы посмотреть, какая птица их отбросила. То, что они увидели, живо их заинтересовало.
Над озером, и прямо у них над головой, кружили две большие птицы. Крылья у них были добрых пяти ярдов в размахе, а вытянутая горизонтально шея поражала своей длиной; тонкий заостренный клюв удивительно напоминал пестик полевой герани.
В самом деле, сходство между этими двумя предметами так поразительно, что в латинском наименовании герани звучит название этой птицы.
Это были аисты. Не заурядные птицы, вьющие гнезда на крышах домов в Голландии или находящие уютное пристанище на кровле венгерского крестьянина, но гораздо более крупная порода — словом, самые крупные представители племени аистов — «адъютанты».
Карл с первого взгляда определил породу этих птиц, да и Каспар тоже.
Не требуется ни длительных наблюдений, ни глубокого знания орнитологии, чтобы опознать знаменитого «адъютанта». Необходимо только хоть раз видеть его раньше на картинке или живого, а братья видели представителей этой породы на равнинах Индии, в окрестностях Калькутты.
Что же касается шикари, то как мог он не узнать этих крылатых гигантов, этих долговязых мусорщиков, когда тысячу раз наблюдал, как они важно стоят на песчаном побережье священного Ганга. Сомнений не было: перед ним священные птицы Брамы. От изумления он вскрикнул диким голосом и уронил весь свой сбор бобов в воду.
Оссару с первого же взгляда узнал их характерное оперение — черно-бурое на спине и белое на брюшке, голую, как у грифа, шею с кирпично-красным, похожим на сумку придатком, шелковистые белые, чуть голубоватые перья хвоста, драгоценные перья, xopoшo известные дамам в различных странах под названием «перья марабу».
Птицы летели медленно, тяжело взмахивая крыльями; видно было, что они устали. Казалось, они ищут место, где бы сесть и отдохнуть.
Через несколько мгновений стало ясно, что для этого они и залетели в долину, так как, описав круг над озером, они перестали взмахивать длинными крыльями и, вдруг сложив их, плавно опустились на берег.
Место для отдыха они выбрали на мысу, которым заканчивался небольшой полуостров.
Заросли лотосов начинались почти у самого мыса; с него-то и сошли в воду трое сборщиков и теперь стояли среди водяных растений, по колено в воде, всего в каких-нибудь двадцати шагах от мыса.
Аисты стояли на берегу, не обращая ни малейшего внимания на охотников, словно это были лишь высокие стебли «пифагоровых бобов».
Глава 56
«АДЪЮТАНТЫ»
Две гигантские птицы, опустившиеся на берег озера, были, мягко выражаясь, странные создания; во всем мире едва ли можно найти такую причудливую птицу, как «адъютант».
Прежде всего он шести футов ростом, и ноги у него длинные и прямые, а его длина от кончика клюва до кончиков когтей — добрых семь с половиной футов. Клюв у него длиной в целый фут, толщиной в несколько дюймов; он слегка горбатый и кончик его загнут книзу.
Крылья у взрослого «адъютанта» достигают в размахе пятнадцати футов, или пяти ярдов, приближаясь к крыльям чилийского кондора или «бродячего» альбатроса.
Принято говорить, что оперение у «адъютанта» сверху черное, а снизу белое, но ни тот, ни другой цвет не бывает чистым. Спина у него черно-бурого оттенка, а брюшко грязно-белого — от примеси серых перьев и просто от грязи, — ведь «адъютант» постоянно кормится в болотах и роется в мусорных кучах. Если бы лапы у «адъютанта» не были так грязны, они были бы темного цвета, но у живой птицы они серые от пыли и облеплены мусором.
Хвост сверху черный, снизу белый, — особенно чистого белого цвета нижние перья. Они высоко ценятся под названием «перья марабу»; название это возникло вследствие ошибки натуралиста Темминка, который спутал индийского «адъютанта» с африканским аистом марабу.
Для «адъютанта», или «аргала», как называют его индусы, весьма характерна чрезвычайно безобразная голая шея, красная как мясо, с дряблой, сморщенной кожей, поросшей бурыми волосками. У молодых птиц эти щетинки бывают гуще, но с возрастом редеют, так что у старых особей голова и шея совершенно голые.
Эта особенность придает «адъютанту» сходство с грифом, с которым сближают его и другие черты, и есть основания считать его грифом из рода голенастых.
Под голой шеей у него свисает на грудь огромный придаток в виде сумки, иной раз длиной более фута; подобно шее, он бывает различных оттенков: от розового, телесного до ярко-красного. На тыльной стороне шеи имеется еще одно странное приспособление, назначение которого орнитологам еще не удалось определить. Это придаток в виде пузыря, который надувается воздухом. Как предполагают, он служит своего рода поплавком и помогает птице держаться в воздухе во время полета. Он вздувается также, когда птица находится под знойными лучами солнца, поэтому естественно предположить, что тут играет роль разреженность воздуха. Так как «адъютанты» нередко летают на большой высоте, то возможно, что этот шарообразный придаток им необходим, чтобы держаться в разреженном воздухе. Ежегодные перелеты этих птиц через заоблачную цепь Гималаев, вероятно, были бы невозможны, если бы «адъютанты» не обладали способностью, набирая воздух в этот пузырь, уменьшать вес своего тела.
Само собой разумеется, «адъютант», как и все птицы того же семейства, жаден и неразборчив в еде, весьма плотояден и предпочитает падаль и отбросы всякой другой пище. Он убивает и поедает лягушек, мелких зверьков, птиц, причем даже довольно крупных — известно, что он может проглотить курицу. В его объемистом зобу может поместиться даже кошка или заяц, но он не нападает на этих животных, так как, несмотря на свой огромный рост, он один из самых отъявленных трусов. Любой ребенок может прогнать хворостинкой «адъютанта», а рассерженная курица обратит его в бегство, если он приблизится к ее цыплятам. Но прежде чем отступить, «адъютант» встанет в угрожающую позу, шея у него покраснеет, и он широко разинет клюв, издавая рокочущие звуки, напоминающие рычание тигра или медведя. Однако это лишь пустое бахвальство, и, если враг продолжает наступать, он тотчас же задает стрекача.
Таковы особенности этой гигантской разновидности аистов. Остается лишь прибавить, что есть еще несколько видов очень крупных аистов, хотя и менее крупных, чем этот, которых долго смешивали с ним. Один из них — марабу, живущий в тропическом поясе Африки, перья которого весьма ценятся модницами. Однако перья африканской породы далеко не так красивы и не так ценятся, как перья из хвоста «адъютанта».
Еще одна крупная разновидность аиста, отличающаяся и от азиатского аргала, и от африканского марабу, обитает на острове Суматра. Туземцы называют его «буронг камбэ», а на Яве (соседнем острове) обнаружен еще один вид этих огромных птиц, до сих пор мало исследованный.
Можно удивляться, что такие необычайные создания оставались столь долго неизвестными ученому миру. Всего лет пятьдесят назад появились хоть сколько-нибудь точные их описания, и даже в настоящее время эта порода птиц еще недостаточно изучена. Это тем более удивительно, что на берегах Ганга, и даже в самой Калькутте, «адъютант» — одна из самых обычных птиц; он постоянно стоит возле дома и преспокойно входит во двор наряду с домашней птицей.
Он бывает очень полезен в роли мусорщика, поэтому его не преследуют и не только терпят, но и стараются привадить, хотя он иногда оказывает слишком назойливое внимание утятам, цыплятам и другим обитателям птичьего двора.
Иной раз «адъютант» не довольствуется добычей, какая попадается во дворе: проникнув в дом, он может стащить со стола горячее жаркое и проглотить его прежде, чем хозяева или слуги успеют выхватить лакомый кусок из его длинного, цепкого клюва.
Когда стая «адъютантов» бродит по воде, по обыкновению распустив крылья, издали их можно принять за стайку парусных шлюпок. А когда они стоят на песчаном берегу или подбирают всевозможные отбросы на отмели священной реки, то напоминают группу туземных женщин, занятых таким же делом.
Порой они жадно бросаются на самую отвратительную падаль, не брезгуют и разлагающимся трупом человека. Набредя на тело какого-нибудь фанатика, раздавленного колесницей Джаггернаута, которое было брошено в так называемую священную реку и затем вынесено волнами на берег, огромные аисты оспаривают его у бродячих псов и грифов.
Глава 57
СПЯЩИЕ СТОЯ
Прилет аистов произвел сильное впечатление на охотников, — на Оссару, быть может, еще большее, чем на остальных. Они были для него совсем как старые друзья, пришедшие навестить его в темнице. Хотя ему не приходило в голову, что «адъютанты» могут содействовать его освобождению, все же он им обрадовался. Эти странные птицы были ему знакомы с раннего детства и будили самые приятные воспоминания; он решил, что появившаяся неожиданно чета аистов — как раз те старые самец и самка, которых он так часто видел на ветвях огромного баньяна, осеняющего родное бунгало.
Разумеется, это была лишь фантазия Оссару. Тысячи аистов ежегодно совершают перелет из равнин Индостана на север Гималаев, и было слишком маловероятно, что у них над головой сейчас кружат именно те аисты, которые много лет исполняли обязанности мусорщиков в родном селении шикари. Эта приятная мысль мелькнула у Оссару, когда птицы были еще в воздухе. Едва ли он подумал это всерьез, да и подумал-то всего на мгновение, но он все же был рад увидеть аистов, явившихся из его родных равнин — с берегов прославленной реки, в воды которой он жаждал еще раз погрузиться.
Каспару эти огромные птицы внушили совсем другого рода мысли. Увидя их огромные крылья, распростертые в медленном, но легком полете, он подумал, что одна из них может оказаться достаточно сильной, чтобы исполнить задачу, бывшую не по силам беркуту.
— Слушай, Карл! — воскликнул он. — Как ты думаешь, не сможет ли одна из этих больших птиц занести канат наверх? Они такие большущие, что, кажется, могли бы поднять на вершину утеса любого из нас.
Карл не сразу ответил — видимо, он размышлял над словами брата.
Молодой охотник продолжал:
— Если бы только нам удалось поймать одну из них живьем! Как ты думаешь, они опустятся? Похоже, что они собираются отдохнуть… Что скажешь ты, Оссару? Ты знаешь об этих птицах больше, чем мы.
— Да, молодой саиб, вы сказать верно. Они спуститься. Вы видеть — они лететь долго. Крылья устать — не лететь больше. Потом, тут озеро, вода, они хотеть пить и есть тоже. Они сесть, ясно…
Не успел Оссару договорить, как предсказание его уже исполнилось. Птицы одна за другой, сделав крутой поворот, плавно, на распростертых крыльях спустились на берег озера, как уже было сказано, шагах в двадцати от того места, где стояли среди листьев лотоса сборщики бобов.
Все трое не отрываясь смотрели на новоприбывших, которые вели себя очень чудно.
Едва их лапы коснулись земли, длинноногие создания, вместо того чтобы разыскивать пищу на берегу или направиться к воде за питьем, как ожидали от них зрители, поступили совсем по-другому. Видимо, они не помышляли ни о пище, ни о питье. Если они и были голодны, то в данный момент им было не до еды — так хотелось отдохнуть! Не прошло и десяти секунд, как «адъютанты» втянули длинную шею, спрятав ее между плечами, так что на виду оставалась лишь часть головы с огромным, загнутым клювом, прижатым к груди и свешивающимся вниз.
Вслед за этим обе птицы подогнули одну из длинных, тощих лап, спрятав ее в пушистых перьях на брюшке, — это движение было проделано обеими одновременно, словно они повиновались одному и тому же импульсу.
Еще каких-нибудь десять секунд — и птицы, казалось, уже уснули. Во всяком случае, глаза у них были закрыты и они не шевелились.
Было очень смешно смотреть, как эти огромные, долговязые создания удерживаются на одной ноге, ловко балансируя на тонком прямом сучке; казалось, они ничуть не боятся упасть; да им и не грозила такая опасность.
Оссару уже давно привык к такому зрелищу и не находил в нем ничего смешного. Каспар сразу же весело расхохотался.
Беспечность, с какой аисты опустились наземь, и живописная поза, в которой они спали, заставили рассмеяться даже всегда серьезного Карла.
Их громкий хохот прокатился над озером и отразился раскатами от соседних утесов.
Можно было подумать, что этот шум встревожит новоприбывших и заставит их снова прибегнуть к крыльям.
Ничуть не бывало — они лишь приоткрыли глаза, слегка вытянули шею, покачали головой и несколько раз щелкнули клювом, но вскоре клюв снова закрылся и сонно опустился, зарывшись в перья.
Невозмутимость птиц еще больше рассмешила молодых охотников, и они несколько минут простояли на месте, заливаясь звонким, неудержимым хохотом.
Глава 58
«ПЕРЬЯ МАРАБУ»
Давно они так не смеялись. Каспар успокоился, лишь когда у него заныло под ложечкой от этого приятного упражнения.
Корзинки были почти полны, и решено было отнести их в хижину, а потом вернуться к аистам и поймать их. Оссару полагал, что это легко им удастся; по его словам, птицы такие смирные, что ничего не стоит подойти к ним и накинуть петлю на шею. Вероятно, он сразу бы это сделал, будь у него веревка для петли. Но они с собой ничего не захватили, кроме камышовых корзинок для сбора семян лотоса. Чтобы достать веревку, нужно было вернуться в хижину. Трудно сказать, зачем понадобились аисты охотникам за приключениями. Быть может. Карл все еще не оставил мысль, подсказанную ему братом.
Возможно, у них были и другие побуждения, особенно у Оссару. Если от аистов и не будет особого толка, во всяком случае, недурно бы их приручить. Шикари невольно подумал о том, что им придется прожить еще долгие годы в этой уединенной долине. При такой перспективе даже чопорный аист покажется веселым спутником.
Как бы там ни было, охотники решили заманить «адъютантов» в ловушку.
Все трое направились к берегу, решив подальше обойти спящих. Теперь, когда Карл и Каспар задались новой целью, они поднимали ноги из воды и опускали их так осторожно, словно ступали по яйцам. Оссару потешался над их чрезмерной осторожностью, уверяя, что нечего бояться вспугнуть аистов, и он, разумеется, был прав.
Аисты, обитающие в областях Индии, омываемых Гангом, чувствуют себя в полной безопасности, ибо их считают священными птицами и они охраняются законом; они так привыкли к человеку, что при встрече с ним не сразу уступают ему дорогу. Но возможно, что эти два аиста принадлежали к какой-нибудь дикой стае, каких немало в болотах Сендербенда. В таком случае к ним было бы труднее подойти.
Оссару согласился принять все предосторожности, на каких настаивал Карл.
Дело в том, что Карла осенила замечательная мысль. Она зародилась у него в мозгу, еще когда он от души смеялся вместе с братом. И, к удивлению Каспара, веселость его быстро прошла, — во всяком случае, уже не выражалась так бурно.
Наш философ внезапно стал молчалив и серьезен, словно решив, что при данных обстоятельствах смех неуместен. Каспар был заинтригован молчанием брата и стал его расспрашивать, но тот не пожелал поделиться с ним своей мыслью. Не надо думать, что Карл все время молчал, — он давал товарищам советы и указывал, как надо действовать, чтобы наверняка поймать аистов, при этом он говорил с необычным жаром.
Через несколько минут они дошли до хижины. Это был скорее бег, чем ходьба. Карл шагал впереди и добежал раньше остальных. Они мигом швырнули на пол корзинки с бобами, словно там не было ничего ценного, затем извлекли из тайников бечевки и лески, искусно свитые Оссару, и подвергли их осмотру.
Забросить скользящую петлю несложное дело для шикари. Нетрудно и прикрепить ее к длинному стеблю бамбука рингалла. Вооружившись бечевками, наши охотники снова вышли из хижины и направились к спящим аистам.
Подойдя ближе, они с удовольствием увидели, что птицы все еще наслаждаются полуденным отдыхом. Очевидно, им пришлось долго лететь и необходимо было отдохнуть. Их крылья вяло свисали по бокам, доказывая, как они устали. Может быть, аистам снились сны — гнездо на каком-нибудь высоком фиговом дереве, приютившая их башня древнего храма, где чтили Будду, Вишну или Дэву, или же великий Ганг и плывущие по его волнам пахучие отбросы, в которые они так любят погружать свой длинный клюв…
Оссару, которому было поручено метнуть петлю, не задумывался над вопросом, что снится аистам и вообще снится ли им что-нибудь. Убедившись, что они спят, он пригнулся и, бесшумно скользя, как тигр в джунглях, начал подкрадываться к беспечным «адъютантам», пока не подошел к ним так близко, что можно было бросить петлю.
Шикари был уверен в успехе, но старая пословица «Поспешишь — людей насмешишь» подтвердилась и на этот раз.
Когда попытка была сделана, петля все еще оставалась в руках у шикари, а «адъютанты» уже парили в воздухе, поднимаясь все выше и выше, щелкая клювами, как кастаньетами, и издавая гневные звуки, похожие на рычание льва.
Неудачу следует приписать не Оссару, а одному его неосторожному спутнику, следовавшему за ним по пятам. И этим спутником был Фриц.
Как раз в тот момент, когда Оссару готовился набросить петлю на шею спящего «адъютанта», Фриц, последовавший за охотниками, заметил птиц, кинулся вперед и схватил одну из них за хвост. Мало того, словно желая завладеть драгоценными «перьями марабу», он вырвал из хвоста большой пук.
Что же вызвало столь неожиданное и свирепое нападение Фрица?
Ведь умному, хорошо обученному псу еще ни разу не случалось пугать дичь, на которую охотились его хозяева. И если Фриц изменил своим охотничьим привычкам, виною была дичь, попавшаяся ему на глаза. Дело в том, что из всех живых существ, встречавшихся Фрицу за время пребывания в Индии, ни одно не внушало ему таких враждебных чувств, как «адъютанты». Живя в Королевском ботаническом саду, в Калькутте, где его хозяева, как вы помните, гостили некоторое время, Фриц нередко встречался с двумя огромными аргалами, также гостившими там; они проживали в ограде, где им позволяли беспрепятственно расхаживать и подбирать всевозможные объедки, которые выбрасывала кухарка директора.
Эти птицы были до того ручные, что охотно брали еду из рук у всех, кто им ее предлагал. Так же охотно они брали и то, чего им не давали, но что могли достать своим длинным, цепким клювом. Они часто воровали лакомства, которые им не предлагали. Одного их воровского подвига Фриц не мог им простить. Он собирался пообедать вкусным куском мяса, полученным от кухарки, а они стащили у него этот кусок. Одна из птиц имела наглость схватить мясо клювом, вырвать из пасти у собаки и проглотить прежде, чем пес успел помешать ей.
С тех пор Фриц питал лютую ненависть ко всем птицам этого рода, в особенности же к аргалам. Поэтому, едва увидев «адъютанта» (пес находился возле хижины, когда прилетели эти птицы, и не мог их видеть), он кинулся к ним, оскалив зубы, и схватил одного из них за хвост.
Нет нужды добавлять, что птица, подвергшаяся нападению, тотчас же взлетела, сопровождаемая своим более удачливым, но не менее испуганным спутником, а разъяренный Фриц обошелся с «перьями марабу» так, как вероятно, еще никто не обходился с ними, даже когда какая-нибудь ревнивая особа срывала их с тюрбана ненавистной соперницы.
Глава 59
АИСТЫ ПОЙМАНЫ
Наши искатели приключений с разочарованием и досадой смотрели на улетавших аистов, а Фриц рисковал быть сурово наказанным. Каспар уже занес над ним палку, когда возглас Карла заставил молодого охотника остановиться и спас Фрица от трепки.
Но Карл вскрикнул не потому, что пожалел собаку. Вырвавшийся у него возглас означал совсем другое и прозвучал так необычно, что Каспар тут же обернулся к брату. Карл стоял, неотрывно глядя вверх на удалявшегося аиста — того самого, с хвостом которого Фриц обошелся столь непочтительно.
Но Карл смотрел не на взъерошенные, наполовину вырванные «перья марабу», свисавшие из хвоста аиста, а на его длинные ноги, которые во время взлета были подогнуты наискось, далеко выдаваясь за конец хвоста. И даже не сами ноги привлекли внимание охотника, а нечто, прикрепленное к ним — вернее, к одной из них, — и сверкнувшее ярким металлическим блеском в солнечных лучах. Блеск был желтоватый, словно сверкало золото или ярко начищенная медь, и так слепил глаза, что невозможно было определить форму предмета или угадать, что это такое. Но озадачены были только Каспар и Оссару. Карл знал, что за метеор сверкнул на миг, как луч надежды, а теперь медленно, но верно удалялся, погружая его в мрачное отчаяние.
— Ах, брат, — вскричал он, когда аист взлетел, — какое несчастье!
— Несчастье? Что ты хочешь сказать. Карл?
— Ах, если бы ты знал… Ведь у нас была надежда на освобождение… Увы, увы! Она исчезает!..
— Это ты про птицу говоришь? — спросил Каспар. — Что же за беда, что она улетела? Я не думаю, чтобы она могла поднять веревку. Какой толк, если мы ее поймаем? Она несъедобна, а перья нам не нужны, хотя бы они стоили целое состояние.
— Нет, нет, — поспешно возразил Карл, — не то, совсем не то!
— Что же тогда, брат? — спросил Каспар, которого удивила бессвязная речь охотника за растениями.
— Смотри туда!.. — сказал Карл, указывая на парящих аистов. — Видишь что-то блестящее?
— А, на ноге у одной из птиц? Да, я вижу что-то вроде кусочка желтого металла. Что бы это могло быть?
— Я знаю, что это, — ответил Карл с сожалением в голосе, — отлично знаю! Ах, если бы мы поймали эту птицу! У нас, пожалуй, была бы надежда. Но теперь все кончено! Она исчезла — увы, исчезла… Ну и беду ты нам натворил, Фриц, — до конца дней придется нам об этом горевать!
— Я тебя не понимаю, брат, — сказал Каспар. — Но если ты так огорчен, что аисты улетели, то, пожалуй, можешь утешиться. Похоже, что они не так уж торопятся нас покинуть, несмотря на такую негостеприимную встречу. Смотри, они кружат в воздухе, словно собираются опять спуститься. Взгляни сюда! Оссару протягивает им приманку. Я ручаюсь, что старому шикари удастся уговорить их вернуться. Он в совершенстве знает их привычки.
— Ах, если бы это удалось!.. — вскричал Карл, взглянув сперва на парящих аистов, затем на Оссару. — Каспар, держи Фрица. И пусть Оссару действует. Ни за что на свете не дай собаке вырваться! Ради бога, держи ее покрепче, ради самого себя, ради всех нас!..
Каспар все еще удивлялся возбуждению брата, но это не помешало ему исполнить приказ: кинувшись к Фрицу, он схватил его, поставил между колен, стиснул руками и коленями так крепко, что Фриц оказался как в тисках.
Взгляды всех (не исключая собаки) были устремлены на Оссару. Каспар следил за его движениями с любопытством, а Карл с сильно бьющимся сердцем.
Хитрый шикари хорошо подготовился к ловле. Предвидя, что могут возникнуть затруднения, он запасся приманкой; если бы птицы оказались пугливыми, он рассчитывал заманить их поближе и пустить в ход петлю. Этой приманкой была большая рыба, которую он, уходя из хижины, захватил в кладовой и теперь, чтобы привлечь внимание аистов, держал на виду. Он отошел на некоторое расстояние от товарищей и, стоя на холмике на берегу озера, изо всех сил старался подманить птиц, так напуганных Фрицем.
Оссару, как и остальным, было ясно, что аистам поневоле пришлось взлететь и что им вовсе не хотелось подниматься на воздух. Они, без сомнения, очень устали и жаждали отдыха.
Что именно их заставило спуститься снова?
Впрочем, Оссару не задавался этим вопросом. Увидев по поведению птиц, что они заметили рыбу у него в руках, он бросил соблазнительную приманку подальше от себя и стал ожидать результатов.
На этот раз он не обманулся в своих расчетах.
Ни внешность, ни поза Оссару не могли внушить подозрений «адъютантам». Им тысячу раз приходилось видеть таких, как он, смуглолицых индусов, точно в таком же наряде, и, встретив шикари в этом странном, пустынном уголке земного шара, они не заподозрили в нем врага.
Им был страшен только Фриц, но Фриц сейчас был где-то далеко, и его можно было не опасаться. К тому же пустой желудок властно требовал пищи, и, глядя на рыбу, лежавшую на траве без всякой охраны, аисты позабыли страх и дружно бросились на желанную добычу.
Оба одновременно вцепились в рыбу, и каждый стремился ею завладеть.
Так как одна из птиц схватила рыбу за голову, а другая за хвост, то между ними завязалась драка — они старались вырвать друг у друга лакомый кусок. Потом обе стали заглатывать рыбу с двух сторон, пока их клювы не встретились и не стукнулись друг о друга.
Ни одна не хотела уступить другой добычу, и несколько секунд продолжалась забавная борьба.
Неизвестно, сколько времени она бы еще продлилась, но ей положил конец Оссару: видя, что птицы поглощены дракой, он кинулся к ним и, широко взмахнув руками, обхватил сразу обоих аистов, которые стали отчаянно отбиваться.
С помощью Карла и Каспара, который уже успел привязать Фрица к дереву, огромных птиц вскоре осилили и так крепко связали, что им невозможно было вырваться.
Глава 60
НАДПИСЬ НА КОЛЬЦЕ
— Вот оно! Вот оно! — воскликнул Карл, внезапно наклонившись и хватая одну из птиц за лапу.
— Что такое? — спросил Каспар.
— Смотри, брат! Смотри, что у аиста на ноге! Разве тебе не приходилось видеть эту драгоценность?
— Медное кольцо? О да, — ответил Каспар, — теперь я вспоминаю. В ботаническом саду был «адъютант» с медным кольцом на лапе, точно таким же. Какой странный случай!
— Точно таким же? — повторил Карл. — Да это и есть то самое кольцо! Наклонись и рассмотри его получше. Видишь эти буквы?
— «К.Б.С., Калькутта», — медленно произнес Каспар, прочитав надпись на кольце. — «К.Б.С.». Интересно, что это значит?
— Отгадать нетрудно, — наставительно сказал Карл: — «Королевский ботанический сад»! Что же еще может быть?
— Ничего больше. Конечно, это те самые птицы, которых мы там видели и с которыми так часто играли!
— Те самые, — подтвердил Карл. — В этом нет сомнений.
— А Фриц, должно быть, тоже узнал их, поэтому так внезапно на них напал. Помнишь, он то и дело с ними ссорился?
— Помню. Но ему больше не следует позволять на них нападать. Они мне пригодятся.
— Пригодятся?
— Ну да, и даже очень. Птицы окажут нам весьма важную услугу. Хотя они противны и безобразны, за ними нужно ухаживать, как за какими-нибудь драгоценными болонками. Мы должны обеспечить их кормом и водой; мы должны стеречь их днем и ночью, словно священный огонь, который надо все время поддерживать.
— Ну вот еще!
— Именно так, брат! Этих аистов надо во что бы то ни стало сберечь — они необходимы для нашего спасения. Если они околеют или улетят от нас, если мы потеряем хоть одного из них, мы погибли. Это наша последняя надежда. Я не сомневаюсь, что последняя!
— Какая же это надежда? Чего ты ждешь от них? — в недоумении спросил Каспар, который никак не мог понять, к чему клонит брат.
— Какая надежда? Да решительно все надежды! И даже больше, чем надежда, ибо я вижу здесь перст судьбы. Наконец-то она сжалилась над нами.
Каспар молча смотрел на брата. В глазах Карла светились радость и благодарность, но Каспар не мог догадаться, что происходит в его душе.
Оссару был также озадачен странным видом и словами саиба Карла, но вскоре перестал об этом думать; занявшись «адъютантами», он ласкал то одного, то другого, разговаривал с ними и обнимал, как своих братьев.
Накрепко связав лапы аистам, Оссару разрезал рыбу на небольшие куски и принялся кормить птиц так заботливо, словно это были люди, прибывшие сюда после долгого путешествия и изнемогавшие от голода.
Аисты не обнаруживали ни малейшего страха. Они хватали на лету и проглатывали куски рыбы так жадно и спокойно, словно их кормили на берегу большого бассейна в ботаническом саду Калькутты.
Лишь время от времени они пугливо озирались на Фрица, но, по приказу Карла, пса держали подальше от них, пока они не покончили с трапезой, предложенной им Оссару.
Каспар, все еще озадаченный, снова спросил у охотника за растениями, что он думает делать с аистами.
— Ах, брат, — ответил Карл, — ты нынче на диво непонятлив! Неужели ты не угадал, почему я так обрадовался этим птицам?
— Конечно, нет, если только…
— Если что?
— Если ты не надеешься, что они занесут веревку на утес.
— Занесут веревку? Ничего подобного… Впрочем, тут есть что-то общее. Но раз ты не догадался, то я помучу тебя еще некоторое время.
— Ах, брат!..
— Нет, не скажу. Я хочу, чтобы вы сами догадались. Каспар и Оссару пустились было в догадки, но Карл прервал их:
— Погодите, сейчас некогда. Вы можете проявить свою догадливость, когда мы вернемся в хижину. Первым делом мы должны как следует связать наших пленников. Эта веревка слишком тонка — они могут перепилить ее клювом и освободиться. Тут потребуется самая крепкая веревка, какая только у нас есть. Бери, Оссару, одного. Я понесу другого. А ты, Каспар, присмотри за Фрицем. Веди его на привязи. Теперь его нужно держать привязанным, чтобы не случилось какой-нибудь непоправимой беды. Не дай Бог, он сорвет нам этот замечательный план.
С этими словами Карл обхватил руками одного из «адъютантов». Оссару в то же время обнял другого, и, несмотря на издаваемые ими грозные, рокочущие звуки и на щелканье клювов, огромных птиц отнесли в хижину.
Там им обмотали лапы прочными веревками, которые привязали к толстым бревнам, образующим стропила крыши. Уходя из хижины, всякий раз закрывали дверь, ибо Карл, сознавая все значение таких гостей, хотел быть уверенным в сохранности своей добычи.
Глава 61
КРЫЛАТЫЕ ПИСЬМОНОСЦЫ
Лишь покончив с неотложными делами, Каспар и Оссару снова пустились в догадки. Оба взялись за дело всерьез: уселись на лежащие возле хижины большие камни, где они так часто строили планы своего освобождения; оба молча размышляли; каждый думал про себя не делясь соображениями с товарищем. Казалось, между ними возникло соперничество: кто первый отгадает замысел Карла?
Ботаник стоял рядом, также погруженный в размышления. Он был занят усовершенствованием своего плана, еще неизвестного его спутникам.
Аистов вынесли их хижины и привязали к тяжелому обрубку дерева, валявшемуся поблизости. Необходимо было, чтобы птицы привыкли к этой местности. К тому же их следовало еще раз покормить: рыбы, съеденной ими вдвоем, было явно недостаточно.
Взгляд Каспара упал на аиста, у которого было кольцо на лапе, затем он обратил внимание на надпись: «К.Б.С., Калькутта». И эта надпись внушила молодому охотнику мысль, какая пришла в голову его брату при виде кольца. Этот кусочек меди содержал определенные сведения. Они были доставлены прямо из Калькутты птицей, носившей на лапе это блестящее кольцо. Почему бы не переслать другие сведения в Калькутту тем же способом? Почему бы…
— Нашел, нашел! — крикнул Каспар, обрадованный своим открытием. — Да, милый Карл, теперь я знаю, что у тебя за план, знаю! И, клянусь Юпитером Олимпийским, это замечательный план!
— Так ты наконец догадался! — не без иронии сказал Карл. — Давно пора! Надпись на медном кольце сразу же должна была подсказать тебе разгадку. Но послушаем, что ты скажешь, и посмотрим, правильно ли ты угадал.
— Еще бы неправильно! — отвечал Каспар, подхватывая шутливый тон брата. — Ты хочешь дать новое звание вашим знатным гостям. — Он указал на аистов. — В этом и состоит твой план, не так ли?
— Продолжай.
— В настоящее время — это военные, офицеры… Ведь адъютант — офицерский чин?
— Ну так что же?
— Боюсь, что они не очень-то тебя поблагодарят за тот чин, каким ты хочешь их наградить, ибо это едва ли будет для них повышением. Не знаю, как посмотрят на это птицы, но люди не очень-то склонны менять военную службу на гражданскую.
— О каком чине ты говоришь?
— Если не ошибаюсь, ты собираешься сделать аистов письмоносцами, или почтальонами, если это название тебе больше нравится.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Карл, которому понравилось остроумное сравнение Каспара. — Верно, брат, ты отгадал мой план! Именно это я и задумал сделать.
— Ох, клянусь колесами колесницы Джаггернаута! — вскричал шикари, который прислушивался к их разговору и прекрасно его понял. — Хорошо придумал! Эти аисты вернутся в Калькутта, — конечно, вернутся. Они понести письмо саибам феринги. Саибы узнать, мы тут в тюрьме. Получить письмо и прийти спасать нас… Ха-ха-ха! — Тут Оссару вскочил с места и с дикими криками как помешанный заплясал вокруг хижины.
Ломаная речь Оссару доказывала, что он вполне постиг замысел охотника за растениями.
Этот замысел смутно забрезжил в мозгу у Карла, когда тот впервые увидел аистов, паривших высоко в небе; но, когда на лапе у птицы он заметил блестящую желтую полоску, этот план стал принимать более четкие очертания.
Когда же аисты были пойманы и Карл, расшифровав надпись на кольце, узнал своих старых знакомых из К.Б.С., он благословил счастливый случай, пославший в долину птиц, которые должны были в скором времени принести освобождение ему и товарищам.
Глава 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Освобождение пришло, хотя и не так скоро. Нашим охотникам пришлось вытерпеть еще несколько месяцев этой одинокой, однообразной жизни.
Нужно было дождаться дождливого времени года, когда разольются реки, протекающие по обширным равнинам Индостана. Тогда огромные «адъютанты» возвращаются из своего летнего путешествия на юг, пролетая над гордыми вершинами Имауса. Карл и его товарищи надеялись, что их «адъютанты», руководимые тем же инстинктом, вернутся в К.Б.С. — Королевский ботанический сад в Калькутте.
Карл был уверен, что аисты это сделают. Он словно стоял на берегу священной реки[190] в К.Б.С. и смотрел, как они, закончив перелет, спускаются на землю в ограде ботанического сада.
Директор ботанического сада рассказывал ему, что птицы уже много лет совершают такие путешествия и всякий раз в одно и то же время, так что можно было предсказать день их отлета и прилета.
К счастью, Карл запомнил эти сроки, — правда, приблизительно. Все же он знал, когда можно было ожидать отлета гостей, а этого было для него достаточно.
Они все время так ухаживали за «адъютантами», словно чтили их, как священных птиц.
Мяса и рыбы у аистов было вдоволь — об этом заботился Оссару. Им не грозили никакие враги — даже Фриц, хотя пес давно уже перестал быть их врагом. Все их потребности удовлетворялись; им было предоставлено все, кроме свободы.
Наконец им ее возвратили.
Выбрав прекрасное лучезарное утро, манившее птиц к полету, их выпустили на свободу и предоставили лететь, куда им вздумается.
Единственной помехой в полете была кожаная сумочка, привязанная к шее аиста так, чтобы он не мог достать ее клювом. У обоих было по такому мешочку, ибо Карл, потратив последние листки записной книжки, написал послание в двух экземплярах и доверил каждой птице по письму на случай, если одно потеряется.
Некоторое время птицы, казалось, не хотели покидать своих добрых друзей, которые так долго кормили их и лелеяли, но инстинкт, увлекавший их к солнечным равнинам Юга, взял верх — и, испустив прощальный крик, на который ответили ободряющие возгласы людей и долгий лай Фрица, они взмыли ввысь в плавном, торжественном полете. Поднявшись над утесами, они вскоре скрылись за гребнем окружавших долину гор.
Настал день, н на краю обрыва появилось десятка два людей — отрадное зрелище для Карла, Каспара и Occapy!
Даже Фриц залаял от радости, увидев их.
На синем фоне неба можно было разглядеть в руках этих людей свернутые кольцом веревки, шесты и другие орудия, необходимые для подъема на утесы.
Итак, «адъютанты» исполнили свою миссию и доставили письма в Калькутту.
Вскоре туда вернулись и охотники. По спущенным сверху веревочным лестницам они благополучно поднялись на утес, причем Фриц совершал восхождение на плечах у шикари.
Все трое вместе со своими спасителями и с Фрицем, следовавшим за ними по пятам, спустились по южному склону Гималаев и вскоре опять увидели священный Ганг. Вновь вступили они в гостеприимные ворота Королевского ботанического сада и возобновили знакомство не только со своими учеными-друзьями, но и с крылатыми вестниками, благодаря которым им удалось наконец выбраться из роковой горной «тюрьмы» и вернуться в мир людей.
МОРСКАЯ ДИЛОГИЯ (цикл)
На море (роман)
Рассказ юноши, сбежавшего из дома и попавшего на корабль, занимавшийся перевозкой и перепродажей невольников…
Это предыстория героев романа «Затерянные в океане».
Глава 1
Мне исполнилось всего шестнадцать лет, когда я убежал из родительского дома и стал матросом. Я убежал не потому, что был несчастлив в семье. Напротив, я покинул добрых и снисходительных родителей, сестер и братьев, которые любили меня и долго оплакивали после бегства. С самого раннего детства я чувствовал влечение к морю, жаждал видеть океан и все его диковинки. Надо полагать, что чувство это было у меня врожденным, потому что родители никогда не потакали моим морским влечениям. Напротив, они прилагали все усилия, чтобы заставить меня отказаться от моего намерения и готовили совсем к другой профессии. Я не слушал, однако, ни советов отца, ни просьб матери; они производили на меня совсем противоположное воздействие и не только не гасили моей страсти к бродячей жизни, но заставляли с еще большим рвением добиваться желанной цели.
Не могу припомнить, когда, собственно, зародилась у меня эта страсть; видимо, началось это еще с первых впечатлений моего детства. Я родился на берегу моря и еще ребенком сидел целыми часами у воды, не спуская глаз с развевающихся белых парусов на лодках и с высоких, стройных мачт, видневшихся далеко на горизонте. Как же было мне не любоваться этими судами, полными силы и грации? Как было не желать попасть на какое-нибудь из этих движущихся зданий, которые могли дать мне возможность уплыть далеко по этой прозрачной и голубой поверхности моря?
Позже мне попадались в руки книги, где говорилось о волшебных странах и необыкновенных животных, о странных людях и любопытных растениях, о пальмах, смоковницах, бананах, исполинских баобабах и других диковинках. В довершение всего у меня был дядя, старый капитан коммерческой морской службы, который больше всего на свете любил собирать вокруг себя племянников и рассказывать им о своих путешествиях. Сколько длинных зимних вечеров провели мы, сидя у огня и слушая рассказы о приключениях на земле и море, об ураганах и кораблекрушениях, о длинных переездах в беспалубных лодках, о встречах с пиратами и битвах с индейцами и китами, величиной с большой дом, о кровавой борьбе с акулами и медведями, с львами и волками, с крокодилами и тиграми… Дядя сам участвовал во всех этих приключениях или, по крайней мере, говорил, что участвовал, что для его восторженных слушателей было решительно одинаково. Нечего поэтому удивляться, если после таких рассказов родительский дом показался мне тесным, а будничная жизнь скучной. И я, не в силах противиться овладевшей мной страсти, убежал в один прекрасный день, чтобы отправиться в море. Некоторые из капитанов, к которым я обратился, отказались взять меня, зная, что мои родители против этого, а ведь с ними-то мне и хотелось больше всего плыть, так как их добросовестное отношение к делу могло служить залогом хорошего обращения и со мной. Отказ заставил меня обратиться в другую сторону, и в конце концов я нашел-таки человека менее щепетильного, который согласился принять меня к себе юнгой; он знал, что я убежал из родительского дома, и тем не менее принял меня и назначил день и час отъезда.
Я пунктуально исполнил приказание и явился в назначенный час, и прежде чем дома могли заметить мое исчезновение и начать поиски, судно распустило свои паруса, и о преследовании не могло быть и речи.
Не прошло и двенадцати часов моего пребывания на борту, а точнее двенадцати минут, когда моя страсть к морю прошла окончательно. Чего не сделал бы я, чтобы вернуться на твердую землю! Я испытал страшный приступ морской болезни и думал уже, что умираю. Морская болезнь — ужасная вещь даже для пассажира первого класса, который находится в прекрасной каюте и пользуется прекрасным уходом. Но как это тяжело такому мальчику, каким был я, с которым грубо обращается капитан, которого бьет боцман, над которым смеется экипаж, и какой экипаж! К счастью, болезнь эта проходит тем скорее, чем сильнее ее приступ, и дня через два я мог уже встать и ходить.
Капитан был человек злой и грубый, боцман непомерно жестокий, и я нисколько не преувеличиваю, говоря, что экипаж состоял из одних бандитов. Капитан был не просто груб по своей природе, он становился свирепым, когда был пьян или сердился, а не проходило дня, чтобы он не был пьян или не сердился. Горе тому, кто имел тогда дело с ним, а особенно мне! Ибо гнев свой он вымещал всегда на существах слабых и не умевших дать ему отпор.
Это был коренастый человек с правильным лицом, круглыми, жирными щеками, с выпуклыми глазами и слегка вздернутым носом. Такие лица, как правило, изображают на картинах у добродушных типов, они внушают вам мысль о веселом и открытом характере. Они очень обманчивы, ибо за ними скрывается самое циничное вероломство и жестокий, бешеный характер. Боцман был достойным двойником своего капитана, разница заключалась лишь в том, что первый никогда не пил. Дружба между ними была самая тесная. Боцман был верным псом капитана и, по выражению матросов, лизал ему сапоги. Боцман превосходил капитана своей жестокостью и когда тот говорил: «бей!», он кричал: «добивай!»
Был у нас еще третий офицер, не имевший, впрочем, никакого значения; затем плотник, страшный пьяница, с красным и распухшим носом, большой приятель капитана; толстый негр, исполнявший обязанности повара и эконома, отвратительное существо, вид и характер которого были такого дьявольского свойства, что давали ему полное право занять место в одной из кухонь преисподней. Как упрекал я себя за то, что отказался от любви родителей и общества своих сестер и братьев! Как ненавидел я своего бедного дядю, старого морского волка, соблазнившего меня своими рассказами! Но к чему было себя корить! Раскаяние пришло слишком поздно, и я должен был переносить то существование, какое я себе сам устроил. Капитан дал мне подписать договор, которого я не читал и по которому я обязался оставаться у него лет пять в качестве юнги. Пять лет рабства, пять лет полной зависимости от человека, который мог бранить меня, давать мне пощечины, бить, даже заковать в цепи! И никакой возможности избавиться от этого! Увлеченный мечтами об океане, я подписал договор и тем полностью связал себя, капитан сказал мне это, а боцман подтвердил. Если бы я попробовал бежать, я стал бы дезертиром, которого могли поймать и подвергнуть наказанию. Даже иностранный порт и тот не мог служить мне убежищем.
Не могу передать всех жестокостей по отношению ко мне! Даже сон — и в том мне было отказано! У меня не было ни матраца, ни гамака, я не захватил с собой никакой одежды, кроме того, что было на мне — школьного костюма и фуражки. Ни денег, ни багажа, ничего у меня не было. Все койки были заняты, а на некоторых спало по два человека, матросы были так бессердечны, что не позволяли мне спать на сундуках, стоявших возле их коек, не позволяли ложиться и на полу, который был совершенно мокрый, а местами весь заплеван. В одном из уголков палубы было местечко, где никто не потревожил бы меня, но там было ужасно холодно, а у меня не было никакого одеяла, кроме моей одежды, постоянно мокрой. Я дрожал и не мог уснуть, а потому перебирался на порожний сундук, но хозяин его, заметив меня, самым грубым образом сбрасывал меня на пол. Я был рабом не только старших, но всего экипажа, включая Снежного Кома — ужасного негра. Я чистил сапоги капитану и боцману, я полоскал бутылки на кухне и был на посылках у матросов. О, я был хорошо наказан за свое непослушание, навсегда излечен от своей страсти к морю!
Глава 2
Я долго молча переносил это ужасное существование. К чему было жаловаться? Да и кому? У меня никого не было, кто пожелал бы выслушать меня; все окружающие были равнодушны к моим страданиям, и никто из них не выказывал стремления облегчить мою участь или замолвить слово в мою пользу. Неожиданное обстоятельство, случившееся через некоторое время, привело к тому, что мне стал покровительствовать один из матросов, который, не имея возможности остановить грубостей капитана, все же был настолько силен, чтобы защитить меня от возмутительного обращения своих товарищей. Матроса этого звали Бен Брас. Не своими заслугами я, само собою разумеется, заслужил его покровительство; не было это и следствием нежной симпатии, ибо сердце его давно уже потеряло всякую чувствительность. Он на себе испытал жестокое обращение, и несправедливость сделала его черствым по отношению к другим; его грубые манеры и суровый вид были следствием перенесенных им страданий, хотя в глубине его души таилась большая доза доброты и сострадания.
Этот Бен Брас был прекрасным моряком, лучшим матросом на борту судна, чего не отрицали его товарищи, несмотря на то, что один или два из них могли даже соперничать с ним. Надо было видеть его, когда он во время шторма взбирался по вантам, чтобы взять брамселя на гитовы! Его прекрасные густые и вьющиеся волосы развевались по ветру, лицо, полное энергии, дышало спокойствием и отвагой, как бы вызывая бурю побороться с ним. Он был пропорционально сложен, высокого роста, гибкий и скорее жилистый, чем мускулистый, с гривой каштановых волос. По всему было видно, что он молод и годы не успели еще разредить и «обесцветить его роскошной шевелюры. Выражение его лица, загоревшего от ветра и солнца, было честным и добрым, несмотря на его старания казаться суровым. И, как это ни странно для моряка, у которого вообще нет времени бриться, у него не было ни бороды, ни усов. Никогда, даже в праздники, не надевал он ничего другого, кроме синей блузы, плотно прилегавшей к телу и четко обрисовывавшей его. Скульптор пришел бы в восторг от смелых и чистых линий его шеи, от широкой груди, которая, к сожалению, как у всех моряков, была испорчена татуировкой (она переходила и на его мускулистые руки) в виде якоря и двух соединенных сердец, пронзенных стрелой, букв «ВВ» и множества других инициалов. Таков был мой друг Бен Брас. А стал он мне покровительствовать после одного случая.
Вскоре после моего прибытия на борт судна я заметил, что половина экипажа состоит из иностранцев. Это очень удивило меня; я всегда думал, что экипаж английского судна должен состоять из людей, родившихся в одном из королевств Великобритании, а между тем на «Пандоре» были французы, испанцы, португальцы. Один из американцев, по имени Бигман, заслуживает особенного упоминания. Имя его подходило ему как нельзя лучше: это был человек толстый, коренастый, грубый телом и духом, со свирепым лицом, обрамленным бородой, которой позавидовал бы любой пират. Имея сварливый нрав, он всегда находил случай придраться к чему-нибудь и наделать шуму, но в общем это был человек мужественный, хороший моряк, принадлежавший к числу тех трех, которые могли соперничать с Беном Брасом и пользовались, как и он, правом кого-то бить, а за кого-то заступаться.
Совершенно невольно и сам не зная этого, я сделал что-то такое, чем оскорбил американца; это было, наверное, что-то незначительное, но Бигман мстил мне при всяком удобном случае. В один прекрасный день он ударил меня по лицу; Бен, находившийся поблизости, возмутился такой жестокостью и, вскочив со своего гамака, бросился на Бигмана и нанес ему страшный удар кулаком по подбородку. Американец зашатался и рухнул на сундук, но тотчас же поднялся и вышел на палубу, а за ним и мой защитник; между ними начался поединок, за которым с интересом следили матросы. Что касается начальства, то оно не вмешивалось в эту ссору. Боцман подошел поближе и любовался зрелищем, а капитан остался на своем месте, нимало не заботясь о том, чем все это кончится. Такое отсутствие дисциплины меня крайне удивило, да на «Пандоре» и помимо этого происходило много удивительных для меня вещей.
Поединок кончился тем, что Бигман был весь избит; лицо его стало синевато-черным, и в конце концов он упал, как бык, подкошенный смертельным ударом, и признал себя побежденным.
— Довольно на сегодня, не правда ли? — крикнул Бен Брас. — Не смей, говорю тебе, и пальцем тронуть мальчишку, иначе я отплачу тебе вдвойне. Этот мальчишка такой же англичанин, как и я, он слишком много переносит от других, чтобы еще и сын краснокожего осмеливался оскорблять его. Запомни мои слова! Да и вы все там, — прибавил Бен, обращаясь к матросам, — не троньте его, не то будете иметь дело со мной.
С тех пор никто не смел тронуть меня, и положение мое значительно улучшилось. Мне давали полную порцию пирога и всего остального, позволяли спать на сундуке, и один из матросов, желая заслужить уважение Бена, подарил мне старое одеяло; другой же — нож с привязанным к нему вместо цепочки шнурком, чтобы я мог надевать его на шею. Все, одним словом, старались дать мне что-нибудь необходимое, так что совсем скоро я перестал испытывать в чем-либо недостаток.
Всякий человек, отправляясь в мореплавание, запасается одеждой, тарелками, ножом, вилкой, стаканом, словом, всем необходимым, но я, поспешно бежав из родительского дома с пустыми руками, не взял с собой даже ни единой рубашки. Можете представить, в каком ужасном положении я был, пока оно не изменилось благодаря покровительству Бена. А скоро новое происшествие увеличило мою признательность, усилив в свою очередь и расположение ко мне моего покровителя. То, о чем я сейчас расскажу, часто случалось и до меня, да, вероятно, будет еще случаться до тех пор, пока закон не ограничит беспредельной власти капитанов коммерческих судов. Большинство шкиперов считают, что они вправе самым жестоким образом обращаться со своими подчиненными, пользуясь полной своей безнаказанностью; жестокость их ограничивается только терпением их жертв и покорностью своей судьбе. Матросам с независимым, смелым характером нечего бояться своих начальников, но робкие и слабохарактерные очень страдают от власти жестокого капитана. Они вынуждены постоянно работать, удручены усталостью, от которой едва не умирают, их избивают за малейшую провинность, а иногда и без всякой причины… С ними обращаются, как с рабами, сохранением жизни которых никто не интересуется. Никто не отрицает того, что власть капитана должна быть шире власти директора завода или руководителя какого-нибудь предприятия: от этого зависит безопасность судна; но нельзя допускать полной безответственности за превышение власти и чрезмерное злоупотребление ею. Капитана поддерживают его помощники, он пользуется преимуществами своего материального положения и ужасом, который он внушает экипажу, особенно тем, кто имеет за что пожаловаться на него. Потому капитан всегда может одержать верх над жертвой своей жестокости, которая не посмеет рассказать о своих страданиях, боясь не только не добиться правосудия, а, напротив, вдвойне поплатиться впоследствии за свой неосторожный поступок.
Глава 3
Самое трудное для начинающего морскую карьеру — это данное им обязательство взбираться на мачты. Снисходительный капитан позволил бы, конечно, новичку постепенно бороться с головокружением, которое возникает, когда он взбирается по вантам, и посылал бы его сначала не выше марс-стеньги; он дал бы ему время привыкнуть держаться руками и ногами за снасти и несколько раз позволил бы ему пролезать через собачью дыру в марсе, вместо того, чтобы принуждать его спускаться по подветренным вантам. Постепенно головокружение у новичка прошло бы, и тогда ему можно было бы запретить пролезать через собачью дыру, и, напротив, заставлять подниматься до бом-брамселя и так далее. Так поступил бы капитан гуманный, но, увы, таких очень мало.
Не прошло двух недель со времени нашего отплытия, как капитан крикнул мне: «Вверх!». Если мне удалось взобраться на первые ванты, то лишь потому, что я страстно хотел этого; еще до своего поступления на «Пандору» я никогда не проходил мимо наших яблонь, чтобы не взлезть на них, и к тому же я понимал необходимость научиться свободно передвигаться среди всех снастей судна. К несчастью, я не мог поступать по своей собственной воле; два раза уже взбирался я на выбленки, пройдя через собачью дыру, добирался до грот-марса и хотел уже лезть дальше, но капитан и боцман всякий раз приказывали мне спуститься вниз и отправляться мыть их каюты, или чистить их сапоги, или исполнять какую-нибудь другую работу в этом роде.
Я начинал понимать, что пьяница капитан не имеет никакого намерения обучить меня чему-нибудь из того, что должен знать моряк, что он просто-напросто взял меня, чтобы иметь раба, которого можно заставлять делать все, что угодно, которого всякий может угощать пинками ногой — и преимущественно он.
Такое решение капитана крайне огорчало меня, не потому, что я хотел остаться моряком: если бы в то время мы вернулись в Англию, весьма возможно, что нога моя не ступила бы больше на палубу какого бы то ни было судна. Но я знал, что мы отправились в далекое путешествие. Сколько времени могло оно продолжаться? Этого я не мог сказать. Даже если я смогу бежать с «Пандоры», что буду делать в чужой стране, без друзей, без денег, когда я не буду иметь никакого понятия ни о торговле, ни о чем-либо другом? Откуда найдутся у меня средства для возвращения в Англию? Будь я хорошим матросом, я мог бы предложить свои услуги за право проезда и вернуться к своей семье. Но я не мог этого сделать, и вот почему я был так огорчен невозможностью выучиться тому, чему хотел.
Не знаю, откуда у меня взялась такая смелость, но только в одно прекрасное утро я подошел к капитану и насколько мог деликатнее стал упрекать его за невыполнение условий относительно моего обучения. В ответ на это он повалил меня на пол и так избил, что все мое тело покрылось синяками, последствием моей неосторожности было то, что он стал обращаться со мной еще хуже. Мне все реже позволяли взбираться на снасти и упражняться там. Один только раз, вместо того чтобы крикнуть мне: «вниз!», меня заставили взбираться вверх и даже выше, чем я хотел.
Воспользовавшись тем, что боцман и капитан отправились отдыхать, я вскарабкался на грот-марс, который матросы называют колыбелью — и не без основания, так как судно, паруса которого вздуваются ветром, раскачивается с одной стороны на другую или спереди назад, смотря по тому, какое движение придает ему ветер. Колыбель — самое удобное место на судне для того, кто любит уединение. Не заглядывая через края или через собачью дыру, вы не видите, что делается на палубе, а шум голосов, едва долетающий к вам, сливается со свистом ветра среди снастей и парусов. Я был невыразимо счастлив, когда мог провести несколько минут в этом уединенном местечке; удрученный пребыванием среди ужасного общества, возмущенный то и дело раздающимися проклятиями и руганью, я готов был отдать все на свете, чтобы мне разрешили хотя бы несколько минут отдыхать в этой воздушной колыбели; но тираны мои не давали мне ни покоя, ни отдыха. Боцман, например, находил какое-то особенное удовольствие в том, чтобы мучить меня; он догадался о моем пристрастии к грот-марсу и тотчас же решил, что из всех мест на судне именно здесь он не позволит оставаться мне.
Забравшись в колыбель, я с наслаждением протянул усталые ноги и несколько минут прислушивался к дыханию ветра, сливавшегося с дыханием волн; легкое дуновение ветра освежало мне лицо и, несмотря на опасность уснуть на этой ничем не окруженной платформе, я скоро перешел в царство снов, которые были не очень приятны, что, я думаю, нетрудно понять. Мое сердце грызли сожаления, душа возмущалась оскорблениями и всем, что совершалось вокруг меня, тело истомилось от непрерывной работы. Возможно ли было ждать прекрасных снов?
Мои, по крайней мере, были непродолжительны. Не прошло и пяти минут, как я был разбужен, но не голосом, звавшим меня, а жгучей болью от удара веревкой, который нанесла мне чья-то сильная рука. Первого удара было достаточно, чтобы заставить меня вскочить, и я был уже на ногах, когда рука палача поднялась, чтобы ударить меня второй раз. Поспешность, с которой я вскочил, помешала веревке попасть в цель, и каково же было мое удивление, когда в человеке, наносившем мне удары, я узнал Бигмана!
Я знал, что он всегда был не прочь ударить меня, храня в своей душе непримиримую ненависть ко мне, и, встреться я с ним один на один в каком-нибудь уединенном месте, я не удивился бы, если б он вздумал меня убить. Но со времени данного ему Беном урока он был нем, как рыба, и хотя при встрече со мной лицо его становилось мрачным, он никогда никаких оскорблений себе не позволял по отношению ко мне.
Почему же он осмелился напасть на меня, когда Бен был на палубе? Что могло так изменить его поведение? Неужели я чем-нибудь оскорбил своего покровителя, который за это отдал меня во власть этого ужасного бандита? Неужели Бигман вообразил себе, что никто не мог видеть его с того места, где мы были? Но нет, этого не могло прийти ему в голову. Я мог крикнуть, и Бен услышал бы меня; я мог, наконец, все рассказать ему потом, и он наверняка отомстил бы за меня.
Все эти мысли быстро промелькнули у меня в голове между вторым и третьим ударом, от которого я также успел уклониться. Я заглянул в собачью дыру, надеясь увидеть оттуда Бена, но не увидел и хотел уже позвать его, когда в глаза мне бросились два человека, которые стояли, подняв головы вверх, и смотрели на грот-марс. Голос мой замер; я узнал круглое ликующее лицо шкипера, а рядом с ним — свирепое лицо боцмана.
Неожиданное нападение американца стало мне теперь понятно: дело было не в нем, а в них. Капитан и его помощник выглядели так, что было понятно: они присутствуют при исполнении данных ими приказаний, а по дьявольскому выражению их лиц легко было заключить, что они готовят мне какую-то новую пытку. К чему было звать Бена? Его сила была тут не причем. Вздумай он только помочь мне, подать голос в мою защиту, и эти люди, заставлявшие бить меня ради собственного удовольствия, приказали бы заковать его в цепи и даже имели право убить его, так как закон был на их стороне.
Он мог только присутствовать при моей пытке; я решил избавить его от этого зрелища и от опасности бороться со своими принципами; поэтому я молчал и ждал, что будет дальше.
— Проклятый увалень! Ленивая собака! — закричал боцман. — Буди его, янки, веревкой! Храпеть среди бела дня! Хорошенько его, еще раз! Заставь его петь, мой милый!
— Нет, — прервал его капитан. — Заставь его карабкаться, янки! Гони его выше! Он любит взбираться высоко!.. Он хочет быть моряком, пусть же учится этому ремеслу!
— Превосходно, — ответил боцман, злобно посмеиваясь, — превосходно! Он сам этого хотел… Проветрим же его! Не робей, янки, заставь его карабкаться!
Бигман поднял веревку и приказал мне лезть вверх. Мне ничего не оставалось, как повиноваться. Поставив ноги на ванты марса, я схватился руками за выбленки и начал опасное восхождение нервными, неровными скачками, получая удары веревкой всякий раз, когда останавливался. Бигман бил меня с бешенством; он старался заставить меня выстрадать возможно больше и достигал своей цели, так как узлы веревки причиняли мне жгучую боль. Мне ничего не оставалось, как лезть вверх или подвергаться этой ужасной пытке, а потому я продолжал подниматься по вантам. Так добрался я до грот-стеньги. С каким ужасом взглянул я вниз! Подо мной была пропасть. Мачты, склонившиеся под напором ветра, не стояли в вертикальном положении; я висел в воздухе и ничего не видел, кроме искрящихся внизу волн.
— Выше! Выше! — кричал американец, замахиваясь веревкой.
Выше! Боже мой! Но как это сделать? Надо мной тянулись снасти брам-стеньги — и никаких выбленок, никаких колец, куда бы я мог поставить ноги! Как быть?
Но мешкать мне не позволялось; грубое животное, следовавшее за мной по пятам, било меня по ногам, угрожая со страшными проклятиями не оставить на мне ни единого клочка мяса, если я не двинусь дальше. Я решил попробовать и, разместившись между снастями, с трудом дотянулся до брам-реи, где остановился, не в состоянии двигаться дальше. У меня захватывало дыхание и сил оставалось лишь настолько, чтобы держаться за снасти. Над головой моей высилась бом-брам-стеньга, а под ногами Бигман с торжествующей улыбкой наблюдал за моей агонией.
— Выше! — кричали капитан и боцман. — Выше, янки!
Осталась еще бом-брам-стеньга!
Мне показалось, что я услышал голос Бена:
— Довольно, довольно! Вы разве не видите, как это опасно!
Я взглянул на палубу; там стояли матросы и о чем-то спорили, вероятно, обо мне. Я был слишком взволнован, чтобы обращать на это внимание, да к тому же палач мой не давал мне времени опомниться.
— Ну же, ну! — кричал он. — Выше или, черт тебя возьми, ты у меня лопнешь под веревкой! Трус! Будешь ты подниматься или нет! Черррт…
И орудие пытки с небывалой силой опустилось на меня.
Подняться на бом-брам-стеньгу — дело опасное даже для человека, привыкшего к таким упражнениям, но для новичка это просто немыслимо. Передо мной ничего не было, кроме гладкой веревки, без малейшего даже узла, который мог бы служить мне точкой опоры… Одни только усталые руки мои должны были поддерживать тяжесть моего тела… это было ужасно! Но после этого мне некуда будет больше карабкаться, и тогда палачи мои будут удовлетворены; к тому же, мне не оставалось выбора, и я с отчаянием схватил веревку и продолжал свое восхождение.
Я был уже на полдороге и чуть-чуть не схватился за рею, когда силы оставили меня окончательно. Голова у меня закружилась, сердце замерло, пальцы разжались, и я почувствовал, что падаю… падаю… и у меня захватило дух. Сознание мое сохранилось, однако, вполне; я видел пропасть и был уверен, что утону или разобьюсь о поверхность воды… Я долетел до волн и погрузился глубоко в море… Мне показалось, однако, что я не прямо с бом-брам-стеньги упал в воду… на моем пути будто встретилось какое-то препятствие, изменившее направление падения. Я не ошибся, как узнал потом: я сначала упал на большой парус, вздутый ветром, и отскочил от него, как мяч, что уменьшило силу падения и спасло, таким образом, мне жизнь. Вместо того чтобы упасть головой вниз, как я летел в тот момент, когда веревка выскользнула из моих рук, при встрече с парусом я перевернулся в воздухе и погрузился в воду ногами.
Когда я всплыл на поверхность воды, то удивился, что еще жив. Сознание мое было смутным; я чувствовал, что нахожусь в море. Я поднял глаза и увидел наше судно, удалявшееся в противоположную от меня сторону. Мне показалось, что на меня смотрят матросы с гакаборта и вантов, но судно все дальше и дальше удалялось от меня. Я хорошо плавал для своих лет, не был ранен и мог бороться с волнами, а потому поплыл, действуя больше инстинктивно, чтобы не погрузиться на дно, чем в надежде добраться до судна. Я оглядывался кругом в поисках веревки, которую, как мне казалось, должны были бросить матросы. Сначала я ничего не увидел, но затем, поднявшись на гребень волны, заметил что-то круглое, находившееся между мной и судном. Солнце светило мне прямо в глаза, но тем не менее я понял, что это голова человека, плывшего ко мне. Когда я приблизился к ней, то узнал Бена Браса. Увидя меня падающим в море, он перескочил через борт и поплыл на помощь.
— Хорошо, мой мальчик! Очень хорошо! — воскликнул он, приблизившись ко мне. — Мы плаваем, как утки, и не ранены, не правда ли? Держись за меня, если ты устал.
Я ответил ему, что чувствую себя достаточно сильным и могу проплыть еще с полчаса.
— Превосходно! — сказал он. — Нам должны бросить веревку! Досталось же тебе сегодня, бедное дитя! Повесить бы этих проклятых мерзавцев! Я отомщу за тебя, мой мальчик, не бойся! Эй, там на судне! — крикнул он. — Сюда веревку, сюда! О-го-го!
Судно повернулось и направилось в нашу сторону. Будь я один, как это я узнал после, такого маневра не последовало бы. Но Беном Брасом нельзя было пожертвовать безнаказанно; ни шкипер, ни боцман не осмелились предоставить его судьбе и немедленно распорядились, чтобы экипаж подобрал нас. К счастью, ветер был не сильный, и море было спокойным, а потому мы скоро были на палубе, куда матросы втащили нас канатами.
Ненависть моих преследователей улеглась, по-видимому, так как до следующего утра я не видел ни одного, ни другого. Мне позволили отдыхать весь остаток дня.
Глава 4
Странная вещь! С этого дня капитан и боцман стали менее жестоко обращаться со мной; не потому, конечно, что смягчились или что почувствовали угрызения совести. Они просто-напросто заметили неблагоприятное впечатление, произведенное на весь экипаж их несправедливостью. Большинство матросов были друзьями Браса и не боялись вместе с ним осуждать жестокую игру, жертвой которой был я. Собравшись вокруг кабестана, матросы громко рассуждали о случившемся, и это не могло не дойти до ушей начальства; к тому же, Бен, бросившись в море, чтобы помочь мне, приобрел новых друзей, потому что истинное мужество ценится даже такими грубыми людьми, какими были матросы, а любовь, которой он пользовался среди своих товарищей, внушала известную долю сдержанности нашим командирам. Он принял мою сторону, протестуя таким образом против отвратительного насилия надо мной. Когда Бигман гнал меня наверх, Бен Брас приказывал ему спустить меня вниз, но капитан, стоявший на палубе, делал вид, что не слышит его. Любой другой матрос в таком случае подвергся бы строгому взысканию, но благодаря Бену никто не был наказан за то, что осмелился принять мою сторону, а напротив, как я уже сказал, со мной стали обращаться менее жестоко.
С этого времени мне разрешили участвовать вместе с матросами в разных маневрах и освободили от некоторой доли грязной работы, какую я исполнял до сих пор. Один из матросов, голландец по имени Детчи, тихое и простое существо, получил на свою долю часть моей работы, а с ней вместе и часть гнева, которую капитан старался всегда излить на кого-нибудь.
Несчастное существо был этот голландец, самый грустный пример всех человеческих несчастий. Расскажи я подробно обо всех мерзостях, жертвой которых со стороны шкипера и боцмана «Пандоры» был этот человек, никто не поверил бы в правдивость этих фактов, никто не поверил бы в существование такой бессердечности. Но всегда таковы натуры порочные: получив возможность издеваться над кем-нибудь, кто не в силах им сопротивляться, они вместо того чтобы дать улечься злобе, распаляют себя сильнее, как в лесу дикие звери при виде капли крови. Примером этому могли служить капитан и боцман «Пандоры»: окажи им сопротивление голландец, и мстительность их давно бы улеглась, но он этого не сделал и потому они с наслаждением мучили это слабое и робкое создание, гнева которого им нечего было бояться.
Я припоминаю, что несчастному Детчи связывали большие пальцы рук, привязывали к палубе и оставляли в таком положении на несколько часов. На первый взгляд, в этом не было ничего страшного, но на самом деле это была пытка, достойная инквизиции, и несчастная жертва скоро начинала стонать.
Второе развлечение капитана и его помощника состояло в том, что они с помощью веревки, прикрепленной к поясу, подвешивали бедного матроса к концу реи; они называли это качелью обезьяны. Однажды его закрыли в пустой бочке, где он провел несколько дней без пищи; несчастный Детчи едва не умер от голода и жажды, не просунь ему кто-то через отверстие в бочке немного сухарей и воды, что спасло ему жизнь. Много еще других наказаний выпало на долю несчастного, и все они настолько возмутительны, что я не хочу говорить о них.
Как бы там ни было, но его злоключения улучшали мое положение, потому что на его долю выпало много такого, что иначе выпало бы на мою долю. Поставленный между мной и нашими общими палачами, он служил мне щитом от них. Я был ему за это благодарен, но не смел выказывать ни сожаления, ни сочувствия. Я сам нуждался в сожалении, потому что чувствовал себя очень несчастным, несмотря на перемену, происшедшую в моем положении.
— Почему же? — спросите вы. На что было мне жаловаться, когда я, преодолев первые затруднения, делал быстрые успехи в карьере, к которой так стремился? Да, это правда, под руководством Бена Браса я становился хорошим матросом; неделю спустя после моего головокружительного прыжка в воду я без малейшего страха взбирался на бом-брам-стеньгу и, несмотря на сильный ветер, отправлялся вместе с другими брать на гитовы брамселя. За это я даже заслужил одобрение Бена Браса. Да, я действительно становился хорошим матросом и тем не менее я чувствовал себя несчастным. Причина этого состояния духа заключалась в следующем.
С первых же дней службы на «Пандоре» я был поражен общим характером всего судна; состав экипажа и отсутствие дисциплины не походили на то, что я читал в книгах, где говорилось о повиновении и полном уважении матросов к своему капитану. Поражен я был еще и тем количеством людей, которые находились вместе со мной на судне; вместимость «Пандоры» равнялась 500 тоннам, она была, следовательно, только коммерческим судном. Почему же нас было на нем сорок человек, включая негра?
Последнее обстоятельство, впрочем, произвело на меня менее сильное впечатление. Меня больше тревожило поведение начальства и экипажа, странные разговоры, некоторые фразы, которые долетали до моего слуха. Все это внушало мне страшное подозрение и боязнь, что я нахожусь среди отъявленных негодяев.
Первое время после нашего отъезда все люки были спущены и закрыты парусиной. Ветер дул попутный, судно быстро продвигалось вперед, и не было никакой необходимости спускаться в трюм; меня туда не посылали, и я не знал поэтому, какой груз идет с нами. Я услышал как-то раз, что он состоит преимущественно из водки, которую мы должны были доставить в Капштадт, но кроме этого я ничего не знал.
Спустя некоторое время, когда мы уже подходили к тропикам, брезенты были сняты, передний и задний люки открыты, и нам разрешено было ходить между деками. Любопытство заставило меня спуститься туда, и то, что я там увидел, наполнило меня ужасом и подтвердило мои подозрения.
Большая часть нашего груза состояла, по-видимому, из водки, так как громадные бочки наполняли почти весь трюм. Кроме того, здесь были полосы железа, несколько ящиков с товарами и куча мешков, наполненных, вероятно, солью.
Тут, скажете вы, ничего не было такого, что могло бы вызвать во мне страх, но дело в том, что не эти вещи испугали меня, а целая куча железа, валявшегося на полу, в котором я, несмотря на свою неопытность, сразу узнал ручные кандалы, железные ошейники, громадные цепи, снабженные кольцами. Для чего нужны были на «Пандоре» эти орудия пытки?
Я скоро узнал это; плотник делал что-то вроде решеток из крепких дубовых палок, чтобы закрыть ими отверстия люков. Этого было достаточно для меня; я недаром читал о разных ужасах, совершенных между деками. Для меня не было больше сомнения, что «Пандора» — невольничье судно.
Да, верно — я находился на судне, снаряженном и вооруженном всем, что необходимо для торговли рабами. Правда, у нас не было пушек, но я видел большое количество кортиков, мушкетов, пистолетов, которые вытащили откуда-то и раздали матросам, чтобы они вычистили их и привели в порядок. «Пандора» готовилась, очевидно, к какому-то опасному предприятию, чтобы в случае необходимости иметь возможность отбить у другого судна его груз человеческого мяса. Собственно говоря, она была слишком слаба, чтобы выдержать битву даже с самым незначительным военным судном, и я думаю, капитан наш должен был в случае преследования искать спасения в своих парусах, а не в оружии. Наша «Пандора» была действительно так устроена и оснащена, что мало нашлось бы судов, которые при попутном ветре смогли бы догнать ее в открытом море.
Теперь, как я уже говорил, я не сомневался больше в цели нашего путешествия, тем более, что матросы не делали из этого никакой тайны, а, напротив, хвастались этим, как каким-нибудь благородным делом. Мы прошли уже за Гибралтарский пролив и плыли теперь по таким местам, где нам нечего было опасаться, что мы встретим военное судно. Крейсеры, обязанность которых заключалась в том, чтобы мешать торговле неграми, встречались обычно далее к югу и вдоль берегов, где производилась погрузка живого товара. Экипаж поэтому был совершенно спокоен и большую часть дня забавлялся, так что на судне с утра до вечера ничего не делали, а только пили и ели.
Вы спросите, быть может, как могло судно, так открыто предназначенное для торговли неграми, выйти без всяких препятствий из порта Англии? Не забывайте, что все это произошло во времена моей юности, в очень, следовательно, отдаленную эпоху, и я не сделаю ошибки, если скажу, что рассказ мой относится к 1857 году.
Я был слишком молод, чтобы делать какие-либо философские выводы по этому поводу; торговля неграми сама по себе внушала мне такое же отвращение, как и многим моим соотечественникам. В то время Англия, увлеченная Вильберфорсом и другими гуманистами, дала миру хороший пример, предложив двадцать миллионов фунтов стерлингов на защиту прав человека. Представьте же себе мое огорчение, когда я убедился окончательно, что нахожусь на борту судна, занятого таким преступным делом; стыд, который я чувствовал, видя себя среди людей, внушавших мне отвращение; отчаяние, овладевшее мной при мысли о том, что я состою членом такой шайки и должен быть свидетелем их ужасного занятия!
Сделай я это открытие внезапно, оно еще тяжелее подействовало бы на меня, но я пришел к нему постепенно; подозрение зародилось гораздо раньше окончательной уверенности. Я думал сначала, что попал к пиратам, которые встречались довольно часто в то время, и я даже почувствовал некоторого рода облегчение, что имею дело не с пиратами. Не потому, что мои товарищи показались мне теперь не такими отвратительными, — просто я подумал, что бегство в этом случае будет несравненно легче, и решил бежать при первой же возможности. Но, увы, зрелое размышление представило мне ужасную перспективу: могли пройти целые месяцы, прежде чем мне представится случай бежать с этого ужасного судна… Месяцы!.. Я должен был бы сказать годы! Я не боялся больше подписанного мною договора, условия которого так беспокоили меня раньше: меня не могли принудить исполнять обязанности, противоречащие закону. Не это пугало меня, а невозможность вырваться из-под контроля адских чудовищ, располагавших моей судьбой.
Судно наше направлялось к берегам Гвинеи, но там я не мог найти необходимой мне защиты от капитана. Я мог встретить там только туземных вождей да отвратительных торговцев, которые были бы счастливы доказать свою преданность капитану, водворив меня на прежнее место. Бежать в лес? Но это значило умереть с голоду или быть разорванным дикими зверями, которых так много в Африке. Я мог быть, кроме того, убит дикарями или стать пленником и рабом какого-нибудь негра… Ужасно!
Я перелетел мысленно через Атлантический океан и стал раздумывать о том, каковы мои шансы спастись на противоположном берегу. «Пандора», отчалив от берегов Гвинеи, отправится, само собой разумеется, в Бразилию или на Антильские острова. Груз свой она, конечно, высадит тайно, пристав ночью к какому-нибудь пустынному берегу, чтобы не попасться крейсерам, а на следующее утро уедет, и для такой же экспедиции, быть может. Мне не позволят сойти на берег, где я непременно убежал бы, предоставив Богу заботу о своей жизни.
Чем больше раздумывал я, тем больше убеждался, как мне будет трудно убежать из моей плавучей темницы, и отчаяние охватывало меня. Ах, если бы только нам встретить английский крейсер! С какой радостью прислушивался бы я к свисту пуль среди снастей и треску пробиваемых боков «Пандоры»!
Глава 5
Я воздерживался, разумеется, от выражения своих чувств; даже Бен Брас был бы бессилен защитить меня от ярости своих товарищей, заметь они только отвращение, которое внушало мне их общество.
Надо полагать, однако, что лицо мое выдавало мои мысли, потому что матросы не раз затрагивали меня, подсмеиваясь над моими сомнениями и называя меня кислятиной, молокососом, мокрой курицей и другими оскорбительными словами, которыми полна была их речь.
Я удвоил старания, чтобы не показывать им чувств, наполнявших мое сердце, но решил в то же время поговорить с Беном и спросить его совета. Я без боязни мог довериться ему, но дело это тем не менее было очень деликатное и требовало известных предосторожностей. Бен был тоже членом шайки и его могли оскорбить мои слова, ведь он мог предположить, что я порицаю его, и лишить меня своего покровительства.
Однако затем я подумал, что Бен вряд ли будет обижаться на меня. По двум-трем словам, которые я от него услышал, я заключил, что Бен тяготится своим существованием и поступил сюда поневоле, в силу обстоятельств Я любил его бесконечно и очень хотел, чтобы это так и было. Каждый день мне представлялся случай видеть разницу между ним и другими матросами. Вот почему я принял в конце концов твердое решение рассказать Бену о своих страданиях и посоветоваться с ним, как мне поступить.
На бушприте судна есть одно место, где очень приятно находиться, особенно когда штас фок-марса опущен и поддерживается жердью. Два или три человека могут свободно сидеть там или лежать на парусе и разговаривать, не боясь, что подслушают их тайны; ветер там дует обычно с кормы и уносит слова в сторону от судна. Романтично настроенные матросы любят это небольшое уединение, а на судах, наполненных эмигрантами, наиболее отважные пассажиры забираются туда, чтобы подумать о своей будущей жизни. Это было любимое место Бена, и к концу дня он всегда садился там, чтобы выкурить трубку.
Несколько раз я был готов пойти с ним, но боялся, что это ему не понравится. Наконец, собравшись с духом, я скользнул туда за ним, не говоря ни слова. Бен сам заговорил со мной, и мне показалось, что присутствие мое его не раздражает, что, напротив, он даже доволен, видя меня рядом. Однажды вечером, когда я отправился за ним туда по своему обыкновению, я рассказал ему, наконец, обо всех своих мучениях.
— Бен, — окликнул я его.
— В чем дело, Вилли?
Он понял, что я хочу в чем-то признаться, и приготовился слушать меня внимательно.
— Что это за корабль, на котором мы находимся? — спросил я после минутного молчания.
— Это не корабль, малыш, а барка.
— Ну и…
— Барка и только.
— Я хотел бы знать, какого рода.
— Хорошо построенное и прекрасно оснащенное судно. Будь это корабль, то на бизань-мачте, которая сзади, были бы четырехугольные паруса, а так как их нет, то это барка, а не корабль.
— Это я знаю, ты несколько раз говорил мне об этом; но я хотел бы знать еще, какого рода барка наша «Пандора»?
— Зачем ты это спрашиваешь? Превосходная барка. Вряд ли найдется другое парусное судно с таким носом, как у нее; есть у нее один только недостаток: на мой взгляд, она очень легкая и поэтому слишком раскачивается в плохую погоду; стоит только наложить поменьше балласта, и ничего не будет удивительного, если в один прекрасный день мачты перетянут на одну сторону; прощай тогда экипаж.
— Не сердись на меня, Бен, но ты уже говорил мне это, а я хотел бы знать кое-что другое.
— Что же бы ты хотел знать, черт возьми! Пусть меня повесят, если я понимаю.
— Бен, ответь мне, правда ли, что это коммерческое судно?
— О, вот чего ты хочешь! Все зависит от того, малыш, что ты называешь товаром. Бывают разные товары. Суда нагружаются разным манером; одно…
— А какой груз на «Пандоре»?
Я взял его за руку и взором молил ответить мне честно. Он колебался несколько минут, затем, видя, что от ответа ему не уйти, сказал:
— Негры… Не стоит скрывать, ты это должен узнать. «Пандора» совсем не коммерческое судно, на ней перевозят негров.
— О, Бен! Разве это не ужасно?
— Да, ты был создан не для такой жизни, бедный малыш, мне горько видеть тебя здесь. Когда ты пришел в первый раз на «Пандору», я хотел шепнуть тебе на ухо словечко и ждал только случая, но старая акула слопала тебя раньше, чем я успел подойти к тебе; ему нужен был юнга, и ты подходил ему. Второй раз, когда ты пришел на борт, я спал… Так ты и остался среди нас. Нет, Вилли, нет, ты здесь не на своем месте.
— А ты, Бен?
— Довольно, малыш, довольно! Я не сержусь на тебя за это, такая мысль должна была прийти тебе в голову. Я, быть может, и не такой плохой как ты думаешь.
— Я не считаю тебя плохим, Бен, напротив, потому-то я и говорю с тобой так откровенно; я вижу большую разницу между тобой и другими, я…
— Быть может, ты прав, быть может, нет. Было время, когда я походил на тебя, Вилли, когда у меня ничего не было общего с этими бандитами. Но в мире существуют тираны, которые делают людей плохими, и меня сделали таким, каким я стал.
Бен замолчал; глубокий вздох вырвался у него из груди, и на лице появилось выражение отчаяния.
— Нет, Бен, — сказал я, — они сделали тебя несчастным, но не злым.
— Спасибо, Вилли, — ответил мой бедный друг, — ты добрый и потому говоришь так, ты очень добрый, малыш. Ты даешь мне почувствовать то, что я чувствовал когда-то. Я все тебе скажу; слушай хорошенько, и ты поймешь меня…
Слеза блеснула в глазах Бена. Я придвинулся поближе к нему, чтобы слушать внимательно и ничего не пропустить.
— История моя не длинная и не требует много слов. Я не всегда был таким. Я долго служил на военном корабле и хоть себя хвалить неловко, я говорю правду: там было мало таких, которые лучше меня исполняли свои обязанности. Но, к сожалению, в будущем это мне не помогло. Однажды в Спитгиде, где находился тогда весь флот, я сказал правду боцману по поводу одной девушки, которая была мне хорошим другом. Боцман позволял себе много вольностей по отношению к ней, и это сердило меня. Я не выдержал и стал угрожать ему… Я ничего не сделал, только угрожал… Смотри, малыш, вот результат этого.
С этими словами Бен снял свою куртку и поднял рубаху до плеч. Спина его была испещрена глубокими шрамами, следами ран от полученных им ударов плети.
— Теперь, — продолжал Бен, — ты знаешь, почему я попал на «Пандору». Я бежал с корабля и постарался найти себе место на коммерческом судне; но я унес с собой печать Каина, она следовала за мной по пятам; так или иначе она всегда открывалась, и я вынужден был уходить. А здесь, видишь ли, я не одинок: среди нашего экипажа ты найдешь много таких спин.
Бен замолчал. Я сам был слишком взволнован рассказанной мне историей и тоже молчал. Спустя несколько минут я сказал:
— Бен, жизнь на «Пандоре» ужасна! Неужели ты не хочешь ее изменить?
Он не ответил и отвернулся от меня.
— Сам я уже не в силах выносить этого существования, я решил бежать, как только представится случай. Ты поможешь мне, не правда ли?
— Малыш, мы отправимся вместе, — ответил Бен Брас.
— О, какое счастье!
— Да, я устал от этой жизни, — продолжал он. — Я много раз уже собирался бросить «Пандору», это мой последний рейс. Уже давно я задумал бежать и увезти тебя с собой.
— Как я счастлив, Бен! Когда же мы бежим?
— Этого-то я и не знаю. Бежать на берег Африки — это рисковать своей жизнью, потому что негры наверняка убьют нас. Не в эту сторону нам надо бежать: в Америке мы сможем устроить это дело. Будь уверен, даю тебе слово, что мы убежим!
— Сколько еще времени придется страдать!
— Ты не будешь больше страдать, говорю тебе; я позабочусь об этом, не бойся. Будь только осторожен и не показывай никому, что тебе что-то не нравится. Особенно ни слова о том, о чем мы говорили сегодня вечером. Ни слова, слышишь?
Я пообещал Бену в точности выполнить его советы, а так как его звали на вахту, то и я сошел вместе с ним на палубу. В первый раз с тех пор, как я ступил на «Пандору», я почувствовал себя легко.
Глава 6
Не буду описывать во всех подробностях наш путь к берегам Гвинеи. Путешествие по морю вообще однообразно, крайне однообразна и жизнь моряка: стая морских свиней, один или два кита, летучие рыбы, дельфины, несколько видов птиц и акул, — вот единственные живые существа, которых встречаешь во время длительного плавания.
Мы шли прямо к тропику Рака и чем дальше продвигались, тем жара становилась сильнее. Стало, наконец, так жарко, что везде выступила смола, и башмаки наши начали прилипать к доскам. Каждый день мы теперь видели паруса на горизонте: большинство судов шло в Индию или возвращалось в Англию. Нам попадались также бриги, несколько барок под английским флагом, которые шли, вероятно, к Капштадту или к бухте Альгоа, но ни те, ни другие не выказывали стремления познакомиться с нами, да и сами мы избегали, по-видимому, их визитов, и капитан «Пандоры» ни разу не окликнул в рупор ни одно из этих судов.
Однако скоро нашлось судно, которое выразило желание приблизиться к нам. Увидев нас, оно изменило свое направление и на всех парусах двинулось в нашу сторону. Так как мы находились в Гвинейском заливе, приблизительно в ста милях от Золотого Берега, то судно, преследовавшее нас, было, очевидно, крейсером. Худшего для нашего капитана нельзя было и придумать. Наши сомнения скоро рассеялись: ход судна, его снасти, все показывало, что это катер. Преследование со стороны судна, которое было гораздо меньше нашего, служило несомненным доказательством, что это или судно королевской морской службы, или пират, но в любом случае вооруженное лучше, чем «Пандора».
Место, где мы находились, никогда не посещали пираты. Суда, ведущие здесь торговлю, обычно невелики, и бывают нагружены солью, железом, ромом, разной мелочью, всевозможными безделушками, которые очень ценятся дикарями Дагомеи и Ашанти, хотя, собственно, ничего не стоят. На обратном пути зато они бывают нагружены золотым песком и слоновой костью. Зная об этом, некоторые пираты направились к берегам Гвинеи. Но в общем они там встречались гораздо реже, чем в Индийском океане и возле Антильских островов. Будь мы у мыса Доброй Надежды, экипаж «Пандоры» счел бы катер пиратским и не беспокоился бы так сильно, потому что люди, из которых он состоял, меньше боятся пиратов, чем военного судна; они знают, что пираты считают их своими, так как наравне с ними находятся вне закона. Пираты, к тому же, могли нанести лишь незначительный ущерб, ведь им не нужны ни соль, ни железо, ни безделушки, а только ром да водка.
Катер тем временем приближался, и теперь его можно было узнать: на нем развевался флаг Великобритании. Это был английский крейсер, в обязанности которого входило преследовать судна, торгующие неграми. Никакая другая встреча не могла быть более неприятной для «Пандоры». Крейсер был прекрасно оснащен и даже не подумал скрываться, а прямо направился в погоню за нами. «Пандора», не колеблясь ни единой минуты, бросилась удирать на всех парусах.
Что касается меня, то я не спускал глаз с крейсера, мысленно измеряя расстояние, отделявшее его от нас. В сердце моем вспыхнула надежда, оно билось все сильнее по мере того, как расстояние между двумя судами уменьшалось, и крейсер все яснее вырисовывался на волнах. Одно только уменьшало мою радость и минутами заставляло меня желать, чтобы мы избежали преследования, — Бен был дезертиром королевской морской службы, и его могли узнать, если бы наш экипаж был взят в плен. Шрамы на его спине могли вызвать подозрение, начались бы розыски, и нашлись бы, конечно, необходимые доказательства того, что он дезертир, а тогда какое жестокое наказание ждало его!
Я страстно хотел, чтобы «Пандору» взяли в плен, и в то же время, думая о Бене, спасшем мне жизнь, молился о спасении судна. Меня разрывали противоречивые чувства. Ужасное существование, на которое я был обречен, невозможность разорвать гнусную цепь ясно представлялись мне, и тогда мной овладевало ужасное отчаяние. Затаив дыхание, я следил за парусами крейсера, который стремительно приближался к нам и вот-вот мог нас обогнать… Но затем глаза мои обращались на Бена, который бегал по палубе, прилагая все усилия, чтобы ускорить ход «Пандоры», — и ужас в душе моей сразу сменял надежду.
Дул сильный ветер, и это давало большие преимущества крейсеру. «Пандора», как сказал Бен, была очень легкой; она плохо держала свои паруса во время сильного ветра. Одно из самых быстрых судов при небольшом ветре, она не могла идти на всех парусах, когда ветер усиливался, и должна была опускать паруса бом-брамселя и совсем брать на гитовы паруса брамселя. Поэтому «Пандора» не могла идти так быстро, как при других обстоятельствах, и экипаж это прекрасно знал.
Крейсер, таким образом, продолжал выигрывать в расстоянии, и продержись ветер еще часа два, «Пандора» была бы настигнута и взята в плен. Наш экипаж был в этом убежден, и капитан даже отдал приказ скрыть принадлежности своей гнусной торговли: ошейники, ручные кандалы и цепи сложить в бочку и спрятать ее между парусами и канатами; решетки, которые делал плотник, немедленно сломать и уничтожить, мушкеты, пистолеты и кортики снести в трюм и сложить в специально приготовленное для этого потайное место.
Нечего было и думать тягаться оружием с таким соперником, каким был преследующий нас крейсер. Хотя он был меньше «Пандоры», но экипаж его был многочисленнее; на нем были пушки, и целый артиллерийский залп ответил бы нам на малейшую попытку к сопротивлению. Нам ничего не оставалось больше, кроме бегства, но и эта надежда была потеряна, а потому экипаж стал готовиться к принятию визита. Часть матросов поспешила скрыться, чтобы излишним количеством членов экипажа не внушать подозрений (их было вдвое больше, чем полагается на обыкновенном коммерческом судне).
Капитан вынул свои бумаги, которые были приготовлены исключительно для такого случая, и должны были показать, что у него все в порядке. Крейсер был уже на расстоянии одной мили от нас, когда ядро, пущенное из пушки, пролетело рикошетом по воде мимо самой «Пандоры».
Сердце мое билось так сильно, что казалось, будто оно сейчас вырвется из груди. Минута освобождения приближалась, а между тем что-то в глубине моей души говорило, что ничего подобного не будет. Предчувствие это, увы, исполнилось: судьба решила, что мы должны ускользнуть от крейсера, и «Пандора» не будет взята в плен.
Можно было подумать, что пушка нарочно дала сигнал, потому что вслед за выстрелом ветер вдруг стих. Вероятно, солнце, почти совсем закатившееся, стало причиной такой внезапной перемены. Капитан сразу понял, какие преимущества он может извлечь из всего происшедшего. Вместо того чтобы повиноваться сигналу, данному крейсером, все матросы бросились на ванты, распустили паруса, и «Пандора» быстро понеслась вперед.
Час спустя она была уже в нескольких милях от катера, и прежде чем ночь опустилась на море, крейсер на наших глазах начал уменьшаться, пока наконец не превратился в точку, едва заметную на горизонте.
Глава 7
Убегая от крейсера, который почти целый день гнался за нами, «Пандора» уклонилась на сто миль в сторону от своего маршрута. Она прошла еще пятьдесят миль на юг, чтобы быть уверенной в том, что катер окончательно отстал, и только тогда приняла прежний курс, когда убедилась, что враг отказался от погони. Последнюю часть пути «Пандора» совершила по диагонали, и на рассвете, не видя больше ни одного судна на горизонте, снова направилась к Гвинее. Ночная темень способствовала нашему побегу, катер потерял нас, конечно, из виду, и теперь «Пандору» нельзя было увидеть даже в самый лучший телескоп.
Мы неслись прямо к Африке, и к концу дня моим глазам представился берег, печально известный продажей негров — мужчин, женщин и детей.
Ночь «Пандора» провела на расстоянии нескольких миль от берега, но с восходом солнца подошла к нему. Не было видно нигде ни порта, ни деревни, ни даже хижины. Берег едва-едва поднимался над уровнем моря и был покрыт густым лесом, доходившим почти до воды. Не было нигде ни маяка, ни буя, которые могли бы указать судну путь. Но капитан сам прекрасно знал, куда идти. Не в первый раз совершал он экспедицию в эти места. Он шел наверняка, и хотя эта земля казалась необитаемой, он знал, что на незначительном расстоянии от берега его уже ждут.
Можно было подумать, что «Пандора» выскочит прямо на берег. Не было видно ни одной бухты, никакой пристани, не стоял, по-видимому, и вопрос о том, чтобы бросить якорь. Правда, большинство парусов было уже спущено, и судно значительно уменьшило свой ход, но мы все еще шли быстро и могли наскочить на берег.
Некоторые матросы — новички на «Пандоре» — начинали уже высказывать свое опасение, но старые матросы, несколько раз уже бывавшие на Невольничьем Берегу, только смеялись над ними.
Вдруг судно, обогнув мыс, поросший густым лесом, повернуло к небольшому заливу, который внезапно нарушал прибрежную линию, казавшуюся непрерывной. Это было устье реки — узкой, но глубокой. «Пандора» без малейшего колебания вошла в нее, проплыла несколько минут вверх по течению и бросила якорь на расстоянии мили от морского берега.
Напротив того места, где мы остановились, я увидел странные хижины, расположенные почти прямо на берегу, а несколько дальше — постройку больших размеров, скрытую среди деревьев. Перед хижинами стояли люди с мрачными лицами; они подали какой-то знак боцману «Пандоры», и тот ответил им таким же. На реке появилась лодка с несколькими гребцами, она подплыла к берегу, взяла стоявших там негров и направилась к нам.
Берега реки были покрыты пальмами. Я впервые увидел эти деревья, но знакомы они были мне раньше по гравюрам в книгах. Они смешивались с другими громадными деревьями, тоже не менее странного вида, которые ничего не имели общего с теми, какие растут у нас. Но внимание мое скоро было поглощено черными людьми, подъехавшими к «Пандоре».
Река имела не более двухсот метров в ширину. Мы стояли на якоре в середине самого течения, а потому лишь небольшое пространство отделяло пирогу от нас. Через несколько минут она была около судна, и я мог вдоволь любоваться ужасными пассажирами, наполнявшими ее.
Я понял, глядя на них, что лучше всего будет держаться от них подальше. Теперь я осознал, почему Бен Брас не хотел бежать на берега Гвинеи. «Это было бы безумием, — отвечал он мне на мои настоятельные просьбы накануне, — люди на «Пандоре» очень плохие, но кожа у них белая и в глубине их души все же осталось что-то человеческое. Но у негодяев, живущих в Африке, душа такая же черная, как и тела. Ты их увидишь, мой мальчик, и тогда скажешь, прав ли я». Я рассмотрел внимательно лица восьми или десяти негров, сидевших в пироге, и убедился в справедливости этих слов. Никогда еще не видел я таких свирепых лиц; их смело можно было назвать истинными исчадиями ада.
Их было одиннадцать человек, и все они были чернокожие, но с разным оттенком — начиная от густого смоляного до некрасивого желтовато-каштанового. Они, очевидно, принадлежали к различным племенам. Смешивание племен на западном берегу Африки — весьма обычное дело; к этому привела торговля рабами. Несмотря на то, однако, что сидевшие в пироге люди отличались между собой цветом кожи, во всем остальном они походили друг на друга: у всех был выпуклый лоб, толстые губы, на голове короткие и курчавые, как шерсть, волосы. На гребцах не было никакой одежды, кроме полосы бумажной ткани, обернутой вокруг пояса и доходящей до половины бедра. Я предположил, что это воины, поскольку у них были копья и старые мушкеты. Три человека, которых они везли к нам, занимали, судя по их одежде, более высокий пост, но выражение их лиц было еще ужаснее. Что касается вождя этих людей, то его одежда была до того странной, что, взглянув на него, нельзя было решить, смеяться или дрожать.
Это был настоящий негр, черный, как порох, громадного роста и толстый, как бочка. Лицо его с менее характерными чертами, чем у других его спутников, было еще ужаснее, представляя собой смесь лукавства и свирепости.
Громадный рост и жестокое выражение лица этого человека не внушали ни малейшего желания смеяться, напротив! Зато костюм его… Вряд ли самому изобретательному клоуну, участвующему в какой-нибудь комической пантомиме, пришло бы в голову облачиться в такой шутовской наряд. На нем был надет ярко-красный фрак, покрой которого показывал, что это старинный мундир армии короля Георга, принадлежавший, судя по нашивкам на рукавах, какому-нибудь сержанту, и, уверяю вас, сержанту из числа самых толстых и громадных в британской армии. Несмотря на это, мундир был слишком узок для своего настоящего владельца; надо было бы прибавить к нему еще с полметра, чтобы можно было свободно застегнуть на груди. Слишком короткие рукава оставляли открытыми черные запястья вождя, резко отличающиеся от ярко-красного цвета одежды. Негр был таким толстым, что фалды его мундира раздвигались в стороны, и между ними болтался кончик полосатой рубашки, принадлежавшей раньше какому-нибудь матросу. Что касается брюк, то они вовсе отсутствовали, и негр был совершенно голый от пояса и до ногтей на ногах.
Старая треуголка с потрепанными перьями, с почерневшими галунами, украшавшая когда-то голову старинного адмирала, торчала на курчавой голове негра, у которого, кроме того, был еще громадный нож за поясом и сбоку болталась длинная сабля.
В любом другом месте появление этого человека вызвало бы громкий смех, но капитан отдал приказание встретить с подобающим уважением его величество Динго-Бинго, а потому экипаж «Пандоры» постарался быть серьезным.
Итак, человек в треуголке и ярко-красном мундире оказался монархом, королем Динго-Бинго. Два других негра, одетые несколько иначе, были, следовательно, министрами, а восемь гребцов в лодке составляли часть его телохранителей.
Когда они приблизились к «Пандоре», им сбросили веревки. Лодку подтянули к стенке судна, а из веревок сделали лестницу, чтобы облегчить его черному величеству восхождение на корабль, где он был принят со всеми подобающими его сану почестями.
Король обменялся громкими приветствиями с капитаном, после чего старый пройдоха повел его к себе в каюту. Проходя по палубе, оба приняли торжественный вид, отдающий шутовством, — видно было, что оба негодяя старые знакомые и наилучшие друзья в мире.
Боцман в свою очередь старался изо всех сил занять министров. Что касается телохранителей, они оставались в пироге, потому что король Динго знал, что ему нечего бояться. Он давно знал капитана, ждал его, ему не надо было задавать никаких вопросов, и у него не было никаких сомнений относительно собственной персоны; король и шкипер были достойны друг друга.
Глава 8
Я не слышал разговора, происшедшего между этими двумя мошенниками, могу только передать его результаты. Его величество имел по соседству, в том доме, вероятно, который я заметил среди деревьев, толпу несчастных негров, от которых он хотел отделаться. Часть их он купил в глубине страны, а другую часть добыл, охотясь на них со своими воинами, как охотятся на диких зверей. Весьма возможно, что среди несчастных жертв находились и его собственные подданные: африканские царьки не стесняются торговать единоплеменниками, когда у них нет денег, или каури, а охота на рабов кончается неудачей.
Но король Динго-Бинго добыл себе стада людей для продажи, и веселая улыбка, сиявшая на лице капитана, когда друзья вернулись на палубу, доказывала, что добыча эта изрядная и что ему не придется ехать в другое место для пополнения своего груза. В противном случае капитану пришлось бы иметь дело с белыми и черными торговцами, обычно крайне неуступчивыми. Цена товара в таких случаях поднимается очень высоко, и барыш, на который рассчитывает покупатель, уменьшается наполовину. При отсутствии же конкуренции цена товара ничтожна. Достаточно самых маленьких безделушек для приобретения черных тюков, как выражаются торговцы невольниками. Пропитание рабов почти не учитывается, так мало выделяется этим несчастным: африканское просо, называемое обычно саго, и пальмовое масло самого низкого качества — вот все, что приобретается для них на берегу Гвинеи.
Пальмовое масло добывается из мякоти, окружающей косточку плода пальмы Elais. Когда оно остывает, то становится до того твердым, что его можно резать только очень острым ножом. В таком виде его дают в пищу неграм, которым оно заменяет масло и служит одним из главных источников питания.
Просо и пальмовое масло — самые дешевые продукты в Африке, поэтому их покупают для невольников, о разнообразии пищи которых никто не думает. Единственное питье, которое им дают, это чистая вода. Для них-то собственно и держат в трюмах судов, на которых их перевозят, большие бочки, какие я видел в трюме «Пандоры». Когда груз спускается на берег, эти бочки наполняются морской водой и служат вместо балласта на обратном пути. По возвращении на Невольничий Берег, где погрузка товара происходит обычно на реке, морская вода выливается, и бочки вновь наполняются пресной водой.
Итак, капитан «Пандоры» был, как мы видели, в прекрасном настроении духа — у него не было конкурентов, а количество груза превосходило все его надежды. Его величество был, видимо, доволен только что происшедшим свиданием. Он вышел совсем пьяный из каюты капитана, держа в правой руке бутылку рому, наполовину опорожненную, а в другой — куски материи яркого цвета и несколько подаренных ему блестящих безделушек. Он шел по палубе с важным видом, громко восхваляя свои качества воина и хвастаясь тем, что ограбил несколько деревень, а также количеством невольников, которых ему удалось взять в плен, и великолепной добычей, которую он собрал для капитана: пятьсот негров, молодых и сильных, запертых в его бараконе (так называлась постройка, что я увидел на берегу), пятьсот невольников, которых он может передать сегодня же, если только капитан желает…
Но шкипер не был еще готов; ведь нужно было прежде всего освободить бочки от морской воды и наполнить их пресной, которая теперь становилась необходимой.
Окончив хвастаться на очень плохом английском языке, испещренном ругательствами, король Динго-Бинго сел в свою пирогу и был отвезен обратно на берег. Спустя несколько минут и капитан «Пандоры» в сопровождении боцмана и пяти или шести матросов отправился на берег — он был приглашен на большой обед, который его величество устраивал в королевской хижине.
Я с завистью смотрел на шлюпку капитана, и не потому, что мечтал принять участие в пиршестве короля Динго-Бинго: я хотел ощутить под ногами твердую землю, прогуляться среди деревьев, которые я видел с судна, посидеть под их тенью, послушать птичек, поющих в лесах, побыть одному — словом, стать свободным, хотя бы только на один день.
Но исполнить свое желание я не мог. Я по-прежнему продолжал быть полотером и чистильщиком платья и сапог и с утра до вечера ходил с метлой, тряпкой и щеткой в руках. Ни минуты отдыха! Другие матросы, закончив свои дела, могли оставить «Пандору» и сойти на берег, когда им вздумается; вся работа их заключалась в разгрузке рома, железа и соли, которыми платили королю Динго-Бинго.
Я несколько раз пытался вместе с ними проскользнуть в шлюпку, но капитан и боцман всякий раз отгоняли меня прочь. Просыпаясь утром, я видел позолоченные солнцем верхушки больших деревьев и вздыхал по свободе. Надо пробыть, как я, несколько месяцев подряд на судне, чтобы понять всю силу желания, которое я тогда испытывал, ведь я был раб, обремененный работой и усталостью. Выслушивая постоянно разные грубости, я питал отвращение ко всему персоналу — и старшему, и младшему. О, я пожертвовал бы всем на свете, лишь бы хоть один час побыть в том прекрасном лесу, который тянулся по обоим берегам реки и конца ему не было видно!
Не знаю, почему капитан и боцман с таким упорством противились тому, чтобы я вышел на берег. Возможно, они боялись, что я убегу. Учитывая свое отношение ко мне, они, конечно, имели полное право подозревать меня в таком намерении. А отпустить меня они и не думали: я был хорошим юнгой, превосходным лакеем, и услуги мои им были нужны. Кроме того, никто не мог помешать им убить меня в момент ярости или просто ради удовольствия, словом, лишиться меня они не хотели.
Так же сурово капитан и боцман обращались с бедным голландцем. Иногда его положение было даже хуже моего, поэтому надо было ожидать, что он непременно постарается бежать, чтобы избавиться от своих мучений — всякому терпению есть предел. Бедный Детчи, к несчастью, потерял терпение и решил дезертировать. Я говорю к несчастью потому, что попытка эта, весьма естественная в его положении, привела его к ужасной смерти, о которой я не могу вспомнить без содрогания.
Несколько дней спустя после того, как «Пандора» бросила якорь против хижины короля Динго, Детчи сообщил мне о своем намерении бежать. Доверился он мне в надежде, что я убегу с ним или, по крайней мере, помогу ему. Я единственный из матросов выражал ему свое сочувствие, и он знал, что я такая же жертва, как и он, и не прочь буду бежать с ним. Он был прав, но так как Бен Брас посоветовал мне подождать переезда в Америку, я решил терпеливо сносить все требования и гадости капитана и боцмана. Я знал, что переход от берегов Африки к берегам Америки будет длиться несколько недель, и кроме того, я верил обещанию Бена бежать вместе со мной с этого ужасного судна.
Вот почему я отказался от предложения голландца. Я постарался даже отговорить его, советуя ему подождать, пока мы не приплывем в Америку.
К несчастью, все мои советы были бесполезны. Детчи слишком исстрадался и не мог больше выносить такого существования.
Однажды ночью, когда экипаж «Пандоры» спал глубоким сном, послышался странный звук: как будто что-то тяжелое упало в воду.
— Человек упал в реку! — крикнул вахтенный. Разбуженные матросы, спавшие на палубе в гамаках, никак не могли понять, кто же это.
Луна светила в ясном небе так ярко, что можно было, как днем, различить все окружающие нас предметы. Матросы высыпали на борт и увидели причину поднятой тревоги — на поверхности реки виднелся черный предмет, передвигавшийся, по-видимому, к берегу. Это была голова человека, который, судя по быстрому движению волн, как можно скорее старался добраться до берега. В пловце все узнали несчастного Детчи.
Капитан и боцман, по примеру своих матросов, также спали в гамаках на открытом воздухе. Они моментально вскочили на ноги, схватили ружья и прежде, чем дезертир успел проплыть половину расстояния, отделявшего его от берега, мучители его стояли, перегнувшись за борт, с мушкетами в руках.
Они могли одним выстрелом пронзить тело своей жертвы или раскроить ей череп, но несчастный Детчи все же погиб не от их рук.
Не успели они еще прицелиться, как поверхность воды покрылась бороздами, и затем среди них показалась сначала голова, а потом и все длинное тело чудовища.
— Крокодил, крокодил! — послышались крики на «Пандоре».
Капитан и его сообщник сняли пальцы, уже готовые спустить курки, и опустили мушкеты — убийство совершится без всякого вмешательства с их стороны, подумали они, и я увидел злобную радость на их лицах.
— Бедный Детчи! — крикнул чей-то голос с сожалением. — Ему не добраться до берега, с ним кончено! Бедный малый! Крокодил схватит его!
Едва были произнесены эти слова, как чудовище, приблизившись к своей жертве, с быстротой молнии бросилось на нее, показав нам свою спину, покрытую чешуей, схватило ногу несчастного пловца и погрузилось с ним в воду.
Раздался душераздирающий крик, крик предсмертной агонии, громким и продолжительным эхом разнесшийся по лесам. Он дрожал еще в наших ушах, когда на поверхности воды показались пузыри, указывавшие место, где исчез бедный Детчи.
— И прекрасно! — крикнул шкипер, сопровождая свои слова ужасным проклятием. — Потеря не велика; кислятина, трус, без которого мы можем обойтись!
— Разумеется! — поспешил ответить ему боцман. — Пусть это послужит примером тому, кто попробует дезертировать, — прибавил он, поворачиваясь в мою сторону. — Не беги дурак с «Пандоры», с ним этого не случилось бы. Впрочем, он, быть может, решил, что брюхо крокодила лучше палубы хорошего судна. Тогда он получил, что хотел. Прелюбопытное, однако, судно выбрал он себе!
В ответ на эти слова капитан разразился громким смехом, к которому присоединились и некоторые из матросов. Поставив мушкеты на место, шкипер и боцман вернулись к гамакам и заснули глубоким сном. Матросы продолжали еще обсуждать ужасную катастрофу, разыгравшуюся на их глазах. Однако их рассуждения доказывали жестокость их сердец — одни из них шутили, другие смеялись этим шуткам. «Хотелось бы мне знать, — проговорил кто-то, — написал ли Детчи завещание?» Матросы захохотали, так как всем было известно, что у несчастного ничего не было, кроме старого ножа, жестяной чашки, вилки, железной ложки и кое-каких лохмотьев, служивших ему вместо одежды. «А кто же будет его наследником?» — не мог угомониться весельчак. И вся шайка снова принялась хохотать.
В конце концов матросы решили бросить на следующий день жребий, кому достанутся вещи покойного. Наконец они разошлись; одни из них отправились к своим койкам, другие к гамакам, и скоро весь экипаж «Пандоры» крепко спал. Что касается меня, то я продолжал стоять у борта судна, не спуская глаз с того места, где исчез несчастный Детчи. Там ничего не было видно. Кровавая пена, всплывшая на несколько минут на поверхности реки, уже давно разошлась. Темные воды катились мимо меня, и в них не заметно было ни малейшего движения. Но в моем воображении ясно возникало ужасное зрелище — я видел в раскрытой пасти чудовища тело его жертвы, я слышал предсмертный крик, уносимый эхом. Кругом меня, однако, все было тихо, ни один листочек не трепетал на берегу, не слышно было ни шелеста ветра, ни ропота воды, можно было подумать, что природа, пораженная ужасным зрелищем, притаилась и затихла.
Глава 9
Я не мог спать всю ночь и очень обрадовался, когда наступило утро. Судьба моего бедного товарища не давала мне покоя весь следующий день: мне казалось, что и меня постигнет та же участь. Причиной таких грустных предчувствий был ужас, внушаемый мне капитаном. Я твердо был уверен, что настоящими убийцами бедного Детчи были шкипер и его ужасный боцман, а крокодил появился только случайно. Голландец и без него был бы все равно убит этими двумя людьми, которые уже целились в него; чудовище только предупредило их, и погибни матрос от пуль этих негодяев, они так же мало раскаивались бы в этом и так же были бы спокойны. У меня были, следовательно, причины бояться их, и неудивительно, что меня охватило беспокойство при этой мысли.
Весь день раздавался в моих ушах предсмертный крик несчастного матроса и звучал он еще печальнее от того, что представлял разительный контраст со взрывами хохота и шумным весельем всего нашего экипажа. На борту был большой праздник. Капитан принимал короля Динго-Бинго, которого сопровождали не только его важные сановники, но и чернокожие красавицы из его гарема. Матросы устроили бал, и пьянство и танцы продолжались до самой глубокой ночи.
Товары, привезенные нами, были переправлены на берег и переданы королю Динго, который взамен отсчитал капитану своих пленных, становившихся таким образом невольниками. Но прежде чем доставить их на борт, нам предстояло исполнить необходимые для этого приготовления. Так, были сделаны решетки, уничтоженные во время погони крейсера, исправлены перегородки, отделяющие мужчин от женщин, опорожнены бочки и вновь наполнены пресной водой. Только по окончании всего этого мы могли приступить к размещению груза, что не представляло никакого затруднения, так как «груз» сам мог двигаться на места, указанные ему.
Пока «Пандора» готовилась к их приему, невольники оставались в прежнем помещении на берегу.
Я по-прежнему стремился попасть на твердую землю хотя бы на несколько минут. Я стал бы самым счастливым человеком, если бы мне удалось побегать по лесу, мне казалось, что я почерпнул бы новые силы для того, чтобы переносить ужасы предстоящего нам плавания, одна мысль о котором вызывала у меня страх.
Меня беспокоили не мои собственные страдания, а мысль о пытках, свидетелем которых я буду; беспокоил вид всей этой толпы, битком набитой в помещении, слишком тесном для нее, беспокоили мысли обо всех этих бедных неграх, у которых не будет достаточно места, чтобы сесть, осужденных на то, чтобы не ложиться в течение долгих недель, полумертвых от голода и жажды, задыхающихся среди тропической жары и отравленного воздуха, где многие из этих несчастных найдут себе смерть… И я не только буду видеть все эти страдания, но должен буду принять участие в них.
Жизнь моя и без того стала жалкой и полной разочарований. Ведь я ушел из-под родительского крова не потому, что чувствовал непреодолимое влечение к морской службе; мне просто хотелось увидеть неизвестные страны, я жаждал путешествий, меня влекла любовь к приключениям. «Когда я буду моряком, — говорил я себе, — весь мир будет открыт для меня!» Какое разочарование! Я был в Африке, в ста метрах от берега, а мне едва позволяли взглянуть на дивный пейзаж, раскрывающийся перед моими глазами! Я был пленником, который сквозь решетчатое окно своей темницы видит безграничный горизонт, птицей, которая сквозь клетку смотрит на манящую ее зеленую листву.
Тем не менее у меня оставалась крохотная надежда. Бен Брас обещал, что как только он получит разрешение поехать на берег, он попросит капитана отпустить меня с ним. Перспектива этой поездки приводила меня в восторг, хотя я и не надеялся на успех.
Тем временем я старался развлечь себя, чем-нибудь разнообразить дни, внимательно наблюдая за всем окружающим. Все, что я видел с палубы «Пандоры», было ново для меня и потому интересно. Мы находились в стране, совсем необитаемой. Расположенные на берегу бараки и хижины были жилищем временным. Дворец его величества находился внутри страны, в более возвышенной местности. Климат там был здоровый; западный же берег Африки, куда мы приплыли, отличается очень плохим климатом. Король являлся сюда один только раз в году, когда приезжали суда, покупающие негров. Он пригонял с собой собранное им стадо, стадо людей, и это составляло ему главный доход. Во время этой поездки его сопровождали телохранители, министры, жены и все придворные женщины, потому что суда привозили ром и водку, и тут же, на месте, устраивались празднества или, вернее, грубые оргии, доставлявшие громадное наслаждение придворным его величества.
Все остальное время бараки и хижины короля стояли пустыми. Дикие звери, менее жестокие и страшные, чем люди, занимали их место, и только их голоса раздавались среди лесной тишины.
Вот почему я находил столько прелести в окружающем меня лесу, который производил на меня могучее, чарующее впечатление. Я видел гиппопотамов, плавающих по реке и затем медленно вылезающих на берег. Их было два вида: одни больше, а другие поменьше — об этих очень мало известно. Не проходило и часа, чтобы я не увидел громадных крокодилов, точно древесные стволы, лежащих неподвижно на берегу реки и преследующих в воде какую-нибудь рыбу. Большие морские свиньи выскакивали из воды и так близко подплывали к нашему судну, что я мог ударить их гандшпугом. Они живут в океане, но иногда заходят в реку и плывут вверх по течению до того места, где могут найти себе корм («Пандора», к моему удовольствию, стояла как раз в том месте, где было много любимых морскими свиньями растений).
Я видел также амфибий разных видов, большую ящерицу, которая по своим размерам могла бы поспорить с некоторыми крокодилами, мне встретилось и одно очень редкое красновато-рыжее животное — речная свинья из Камеруна, от которого мы были недалеко.
По берегу проходили сухопутные животные. Я заметил льва, мелькавшего между деревьями, больших обезьян, черных и красновато-рыжих, крики, вой и болтовня которых не умолкали даже ночью. Бесчисленное множество диких голубей, попугаи, разные необычные птицы перелетали над рекой с одного берега на другой, сидели на верхушках деревьев, откуда доносилось к нам самое разнообразное пение…
Будь я свободен, я никогда не устал бы смотреть на эту полную жизни картину, все эти голоса, поражавшие мой слух, все эти животные, проходившие мимо моих глаз, еще больше увеличивали мое желание посетить эти места.
Какова же была моя радость, когда Бен объявил мне, что на следующий день он получает отпуск, и я буду сопровождать его! Милость эта была оказана мне не ради моего удовольствия: Бен заявил, что я ему необходим, так как он хочет поохотиться, и ему нужен помощник, чтобы нести дичь, а потому меня отпустили из одной только любезности к нему. Мне, впрочем, были совершенно безразличны мотивы, заставившие капитана дать мне несколько часов отдыха. Я был слишком счастлив, чтобы думать о таких пустяках, и готовился следовать за Беном с таким чувством радости, какого я впоследствии никогда больше не испытывал.
Глава 10
На рассвете следующего дня мы покинули «Пандору». Два приятеля Бена Браса отвезли нас на берег на лодке и вернулись на судно. Я не успокоился до тех пор, пока не ступил ногой на землю, мне все время казалось, что мои мучители раскаются в своем великодушии, крикнут гребцам остановиться и прикажут мне вернуться обратно. Я вздохнул с облегчением только после того, как углубился в чащу леса, скрывшую меня от взора моих врагов.
Я почувствовал себя вполне счастливым! Я прыгал от радости, бегал, как безумный, танцевал, размахивал руками, смеялся и плакал, я вел себя так, что Бен Брас подумал, что я сошел с ума. Нет слов, чтобы выразить чувства, испытанные мной в ту минуту. Я снова был на земле, ноги мои отдыхали на мягкой траве, после того, как в течение двух месяцев они ходили по твердой палубе судна. Вместо леса мачт, шестов рангоута и просмоленных канатов, окружавших меня на борту, передо мной высились огромные деревья, раскачивавшие над моей головой гибкие ветви с зелеными листьями. Ветер, вместо того чтобы свистеть между снастями или гудеть, ударяясь о паруса, слегка шептал, шелестя листвой деревьев, и доносил до меня пение птиц. Но главное — я был свободен, я мог думать, говорить, двигаться, — и это в первый раз с тех пор, как я ступил на «Пандору»!
Передо мной не было гнусных лиц, в моих ушах не раздавались плоские шутки и ужасные проклятия, выкрикиваемые хриплыми голосами, глаза отдыхали на прекрасном и добром лице моего мужественного друга, веселые слова которого находили себе отзвук в моем сердце; и он сам был счастлив возможности провести несколько часов на свободе.
Мы собирались охотиться, а потому запаслись необходимым количеством оружия, которое, собственно говоря, ничего не имело общего с обыкновенным охотничьим оружием. Бен нес большой мушкет времен королевы Анны, который был так тяжел, что мог отдавить плечо любому гренадеру, но возьми Бен Брас даже пушку, он и тогда бы не почувствовал, какую тяжесть тащит на себе. Я же был вооружен громадным пистолетом, которым можно было пользоваться разве что при взятии судна на абордаж, но никак не для охоты. Кроме этого, у нас был с собой фунт дроби в кисете для табаку и небольшое количество пороху, который мы несли в бутылке из-под имбирного пива — любимого напитка англичан. Для пыжей мы взяли пакли, которой конопатят суда. И вот с такой оснасткой мы собирались охотиться на всех пернатых и четвероногих, которые повстречались бы нам на пути.
Мы долго ходили по лесу, но не встретили никаких животных, а только их следы. Над нами пели и щебетали птицы, по звуку можно было сказать, что они находятся на расстоянии нашей дроби, но как мы ни смотрели в ту сторону, откуда слышались их голоса, мы не увидели ни единого перышка. Птицы, конечно, видели нас прекрасно, да и мы в свою очередь могли бы увидеть их, знай только, где они прячутся. Но они терялись среди ветвей и листьев — природа позаботилась о том, чтобы дикие животные могли прятаться, пользуясь своей окраской, среди леса. Пятнистая шкура пантеры и леопарда, несмотря на свой блеск, мало отличается от рыжеватых сухих листьев, которыми усыпан лес; попугаи, живущие среди зеленых деревьев, сами бывают такого же цвета; на скалах встречаются серые попугаи, тогда как живущие среди стволов гигантских деревьев бывают более темного цвета.
Вот почему мы долго ходили, не заметив ни единого перышка. Однако судьба наконец сжалилась над нами. Мы увидели большую бурую птицу, спокойно сидевшую на нижней ветке дерева, лишенного листьев.
Я остановился на некотором расстоянии, а Бен двинулся вперед, чтобы подстрелить птицу. Мой друг передвигался бесшумно — этому он научился, будучи какое-то время браконьером. Осторожно скользил он от одного дерева к другому, пока не подошел, наконец, к тому месту, где сидела его жертва. Простодушное создание не обратило ни малейшего внимания на охотника, который уже даже не старался скрыть своего присутствия. Бен, твердо решивший не возвращаться с пустыми руками, приблизился так, чтобы не промахнуться. Птица сидела неподвижно, и можно было подумать, что это чучело, набитое соломой. Бен поднял мушкет времен королевы Анны, спустил курок — и птица упала мертвой.
Я подбежал, чтобы поднять ее; это была большая птица, по виду и по размерам очень похожая на индюка: голова и шея у нее были такие же красные и без перьев. Бен был убежден, что это дикая индейка. Что же касается меня, я этому не верил — я прекрасно помнил, что индейки встречаются в Америке и в Австралии, но их нет в Африке. Зато здесь водятся дрофы двух видов и другие птицы, похожие на индеек. Поэтому я заключил, что это одна из таких птиц, и хотя это не индейка, все же из нее должно выйти вкусное жаркое. Надеясь на то же самое, Бен Брас поднял птицу и перекинул ее через плечо, затем зарядил мушкет, и мы отправились дальше.
Не успели мы сделать и десяти шагов, как увидели наполовину съеденный труп животного. Бен сказал мне, что это лань. С первого взгляда можно было, пожалуй, поверить в это, но я заметил, что у животного простые рога, а не ветвистые, к тому же я читал, что в Африке нет ни оленей, ни диких коз, за исключением одного вида, который встречается в северной части, на большом расстоянии от того места, где мы были. Я сказал Бену, что это, вероятно, антилопа, заменяющая в Африке лосей, диких коз и оленей. Бен никогда не слышал о существовании антилоп и не хотел верить моим словам.
— Антилопа! — с презрением воскликнул он. — Нет, нет, Вилли! Это лань и ничто другое! Какая жалость, что она мертвая. Знатный был бы у нас груз, не правда ли, малыш?
— Да, — ответил я озабоченно, потому что подумал о другом. Антилопа была разорвана каким-то хищным животным, которое съело почти половину ее. Бен предположил, что антилопой пообедал, вероятно, шакал, а быть может, и волк. Я так же думал сначала, но предположить, что мы ошибаемся, меня заставили глаза антилопы, вернее то место, которое они когда-то занимали. Глазные орбиты антилопы были совершенно пусты. Это обстоятельство поразило меня. Очевидно было, что это сделал не шакал и тем более не волк — глаз антилопы был слишком мал для того, чтобы животное могло его вырвать. Только клюв птицы, питающейся падалью, мог проникнуть туда, и клюв этот принадлежал, по всей вероятности, хищной птице.
Какую же птицу нес Бен на своем плече? Теперь я знал это. Место, где мы ее встретили, соседство падали, ее неподвижность при виде приближающегося охотника, лысая голова, совершенно голая шея подтверждали, что это был гриф. Я читал, что бывают случаи, когда ее убивают палкой, особенно когда у нее полный желудок. Присутствие наполовину съеденной антилопы доказывало достаточно, что гриф наелся по горло падалью, и его неподвижное состояние было теперь понятно.
Я уже знал наверняка, какую дичь мы несли, но мне нелегко было сказать о своем открытии Бену, мне хотелось, чтобы он сам заметил свою ошибку. Мне недолго пришлось ждать этого. Не сделали мы и ста шагов, как Бен развязал веревку, придерживавшую птицу, перетащил ее через плечо, поднес к носу и вдруг отбросил прочь.
— Индейка? Ах, Вилли, нет! Это не индейка! Это проклятый коршун, черт его возьми, он пахнет падалью!
Глава 11
Я сделал вид, что удивлен, хотя еле удерживался от смеха, глядя на своего смущенного друга. Действительно, ужасный запах, издаваемый отвратительным грифом, походил на запах мертвой антилопы, которую мы видели несколько минут назад. Только теперь, когда запах падали поразил нос Бена, он поверил, что дичь его — не индейка. Он, конечно, прекрасно знал грифа Пондишери, которого видел в Индии, или желтоватого грифа, которого встречал в Гибралтаре и на берегах Нила. Но убитая птица была гораздо меньше; она походит на индейку и встречается только в Африке, на ее западном берегу. Впоследствии я изъездил почти все страны мира и никогда не встречал грифа такого рода. Что же удивительного в том, что мой товарищ не мог его узнать, в первый раз очутившись в тех местах?
Выражение лица Бена, когда он отбрасывал от себя вонючую бестию, было до того смешным, что я расхохотался бы от души, если бы не боялся оскорбить его, так как ему и без того было досадно. Желая, напротив, заставить его забыть это маленькое происшествие, я подошел к отвратительной птице, притворился удивленным и затем согласился с ним, что это действительно гриф. После этого мы пошли дальше наудачу, надеясь встретить какую-нибудь дичь, более вкусную на этот раз.
Недалеко от того места, где Бен бросил грифа, мы вошли в большой пальмовый лес, вид которого вполне удовлетворил меня. Если я когда-либо, мечтая о далеких странах, желал чего-нибудь, так это увидеть все удивительные деревья, растущие в жарком климате земного шара, о которых я так много читал в описаниях разных путешествий. Увидя пальмовый лес, я понял, что самые блестящие рассказы дают далеко не полное представление о красотах природы. Из всех образцовых произведений ее я ничего не видел, что привело бы меня в такой неописуемый восторг.
Есть много видов пальм, которые растут лишь отдельно и никогда не образуют лесов, состоящих исключительно из одних пальм. Но пальмы, образовавшие лес, куда мы только что вошли, принадлежали к одному из самых благородных видов этого великолепного семейства. Потом я узнал, что это были масляные пальмы, известные у африканцев западного берега под названием мава; ученые называют их Elais guineensis.
Пальма это похожа на кокосовую, она средней толщины — около метра в окружности и достигает 30 метров высоты. Верхушка ее украшена пятиметровой длины листьями, напоминающими страусовые перья и грациозно спускающимися вниз в виде зонтика. Под тенью этих великолепных листьев, в том месте, где они ответвляются от ствола, вырастают плоды элаиса — орехи величиной в голубиное яйцо. Они растут громадными кистями, похожими на гроздья фиников. Скорлупу ореха покрывает мясистая оболочка, похожая на оболочку, покрывающую обычный грецкий орех, но более маслянистая; из нее добывают пальмовое масло, о котором я уже говорил. Из сердцевины ореха также можно получить масло. Сделать это гораздо сложнее, зато такое масло более высокого качества, чем масло, получаемое из оболочки ореха.
Нет ничего более впечатляющего, чем вид пальмы с длинными гроздьями зрелых ярко-желтых плодов, которые красиво выделяются на темно-зеленом фоне листьев, грациозно склонившихся над ними, как бы для защиты золотых кистей от палящих лучей тропического солнца.
Особенно хороши элаисы, когда они образуют целый лес, как тот, куда мы вошли с Беном. Даже этот суровый матрос был явно тронут грандиозным зрелищем, которое открылось перед его глазами, и вместе со мной восхищался великолепной картиной.
Всюду, куда проникал наш взор, мы видели стройные стволы, до того прямые и ровные, что их можно было принять за колонны, воздвигнутые руками человека. Они поддерживали свод листьев, развернутых над нашими головами. Грациозные изгибы этих перистых листьев, как бы выточенных резцом, представляли собой настоящие аркады. С верхушек этих колонн, точно золотые люстры, спускались яркие кисти.
Мы прошли больше мили по этому чудному лесу, но несмотря на его красоту, стремились поскорее выйти из него. И не потому, что там было темно — пальмы, защищающие нас от прямых солнечных лучей, умеряли их жар, но не лишали нас света; все кругом имело смеющийся и волшебный вид. Дело в том, что под этими чудесными деревьями совершенно невозможно было идти: вся почва была покрыта орехами, так, как бывает покрыта земля под яблонями после ночной бури. Местами плодов было так много, что не было возможности их обойти, и мы давили их, скользя по маслянистой мякоти, липкой, как смола, в которой находилось множество косточек, затруднявших ходьбу. Иногда к нашей обуви приставала целая кисть плодов, и тогда приходилось останавливаться, чтобы отлепить ее. Мы шли вперед спотыкаясь и только через час добрались до опушки леса.
Я очень обрадовался, увидев другие деревья. Они были не так красивы, зато под ними можно было идти спокойно, не рискуя упасть на каждом шагу или споткнуться и получить растяжение связок. Пройдя некоторое время под густым сводом этого леса, мы решили выйти из него на равнину, так как не было никакой дичи. К тому же, тем, кто привык жить всегда на открытой местности, большие леса не особенно нравятся. Сначала вас поражает их величественный вид, но затем утомляет однообразие: все деревья похожи одно на другое, все породы одинаковы; густой слой сухих листьев под ногами шуршит однообразно и постепенно начинает раздражать, и вы в конце концов стремитесь туда, где видите над собой голубое небо, где кругом — безграничный горизонт, где нежная и зеленая трава расстилается под ногами, точно мягкий, пушистый ковер, по которому так приятно ступать.
Спутник мой чувствовал приблизительно то же самое, а кроме того, на равнине он надеялся найти какую-нибудь дичь. Желание наше скоро исполнилось. Не прошли мы и четверти мили с того места, где простились с элаисами, как увидели потоки солнечных лучей, лившихся сквозь деревья, и кусочек голубого неба. Мы бросились в том направлении и через несколько минут были уже на краю обширной равнины, которая терялась далеко на горизонте. То тут, то там виднелись великолепные деревья, росшие то в одиночку, то группами; все они были так разбросаны, что представляли собой великолепно спланированный парк. Но нигде не видно было ни дома, ни хижины, ничего, что бы указывало на присутствие человека.
Что касается животных, то на равнине мы увидели их очень много. Бен назвал и их оленями, хотя это были антилопы, что можно было определить по их рогам. Какое, впрочем, нам было дело до этого — как бы они ни назывались, мы обрадовались, встретив их, потому что надеялись на хорошую охоту. Мы остановились посреди одной из групп деревьев, чтобы посоветоваться, как нам лучше подойти к дичи. Мы решили, что лучше всего пробираться под прикрытием деревьев, разбросанных по равнине. И вот, то согнувшись, то на четвереньках двинулись мы вперед и так добрались до небольшой рощи, откуда решили начать охоту. Не без труда и царапин проложили мы себе дорогу среди акаций, алоэ и разных колючих кустарников.
Несмотря, однако, на все эти препятствия, мы все-таки приблизились к стаду. С волнением увидели мы, что антилопы продолжают пастись, не выказывая ни малейшего беспокойства, и находятся на расстоянии выстрела нашего древнего мушкета. Я не имел намерения стрелять из своего пистолета: я бы растратил только напрасно свой порох. Мне просто хотелось видеть, что будет, и ради этого я последовал за своим спутником.
Я недолго ждал. Бен понял, что надо спешить, антилопы, спокойно пасшиеся до сих пор, вдруг подняли головы и, повернув свои нежные мордочки в нашу сторону, почуяли, по-видимому, что вблизи них находится враг.
Мой товарищ положил дуло своего мушкета на ветку, тщательно прицелился и спустил курок. В ту же минуту антилопы понеслись прочь и исчезли прежде, чем смолкло эхо выстрела. Бен был уверен, что попал в антилопу. Впрочем, охотники никогда не сознаются, что промахнулись, если верить их рассказам, то количество животных, раненных ими и убежавших от них, превзошло бы всякую разумную вероятность.
Дело в том, что у Бена была слишком мелкая дробь для такого крупного животного, как антилопа: он мог бы сто раз стрелять и попадать в цель, но убить антилопу ему не удалось.
Глава 12
Бен страшно теперь сожалел, что не взял с собой пуль или, по крайней мере, несколько кусочков железа, а что касается дроби, то на нашем судне и не было более крупной. Когда мы отплывали, наше честолюбие не было таким сильным, чтобы мы могли мечтать об антилопах. Мы взяли с собой все необходимое для охоты на пернатых такой величины, какой они встречаются вблизи нашего Портсмута. Поэтому только птицы, и притом птицы небольшие, могли опасаться ловкости моего спутника. Бену не удалось бы убить и грифа, не стреляй он в него прямо в упор. Но к чему эти сожаления? Мы зашли слишком далеко, чтобы возвращаться за пулями, особенно по такой ужасной жаре. К тому же, нам пришлось бы снова проходить через элаисовый лес. Поэтому мы решили пойти в обход, лишь бы снова не проходить через него. Бен сказал, что мы обойдемся и без пуль, снова зарядил мушкет, и мы отправились на поиски дичи, более подходящей к нашему оружию.
Мы прошли еще немного, когда наше внимание привлекло очень странное дерево. Оно стояло особняком, хотя на некотором расстоянии от него находилось еще несколько таких же деревьев, но значительно ниже. То, что эти деревья принадлежат к одному виду, было несомненно, хотя некоторые отличия и существовали. Однако одинаковые листья и еще некоторые признаки указывали на то, что эти отличия — лишь следствие возраста. Маленькие деревья, следовательно, более молодые, доходили до полутора-двух метров высоты и имели около полуметра в окружности. Любопытнее всего было то, что вверху деревья были толще, чем у основания, точно кто-то нарочно вырвал их и посадил верхушками вниз. Ни веточки, ни сучка не росло на этих странных стволах. Лишь верхушки их венчались толстыми пучками длинных массивных листьев, прямых и жестких, которые походили скорее на клинки шпаги и тянулись во все направления, образуя шар. Если вам случалось когда-нибудь видеть алоэ, вы легко можете представить себе листву этого странного дерева. Оно похоже также на другое растение, известное под названием юкка; между ними так много общего, что впоследствии, когда я увидел юкку в Мексике и в Южной Америке, я был поражен и подумал, что эти растения принадлежат к одному семейству, хотя ботаники относят их к разным семействам.
С удивлением смотрели мы на странную листву этого дерева. Бен высказал предположение, что это пальма. Свое мнение он основывал на внешнем виде молодых деревьев, растущих кругом своего громадного предка. Отсутствие веток, круглый ствол, увенчанный пучком листьев, ввели в заблуждение не одного Бена. Всякий, кому никогда не приходилось изучать ботаники, делал такой же ошибочный вывод. Для матросов любое дерево, листья которого растут прямо из ствола и лучами расходятся во все стороны, как алоэ и юкка, представляет собой пальму.
Я был также не очень-то силен в ботанике и наверняка присоединился бы к мнению Бена, не знай совершенно случайно, что эти деревья не пальмы. У меня была одна книга, в которой описывались разные чудеса природы. Я очень любил ее, перечитывал раз десять или пятнадцать, и каждый раз с большим удовольствием. Среди чудес, описанных автором, упоминалось в высшей степени любопытное дерево, которое растет на Канарских островах и называется драконовым деревом Оротавы. По словам Гумбольдта, оно достигает двадцати метров в высоту и почти четырех метров в окружности. Если сделать надрез на этом дереве, из него начинает вытекать сок кроваво-красного цвета, который называется драконовой кровью. Такой сок дает не только драконовое дерево, но и некоторые другие, и несмотря на то, что они принадлежат к разным видам, они также называются драконовыми деревьями. Дерево Оротавы на протяжении шести метров совсем не имеет сучьев, затем оно разделяется на множество коренастых веток, которые отходят от ствола, как рожки канделябра. Каждая ветвь имеет на конце пучок жестких листьев, описанных мной выше. Из середины этих пучков поднимается стрелка цветов, вместо которых появляются впоследствии маленькие орешки.
Гумбольдт в своем рассказе упоминает, что драконовое дерево Оротавы росло на Канарских островах еще четыреста лет тому назад, когда испанцы появились там впервые, и с тех пор почти не выросло. Впоследствии я посетил Канарские острова и видел это чудо растительного мира, с которым после посещения Гумбольдта случилось неприятное происшествие — во время грозы в июне 1819 года половина кроны этого исполина была сорвана бурей. Однако дерево живет, и жители Оротавы, которые очень гордятся им, поместили на нем табличку с указанием года и числа события.
Вы до сих пор, конечно, не можете понять, что общего имеет драконовое дерево Оротавы с Беном Брасом и с деревьями, привлекающими наши взоры. Сейчас вы это поймете. В книге, где было описано это дерево, находилась гравюра, хотя и грубо, но настолько верно изображавшая его, что я сразу смог узнать, к какому семейству принадлежали деревья, увиденные нами.
Я сказал об этом Бену Брасу, который упорно продолжал называть это дерево пальмой. Он стал спорить со мной.
— Как, — горячился он, — ты можешь узнать это дерево, когда в первый раз видишь его?
Я рассказал ему тогда о книге и о гравюре, оставшейся у меня в памяти, но он по-прежнему мне не верил.
— Хочешь, я докажу тебе, что я прав? — сказал я. — Это совсем не трудно.
— Каким образом? — спросил Бен Брас.
— Если из этого дерева пойдет кровь, — ответил я, — то это — драконовое дерево.
— Если из дерева пойдет кровь? — воскликнул мой спутник. — Да ты сошел с ума, Вилли! Кто видел когда-нибудь, чтобы у деревьев была кровь?
— Я говорю о соке.
— А, чтоб тебя! Ну, конечно, у деревьев бывает сок, кроме тех, что умерли.
— Но не красный.
— Как! А ты думаешь, что сок этого дерева красный?
— Красный, как кровь, я уверен в этом.
— Посмотрим, малыш! Это очень легко: мы сделаем надрез и увидим, какой сок течет в его ужасных жилах, потому что, не в обиду будь ему сказано, я ничего более ужасного не встречал в своей жизни. Ни мачты из этого дерева не сделать, ни даже маленькой реи, зато оно достаточно безобразно, чтобы служить виселицей.
Бен направился к драконовому дереву, я — следом за ним. Мы шли не спеша, торопиться нам было некуда, дерево оставалось на месте, не то что антилопа или птица. Ни под ним, ни на его ветвях ничего не было видно. Его листья легче было сломать, чем расшевелить, поэтому легкий ветерок не мог привести их в движение. Но по мере того как мы приближались, этот ветерок доносил до нас запах цветов, находящихся на нем.
Возле самого дерева росла высокая желтая трава, похожая на рожь во время жатвы. На ней четко отпечатались следы какого-то большого животного, которое, по всей вероятности, здесь отдыхало. В этом не было ничего удивительного — мы находились в стране, изобилующий дикими зверями. Те же антилопы могли здесь отдыхать и примять траву. Мы не придали этому никакого значения, и Бен, вытащив большой нож, воткнул его в исполинский ствол предполагаемой пальмы.
Но ни он, ни я не увидели сока. В ту минуту, когда нож ударил по дереву, в двадцати шагах от нас из травы выскочило какое-то животное и уставилось на нас, удивляясь, по-видимому, нашей смелости.
Не надо было быть ученым-натуралистом, чтобы узнать, что это за животное. Рыжая шерсть, густая грива, огромная морда со сверкающими желтыми свирепыми глазами и длинными усами, из-за которых выглядывали страшные клыки, — все подтверждало то, что это был лев. Его узнал бы и ребенок. Видимо, зверь спал в высокой траве, а мы его разбудили.
Ужас парализовал нас. Мы стояли неподвижно и со страхом смотрели на громадную кошку, которая скорее была удивлена, чем рассержена. К счастью, томительное состояние это продолжалось недолго. Лев глухо зарычал, опустил хвост и удалился с угрюмым видом, как это делают обычно все львы в присутствии человека, особенно когда не голодны и их не трогают.
Зверь медленно удалился, время от времени поворачивая голову через плечо, чтобы посмотреть, преследуют его или нет. Мы, однако, были далеки от подобной мысли, напротив, спрятались за большое дерево, которое не могло защитить нас, приди льву вдруг фантазия напасть на нас. Но несмотря на то, что он уходил не так быстро, как нам бы этого хотелось, он тем не менее не выказывал ни малейшего намерения вернуться обратно, и мы начинали понемногу успокаиваться.
Мы легко могли бы убежать по равнине, но боялись, что лев последует за нами. Ему было достаточно нескольких прыжков, чтобы догнать нас и одним ударом своей громадной лапы разорвать в клочки или, как выражался мой спутник, «переселить в середину будущей недели».
Вероятно, лев так бы и ушел, не тронув нас, оставь мы его в покое, но мой друг Бен отличался смелостью, граничащей с безрассудством. Его вывела из терпения медлительность льва, и ему пришла вдруг сумасшедшая мысль испугать его выстрелом из мушкета и заставить обратиться в бегство. Не успела прийти ему эта мысль в голову, как он уже спустил курок.
Я уверен, что Бен попал в льва, но что могла ему сделать наша дробь, будь он даже совсем рядом? Эффект, произведенный выстрелом, был прямо противоположным тому, которого ждал охотник. Вместо того чтобы бежать, как надеялся Бен, громадный зверь громко зарычал и, моментально обернувшись, пустился скачками к тому месту, где мы стояли.
Глава 13
Еще минута — и нас с Беном уже бы не было. Я был уверен, что мы сейчас будем растерзаны на куски, и, вероятно, так бы и случилось, не будь мой спутник таким находчивым. Он моментально сообразил, как нам избежать опасности. Возможно, Бен думал об этом раньше, иначе с его стороны было бы непростительной глупостью стрелять в льва среди открытой равнины и притом дробью.
Не успел я вскрикнуть от ужаса, как он уже схватил меня за ноги и поднял к себе на плечи.
— Скорее, — закричал он, — хватайся за первую попавшуюся ветку и полезай на верхушку дерева. Скорее, скорее, не то мы погибнем!..
Я понял, чего Бен хочет, и молча принялся исполнять его приказание. Едва не свалившись с рук Бена, который вытянул их во всю длину, я ухватился за одну из веток драконового дерева. Теперь оставалось только дотянуться до его верха, но я уже умел карабкаться, как обезьяна, и мне достаточно было небольшого усилия, чтобы водвориться на верхушке колосса.
Бен также не стоял на месте. Он выпустил меня, как только почувствовал, что мои руки нашли точку опоры, и поспешил всеми возможными способами вскарабкаться ко мне. К несчастью, ветка находилась очень высоко над ним, а ствол был слишком толстым, чтобы можно было схватить его руками — как будто перед ним была стена. Зато поверхность коры была шероховатая, покрытая узлами и углублениями. Отпадая, старые листья оставили там часть своего основания, образовав нечто вроде ступенек. Оценив с присущей ему сообразительностью преимущества, которые ему дают эти неровности, Бен сбросил с себя башмаки и, как кошка, стал подниматься вверх, помогая себе руками и ногами.
Сделать это было нелегко. Бен должен был оставаться хладнокровным, ведь если бы он потерял равновесие и упал, все было бы кончено: лев быстро приближался и не дал бы ему времени вскарабкаться вторично. К счастью, мне удались прочно закрепиться среди ветвей, и я, наклонившись к Бену, схватил его за ворот куртки и стал тащить к себе. Спустя минуту он был уже рядом со мной.
Никогда опасность не казалась мне такой неизбежной. Ноги Бена висели еще между ветками, когда лев, подбежав к драконовому дереву, прыгнул вверх и выхватил когтями несколько громадных кусков коры. Оставалось не более десяти сантиметров от когтистой лапы до подошвы моего бедного друга. Вцепись только лев в ногу Бена — и тот погиб бы! Но, говоря словами Бена Браса, сантиметр равняется целой миле, когда удается избежать опасности. Дальнейший ход приключений доказал справедливость этой поговорки.
Нельзя сказать, что занимаемая нами позиция доставляла нам удовольствие. Напротив, мы испытывали некоторую долю беспокойства. Лев не может подниматься на дерево, обхватив его лапами, как это делают медведи, или карабкаться, как кошка, потому что когти у него тупые. Тем не менее сила его так велика, мускулы так эластичны, что он может прыгнуть на довольно значительную высоту. Весьма возможно, что и наш лев, уцепившись за шероховатую кору драконового дерева, умудрился бы как-нибудь добраться до его верхушки. Нет ничего удивительного в нашей тревоге, особенно когда мы увидели, как свирепое животное остановилось в нескольких шагах от дерева и протянуло свои широкие лапы, готовясь сделать прыжок в нашу сторону.
Это было делом одной секунды. Одним прыжком перескочил он расстояние, отделявшее его от драконового дерева, пролетев наискось прямо к тому месту, где дерево разветвляется. По счастью, когти не удержали льва, и он упал в траву.
Неудача не обескуражила его; он отошел назад, готовясь ко второму прыжку. Глаза его горели бешенством, губы вздрагивали, обнаруживая ряд белых зубов и шершавый, покрытый пеной язык.
Раздалось ужасное рычание, у нас в глазах точно молния блеснула, и не успели мы произнести ни единого слова, как рыжая лапа льва протянулась к ветке, и у наших ног мы увидели его широкую морду. Еще одно мгновение — и страшный зверь очутился бы возле нас. Но в эту критическую минуту Бена не покинуло присутствие духа. Лев не успел прыгнуть во второй раз: острое лезвие ножа опустилось дважды на его лапу, ухватившуюся за ветку, а я поспешно выхватил пистолет из-за пояса и выстрелил в морду чудовища.
Не знаю, что на него произвело большее впечатление, но в ту минуту, когда я спустил курок пистолета, лев упал на землю. Страшно зарычав, он начал кружить вокруг дерева. Его голос, пожалуй, был слышен за несколько миль от нас.
Судя по тому, как он хромал, видно было, что он страдает от ран, нанесенных ему Беном, а кровь на морде показывала, что и моя дробь попала в цель.
Мы думали сначала, что после такого приема лев откажется от своего намерения, но скоро увидели, что надежды наши тщетны. Ни мой выстрел, ни нож Бена не ранили его серьезно, а только усилили его гнев и жажду мести. Лев несколько раз обошел вокруг дерева, то и дело останавливаясь и, глухо ворча, зализывая свою лапу, а затем снова стал готовиться к прыжку. Я зарядил пистолет, Бен держал наготове нож, и, усевшись поудобнее на дереве, мы стали ждать нападения.
Лев сделал третью попытку и бросился к дереву, но, к нашей великой радости, не смог прыгнуть так высоко, как раньше. Надо полагать, лапа его была сильно порезана.
Несколько раз прыгал он, но все с меньшим и меньшим успехом. Если бы ярость могла помочь ему, он, наверное, достиг бы своей цели. Трудно представить себе, до какого бешенства лев дошел. Рычанье его, смешанное с пронзительными криками, гремело с такой силой, что я не слышал голоса Бена.
После нескольких тщетных попыток схватить нас, лев понял, наконец, что это невозможно, и отказался, по-видимому, от своего намерения. Однако уйти с этого места он и не подумал. Напротив, он решил подвергнуть нас осаде, и, к нашему огорчению, мы увидели, что он улегся в траве у дерева, намереваясь, очевидно, оставаться там до тех пор, пока не принудит нас спуститься.
Глава 14
Нам, таким образом, ничего не оставалось делать, как сидеть на верхушке драконового дерева. Лев улегся так, чтобы одним прыжком схватить нас, когда мы ступим на землю, и спуститься вниз значило попасть к нему прямо в пасть. Он лежал, свернувшись клубком, как кошка. Время от времени он вставал, вытягивался, как бы собираясь ползти, бил себя по спине хвостом, скалил зубы и злобно рычал. Затем снова ложился и лизал порезанную лапу, глухо ворча.
Мы надеялись, что ему надоест лежать, и он уйдет, но надежда эта мало-помалу покинула нас, когда мы увидели его упорное намерение стеречь нас. При малейшем движении на ветках он вскакивал и, предполагая, что мы хотим спуститься, становился таким образом, чтобы преградить нам путь. Это доказывало, что лев не собирается покидать свой пост.
Наше беспокойство достигло высшей степени. До сих пор, испуганные нападением и видом ужасного противника, мы не думали о безвыходности нашего положения. Когда прошел первый ужас, мы вынуждены были защищаться, и удача, сопутствовавшая нам вначале, помешала отчаянию овладеть нами. Скажу даже больше: уверенность, что мы находимся в безопасности, успокоила нас совершенно.
Только теперь мы начали понимать, что подвергаемся опасности совсем иного рода. Как ни безопасно было наше убежище, мы не могли долго оставаться на нем; сидеть верхом на ветке — положение весьма неудобное, но нас беспокоило не это. Причина нашей тревоги была значительно серьезнее: перспектива голода и жажды. И если мы не были голодны, то жажда уже начала нас мучить. Мы не выпили ни глотка воды с тех пор как вышли на берег, а кто ходил пешком в Африке под палящими лучами солнца, тот знает, как мучит жажда через каждые четыреста-пятьсот шагов. Мы хотели пить, еще когда плыли в лодке, и я искал воду с самого начала нашей прогулки, но нигде не находил ее.
Как упрекали мы теперь себя, что не захватили с собой кувшина с водой! Нам даже и в голову не пришло, что нам нужна будет какая-нибудь провизия. Мы так обрадовались данному нам отпуску, что совсем забыли о том, что находимся в дикой стране, и отправились, не захватив с собой решительно ничего.
И теперь, сидя на обнаженных ветках, где не было никакой тени, чтобы защитить нас от палящих лучей солнца, в полдень, вблизи экватора, мы подвергались настоящей пытке. Я страдал невыносимо, и мне казалось, что я не вынесу этого и умру, если муки эти продлятся еще немного. Перспектива, как видите, была далеко не утешительной: оставить драконовое дерево значило быть растерзанным львом; сидеть на нем — значило умереть после страшной агонии от голода, а главное от жажды.
Как вырваться из такого ужасного положения? Возможно, льву надоест караулить нас, и он уйдет в другое место искать себе добычу? Но нет, он и не думал уходить. Его поведение свидетельствовало об обратном — я припомнил, что в книгах, прочитанных мной, говорилось о неумолимом характере царя зверей, который далеко не отличается тем великодушием, какое ему приписывают. Это пресловутое великодушие есть не что иное, как безразличие к людям, которые не трогают его, и то лишь, когда он сыт.
Наш лев не был голоден, но ему послали вызов, затем ранили во время борьбы, последовавшей за вызовом, и чувство мести дошло у него до крайней точки. Нечего было и думать, что бешенство его скоро уляжется. Не успокоит ли ночь его ярость? Можно было уповать на то, что темнота смягчит его гнев или даст нам возможность ускользнуть от него, но до вечера было еще так далеко…
Мы ни одной минуты не рассчитывали на наших товарищей с «Пандоры»; у Бена, правда, были друзья среди матросов, но характер у них был не такой, чтобы заботиться о том, что с ним произошло. Да если бы они и вздумали искать его, то как найти кого-нибудь среди этих безграничных лесов, где нет даже тропинок, по которым можно было бы проследить, куда мы пошли?
С этой стороны у нас была единственная надежда, основанная на весьма странном предположении. Возможно, что, не увидя нас вечером, капитан «Пандоры» вообразит, что мы дезертировали, и пошлет осматривать окрестности, чтобы найти нас. Как ни странно было такое предположение, мы страстно желали его осуществления, считая единственным средством к спасению.
Жажда, между тем, мучила нас все сильнее. Горло горело так, как будто мы проглотили индейский перец, язык пересох, во рту не оставалось ни капли слюны.
Внезапно Бену вдруг пришла в голову одна мысль. Он вытащил нож и сделал надрез на ветке, где сидел. Вопрос, о котором мы спорили, был решен: из раны, нанесенной Беном, показался красный сок; из жил растения текла драконова кровь.
Думая утолить жажду из предлагаемого нам природой источника, мы приложились губами к надрезу и начали высасывать кровавую жидкость. Мы не сделали бы этого, будь мы более сведущими, потому что драконова кровь принадлежит к числу самых едких жидкостей на свете. Увы! Мы скоро узнали это на собственном опыте. Через пять минут после того как мы проглотили эту странную жидкость, нам показалось, что рты наши наполнены огнем, и жажда наша до того усилилась, что мы не в силах были переносить ее. Как раскаивались мы, что проглотили этот ужасный сок, как проклинали свою неосторожность! Ведь мы могли бы протерпеть до следующего утра, но теперь это было невозможно, мы страдали так, как будто не пили несколько дней подряд.
Как описать нашу агонию? Пытка наша увеличивалась с каждой секундой и, наконец, дошла до того, что Бен Брас предложил мне сойти вниз, утверждая, что лучше бороться со львом, чем выносить такую муку.
Глава 15
Да, хотя исход этой борьбы был очень сомнителен, мы все же решили покинуть убежище и попытаться отбить свою жизнь у свирепого животного, преграждавшего нам путь. Мы предпочли рискнуть и лучше погибнуть в когтях льва, чем выносить страдания, которые могли продолжаться еще долго. Но, к счастью, мы не были доведены до такой крайности.
Вы помните, вероятно, старый мушкет Бена Браса, сделанный еще в то время, когда королева Анна правила Англией. Дело в том, что он лежал у дерева, куда мой друг бросил его, когда спешил убежать от приближавшегося к нам врага, и мы не раз уже посматривали на него. Он находился слишком далеко от нас, и мы не могли схватить его, да если бы и подняли его, разве дробь, которой он был заряжен, могла освободить нас от врага? Мы могли бы извести весь порох и не добились бы никакого результата, а только усилили бы бешенство льва, если его бешенство не достигло уже крайних границ. Поэтому мы оставили нашу «королеву Анну» у подошвы драконового дерева и не сделали ни малейшей попытки взять ее обратно.
Но в ту минуту, когда мы собирались приступить к решительной битве и искать спасения в отчаянной попытке, мы подумали вдруг, нельзя ли будет воспользоваться старым мушкетом. Бен вбил себе в голову, что он может сослужить нам службу. Отчего было, действительно, не попробовать? И я только удивляюсь, что эта мысль не пришла нам раньше.
План Бена заключался в следующем: взять старый мушкет, зарядить двойным зарядом, раздразнить льва тем или иным способом, чтобы он снова возобновил свои попытки нападения, и в ту минуту, когда он прыгнет к ветке, на которой мы сидим, выстрелить в него в упор, что, по мнению Бена, должно было ранить его серьезно.
Прежде всего, следовательно, надо было взять мушкет, который лежал всего на расстоянии какого-нибудь метра от дерева. Но как близко ни находился он, а достать его было невозможно, потому что лев, следивший за всеми нашими движениями, моментально схватил бы того, кто спустился бы на землю. Как же достать мушкет?
Мы ни разу не обсуждали вопроса — как спуститься за нашим ружьем, ибо это значило идти на верную смерть. Бен сначала думал взять меня за ноги и держать так, как это делают обезьяны, которые цепляются друг за друга, когда хотят что-нибудь достать. Но, рассчитав расстояние, отделявшее нас от земли, мы решили, что об этом нечего и думать. Тогда Бену пришла другая мысль: сделать петлю на конце веревки, захватить ею мушкет, веревку потянуть так, чтобы затянуть узел, и затем поднять «королеву Анну». План этот был хорош, оставалось только привести его в исполнение.
У нас была веревка; моряки никуда не выходят без нее. Этой веревкой мы связывали грифа, и когда Бен бросил его, то веревку, разумеется, взял с собой. Она была достаточно длинная и крепкая. А кто лучше Бена мог сделать мертвый узел? Узел был сделан, и веревка осторожно спущена, чтобы петля не затянулась раньше времени. К счастью, ружье лежало на траве таким образом, что было слегка приподнято, и петлю можно было без затруднения подвести под него. Но Бен Брас успокоился только тогда, когда петля проскользнула за крючок, представлявший надежную точку опоры. Бен затянул петлю, и спустя минуту «королева Анна» была у него в руках!
Зарядить мушкет было делом нескольких минут, но при этом следовало соблюдать большую осторожность, чтобы не уронить палочку или бутылку с порохом, кисет с дробью или паклю, из которой мы делали пыжи. Без чего-то одного все остальное было бесполезно.
Противник наш не молчал во время этих приготовлений. Увидя мушкет, каким-то таинственным образом поднимающийся на дерево, лев, по-видимому, понял, что против него что-то затевается, и, вскочив на ноги, начал ходить вокруг драконового дерева, громко рыча.
«Королеву Анну» зарядили, и Бен ждал, чтобы лев бросился к дереву, как это он делал сначала, однако зверь не имел, по-видимому, никакого желания начинать атаку. Он ворчал по-прежнему и бил хвостом, но не сходил с того места, откуда наблюдал за нами.
Не достигнем ли мы желаемого результата выстрелом из пистолета? И Бен посоветовал мне выстрелить. Я подчинился, но никакого вреда, конечно, льву не причинил, а только слегка задел его. Тем не менее вызов этот не остался без последствий. Лев прыгнул к драконовому дереву, затем остановился, продолжая ворчать и бить хвостом.
Враг находился на расстоянии восьми-десяти шагов от дула «королевы Анны», но было видно, что он все еще не намерен нападать на нас. Постояв несколько минут на одном месте, он сел на задние лапы, как это делают кошки. Его широкая грудь была совершенно открыта и представляла заманчивую цель для охотника.
Бену Брасу очень хотелось спустить курок мушкета, но лев был слишком еще далеко для того, чтобы дробь наша дала желаемый результат, и мой друг, наученный опытом, опустил мушкет.
Он приказал мне снова зарядить пистолет, и я уже приготовился выполнить это, когда вдруг он шепотом приказал мне остановиться. Я вопросительно взглянул на него, не пришел ли какой-нибудь новый проект ему в голову? Не говоря мне, на что он решился, Бен вынул железный шомпол, с помощью которого мы заряжали «королеву Анну», затем взял паклю, обернул ей головку шомпола и воткнул ее в дуло мушкета. Закончив эти приготовления, он приложил мушкет к плечу и стал старательно целиться в зверя. Послышался громкий выстрел, и облако дыма, окружившее верхушку дерева, скрыло от меня все окружающее.
Несмотря на то, что мы надеялись на некоторый результат выстрела, мы все же не могли предполагать, что Бен Брас добился полного успеха. Вместо рычания, выражающего бешенство и угрозу, до нашего слуха доносились страшные стоны, ужасное хрипение, глухие крики, похожие на стоны умирающей кошки.
Но вот, наконец, все стихло, и когда минуту спустя рассеялся дым от пороха, мы увидели льва, лежащего на боку, без движения и жизни. Несколько минут мы смотрели на него, не покидая нашего убежища, чтобы убедиться в его смерти. Когда мы увидели, что лев действительно не дышит, мы сошли с драконового дерева и приблизились к нему. Железный шомпол сделал свое дело: он проткнул грудь страшного зверя и проник до самого его сердца.
На этот день охоты было достаточно. Бен так же считал. Льва такой величины было довольно для его честолюбия, и мы решили не искать больше никаких приключений.
Но не в характере Бена было уйти, не унеся с собой доказательств своей ловкости как охотника. Отыскав родник и утолив жажду, мы вернулись к месту, где лежал мертвый лев, и сняли с него шкуру.
Мой спутник взвалил ее на плечо, я взял «королеву Анну», и мы, гордые одержанной победой, направились в сторону, где находилась, по нашему мнению, «Пандора».
Глава 16
Мы хотели как можно быстрее вернуться на борт, поэтому избрали более короткую дорогу. Мы прошли какое-то время, когда нам показалось, что мы сбились с прямого пути; мы тотчас же повернули и пошли в другую сторону.
Пройдя целую милю от того места, где мы изменили направление, и не видя все еще реки, мы предположили, что ошиблись и снова вернулись назад. Пройдя еще одну или две мили, но, не видя ни малейших признаков воды на горизонте, мы поняли, что заблудились. Мы никак не могли представить себе, в каком направлении могли находиться «Пандора» или хижины короля Динго-Бинго.
Отдохнув несколько минут, мы продолжили наш путь и прошли не менее трех миль, стараясь не уклоняться в сторону. Но вместо того чтобы добраться до низменности, где извивалась река, мы очутились среди гористой местности, кое-где покрытой деревьями. Здесь было множество разных антилоп, но мы слишком были озабочены поиском верного пути, чтобы охотиться на них. Вид мачт «Пандоры» был бы нам несравненно приятнее вида антилоп.
Впереди возвышалась гора. Бен предложил подняться на ее вершину и рассмотреть окружающую местность. Возможно, мы сможем увидеть реку, а быть может, и «Пандору».
Я полностью доверял Бену Брасу и согласился с его предложением. Мы направились к горе. Она находилась, по-видимому, в одной или двух милях от нас, но, к великому нашему удивлению, когда мы их прошли, расстояние нисколько не уменьшилось.
Мы прошли еще с полчаса, а гора все не становилась ближе; мы продолжали по-прежнему двигаться к ней, но расстояние не уменьшалось.
Будь я один, я непременно отказался бы от намерения достигнуть цели, которая как бы нарочно бежала от нас, и повернул бы назад. Но Бен Брас был необычайно настойчив, а потому решил, что он во что бы то ни стало доберется до горы и взойдет на ее вершину, хоть для этого ему пришлось бы идти до самой ночи.
Знай он с самого начала, что надо будет пройти миль десять до того места, откуда он хотел подняться на вершину горы, он, возможно, и отказался бы от такого путешествия. Но небо так ясно над тропиками, воздух там так прозрачен, что для человека, привыкшего к туманному горизонту Англии, трудно правильно оценить расстояние до предмета, находящегося далеко от вас.
Оставался всего только час до наступления темноты, когда мы пришли к намеченному месту. Крутые склоны горы делали наше восхождение очень утомительным, но мы с избытком были вознаграждены за наши труды чудесным видом, окружавшим нас: далеко на горизонте серебристой полосой на фоне зеленого ковра извивалась река; один конец ее терялся в лесу, а другой — тянулся в море, которое белело далеко впереди и сливалось с горизонтом. Мы увидели также «Пандору», неподвижно стоявшую на сверкающей воде, а среди листьев мелькнул как будто баракон короля Бинго. Судно выглядело издали не больше пироги и как будто стояло у самого устья реки, тогда как находилось в целой миле от него.
Увидев «Пандору», мы почувствовали огромную радость. Блуждая наудачу в продолжение четырех часов, мы начали уже очень беспокоиться, но теперь, когда определили положение реки, мы могли отправиться в путь, и легко добрались бы до берега, вдоль которого дошли бы до места назначения. Одно только волновало нас — мы никак не могли пройти расстояние, отделявшее нас от судна, до захода солнца. Только после заката могли мы быть у реки, оба берега которой были покрыты густым лесом, где нужно было идти очень медленно. Ночью же дороги совсем непроходимы, и нам волей-неволей пришлось бы остаться там до следующего утра.
Поэтому Бен решил, что благоразумнее оставаться на вершине горы, чем идти ночевать в лес. Здесь, где деревья были так редки, мы подвергались меньшей опасности со стороны диких зверей, чем в чаще леса и особенно вблизи реки, где так много диких животных. Мы тем более могли расположиться на горе, что тут нам нечего было бояться жажды — чудный источник, из которого мы уже пили, находился в двух шагах от того места, где мы решили провести ночь. Ради воды нам, следовательно, незачем было стремиться к реке.
Недоставало нам только съестных припасов. У нас не было ни кусочка мяса, ни сухаря, и мы были голодны, как волки. Как перенести голод, раздиравший наши желудки? Мы могли удовлетворить его только на «Пандоре», на следующий день и, быть может, очень поздно. Бен очень сожалел, что не взял с собой мяса убитого льва. Он уверял, что с удовольствием съел бы ломоть этого мяса, но у нас была только шкура, которую мы, несмотря на голод, не могли есть.
Мы уселись вблизи источника, откуда вытекал ручеек, и принялись рассуждать о том, как провести ночь. Надо было прежде всего набрать сучьев и развести большой костер — не из боязни холода (вечер был душный), а из-за диких зверей, которых огонь держит всегда на расстоянии. Пока мы сидели и разговаривали, голод наш все увеличивался и, наконец, достиг такой степени, что мы собирались уже есть траву. Но на этот раз судьба была милостивее к нам и избавила нас от этой необходимости. Когда мы осматривались кругом в надежде увидеть какое-нибудь корнеплодное растение, которое могло бы заглушить голод, мы увидели вдруг большую птицу, вышедшую из-за деревьев. Она не замечала нас, и потому приближалась совершенно спокойно, внимательно высматривая себе пищу.
Бен зарядил ружье. Железный шомпол согнулся, когда ударил льва, но охотник кое-как выправил его и воспользовался им, чтобы ввести новый заряд в дуло мушкета. Увидя большую птицу, спокойно приближавшуюся к нам, мы тихонько притаились в траве, и Бен, лежа позади кустарника, осторожно просунул сквозь ветви дуло мушкета.
Можно было подумать, что Провидение нарочно послало нам такую большую птицу на ужин; глупое создание шло прямо на охотника. Когда птица была в десяти шагах от нас, Бен спустил курок, раздался выстрел — и птица, не взмахнув даже крылом, упала замертво. Это была большая дрофа. Бен поднял ее и принес к источнику. Мы быстро ощипали перья дичи, зажгли костер, выпотрошили дрофу и положили ее печься на огонь. Весьма возможно, я даже убежден в этом, что она пахла дымом, но я не замечал этого, а Бен и того меньше, и мне казалось, что вкуснее этого я никогда и ничего не ел. К тому же, мы питались два месяца солониной и соленой рыбой «Пандоры», и прекрасная жирная дрофа, принадлежавшая к числу самой хорошей дичи, была для нас настоящим лакомством. Это было такое пиршество, что мы, принявшись за жаркое, почти все его съели, несмотря на значительную величину птицы.
Ужин наш мы закончили большим глотком свежей воды, почерпнутой из прозрачного источника, находившегося у наших ног. Затем мы занялись поисками места, где было бы удобнее провести ночь.
Глава 17
Спать мы предполагали лечь на том месте, где испекли дрофу. Густая трава могла служить прекрасным и удобным матрацем для нас.
Жар был еще таким сильным, что заснуть было тяжело. Но мы уже знали по опыту, что спустя какое-то время тепло уйдет. В этой части Африки, как бы ни было жарко днем, ночи бывают очень свежие. Когда на борту судна мы спали на палубе, часто случалось посреди ночи искать одеяла, чтобы укрыться от густого тумана, леденившего нас. Происходило это не оттого, что температура резко опускалась, просто разница с дневным жаром была так велика, что понижение температуры производило на нас впечатление очень резкого и чувствительного холода.
В этот день было жарче обычного, а у нас за плечами было утомительное путешествие — лес элаисов, пребывание на верхушке драконового дерева на солнцепеке, чаща колючих кустарников — и мы были совсем мокрые от испарины. А так как с нами не было одеял, и одежда на нас была очень легкая, то благоразумие советовало нам найти убежище получше: хотя бы среди густой листвы какого-нибудь дерева, которое защитило бы нас от росы.
На склоне горы, недалеко от самой ее верхушки, мы заметили небольшой лесок, который, по-видимому, устроил бы нас. Забрав с собой мушкет, львиную шкуру, несколько горящих веток, чтобы скорее можно было развести новый огонь, и остатки дрофы, мы направились туда. Это было нечто вроде рощицы, состоящей из деревьев, которые, по-видимому, принадлежали к одному и тому же семейству. Листья у них были блестящие, большие, продолговатые, лапчатые; каждый состоял из пяти отдельных листочков, расположенных, как пять пальцев на руке. Из каждого букета таких листьев на очень длинной ножке свешивался широкий белый цветок. Ничего не могло быть прелестнее этих изящных цветов, которые представляли красивый контраст с зеленым цветом листьев, окружавших нас.
В первую минуту мы не заметили ничего странного. Рощица была расположена правильным кругом, можно было подумать, что во время роста ее тщательно подстригали по плану, намеченному садовником-пейзажистом. Это было удивительно, потому что человеческое искусство никоим образом не могло принимать здесь участия. Но я слышал раньше, что и в южной части Африки, и в американских прериях часто встречаются правильно растущие рощицы, а потому ничуть не удивился, встретив то же самое на берегу Гвинеи.
Эта странная роща не особенно обратила на себя наше внимание, мы шли к ней, чтобы найти там убежище на ночь. Густая листва обещала нам прекрасную защиту от росы и даже от дождя, если бы он вдруг пошел, и мы с радостью принимали гостеприимство, которое она предлагала нам. Только дойдя до ее опушки, мы заметили, в чем дело — вместо предполагаемой рощицы мы, к великому своему удивлению, увидели одно-единственное дерево. Ошибиться здесь было невозможно: всю эту густую массу ветвей, покрытых листьями и цветами, поддерживал один ствол.
Что же это было за дерево? Если драконовое дерево так поразило нас, то как же поражены были мы при виде этого гиганта, перед которым драконовое дерево казалось кустарником! Вы, пожалуй, не поверите мне, если я сообщу вам размеры этого колосса растительного царства, а между тем сообщение это будет опираться на цифры, данные знаменитыми путешественниками. Деревья, подобные тому, которое мы видели, были уже описаны ботаниками, и колоссальная величина их хорошо известна ученому миру.
Дерево, увиденное нами на горе, имело метров 30 в окружности. Бен тщательно измерил его руками и объявил, что в нем около 25 обхватов, а обхваты у Бена были порядочные, потому что он был большого роста. Примерно в четырех метрах от земли ствол делился на множество сучьев, некоторые из них были такой же толщины, как самые толстые деревья наших лесов. Сучья эти шли сначала горизонтально, постепенно становились тоньше к концу и тянулись очень далеко, затем, склоняясь мало-помалу, они доходили до самой земли, из-за чего мы и не видели главного ствола, от которого они начинались. Все эти сучья, наружные ветви которых были покрыты листьями, потому представляли собой вид небольшой рощицы, что самые высокие из них не превышали десяти метров. Но если это дерево не было самым высоким, зато оно, наверное, было самым толстым. Я случайно прочитал про этого африканского гиганта; моя книга чудес природы не выпустила его из виду, и я знал, что это необыкновенное дерево называется баобабом.
Я знал также, что негры Сенегала дают разные названия баобабу, называя его кислой тыквой, мало, деревом с обезьяньим хлебом. Из своей книги я узнал, кроме того, ученое название этого дерева Adansonia, данное ему в честь французского ботаника Адансона, который исследовал Сенегал больше ста лет тому назад и первый описал это дерево. Я помнил также мнение этого ученого относительно невероятной долговечности баобаба — по его словам, некоторые деревья этого вида живут не менее шести тысяч лет. Баобабы, измеренные им, имели двадцать пять и более метров в окружности. Ему говорили, что встречаются даже такие баобабы, у которых окружность — больше тридцати пяти метров. Глядя на дерево, стоявшее перед нами, я нисколько не сомневался в достоверности этого факта. Не менее хорошо помнил я и описание плода баобаба, сделанное одним французским ботаником. Вот что он говорит: это древесная шишка от двадцати пяти до тридцати сантиметров в длину, зеленоватого цвета, покрытая белым пушком, она похожа на бутылочную тыкву и состоит из нескольких отделений, наполненных твердыми блестящими зернами, которые окружены мягким и мясистым веществом. Туземцы делают из этого вещества кисловатое питье и с успехом применяют его при лихорадке, кроме того, они сушат листья, растирают их в порошок и прибавляют в еду, что очень уменьшает испарину. Самыми большими листьями они покрывают свои хижины, а из волокон коры изготовляют веревки и ткут грубую материю, из которой бедняки мастерят передники, доходящие до половины бедра. Из оболочки плодов туземцы делают чаши, похожие на бутылки.
Я хорошо помнил эти подробности и хотел рассказать о них Бену, как только мы устроимся на отдых. Когда мы подошли к баобабу, нам пришлось нагибаться, чтобы пройти под ветками. С первого же взгляда мы увидели, что лучшего места для ночлега нам не найти. Места под деревом было так много, что там мог бы разместиться весь экипаж большого судна. Мы были уверены, что здесь сон наш не потревожит никто и ничто — ни ветер, ни роса.
Мы все-таки решили развести большой костер, потому что боялись диких зверей (в этом ничего удивительного не было, если вспомнить наше приключение у драконового дерева). Несмотря на густую листву, окружавшую нас, мы все же могли кое-что различить. Отложив в сторону вещи, мы принялись собирать сухие ветки, валявшиеся на земле. Принеся четыре или пять охапок к месту, выбранному для ночлега, мы стали готовить костер, что заняло у нас довольно много времени. Сук, под которым мы расположились, был так толст, что мог служить нам вместо крыши. Земля, покрытая листьями, высохшими, как трут, обещала быть мягкой, как матрац, и мы надеялись провести ночь самым комфортабельным образом. Мы разложили костер на некотором расстоянии от ствола баобаба, зажгли и уселись рядом.
Бен вытащил трубку из кармана, набил ее табаком и с наслаждением закурил. Я сам испытывал глубокое чувство радости: после всего, что я перенес на борту судна, эта свободная жизнь в лесу казалась полной невыразимого очарования, и мне хотелось, чтобы она продолжалась всегда.
Я сел напротив Бена, и, пока он курил, мы весело болтали. Когда мы вошли под сень баобаба, там было так темно, что мы видели только то, что находилось в двух-трех шагах от нас, но теперь при ярком свете горевшего костра мы могли рассмотреть в деталях место нашего ночлега. Вверху мы видели среди густой листвы висевшие над нашими головами длинные тыквы; они также валялись вокруг нас на земле. Многие из них были совсем сухие и пустые внутри. Нам было достаточно нескольких секунд, чтобы заметить все это. Но наше внимание привлекло нечто совсем иное.
Ствол баобаба, казавшийся при свете костра громадной стеной, был покрыт корой серо-коричневого цвета, испещренной узлами, большими углублениями, причудливыми морщинами, а посреди всех этих неровностей резко выделялись четыре прямые линии, встречающиеся под прямым углом; получался, таким образом, параллелограмм чуть больше метра длиной и сантиметров шестьдесят шириной, основание которого находилось на расстоянии сорока сантиметров от земли, а более длинная сторона шла по направлению высоты дерева.
Не было никакого сомнения в том, что эти линии не могли быть произведением самой природы. Кора, покрытая везде неровностями, не могла лопнуть сама по себе с такой геометрической правильностью; это могли сделать только люди. Присматриваясь внимательно к этим линиям, мы заметили мало-помалу следы какого-то острого орудия, но по цвету этих надрезов, которые были такие же, как и естественные трещины на коре, можно было с достоверностью сказать, что сделаны они очень давно. Мы встали, чтобы лучше рассмотреть эти таинственные линии, на которые в стране обитаемой не обратили бы никакого внимания. Но здесь была пустынная местность, мы не только никого не встретили с самого утра, но не видели абсолютно ничего, что указывало бы на присутствие человека. Нам говорили, что местность эта совершенно необитаема; мы на деле убедились в этом, и поэтому были так поражены видом линий на баобабе.
Мы тщательно осмотрели их и нашли, что надрезы эти сделаны глубоко; затронута была, по-видимому, даже древесина. Вблизи линий не оказалось никаких фигур, как мы предполагали сначала; тут просто-напросто было четыре линии, как бы образованные плинтусами двери или окна. Мысль эта сразу пришла мне в голову, когда я поднес ближе горевшую головешку и вдруг увидел, что между краями надрезов виднелось темное углубление, точно по ту сторону надрезов находилась пустота. Я взглянул на Бена и сразу понял, что та же мысль пришла и ему в голову.
— Сам черт тут замешан! — воскликнул он, ударяя кулаком по коре баобаба. — Что ты ни говори, а здесь дверь. Слышишь, Вилли? Тут пусто, как в пустой бочке!
Звук, издаваемый корой под энергичным ударом кулака Бена Браса, был действительно звонкий, и мне даже показалось, что кора поддалась под сильной рукой матроса.
— Ты прав, — сказал я Бену, — дерево это, вероятно, выдолблено внутри, а та его часть, которую ты ударил кулаком, наверняка дверь.
Этот вопрос спустя минуту был окончательно разрешен. Достаточно было одного удара ногой, чтобы подозрительная часть коры выскочила, обнаружив нашим удивленным взорам полость, выдолбленную внутри дерева. Бен бросился к костру, схватил несколько горевших хворостинок, из которых устроил целый факел и, вернувшись обратно к баобабу, осветил им внутренность полости. То, что мы увидели там, не только удивило, но привело нас в неописуемый ужас. Мой спутник, несмотря на все свое мужество, был поражен не меньше меня. Он вздрогнул так сильно, что едва не уронил факел, и была даже минута, когда он хотел убежать.
И действительно, нервы наименее впечатлительного человека в мире и те не выдержали бы зрелища, представившегося нашим взорам. Оно потрясло нас еще и потому, что появилось неожиданно и ночью.
Полость внутри дерева представляла четырехугольную камеру, имевшую приблизительно около двух метров в вышину и ширину. Своим происхождением она была обязана не дряхлости дерева, а человеческим рукам и топору.
В глубине этой странной комнаты была устроена скамья, а на ней находилось то, что так страшно напугало нас. Там сидели три человеческие фигуры. Спинами они опирались о заднюю стену комнаты, руки их свисали, а ноги были слегка вытянуты вперед. Ни один из них не пошевелился, они были мертвы, но видом своим не походили на мертвецов. Все трое были сухие, как мумии, а между тем на них не было никакого покрова. Они были похожи на скелеты, облеченные в черную кожу, покрытую бесчисленными морщинами. Черепа их были в густой шерсти, угасшие глаза, высохшие, как и все остальное тело, все еще оставались в орбитах, которые были непомерно велики. Сухие губы, как бы раскрытые конвульсивным движением, открывали белые, как слоновая кость, зубы. Резко выделяясь на темном высохшем лице, они придавали им ужасный, сверхъестественный вид, так сильно напугавший Бена.
Глава 18
Вероятно, вы удивитесь, когда я скажу, что не разделял ужаса своего спутника; быть может, потому, что был моложе. Неожиданность была, правда, так велика, что в первую минуту я испугался, однако тотчас же успокоился. С первого взгляда, разумеется, вид трех скелетов с белыми зубами, неподвижными глазами, черной кожей, освещенных мерцающим светом дымящихся факелов и открытых неожиданно среди дикой страны, где мы на каждом шагу подвергались опасности со стороны животных и людей, не мог не подействовать ошеломляюще на меня и на моего друга Бена.
Но это было делом одного мгновения, спустя минуту я уже ничего больше не испытывал, кроме жадного любопытства, и рассматривал их с таким же спокойствием, с каким рассматривал бы галерею антиквара. Хладнокровие мое удивляет вас, а между тем в этом нет ничего особенного: той же книге чудес обязан я разгадкой этого таинственного происшествия, и только она давала мне такое преимущество над Беном Брасом, невежество которого было главной причиной его ужаса. Я читал в этой книге, что некоторые племена негров устраивают внутри баобаба углубления, куда помещают своих покойников, но не честных людей, умерших естественной смертью, а преступников, в наказание за совершенные ими преступления, которые после исполнения над ними позорной казни не имеют права на обычное погребение.
Вместо того, чтобы бросать гиенам, шакалам и хищным птицам тела казненных преступников, негры кладут их в выдолбленные ими пустоты баобаба. В таком погребении они, по-моему, ничего не проигрывали. Трупы не разлагаются там, как обычно; оттого ли, что дерево обладает какими-нибудь особыми качествами, оттого ли, что внешний воздух не может проникнуть в эти склепы, только тела, помещенные туда, высыхают, как мумии, и сохраняются целыми веками. Трудно понять с первого взгляда, почему негры придумывают себе столько работы ради каких-то преступников, которых лучше было бы бросить на съедение зверям. Это становится еще непонятнее, когда вспомнишь несовершенство их орудий, с помощью которых им приходится выдалбливать ствол большого дерева. А между тем удивляться этому нечего, потому что древесина баобаба так нежна, что выдолбить в нем камеру так же легко, как выдолбить углубление внутри репы или в куске мягкой глины. Негры очень часто выдалбливают внутренность баобаба и устраивают там себе жилье.
Все это я сразу припомнил, и это дало мне громадное преимущество над моим спутником, который ничего не читал по этому поводу. Бен удивлялся спокойствию, с которым я рассматривал зрелище, заставившее его дрожать с головы до ног. Я поспешил объяснить ему, почему я такой храбрый, после чего и он успокоился. Он принес еще несколько зажженных хворостин и поправил факел. Без всякого страха на этот раз вошли мы в пещеру. Мы настолько успокоились, что трогали руками скелеты трех негров, превосходно сохранившихся — их тела высохли от времени, но не были источены червями и муравьями; весьма возможно, что запах, свойственный исключительно баобабу, отпугивал насекомых; что касается гиен и шакалов, то двери, плотно закрывающей отверстие, было достаточно, чтобы предохранить тела покойников от их нападения; весьма возможно также, что вследствие отсутствия гниения эти любители падали не могли узнать о мертвецах. Высохшая кора не так уж плотно закрывала в настоящее время отверстие камеры, а потому легко поддалась под ударом ноги моряка.
Некоторое время мы находились в этом погребальном помещении, где все до малейших подробностей возбуждало наше любопытство. Никто не проникал сюда с давних времен, с того, быть может, дня, когда туда были заключены преступники. Определить с точностью время, когда это произошло, было невозможно. Достоверно было только, судя по состоянию, в котором находились трупы, что с тех пор прошло много лет. Весьма возможно, что в то время здесь жило многочисленное население, уничтоженное потом более могущественным врагом или же проданное в рабство и увезенное в американские колонии.
Пока я размышлял таким образом, мысли совсем иного рода занимали моего друга Бена. Я подозреваю, что он мечтал о каком-нибудь сокровище, скрытом вместе с трупами в этом склепе, потому что он тщательно осматривал все трещины, все шероховатости камеры, как бы надеясь найти там мешки с золотым песком или драгоценные камни, которые так часто встречаются у дикарей.
Если такова была его надежда, то велико должно было быть его разочарование! Кроме негров, в склепе ничего не было: ни одежды, ни посуды, ни единой песчинки золота, ни единого драгоценного камушка. Убедившись в этом, Бен бросил последний взгляд на безмолвных обитателей баобаба, отвесил им полусерьезный, полушутливый поклон и пожелал спокойной ночи.
Мы возвратились к костру с твердым намерением лечь и уснуть. Хотя было еще не поздно, но мы так устали от ходьбы, что спешили протянуть усталые ноги у костра, куда подложили еще свежего хвороста.
Глава 19
Не успели мы лечь, как тотчас же уснули, но сон наш был, увы, непродолжителен. Не могу сказать наверняка, сколько времени прошло с тех пор как мы легли, когда нас разбудил страшный шум, самый страшный шум, какой только можно себе представить. Мы никак не могли понять, откуда он происходит, но догадывались, что шумят какие-то животные.
Сначала мы подумали, что это волки, или вернее гиены и шакалы, которые заменяют волков на африканском континенте. Среди разнообразных голосов, поразивших наш слух, раздавались крики животных, которых мы так часто слышали на берегах реки или вблизи хижин короля Динго-Бинго. Но крики эти сопровождались на этот раз необыкновенно странными звуками, которых мы никогда раньше не слышали. Это была смесь пронзительного тявканья с кошачьим мяуканьем и воем на разные лады, к чему присоединялись время от времени какая-то болтовня и странные крики, похожие на человеческие вопли и бормотание безумных.
Животных, производивших этот шум, собралось, по-видимому, много, но кто они? Ни мой спутник, ни я не знали, что думать на этот счет. Голоса, доносившиеся к нам, были грубые, невыносимые и с оттенком угрозы. Они вызывали в нас чувство ужаса, который увеличивался по мере того, как они раздавались все ближе и ближе.
Мы вскочили на ноги и оглядывались кругом, уверенные в том, что невидимый враг сейчас нападет на нас. Несмотря на то что шум раздавался вокруг нас, мы положительно не могли видеть, кто его производил. Костер наш почти совсем догорел, и при его умирающем свете мы уже в нескольких шагах от себя ничего не могли рассмотреть. Мой спутник подошел к нему и ногой сгреб в одно место почти угасающие головешки; огонь вспыхнул с новой силой и ярко осветил все вокруг. Наш зеленый зал, составленный сучьями баобаба, мгновенно осветился, но в нем никого не было: звуки, все еще раздающиеся среди ночной тьмы, доходили к нам извне.
Они усиливались по мере своего приближения и неслись к нам со всех сторон. Мы были окружены, по-видимому, целым легионом каких-то ужасных созданий. Мы долго стояли, ничего не видя, и вдруг среди темноты засверкали какие-то блестящие точки, круглые, зеленоватые и точно вспыхивающие время от времени. Это были глаза тех животных, крики которых мы слышали. По этим диким крикам, по манере, с которой они осаждали нас, видно было, что это животные свирепые, хищные, готовые растерзать нас.
Спустя несколько минут они были так близко от нас, что мы могли уже их узнать. Я видел этих животных в зверинцах, а мой спутник знал их лучше меня. Это были большие обезьяны, известные под названием бабуинов.
Открытие это не рассеяло страх, внушенный нам их голосами. Напротив, мы слишком хорошо знали сварливый характер этих животных. Кто видел их в клетках, тот знает, какие это злобные, мстительные существа и как опасно к ним подходить даже тогда, когда они должны были бы привыкнуть к тому, что человек о них заботится. Еще более ужасны они при встрече с ними в тех местах, где они живут. Туземцы, проходя леса, где живут эти четверорукие, принимают все необходимые меры предосторожности и стараются идти в сопровождении людей, хорошо вооруженных.
Мы это знали превосходно и, признаюсь вам откровенно, страшно испугались, увидя бабуинов вблизи нашего костра. Мы испугались так, как только можно испугаться, когда лев преследует вас. А еще больше мы испугались потому, что эти бабуины принадлежали к числу самых больших и опасных: это были ужасные мандрилы, что видно было по их толстой морде, желтой бороде, покрывавшей их выдающийся вперед подбородок, по вздутым щекам, ярко-красный и фиолетовый цвет которых ясно виден был при свете нашего костра.
Даже с одним таким мандрилом встретиться опасно, гораздо опаснее, нежели с гиеной или взбешенным догом, потому что мандрил обладает чудовищной силой. Нас же осаждал не один мандрил, тут их была целая армия. Куда ни смотрел я, везде видел лиловые морды, освещенные отблеском пламени, и со всех сторон раздавались грозные голоса, шум которых мешал мне слышать голос моего спутника.
Что касается их намерений, то не было никакого сомнения в том, что они собирались напасть на нас. Если они еще не напали, лишь из боязни костра, а быть может, и потому, что хотели первоначально узнать, с каким врагом имеют дело.
Но боязнь огня, подумал я, не удержит их долго, они привыкнут к нему. Действительно, круг обезьян все больше и больше сужался. Что делать и как спастись? Против такого врага защита немыслима; в одно мгновение ока могли они напасть на нас и разорвать своими громадными зубами. Единственное средство спастись от них — бежать отсюда. Но как уйти? Способ, который помог нам спрятаться от когтей льва, был здесь немыслим: мандрилы влезают на деревья несравненно лучше человека. Оставалось бегство, и мы, пожалуй, пустили бы его в ход, будь это возможно. Но бабуины образовали вокруг нас такой тесный круг, через который трудно было прорваться. А между тем оставаться там, где мы были, значило отдать себя на верную смерть. Враг продолжал приближаться и по-прежнему издавал громкие крики, преследуя двойную цель: испугать нас и ободрить себя для атаки. Я уверен, не будь у нас костра, вид которого их поражал, обезьяны давно уже напали бы на нас. Но они смотрели недоверчиво на огонь и приближались очень медленно.
Заметив, что огонь сдерживает мандрил, мой спутник попробовал разогнать их страхом. Он схватил кусок горящей головешки и, бросившись к стоявшим поближе обезьянам, стал ею размахивать перед ними. Я последовал его примеру и побежал к обезьянам с другой, противоположной стороны. Бабуины отступили перед этой атакой, но не так быстро, чтобы дать нам надежду, что мы можем заставить их бежать. Они остановились, как только увидели, что мы не идем дальше. Когда же мы вернулись к костру за новыми головешками, мандрилы снова двинулись к нам и на этот раз с более грозным видом. Никто из них не был ранен, и они решили, вероятно, что наши головешки совершенно безвредное оружие.
Мы попробовали повторить наш маневр, но он не внушал им больше ни малейшего страха. Напрасно размахивали мы своими факелами, обезьяны чуть-чуть отступали и, не задумываясь, снова возвращались обратно.
— Негодное это для них средство, мой маленький Вилли! — сказал мне Бен Брас с тревогой в голосе. — Не убегут они от этого, негодные! Пущу в ход старый мушкет, может, они тогда уйдут.
«Королеву Анну» зарядили по обыкновению дробью. Мы знали, что она слишком мелкая и может только оцарапать наших противников, что должно было еще больше раздразнить их и сделать их более неумолимыми. По этой причине мы не стреляли в бабуинов, а предпочли попугать их огнем.
Но Бен решил, что заставит поплатиться хотя бы одно из этих чудовищ за посягательство на нас. Он вложил железный шомпол в дуло своего ружья, как сделал это, когда стрелял в льва. Затем он двинулся вперед, прицелился в одну из самых больших обезьян и спустил курок.
Крик и стоны дали нам знать, что он попал в цель: громадная обезьяна каталась по земле в предсмертных судорогах, а вокруг нее толпились ее товарищи. Со своей стороны, и я ранил выстрелом из пистолета другого бабуина, который привлек в свою очередь огорченных друзей.
Мы вернулись к костру. Старый мушкет нельзя было больше заряжать, потому что шомпол остался в ране мандрила; да будь у нас двадцать таких шомполов, мы и тогда не успели бы ими воспользоваться. Выстрелы наши произвели действие, противоположное тому, какого мы ожидали: вместо того чтобы испугать наших врагов, мы еще больше раздразнили их. Оставив своих раненых товарищей, они бросились к нам с очевидным намерением не откладывать больше нападения. Критическая минута приближалась. Я схватил одну из самых больших головешек, Бен Брас держал в руке старый мушкет, готовый пустить его в ход при первой необходимости. Но к чему защищаться? Побежденные численностью врагов, мы должны были быть разорваны на куски этими ужасными зубами, не приди в голову Бену Брасу еще одно средство спасения.
В ту минуту, когда надежда совершенно покинула нас, наши глаза обратились в сторону склепа, выдолбленного в баобабе. Мы не вставили обратно кору, служившую дверью, и отверстие оставалось открытым. Эта мысль поразила нас обоих и, вскрикнув от радости, мы поспешили к убежищу. Дверь была узкая, но мы моментально скользнули в нее, так что мандрилы, бегущие за нами, не успели нас догнать, и мы очутились в обществе трех мертвецов.
Глава 20
Не следует думать, однако, что мы совершенно успокоились. Внезапное наше исчезновение поразило, правда, мандрилов, и они не пытались даже войти за нами внутрь баобаба. Но они все-таки следовали за нами, и нельзя было сомневаться в том, что они не замедлят перешагнуть порог склепа, перед которым продолжали устраивать грозную демонстрацию.
Склеп был открыт, потому что мы не успели поднять кору, служившую дверью. Она лежала на земле, но мы не могли взять ее. Внутри баобаба не было ничего, чем мы могли бы защищаться от врагов. Все, что мы могли сделать, это преградить им доступ внутрь камеры, отталкивая прочь, — Бен своим мушкетом, а я головешкой, все еще остававшейся у меня в руках. Мы решили, если этого будет недостаточно, взять свои ножи и бороться до последних сил; стоило бабуинам проникнуть в склеп — и смерть наша была неминуема.
Бабуины, продолжая вопить, собрались напротив нас и заняли все пространство между костром и баобабом. Точно черные демоны, вырисовывались они на фоне пламени, танцуя, как безумные, вокруг убитых Беном товарищей и издавая жалобные крики, которые сменялись страшными воплями, где слышались бешенство и жажда мести. Насколько можно было судить, число мандрилов достигало шестидесяти. Некоторые из них бесновались прямо против двери и ждали, по-видимому, только знака, чтобы броситься на нас.
— Если бы только дверь поднять, — сказал я своему товарищу, посматривая на кору, лежавшую на земле.
— Невозможно! — ответил Бен. — Нас разорвут на куски, как только мы высунем нос наружу. Но пусть меня повесят, Вилли, если я не придумал чего-то! Мы обойдемся без двери; не пускай их только сюда, пока я не устрою баррикаду; возьми мушкет, это будет почище твоей головешки. Внимание, товарищ! Не пускай ко мне этих чудовищ! Браво, Вилли, браво!
Объяснив мне, как я должен поступить, Бен скрылся сзади, оставив меня в недоумении относительно того, что он хочет делать. Да мне некогда было и думать об этом; бабуины решили теперь, по-видимому, пробраться силой в камеру, и мне нужны были вся моя сила и ловкость, чтобы удержать их на приличном расстоянии от дула мушкета. Все они по очереди ставили ногу на край отверстия и затем валились на землю под моими ударами, которые следовали друг за другом с быстротой ударов кузнеца, опасающегося, что железо его остынет.
Но я чувствовал, что сил моих не хватит надолго. Я начинал уже слабеть под напором беспощадных врагов, когда мой, товарищ скользнул мимо меня. В камере вдруг стемнело, и огонь костра мелькал только сквозь взявшиеся откуда-то небольшие щели. Откуда появилась вдруг такая внезапная темнота? Огонь не погас… я видел его. Не спутник ли мой подставил свою грудь под ужасные удары осаждающих нас?
Ничуть не бывало! Бен Брас придумал отдать в жертву мандрилам нечто лучшее, чем самого себя. Я протянул руку, чтобы ощупать предмет, поставленный им между нами и ревущей толпой, и понял, что это была одна из мумий. Бен согнул ее вдвое и всунул между краями отверстия, заткнув его почти во всю вышину. Но баррикада не была еще кончена. Приказав мне придерживать мумию на том месте, где он ее поставил, он притащил другую, согнул ее также вдвое и всунул таким образом, чтобы окончательно закрыть отверстие.
Баррикада эта была столь нелепа, что позабавила бы нас в другое время. Теперь же нам было не до смеха, положение наше было отчаянное. Хотя баррикада наша была весьма удачной выдумкой, но она могла быть только временной защитой. Бабуинам стоило схватить мумии, чтобы уничтожить их в один миг. Между двумя скелетами находилось отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть дуло «королевы Анны», а рядом с этим другое, куда я выдвинул свою дубинку, и мы продолжали отталкивать мандрилов, мешая им уничтожить баррикаду.
К счастью, отверстие камеры было устроено таким образом, что становилось уже к наружной стороне, из-за чего мумии так крепко держались в нем, что без особого усилия их нельзя было оттуда вытащить. Итак, пока бабуины не разорвали их на куски, мы оставались в безопасности. Целый час мы только и делали, что с четкостью маятника вдвигали и выдвигали наше оружие. Но вот враги начали ослабевать, атаки их стали менее стремительными и менее частыми. Они, по-видимому, начинали понимать, что им трудно попасть к нам, и к тому же удары наши значительно охладили их пыл.
Несмотря, однако, на то, что обезьяны прекратили осаду, они продолжали по-прежнему кричать. Мы не могли их больше видеть; костер погас, и все погрузилось в тьму, так что остальную ночь мы провели в абсолютной темноте, но не в тишине. Мы внимательно прислушивались к голосам мандрилов, которые ревели, вопили, стонали вокруг нас, ожидая, что они вот-вот удалятся. Тщетная надежда! Крики раздавались по-прежнему, и ничто не показывало, что они намерены уйти.
Это была одна из самых ужасных ночей, проведенных когда-либо нами. Нечего говорить, я думаю, о том, что мы не могли закрыть глаза. Мы много слышали о беспощадном характере бабуинов; мы знали, что, приведенные в бешенство, они не успокаиваются до тех пор, пока не удовлетворят свою жажду мести. Мы знали также, что обезьяны не похожи на львов, буйволов, носорогов и других опасных животных Африки, которые тотчас же успокаиваются, как только потеряют из виду врага. Бабуины не отказываются так легко от врага, вызвавшего их ярость; эти чудовищные создания обладают несколько иначе развитым умом, нежели четвероногие, и хотя ум этот ниже человеческого разума, тем не менее он имеет нечто, сходное с ним.
Наши бабуины прекрасно понимали наше положение и знали, что мы не можем выйти из баобаба, не пройдя мимо них. Наделенные сильными страстями, они не имели ни малейшего желания отказаться отомстить нам. Мы убили одного из них, быть может, всеми уважаемого вождя племени, другого ранили, всем им по очереди наносили более или менее сильные удары, а потому, зная их мстительный характер, мы не могли надеяться на пощаду с их стороны, и сам Бен Брас молчал и, казалось, отчаялся.
Бабуины могли неопределенное время оставаться на одном месте; им ничего не стоило отправлять одних за провизией, а других оставлять стеречь нас. Они могли, кроме того, найти все необходимое тут же, на месте: чистый, прозрачный источник, из которого мы вчера пили, доставлял им свежую воду. Даже за съестными припасами не нужно было ходить — обезьяны могли питаться плодами баобаба, которые являются их любимой пищей и называются поэтому обезьяньим хлебом. Весьма возможно, что бабуины заметили нас, возвращаясь в свое убежище на баобабе после того, как целый день пробегали по лесам, и, увидя свое жилище занятым, пришли в неописуемый гнев.
Естественно, что в таких условиях мы не могли спать. Всю ночь мы провели в надежде, что с наступлением дня бабуины вернутся к своей привычной жизни и уйдут в леса. Увы! Когда наступило утро, мы, к нашему отчаянию, увидели, что они и не думают уходить. По крикам и жестам бабуинов было понятно, что они намерены продолжать осаду. Теперь их стало еще больше. Одни из них сидели на земле или на ветках, другие толпились возле убитого Беном бабуина и умершего от нанесенной мной раны. Время от времени они собирались вместе и с новыми силами спешили к нам и пробовали разрушить баррикаду. Мы отгоняли обезьян, как накануне, и они удалялись, поняв бесполезность своих усилий.
Так бабуины провели весь день, вынуждая нас оставаться в мрачном убежище. Мы укрепили нашу баррикаду третьей мумией, надеясь, что это удержит врагов. Но тут нас стал одолевать другой враг, более сильный, чем мандрилы. Мы уже были знакомы с ним; он мучил нас на верхушке драконового дерева, но эти мучения были еще ужаснее внутри баобаба: это была жажда, от которой все горело во рту. С каждой минутой она становилась невыносимее.
Наступил вечер, но осада продолжалась. Упрямые создания всю следующую ночь провели у баобаба, а когда забрезжил рассвет второго дня, их оказалось еще больше. Что делать? Не имея ни отдыха, ни покоя в течение сорока восьми часов, измученные голодом и особенно жаждой, мы чувствовали, что смерть уже недалеко от нас. Выйти из убежища, где мы томились в агонии, значило дать себя растерзать, но оставаясь, мы умирали медленной смертью. Трудно рассказать, в каком угнетенном состоянии сидели мы друг возле друга. Мы снова начали подумывать о том, нельзя ли будет прорваться сквозь ряды мандрилов и спастись от них бегством. Это можно было, пожалуй, сделать на открытом месте, но в лесах бабуины бегают быстро и на каждом шагу могут ухватиться за ветку.
Однако мы понимали, что попытка эта была бы хороша в начале осады. Нам надо было сразу воспользоваться нерешительностью бабуинов и их боязнью огня. Но теперь, когда число разъяренных обезьян увеличилось, мы могли быть уверены, что погибнем под их ударами. Но жажда так мучила нас, что мы решили рискнуть; тем быстрее наступила бы смерть.
— Лучше погибнуть сразу, — сказал Бен, — чем выносить такую пытку.
Я согласился. Нам предстояло пережить ужасные мгновения, но перспектива быть разорванными бабуинами казалась нам менее страшной, чем муки жажды. Впрочем, у нас и не было другого выбора. Обезьяны, устав ждать, с яростью приступили к атаке и, набросившись на защищавшие нас скелеты, кусками отрывали высохшую кожу мумий. Бесполезно было идти навстречу смерти, и мы, видя, что защита больше немыслима, покорились своей участи. Вдруг я увидел, что Бен вышел из состояния оцепенения и что-то ищет.
— Что ты ищешь? — спросил я.
— Мне пришла в голову одна мысль, — ответил Бен. — Будь я повешен, черт возьми, если не отправлю этих обезьян на все четыре стороны!
— Каким образом?
— Сейчас увидишь! Где львиная шкура?
— Я сижу на ней. Она тебе нужна?
— Давай ее сюда поскорей, Вилли!
Я немедленно встал с места и передал шкуру льва Бену Брасу. Я уже понял, для чего она ему нужна, и, не ожидая, пока он скажет мне об этом, поспешил помочь ему. Десять минут спустя тело Бена Браса было покрыто львиной шкурой, которую мы прикрепили и завязали таким образом, что даже более проницательный взор, чем у мандрил, был бы обманут. Бен хотел неожиданно выйти и предстать перед бабуинами в надежде, что вид царя зверей обратит их в бегство. Наше положение было таким отчаянным, что подобный способ спасения не мог увеличить угрожавшей опасности. К тому же этот план имел некоторые шансы на успех: все животные приходят в ужас при виде льва, и бабуины не составляют исключения.
Чтобы быть уверенными в успехе, мы тщательно занялись приготовлениями к этому последнему средству спасения.
Когда, наконец, переодевание было закончено, артисту ничего больше не оставалось, как выступить на сцену. Мы осторожно вынули мумии и положили их так, чтобы в случае необходимости сразу найти их.
Обезьяны заметили наши действия и насторожились. И вот переодетый Бен вышел из баобаба и заревел таким басом, какой сделал бы честь даже льву, останки которого он надел на себя.
Если бегство обезьян заслуживало когда-нибудь красочного описания, то это было именно такое бегство. Не прошло и минуты, как мы не могли уже сказать, куда девались бабуины. Двух минут было достаточно, чтобы они совершенно исчезли. Можно было подумать, что они взлетели в воздух или провалились сквозь землю. Из-под шкуры льва раздался вдруг такой раскатистый смех, какой вряд ли сменял когда-нибудь львиное рычанье.
Затем мы поспешили уйти из-под баобаба. Здесь было опасно оставаться, мандрилы могли заметить обман и вернуться обратно. Мы поспешно распрощались с тремя мумиями, довольно-таки подпорченными зубами бабуинов, и спустились с горы, не оглядываясь назад и не останавливаясь нигде, кроме источника, у которого поспешно утолили свою жажду.
Минул третий день после нашего отплытия, когда мы удивили своим появлением матросов «Пандоры», которые не рассчитывали больше на наше возвращение.
Глава 21
Все приготовления, необходимые для предстоящего путешествия, быстро завершались — плотник заканчивал свои решетки и ставил перегородки, а матросы выливали морскую воду из бочек и наполняли их пресной. Но пока шли эти приготовления, к королю Динго-Бинго явились послы и сообщили ему новость, которая привела в страшное волнение его величество и произвела не меньшее впечатление и на капитана «Пандоры».
Эти послы назывались круменами и принадлежали к неграм, питающим пристрастие к морю и рыбной ловле. Коммерческие суда, посещающие эту часть Африки, за недостатком матросов пополняют свой экипаж такими круменами. Трое круменов поднялись вверх по реке и сообщили королю Динго-Бинго печальную новость: английский крейсер находится у станции, отстоящей на пятьдесят миль дальше к северу. Этот крейсер выслеживал большое невольничье судно, которое он потерял из виду; но он не теряет надежды найти его, если будет держаться к югу. Крумены прибавили, что крейсер остановился только для того, чтобы запастись свежей водой, а затем будет продолжать свой путь вдоль берега, где, по мнению капитана, он найдет скрывшееся от него судно.
Конфиденциальные сообщения эти переданы были самим капитаном крейсера главному негоцианту порта, англичанину, который вел торговлю пальмовым маслом и слоновой костью и которого никто не подозревал в связях с торговцами невольников, поскольку он всегда проявлял себя одним из самых рьяных сторонников уничтожения торговли неграми. Он всегда был к услугам всех крейсеров и приобрел таким образом полное доверие офицеров английской морской службы, с которыми находился в самых дружеских отношениях.
Находились, однако, люди, подозревавшие, что этот превосходный Джон Буль знаком с королем Динго-Бинго. Они утверждали даже, что между этими двумя почтенными особами существуют более тесные отношения. Как бы там ни было, но именно этот друг и доверенное лицо капитана крейсера послал трех круменов предупредить короля Динго об угрожающей ему опасности. Крумены совершили свое путешествие вдоль берега в небольшой парусной лодке и прошли большую часть опасного пути ночью, чтобы избежать наблюдения с крейсера.
Нечего было и сомневаться в том, что это был тот самый крейсер, который преследовал нас, и его капитан знал, что мы направились к югу. Конечно, крейсер возьмет то же направление, осмотрит весь берег и не преминет открыть устье реки, где мы стоим на якоре. Штурман, управляющий ходом крейсера, должен знать бараки короля Динго, он проведет туда судно, и нас захватят на месте.
Ужас его черного величества был, впрочем, не так велик, как ужас капитана «Пандоры». Король терял гораздо меньше, и посещение крейсера не могло принести ему особенных убытков. Правда, невольники были еще у него в бараконе, но они уже не принадлежали ему: он успел получить в уплату за них ром, мушкеты и соль. Динго-Бинго нужно было только скрыть эти припасы от крейсера, а что произойдет дальше — ему было безразлично. Получив сообщение от круменов, он приказал своим людям спрятать в лесу все товары, полученные им с «Пандоры», а затем закурил трубку, наполнил стакан ромом и принялся курить и пить с таким беззаботным видом, как будто никакого крейсера и не было.
Но положение капитана «Пандоры» было совсем иное. Правда, он мог вывести своих рабов из барака и спрятать их в лесу (забавно было смотреть, с каким жаром советовал ему король прибегнуть к такому способу). Но даже если бы капитан и согласился на это предложение, крейсер, войдя в реку, все равно взял бы в плен «Пандору», а невольники остались бы в стране, и король, захватив их снова, вторично продал бы их. Старый негодяй не подавал виду, что очень в этом заинтересован, и самым серьезным образом настаивал, чтобы капитан согласился с этим планом, который якобы только и может спасти его.
Но капитан не поддавался на эти уговоры — он знал, как опасно доверить пятьсот негров чьему бы то ни было надзору, особенно в лесу. Предположив даже, что капитану удастся скрыть свой груз, куда девать «Пандору»? Войдя в реку, крейсер тотчас же заметит судно и немедленно захватит его. Что будет тогда с невольниками, с экипажем, с самим капитаном? Как будет жить он среди дикарей? Он знал, что если очутится во власти короля Динго, тот не особенно почтительно и гостеприимно отнесется к нему. Вот почему, не слушая советов его величества, капитан решил водворить на место груз и немедленно пуститься в путь. Это было действительно единственно верное средство — до подхода крейсера выйти из реки и добраться до открытого моря, словом, во что бы то ни стало избежать этой встречи. Как ни был смел экипаж «Пандоры», все же судно наше не могло выдержать атаки военного корабля и даже пяти или шести шлюпок, которые крейсер мог выслать против нас. Средством спасения могло быть только бегство, и шкипер был слишком осторожен и умен, чтобы не понимать этого.
Ветер был легкий и дул с берега — весьма благоприятное обстоятельство для нашего бегства и неблагоприятное для крейсера. Это внушило некоторую надежду капитану, и он приступил к немедленной загрузке судна. Все шлюпки были пущены в ход и матросам было работы по горло. Только я да мой друг Бен были единственными из всего экипажа, кто не особенно интересовался этим делом. Однако приходилось соблюдать осторожность и работать вместе с другими.
Погрузка шла без особых затруднений. Живой груз был выведен из бараков к реке, перевезен на борт и спущен через люки в пространство между деками. Отдельно были размещены мужчины и женщины с подростками обоих полов и маленькими детьми, черными, как агат, и совершенно голыми. Впрочем, большинство несчастных были вообще без всякой одежды; некоторые женщины были в простых бумажных рубашках или в передниках из пальмовых листьев; некоторые мужчины — в коротеньких юбках из грубой материи; на остальных не было ничего. Надо полагать, что люди короля Динго отобрали у них одежду.
Мужчины были скованы цепями по двое вместе, а иногда по трое и даже по четыре человека вместе; это была мера, предпринятая самим королем, чтобы помешать их бегству. Из женщин только некоторые были в цепях, отличавшиеся от других более независимым характером и выказавшие сопротивление своим гнусным поработителям. Цепи эти не были сняты с них на «Пандоре», и негров водворили на место в том виде, в каком их передали.
Король Динго стоял на берегу и наблюдал за отправкой невольников, в чем принимали деятельное участие и его телохранители. Шкипер стоял возле него, и оба хладнокровно разговаривали, как бы присутствуя при загрузке слоновой кости, а не живого товара. Время от времени король тыкал пальцем в какого-нибудь невольника и указывал капитану качества проданного им товара: «чудная штука», «золото», «добрый тюк», и советовал при этом капитану следить за ним хорошенько в дороге. Видно было, что он досконально знал всех этих несчастных; многие из них были собственными его подданными и выросли на его глазах. Но какое ему было дело до этого, ему нужен был ром и мушкеты, и он продавал их. Король испытывал к своему народу те же чувства, какие фермер испытывает к своим свиньям и коровам. Он стоял на берегу реки, шутил и смеялся, ничуть не взволнованный печальным зрелищем.
Погрузка тем временем продолжалась, большинство несчастных было уже на «Пандоре», когда мы увидели круменов в лодке, быстро направляющихся к судну. Их посылали к устью для наблюдения, пока происходит погрузка. Они должны были вернуться немедленно, как только заметят крейсер или какое-нибудь другое судно на горизонте. Возвращение круменов, таким образом, было доказательством того, что они видели парус, а быстрота, с которой они поднимались вверх по реке, не только подтверждала это, но прямо указывала на то, что у них какое-то важное сообщение.
Капитан и его друг Динго растерянно смотрели на круменов, и сообщенная ими новость еще больше взволновала их. Парус был не только виден, он направлялся прямо к берегу, и крумены, видевшие несколько дней тому назад крейсер совсем близко, теперь сразу узнали его.
Эта новость сразила капитана, но, рассмотрев внимательно небо и положение верхушек деревьев, чтобы определить, с какой стороны дует ветер, он несколько успокоился и дал приказание ускорить погрузку.
Крумены вернулись на свой пост, чтобы следить за передвижением крейсера, а капитан спешил употребить время с пользой. Ветер благоприятствовал «Пандоре», тогда как военный крейсер шел против ветра и не мог подойти к берегу, а тем более войти в устье реки до тех пор, пока не изменится ветер. Оставался всего один час до вечера, неприятель не мог войти в реку раньше завтрашнего утра. Капитан надеялся, что крейсер бросит якорь в одной или двух милях от берега, и поэтому думал, что ему удастся в темноте пройти незамеченным и выйти в открытое море. Крейсер пошлет ему, быть может, вдогонку несколько ядер, но груз его стоит того, чтобы из-за него рисковать; впрочем, другого способа избежать крейсера и не было.
Поэтому решено было попытаться. Только бы крейсер бросил якорь на таком расстоянии от берега, чтобы можно было пройти! Вся надежда капитана основывалась на направлении ветра, который продолжал дуть с востока.
Глава 22
Как только закончилась погрузка, были укреплены решетки, и к несчастным невольникам приставили двух часовых, вооруженных мушкетами со штыками. Они имели полное право пустить в ход оружие против тех, кто вздумал бы бежать.
Шкипер ждал только донесения круменов. Они появились, и сообщение, привезенное ими, вполне соответствовало его желаниям: крейсер не мог подойти к берегу, он бросил якорь в двух милях от устья реки, где намерен был ждать перемены ветра или наступления дня, а затем двинулся к реке. На это сообщение капитан и рассчитывал. Смелость снова вернулась к нему и, не сомневаясь больше в успехе, он отправился проститься со своим другом Динго. Оба были в прекрасном настроении, и бутылка с ромом переходила от одного к другому. Пока на берегу в хижине короля происходила эта оргия, боцман плыл вниз по реке, чтобы собственными глазами убедиться в положении крейсера и определить путь, по которому должна следовать «Пандора», чтобы увильнуть от врага.
Несколько человек матросов сопровождали шкипера на берег, чтобы отвезти его обратно на борт после того, как он простится со своим другом. Мы с Беном Брасом были также в числе людей, правивших гичкой капитана. Оставалось всего полчаса до захода солнца, когда вернулся боцман. Он подтвердил сообщение круменов, а так как ветер все еще дул с востока, то надо было полагать, что бегство нашего судна совершится беспрепятственно. Капитан и боцман хорошо были знакомы с берегом, они знали, что могут спастись, направляясь к югу от того места, где крейсер бросил якорь — там было глубоко и если только не переменится ветер, все шансы будут на их стороне.
Одно только беспокоило их: весьма возможно, что капитан крейсера знает, где находится «Пандора», и, не имея возможности приблизиться к берегу, он вышлет шлюпки к устью, чтобы помешать бегству невольничьего судна. Если же он не подозревает о присутствии «Пандоры», то на следующее утро он отправится исследовать реку. Но скорее всего надо было предполагать, что ему уже известно о нашем пребывании в бараконе короля Динго, и ждать атаки ночью.
Оставалось еще несколько минут до захода солнца, когда шкипер, обнявшись в последний раз с ужасным королем Динго, вышел из его хижины. Король в сопровождении черных придворных вышел проводить гостя и стоял на берегу реки, пока капитан усаживался в лодку. Мы с Беном сидели на своих местах и уже взялись за весла, когда король вдруг как-то странно вскрикнул. Я взглянул на него и увидел, что он смотрит на меня так, как будто хочет меня съесть, разговаривая в то же время с капитаном на каком-то непонятном мне языке.
До тех пор король никогда не обращал на меня своего внимания, не знаю даже, замечал ли он меня. Я всегда оставался на судне, за исключением того времени, когда мы с Беном совершали нашу знаменитую охотничью прогулку, где было столько приключений. Всякий раз, когда отвратительный Динго приезжал на борт судна, он немедленно уходил в каюту капитана или стоял на мостике, так что ему не представлялось случая видеть мое лицо.
Но почему в момент отъезда он так заинтересовался мной? Я не понимал ни одного слова из того, что он говорил капитану, потому что они бормотали на каком-то жаргоне, взятом из португальского языка, который известен на всем берегу Гвинеи. Но по жестам и выразительным взглядам было понятно, что разговор касается моей особы или, по крайней мере, моей одежды.
Разговор становился все более и более горячим; это был нескончаемый ряд диких криков; мирный вначале, он перешел в ожесточенный спор. Почему друзья так спорили из-за меня? Бен сидел рядом со мной. Я спросил его потихоньку, не может ли он сказать мне, в чем дело.
— Ты понравился этому старому негодяю, — ответил Бен, — он хочет взять тебя к себе и требует от шкипера, чтобы тот продал тебя ему в неволю; весь спор из-за цены.
Я едва не рассмеялся, когда услышал это, но мое веселое настроение скоро изменилось. Серьезное выражение лица Бена, тон, которым он произнес эти слова и особенно манера, с которой капитан и король обсуждали этот вопрос, доказывали мне, что дело здесь не шуточное.
В первую минуту шкипер не имел, по-видимому, никакого намерения исполнить требование старого негра, но тот с таким жаром излагал свое желание, делал такие выгодные предложения, что торговец невольниками начал колебаться. Король предлагал пять черных за одного маленького белого.
— Шкипер хочет шесть, — объяснил мне Бен, — из-за этого только они и спорят.
Итак, капитан соглашался продать меня ужасному Динго, вопрос был только в цене.
Я был поражен, не менее моего был взволнован и Бен. Он знал прекрасно, что негодяй, во власти которого я нахожусь, не постесняется продолжить этот торг. Единственная причина, мешавшая капитану сразу согласиться на продажу, была та, что он нуждался во мне. Но когда он увидел, что, продав меня, он увеличит свой груз на шесть здоровых и сильных негров, каждого из которых он может продать в Бразилии за добрую тысячу рублей, алчность его взяла верх над сознанием моей необходимости. Он ничем не рисковал; я мог исчезнуть, и никто не узнал бы об этом. Перед кем отвечал он? Продавец невольников, бандит! Он мог продать меня, убить, приди ему такая фантазия, — и за это ему ничего не грозило!
Поэтому нечего удивляться моему ужасу. Мысль стать рабом этого грязного дикаря, этого гнусного чудовища, торговавшего человеческим мясом, возмутила меня до глубины души.
Сил нет описать конец этой отвратительной сцены. Я страдал так, что не сознавал того, что делается вокруг. Мне сказали, что торг окончен, что король дал за меня шесть негров, и капитан взамен согласился отдать ему меня. В доказательство того, что меня не обманывают, мне указали на капитана, который вышел из шлюпки и направился к хижине короля Динго под руку с ужасным дикарем, чтобы закрепить торг стаканом рома.
Я кричал, грозил, я даже богохульствовал; я был как в бреду, я не мог больше управлять ни своими словами, ни действиями. Мое будущее наводило на меня такой ужас, что я хотел броситься в реку. Какая страшная участь! Быть проданным такому человеку и без надежды получить когда-нибудь свободу! Это было ужасно, я чувствовал, что схожу с ума…
Крики, мои и слезы вызывали только смех негров, стоявших на берегу и издевавшихся надо мной на своем непонятном мне языке. Даже мои товарищи, сидевшие вместе со мной в лодке, и те мало заботились о моих чувствах.
Только бедный Бен сострадал мне, но что он мог сделать, чтобы спасти меня? Я понимал его бессилие — он был бы строго наказан, осмелься поднять голос в мою защиту.
Тем не менее я удивился его бездействию, считая, что он должен был выразить мне более живое сочувствие. Я был неправ: пока я обвинял Бена в равнодушии, он думал обо мне, стараясь отыскать способ, который мог бы помочь мне бежать.
Когда капитан и король Динго отошли, Бен придвинулся ко мне и сказал тихо на ухо, чтобы никто не услышал:
— Ничего не поделаешь, малыш! Он продал тебя за шесть негров. Ты не можешь помешать этому. Не сопротивляйся им, не то они свяжут тебя веревками. Сделай, напротив, вид, что ты доволен, но не спускай глаз с «Пандоры» и, когда она снимется с якоря, беги… Это легко будет сделать в темноте. Беги вдоль реки, бросайся в воду, когда ты будешь возле устья, и плыви прямо к судну. Я буду там, не бойся, я брошу тебе веревку. Что касается остального, не бойся, старый негодяй не рассердится, когда ты вернешься к нему, напротив! Я уверен, он будет доволен, что ты провел Динго-Бинго… Делай то, что я тебе говорю и… тс! Вон они возвращаются.
Несмотря на то что Бен говорил еле слышно и урывками, я все же прекрасно понял его и поспешил ответить, что последую его совету. В ту же минуту я увидел шкипера, спешившего к шлюпке.
Он был не один. Его сопровождал Динго, еле стоявший на ногах, а за ними шли шесть здоровенных негров, скованных попарно; их сопровождала толпа вооруженных людей.
Взамен этих трех пар капитан отдавал меня своему ужасному другу. Десять минут тому назад эти жертвы каприза своего властелина носили оружие и находились в его армии, готовые по первому приказу хватать в плен соседей и даже его подданных. Но счастье человеческое непостоянно, и товарищи, более счастливые, чем они, схватили их и вели к капитану.
Минуту спустя их без всяких церемоний столкнули в лодку, а меня высадили на берег, к моему новому хозяину. Шкипер, само собой разумеется, был очень удивлен, увидев, что я не оказываю ни малейшего сопротивления. Что касается короля Динго, то он был в восторге от моей кротости и вежливо повел меня в королевскую хижину, где настаивал, чтобы я выпил с ним стакан его лучшего рому.
Сквозь щели между пальмами, из которых состояли стены хижины, я увидел шлюпку, плывущую по реке к «Пандоре». Негров отправили к остальным невольникам, гребцы направились к задней части судна и водворили лодку на место.
Глава 23
Я помнил советы Бена и старался как можно любезнее отнестись к гостеприимному предложению короля Динго. Храбро проглотил я стакан рома и даже притворился, что мне чрезвычайно весело, хотя на самом деле мне было не до веселья. Мое поведение привело в восторг моего нового хозяина. Он был очень доволен такой удачной покупкой, несмотря на то, что капитан «Пандоры» стянул с него значительно большую плату, чем он предполагал дать: Динго хотел сначала дать за меня всего только одного негра, а кончилось тем, что он отдал шесть. Шесть взрослых человек за одного мальчика!
Что он хотел сделать со мной? Невольника, принадлежащего лично ему одному? Пажа, чтобы подавать ему тарелку, когда он захочет есть, ром, когда он захочет пить; который будет отгонять от него москитов во время его сна и забавлять его, когда он проснется? Или, быть может, он хотел дать мне более высокое положение? Быть может, он сделает меня своим секретарем или первым министром? Не вздумает ли он женить меня на одной из своих чернокожих дочерей? Возвести меня в княжеское достоинство?
Судя по тому, как он обращался со мной, я мог надеяться, что если я все время буду нравиться ему, мне легко будет здесь жить. Я слышал много рассказов о том, как белые становились любимцами негритянских принцев, которые делали их своими доверенными лицами. Не ждала ли и меня такая судьба, если я останусь у короля Динго?
Но дай мне этот ужасный человек даже самую великую должность в своем государстве, предложи мне разделить трон с самой красивой из его дочерей — и тогда я предпочел бы вернуться на «Пандору». Она не была, разумеется, райским садом, и, быть может, я бежал из огня, чтобы попасть в полымя. Но теперь со мной там не обращались уже так плохо, как вначале, и самое главное — я рассчитывал на обещание Бена, что мы недолго будем оставаться там.
Что касается короля Динго — он внушал мне отвращение, которого я никак не мог преодолеть. Мне казалось, что здесь мне угрожает страшная опасность, и я твердо решил: если мне не удастся попасть на «Пандору», я лучше убегу в лес, чем останусь в обществе этого гнусного дикаря. Да, несмотря на львов и мандрил, несмотря на все опасности, я предпочитал пустыню хижине этого чудовища, которому меня продали.
У меня был уже составлен план: я думал о конторе, о которой говорили крумены, когда докладывали о крейсере. Эта контора находилась на берегу моря в пятидесяти милях от реки, и я рассчитывал добраться до нее. Директором конторы был англичанин, и несмотря на то, что он был другом короля Динго, его компаньоном или соучастником, я надеялся, что он мне поможет — не может же он остаться безучастным к судьбе своего соотечественника. К тому же, туда должен вернуться крейсер и он возьмет меня под свою защиту. Да что я говорю: он заставит взлететь короля на воздух в наказание за его постыдную торговлю, если я только дам знать об этом капитану крейсера!.. Но это было невозможно. С рассветом крейсер должен пуститься в погоню за «Пандорой».
Пока я придумывал разные способы побега, ужасный Динго старался быть любезным, и этим только увеличивал отвращение, которое я питал к нему. Он осыпал меня знаками внимания и угощал ромом, который я не пил, а делал вид, что пью. Все время он говорил со мной на языке, которого я не понимал, хотя он немного знал английский, или вернее воровской язык, с которым я познакомился во время своего пребывания на «Пандоре». Но гнусный дикарь был так пьян, что даже подданные не понимали его.
Я с радостью следил за тем, как он пьянеет все сильнее и сильнее. Я испытал чувство истинного счастья, когда он встал и, сделав несколько неверных шагов, пошатнулся и рухнул на какую-то подстилку, заменявшую ему постель.
Спустя минуту Динго спал глубоким сном и храпел, как бык; никакая музыка не казалась мне до тех пор такой прекрасной, как этот храп.
В ту же минуту я услышал стук ручного ворота и лязг якорной цепи. Все люди короля Динго устремились на берег, желая посмотреть, как будет отправляться судно, очертания которого смутно вырисовывались в темноте.
Я подождал еще несколько минут. Я боялся бежать раньше времени, опасаясь, что меня поймают прежде, чем я доберусь до устья реки. Я знал, что судно будет спускаться по реке медленно, потому что из-за многочисленных поворотов реки нельзя распускать парус, и мне легко будет догнать его.
Никто из служителей короля не подозревал о моих намерениях, они считали, что я очень доволен своей судьбой, и я уверен, большинство из них завидовало моему счастью. Я был уже любимцем его величества, я мог претендовать на первые места в его королевстве. Можно ли было подумать, что я захочу бежать от такой блестящей перспективы? Такая мысль не могла прийти в голову черным вельможам, которыми я был окружен. Поэтому, когда король уснул, мне позволили идти, куда я хочу. Я воспользовался этим и направился к невольничьему бараку, чтобы оттуда пройти в лес, окружавший его. Повернув затем наискось к реке, я дошел до воды и пустился вперед так быстро, как только позволяли мне густые кусты.
Я шел вдоль реки в нескольких метрах от берега, время от времени приближаясь к воде, чтобы определить, опередила меня «Пандора» или нет. Я ясно видел судно даже сквозь деревья — вопреки желанию капитана небо было безоблачно, и луна лила ясный свет на поверхность реки.
Хотя «Пандора» двигалась медленно, я еле-еле поспевал за ней. Если бы дорога была более проходимой, это было бы легко, но тропинки никакой не было, я шел по следам, проложенным дикими зверями между стелющимся виноградом и лианами; большей частью мне приходилось ползти по земле или перелезать через препятствия. Все это замедляло мой путь, а мне необходимо было опередить судно, чтобы переплыть реку в ту минуту, когда оно станет приближаться к берегу моря.
Несколько раз я видел каких-то диких зверей, очертания которых смутно рисовались в темноте среди больших деревьев. Некоторые из них, показавшиеся мне гигантскими, убегали при моем приближении. Я боялся их, но этот страх был ничто в сравнении с ужасом, который охватил меня — мне показалось, что я слышу, как король Динго приказывает своим солдатам привести меня обратно, и я остановился, задыхаясь, чтобы прислушаться к звукам, долетавшим до моего слуха.
Через несколько секунд я понял, что Динго должен был стоять рядом со мной, чтобы я мог различить его голос. Лес был наполнен таким количеством разнообразных криков и голосов, что вряд ли существовали у кого-нибудь такие легкие, которые издали бы звук, способный заглушить их. Дрожа от страха, я удерживал дыхание и прислушивался, не раздается ли голос негра среди этого хора. Но я ничего не слышал, кроме пронзительного стрекотания кузнечиков и кобылок, кваканья лягушек, рыканья львов, разнообразных криков обезьян, воя шакалов и многих других, незнакомых мне животных.
Мне казалось самым вероятным, что меня будут искать на реке. Они должны будут броситься к лодкам, как только заметят мое отсутствие. Король, быть может, сам руководит преследованием. Я уже упомянул о том, что улизнул в тот момент, когда судно двинулось вперед; это должно было вселить предположение, что я догнал «Пандору», и король Динго наверняка поспешит, чтобы потребовать меня обратно. Удрученный этой мыслью, я с беспокойством смотрел на реку, когда видел ее, но не замечал ничего, что подтверждало бы мои опасения.
Но не только это беспокоило меня. В устье реки находились крумены, которые следили за движениями крейсера. Эти люди были преданы королю Динго, они могли заметить меня, когда я буду плыть, захватить и вернуть обратно моему гнусному хозяину. Они слышали, как была заключена сделка. Поэтому я должен был следить за лодкой круменов и избегать ее. Эта мысль заставила меня бросить взгляд на реку; мне показалось, что судно двигается гораздо быстрее, и, скользнув сквозь лианы, я ускорил свои шаги.
Наконец, я достиг того места, где река делала значительный изгиб. Я был возле устья, которое несколько дальше расширялось таким образом, что получалась бухта. Дальше мне не нужно было идти, иначе мне пришлось бы проплыть слишком большое расстояние, чтобы добраться до судна. К тому же, «Пандора» начинала уже распускать паруса, скоро ход ее настолько ускорится, что мне трудно будет ее догнать. Наступила критическая минута. Я снял обувь и почти всю одежду, спустился с берега и бросился в воду.
Глава 24
Судно находилось не напротив меня, но по его ходу можно было предположить, что мы встретимся с ним на самой середине реки. Бен советовал мне плыть к передней части судна, где он будет ждать меня с веревкой, а рядом будет находиться какой-нибудь матрос с другой веревкой, на тот случай, если я не успею схватиться за веревку Бена. Я был уверен, что кто-нибудь из экипажа непременно подхватит меня, но предпочтительнее всего, конечно, было плыть к передней части судна, потому что с этой стороны я не рисковал встретить ни капитана, ни боцмана, и явись даже сам король требовать моего возвращения, меня могли спрятать так хорошо, что капитан смело мог отрицать мое присутствие на борту.
Я был лучшим пловцом из всего экипажа, за исключением Бена. Я много плавал, еще когда жил в доме отца, и мне ничего не стоило проплыть целую милю, а потому сотня метров, которые мне приходилось преодолеть до встречи с судном, были для меня сущим пустяком. Несмотря на это, я все же сильно беспокоился. До сих пор я не думал об этом — волнение во время бегства, трудность пути среди лиан заставили меня забыть о предстоящих мне впереди опасностях. Только когда я бросился в реку, я вспомнил и несчастного Детчи и крокодилов.
Дрожь ужаса пробежала по моему телу, и я почувствовал, как кровь стынет у меня в жилах. Что, если в эту самую минуту я нахожусь вблизи одного из этих ужасных чудовищ? Не мелькнул ли в моих глазах, когда я спускался с берега, какой-то темный предмет метра два длины, который я принял за большой древесный ствол? Этот предмет зашевелился, когда я входил в воду; я подумал, что его несет течением… Но это было заблуждение, он двигался, как живое существо… Нет сомнения, это крокодил!
Как я не подумал об этом раньше? Кусок дерева не мог оставаться без движения на том месте, где я его заметил, течение унесло бы его. Я теперь был уверен, что это было отвратительное чудовище, питающееся человеческим мясом. Я обернулся и поднял голову. Луна освещала реку, и все видно было, как днем.
Боже милостивый! Я был прав… Это было не бревно, а громадный крокодил, я видел его чудовищное тело, спину, покрытую чешуей, длинную голову, открытую пасть… Я разбудил его, бросившись в воду, и теперь он хотел узнать причину шума.
Сомнения крокодила скоро рассеялись. Когда я снова поплыл, он забил хвостом по воде и бросился за мной. Тело его было в воде, но ужасная раскрытая пасть торчала над поверхностью реки.
Страх подгонял меня, и я быстро продвигался вперед. «Пандора» также приближалась ко мне и была всего метрах в сорока от меня. Крокодил находился дальше от меня, чем я от судна, но эти чудовищные амфибии плавают быстрее человека. Я знал это и был уверен, что крокодил настигнет меня…
Какой ужас! Я плыл и кричал… Чей-то голос ответил мне… Я заметил очертания каких-то фигур, бежавших к бушприту, и услышал громкий голос Бена, который успокаивал меня и указывал направление, по которому я должен был плыть.
Я находился у самого бушприта, но не видел веревку… Ее не было… О Боже! Что со мной будет! Я снова приподнял голову, чтобы взглянуть в сторону своего врага. Черная голова крокодила виднелась не более чем в четырех метрах от меня. Я ясно различал его неправильные зубы, короткие сильные лапы, которые с необыкновенной быстротой гребли воду.
Еще минуту, и я почувствую его острые зубы; он потащит меня на дно реки и съест, как бедного Детчи. Но в ту минуту, когда я уже считал себя погибшим, сильная рука схватила меня за пояс и подняла вверх. Крокодил прыгнул из воды, стараясь схватить меня, но тут же грузно шлепнулся обратно, не задев. Еще несколько минут он бил хвостом по воде, но видя, что жертва ускользнула от него, куда-то исчез, проплыв мимо «Пандоры».
Я не сразу понял, кому и чему обязан своим спасением. Ужас до того сковал меня, что я сообразил все лишь после того, как попал на борт и увидел возле себя Бена Браса. И на этот раз он спас меня. Добежав до края бушприта, Бен скользнул вниз по мату, и, спустившись к реке на веревке, связанной петлей, схватил меня в тот момент, когда я приподнял голову, чтобы взглянуть на крокодила.
Отделался я во всяком случае счастливо и дал себе с тех пор слово никогда по собственной воле не плавать по рекам Африки.
Шкипер знал, вероятно, что я вернулся на борт; матросы подняли такой шум, когда увидели, что крокодил преследует меня, что он не мог не узнать причины этого. Я тем не менее занял свое место на койке, и ничто не показывало, чтобы меня хотели отправить обратно. Дело в том, что капитан, как и думал Бен Брас, ничего не имел против того, что я надул короля Динго, а так как он нуждался в моих услугах, то ему и в голову не приходило отсылать меня. Он исполнил все условия торга, совесть его была спокойна, и он был очень доволен, что я вернулся.
Но пироги короля могли нагнать нас, меня могли потребовать обратно, и шкипер не преминул бы отдать меня. Поэтому я успокоился только тогда, когда судно вышло из реки и, распустив паруса, направилось к открытому морю. С какой тревогой смотрел я на реку, пока мы не вышли из нее! Не крокодил пугал меня, я с ужасом думал о том, что вот-вот покажется пирога с двойным рядом гребцов, а в ней я увижу Динго-Бинго.
Мысль попасть снова в руки этого гнусного дикаря приводила меня в отчаяние. Я знал, что он заставит меня дорого поплатиться за бегство и за то, что я обманул его, тогда как он так благосклонно относился ко мне. Я вздохнул с облегчением, когда мы прошли мимо шлюпки круменов, продолжавших следить за крейсером. Когда же судно наше закачалось на волнах океана, вся тревога моя улетучилась, и спустя минуту я забыл короля Динго и его ужасных телохранителей, тем более что новое обстоятельство поглотило все мое внимание.
Выйдя из устья реки, «Пандора» вся, до самых верхушек мачт, предстала перед крейсером, который в свою очередь был также виден с нее, потому что небо было чистое и луна светила ярко. Матросы крейсера, однако, не замечали, по-видимому, невольничьего судна; быть может, очертания «Пандоры» терялись на фоне деревьев, быть может, часовой не был внимателен, но прошло несколько минут, а мы все еще не замечали никакого движения на английском судне. Но вслед за этим враг проснулся… Послышался барабанный бой, и паруса крейсера распустились с такой быстротой, с какой это всегда делается на военных судах благодаря большому количеству матросов.
Несмотря на то, что наше судно своей смелостью и неожиданным появлением имело преимущество над крейсером, оно было далеко не в благоприятных условиях. После того как час или два тому назад крейсер стал на якорь, ветер несколько изменился и дул теперь не с берега, а параллельно ему. Капитан «Пандоры» сразу заметил эту роковую для него перемену. Дуй ветер по-прежнему с востока, он мог бы с уверенностью сказать, что уйдет от крейсера, но теперь все шансы были против него. Я стоял в это время вблизи шкипера и боцмана, которые изрыгали самые страшные проклятия на своего врага. Я прислушивался с большим интересом к выражениям их тревоги и жадно следил за всеми движениями крейсера, но волнение наше было разного рода. Пока они проклинали крейсер, я в душе молился, чтобы «Пандора» была взята в плен. Даже мысль о возможности погибнуть под выстрелами англичан не умаляла моего желания. Крики негров, которые задыхались в пространстве между деками, мольбы их, смешанные с угрозами, доказывали, какое ужасное существование должны они будут переносить в течение недель, а может быть, и месяцев. Как хотел я, чтобы нас взяли в плен!
Глава 25
Надежда моя увеличивалась пропорционально росту беспокойства капитана. Крейсер распустил паруса и уже несся по волнам. Матросы нашего судна думали, что он оставил свой якорь на дне, а канат был просто перерублен. Наш боцман уговаривал капитана принять какие-то отчаянные меры.
— Мы не можем пройти мимо него, — говорил он, — нечего даже и пытаться. Надо воспользоваться приливом. Черт… это наш единственный шанс. Да и какая опасность нам грозит?
— Что ж, попробуем, — ответил шкипер. — Нас захватят, конечно, если мы не сделаем этого и… черт!.. Я готов разбиться о скалы, чем попасть в руки этих чертей…
Этим закончился разговор, и боцман отправился к матросам, чтобы дать им необходимые указания для исполнения задуманного им плана. Я не понял, что он сказал капитану, но заметил, что «Пандора» меняет направление и поворачивает нос к крейсеру. Можно было подумать, что она хочет пойти навстречу военному судну или нарочно подставляет себя под его выстрелы. Этот маневр, надо полагать, удивил экипаж крейсера, как удивил и наших матросов. А между тем намерение боцмана было более разумно, чем это казалось с первого взгляда. «Пандора» прошла всего три кабельтова по новому направлению, а затем повернула так, что ветер дул ей поперек борта, и пустилась к берегу. Большинство матросов не понимало этого маневра, но по привычке повиновалось приказаниям. Что касается экипажа крейсера, то он мог предполагать, что «Пандора», поняв, что уйти в море невозможно, решила вернуться в реку или пристать к берегу, чтобы матросы затем на шлюпках пробрались вверх по реке.
Но это предположение было неверно. Маневр боцмана и заключался именно в том, чтобы обмануть врага. Капитан и боцман не отличались гуманностью, но они были ловкими моряками, а знание африканского берега давало им преимущество перед офицерами крейсера. Как только на военном судне заметили, что «Пандора» направляется к устью реки, они также изменили свое направление и погнались за ней в надежде захватить ее немедленно, что нетрудно было сделать на реке. На крейсере, видимо, боялись, что шкипер или пустит «Пандору» ко дну, или сожжет ее.
Погоня длилась около десяти минут. «Пандора» была уже вблизи берега и собиралась, по-видимому, войти в устье реки, тогда как крейсер, находившийся теперь в восьмистах метрах от кормы невольничьего судна, шел параллельно песчаной мели у самого устья. В эту минуту «Пандора» повернулась таким образом, что корма ее находилась против ветра, и очутилась прямо против мели. Экипаж встревожился на мгновение… Сейчас «Пандора» или будет свободна, или погибнет, или ее захватят, или она помчится к берегам Бразилии. Преступление на этот раз восторжествовало. «Пандора» довольно глубоко врезалась в песок и моментально очутилась по ту сторону мели. Опасность миновала, и бандиты огласили воздух громкими криками «ура».
Крейсер понял, что погоню продолжать бесполезно. Он с трудом двигался против ветра и наступившего прилива, а «Пандора» в это время неслась уже дальше со скоростью двенадцати узлов в час. Крейсер послал ей вдогонку несколько ядер, но без результата.
С восходом солнца крейсер совсем исчез из виду, а «Пандора» на всех парусах шла по направлению к Америке. Ничто теперь не мешало успеху нашего путешествия. Правда, нас мог захватить еще корабль английской эскадры, крейсирующий у берегов Южной Америки, но вероятнее всего было, что мы без всяких препятствий войдем в какой-нибудь из маленьких портов Бразилии или Кубы, а там капитану легко будет отделаться от своего груза.
Пятьсот несчастных увеличат собой число невольников, зато капитан разбогатеет, и бандиты, служившие ему матросами, получат также свою долю добычи, которая пойдет на пьянство и разгул. Разбогатевший капитан займет место среди самых богатых негоциантов, и кому будет тогда дело до того, каким путем приобрел он себе богатство и запачканы ли руки его кровью?
Вернемся теперь к матросам невольничьего судна. Велика была их радость, когда они убедились, что крейсер оставил свою погоню. Дальнейшие обязанности их не представляли никакого затруднения; самое легкое из всех путешествий — это переезд из Гвинейского залива до берегов Бразилии. Ветры здесь почти всегда благоприятные, и редко приходится переводить паруса; судно спокойно скользит по волнам и как бы следует по течению реки, а не прорезает воды океана. Но несмотря на всю прелесть такого путешествия, мое сердце разрывалось при виде агонии несчастных негров, заключенных между деками.
Бесполезно описывать пытки живого груза, о них говорилось уже много раз. Скажу только, что действительность превосходит все эти описания. Несчастные, которых мы везли в Америку, питались хуже свиней. Скученные в слишком узком для них пространстве, они могли садиться только по очереди, дышали зараженным воздухом, лишены были самого необходимого, и если им позволяли в пути выходить на палубу, по четыре человека за один раз, то лишь на несколько минут. Результаты такого режима скоро сказались. Уже через несколько дней после посадки на судно бедные жертвы были неузнаваемы. Они похудели, щеки их впали, глаза ввалились, лица приняли ужасное выражение, так как их черный цвет потерял свой блеск, и кожа стала беловатой и как бы посыпанной мукой. Что касается членов экипажа, то они не потеряли ни сна, ни аппетита, и веселье их не стало менее шумным. Негры для них были стадом, которое продают и покупают. Они не думали о страданиях этих несчастных, и на стоны их отвечали громкими взрывами хохота.
Глава 26
Ничто не нарушало однообразия нашего путешествия, и в течение двух недель мы не встретили ни единого паруса, зато на судне у нас происходило много разных событий, об ужасающих подробностях которых я не хочу рассказывать. Но нет, есть одно событие, о котором я расскажу, несмотря на жестокие страдания, поднимающиеся в моей душе при этом воспоминании.
Когда я бросаю взгляд назад и припоминаю события, случившиеся со мной в течение всей моей жизни, я нахожу, что самое ужасное из них — то, о котором я хочу рассказать. Впечатление от этого было таким сильным и глубоким, что я долго не мог думать ни о чем другом. И теперь еще, по прошествии стольких лет, все подробности с поразительной живостью встают перед моими глазами.
Прошло две недели с тех пор, как мы оставили берега Африки. Все время дул попутный ветер, и, казалось, все предсказывало быстрый и счастливый переход. Я радовался быстроте нашего плавания, потому что оно ускоряло мое освобождение. Каждый день казался мне целой неделей; мучения несчастных жертв удлиняли мне минуты, и я стремился скорее приехать в Бразилию, где должна была кончиться их пытка и моя. Смертность среди невольников становилась ужасающей, шум падающих в море трупов, куда их бросали без всяких церемоний, повторялся так же часто, как звон колокола, возвещавшего часы дня. Ни к шее, ни к ногам трупов не привязывали ни ядер, ни камней, их бросали прямо в воду, и они плавали на поверхности, раскачиваясь на волнах, поднятых «Пандорой». Но это ужасное зрелище недолго мелькало перед нашими взорами, труп скоро исчезал среди пены, а на том месте, где несколько минут тому назад виднелось человеческое тело, показывались только изуродованные конечности да плавательное перо акулы, быстро мелькающее над водой.
Как ни кажется это невероятным, но зрелище это очень забавляло матросов, однако повторяясь слишком часто, оно мало-помалу потеряло всякий интерес и перестало занимать их. Да и сам я привыкал постепенно к страданиям и не так уж чувствительно относился к ним, как вначале.
Между акулами, следовавшими за «Пандорой», было несколько, которые плыли за нами от самих берегов Африки. Я узнавал их по некоторым признакам. Так, некоторые из них были покрыты шрамами от прежних ран, полученных во время драки с другими акулами. Число этих морских чудовищ увеличивалось с каждым днем, и теперь их было значительно больше, чем в первые дни нашего отъезда из Гвинеи. Они плавали целыми десятками вокруг «Пандоры», то мелькая мимо кормы, то следуя за нами. Иногда они плыли рядом и смотрели на нас жадными глазами, как голодные собаки, ожидающие, что им бросят кость.
Не забывайте, что мы находились в открытом море, в нескольких сотнях миль от ближайшего берега. В одно прекрасное утро я вышел на палубу позже обычного. Меня всегда будил очень рано сам боцман, угостив каким-нибудь ругательством, а то и пинком. Но в это утро меня почему-то никто не разбудил, и я, воспользовавшись этим случаем, проспал дольше обычного.
Солнце светило вовсю; когда я проснулся, оно заливало своими лучами всю переднюю часть палубы, темную обычно при моем пробуждении. Свет, поразивший мои глаза, припухшие от сна, напомнил, что мне давно уже пора приниматься за работу. Моей первой мыслью было, что меня ждет изрядное количество ударов, как только боцман покажется на палубе. Скрываться от него в таких случаях было бесполезно, рано или поздно я получил бы ту же порцию, а потому лучше было не откладывать и отделаться поскорее. Порешив на этом, я отправился вниз, надел башмаки и куртку, единственное из одежды, что я снимал, когда ложился спать, и, призвав на помощь всю свою энергию, необходимую мне, чтобы перенести ожидающее меня наказание, я полез по лестнице и вышел на палубу.
Мне показалось, что у нас не все в порядке и что на судне присутствует какая-то тревога. Еще когда я только проснулся, я был удивлен следующим обстоятельством. Недалеко от моего гамака стояли два матроса, которые говорили друг с другом на непонятном мне языке. Я был поражен мрачным выражением их лиц, сверкающими глазами, выразительными жестами, которые заставили меня предположить, что они говорят о чем-то серьезном, о каком-нибудь несчастье, угрожающем «Пандоре».
«Может быть, — подумал я с радостью, — они увидели парус, крейсер с английским флагом? Может быть, он еще преследует наше судно?»
Я подошел к матросам и собрался расспросить их, в чем дело, но это были люди угрюмые, ни разу не сказавшие мне ласкового слова, и я ничего не осмелился спросить у них. Придя на палубу, я прежде всего взглянул на море, а затем на небо. На горизонте не было ни единого паруса, на небе — ни единого облачка. Следовательно, тревога, поразившая меня, вызвана была не появлением судна и не приближением бури. Шкипер и боцман стояли на палубе и ругались друг с другом, а матросы тем временем ходили взад и вперед по палубе, спускались в люки и тотчас же появлялись назад бледные, как привидения, и со всеми признаками самого ужасного отчаяния.
Я заметил на палубе несколько бочек, поднятых из трюма. Люди, собравшиеся вокруг них, раскупоривали их, с серьезным видом рассматривали содержимое и пробовали его. Каждый из них был, по-видимому, глубоко этим заинтересован. Очевидно, произошло что-то очень серьезное, но я все еще не догадывался, что именно. Желая узнать причину волнения, охватившего экипаж «Пандоры», я отправился на поиски Бена, но никак не мог его найти. Он был, вероятно, в трюме, где стояли бочки. Тогда я направился к большому люку, чтобы спуститься к Бену. Для этого мне пришлось пройти мимо боцмана, который видел меня прекрасно, но не обратил на меня ни малейшего внимания. Что же случилось, что он забыл даже о наказании, ожидавшем меня? Надо полагать, что-нибудь очень важное, какая-нибудь страшная опасность.
Я заглянул через большой люк и увидел Бена в глубине трюма, посреди больших бочек, которые он переставлял с места на место, внимательно осматривая каждую из них. С ним было несколько матросов. Одни стояли и смотрели, что он делает, другие помогали ему, но все были явно удручены, и страшная тревога читалась в их глазах. Я не в силах был дольше выдержать эту неизвестность. Выждав мгновение, когда боцман отвернулся в другую сторону, я скользнул в люк и спустился вниз. Добравшись до Бена, я схватил его за рукав, чтобы привлечь к себе его внимание.
— Что случилось? — спросил я.
— Плохи наши дела, Вилли! Плохи!
— Да в чем же дело?
— Запас воды истощился.
Глава 27
Впечатление, полученное мной при этих словах, было бы гораздо сильнее, будь я более опытным моряком, и если только я обратил на них внимание, то лишь потому, что меня поразил беспокойный вид окружающих. Недолго, однако, пришлось мне ждать, чтобы понять весь ужас этих слов: «запас воды истощился!»
Вы также, быть может, не понимаете всего значения этих слов, таких простых, по-видимому. Слова же эти означали, что на «Пандоре» нет больше пресной воды, что бочки пусты, а мы находимся среди океана, что нам нужно несколько недель, чтобы добраться до берега, что при жгучих лучах тропического солнца мы не выдержим даже недели и все умрем от жажды. Итак, мы были обречены на смерть: белые и черные, тираны и жертвы, невинные и виновные, всех ожидала одна и та же участь, одни и те же мучения.
Вот что значили слова Бена, и теперь я понял тревогу и беспокойство, царившие на «Пандоре». Я также принял деятельное участие в осмотре бочек и ждал результатов с такой же тревогой, как и мои товарищи. Не все бочки были пустые, большинство их было наполнено, вопрос был только в том, чем наполнены? Была ли это пресная вода? Нет, вода была морская, соленая, которую невозможно пить. Это ужасное открытие легко было объяснить. Я говорил уже, что бочки, наполненные морской водой, служили балластом во время первого путешествия «Пандоры». По приезде в Африку воду эту должны были вылить, а бочки наполнить речной водой, но, к несчастью, это не было исполнено как следует. Капитан и боцман не следили за этой операцией, они занимались только торговлей и пьянствовали с королем Динго, а матросы, которым было поручено это дело, были все время так же пьяны и только четвертую часть бочек наполнили пресной водой, а три четверти оставили по-прежнему с морской. Теперь капитан и боцман кричали, будто им было доложено, что бочки наполнены пресной водой, и даже указывали лиц, сообщивших им об этом, однако те упорно утверждали, что ничего подобного не говорили. Обвинения и опровержения сыпались друг за другом, смешиваясь с целым потоком ругательств и проклятий, изрыгаемых капитаном и его помощником.
Главная причина такого преступного недосмотра заключалась в появлении военного судна, и весь экипаж это прекрасно знал. Не будь крейсера, матросы, несмотря на то, что были пьяны, не бросили бы своего дела, и только необходимость бежать и скорее кончить погрузку заставила их забыть о бочках. Виновником всего был, разумеется, капитан, не давший матросам времени покончить с запасом воды, но он не мог поступить иначе, не рискуя потерять груз и судно. Само собой разумеется, что, осмотрев вовремя бочки, он предотвратил бы несчастье, так как мог еще тогда вернуться к берегу и запастись необходимым количеством воды, или же, если это невозможно было сделать, уменьшить потребление драгоценной жидкости.
Я с тревогой ждал результатов осмотра, производившегося в трюме. Наконец, осмотр бочек был кончен, и Бен отправился отдать отчет капитану в присутствии всего экипажа. Слова его были похожи на удар грома: на борту оказалось всего только две бочки с пресной водой, наполненные до половины.
Да, обе эти полубочки вмещали в себе сто галлонов — четыреста пятьдесят бутылок воды, которых должно было хватить на несколько недель, чтобы удовлетворить жажду сорока матросов и пятисот негров, тогда как количества этого могло хватить с трудом только на один день. Вот почему слова Бена Браса произвели такое потрясающее впечатление на матросов. До сих пор, несмотря на все свое беспокойство, они еще надеялись, что найдется несколько бочек воды, но теперь они знали правду, и никаких иллюзий, следовательно, нельзя было больше допустить.
Горе этих нечастных, обреченных на смерть, вылилось в бешеном взрыве гнева, не пощадившем ни капитана, ни боцмана. Дисциплина была нарушена; оскорбления, угрозы, проклятья сыпались без различия чина и звания. Но взрыв гнева утих мало-помалу, и все эти люди, только что обвинявшие друг друга и проклинавшие своих начальников, стали вдруг снисходительнее один к другому. Они почувствовали необходимость сплотиться перед общей опасностью, и каждый по очереди предложил меры для отвращения опасности.
Первая мера заключалась в том, чтобы тратить воду очень бережливо, для чего следовало определить минимальное ее количество, необходимое для каждого, момент, с которого начнется раздача и сколько раз она должна производиться до высадки на берег. Все были одинаково заинтересованы в разрешении этой задачи: если порции, назначенные для ежедневной раздачи, превзойдут возможную для нас меру, то драгоценная жидкость истощится раньше, чем мы будем в состоянии ее пополнить, и тогда экипаж опять-таки погибнет. На сколько времени могло хватить четыреста пятьдесят бутылок воды? Или, вернее, какое количество воды можно было раздавать каждому из нас ежедневно? Вопросы, которые было нелегко разрешить! Экипаж состоял из сорока человек, включая капитана и боцмана, которые с этого времени должны были разделять лишения матросов.
Итак, четыреста пятьдесят бутылок надо было разделить на сорок. Это составляло немногим более одиннадцати бутылок на человека. Следовательно, учитывая почти двадцать дней пути, приходилось на каждого полбутылки в день. С этим можно было выжить, и положение было не так ужасно, как думали сначала. Меньше чем за три недели мы должны были дойти до Америки. Предположив, что случится затишье или ветер будет встречный, можно уменьшить эту порцию наполовину. Достаточно будет и четверти бутылки, чтобы не умереть от жажды. Наконец, мы могли встретить какое-нибудь судно, и оно наверняка не отказалось бы поделиться с нами частью своей воды, только бы это было не военное судно. В том случае, если встретившееся судно откажется дать несколько бочек воды, матросы «Пандоры» решили взять их силой. Капитан и матросы были готовы идти на все, и теперь недоставало только малого, чтобы невольничье судно превратилось в разбойничье.
Глава 28
Но среди всех этих переговоров ни единого слова не было упомянуто относительно пятисот несчастных, томившихся между деками. Я уверен, что никто из матросов даже не вспомнил о них, кроме Бена Браса, меня и, вероятно, капитана «Пандоры». Но шкипером в этом случае руководили не принципы гуманности — он думал только о барышах и убытках, и его тревожили не страдания бедных африканцев, а потеря громадного капитала. Как бы там ни было, но о неграх никто не думал, их точно не существовало. На их долю не рассчитано было ни единой капли воды, никому даже и мысли о них не пришло в голову, и тот, кто вздумал бы напомнить об этом, был бы всеми поднят на смех.
Только в тот момент, когда все было уже решено, нашелся один матрос, напомнивший об этом. Он сделал это не для того, чтобы просить за них, он вспомнил это совершенно случайно и крикнул товарищам с оттенком насмешки в голосе:
— Гром и молния! А что мы сделаем с неграми?
— И то правда, что мы сделаем с ними? — раздались с разных сторон хриплые голоса. — Воды для них нет, это уж вполне достоверно.
— Чего проще, — ответил другой с чудовищным хладнокровием, — бросим их за борт.
— Тысячи громов! — воскликнул какой-то свирепый немец, восхищенный, по-видимому, таким планом. — Трудно выдумать план лучше, судно наше сразу отделается от этого отродья.
— Per Dio! — ответил ему неаполитанец. — Сколько утопленников и какое волнение будет возле la Pandora! Corpo di Bacco!
Не могу описать вам свои чувства во время этого разговора. Все эти чудовищные вещи матросы говорили как бы шутя; это кажется невероятным, а между тем это так. Я знал, что они способны на все. Я ждал каждую минуту, что проект этот будет принят, и пятьсот негров полетят в море, как ненужный балласт, мешающий безопасности судна.
Но бандиты не пришли ни к какому соглашению. Долго разбирался этот вопрос в полусерьезном, полушутливом тоне, что придавало какой-то адский оттенок всем этим дебатам. Капитан всеми силами противился этому предложению и, несмотря на чувство строптивости, охватившее матросов, он сохранил достаточно власти над ними, чтобы поддержать свое мнение. Тем не менее ему все же пришлось снизойти до того, чтобы спорить с ними. «Негры, — говорил капитан, — погибнут и без того, это вопрос нескольких дней; какое дело матросам до того, от чего умрут черные: от жажды или утонут? Их можно и мертвыми бросать в море. Почему не потерпеть немного? Некоторые могут перенести лишение воды». Он знал негров, которые оставались без воды в течение значительного промежутка времени; в этом отношении они похожи на верблюдов и страусов. Шкипер не сомневался, что погибнут многие, но все же были шансы на то, что некоторое количество выдержит жажду до прибытия в порт. «К тому же, может встретиться судно, — говорил оратор, — и как бы худо им ни было, глоток свежей воды быстро восстановит их силы».
Продолжая в том же духе, капитан старался доказать своим слушателям, в каком положении они будут, если «Пандора» прибудет в Америку без негров: ни денег, ничего! Тогда как если из пяти черных спасется хотя бы один, то все же останется достаточно, чтобы получить кругленькую сумму, а уж он обещает всех наградить как следует. Бросать негров в море, нет, это абсурд! Они никому не мешают, они сидят за решетками и ничего худого не могут сделать.
Бедные создания, бывшие предметом этих споров, не знали, к своему счастью, об угрожавшей им участи. Некоторые из них стояли у решеток, прижав к ним свои исхудалые лица. Они, по-видимому, заметили, что на борту происходит что-то необычное, но, не зная судна и не понимая языка своих тиранов, они не могли догадаться о том, что им готовится.
Увы, они скоро должны были узнать это. Печальное открытие, сделанное сегодня, лишило их обычной порции воды, которая раздавалась им каждое утро. Они любили больше пить, чем есть, и отсутствие воды было для них тяжелее, нежели отсутствие пищи. Когда еще я выходил из трюма, я слышал уже голоса, молившие дать им воды; одни из них просили на родном своем языке, другие, надеясь, что их лучше поймут, пользовались португальским словом и то и дело повторяли:
— Agoa! Agoa!
Бедные жертвы! Дрожь пробирала меня, когда я думал об ужасной агонии, предстоящей им. Я знал, что такое жажда, потому что сам испытал ее, сидя на верхушке драконового дерева! Но что значили мои страдания в сравнении с ужасной пыткой, которая ждала несчастных и должна была длиться столько дней!
По мере того как проходил день, крики негров слышались чаще, и тон их становился более страдальческим. Некоторые, удивляясь тому, что им не дают обычной порции воды, вообразили, что это происходит от небрежности и каприза их тюремщиков. С бешенством хватались они за решетки, стараясь уничтожить препятствие, мешавшее их мести. Другие скрежетали зубами, кусали губы, покрытые пеной, били себя в грудь и издавали громкий воинственный крик, далеко разносившийся по волнам океана.
Но матросы «Пандоры» не слышали, по-видимому, этих криков и не обращали внимания ни на бешенство одних, ни на просьбы других. Тем не менее число часовых было увеличено, так как капитан опасался, что черные проложат себе путь и выйдут на палубу. Горе белым, если бы только это удалось им!
Тут неожиданно случилось новое несчастье, которое увеличило страдания пленников и опасения матросов. Ветер стих и началось полное затишье; палящий жар, не освежаемый ветром, становился невыносимым. Повсюду таяла смола, вытекающая из досок и канатов; ни к чему нельзя было притронуться, все кругом было раскалено, как огонь. Мы находились в той части океана, которую испанцы называют «лошадиной широтой», потому что в те времена, когда они впервые посещали Новый Свет, их суда часто попадали в зону затишья, из-за которого лошади гибли сотнями от жары и их выбрасывали в море.
При тех обстоятельствах, в которых находилась «Пандора», ничего не могло быть хуже этого затишья. Матросы гораздо меньше боялись бури; будь даже встречный ветер, они все же продвигались бы вперед, но при штиле они оставались на месте, теряли драгоценное время, что при недостатке воды было еще хуже. Больше всех встревожены были старые, бывалые матросы. Много раз на своем веку переплывали они экватор и избороздили тропический пояс во всех направлениях, а потому по цвету неба каждый из них мог с достоверностью сказать, что штиль продолжится неделю, две, а может быть, и больше. Они по собственному опыту знали, что в жарком поясе штиль может длиться целый месяц, а нам достаточно было недели, чтобы погибнуть.
В момент заката солнце казалось огненным диском; на небе не видно было ни единого облачка, на поверхности воды ни малейшей зыби. В последний раз освещало солнце нашу «Пандору». На следующий день, когда появились первые проблески рассвета, от прекрасного судна остались одни только обломки, плавающие на поверхности океана.
Глава 29
В предыдущей главе я несколько упредил события, о которых мне еще предстоит рассказать, и я начинаю снова свое повествование с того момента, когда негры с угрозами требовали обычной порции воды. Наступила ночь, но на «Пандоре» не было тишины; хриплые голоса несчастных наполняли воздух и разносились далеко по неподвижной поверхности моря. Негров могли держать в клетке, но никакая сила в мире не могла удержать их от выражения своего гнева.
Матросы посчитали, наконец, что крики эти невыносимы, и те из них, которые предлагали отделаться от негров, повторили снова свое предложение. Штиль, наступивший так внезапно, опровергал все аргументы капитана. Нет возможности предположить, чтобы негры дотянут до высадки на берег, они все задохнутся через каких-нибудь два дня. Почему же не покончить со всем этим разом? Жизнь каждого и без того в опасности, так зачем же беспокоиться о тех, которые и без того должны умереть? Не лучше ли жить спокойно эти последние дни, чем слушать оглушительные крики этих скотов?
— Послушать их, так с ума сойдешь, — говорил сторонник уничтожения негров.
— Из одной жалости к ним, — предлагал другой, — следует прекратить эту пытку. Умрут — и страдать перестанут.
— Да и какая цена им? — спрашивал третий, думая о материальной стороне. — Что стоит весь груз? Безделицу. Понятно, на берегу Америки дело будет иное; но деньги не получены, значит не потеряны. Капитан теряет только ту сумму, которую он выдал королю Динго, ему легко будет восполнить эту потерю. Раз будет вода, кто помешает ему вернуться в Африку и запастись там новым грузом? Его величество поверит и даст в долг капитану (невероятность такого факта заставила слушателей рассмеяться), но наш шкипер не может быть доведен до такой крайности, у него есть друзья в Бразилии, даже в Портсмуте, и они все охотно дадут ему взаймы.
Речь эта перевесила весы в пользу предложенного ранее проекта и, несмотря на мольбы и возражения капитана и одного или двух матросов, решено было негров утопить. Оставалось придумать лучший способ для исполнения этого проекта. После нескольких минут спора решено было снять один из брусков решетки так, чтобы за один раз мог бы пройти один только человек. Каждая жертва должна была быть выведена таким образом, чтобы этого не заметили другие, и затем брошена в море, откуда она не могла уже вернуться назад. Правда, большинство этих несчастных были хорошими пловцами, но «Пандору» окружали прожорливые акулы, которые немедленно пожрали бы их.
Сердце мое разрывалось на части, когда я слушал все эти подробности, которые разбирались этими чудовищами с невероятным хладнокровием и против которых я не мог возразить. Скажи я хоть одно слово в пользу этих несчастных, я был бы первой жертвой, брошенной на съедение акулам. Поэтому я должен был молчать. Да, впрочем, будь даже в моей власти помешать этому, я, право, не знаю, сделал ли бы я это. Так или иначе, но негры должны были погибнуть, и смерть, которую им готовили их палачи, была не так ужасна, как муки жажды.
Я не имел времени долго останавливаться на этих рассуждениях, потому что матросы направились уже к проходу в люк, чтобы приступить к исполнению своего плана. Впереди шел плотник с топором в руках. Уже один из брусков решетки был подрублен, когда с задней части судна раздались крики, заставившие плотника уронить топор. Лица присутствующих исказились от ужаса: все прислушивались с трепетом. Спустя минуту крики опять возобновились и перекрыли голоса негров.
— Пожар! Пожар! — кричал кто-то.
Матросы поспешили к задней части судна, я бросился туда вслед за ними. На задней палубе мы нашли капитана и боцмана, которые били палками негра по имени Снежный Ком — они, по их выражению, заставляли его громко петь. Спина несчастного повара служила явным доказательством того пыла, с которым они изливали на нем свою жажду мести. Что касается криков, испугавших матросов, то вот что оказалось. Негр спустился в камеру-склад, чтобы нацедить водки из большой бочки. В эту камеру можно было пройти только через маленький люк, сделанный в полу большой каюты, а так как там было совершенно темно, то негр всегда отправлялся туда с зажженной свечкой.
Никто собственно не знал в точности, что сделал этот глупец, потому что со времени печального открытия по поводу воды Снежный Ком, как большинство матросов, сам капитан и боцман, был также совершенно пьян. Надо полагать, что бочка с водкой, стоявшая в камере, не была еще начата. Обычно водку негр набирал черпаком. Свеча, которую он держал в другой руке, выскользнула и упала в отверстие, куда он хотел просунуть и черпак, вследствие чего водка воспламенилась.
Из боязни жестокого наказания негр решил ничего не говорить. Он поспешил на палубу, захватил ведро с водой и, вернувшись в камеру, вылил воду в бочку, полагая, что сможет погасить огонь. Но, увы, это не помогло. Несколько раз бегал негр из камеры на палубу и обратно, никому не говоря о том, что сделал. В конце концов на это обратил внимание боцман. Пожар был открыт и негр был вынужден во всем сознаться.
Вот тогда-то и послышался громкий крик «пожар!», остановивший матросов в тот момент, когда они хотели топить несчастных негров. Капитан и боцман полностью переключились на повара, и матросы подумали, что тревога была ложной — кому же могло прийти в голову, что вместо того чтобы гасить пожар, они будут терять время на то, чтобы наказывать его виновника! Наказание негра успокоило матросов; но они ошиблись, как и всякий бы на их месте ошибся. Обезумевшие от пьянства и бешенства, капитан и боцман ничего решительно не сделали, чтобы остановить пожар, а вместо этого изливали свой гнев на голову и плечи несчастного негра, который среди болезненных воплей продолжал кричать по-прежнему:
— Пожар, пожар!
— Да где же он? — спрашивали все друг друга с возрастающим беспокойством.
Когда же, наконец, выяснилось место пожара, все бросились к камере-складу, надеясь, что огонь уже потушен, и желая убедиться в этом своими собственными глазами, потому что из всех бедствий на борту нет ничего ужаснее пожара.
Матросы скоро узнали, в чем дело. Достаточно было спуститься вниз, чтобы рассеять неизвестность. Густой дым вырывался из люка и наполнял всю камеру. Последние сомнения, если только они еще существовали, окончательно рассеялись. Внезапно раздался взрыв, и в ту же минуту целый столб пара, смешанного с голубоватым пламенем, стремительно вырвался наружу.
Глава 30
Не надо было долго думать, чтобы объяснить причину взрыва: спиртные пары, расширившиеся от жара, разорвали бочку, обитую железными обручами. Воспламененная жидкость разлилась по полу и подожгла все горючие материалы, находившиеся в камере: бочки с растительным и коровьим маслом, с сухарями, ветчиной и салом, бочку со смолой, которая стояла рядом с водкой, главным источником всего зла. К счастью, весь порох, составлявший часть первого груза, был отдан в уплату королю Динго. По крайней мере, так предполагали, это позволило матросам действовать с большим хладнокровием, чем они действовали бы, знай только, что в камере оставалась еще одна бочка с порохом.
Никто, само собой разумеется, не оставался безучастным к пожару на «Пандоре». Все спешили погасить огонь. Матросы притащили ведра с водой на палубу и, образовав живую цепь, стали по очереди лить воду в люк. Но это не произвело никакого действия на пламя, которое становилось все более и более ярким, все более и более грозным. Вниз спуститься никто, однако, не осмеливался, огонь и дым препятствовали этому; проникнуть в камеру значило рисковать своей жизнью.
Десять минут лилась, не переставая, вода, но огонь все увеличивался, дым становился более густым и едким. Очевидно, загорелась смола и жирные вещества, находившиеся в складочной камере. Не было никакой возможности ни подойти к люку, ни войти в камеру, а поэтому невозможно было и лить воду. Бесполезно было и стоять цепью, и ведра были отставлены в сторону. Но час отчаяния еще не наступил. Моряки никогда не теряют мужества до тех пор, пока есть хотя бы малейшая надежда на спасение. И каким бы ни был экипаж «Пандоры», под толстым слоем порока в сердцах моряков таилась одна добродетель — непоколебимое мужество.
Мы стали придумывать другой способ борьбы с пламенем, которое все усиливалось. К насосу прикрепили парусиновый рукав и направили его в дверь находящейся рядом каюты. Что касается люка, то не было никакой возможности ввести туда конец рукава. Однако передняя часть судна была больше нагружена, чем задняя, и вода вместо того чтобы оставаться на полу каюты, возвращалась обратно в проход между люками. Это было новое разочарование, еще более печальное, чем первое: все надеялись, что вода зальет каюту, проникнет в камеру и погасит огонь.
Матросы переглядывались друг с другом, и на их лицах отражалось беспокойство. Каждый из них был уверен в бесполезности своих трудов, но никто не смел этого сказать, и они продолжали накачивать воду, хотя делали это медленно и неохотно, уже не веря в успех. Вдруг насос остановился, трубы опустились, и вода перестала течь; все пришли к одному и тому же заключению и поняли это.
Облако дыма, вырвавшись из каюты, потянулось по всей задней части судна и стало медленно подниматься вверх. Воздух был так неподвижен, что этот густой столб, который окружал бизань-мачту и делал ее совершенно невидимой, не дошел до шканцев. Удушливый пар скрыл от нас каюту и часть палубы, но огня не было еще видно. Глухой шум и зловещий треск, раздававшийся по временам, говорили ясно, что огонь продолжает свое дело и что он скоро покажется перед нами во всем своем ослепительном блеске.
Никто не думал больше, что можно его остановить, «Пандору» уже ничто не могло спасти. Надо было бежать с нее. Внезапно воздух огласил крик отчаяния, горько отозвавшийся в сердце каждого моряка:
— Шлюпки на воду!
На «Пандоре» было три шлюпки; пинасса, большая шлюпка и гичка капитана. Этого было достаточно для нас всех, хватило бы даже одной большой шлюпки: в ней помещалось обычно тридцать человек, но при необходимости могло поместиться и сорок. Когда-то это была превосходная шлюпка, но сейчас в ней было несколько прогнивших досок. Сделана она была не для «Пандоры», а была куплена на скорую руку для этого, собственно, путешествия. Пинасса могла вместить пятнадцать человек, будь она только годна для того, чтобы держаться на воде. К несчастью, она лежала на шканцах, и плотник исправлял повреждения, которые она потерпела на реке короля Динго. Оставалось таким образом только две лодки. Решено было, что в большую шлюпку сядут двадцать восемь человек, а остальные двенадцать займут гичку. Решение это было принято всеми сразу, без всяких совещаний, на всякие рассуждения не было времени.
Большинство матросов бросились к шлюпке, и я с ними. Все столпились у борта и приготовились спускать лодки. Я не нашел Бена и, предполагая, что он отправился к гичке, кинулся туда, чтобы присоединиться к нему, потому что не хотел расставаться с ним. Гичка висела над кормой, и по дороге мне нужно было пройти через столб дыма, окружавшего каюту. Поскольку не было ни малейшего ветерка, дым держался больше левого борта. Придя на корму, я увидел пять или шесть человек, занятых спуском гички. Они делали это с лихорадочной поспешностью и с необыкновенным беспокойством. Я узнал между ними капитана, боцмана и плотника. Остальные были матросы, которые пользовались особенной благосклонностью начальников и считались их преданными друзьями. Гичка опустилась уже до поверхности воды, и я услышал, как ее киль погрузился в воду. Я перегнулся за борт и увидел, что в гичке находились уже разные предметы — компас, карты, бочонки и ящики, но никто еще там не сидел.
Я рассмотрел всех матросов, но между ними не было Бена Браса. Я уже был готов идти к шканцам, когда увидел, что люди, спустившие гичку, поспешно спускаются сами; скоро они уже сидели в лодке.
«Вряд ли, — подумал я, — она удалится, не дождавшись тех, которые должны присоединиться к ним».
Перед этим было решено, что матросы все вместе сначала спустят шлюпку, а затем займутся гичкой, так как для ее спуска достаточно нескольких минут и небольшого количества людей. Я был убежден, что матросы, спускавшие шлюпку, не заметили исчезновения своих товарищей и думали, что они работают вместе с ними. Видя, что капитан и боцман спустились в гичку вместе с плотником и тремя матросами, я сразу же подумал, что они делают это втихомолку и не хотят, чтобы их заметили. Мои наблюдения скоро подтвердили это предположение: было очевидно, чти они прячутся и хотят отплыть без тех матросов, которые также должны были занять место в гичке.
Я не знал, как мне быть, капитан и боцман только посмеялись бы надо мной, вздумай я сказать им что-нибудь, а страшный шум, поднимавшийся со всех сторон «Пандоры», мешал мне предупредить людей, спускавших шлюпку. Впрочем, было уже поздно. Беглецы перерезали веревку, державшую лодку, и спустя минуту удалились. Я не понимал их поспешности — гичка совершенно спокойно выдержала бы двенадцать человек, которых предполагалось посадить в нее, а остальные матросы предпочитали плыть в шлюпке. Что касается пожара, то опасность была еще не так близка, еще оставалось время, прежде чем огонь мог разрушить эту часть судна. Поспешное бегство шкипера можно было объяснить лишь какой-то таинственной, никому не известной причиной.
Я все еще стоял, свесившись через борт, и с любопытством следил за лихорадочными движениями беглецов. Капитан сам схватил весло, чтобы помочь другим. Подняв глаза в тот момент, когда гичка удалялась, он увидел меня и, приподнявшись слегка на скамейке, крикнул, заикаясь от пьяной икотки:
— Эй! Вилли! Скажи им, чтобы они осторожнее… спускали шлюпку… осторожнее… слышишь? ик… и главное — пусть спешат… ик… потому… там бочка… ик… с порохом!..
Глава 31
Меня точно обухом ударило по голове при этом ужасном известии, и я стоял, как пригвожденный, на том месте, где его услышал. Бочка с порохом! Так сказал капитан. А сказал он правду, я не сомневался в этом: его поведение служило доказательством опасности, о которой он предупреждал. Его поспешное бегство было мне теперь понятно: капитана гнала мысль о бочке с порохом. Негодяи объявили об этом только при отплытии, скрывая тайну до тех пор, пока не убедились, что смогут бежать. Скажи они об этом раньше, матросы не отдали бы гичку, и тогда бы бегство их не состоялось. Теперь же, когда побег удался, они предупредили нас об опасности, угрожающей нам, они хотели даже, чтобы прежние их товарищи оставили «Пандору» здоровыми и невредимыми, потому что спасение экипажа не требовало больше от них никакой жертвы.
Капитан, закончив свою речь, обращенную ко мне, сел на прежнее место, задвигал веслами в такт со своими товарищами, и гичка быстро удалилась. Пораженный всем услышанным, я стоял и не мог говорить, а мне так хотелось попросить капитана еще раз подтвердить сказанное им. Но когда я несколько успокоился, капитан был слишком далеко и не мог меня слышать. Да и к чему? Я не сомневался в том, что он сказал; его слова были ясны и точны, он говорил совершенно серьезно. Дело было слишком важное, минута слишком торжественная, чтобы шутить. Но где эта бочка с порохом? В камере-складе? Невозможно, она вся в огне. Между деками или в трюме? Никто ее и никогда не видел там, куда матросы имели доступ. Эта бочка должна была быть в помещении самого капитана — в месте, смежном с тем, которое горело и вблизи которого я находился. Инстинкт самосохранения вывел меня вдруг из оцепенения. Собрав все свои силы, я бросился к шканцам и… остановился. Что мне делать? Первой моей мыслью было бежать к матросам и сообщить им о словах капитана, я уже собирался это сделать. Но мой ангел-хранитель шепнул мне, чтобы я был осторожен. Жизнь, которую я вел эти последние месяцы, научила меня задумываться над всем происходящим вокруг меня. Я сразу сообразил, какой страшный переполох произведу, рассказав об этой тайне. Матросы работали старательно, тогда как никакая сила в мире не могла заставить их работать быстро; вид огня, вырывавшегося из окон каюты, и без того уже достаточно подстегивал их, и мне казалось, что, сообщив ужасную новость, я только усилю их страх и парализую их мужество. Поэтому я решил передать слова шкипера только Бену Брасу и с этим намерением бросился искать его.
На этот раз я его нашел. Он находился посреди толпы, работавшей у ворота. Невозможно было подойти к нему и рассказать обо всем так, чтобы никто этого не слышал. Я присоединился к работавшим и двигался вместе с ними. Я вынужден был ждать, пока случай даст мне возможность сообщить обо всем Бену.
Я принялся работать с другими, но мысли мои были об одном — о страшном взрыве, который мог отправить нас в вечность. Я работал машинально, делал часто не то, что было надо. Мой сосед заметил это и грубо оттолкнул меня.
Но вот шлюпка освобождена и спущена на море; матросы криком радости приветствовали свой успех. Некоторые из них спустились в нее, другие, оставаясь на борту «Пандоры», переправляли туда необходимые припасы. Два человека принялись спускать тяжелую бочку, по виду и величине которой сразу можно было догадаться, что в ней находится ром. Никто не протестовал против этой бочки, напротив, многие бросились помогать тащившим ее. Бочку обвязали толстой веревкой и начали спускать, но не успели двинуть за борт, как веревка соскользнула, и бочка рухнула в шлюпку, ударившись о ее бок немного выше ватерлинии. Послышался треск дерева. Точно злой дух направил бочку прямо на одну из гнилых досок, которая треснула под ее ударом.
Крик отчаяния вырвался у матросов, сидевших уже в шлюпке, быстро наполнявшейся водой через трещину. Некоторые из них, схватившись за канаты; придерживавшие шлюпку, вернулись обратно на борт, а другие принялись законопачивать трещину и выкачивать воду. Но старания их оказались бесполезными: трещина была непоправима, и вода все больше и больше заливала шлюпку. Увидев это, матросы прекратили работу и присоединились к товарищам. Десять минут спустя большая шлюпка была на дне моря.
— Плот! Плот! — в один голос закричали матросы. Все набросились на топоры, веревки и шесты и в ту же минуту послышались бешеные крики нескольких человек, которые бросились к корме в надежде найти там гичку. Гички не было, она плыла далеко в море. Факт говорил сам за себя, и никаких объяснений не требовалось: капитан и боцман «Пандоры» предали своих товарищей в несчастье и бежали.
— Эй, вы, там, на гичке! Эй! — кричали матросы, но крики их не достигали цели. Сидевшие в гичке стали удаляться еще быстрее, опасаясь, по-видимому, что их догонят на шлюпке — и не без основания: имей матросы возможность догнать изменников, они не пощадили бы их. Проклятия и бешеные крики в течение нескольких секунд раздавались на борту невольничьего судна, но необходимость действовать без промедления заставила матросов вернуться к своему делу.
Быстрота, с которой моряки устраивают плоты, невероятна. Чтобы поверить в это, надо видеть собственными глазами, как они работают. Дерево, как всякому известно, составляет главный материал для устройства плота, а между тем матросы несравненно быстрее соединяют его разные части при помощи веревок, чем плотник при помощи молотка и гвоздей, и не только быстрее, но и прочнее. Моряка, у которого есть веревка, нельзя никогда застать врасплох; это его оружие. Одним взглядом, одним прикосновением руки узнает он, какая именно веревка необходима ему для определенной цели; слишком ли она длинная или короткая, слишком ли слабая или крепкая, разорвется она или вытянется. И с какой легкостью рубят они мачты и шесты! Надо было видеть, как они работали, эти тридцать шесть матросов, которые оставались на «Пандоре»: одни пилили, другие рубили топорами, третьи носили реи.
Прошло несколько минут, и большая мачта была срублена. Падая, она разрушила все, что было под ней. Немного погодя с нее были сняты все ее снасти: ванты, штаги, брасы, шкоты и топенанты. Скоро, привязанная к «Пандоре» веревками, они покоилась на поверхности моря и представляла собой основание, к которому прикреплялись и присоединялись все остальные части плота. Когда сооружение плота было закончено, вокруг него для большей легкости прикрепили пустые бочки, затем перенесли туда паруса и все количество сухарей и пресной воды, какое оставалось еще на судне. Не прошло и четверти часа после того, как большая шлюпка пошла ко дну, когда объявлено было, что плот готов.
Глава 32
Но как ни ничтожен был этот промежуток времени, он мне показался целой вечностью. Секунды были для меня часами… Каждая из них могла быть последней, и эта ужасная мысль томительно тянула минуты. Когда шлюпка пошла ко дну, я потерял всякую надежду; я не думал, что плот будет готов до взрыва пороха.
Мне казалось, что время остановилось, и я никак не мог понять, почему не совершается это ужасное событие… Быть может, думал я, порох находится в самой глубине судна, где спрятан под ящиками и тюками, преграждающими к нему доступ пламени? Я знал, что бочка с порохом, даже брошенная среди горящих угольев, взрывается не сразу, а только когда в дереве разовьется очень высокая температура. Весьма возможно, что пороха не было ни в каюте, ни даже в кормовой части судна, капитан ничего не сказал мне об этом. Этот человек бежал, ничего не прибавив к своим ужасным словам. А что, если он пошутил? Что, если это утонченная жестокость негодяя? Месть по отношению к матросам? Накануне он все время ссорился с ними. Они унижали его, оскорбляли, не подчинялись его приказаниям. У людей такого характера оскорбление вызывает всегда ненависть, и весьма возможно, что капитан лишь для удовлетворения собственной жажды мести сказал мне, что на судне осталась бочка с порохом.
Предположение такого рода не было невероятным для того, кто знал этого человека, и я нашел, что в этом случае мне тем более необходимо отыскать Бена и сообщить ему тайну. Он наверняка знает, шутил капитан или говорил серьезно. В последнем случае он догадается, конечно, где находится порох, и тогда, быть может, мы успеем захватить бочку и скинуть ее в море.
Размышления эти длились не более минуты, и я снова бросился на поиски своего друга. Я нашел его среди матросов, строящих плот. Тронув Бена за рукав, я отвел его в сторону и передал ему слова капитана. Как ни был мужественен Бен Брас, но известие это ошеломило его. Я видел, как он побледнел и даже сначала не мог говорить.
— Ты уверен в этом? — спросил он меня наконец.
— Совершенно, — ответил я.
— Бочка с порохом!
— Он сказал мне это в ту минуту, когда отплывал. Я думаю, что он хотел только напугать нас.
— Нет! Он сказал правду, Вилли. Черт возьми! Ведь мы не весь порох отдали королю Динго, я вспомнил! Я видел, как капитан прятал одну бочку, которую сначала поставил в счет старому негру, а затем утаил ее. Я не был тогда уверен в этом, а теперь не сомневаюсь. Милосердный Боже, дитя мое! Мы погибли!
Спокойствие, которое я почувствовал, предположив, что капитан солгал, сразу пропало, и новая тревога, еще более жгучая, опять наполнила мою душу. Бочка, украденная у короля Динго, была, следовательно, на борту, а вор бежал от катастрофы, жертвами которой мы должны были стать! Мы вместо него платили за кражу!
Бен стоял неподвижно, как бы прислушиваясь, не раздастся ли взрыв. Скоро, однако, обычное присутствие духа вернулось к нему, и он, сделав мне знак следовать за ним, бросился к передней части судна. Матросы в это время спускали в море грот-мачту, и никто из них не видел, куда мы шли. Бен подошел к носовой части судна, затем к вантам бушприта и жестом подозвал меня к себе. Посоветовав мне не говорить ни единого слова относительно пороха, он продолжал:
— Пусть себе делают плот, быть может, они успеют закончить его. Будем надеяться, что Бог нам поможет в этом. Ведь мы ничего плохого не делаем, стараясь спасти свою жизнь. Порох должен находиться по соседству с каютой, и здесь не так опасно, как сзади; тем не менее мы должны спешить. Живей, малыш! Две эти доски помогут нам. Перережь эти веревки, а я пойду за деревом. Скорее же, скорее, малыш!
И Бен Брас отделил топором две доски, тянувшиеся по обе стороны планшира до того места, где большими буквами было написано название судна. Спустя минуту эти доски были уже на воде, и он связал их веревками, которые я ему принес. Взобравшись затем на бушприт, Бен срубил там несколько шестов, а я в это время доставал для него штаги и веревки. Все это в свою очередь было спущено на неподвижную поверхность океана.
Когда Бен нашел, что леса уже достаточно, он положил топор, с помощью веревки спустился на доски, брошенные им на море, и пригласил меня следовать туда же за ним. В эту минуту до нас донеслись радостные крики матросов, кончивших, по-видимому, свою работу. И действительно, я увидел, что они садятся на плот. Еще минута, и я остался бы последним на горящем остове «Пандоры». Последним? А пятьсот человеческих существ, заключенных внутри судна? Разве они не были людьми, и жизнь их не была им так же дорога, как и нам?
Ужасное воспоминание, от которого кровь моя стынет в жилах и о котором я не могу говорить без того, чтобы по всему телу не пробежала дрожь…
Что стало с неграми с того момента, когда начался пожар на «Пандоре»? Где были эти несчастные, что они делали и какие меры приняты были, чтобы их спасти? Нет! Никто с той минуты, когда раздался тревожный крик, помешавший их топить, никто, кроме меня, не подумал о них! Они все еще оставались в межпалубном пространстве. Оттуда их крики раздавались по-прежнему, но матросы не обращали на них никакого внимания.
Весьма возможно, что до той минуты, когда был закончен плот, главной причиной страданий негров была жажда. Они продолжали просить воды и разрешения погулять, потому что выходили только накануне и почти задыхались. Но я думаю, что у них не было ни малейшего подозрения об опасности, угрожавшей им. Дым на кормовой части судна поднимался вверх перпендикулярно и не доходил до них, а пламя было не так видно, чтобы броситься им в глаза. Можно было с достоверностью сказать, что они ничего не подозревали о пожаре. Видя необычное поведение экипажа и прислушиваясь к шуму на палубе, к ударам топора, которым рубили грот-мачту, к страшному стуку при ее падении, они могли лишь догадываться, что, кроме жажды, им угрожает еще что-то другое. Не имея ни малейшего понятия о том, как управляют судном, они не могли представить себе, что за маневры совершаются наверху. Кораблекрушением это не могло быть, потому что судно стояло неподвижно на месте, а встревоженные лица матросов не имели для них особенно важного значения. Неведению негров скоро был положен конец. В ту минуту, когда я собирался покинуть «Пандору», сквозь столб дыма, выходившего из каюты, прорвался целый сноп пламени. За ним последовал второй, еще более громадный и более яркий, затем третий, и наконец пламя полилось целой полосой и больше не прекращалось. Луна побледнела перед этим ослепительным светом, который залил золотом все судно, как лучами появившегося неожиданно солнца.
Крик отчаяния вырвался из недр горящего судна, крик, который заглушил на несколько секунд зловещий треск дерева и которого я не забуду до последнего часа своей жизни. Я повернулся в ту сторону, откуда слышался этот душераздирающий крик. При свете пожара я увидел лица несчастных негров, прижавшихся к решетке, которая не пускала их на свободу. Их глаза метали молнии, на губах белела пена, ослепительно белые зубы были стиснуты. Пламя быстро приближалось, и дым добирался уже до люка, заделанного решеткой, которую они с бешенством трясли. Первым моим движением было вернуться к Бену Брасу, с нетерпением поджидавшему меня, но в эту минуту я увидел топор, брошенный им. Я поспешно схватил его. Мне пришла вдруг мысль перерубить решетку в люке. Я знал опасность, которой подвергался, я не забывал о бочке с порохом, но я не мог смотреть на этих несчастных, не мог допустить, чтобы на глазах моих сгорело столько человеческих существ — и не сделать ни малейшей попытки к освобождению их из тюрьмы.
«По крайней мере, — подумал я, — эти несчастные сами выберут себе род смерти. Вода не так ужасна, как огонь, и им легче будет утонуть, чем сгореть в пламени».
Я сказал Бену Брасу о своем намерении.
— Ты прав, — ответил он, — смелее, Вилли! Освободи этих несчастных. Я сам думал об этом… Спеши только и будь осторожен.
Я не дослушал его и бросился к люку. Дым стал до того густым, что я не мог рассмотреть испуганных лиц негров. Еще несколько минут — и эти сверкающие глаза угаснут навсегда, раздирающие душу голоса заглушит смерть…
Я помнил хорошо, откуда начал плотник рубить решетку и, схватив топор, изо всех сил ударил по тому же месту. Перекладины решетки скоро подались, мне нечего было больше делать, и я поспешил к носовой части судна. В ту минуту, когда я схватился за решетку, чтобы спуститься к Бену, перекладины, закрывавшие люк, отскочили, и толпа негров целым потоком хлынула на палубу.
Я не останавливался больше, чтобы смотреть на них и, скользнув вниз по веревке, спустился к своему товарищу, встретившему меня с открытыми объятиями.
Глава 33
Плот, сделанный Беном, был достаточно велик для нас двоих и мог безопасно плыть по тихой поверхности океана, но буре или даже более просто ветру ничего не стоило опрокинуть его. Бен, правда, не имел никакого намерения плыть по морю на двух несчастных досках, он хотел только покинуть судно раньше большого плота, чтобы успеть, если возможно, до взрыва бочки с порохом. Предположив даже, что катастрофа случится раньше, чем мы успеем удалиться, мы здесь все же подвергались меньшей опасности, нежели на задней части судна. Затем мы могли присоединиться к большому плоту, когда он будет закончен.
Оказалось, что большой плот был готов одновременно с нашим, и все остававшиеся на борту матросы уже сидели на нем. Сначала мы не видели его, так как он находился позади судна, но едва мы удалились от «Пандоры», как сейчас же увидели плот и сидевших на нем матросов, которые спешили уйти подальше от судна из опасения, что на нем может оказаться порох. Хотя никто из матросов не говорил о своих подозрениях на этот счет, можно с достоверностью сказать, что многие из них догадывались о существовании бочки с порохом, которую капитан взял обратно у старого негра, и этому обстоятельству следует приписать ту поспешность, с которой они строили плот. Покинув судно, матросы, верившие в существование бочки с порохом, тотчас же высказали свои подозрения. Немудрено, что они так спешили удалиться от судна и что с такой тревогой следили за ходом пожара.
Как только Бен Брас увидел матросов, он поспешил к ним, надеясь догнать их за несколько минут, но это удалось ему не так скоро. Среди матросов на большом плоту было заметно какое-то странное движение. Они, видимо, были чем-то удивлены и в то же время страшно испуганы и старались как можно дальше уплыть от судна. Что было причиной их испуга? Они были слишком далеко, чтобы пожар мог повредить им, даже взрыв не представлял для них больше никакой опасности. Нет, не это беспокоило их.
Я взглянул на Бена Браса, надеясь получить от него объяснение такого поведения, но и Бен Брас вел себя не менее таинственно. Он стоял на коленях на передней части нашего маленького плота и изо всех сил греб веслами, чтобы догнать товарищей. Вместо того чтобы действовать со свойственным ему хладнокровием, он греб с какой-то лихорадочной поспешностью, как бы опасаясь, что плот исчезнет у него из виду. Он ничего не говорил, но при свете пламени я видел на лице его почти такой же ужас, как и на лице матросов, сидевших на большом плоту.
Нет, не опасение остаться сзади внушало ему такое сильное беспокойство. Мы двигались, правда, медленно, но между тем с каждым ударом весел все больше и больше приближались к большому плоту, который еле-еле двигался вперед, несмотря на все усилия экипажа. Какова же была причина такой необыкновенной поспешности Бена?
До сих пор я еще ни разу не оборачивался в сторону «Пандоры», потому что боялся смотреть на нее, да к тому же я слишком был занят тем, чтобы наш плот быстрее двигался вперед. Но тут я поднял голову и увидел ужасную картину. Я понял, почему Бен и его товарищи так стремительно спешили удалиться от «Пандоры».
Огонь дошел уже до середины судна, он пожирал остатки грот-мачты и находил себе обильную пищу в громадном количестве просмоленных канатов, рей и других снастей, что давало ему возможность развиваться с большей силой и быстротой. Но ужасная картина, которую представляли всепожирающие языки пламени, лизавшие уже фок-мачту, была ничем в сравнении с раздирающим зрелищем, которое разыгрывалось на корме судна. На брашпиле, на абордажных сетках и вантах, вокруг водореза и даже на бушприте шевелилась масса человеческих существ, до того жавшихся друг к другу, до того скученных, что они совершенно покрывали все пространство, на котором находились. Их было больше четырехсот, освещенных пламенем и нависших на передней части, как рой пчел на ветке дерева.
Свет пламени, пылавшего вокруг этих несчастных, освещал их лица, тела и даже курчавую шерсть на голове кроваво-красным цветом, что придавало всему этому зрелищу сверхъестественный вид. Можно было подумать, что мы присутствуем на финале какой-то оперы, действие которой происходит в аду и где представляется сцена казни грешников, если бы раздирающие крики не напоминали нам слишком наглядным образом, что перед нами не опера. Яркий свет, усиливающийся с каждой минутой, давал нам возможность рассмотреть малейшие подробности страшной картины и видеть ужас в безумных глазах, пену на судорожно искривленных губах, страшные кривлянья людей, которые обезумели от отчаяния и крики которых сменялись резким хохотом, напоминавшим голоса гиен.
Женщины молили о спасении своих детей, они протягивали их к матросам на плоту, прося пощадить маленькие существа, обреченные на смерть. Как ни было ужасно это зрелище, не оно так сильно волновало матросов и не угрозы мужчин и просьбы женщин.
— Кто уничтожил решетки? — с ужасными проклятиями кричали матросы «Пандоры». — Кто освободил негров?
Мы в это время настолько уже приблизились к плоту, что могли ясно слышать эти слова. По тону, каким они были произнесены, я понял, что мне следует опасаться матросов, к которым мы так спешили присоединиться. Поддавшись жалости к несчастным, я оказал им бесполезную услугу, подвергая опасности жизнь матросов, а вместе с тем — жизнь Бена и свою собственную.
И все же я не могу сказать, что сожалел о том, что последовал своему великодушному порыву, и, будь я снова поставлен в то же положение, я, не задумываясь, опять бы сделал то же самое. Только теперь я понял опасность, угрожавшую нам. Негры, само собой разумеется, оставят «Пандору», бросятся к нам вплавь и будут искать спасения на наших плотах. Это было ясно по их движениям. Большинство мужчин собралось на абордажных сетках, некоторые сидели уже на бимсах и готовились прыгнуть в море.
Глава 34
Я не удивлялся больше ужасу матросов, я понял, что негры, бросившись в море, немедленно поспешат к нам и постараются отправить наши плоты на дно моря или же бросить нас самих туда, чтобы воспользоваться этим единственным средством спасения. Уничтожение одних и смерть других не подлежали во всяком случае никакому сомнению. Мы с Беном Брасом больше всех подвергались опасности, потому что ближе всех находились к судну, но тем не менее мы быстрее, чем большой плот, могли уйти от негров, потому что наше ничтожное сооружение двигалось легче.
— Ради спасения своей жизни не говори о том, что это ты сделал, — сказал мне Бен. — Они утопят тебя и меня вдобавок, когда узнают, что ты открыл люк. Ни слова, даже если тебя спросят об этом, я буду отвечать им вместо тебя.
Не успел он договорить, как несколько голосов крикнули нам:
— Эй, вы, на маленьком плоту! Кто вы такие? Да это никак Бен Брас со своим любимцем Вилли. Это вы выпустили негров?!
— И не думали, — с негодованием ответил Бен. — Да и как мы могли это сделать, когда не были на судне! Мы их не видели, и я сам удивляюсь, кто мог устроить такую штуку. Не тогда ли это было, когда вы заставили рубить решетку?.. Плотник, видимо, подрубил перекладины, вот они и уступили усилиям черных. Что касается меня, я не знаю, как это случилось; я был уже внизу и мастерил этот плот. Я боялся, что ваш плот не достаточно велик, чтобы удержать всех нас… Еще один удар веслами, друзья мои, и доски наши присоединятся к вашему плоту. Я сказал себе: «Хотя бы для двоих, а все-таки будет легче».
Изменив таким образом направление разговора, Бен сделал вид, что не интересуется больше тем, кто допустил неосторожность, рассердившую матросов, глаза которых были устремлены на красную движущуюся массу на краю судна. Удивительная, однако, вещь! Вот уже несколько минут, как негры собирались броситься в море и догнать плот, а между тем ни один из них не решался оставить горящий остов судна, и все они по-прежнему крепко цеплялись за него. Возможно, они ждали, что кто-нибудь из них даст знак, бросившись первым в море? Такая нерешительность с каждой секундой уменьшала шансы на спасение. Пока негры колебались, плот удалялся все дальше, а огонь, свистя и шипя, суживал все больше и больше пространство, где они находились. Почему же противились они инстинкту самосохранения, побуждавшему их искать единственное спасение от смерти?
«Они боятся утонуть», — говорили на плоту. Это предположение могло объяснить до некоторой степени колебание несчастных. Нельзя было предположить, однако, чтобы ни один из них не умел плавать, африканцы вообще прекрасные пловцы; жизнь, которую они ведут, учит их этому. Живя на берегах глубоких рек, в стране, где мосты неизвестны, где бесчисленное множество озер, они волей-неволей должны уметь плавать. Тропическая жара делает, к тому же, купание весьма приятным, и большинство негров проводит половину жизни в воде. Поэтому нельзя предположить, что черных удерживала боязнь утонуть.
Что же могло удерживать их?
Один из матросов ответил на мой безмолвный вопрос, и загадка разъяснилась.
— Смотрите, — сказал он, указывая на воду, — вы видите, что мешает им броситься в воду?
Все пространство между плотом и горевшим судном сверкало, как расплавленное золото, отражая пламя пожара. Судно резко выделялось на поверхности моря, а под ним виднелось его изображение, все изборожденное глубокими полосами, как бы указывавшими на присутствие там каких-то живых существ. Ослепленные ярким светом пожара, мы отворачивали глаза от его движущегося отражения, окружавшего судно, и давно уже замечали струи, которые то и дело появлялись на воде, но не понимали причины их.
Теперь же, когда наше внимание обратилось в ту сторону, нетрудно было догадаться, откуда происходит такое движение воды: это были прожорливые акулы, целой стаей плававшие вокруг «Пандоры» в ожидании добычи, которая не могла ускользнуть от них… Мы видели теперь большие спинные плавники, торчавшие из воды или, как лезвие ножа, прорезавшие поверхность моря, исчезавшие, чтобы затем появиться вновь, но уже на более близком расстоянии от несчастных.
Судя по плавникам, которые мы могли рассмотреть, здесь собрались несметные стаи этих чудовищ. Чем больше мы смотрели на море, тем больше видели этих прожорливых созданий, число которых прибывало с каждой минутой. Нет сомнения, что, привлеченные блеском пламени, они собрались сюда со всех сторон. Надо полагать, что они не в первый раз были свидетелями такого пожара. Развязка ужасной драмы была, очевидно, акулам известна, и они поспешили принять участие в пиршестве, обещавшем им кровавое наслаждение.
Видя, как акулы теснятся вокруг «Пандоры» и терпеливо, как кошки, ожидают возможности схватить добычу наверняка, я не мог не думать о том, что эти отвратительные чудовища предвидели эту катастрофу. Они окружили также наши плоты, и количество их было почти такое же, как и вблизи судна. Они следовали за нами по две, по три вместе. С каждой минутой становились они смелее и нахальнее, некоторые из них плыли так близко от нас, что гребцы могли бить их веслами. Но матросы остерегались бить акул, потому что их присутствие, всегда ненавистное для моряков, теперь доставляло им чуть ли не удовольствие. Без акул негры давным-давно осадили бы нас, но сопровождавшая нас страшная свита преграждала черным доступ к нам.
Теперь мы знали, почему негры не покидают судна. Вся поверхность моря между судном и нами кишела акулами, а потому броситься в море — значило броситься в пасть этих чудовищ. Тем не менее смерть стояла уже за спиной негров, смерть близкая и верная, которая готовила им самую ужасную агонию. Освободив их из темницы, я думал, что предоставляю им выбор между огнем и водой; но это была ошибка, потому что у них оказался другой выбор: им предстояло или сгореть, или быть съеденными заживо.
Глава 35
Страшный выбор, державший несчастных в нерешительности! Какую смерть выбрать из этих двух смертей, одинаково ужасных? Какое было им дело до того, как кончится их пытка; отчаяние парализовало их. Ни криков, ни угроз, ни мольбы! Они ждали неподвижно и молча конца своей агонии.
Но в последнюю минуту, когда разум не действует больше из-за опасности, от которой ничто не может спасти, в человеке просыпается инстинкт самосохранения, и он начинает бороться со смертью. Никто не прощается с жизнью, не попытавшись сначала защитить себя. Утопающий хватается за все, что он встречает, и не без сопротивления погружается на дно. Тело борется упорно, оно хочет преодолеть разрушающую силу, еще долго после того, как разум потерял надежду. К неграм «Пандоры» также вернулась энергия в последний момент их борьбы со смертью.
Пламя покрывало уже почти всю палубу судна, оно прорвало дым, заволакивавший его, и лизнуло тела своих жертв. Раздались крики отчаяния, живая масса заволновалась и, как бы по данному кем-то знаку, сразу бросилась в море.
Но первыми повиновались инстинкту самосохранения не те несчастные, которые были ближе к воде, а те, которые стояли сзади них. Взобравшись на плечи своих товарищей, они бросились в воду, побуждаемые к этому пламенем. Молчание было нарушено. Вся масса, без малейшего колебания, надеясь избежать смерти, бросилась в воду, и спустя минуту остов горевшего судна опустел.
Сцена изменилась, но стала не менее ужасна; человеческие существа с невероятными усилиями бились на поверхности моря, те из них, которые не умели плавать, исчезли под водой, судорожно взмахивая руками; другие соединялись группами и вместе шли ко дну. Зато пловцы, отделившись в сторону от своих гибнувших товарищей, быстро плыли, рассекая волны руками. Время от времени рядом с головой кого-нибудь из них показывался плавник акулы; раздавался душераздирающий крик… Чудовище бросалось на свою жертву, с бешенством хлопая хвостом по воде, которая покрывалась пеной, окрашенной кровью.
Это было до того страшное зрелище, что даже матросы, несмотря на все свое бесчувствие, не могли смотреть на него без волнения. Но к этому чувству волнения при виде ужасной бойни примешивалась радость, которая явилась следствием не жестокости, а лишь чувства самосохранения. Это была, собственно, даже не радость, а сознание избавления от опасности быть захваченными неграми.
Как ни были многочисленны акулы, они не могли уничтожить всего груза «Пандоры». Как только закончилась первая атака, они постепенно исчезли, удаляясь в глубь моря, вполне насытившись обильной добычей. Поверхность моря была все еще покрыта множеством голов, и при отблеске пламени видно было, что пловцы направляются к нашему плоту. Снова ужас охватил матросов, понявших, что они в свою очередь могут стать добычей акул.
Безумные крики, испуганные восклицания послышались с плота. Не теряя времени на бесполезные слова, матросы взялись за работу — каждый из них схватил первый попавшийся предмет, который мог служить веслом. Одни вооружились палками, другие — кусками дерева, третьи — досками от бочек, а те, которые ничего не нашли, перегнулись за борт и гребли просто руками. Но масса бесформенных кусков дерева, составлявших плот, медленно продвигалась вперед, и несмотря на то что пловцы находились на расстоянии ста метров, матросы начинали серьезно побаиваться, что те нагонят их.
Страх этот имел серьезное основание. Не могло быть никакого сомнения, что негры нагоняют нас с каждой минутой и что они скоро нападут на нас. Все сидевшие на плоту были в этом уверены. Несмотря на самые отчаянные усилия, они не могли соперничать в быстроте с неграми.
Кто мог помешать неграм? Ничто больше не останавливало их, ведь акулы давно уже почти все исчезли. Изредка только раздавался предсмертный крик позади нас… Это исчезал пловец. Но такие крики раздавались все реже, большинство негров продолжало преследовать нас. Чего они хотели? Избежать смерти или отомстить? Быть может, ими руководили и то и другое чувство? Какое, впрочем, дело до мотивов, руководивших ими! Их было достаточно много, чтобы справиться с нами, и прежде чем умереть, они наверняка заставили бы матросов «Пандоры» перенести все те страдания, которые сами перенесли.
Неграм нужно было только добраться до плота, а захватить его им ничего не стоило. Могли ли тридцать человек противостоять двумстам? Они набросятся, конечно, на плот, схватятся за его края и своей собственной тяжестью потянут его на дно моря. С каждой секундой шансы пловцов увеличивались. Первые из них, самые сильные, находились уже метрах в десяти от плота, остальные — метрах в тридцати, но самое главное — они двигались быстрее плота. Некоторые матросы полностью отчаялись, они уже решили, что пришел их последний час, и все их преступления предстали перед ними, увеличивая их ужас.
И я тоже думал, что приближаются мои последние минуты. Страшно было умирать в мои годы такой ужасной смертью и среди таких людей. Я был полон сил, здоровья, в душе моей жила страстная любовь к жизни и я горько раскаивался в совершенной ошибке. Одного себя я должен был упрекать за то положение, в которое так безрассудно попал. Но к чему поздние сожаления? Надо было думать о смерти. Море должно было принять в свои объятия господ и рабов, тиранов и жертв и всех скрыть под одним общим саваном.
Таковы были мысли, мелькавшие у меня в голове, пока я следил за неграми, приближавшимися к нашему плоту. Я не чувствовал к ним ни жалости, ни симпатии; я смотрел на них, как на ужасных чудовищ, которые готовятся сбросить нас в пропасть, убить меня, их благодетеля. Я забывал, проклиная их, что сами они в отчаянии и, лишь спасая свою жизнь, спешат настигнуть нас.
Я был страшно взволнован, ничего не понимал и, разделяя мнение окружавших меня матросов, видел врагов в тех несчастных, которые только хотели жить. Но как ни хотелось мне, чтобы их оттолкнули, я все же не мог принять участие в начавшейся скоро бойне. Жестокие удары веслами и палками встретили первых пловцов, которые догнали нас. Удары попадали им в голову или в грудь, и некоторые негры тотчас же шли ко дну, тогда как другие, подплыв к передней части плота, хотели, по-видимому, образовать непроницаемый круг около нас.
В первую минуту крики и угрозы матросов испугали пловцов, они отплыли от плота, но по-прежнему следовали за нами. Спустя несколько минут плот больше не двигался. Гребцы, осажденные со всех сторон, увидели, что дальнейшее отступление невозможно.
Глава 36
Было очевидно, что, несмотря на оказанный им прием, пловцы не имеют ни малейшего намерения отступать назад. Плот представлял лишь призрачную мечту на спасение, но тем не менее был единственным убежищем на поверхности моря, а потому весьма естественно, что несчастные решили преследовать нас до последнего издыхания.
Негры находились от нас на некотором расстоянии, поджидая своих товарищей, чтобы общими силами атаковать плот. Большинство матросов потеряло всякое мужество и предавалось самому крайнему отчаянию, но среди этих грубых людей было несколько человек, которые сохранили полное присутствие духа и придумывали способ, как избежать угрожавшей нам опасности.
Что касается меня, я был в полном оцепенении. Я следил за движениями негров, пока у меня не закружилась голова. Я не сознавал, что делалось вокруг. Я различал крики матросов, слышал, как они ободряли друг друга, но предполагал, что они сговариваются оттолкнуть пловцов, окружающих нас. Я ждал, что меня сейчас поглотят волны, был убежден, что скоро умру, и все-таки мне казалось, что я вижу все это во сне.
Вдруг я услышал крики «ура!», вырвавшие меня из оцепенения. Я быстро обернулся и, к своему удивлению, увидел распускающийся обрывок паруса, который три матроса поддерживали в вертикальном положении. Мне незачем было спрашивать, для чего они это делали; я чувствовал ветерок, обвевавший мне лицо и голову и уже надувавший парус. Море волновалось вокруг нас и пенилось в том месте, где доски прорезали волны, и плот наш стал двигаться быстрее. Я смотрел на пловцов; они все еще следовали за нами, но уже начали отставать. Каждая минута увеличивала расстояние между нами. Боже милостивый! Мы были спасены, по крайней мере — от этой опасности.
Скоро я ничего не различал, кроме черных точек на поверхности моря. На мгновение мне показалось, что негры, поняв, что нас не догнать, повернули к «Пандоре». На что они надеялись? Громадный очаг, служивший маяком, не дождался их прибытия — пламя, пожирая внутренности судна, нашло, наконец, бочку с порохом, которая должна была закончить эту ужасную драму.
Раздался ужасный взрыв, равносильный залпу из ста пушек. Горящие куски разлетались во все стороны и, падая с шипением в воду, гасли. Несколько секунд держался в воздухе сверкающий сноп, который затем угас, дрожа, на поверхности моря. «Пандора» исчезла среди последних искр, рассыпавшихся во все стороны.
Глубокое молчание последовало за оглушительным взрывом; матросы не осмеливались произнести ни единого слова. В течение часа слышался еще иногда предсмертный крик какого-нибудь несчастного, силы которого истощились или он стал добычей акул.
Ветер надувал по-прежнему парус, и до захода солнца экипаж «Пандоры» был уже далеко от места, где разыгралась ужасная трагедия.
Но на рассвете ветер снова стих, и наступило прежнее затишье; плот стоял на море в полной неподвижности,
Матросы не пытались больше двигать его вперед; к чему напрасные труды? Каково бы ни было принятое им направление, нам нужно было проплыть сотни миль, прежде чем удалось бы добраться до берега, а пройти такое пространство на плоту было бы немыслимо даже при благоприятном ветре.
Будь у нас достаточное количество припасов, экипаж мог бы попытаться плыть куда-нибудь, но припасов у нас могло хватить только на несколько дней. Единственной нашей надеждой было встретить судно, которое взяло бы нас на борт, но надежда эта была так слаба, что никто не смел и думать о ней. Мы находились в одной из наиболее редко посещаемых частей Атлантического океана, бывшей вне навигационной линии, соединяющей две великие коммерческие страны. Вся надежда была главным образом на португальские суда, идущие в Бразилию. Мы надеялись встретить какое-нибудь невольничье судно, возвращающееся из Африки или отправляющееся туда за новым грузом, нас могли заметить также крейсер или военное судно, которые должны были идти к Огненной Земле, а оттуда в Тихий океан.
Матросы ничего не делали и все спорили о том, какие у нас есть шансы на спасение. Большинство этих бандитов были опытными моряками и в совершенстве знали все пути на океане. Некоторые из них думали, что положение наше вовсе не такое отчаянное; мы можем распустить парус, устроив мачту из шестов и весел. Тогда нас заметят издали на каком-нибудь судне, которое может взять нас и доставить на берег. Так говорили матросы, которые еще были способны надеяться на лучшее. Другие, напротив, печально качали головами и приводили своим товарищам такие серьезные доводы, что мы совсем падали духом. Они говорили, что в этой части океана встречается мало судов, и если даже какое-нибудь из них заметит нас, оно не в состоянии будет приблизиться к плоту по причине штиля, потому что и само будет стоять на одном месте, пока ветер не надует их паруса. Штиль может продлиться несколько недель, а как же жить до тех пор?
Доводы такого рода заставили матросов произвести осмотр съестных припасов. Странно, но воды у нас оказалось больше всего. Бочку, стоявшую на палубе в тот момент, когда начался пожар, взяли позже и поместили между шестами, так что она все время плыла рядом с плотом. Открытие это вызвало большую радость среди матросов, потому что вода в таких случаях — самое важное, а между тем о ней всегда забывают в последнюю минуту.
Но за кратковременным взрывом радости последовало полное уныние. Матросы осмотрели все ящики, открыли бочки, перерыли мешки, но ничего не нашли, кроме сорока сухарей, которых хватило бы лишь на один раз! Новость эта принята была с выражением глубочайшего горя; одни предавались отчаянию, другие бешенству. Матросы осыпали упреками тех, кому поручено было позаботиться о съестных припасах. Обвиняемые оправдывались, утверждая, что они спустили бочку со свининой, но куда она делась? Скоро действительно нашли бочку и поспешили открыть ее. В ней оказалась смола.
Невозможно описать сцену, последовавшую за этим открытием. Отборная ругань, обвинения, проклятия сыпались беспрерывно, матросы едва не передрались друг с другом. Смолу выбросили в море, причем едва не утопили и тех, которые поставили ее на плот. Какая надежда оставалась нам? Сколько времени проживем мы с двумя сухарями на человека? Не пройдет и трех дней, как мы начнем испытывать муки голода, и самая ужасная смерть постигнет нас по прошествии недели.
Эта ужасная уверенность усилила гнев одних и уныние других, угрозы и проклятия раздавались всю ночь, и одну минуту я боялся даже, что выбросят в море тех, кого обвиняли в измене экипажу.
Вместо бочки со свининой у нас оказалась другая, которую, на мой взгляд, лучше было бы оставить на «Пандоре», а между тем ее не забыли. Содержимое ее было слишком драгоценно, чтобы не опустить ее раньше всего другого. Это была бочка с ромом. Хмель мешает чувствовать ужас смерти, и матросы, потерявшие всякую надежду на спасение, бросились к ней, как в объятия друга.
Не та ли это бочка, которая при спуске в шлюпку упала и пробила ее бок? Не знаю… весьма возможно. На борту во всяком случае могли найти и другую, потому что среди съестных припасов этот напиток всегда находится в большом изобилии. Это любимый напиток матросов, главный источник грубых наслаждений этих распущенных людей. Ром этот был плохого качества, поэтому его никогда не прятали под замок. Матросы могли пить его, сколько угодно, и не проходило часу, чтобы тот или другой не утолял свою жажду у этого отвратительного источника. Если бочка со свининой осталась на судне, то ром был здесь и мог заменить ее, и некоторые из этих несчастных с дикой радостью кричали, что ром не сохранит им жизнь, зато сделает смерть более легкой и приятной.
Глава 37
Едва появились первые проблески рассвета, как все глаза устремились на горизонт: не осталось ни единой точки на море, которая не была бы тщательно исследована, не было ни одного матроса, который не постарался бы стать выше своих товарищей, чтобы иметь возможность окинуть взором более широкое пространство. Но горизонт был пуст. Не видно было ни паруса, ни мачты — ничего, что бы указывало на жизнь. Даже рыбы не волновали спящей воды, птицы своими крыльями не шевелили раскаленной атмосферы.
Гички также не было видно. Она удалилась, по всей вероятности, в направлении, противоположном направлению нашего плота. Нигде не замечалось ни малейшего признака «Пандоры»; последние обломки ее давно уже исчезли.
Был полдень. Перпендикулярные лучи солнца жгли так немилосердно, что мы положительно нигде не могли укрыться от них. По-прежнему продолжалось затишье. Никто не двигался на плоту, стоявшем неподвижно. Одни сидели, другие лежали на досках. Большинство матросов чувствовали себя слишком удрученными, чтобы ходить, некоторые или из-за более живого характера, или из-за обильного употребления рома разговаривали между собой и даже спорили.
Очень часто то один, то другой матрос вставал, чтобы посмотреть на горизонт и, не говоря никому ни слова, возвращался обратно на свое место. Молчание его служило доказательством печального результата осмотра. Появление паруса вызвало бы восторженное восклицание со стороны самого флегматичного из этих людей.
В полдень все почувствовали страшную жажду и особенно те, которые пили ром. Каждый получил определенное количество воды — полбутылки. В нормальных условиях такого количества было бы совершенно достаточно, но под палящими лучами солнца полбутылки воды не принесли нам ни малейшего облегчения. Я убежден, что даже полгаллона — две бутылки с четвертью, — не утолили бы моей жажды. К тому же полученная нами вода была теплая. Лучи солнца, падая на бочку, нагрели ее содержимое почти до кипения, а жажду невозможно утолить несколькими глотками горячей воды. Избежать такого неудобства было вовсе нетрудно: стоило только прикрыть бочку мокрым парусом, и вода сохранила бы свою свежесть, но никто не подумал о таком простом средстве.
Отчаяние все сильнее и сильнее охватывало матросов, а с ним пришла и полная апатия. Ни у кого не хватало больше энергии на то, чтобы принять какие-нибудь меры.
Что касается сухарей, то их было слишком мало, чтобы делить на ежедневные порции; достаточно было одного раза, чтобы раздать все, что у нас было. Каждый из нас получил два сухаря на свою долю, и, сверх того, осталось еще семь или восемь, которые решено было разыграть по одному в кости. Никогда не видел я более интересной и с большим воодушевлением разыгранной партии; можно было подумать, что на ставку поставлена громадная сумма. А впрочем, какая сумма, собственно говоря, могла оплатить эти несколько кусочков хлеба!
Шумное возбуждение, вызванное игрой и большим количеством рома, длилось всего несколько минут. Когда был разыгран последний сухарь, все впали в прежнее уныние, и молчание снова водворилось между матросами. Некоторые из этих несчастных, измученные голодом, немедленно съели оба сухаря, тогда как другие, более сильные и предусмотрительные, съели только одну порцию, а остальное спрятали.
Вечером, на закате, на плоту все воодушевились, и в сердцах матросов ожила надежда. Дело в том, что один из них, взглянув на горизонт, вдруг крикнул: «Парус! Парус!»
Трудно представить себе безумную радость, вызванную этими словами; все вскочили со своих мест, хлопали в ладоши и, как безумные, кричали «ура». Одни размахивали шляпами, другие танцевали. Те, что больше всех отчаивались, как будто снова вернулись к жизни. Но если трудно описать радость, вызванную этими словами, то еще труднее изобразить отчаяние этих несчастных, когда они убедились, что известие, сообщенное им, неверно.
На горизонте не показывалось никакого судна, ничего не видно было на поверхности океана. Парус существовал только в болезненном воображении несчастного, крики и жесты которого доказывали, что он сошел с ума.
Да, не подлежало никакому сомнению, что он стал безумцем. Некоторые из товарищей крикнули, что его надо бросить в воду. Никто не поднял даже голоса, чтобы опровергнуть такое гнусное предложение, и несколько человек готовились уже схватить несчастного, когда он, поняв, вероятно, их намерение, забился в угол и сидел там, не двигаясь с места; тогда его оставили в покое.
Но скоро произошло кое-что пострашнее. Я до сих пор начинаю дрожать, когда вспоминаю ужасное решение, которое тщательно скрывали от Бена Браса до тех пор, пока нам не сообщили о нем.
Два сухаря, розданные на человека, были съедены очень быстро. С тех пор никто ничего не получал, кроме двух стаканов воды, которые раздавались нам каждый день, и голод начинал становиться невыносимым.
С некоторого времени между вожаками банды замечалось какое-то тайное соглашение. Надо сказать, что несколько более энергичных человек сумели, несмотря на все выносимые нами пытки, взять власть над остальными. Сначала я оставался совершенно равнодушным ко всем этим совещаниям, но в конце концов стал замечать, что, говоря между собой шепотом, они как-то странно посматривают на меня и на Бена Браса. Их голодные взгляды причиняли мне крайне неприятное ощущение. Всякий раз, когда наши взгляды встречались, они отворачивали головы и казались смущенными, как будто бы их застали на месте какого-то преступления. Странное выражение их лиц я приписывал голоду и не заботился больше о них.
На следующий день, однако, совещания эти стали повторяться чаще и показались мне более оживленными, нежели накануне. Бен Брас был также удивлен и, хотя не знал результата этих совещаний, догадался быстрее меня, какова цель этих таинственных переговоров. Он счел своим долгом сообщить мне о своем открытии, чтобы как можно осторожнее подготовить меня к ужасному решению.
— Один из нас должен умереть, чтобы спасти других, — сказал он, — решено бросить жребий, и теперь идут рассуждения о том, как это лучше сделать. Нам, может быть, посчастливится, малыш, не надо отчаиваться.
Не успел он это сказать, как один из матросов поднялся и потребовал внимания своих товарищей. Приступив тотчас же к делу, оратор объявил без всяких предисловий, что один из нас должен немедленно умереть. У нас еще есть вода, но этого мало, потому что без пищи мы все должны будем умереть, а для того, чтобы была пища, необходимо, чтобы кто-нибудь пожертвовал собой…
Но каков был мой ужас и гнев моего друга, когда один из самых влиятельных вожаков банды, американец, прямо указал на меня.
Он высказал разные доводы в защиту своего предложения, которые приняты были без возражения. Они матросы, говорил он, а потому старше меня, простого юнги, который не имеет права изъявлять требований на бросание жребия. Между нами нет равенства, и я не могу, следовательно, разделять шансов, которыми могут пользоваться они как матросы. Это очевиднее очевидного.
Бен Брас старался обратиться к душе своих товарищей, но бандиты не знали жалости. Каждый из них радовался такому решению, которое избавляло его от опасности быть избранным по жребию. Доводы американца успокаивали их совесть, и гнусное предложение взяло верх над убеждениями моего друга.
Итак решено было, что я должен умереть. Уже шесть или восемь лютых зверей направились ко мне, собираясь схватить, когда Бен Брас, бросившись одним скачком к каннибалам, закрыл меня своим телом и, выхватив из-за пояса нож, пригрозил убить первого, кто тронет меня.
— Назад! — закричал он. — Назад! Вы низкие люди! Никто не тронет мальчика, не убив сначала меня. Весьма возможно, что съедят его первого, но умрут-то прежде него другие!
Вдруг я заметил, что выражение лица Бена изменилось. Он махнул рукой в знак того, что хочет сделать одно предложение, и ему удалось добиться молчания.
— Друзья, — сказал он, — в нашем тяжелом положении нам нельзя ссориться!
Голос Бена стал почти умоляющим. Было очевидно, что он придумал какой-то компромисс, поскольку было неблагоразумно продолжать борьбу, которую он объявил.
— Смерть — ужасная вещь, — продолжал Бен, — но я не могу не согласиться, что один из нас должен быть принесен в жертву для спасения других. Это лучше, чем погибать всем. Но вы знаете, что обычай требует в таком случае, чтобы лицо, которое должно умереть, было бы избрано по жребию.
— Мы не хотим знать этого обычая, — крикнуло несколько голосов.
— Ну, если все вы такого мнения, — продолжал Бен, не меняя тона, — и если юнгу должны съесть первым, я не нахожу нужным сопротивляться… Я согласен с вами и не защищаю его.
Слова эти поразили меня, и я поднял глаза на Бена. Неужели он отдаст меня этим бессердечным людям? Он не обратил на меня никакого внимания, продолжая смотреть на матросов, и мне показалось, что он хочет еще что-то им сказать.
— Но, — проговорил он после минутного молчания, — с условием…
— С каким? — нетерпеливо крикнуло несколько голосов.
— С небольшим, — ответил Бен. — Я прошу вас оставить ему жизнь до завтрашнего утра. Если с восходом солнца мы не увидим паруса, вы можете поступить с ним по вашему желанию. Вы поступите справедливо, доставив ему это единственное средство спасения; если же вы не согласны на это, — прибавил он, переходя в прежнее наступательное положение, — я буду биться с вами до последнего издыхания и повторяю вам, если он и будет съеден первым, то не он во всяком случае первым умрет!
Слова Бена произвели ожидаемое им действие. Как ни были грубы эти люди без сердца, они не могли не согласиться, что требование такого рода вполне справедливо, хотя я думаю, что на них больше всего повлияла решимость Бена, с которой он размахивал перед их глазами сверкающим лезвием своего ножа. Какова, впрочем, была причина, побудившая их принять это предложение Бена, безразлично, но спустя минуту матросы, которые приблизились к нам, чтобы схватить меня, удалились с мрачным видом и улеглись на прежнее место.
Глава 38
Трудно описать волнение, охватившее меня. Я избежал лишь немедленной казни, которая была отложена, но моя смерть была делом решенным. Встретить какое-нибудь судно было так мало шансов, что мне не оставалось ни малейшего проблеска надежды.
Все старания Бена были бесполезны. Наступит день, и так как было ясно, что мы не встретим судна, то моему другу придется сдержать слово, данное моим палачам. Я испытывал то же чувство, какое испытывает приговоренный к казни, час исполнения которой ему известен, с той разницей, что я не знал за собой никакого преступления и умирал невинным.
Вы поймете, конечно, что я не мог сомкнуть глаз. Да и кто может спать, зная ужасную судьбу, ожидающую его при пробуждении? С каким горем думал я о своей семье и своих друзьях в Англии, которых я не увижу больше! Как упрекал я себя за то, что ради страсти к морю ушел из родительского дома!
Завтра утром, когда взойдет солнце, меня зарежут, не дав возможности защитить себя, и смерть моя останется неизвестной. Мои палачи, надо полагать, ненадолго переживут меня, а те из них, которым удастся, быть может, спастись, никому не откроют тайны моей трагической судьбы. Никто не услышит обо мне; все те, кого я люблю, не будут знать о моей печальной участи. Так, впрочем, лучше… Но какая ужасная судьба!
Мы с Беном Брасом по-прежнему оставались на нашем маленьком плоту. Мы лежали так близко друг к другу, что соприкасались плечами. Он мог шепнуть мне на ухо все, что хотел, и никто не услышал бы его. Но он был погружен в какие-то глубокие размышления и не хотел, по-видимому, нарушать молчания, а потому и я не говорил с ним.
Наступила ночь, обещающая быть очень темной. К вечеру на горизонте показались густые тучи, и хотя море было еще спокойно, видно было, что оно скоро изменится. После захода солнца тучи эти поднялись выше, заволокли небосклон и луну таким густым покровом, что она совершенно скрылась с наших глаз. Море больше не искрилось, как в предыдущие ночи; тучи, отражаясь в нем, придавали ему мрачный оттенок, вполне гармонирующий с моими печальными мыслями.
Я указал Бену на перемену, совершившуюся в атмосфере, и сказал, что нахожу ночь слишком темной.
— Тем лучше, малыш! — кратко ответил он мне и снова погрузился в прежнее молчание.
Я долго ломал себе голову над его ответом.
«Тем лучше! — повторял я про себя. — Что он хотел этим сказать? Что хорошего может означать такая темнота? Какую пользу может он извлечь из нее? Мрак не может привлечь к нам суда, солнце взойдет, и я должен буду умереть. Что значат эти слова Бена Браса и почему он так ответил мне? Не с намерением ли ободрить меня, вселить в меня надежду?.. С той минуты, когда он добился отсрочки для меня, он не сказал мне ни единого слова. К чему?.. Он не мог ни утешить меня, ни облегчить моих страданий, а между тем он сказал; «тем лучше».
Я уже был готов спросить Бена, что он имел в виду, но в ту минуту, когда я хотел обратиться к нему, он отвернулся, и я не мог больше говорить с ним так, чтобы никто не слышал нас. Благоразумнее всего было молчать, и я решил подождать более благоприятной минуты, чтобы спросить его о том, чего я не понимал.
Темнота стала до того непроницаемой, что я с трудом видел своего друга, находившегося возле меня. Даже большой плот казался какой-то бесформенной массой; белый парус смутно выделялся на черном фоне неба. Несмотря, однако, на эту темноту, мне показалось, что я вижу нож в руках Бена Браса. Но каково было его намерение?
Вдруг мне пришло в голову, что он что-то подозревает, что не доверяет моим палачам и боится, что они не захотят ждать утра для исполнения своего гнусного замысла. Опасаясь нападения с их стороны, он расположился между ними и мной таким образом, чтобы можно было защитить меня в случае необходимости.
Как я уже говорил раньше, мы с Беном лежали на тех же досках, на которых находились в момент отплытия от «Пандоры». Они были привязаны к большому плоту сзади, и когда ветер гнал его, мы плыли позади. Бен повернулся лицом в сторону матросов. Мне показалось, что он не лежит, а сидит на корточках и что-то ищет. Как бы там ни было, но пробраться ко мне нельзя было, не переступив через его тело, и я предположил, что с этим намерением он и принял такое положение.
Усиливалась не только темнота, вместе с ней усиливался и ветер. Плот быстро скользил по морю, и по шуму, производимому им, можно было судить о скорости его хода. Погруженный в какое-то оцепенение, я прислушивался к этому однообразному шуму, который мешал мне думать. Внезапно я был поражен одним обстоятельством, которое сразу вывело меня из моего состояния — плеск воды становился глуше, а шум все тише и тише и, наконец, совершенно прекратился. Я предположил, что упал парус, так как ветер продолжался, а плот, между тем, больше не двигался.
Я с удвоенным вниманием стал прислушиваться и, к великому своему удивлению, услышал шум, производимый плотом, но только в отдалении. Я хотел спросить Бена о причине такого явления, когда по морю пронесся бешеный крик, а за ним смешанный гул раздраженных голосов.
— Спасены! — вскрикнул я, вскакивая от волнения. — Спасены! К нам приближается судно, не правда ли?
— Да, мы спасены, малыш, но только от этих негодяев! — ответил мне голос Бена Браса. — Ветер угнал их от нас и пока он дует, нам нечего их бояться.
Я заметил тогда беловатую точку, которая скоро исчезла на горизонте. Это был парус гонимого ветром плота. Бен перерезал веревки, соединявшие с плотом наши доски, и он находился теперь в нескольких сотнях метров от того места, где мы стояли. Среди тьмы, окружавшей нас, матросы не заметили маневра Бена, но в конце концов они все-таки, вероятно, распознали, что мы отделились от них, и тогда разразились криками и угрозами, которые достигли нашего слуха.
— Не бойся ничего, они не могут напасть на нас, — сказал Бен, — вздумай они даже догнать нас, когда ветер стихнет, то и тогда это не удастся им, потому что их грузной махине не поспеть за нашим плотом. Но так как несравненно лучше будет увеличить расстояние между нами и этими бандитами, то вот, малыш, возьми это, греби и не теряй мужества.
Не знаю, каким образом удалось Бену достать два весла, взятые им, вероятно, с большого плота. Он дал мне одно, а сам взял другое, и мы, держа путь в сторону, противоположную от матросов, против ветра, гребли всю ночь, не переставая. Мы остановились отдохнуть только, когда начало рассветать. Мы осматривались кругом, надеясь увидеть какой-нибудь парус. Но, увы, взоры наши ничего не различали; кругом нас было лишь пустынное море, даже плот скрылся совершенно из виду. Мы были одни на поверхности океана!
Я мог бы рассказать вам еще много об опасностях, пережитых нами, до того благословенного часа, когда мы увидели белые паруса прекрасного судна, которое взяло нас к себе на борт и доставило в Англию, где мы увидели всех, кого любим. Но я не хочу утомлять вас этими подробностями. Достаточно сказать, что мы спаслись; не случись этого, разве мог бы я рассказать вам всю эту историю?
Да, мы живы до сих пор, Бен Брас и я. Мы остались моряками и плаваем по морям, но не под командой такого чудовища, каким был продавец невольников. Мы оба теперь капитаны. Я служу на судне, принадлежащем Ост-Индской Компании, а друг мой на коммерческом судне, таком же красивом, каким была «Пандора», и состоит в числе совладельцев этого судна.
Бен Брас ведет честную и законную торговлю на берегах Африки. Груз его состоит из слоновой кости, золотого песка, пальмового масла, страусовых перьев, но не из человеческого мяса. Дела его идут хорошо, и всякий раз, когда он возвращается домой, он откладывает значительную сумму в банк. Я радуюсь его удачам, да и вы, читатель, надеюсь, разделите радость моего превосходного друга.
Что касается людей, входивших в состав экипажа «Пандоры», то ни один из этих разбойников, ни в гичке, ни на плоту, не увидел больше берега. Все они погибли, и ни одна рука не поддержала их в последний час, ни одна слеза не пролита была в их воспоминание. Их агонию видел только Бог, и когда судно, встретившее плот, приблизилось к нему, чтобы спасти несчастных, спасать было некого. Жертвы их были отомщены!
Затерянные в океане (роман)
Роман «Затерянные в океане» рассказывает о драматических коллизиях, произошедших с теми, кто, потерпев кораблекрушение, остался один на один с могучей стихией.
Глава 1
АЛЬБАТРОС
Ширококрылый морской коршун[191], реющий над просторами Атлантического океана, вдруг замер, всматриваясь во что-то внизу. Внимание его привлек маленький плот, размером не больше обеденного стола. Два небольших корабельных бруса, две широкие доски с несколькими небрежно брошенными на них полотнищами парусины да две-три доски поуже, связанные крест-накрест, — вот и весь плот.
И на таком гиблом суденышке ютятся двое людей: мужчина и юноша лет шестнадцати. Юноша, видимо, спит, растянувшись на куске мятой парусины. А мужчина стоит и, прикрыв глаза от солнца ладонью, напряженно всматривается в безбрежные дали океана.
У ног его валяются гандшпуг[192], два лодочных весла, кусок просмоленного брезента, топор; ничего больше на плоту не увидеть даже зоркому глазу альбатроса.
Птица несется дальше на запад. Пролетев еще миль десять, она снова замирает, паря на широко раскинутых крыльях, и снова впивается глазами в океан.
Птица увидела другой, тоже неподвижный плот. Он совсем не похож на первый, хотя и один и другой зовутся плотами. Второй-раз в десять больше. Он сооружен из всевозможных крупных обломков деревянных частей корабля. По краям к нему привязаны большие порожние бочки; они помогают плоту держаться на плаву. Чего только на нем нет! И брезент, натянутый между двумя шестами, как на мачте, и два-три бочонка, и пустой ящик из-под морских сухарей, и весла, и много других предметов морского обихода. Среди этого хаоса вещей расположились человек тридцать. Они сидят, лежат, стоят — словом, занимают самые разнообразные положения.
Некоторые неподвижны, словно спят. Однако их разметавшиеся тела и багровые, возбужденные лица наводят на подозрение, что сон вызван опьянением. Глядя на другую группу людей, на их движения, слыша, как они шумят и горланят, уже не приходится сомневаться: эти-то, несомненно, пьяны
— оловянная кружка все время ходит вкруговую, и запах рома так и бьет в нос. Есть тут и трезвые, но их немного и выглядят они как живые мертвецы — до того измождены, до того изголодались. Со слабой надеждой, кто стоя, кто сидя, поглядывают они временами на водную ширь океана и тут же снова застывают в безысходном отчаянии.
Недаром альбатрос, глядя на этих людей, томится таким нетерпением. Инстинктом хищной птицы он чует, что скоро, очень скоро его ожидает богатое пиршество.
А пока он летит дальше, все дальше на запад. Вот он пролетел еще с десяток миль и снова застыл на месте. Опять какой-то необычный предмет на воде! Только зоркий глаз альбатроса мог его приметить, люди на большом плоту его не видят. На таком расстоянии это сооружение кажется пятнышком, не больше самой птицы. На деле же это хотя небольшая, а все же лодка — корабельная гичка, в которой сидят шестеро. Паруса на гичке нет, да его, видно, даже и не пытались поставить. Есть весла, но никто ими не гребет. Видимо, люди, отчаявшись, побросали их, и теперь гичка, как и плоты, носится в океане по прихоти волн и ветра. А во время штиля гичка, как и оба плота, подолгу застывает на месте.
Если бы альбатрос умел рассуждать, он сообразил бы, что плоты и гичка очутились здесь, вероятно, потому, что где-то неподалеку произошло кораблекрушение и судно либо пошло ко дну, либо погибло в пламени. А миль за десять на восток от меньшего плота он заметил бы более явные доказательства происшедшего несчастья. Там плавали обугленные доски, балки, поручни и другие части корабля, и это означало, что судно погибло не от бури, а от огня. А по множеству всяких обломков, рассеянных по океану на целую милю вокруг, альбатрос догадался бы, что на судне произошел не только пожар, но и страшной силы взрыв.
Если бы альбатрос умел еще и читать, он прочел бы слово «Пандора» и на корме уцелевшей от гибели гички, и на бочках, благодаря которым большой плот стал мореходным, и на двух поперечных досках маленького плота. На них это слово написано еще более крупными буквами. Эти доски, видимо, находились по обеим сторонам бугшприта[193] погибшего корабля. А сорвали эти доски, чтобы построить свой плотишко, те, кто сейчас и ютится на нем. Да, сомнений нет: где-то здесь погибло судно, называвшееся «Пандора».
Глава 2
ПОЖАР НА КОРАБЛЕ
В этой главе мы расскажем историю «Пандоры» во всех ее ужасающих подробностях.
«Пандора»-увы, далеко не единственное невольничье судно, снаряженное в Англии и вышедшее из английского же порта, — занималась перевозкой черных рабов. Как и на всех таких кораблях, его команда, состоявшая большей частью из самых отъявленных негодяев, набиралась где и как придется, так что редко можно было встретить среди этих людей хотя бы двоих одной национальности.
В свой последний перед крушением рейс судно отправилось за «товаром» к берегу Гвинейского залива. Там, скупив и погрузив в трюм пятьсот несчастных чернокожих — пятьсот «тюков», как их, посмеиваясь, называли работорговцы, — судно повезло свой «груз» в Бразилию, на позорный рынок, где в те дни еще процветала торговля неграми. Там существовали специальные приемные пункты, на которых людей с черной кожей открыто покупали и продавали в рабство.
На пути из Африки в Южную Америку глубокой ночью, когда судно плыло в открытом океане, на нем внезапно вспыхнул пожар. Потушить его не удалось. В поднявшейся спешке и панике стали спускать на воду гребные суда. На «Пандоре» их было три. Но катер оказался непригодным, а баркас от свалившейся на него сверху бочки получил пробоину и затонул. В исправности оставалась одна гичка, и, воспользовавшись темнотой, капитан вместе со своим помощником и четырьмя матросами тайком сели в нее и сбежали.
Остальные матросы — их было около тридцати человек — успели соорудить большой плот. Не прошло и нескольких секунд после того, как они отвалили от горящего судна, а пламя уже добралось до бочки с порохом и страшный взрыв потряс корабль, довершив катастрофу.
Но что же стало с «черным грузом»? Об этом страшно даже рассказывать.
Несчастные до последней минуты оставались запертыми за решетками люков, наглухо прибитых к палубе брусьями. Они бы там и погибли, задохнувшись в дыму или сгорев заживо среди пылающих досок, если бы среди покидавших корабль не нашлась одна милосердная душа. Это был юноша, почти подросток. Орудуя топором, он сбил один за другим запоры этой плавучей тюрьмы и помог страдальцам-неграм выбраться наружу.
Увы! Им суждено было спастись от пламени только для того, чтобы погибнуть в черной пучине океана.
Минут через десять после взрыва от всех пятисот негров, насильственно увезенных из родных мест, на поверхности океана не осталось ни одного! Не умевшие плавать сразу пошли ко дну, а умевших пожрали акулы: океан вокруг так и кишел ими.
После этого трагического события прошло несколько дней. С этого момента и начинается наш рассказ. Теперь нетрудно догадаться, что это были за люди, о которых говорилось ранее. Волей случая они оказались на одной параллели и плывут сейчас одни за другими, разделенные лишь несколькими десятками миль.
Небольшая лодка, плывшая на запад, — это та самая гичка, которую захватили свирепый капитан «Пандоры» и его не менее свирепый помощник. С ними — плотник и три матроса, которым они разрешили, предательски бросив остальных, бежать вместе с собой. Темнота помогла им в этом. Однако как ни быстро они гребли, до них еще успели донестись те бешеные проклятия и угрозы, которые посылали им вслед обманутые спутники. Последние и плывут сейчас на большом плоту. Но кто же те двое, отважившиеся довериться третьему, утлому судну, такому жалкому, что, кажется, поднимись только ветер покрепче, и он разнесет его вдребезги, а пассажиров отправит ко дну? Но, к счастью, почти все время после гибели судна на океане царил полный штиль.
Почему же все-таки эти двое, матрос и юнга, будучи членами команды «Пандоры», плывут отдельно ото всех?
На это была своя причина, о которой мы вкратце сейчас и расскажем. Старший пассажир маленького плота звался Бен Брас и считался из всей команды на судне самым лучшим, самым отважным матросом. Никогда не нанялся бы он на такое судно, если бы не натерпелся множества обид на службе во флоте родной Англии. Они-то и довели его до этого безрассудного поступка, и он давно уже в нем раскаивался.
Его юный товарищ тоже оказался жертвой такого же необдуманного шага. Сгорая жаждой повидать свет, он решил стать моряком и убежал из дому, чтобы наняться юнгой. На свое несчастье, он поступил на «Пандору», не подозревая, что она собой представляет. Однако там так жестоко с ним обращались, что он быстро понял опрометчивость своего поступка. С первой же минуты, как юный Вильям ступил на борт этого невольничьего корабля, жизнь стала для него сплошным мучением. И он, конечно, не выдержал бы такого существования, не найдись у него столь мужественного друга, как Бен Брас. Матрос вскоре взял его под свою особую защиту. Друзья чувствовали, что у них нет ничего общего со всей этой шайкой разбойников, — с ними их просто столкнула случайность. И они твердо решили при первой возможности расстаться с этой гнусной компанией.
К несчастью, гибель корабля помешала их намерению. Волей-неволей они очутились со всеми на большом плоту. Если бы Брас и юнга остались на том утлом сооружении, на котором они спаслись с горящего корабля, то они потеряли бы и последний, пусть ничтожный, но все-таки шанс на спасение. Поэтому они и пришвартовались к большому плоту, привязав к нему свой.
Несколько дней и ночей пришлось им опять пробыть в обществе этих отвратительных людей, соединив с ними и свою судьбу. Ночью, по воле изменчивых ветров, их носило на сдвоенных плотах из стороны в сторону, а днем, в штиль, они подолгу стояли на месте.
Однако что же все-таки заставило в конце концов Бена Браса вместе с его юным спутником покинуть большой плот? И каким образом они опять оказались на своем маленьком?
Мы не можем не открыть читателю причину, хотя дрожь берет при одной мысли об этом. Дело в том, что если бы Бен Брас не спас своего юного друга, тот был бы съеден. Отважному матросу удалось предотвратить эту страшную трапезу только благодаря хитро задуманному плану, и притом с риском для собственной жизни.
Произошло это так. Судные запасы провизии, которые этим негодяям удалось захватить с горящего судна, кончились. Они дошли до той степени голода, когда люди не гнушаются самой омерзительной пищей. Но им даже в голову не пришло прибегнуть к принятому в таких страшных случаях обычаю кинуть жребий. Они поступили проще, единодушно договорившись между собой умертвить мальчика и съесть его. Один только Бен воспротивился такому злодеянию.
Но его голос не был принят во внимание. Озверевшие матросы стояли на своем. Единственное, чего удалось добиться защитнику юнги, — это обещания отложить убийство до следующего утра.
Матрос знал, что делал, добиваясь этой отсрочки. Ночью поднялся ветер, и сдвоенные плоты тронулись в путь. А когда океан окутался тьмой, Бен Брас перерезал канат, соединявший оба плота. Вот каким образом они оказались опять только вдвоем и отделались от своих опасных спутников. Как только их отнесло на такое расстояние, что шум весел не мог быть услышан, они принялись грести, уходя все дальше и дальше.
Всю ночь гребли они против ветра. И только когда настало утро и на океане опять начался штиль, они решили передохнуть, зная, что недавние спутники теперь их не видят, потому что они опередили большой плот на добрый десяток миль.
После такой утомительной гребли, да еще пережив до этого столько часов напряженной тревоги, юнга так изнемог, что, едва растянувшись на парусине, уже крепко спал. Но Бен, опасаясь погони, и не подумал ложиться. Он так и простоял все утро на вахте, прикрыв глаза от солнца ладонью и тревожно вглядываясь в сверкающую на солнце поверхность океана.
Глава 3
МОЛИТВА
Тщательно осмотрев океанскую гладь со всех сторон горизонта и особенно с запада, Бен Брас повернулся наконец к Вильяму, за все утро так ни разу и не проснувшемуся.
— До чего устал, бедняга! — пробормотал, глядя на него, матрос. — И не диво, ведь какую неделю мы пережили! Подумать только, как близко он был от смерти! Не мудрено и обессилеть! Но думаю, что не избавился он от этой беды. Как только мальчуган отдохнет, надо снова взяться за веела, а то как бы нас опять не отнесло назад к ним. Конец тогда нам обоим! Не только мальчика, они и меня сожрут за то, что я увез его. Провалиться мне на месте, если это не так!
Матрос помолчал минуту, размышляя, пустятся за ними в погоню или нет.
— Конечно, — забормотал он опять, — против ветра им наш плот не догнать. Только не взялись бы они теперь за весла… Вот и ветер унялся-океан ровно стеклышко. Гребцов там много, да и весел достаточно, — чего доброго, они нас в самом деле нагонят.
— Ой, Бен, милый Бен, спаси меня! Спаси от этих разбойников! — испуганно, должно быть во сне, забормотал юнга.
— Разрази меня гром, если ему не привиделась какая-нибудь дрянь! — сказал матрос, уловив слова юнги. — Уже и во сне разговаривает. Ему, верно, чудится, будто на него собираются наброситься, как той ночью. Не разбудить ли его? Лучше пускай проснется, раз ему такие страхи снятся. А жалко будить, хорошо бы ему еще немного поспать.
— А-а-а! Они хотят меня убить и съесть! — застонал опять во сне мальчик.
— Разрази меня гром, если им это удастся! Вильм, малыш, проснись, проснись! Слышишь? — И, наклонившись над спящим, Бен растолкал его.
— Ах, Бен, это ты? А где же они? Где эти разбойники?
— За тридевять земель от нас. Они тебе только снялись. Вот я и разбудил тебя.
— Как хорошо ты сделал! О, какой страшный сон! Мне снилось, будто они меня съели.
— Полно, Вильм, не съели они тебя и не съедят; вот только если сперва меня прикончат.
— Бен, дорогой, какой же ты хороший! — вскричал юноша. — Ты даже своей жизнью рискнул, чтобы спасти меня. Ах, смогу ли я доказать тебе когда-нибудь, как ценю твою доброту!
— Не стоит об этом и толковать, малыш. Боюсь только, что мало будет проку от того, что мы удрали. Но уж если нам суждено помереть, то какой угодно смертью, лишь бы не такой. По мне, пускай лучше акулы нас сожрут, только не свой брат, не люди. Тьфу! Даже подумать тошно! Ну, а теперь, малыш, не вешай нос! Правда, положение наше с тобой незавидное! Но кто знает, как еще может повернуться дело. Бог не оставит нас. Мы с тобой не видим, а он, может, в эту минуту смотрит на нас. Жалко, не умею я молиться, не обучали меня этому делу. А ты умеешь?
— Умею. Я знаю молитву «Отче наш». Она нам подойдет?
— Конечно! Лучшей молитвы я и не слыхал. Становись-ка, дружок, на колени и читай ее, а я буду повторять за тобой. Совестно сказать, но я, кажется, забыл ее.
Юнга послушно опустился на колени и начал читать молитву. Бесхитростный душой матрос в такой же позе, молитвенно сложив руки на груди, сосредоточенно слушал, вставляя временами слово, два, всплывавшие у него в памяти.
Кончив, оба торжественно сказали «аминь», и Брас, словно почувствовав прилив новых сил, поднял весло и велел юнге взять второе.
— Только бы нам удалось пройти на восток, — сказал он, — и тогда не видать им нас, как своих ушей. Поработаем веслами часа два-три, пока солнце не начнет припекать, и прости они, прощай тогда навеки! Ну, малыш Вильм, за дело! Давай погребем еще немного, а там отдыхай сколько захочешь!
Усевшись на краю плота, матрос опустил весло в воду, действуя им, как гребец, плывущий в каноэ[194]. Вильям сел с противоположного края, и плот, несмотря на полный штиль, двинулся вперед.
Хотя юнге едва исполнилось шестнадцать лет, он мастерски управлялся с веслом, умея грести на разные лады. Вильям овладел этим искусством еще задолго до того, как стал мечтать о море, и теперь его умение пришлось как нельзя более кстати. Вдобавок он был для своих лет очень силен и потому не отставал от матроса. Правда, Бен работал не во всю силу.
Но как бы там ни было, плот под согласными ударами двух весел шел довольно быстро-не так, конечно, быстро, как лодка, но все же делая по два-три узла в час.
Долго грести им не пришлось. С запада подул слабый попутный ветер, помогая им плыть в желаемом направлении. Казалось, это было им на руку. А между тем матрос был, видимо, недоволен, заметив, что ветер дует с запада.
— Не нравится мне этот ветер! — крикнул он юнге. — Дул бы себе откуда угодно, я бы слова не сказал. А этот ветер хоть и помогает нам двигаться на восток, да что толку? Ведь он и их туда же гонит. И с парусом они идут быстрее, чем мы с нашими веслами.
— А почему бы и нам не поставить парус? Как ты думаешь, Бен, смогли бы мы? — откликнулся юнга.
— Об этом самом я сейчас и думаю, дружок. Надо только сообразить, из чего бы нам его сделать. Есть у нас брезент от кливера. На нем мы с тобой сейчас сидим. Но брезент слишком толст. А как насчет веревок? Постой, у кливера есть кусок кливер-шкота-это то, что нам нужно. Есть гандшпуг и два весла. Поставим-ка весла торчком и натянем между ними брезент.
Матрос так и сделал. Оторвав кусок брезента, он натянул его между веслами и крепко привязал к ним. И вот самодельный парус, вздувшись, уже подставлял ветру свои несколько квадратных ярдов, что для такого плота было вполне достаточно.
Теперь оставалось только править и следить за тем, чтобы плот шел по ветру в нужном направлении. Для этого матрос пустил в ход гандшпуг вместо руля или рулевого весла.
Бен Брас, усевшись позади паруса с гандшпугом в руках, с удовлетворением смотрел, как отлично он работает. И действительно, едва только ветер надул парус, как плот поплыл по воде со скоростью не меньше пяти узлов в час.
Едва ли большой плот с его шайкой головорезов, чуть не ставших людоедами, двигался быстрее. Следовательно, на каком бы расстоянии он ни находился, маловероятно, что он их нагонит.
Убедив себя в этом, матрос больше не думал о недавно угрожавшей ему и его юному спутнику опасности. Но, чувствуя, однако, как много страшного ждет их еще впереди, они не могли позволить себе ни обменяться хотя бы единым словом радости, ни поздравить друг друга.
Долго молча сидели они, охваченные отчаянием. Лишь слышно было, как в тишине журчит и плещется вода, вскипающая жемчужной пеной по обеим сторонам плота.
Глава 4
ГОЛОД-ОТЧАЯНИЕ
Но ветер оказался слабым и дул недолго. Такой ветер моряки называют «кошачья лапка». Силы его хватает только на то, чтобы чуть взволновать воду, и длится он обычно не больше часа. И вот опять наступил мертвый штиль, и поверхность океана стала ровной, как зеркало.
Маленький плот недвижимо лежал на воде: самодельный парус был бессилен сдвинуть его с места. Все же он и теперь приносил пользу, заслоняя наших скитальцев от солнца; только что поднявшись над горизонтом, оно тем не менее жгло уже со всей беспощадной силой, свойственной ему в тропиках.
Бен больше не предлагал грести, несмотря на то что угроза погони не миновала. Правда, они подвинулись на пять-шесть узлов к востоку. Но ведь и враги сделали, должно быть, столько же; следовательно, расстояние между ними не увеличилось.
Но оттого ли, что усталость и сознание безнадежности их положения подавили энергию Браса, или, может, матрос, поразмыслив хорошенько, действительно стал меньше бояться погони, только он не проявлял прежнего беспокойства из-за того, что они стоят на месте. Еще раз поднявшись, Бен внимательно, со всех сторон осмотрел горизонт, после чего растянулся в тени паруса, посоветовав юнге сделать то же. Вильям не заставил себя упрашивать и, как только улегся, сразу заснул.
«Хорошо, что он может спать! — подумал Брас. — Малый тоже ведь зверски голоден, вроде меня, ну, а пока спит, меньше мучится. Говорят, кто спит, может дольше продержаться. Не уверен я-так оно или не так. Одно знаю, что сколько раз, бывало, наемся я до отвала перед сном, а утром, смотрю, просыпаюсь такой голодный, будто лег, не взяв в рот и кусочка. Ох-хо-хо! Нечего и пробовать заснуть. Кишки в животе такой марш играют, что не только мне-самому старику Морфею[195] вздремнуть не дадут. Хоть бы крошка чего-нибудь съестного на плоту! Последнюю четвертушку сухаря я проглотил больше полутора суток назад. Ох, чего бы такого съесть?.. Ничего не придумаешь. Башмаки, что ли, пожевать? Да нет, они так просолены морской водой, что от них только пуще пить захочется, а мне и без того больше невмоготу терпеть жажду. Вот беда! Ни еды, ни питья! Что ж это будет? Господи, услышь ты хотя бы молитву малыша Вильма! Моей молитвы ты, конечно, не станешь слушать — слишком большой я нечестивец. Ох-хо-хо! Еще день, два такой голодухи, и мы с Вильямом, пожалуй, оба заснем так, что больше уже и не проснемся».
Всю эту речь, произнесенную им про себя, отчаявшийся матрос закончил таким жалобным стоном, что Вильям сразу очнулся от своего беспокойного, чуткого сна.
— Что случилось, Бен? — спросил он, приподнявшись на локте и тревожно всматриваясь в лицо своего покровителя.
— Ничего особенного, — ответил матрос. Ему не хотелось пугать юношу своими мрачными мыслями.
— Ты стонал или это мне только показалось? Я испугался — думал, они нас догоняют.
— Нет, малыш, этого я не боюсь. Они, должно быть, от нас здорово отстали. При этаком штиле им лень будет и пальцем шевельнуть, не то что грести — по крайней мере, пока у них в бочонке остается хоть капля рома. Ну, а когда они весь его выдуют, то и вовсе не поймут, двигаются они или это их так спьяну качает. Нет, Вильм, не их нам сейчас надо бояться…
— Ох, Бен, я так голоден!.. Я бы что угодно сейчас съел!
— Знаю, малыш, анаю. Мне тоже до смерти есть хочется.
— Тебе-то, должно быть, еще больше моего, Бен. Ведь из двух твоих сухарей ты больше половины отдал мне. Ах, зачем я только взял! Теперь ты, наверно, ужасно мучишься от голода.
— Верно, Вильм, страх как хочется есть. А съел ли я сухаря кусочком больше или меньше, от этого дело не меняется. Все равно придется нам…
— Что «придется нам», Бен? — спросил юнга, заметив, какая тень легла на лицо его друга: таким мрачным и печальным он никогда еще его не видел.
Матрос промолчал. Он ничего не сумел выдумать, а сказать правду не захотел, жалея мальчика, и, отвернувшись, так ничего и не ответил.
— Я знаю, что ты хотел сказать, Бен. Ты думаешь, что нам придется умереть.
— Что ты, что ты, Вильм! Еще есть надежда. Кто знает, как еще дело обернется. Может, мы на нашу молитву получим ответ? Вот что, малыш: давай-ка снова ее всю прочитаем. На этот раз я больше смогу тебе помочь. Когда-то и я ее знал, а послушав, как ты читал, многое вспомнил. Начинай.
Вильям, укрывшись в тени паруса, стал на колени и опять произнес молитву. Матрос, тоже на коленях, своим огрубевшим голосом повторял за ним каждое слово.
Когда они кончили, Бен поднялся и долго-долго смотрел на океан.
Молитва облегчила бесхитросчную душу матроса, и на минуту его лицо осветилось надеждой… но только на минуту. Ничего утешительного глазам его не представилось. По-прежнему кругом простирался все тот же беспредельный, синий океан, а над ними все то же беспредельное синее небо.
Ненадолго согревшая душу надежда сразу же сменилась полным отчаянием, и матрос снова улегся ничком позади паруса. И опять оба друга молча лежали рядом. Но ни тот, ни другой не спали. Они словно оцепенели, сраженные полнейшей безнадежностью.
Глава 5
ВЕРА — НАДЕЖДА
Как долго матрос и юнга пролежали в этом полубесчувственном состоянии, они не заметили. Во всяком случае, оно длилось, должно быть, не больше нескольких минут, потому что в таких обстоятельствах ум человека не в силах долго оставаться бездейственным.
Из этого состояния их неожиданно вывела не мысль, возникшая в сознании, а скорее чисто внешнее, зрительное впечатление.
Они лежали на спине с открытыми глазами, устремленными в небо. На нем не было ни облачка, которое сколько-нибудь разнообразило бы его однотонную, бескрайнюю синеву.
И вдруг эта однообразная синева вся расцветилась, запестрела множеством каких-то живых существ, которые, сверкая и искрясь, словно серебряные стрелы, пронеслись мимо них над плотом. В ярком солнечном свете мелькнули они изголуба-белыми пятнами, и в этих светлых ярких созданиях, которых по полету можно было принять за птиц, матрос узнал обитателей океанских глубин.
— Косяк летучей рыбы, — вяло заметил он, даже не приподнявшись.
И вдруг, увидев, как эти рыбы низко, чуть не задевая за парус, продолжают летать над плотом, матрос вскочил на ноги и крикнул:
— А что, если нам сбить одну из них?! Где гандшпуг?
Впрочем, последний вопрос он задал совершенно машинально, потому что тут же, не дожидаясь ответа, резким движением схватил гандшпуг, лежавший неподалеку от него, и высоко занес его над головой.
Возможно, ему удалось бы сбить одно из этих крылато-плавающих созданий, стаей носившихся над ними, выскакивая из океана на поверхность, чтобы спастись от альбакоров и бонит. Но гандшпуг не понадобился: на самом плоту нашлось более верное средство добыть рыбу — сделанный Беном парус. Только матрос собрался было замахнуться гандшпугом, как что-то сверкнуло прямо перед его глазами, а до ушей донесся радостный возглас Вильяма: одна из летучих рыб с размаху ударилась о парус и, конечно, свалилась на плот. Слышно было, как она трепыхалась, путаясь в брезенте, видимо более изумленная, чем сам Брас, свидетель ее несчастья, или чем юнга Вильям, на лицо которого она свалилась. Если, как говорят, птица в руках стоит двух в кустах, то, руководствуясь той же поговоркой, рыба в руках стоит, должно быть, двух в воде и уж гораздо больше двух в воздухе.
Такие мысли мелькнули, вероятно, в голове у Бена Браса, потому что он, перестав размахивать гандшпугом в надежде оглушить и вторую рыбу, швырнул его на плот, а сам, нагнувшись, рванулся за той, которая по своей доброй воле или, вернее, вопреки ей оказалась их жертвой.
Она так металась, что могла, очутившись у края плота, вот-вот уйти в воду. Этого, несомненно, очень хотелось самой рыбе, но совсем не хотелось обитателям плота.
И чтобы этого не случилось, они бросились на колени, ползая, стали охотиться за рыбой, напоминая в эту минуту двух терьеров, которым не терпится поскорее вцепиться в мечущуюся между ними полевую мышь.
Юнге дважды удавалось схватить рыбу, но это скользкое создание со своими колючими плавниками-крыльями всякий раз ухитрялось выскочить из рук. Еще неизвестно было, поймают ли они ее или им суждено только испытать танталовы[196] муки и, глядя на рыбу, касаясь ее, раздразнив свой аппетит, так и не полакомиться своей добычей.
Одна мысль о таком печальном исходе заставила Бена Браса напрячь все свои усилия, всю энергию. Он даже решил, что, если рыба упадет в воду, он тут же кинется следом за ней, поскольку рыбу, которая снова попадает в свою родную стихию, надо ловить, не медля ни одной секунды, пока она еще не успела опомниться. И только он подумал об этом, как ему подвернулся более надежный способ поймать ее, для чего совсем не было надобности прыгать за ней в океан и промокнуть до нитки.
Судорожно метавшаяся рыба действительно очутилась у самого края плота. Но ей не суждено было двинуться дальше. Брас сообразил, какой козырь идет ему в руки, и незакрепленным краем паруса накрыл забившуюся под ним пленницу. Сильно притиснув ее ладонью, Бен положил таким образом конец ее бешеным усилиям освободиться. И когда он приподнял парус, то увидел, что рыба лежит, чуть сплющившись; и, лишнее, конечно, добавлять, мертвая, как соленая селедка.
Простодушный матрос усмотрел в этой так вовремя посланной им пище всемогущую руку Провидения. И, не задумываясь, приписал это силе дважды ими прочитанной молитвы.
— Видишь, Вильм, это нам ответ на молитву. Давай-ка прочитаем ее еще разок, как бы в благодарность. Пославший нам еду может послать и пресную воду в открытом океане. Ну, малыш, как говорил, бывало, наш священник в церкви: Господу нашему помолимся!
И, закончив эту речь, хотя и произнесенную с торжественной серьезностью, но прозвучавшую довольно комически, матрос опустился на колени, вторя своему юному товарищу.
Глава 6
ЛЕТУЧАЯ РЫБА
Летучая рыба является одним из самых примечательных «чудес» океана. Вот почему мы в нашем повествовании, посвященном главным образом описаниям его глубин, не можем ограничиться краткой заметкой о ней.
Еще в самые давние времена, когда люди впервые стали плавать по морям и океанам, они с изумлением наблюдали одно явление, которое и в наши дни не только поражает каждого, кто впервые его видит, но и поныне остается загадкой. Рыба, существо, которому самой природой положено всегда пребывать в воде, выскакивает вдруг из глубин океана на поверхность и совершает прыжок высотой чуть ли не с двухэтажный дом! К тому же, прежде чем вернуться в свою естественную стихию, она, находясь в воздухе, может пролететь в длину на расстояние одной стадии[197]. Удивительно ли, что это зрелище поражает даже самого равнодушного наблюдателя, заставляет задуматься любознательного, а для естествоиспытателя служит предметом самых интересных исследований.
Летучая рыба редко где водится, кроме теплых широт. Поэтому не многим из тех, кто не бывал в тропиках, случалось наблюдать ее в полете.
Существует не один вид летучих рыб; больше того, они столь разнообразны, что образуют два семейства, весьма разнящихся между собой.
Прежде всего мы скажем о двух видах летучих рыб, принадлежащих к роду летучек.
Один из этих видов — летучка европейская — водится не только в умеренных и тропических частях Атлантического океана, но и в Средиземном море. Эта пятнисто-бурая рыба достигает полуметра в длину. Ее огромные грудные плавники с острыми лучами придают головастой рыбе странный вид: во время полета она выглядит колючей «растопырой».
Другой вид летучек — летучка восточная — живет в Индийском океане.
Выскакивая из воды, летучки пролетают до ста метров и опускаются на воду. Нужно сказать, что летают они тяжеловато.
Долгоперы — вот кого можно назвать хорошими летунами! И сама их внешность говорит об этом.
У долгоперов — стройное вытянутое тело, небольшая голова, глубоко вырезанный хвостовой плавник и очень длинные заостренные грудные плавники. Огромный плавательный пузырь занимает половину объема тела долгопера. Это очень важное обстоятельство: уменьшается вес рыбы и облегчается ее полет.
Известно много видов долгоперов.
По своим повадкам они очень схожи друг с другом, но различаются окраской и теми или иными особенностями строения.
Долгоперы встречаются не только во всех морях жарких и тропических стран. Один из видов долгоперов живет в Средиземном море, можно увидеть его и у берегов Англии. Есть долгоперы и в северной части Японского моря.
Пищей долгоперам служат рачки, плавающие моллюски и мелкая рыба. И сами они-добыча для более крупных рыб, например тунцов. Охотятся за ними и дельфины.
Спасаясь от врагов, долгоперы выскакивают из воды и несутся по воздуху. Но не всегда им удается уцелеть. В воздухе тоже есть враги: альбатросы и другие птицы открытого моря.
Летит долгопер наподобие бумажной стрелы — он планирует. Движущая сила-толчок хвостом, удар им по воде.
Спасаясь от преследователя, рыба мчится в воде, изо всех сил работая хвостом. Вот она поднялась к самой поверхности, высунула из воды голову… Мгновение — и сильный толчок-удар хвостом выбрасывает рыбу из воды.
О силе толчка можно судить по тому, что рыба поднимается на четыре, пять и даже шесть метров над водой. И она летит сто, полтораста и даже более метров. Конечно, прыжок может быть и ниже, а полет короче.
Продолжительность полета — от нескольких секунд до минуты. И понятно, чем сильнее разогналась рыба еще в воде, чем сильнее был последний удар хвостом, тем выше над водой она поднимется. А это означает, что тем дольше она продержится в воздухе; длиннее окажется спуск на воду.
Против ветра летучая рыба летит дальше, чем по ветру.
Во время полета долгопер, как и всякая летучая рыба, не машет своими огромными плавниками. Он не работает ими, как птица крыльями. Плавники помогают рыбе удержаться в воздухе — они служат своеобразным парашютом, но и только.
Летучие рыбы нередко взлетают около судна: врезавшись в стаю, судно вспугивает рыб. И они спасаются от него своим обычным способом: летят. Но они не так уж часто падают на палубу судна, особенно днем. В ветреные ночи это случается при боковом ветре. Причина проста: ветер заносит летучих рыб на судно.
Стайку долгоперов, поднявшихся в воздух, по ошибке легко принять за белокрылых птиц. Но сверкающий— особенно на солнце — блеск чешуи говорит о том, что перед нами рыбы.
Какое это очаровательное зрелище! Никто не может им вдоволь налюбоваться: ни старый «морской волк», наблюдающий его, должно быть, в тысячный раз, ни юнга, совершающий свой первый рейс и увидевший его впервые в жизни.
Сколько раз долгие часы скуки, томящие пассажира корабля, когда он сидит на корме, неустанно глядя на бесконечное водное пространство, сразу сменялись веселым оживлением при виде стайки летучих рыб, внезапно, сверкая серебром, поднявшихся из глубин океана!
Кажется, на свете нет существа, у которого было бы столько врагов, как у летучей рыбы.
Она ведь и в воздух-то поднимается для того, чтобы спастись от своих многочисленных преследователей в океане. Но это называется «попасть из огня да в полымя». Спасаясь от пасти своих постоянных врагов: дельфинов, альбакоров, бонит и других тиранов океана, она попадает в клюв к альбатросам, глупышам и прочим тиранам воздуха.
Многие испытывают жалость, или, во всяком случае, говорят, что ее испытывают, по отношению к этим прелестным и на вид столь невинным, слабеньким жертвам. Их состраданию наносится жестокий удар, когда они узнают, что эта «милая» рыбка ничем не лучше щуки и, подобно ей, является одним из тиранов океана. Она, оказывается, тоже самым безжалостным образом истребляет мелкую рыбешку — любую, какая только может пролезть ей в глотку!
Кроме этих двух описанных нами видов летучей рыбы, существуют еще некоторые другие обитатели океана, способные держаться в воздухе, — правда, всего в течение нескольких секунд. Они наподобие летучих рыб выскакивают из воды и целыми стаями поднимаются в воздух, спасаясь, как и летучие рыбы, от своих врагов — альбакоров и бонит. Это скорее головоногие моллюски. Китобои на Тихом океане называют их «летучие каракатицы».
Глава 7
ЖИВИТЕЛЬНАЯ ТУЧА
Летучая рыба, столь чудесно попавшаяся к двум смертельно голодным, затерянным в океане людям, принадлежала к особому виду «экзоцетус эволанс», или, как называют ее моряки, «испанская летучая рыба», — общеизвестная обитательница жарких широт Атлантического океана. Спинка и бока у нее были голубовато-стального цвета, брюшко — оливкового, отливающего серебристо-белым, а крупные плавники-крылья — пыльно-серого оттенка. Пойманная рыба была сравнительно крупным экземпляром — длиной в фут и почти в фунт весом.
Что и говорить, двум таким изголодавшимся людям ее хватило, что называется, на один зуб. Но все-таки немножко она их подкрепила.
Надо ли даже упоминать о том, что съели они ее сырой. Конечно, при других обстоятельствах они сочли бы это тяжелым испытанием, но сейчас им даже в голову не пришло разбирать, сырая она или вареная. Она им показалась настоящим деликатесом, и они только пожалели, что им досталось так мало.
Между прочим, летучая рыба — конечно, не сырая — является действительно одним из самых лакомых блюд, напоминая по вкусу свежую, хорошо приготовленную сельдь.
Но вот пришла новая беда. Теперь, когда они слегка заморили червячка, жажда, которая и без того изрядно их мучила, еще усилилась. Может быть, виновата в том была рыба с ее солоноватыми соками, но только не прошло и нескольких минут после того, как они ее съели, а жажда стала уже нестерпимой.
Переносить сильную жажду всегда и везде очень тяжело. Но нигде она не бывает так мучительна, как в море. Самый вид обилия воды, которую нельзя пить, потому что ею так же невозможно утолить жажду, как и сухим песком в пустыне, непосредственная близость этой водной стихии скорее распаляют жажду, чем облегчают ее. Что толку от того, что вы, окунув пальцы в соленую воду, попытаетесь охладить ею горящий язык и губы или смочить рот? Проглотить-то ее все равно нельзя! Это то же, что пытаться утолить жажду горящим спиртом. Стоит только взять в рот немножко этой горьковато-соленой влаги, как слюнные железы моментально пересыхают и всю внутренность начинает жечь с удвоенной силой.
Бен Брас хорошо знал это и раз или два, когда юнга, зачерпнув ладонью немного морской воды, подносил ее к губам, чтобы выпить, матрос уговаривал его не делать этого, потому что это только усилит мучения. Обнаружив у себя в кармане свинцовую пулю, Брас дал ее мальчику, посоветовав взять в рот и сосать. Это, учил его Бен, усилит выделение слюны и рот не будет так пересыхать. Конечно, это жажды не утолило, но стало как будто легче терпеть.
Сам Бен приложил топор лезвием к губам и, то прижимая язык к железу, то покусывая его, пытался добиться такого же результата.
Но все это служило только жалкими средствами уменьшить страшную жажду, которая вытеснила у них все мысли, все чувства — и веселые и грустные. Ни о чем, кроме нее, они больше не в силах были думать: все было заслонено этой мукой. Даже мысль о голоде отошла на задний план, ибо чувство даже сильнейшего голода куда менее мучительно, чем чувство сильной жажды. От голода тело слабеет, и от физического истощения притупляются нервы, отчего тело становится менее восприимчивым к переносимым страданиям. Между тем даже при самой нестерпимой жажде тело не теряет прежней силы и потому ощущает ее острее.
Так они мучились уже в течение нескольких часов и все это время не проронили почти ни слова. Лишь изредка матрос пытался ободрить своего юного друга, но чувствовалось, что слова утешения слетали с его уст совершенно механически и что, произнося их, он сам потерял всякую надежду на спасение. Но как ни мало осталось ее, он временами вставал, чтобы изучать горизонт; когда же его поиски заканчивались полным разочарованием, он опять опускался на брезент и, то лежа, то стоя на коленях, на короткий миг словно цепенел от отчаяния.
Из этого настроения его внезапно вывело одно обстоятельство, на которое юнга, хотя и заметивший его, не обратил никакого внимания. Неведомо откуда вдруг взявшаяся туча закрыла солнце — только и всего.
«Что это его так удивило?» — подумал Вильям, увидев, как поразило его товарища это незначительное явление. Действительно, Бен Брас, заметив тучу, вскочил и жадно уставился на небо. Лицо его преобразилось. Глаза, в которых только что читалось одно мрачное отчаяние, заблестели надеждой. Поистине, туча, омрачившая лик солнца, произвела, казалось, прямо противоположное действие на лицо матроса.
Глава 8
БРЕЗЕНТОВЫЙ «БАК»
— Что с тобой, Бен? — спросил Вильям охрипшим, сдавленным голосом — так пересохло у него от жажды горло. — У тебя такой сияющий вид. Ты увидел что-нибудь хорошее?
— Вот что я увидел! — показал матрос на небо.
— Ничего не вижу, кроме этой большой тучи… только что за ней пряталось солнце. Что же тут особенного?
— Что особенного? Если мне это не показалось, туча несет нам то, чего мы с тобой хотим больше всего на свете!
— Воду?! — задыхаясь, крикнул Вильям, и глаза у него засияли от радости. — Ты думаешь, это дождевая туча?
— Я не буду Бен Брас, если это не дождевые тучи. Ты только взгляни, сколько их нашло! Мне никогда не приходилось видеть, чтобы такая гряда туч не разразилась дождем. И если ветер нагонит их сюда, они угостят нас таким ливнем, что только держись. Главное-они спасут нас от смерти… Смотри-ка, малыш! — закричал матрос. — Ветер гонит их к нам. Там, на западе, их немало собралось, и ветер дует оттуда. Ура, Вильям! Там уже идет дождь. Это так же верно, как меня зовут Бен Брас! Посмотри, какая мгла стоит в той стороне над океаном! Дождь от нас еще далеко, примерно милях в двадцати, но ничего, ничего: если только ветер не переменит направления, дождь должен дойти до нас.
— Но если б это и случилось, Бен, нам-то что толку от этого? Дождем не напьешься, в рот попадут только отдельные капли. А набрать воду нам не во что.
— Как — не во что! А на что наше платье, наши рубахи? Если только начнется дождь, он хлынет как из ведра. Я знаю, какой он бывает в этих местах. На нас и нитки сухой не останется: штаны, куртка, рубаха — все до последнего лоскуточка насквозь промокнет. Мы выжмем из них досуха воду и ею напьемся.
— Но куда же мы ее выжмем? Посуды-то у нас нет!
— Куда выжмем? Прежде всего себе в рот, а потом… В самом деле… Вот жалость! Как же это я не сообразил! Ведь нам и вправду некуда ее девать… Во всяком случае, главное сейчас-это вволю напиться, а там потерпим опять. И рыбки мы уж как-нибудь да наловим, только бы сейчас, сию минуту, хорошенько напиться воды! Эх! А дождь, смотри, все ближе к нам и ближе. Видишь те черные тучи? Молния по ним так и чиркает. Значит, наверняка сейчас и здесь хлынет дождь. Давай все с себя снимем и расстелим на плоту, чтобы дождь нас не застал врасплох.
И Бен Брас быстро принялся стаскивать с себя матросскую куртку, как вдруг, остановив на чем-то взгляд, задержал это движение на мгновение, и у него вырвалось одно слово: «Брезент!»
И матрос показал рукой на просмоленный брезент, служивший им теперь парусом, а раньше, на «Пандоре», навесом для кормового люка. Однако юнга не понял, что он хотел сказать этим движением.
Заметив недоуменный взгляд мальчика, Бен не стал его томить:
— По-твоему, нам не во что набрать воды? Так, кажется, ты сказал? А это что, Вильм?
— О! — вскрикнул юнга, поняв наконец мысль матроса. — Ты думаешь..
— Я думаю, Вильм, что нам этой тары хватит с излишком: в нее войдут десятки галлонов воды.
— А разве брезент не даст ей просочиться?
— Конечно, недаром мы сделали его непромокаемым! Я ведь сам помогал промазывать его смолой. Из него получится такой бак, что лучше не надо. Расстелим брезент так, чтобы в середке у него образовалась впадина, и, когда начнется дождь, он столько нальет в нее воды, что хоть плавай в нем, как по озеру. Ура-а-а! Сейчас и здесь польет!.. Погляди-ка туда вон-дождь совсем рядом!.. Готовься! Убирай грот-мачту, отвязывай снасти! Вместо того чтобы, как поется в песне «Раскинем наш парус ветру навстречу», раскинем-ка мы его на плоту навстречу дождю. Живее, Вильм, живее, дружок!
Миг — и юнга уже был на ногах. Оба быстро принялись отвязывать веревки, удерживающие брезент, и через несколько секунд парус лежал на плоту. «Мачты» решено было оставить пока на месте, потому что они были прочно установлены в гнезда.
Сначала матрос решил, что они будут держать брезент на весу. Но у него было время хорошенько все обдумать, и он изменил свой первоначальный план. План этот тем не годился, что руки обоих оказались бы заняты. Положим, водичка и попала бы к ним в брезент, ну а потом? Что они стали бы с ней делать, как пить?
И Бен нашел выход. Взяв с плота парусину кливера, вместе с юнгой они соорудили из нее род низкого замкнутого барьера овальной формы, затем наложили брезент так, что он не только накрыл этот барьер, но часть его еще заходила за края. Потом они вдавили брезент в середине, отчего в нем получилось углубление достаточной емкости.
Они очень тщательно, что было необходимо в данном случае, просмотрели весь брезент, нет ли в нем прорех — как бы не вытекла драгоценная влага! Убедившись, что брезент цел, матрос взял Вильяма за руку, и, опустившись на колени, два друга жадно уставились на небо, глядя, как приближаются низкие, черные тучи, несущие им спасение.
Глава 9
ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ
Ждать им пришлось недолго. Гроза надвигалась все ближе и, к величайшему блаженству матроса и юнги, разразилась таким ливнем, словно у них над головой пронесся водяной смерч.
Не прошло и минуты — углубление в брезенте наполнилось водой на целую четверть. И оба жаждущих уже лежали ничком над ним, почти касаясь головами, и, приникнув к воде губами, жадно всасывали в себя чудесную влагу почти с такой же быстротой, с какой она лилась сверху.
Долго лежали они все в той же позе, наслаждаясь льющейся с неба водой. Ничего более вкусного они в жизни не пили! И так поглощены они были этим блаженным занятием, что, пока не напились до отвала, не произнесли ни одного слова. Зато промокли они насквозь: тропический ливень — непрерывный поток тяжелых, крупных капель — сразу же промочил их до нитки. Но наши друзья не сетовали на это, а, наоборот, наслаждались душем. Прохладная дождевая вода приятно освежила тело, сожженное палящим солнцем.
— Ну, малыш, — сказал Бен, отдуваясь после того, как проглотил не меньше галлона дождевой воды, — не говорил ли я тебе, что если мы получили в самое трудное для нас время еду, то получим и воду? Ты только посмотри, сколько ее натекло! Теперь нам надолго хватит воды и наше дело — не дать ей испариться. Если это случится, мы сами будем виноваты и, значит, стоим того, чтобы помереть от жажды.
— Но что мы можем сделать, когда нам не в чем ее сохранить?
— Надо что-то придумать. Дождь скоро перестанет. Возле экватора всегда так: хотя он и ливмя льет, а длится всего полчаса или того меньше. И только ливень кончится, снова выглянет солнце и начнет по-прежнему припекать. Тогда погибла наша вода — высохнет еще быстрее, чем налилась, если мы, конечно, оставим ее здесь… Увидишь, через полчаса наш брезент будет таким же сухим, как пух на спинке у глупыша.
— Неужели? Что же нам сделать, чтобы вода не испарилась?
— Дай подумать, — ответил матрос, почесывая в затылке. — Может, к тому времени, как дождь кончится, я что-нибудь соображу.
Несколько минут матрос просидел молча, озабоченно размышляя. Вильям с нетерпением следил за ним, ожидая результатов.
И вдруг вся физиономия матроса расплылась в улыбке — юнга понял, что он нашел удачный способ сберечь воду.
— Ну, малыш, дело наше, кажется, пойдет на лад. Я придумал, как нам обойтись без бочки.
— Правда, Бен? Ну как, как?
— Обойдемся брезентом. Он будет держать воду не хуже стеклянной бутылки. Я сам его промазал смолой, а уж если я что делаю, то делаю на совесть. Так и нужно, Вильм, правда?
— Правда, Бен.
— То-то оно и есть, малыш. Возьми и ты себе за правило — работать только добросовестно! Хорошая работа редко когда подводит. Зато плохая против тебя же оборачивается. Увидишь, мой брезент нас еще выручит…
Матрос прервал свои наставления, потому что дождь прошел и солнце, выглянув из-за туч, стало припекать по-прежнему.
— Ну, Вильм, давай приниматься за дело-у нас считанные минуты. Только сперва выпьем еще немножко воды, пока я не заткнул пробкой нашу бутыль.
Вильям, правда, не совсем понял, про какую бутыль с пробкой говорит матрос, однако послушно опять растянулся над углублением в брезенте и стал усердно пить. Бен сделал то же самое и втянул в свой объемистый желудок по меньшей мере еще несколько пинт живительной влаги. Затем поднялся, удовлетворенно крякнул и знаком велел подняться Вильяму.
Перед тем как приступить к работе, Бен рассказал юнге, в чем состоит его план. Благодаря этому Вильям мог быстро, толково ему помочь, ни на минуту не задерживая, что значительно облегчило дело, так как выполнить его можно было только вдвоем и работая во всю силу.
План Бена был довольно остроумен и в то же время прост. Сначала надо было приподнять все четыре угла брезента, а потом и все края, да так, чтобы не выплеснуть воду через кромку полотнища, и затем свести все концы вместе. Таким образом у них получился мешок с туго стянутым отверстием. Правда, немного воды при этом все-таки вылилось. И в то время как Бен держал мешок, плотно сжав складки у горловины, юнга ловко перехватил его под самыми руками Бена заранее приготовленной из толстой веревки петлей. Другой конец веревки он обмотал вокруг одной из «мачт» и стал ее затягивать. Когда он туго затянул брезент и матрос мог освободить руки, они уже вдвоем обхватили мешок второй петлей пониже и на всякий случай, дважды обмотав вокруг него веревку, завязали ее крепким узлом.
Лежавший на плоту брезент с водой походил на гигантское брюхо какого-нибудь диковинного зверя, вымазанное смолой. Но для того чтобы вода не просачивалась через складки, его нужно было держать всегда горловиной кверху. Это было делом нетрудным. Они подвесили мешок к верхушке весла-мачты, дважды обмотав другой конец веревки вокруг нее и тоже завязав крепким узлом. Теперь вода в брезентовом «баке» могла бултыхаться сколько ей угодно — вылиться ей все равно неоткуда.
Итак, им удалось запастись по меньшей мере двенадцатью галлонами питьевой воды, и хранилась она в надежной таре, полностью удовлетворявшей Бена.
Глава 10
ЛОЦМАН-РЫБА
После чудесного избавления от самой мучительной из всех видов смерти — смерти от жажды, матрос стал еще больше надеяться, что им удастся найти выход из отчаянного положения. И они с юнгой решили сделать все, чтобы эта надежда осуществилась.
Теперь у них был основательный запас воды, и при достаточной экономии им должно было хватить его надолго. Обеспечить бы себя теперь таким же запасом пищи, и тогда они, возможно, и продержатся, пока какой-нибудь проходящий мимо корабль не подберет их. А какое же еще могло быть средство спасения?
Раздобыть пищу — значило для них выловить ее из воды. Конечно, в этом бескрайнем океанском бассейне еды было сколько угодно — дело было только за способом ее получить.
Матрос хорошо понимал, что рыб, этих пугливых обитателей океана, не так-то легко поймать. При тех жалких способах рыбной ловли, какие у них имелись, все усилия поймать хотя бы одну рыбку могут окончиться неудачей.
Однако попытаться стоит. И матрос с юнгой приступили к работе с той бодрой уверенностью, с какой энергичные люди обычно берутся за трудное дело.
В первую очередь надо было приготовить удочки и крючки. Случайно у них нашлось несколько булавок, и Бен смастерил изрядное количество крючков. Для лесок они рассучили на отдельные пряди канат и сплели из них веревки нужной толщины. Из кусочков дерева подходящего размера сделали поплавки, а на грузило пошла та самая свинцовая пуля, с помощью которой бедняжка Вильям еще так недавно и безуспешно пытался утолить муки жажды. Кости и плавники летучей рыбы-все, что от нее осталось, — послужат наживкой. Не очень, правда, заманчивая приманка: на ней не осталось и намека на мясо, но Бена это не смущало. Он по опыту знал, что в океане много таких рыб, которые проглотят, не разбирая, хотя бы кусок тряпки.
В течение дня они много раз видели рыбу у плота. Но, страдая от жажды больше, чем от голода, и отчаявшись утолить ее, они и не думали заняться рыбной ловлей. Зато теперь они решили взяться за это дело всерьез.
Дождь прошел, ветер утих, океан походил на стекло. Тучи растаяли, и на ясном небе опять ослепительно сверкало знойное солнце.
Бен стоял на плоту, держа удочку, наживленную кусочком плавника летучей рыбы, и внимательно всматривался в воду. Она была так прозрачна, что на глубине в несколько саженей можно было бы разглядеть даже самую маленькую рыбку.
Вильям стоял у противоположного края с удочкой в руках, тоже в полной боевой готовности.
Долгое время их усилия оставались безрезультатными: вода кругом словно вымерла. Ни единого живого существа, ничего, кроме бесконечной синевы океана
— прекраснейшего зрелища, угнетавшего их сейчас своим однообразием.
Так простояли они с час, когда вдруг юнга радостно вскрикнул. Обернувшись, матрос увидел, что к краю плота, где стоял Вильям, подплыла рыба. Она-то и вызвала радостный возглас мальчика, уже собиравшегося забросить удочку. Но его радость сразу померкла: он заметил, что его покровитель совсем ее не разделяет. Наоборот, Бен при виде этой рыбы почему-то нахмурился.
Но почему? Что ему в ней не понравилось? Рыба была очень красива — маленькая, безукоризненной формы и прелестной расцветки: светло-голубая с поперечными кольцами более темного оттенка. Отчего же у Бена при взгляде на нее так вытянулось лицо?
— Незачем тебе забрасывать удочку, Вильм, — сказал он. — Эта рыбка не возьмет твоей наживки… не она ее возьмет.
— Почему? — удивленно спросил юнга.
— А потому, что у нее найдутся дела поважнее; ей сейчас не до того, чтобы промышлять для себя пищу. Верно, где-то здесь близко ее хозяин.
— Хозяин? Я что-то тебя не понимаю, Бен. Что это за рыба?
— Лоцман-рыба… Видишь, она уходит? Возвращается к тому, кто послал ее.
— Да кто же мог ее послать, Бен?
— Понятно кто: акула!.. Ну что, говорил я тебе? Взгляни-ка в ту сторону. Черт возьми, их целых две! Да какие крупные! Разрази меня гром, если мне когда-либо приходилось видеть этакую парочку! Ты посмотри, какие у них плавники, словно паруса! Лоцман-рыба уходила за ними, чтобы проводить их сюда… Пускай меня повесят, если они не к нам плывут!
Взглянув туда, куда указывал Бен, Вильям заметил два громадных, торчащих на несколько футов из-под воды, спинных плавника. Он сразу узнал по ним белых акул, так как ему уже не раз приходилось видеть этих океанских чудищ.
Действительно, все произошло так, как говорил Бен Брас. Рыба, только что плывшая саженях в двадцати от плота, вдруг круто повернулась и поплыла назад к акулам. А теперь она снова плыла сюда, держась на несколько футов впереди акул, словно в самом деле вела их к плоту.
«Но отчего у Бена такой встревоженный голос? — подумал юнга. — Видно, близость этих безобразных тварей таит в себе опасность!» Вильям угадал: Бен действительно был встревожен. Конечно, находясь на борту большого судна, можно было бы без страха глядеть на подплывавших акул. Но совсем другое дело
— этот зыбкий помост, такой плоский, что ноги у них находились почти вровень с водой: акулы легко могли напасть на них.
Матрос сам не раз был свидетелем таких случаев. И потому неудивительно, что, по мере того как акулы приближались, он испытывал уже не тревогу, а настоящий страх.
Но события развертывались так стремительно, что Брас не успел даже подумать, что предпринять в случае нападения, а юнга — расспросить его о повадках белых акул.
Едва Бен договорил последние слова, как акула, плывшая впереди, яростно хлестнула по воде своим широким, раздвоенным хвостом и, одним броском кинувшись к плоту, ударилась об него с такой силой, что он чуть было не перевернулся.
Вторая акула тоже метнулась к плоту, но, взяв почему-то в сторону, вцепилась своей огромной пастью в выступ одного из брусьев плота и перекусила его, словно брус был из пробкового дерева.
Мигом проглотив целиком огромный кусок, она перевернулась в воде, собираясь ринуться в новую атаку.
Брас с Вильямом побросали удочки. Матрос инстинктивно схватился за топор, юнга — за гандшпуг, и вот уже оба стояли рядом, приготовившись к новому нападению врага.
Оно не замедлило повториться. Только что нападавшая акула вернулась первая. Стрелой устремилась она вперед, выскочив чуть не всем туловищем из воды, и ее отвратительная морда очутилась над самым краем плота.
Еще секунда — и шаткий плот перевернулся бы или погрузился бы в воду, и тогда они достались бы акулам.
Но Бен Брас и его юный товарищ вовсе не собирались расстаться с жизнью, не попытавшись нанести хотя бы один удар, защищая себя. И матрос действительно нанес его-да такой, что мгновенно избавился от своего противника.
Для большей устойчивости обхватив одной рукой весло, служившее мачтой, другой он поднял топор и что было силы хватил им по гнусной образине. Удар, направленный меткой и сильной рукой, пришелся по морде акулы как раз между ноздрями.
Удачнее места для удара нельзя было и выбрать: нос у акулы — один из самых важных жизненных центров. Как ни велика акула, как ни сильна, но один удар гандшпуга или простой дубины между ноздрями, нанесенный сильной и уверенной рукой, — и уже никогда больше хищнику не преследовать свою добычу!
Так и случилось. Довольно было такого удара, какой отвесил ей Брас, чтобы страшная тварь мгновенно перевернулась брюхом вверх. Раза два еще взмахнула она своим огромным хвостом, по ее телу прошла сильная судорога, и вот она уже поплыла по воде, недвижная, как бревно.
Вильяму меньше посчастливилось со своим противником, хотя ему все-таки удалось отогнать его. Только чудище, ощерив свою огромную пасть, сунулось головой на плот, как юнга, замахнувшись, угодил ему гандшпугом прямо между челюстями.
Акула вцепилась в гандшпуг тройным рядом своих страшных зубов и, выбив его одним движением головы из рук Вильяма, понеслась прочь, дробя его зубами и глотая кусок за куском, словно это были хлеб или мясо.
Через несколько минут от гандшпуга осталось только несколько плавающих по воде обломков. Но куда большим удовольствием было видеть, как акула, превратившая гандшпуг в фарш, исчезла под водой и больше не показывалась!
Вильям и Брас удивились этому исчезновению; удовлетворила ли она свой ненасытный аппетит деревянным лакомством или же испугалась при виде участи, постигшей ее спутницу, гораздо более крупную, чем сама она, — так и осталось для них неразрешенным. Да это и мало их интересовало — важно было одно: они избавились от ужасного хищника.
Решив, что акула убралась от них навсегда, и глядя на вторую, перевернувшуюся белым брюхом кверху, они не смогли сдержать своей радости, и над океаном раздался громкий, ликующий клич победы.
Глава 11
СКУДНЫЙ ОБЕД
Убитая топором акула все еще шевелила плавниками, словно продолжая плыть.
Человеку, незнакомому с особенностями этих океанских чудищ, могло показаться, что она еще жива и в самом деле собирается уплыть. Но Бен Брас знал, что это не так. Много он брал их на крюк приманкой, помогая потом втаскивать на борт по сходням и рубить на куски. Бывалый матрос, много раз пересекавший Атлантику, он хорошо изучил повадки этих прожорливых тварей, так что на этот счет смело мог бы поспорить с любым кабинетным ученым-естествоиспытателем, никогда не видавшим акулу в ее естественной стихни. Брасу не раз приходилось наблюдать, как эту тварь втаскивали на борт с проглоченным ею огромным стальным крюком, а потом, вспоров брюхо и вынув внутренности, снова выбрасывали обратно в воду, и животное не только шевелило плавниками, но даже отплывало на порядочное расстояние от корабля. Более того, он видел однажды, как акулуразрезали надвое и отсекли ей голову, и все-таки обе части туловища долго еще обнаруживали признаки жизни. Говорят о живучести кошки или угря. Да акула перенесет смертельных мучений куда больше, чем двадцать кошек, вместе взятых, и все-таки будет еще некоторое время жить!
— А здорово я ее трахнул! — произнес, торжествуя, матрос при виде плывущей вверх брюхом акулы. — Угодил ей в самую середку морды! Теперь не станет к нам приставать… А где же твоя?
— Вот она куда убралась! — ответил юнга, показывая в ту сторону, куда исчезла меньшая акула. — Вырвала у меня из рук гандшпуг и изломала его в куски. Видишь, там на воде плывет несколько обломков? Это все, что осталось от нашего гандшпуга. Так рванула, что я выпустил его из рук. Едва на ногах удержался.
— Еще дешево отделался. Удивительно, как она тебя с плота не стащила вместе с твоим гандшпугом. Хорошо, что ты вовремя его бросил. Думаю, теперь она больше не сунет к нам носа после такого угощения. Моя-то, пожалуй, уж не очухается… Черт возьми, и о чем это я думаю? Ведь моя акула может пойти ко дну. Ну уж нет!.. Скорее, Вильм, давай мне сезень[198], надо привязать эту рыбину, а то как бы она в самом деле не затонула. Н-да… Вздумали ловить рыбу удочкой! Много бы мы наловили!.. Давай-ка привяжем акулу, и тогда рыбьего мяса хватит нам на весь великий пост. Стань-ка на тот край плота, а то как бы я не перетянул и не бултыхнулся в воду… Так, так…
Последние указания матрос сделал, успев уже завязать петлю на конце протянутой ему Вильямом веревки. Миг — и петля в воде. Вот он подвел ее к пасти хищника — и петля уже на морде. Еще миг — и она затянута. Теперь другой конец привязать к мачте, и дело готово. И ей уже не утонуть. А чтобы акула не вздумала воскреснуть, Бен, перегнувшись через край плота, нанес топором ряд сильных ударов по голове, отчего ее верхняя челюсть стала похожей на колоду для рубки говядины в мясной. Теперь этой твари уже не ожить!
— Ну, Вильм, — сказал Бен, — вот у нас рыбы в избытке — досыта наедимся. Потерпи немного, я вырежу тебе такой кусочек, что ты пальчики оближешь. Из самого нежного места у акулы— возле хвоста… Возьмись за веревку да подтяни ко мне эту тушу поближе, чтобы я смог достать до нее. Юнга исполнил его приказание, а Бен, присев на корточки у самого края плота и взявшись за хвостовой плавник, живо отмахнул ножом такой кусок, что даже таким голодным, как они, его должно было хватить с избытком.
Излишне, конечно, говорить, что мясо акулы, как и летучую рыбу, они съели сырым, ничуть не пострадав от этого. Сколько племен, живущих на островах Южного моря, и вовсе не таких уж диких, едят мясо белой и синей акулы сырым, не считая нужным его варить! Ни матрос, ни юнга тоже не видели в этом необходимости. Но даже если бы у них и была возможность развести огонь, они все равно не стали бы возиться со стряпней — слишком уж они были голодны. И поэтому матрос и юнга без всяких церемоний пообедали сырым мясом акулы.
Наевшись досыта и еще раз утолив жажду из самодельного «бака», наши скитальцы почувствовали не только прилив новых сил, но и радостную веру в будущее. Воспрянув духом, они принялись обсуждать: что бы еще такое сделать, что предпринять, как спастись от смерти?
Да, опасность по-прежнему угрожала им. Если поднимется шторм или хотя бы свежий ветер, они не только лишатся всех своих запасов воды и пищи, но и самый плот разлетится вдребезги или погибнет во вспененных океанских волнах. Счастье еще, что они находились в той части океана, где неделями подряд царит полное затишье. Где-нибудь в высоких широтах-на юге или на севере-их плот продержался бы недолго: при первой же буре ему бы несдобровать. Умудренный опытом матрос хорошо это знал. Его беспокоило другое: гораздо чаще в этих местах кораблям угрожает противоположная опасность-штили. Недаром эти широты Атлантического океана ранние испанские мореплаватели прозвали «Лошадиные Широты». Дело в том, что в те времена из Европы в Новый Свет перевозили лошадей, и так как на кораблях, попадавших надолго в штиль, не хватало пресной воды, то лошади гибли в огромном количестве и их трупы выбрасывались за борт.
Гораздо более поэтичным и красивым именем те же испанцы прозвали другую зону Атлантического океана — за особенно тихий, ласково веющий здесь ветерок-«Море Прекрасных Дам».
И так как Бен Брас знал, что штормы в «Лошадиных Широтах» явление очень редкое, он был твердо уверен, что в конце концов они непременно спасутся, и поэтому не сидел и минуты без дела.
Глава 12
ПЛАСТАЮТ АКУЛУ
При умелом хранении и экономном расходовании так удивительно доставшихся им запасов воды и мяса акулы их могло хватить надолго.
За сохранность воды они не беспокоились: чтобы ее сберечь, было сделано все, что можно; разве еще только следовало накрыть брезентовый «бак» сверху куском сложенной в несколько раз парусины и тем предохранить его от солнечных лучей.
Другое дело — мясо акулы. Если не принять никаких мер, оно быстро протухнет и станет негодным в пищу, и тогда, даже умирая от голода, они не смогут к нему притронуться. Значит, надо что-то придумать. Посоветовавшись между собой, матрос и юнга остановились на самом простом и легком способе в условиях той знойной жары, какая царит в этих широтах: они решили провялить мясо акулы, как вялят всякую другую рыбу. Для этого требуется только разрезать его на тонкие пласты и развесить на веревках между мачтами-веслами, а остальное докончат солнце, ветер и воздух. В таком виде оно сможет сохраняться неделями, а то и месяцами.
Друзья тут же принялись за дело. Вильям снова подтянул огромную тушу акулы поближе к плоту, а Бен, раскрыв свой матросский складной нож, стал разрезать мясо на широкие, тонкие до прозрачности пласты.
Обрезав самые лакомые кусочки около хвоста, Бен велел юнге подтянуть к нему акулу поближе и приготовился уже пластать остальную часть, как вдруг громко paссмеялся.
Вильям обрадовался, увидев веселое лицо друга, — последнее время это так редко случалось.
— В чем дело, Бен? — улыбаясь, спросил он.
В ответ матрос, обняв рукой его за шею, заставил пригнуться к самой воде:
— Погляди в воду и скажи, что ты там видишь.
— Где? — спросил юнга, не понимая, куда смотреть,
— Неужто ты не видишь этой диковинки на акульем брюхе?
— Вижу, вижу! — закричал Вильям, только сейчас разглядевший эту «диковинку». — Маленькая рыбка, да? Она шевелит головой, прижавшись к акуле. Впрочем, маленькой она кажется только рядом с акулой. На самом деле она, верно, не меньше фута в длину. Но что она делает в этом странном положении?
— Что делает? Сосет акулу!
— Сосет акулу?! Ты серьезно это говоришь, Бен?
— А то как же? Она присосалась к ней так же прочно, как ракушка к медной обшивке корабля, и не отстанет, пока я ее не стащу, что сейчас и сделаю… Дай-ка поскорее веревку!
Мальчик протянул веревку и с любопытством стал следить за действиями друга. Матрос, сделав такую же петлю, как ранее для акулы, быстро закинул ее в воду и ловко обхватил ею туловище рыбы, казалось крепко-накрепко присосавшейся к акуле. Впрочем, это не только казалось. Рыба и в самом деле так прочно прикрепилась к брюху акулы, что Бен Брас при всей его силе с трудом ее оторвал.
Резко дернув веревку, ему все-таки удалось оторвать паразита-рыбу и втащить ее, живую, на плот, где она заметалась из стороны в сторону.
— Эге, голубушка, ты хоть и ленивая, сама плавать не любишь, а если захочешь удрать, только тебя и видели! — сказал Бен и, чтобы этого не случилось, пригвоздил рыбу ножом к плоту.
— Что это за рыба, Бен? — спросил Вильям, с интересом рассматривая так странно выглядевшее и не менее странно попавшее к ним существо.
— Прилипала! — кратко ответил матрос.
— Прилипала? Никогда о такой не слыхал. Почему она так называется?
— Потому что она прилипает…
— К чему?
— К акуле. Ты разве не видел, как она прилипла к акульим соскам, a? Xa-xa-xa!
— Нет, Бен, это неправда! Ты просто шутишь! — сказал Вильям, заинтригованный словами друга.
— Ладно уж, не стану тебя дурачить… Она и в самом деле прилипает к акулам и почему-то только к белым. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы она пристала к другой какой-нибудь акуле, а ведь их много — и все разные. А то, что она будто сосет ее и этим питается, — враки, хотя люди так говорят и даже называют ее «сосун-рыба». Но если тебе так скажут, не верь. Я-то уж видел, что точно так же она присасывается и к медному днищу судна или к подводной скале. А что она может высосать из меди или из камня? Как, по-твоему, может она себе добыть из них пропитание?
— Конечно, нет!
— То-то и есть. Значит, она их не сосет. Я не раз вспарывал брюхо такой рыбе, чтобы посмотреть, чем она питается, и видел только всяких мелких водяных гадов — их в океане тьма-тьмущая, и притом самых различных. Вот давай и эту взрежем. Увидишь, у нее в брюхе то же самое.
— А тогда зачем же она присасывается к акуле или к кораблю?
— Мне говорили зачем. И мне кажется, что это больше похоже на правду, чем чепуха, будто рыба присасывается к акуле или к медной обшивке корабля, чтобы их сосать. На военном фрегате, где я прослужил два года, был один ученый-доктор… Здорово он разбирался во всяких таких мудреных делах! Так вот: он говорил, что прилипала очень плохо плавает. И это правильно: откуда ей хорошо плавать, если у нее такие маленькие плавники? И будто поэтому она и присасывается к акулам или к кораблям, чтобы ей не приходилось много плавать и легче было перебираться с места на место. А к скале будто она пристает, чтобы отдохнуть. Вздумается ей — она от нее отцепится, поохотится за добычей и опять вернется или к другому чему пристанет.
— А что это у нее за странная штука на голове? Это благодаря ей она присасывается?
— Правильно, Вильм: с помощью этого щитка она и присасывается. И заметь, малыш: если захочешь снять ее, потянув вверх или назад, ты ни за что не оторвешь, сколько ни старайся. Даже я не мог бы этого сделать. Чтобы сорвать с места, надо двинуть рыбу немножно вперед, как я сейчас сделал, или оторвать по кускам, иначе ее не снимешь… Однако мы с тобой заболтались. Давай-ка примемся опять за дело. А после, как опять проголодаемся, полакомимся прилипалой. Вкуснее еды во всем свете не сыщешь. Я ее не раз едал, когда бывал на островах Южных морей. Местные жители ловят ее удочкой. Только тамошняя прилипала не чета этой-она фута три длиной, а то и побольше, — заключил матрос и принялся опять резать мясо акулы на широкие, тонкие пласты.
Глава 13
ПРИЛИПАЛА
Прилипала, или, как ее называют ученые, «эхенеис ремора», — одно из самых своеобразных существ, населяющих океан. Но она своеобразна не так по внешности, как по своим повадкам. Однако и внешность у нее тоже довольно-таки странная. При виде ее невольно возникает мысль: вот самый подходящий компаньон акуле, этому свирепому тирану океанских глубин. И действительно, эта рыба — ее постоянный спутник.
У прилипалы черное гладкое туловище с короткими, широко раздвинутыми плавниками. Уродливой формы голова, громадный рот, причем нижняя челюсть выдается вперед, далеко заходя за верхнюю, что придает особенное безобразие ее физиономии, если можно назвать рыбью морду физиономией. Губы и челюсти густо усеяны зубами, а глотка, небо и язык сплошь в коротких шипах. Глаза темные, высоко поставленные. Присоска, находящаяся на голове, так называемый щиток, состоит из нескольких поперечных складок, овалом установленных в ряд.
Все, что рассказывал Брас об этой рыбе, было совершенно правильно, но он не упомянул о многих не менее интересных ее особенностях.
У прилипалы нет плавательного пузыря и очень слабо развиты плавники. Поэтому, вероятно, она одарена, как бы в вознаграждение за то, что природа ее так обделила, способностью прилипать к плавающим в океане существам или предметам. Белая акула с ее медленными, крадущимися движениями хищника очень подходит для этой цели. Она является для прилипалы одновременно и средством передвижения и местом отдыха — вот почему белая акула всегда плавает, окруженная этими странными спутниками.
Прилипала присасывается и к другим предметам, плавающим на поверхности воды: к бревну или к днищу корабля. Как утверждал матрос, случается ей отдыхать и на подводной скале. Присасывается она и к черепахам, к китам, даже к альбакорам размером покрупнее.
Питается прилипала главным образом креветками, моллюсками и тому подобной океанской мелюзгой. Но через аппарат для присасывания никакой пищи к ней не поступает, и, прилипнув к какому-нибудь животному, прилипала совершенно не причиняет ему вреда. Этим аппаратом она пользуется лишь иногда. А остальное время плавает вокруг — если можно так выразиться — «места своего жительства», одновременно выслеживая себе добычу. Плавает она с помощью поперечных движений хвоста, быстрых, но очень неровных и неуклюжих.
В свою очередь, прилипала является добычей для других рыб, вроде, например, двузуба или альбакора. Зато акула щадит ее, как щадит она и лоцман-рыбу, никогда не преследуя ни одной из них.
Прилипала бывает как совсем белого, так и черного цвета.
Часто они обе совместно сопровождают акулу. Белая прилипала, вероятно, разновидность черной, так называемый альбинос.
Если акулу, подцепив на крюк, втащить на борт судна, то сопровождающие ее прилипалы несколько дней будут, не отставая, плыть за судном. Тогда их можно ловить удочкой, наживленной кусочком мяса: они клюют даже в самой тихой воде. Но как только прилипала схватит приманку, надо немедленно вытаскивать удочку, не то она тотчас же подплывет к борту корабля и так крепко присосется к нему, что никакими усилиями ее не оторвешь.
Хорошо известны два вида прилипал. Один, о котором мы сейчас говорили, самый распространенный. А другой, более крупного размера и реже встречающийся, водится в Тихом океане и называется «эхенеис аустралис». Последнего вида прилипала благообразнее своего сородича, быстрее плавает и вообще более подвижна и активна.
Пожалуй, самой интересной подробностью в истории этой рыбы является следующая. Оказывается, это та самая рыба, которую ранние испанские мореплаватели знали под названием «ремора». Колумб видел ее на Кубе и Ямайке, где туземцы с их помощью ловят черепах.
Делалось это так. Привязав пальмовую плетеную веревку к кольцу, которое предварительно надевали на хвост реморы в самой узкой его части, между брюшными и хвостовыми плавниками, они пускали рыбу обратно в воду. Другой конец веревки привязывали к дереву или обматывали вокруг скалы на берегу. Затем рыбе, закинутой на манер удочки, предоставлялась полная свобода делать все, что ей нравится. Конечно, она первым делом присасывалась к одной из тех крупных морских черепах, которые испокон веков славились своим нежным мясом и подавались на пирах у знати и современными чревоугодниками ценятся так же, как некогда ценились древними кациками[199] на острове Куба.
Время от времени охотник за черепахами посматривает за своей «удочкой». Если веревка чрезмерно натянулась, значит, ремора уже прилипла к черепахе, и тогда охотник вытягивает веревку с ее двойным грузом. Хороший удар дубинкой по черепахе — и добыча поймана.
Таким способом вылавливают черепах колоссального веса. Вытаскивая ремору на веревке вместе с черепахой, ее тянут за хвост, то есть в таком направлении, что она никак не может — разве что рывок будет уж очень силен
— оторваться от черепахи.
Самое удивительное, что так ловят черепах и в наше время на берегу Мозамбика, и делают это люди, которые никогда не общались со старожилами Вест-Индских островов и потому не могли научиться у них этому любопытному способу использовать рыбу как удочку.
Более мелкие экземпляры этого вида рыб встречаются и в Средиземном море. Эта рыба была хорошо известна еще в древние времена, и о ней много рассказывают тогдашние писатели. Впрочем, как и большая часть таких существ, наделенных какими-нибудь необычайными свойствами, она являлась скорее предметом всяких фантастических небылиц, нежели реальной истории естествознания. О ней, например, рассказывали, что она пристает к килю и тянет корабль в противоположную сторону, пока тот не остановится. Ей приписывали еще более удивительное свойство, уверяя, что если преступник, убоявшись правосудия, хитростью сумеет накормить судью мясом этой рыбы, то он надолго избавится от преследования закона, так как судья не скоро вынесет ему обвинительный приговор.
Глава 14
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАРУС
Солнце уже садилось, когда матрос и юнга кончили разделывать акулу. Плот теперь выглядел совсем по-иному. На веревках, протянутых в несколько рядов между веслами-мачтами, были развешены широкие, тонкие пласты мяса акулы. Издали все это множество висевших вплотную друг к другу беловатых лоскутов можно было принять за парус.
Они и действовали наподобие паруса, подставляя поднявшемуся к вечеру ветру довольно широкую поверхность и помогая таким образом плоту быстрее двигаться.
Править плотом не было смысла; на это и сил не стоило тратить: наши скитальцы понимали, что все равно на таком плотишке до земли им не добраться. Единственным средством спасения мог оказаться какой-нибудь проходящий мимо корабль, который подберет их. А так как нельзя было отгадать, с какой стороны он может появиться, то не все ли равно, к какому из тридцати двух румбов компаса их несет волной или ветром!
«Нет, не все равно! — подумал вдруг Брас. — Беда, если плот отнесет на запад. Где-то там дрейфует большой плот с этой шайкой негодяев и пьяниц, чуть не ставших людоедами. Они тоже, должно быть, по прихоти ветра или течения носятся по океану из стороны в сторону. Может, они еще больше нашего страдают от страшной жажды и голода. А может быть, кому-нибудь из них пришлось покориться той жуткой судьбе, которую они готовили юнге Вильму, — ведь не миновать бы ему ее, если бы я не вмешался… Хорошо, что он спасся от них. Но попади он второй раз к ним в лапы, ему уже не вырваться».
Озверелая банда не пощадила бы и самого Бена Браса, мстя за нанесенный им «ущерб».
Вот почему Бен, как только подул ветер, тотчас же повернулся к солнцу, чтобы определить, в каком направлении движется их плот. И неудивительно, что его тревога сразу прошла: их относило на восток.
— А ведь действительно на восток! — сказал он — Вот странно! В этих местах, как я замечал, ветер почти всегда дует с востока на запад, а теперь наоборот. Но ветерок этот недолго продлится. Это опять всего-навсего «кошачья лапка». Как только он стихнет, сразу же начнется штиль. Ну да ладно, только бы не подул ветер, который отнесет нас к большому плоту!
Его явное нежелание, чтобы ветер отнес их назад, было вполне понятно Вильяму. Страшная картина вчерашнего дня была еще свежа в его памяти. Он не забыл, как десяток озверевших негодяев угрожали ему смертью и только один мужественный человек не побоялся вступиться за него, рискуя собственной жизнью. Слишком страшная картина, чтобы ее можно было так скоро забыть!
И он не забывал ее, не забывал ни на минуту. Правда, когда на них напали акулы, непосредственная опасность вытеснила у него из памяти страшные воспоминания. Но как только опасность миновала, они вернулись вновь. Хотя весь день он был занят работой, но нет-нет, да и вставала перед ним эта картина, словно жуткий кошмар наяву. Чуть не каждые несколько минут он бессознательно поворачивался к западу, тревожно вглядываясь, не виднеется ли вдали страшный плот вместо ожидаемого ими корабля.
Но вот работа окончена. Даже матрос, а не только его более слабый товарищ, почувствовал сильную усталость. Не присев ни на минуту, Бен Брас стал опять внимательно вглядываться в горизонт; мальчик же улегся на голые доски плота.
— Устал, малыш? — мягко спросил матрос. — Постелил бы остаток парусины, да и заснул бы как следует. Зачем же обоим мучиться и не спать. Я отстою свою вахту до самых потемок и тоже улягусь. Ложись, выспись хорошенько.
Вильям слишком устал, чтобы возражать. Подложив под себя парусину, он лег и, уютно свернувшись клубком, тут же заснул.
А матрос все стоял и тщательно оглядывал горизонт, то беспокойно всматривался в поверхность воды, слабо журчавшей у края плота, то опять устремлял взор в темнеющие дали океана. Но все его старания разглядеть что-нибудь были тщетны.
Так стоял он до тех пор, пока вечерние сумерки — очень короткие в этих широтах — не сменились полной тьмой.
Все предвещало безлунную ночь. Только несколько слабо мерцающих звезд, скупо рассеянных по небосводу, помогали ему отличить небо от воды. Пройди сейчас на расстоянии кабельтова от плота судно под всеми парусами, и то его не заметишь. Продолжать бодрствование в такой темноте было не к чему. Придя к такому заключению, матрос тоже улегся возле спящего дружка и скоро, так же как он, забылся сладким сном, в котором растворились все их бесконечные беды и треволнения.
Глава 15
ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС
Так спали они несколько часов подряд, забыв о минувших злоключениях, не думая ни о тех опасностях, которые их окружают, ни о тех, которые еще ожидают их впереди.
Какая картина! И никого, кто бы ее видел! На маленьком, немногим длиннее их самих, утлом плоту среди безбрежного, беспредельного, как сама вечность, океана спят два человека — так безмятежно, словно покоятся на мягкой постели на твердой земле и с надежной крышей над головами. Да, этот жалкий, затерянный в океане плотишко и мирно спящие люди на нем было редкостное зрелище!
К счастью, вот уже несколько часов, как они наслаждались тем глубоким, сладостным сном, в котором все забывается: все страхи, все беды. И как же не назвать такой сон наслаждением! Было уже далеко за полночь, а они все еще спали. Да и что могло их разбудить? Все тот же западный ветерок и нежное журчание воды у плота скорее лишь усыпляли их, как ребенка колыбельная песенка.
Юнга проснулся первым. Он дольше спал, и отдохнувшие, успокоившиеся после сна нервы острее воспринимали внешние впечатления. Проснулся он от того, что несколько крупных, тяжелых капель упало ему на лицо.
Что это? Брызги воды, долетевшие к нему от краев плота, бороздящих воду?
Нет, это были капли дождя. Небо было черным-черно. Но в ту минуту, как Вильям взглянул на него, сверкнула молния, ярко озарив своим светом океан и небо. И тут же все вокруг опять погрузилось в глубокую тьму.
Мальчик снова прижался щекой к брезенту, собираясь уснуть.
Его не испугала эта беззвучная, похожая на зарницу, молния. Не испугали и зловещие дождевые тучи. Его так часто мочило и ливнем и брызгами океанской волны, что он не боялся промокнуть лишний раз.
И он бы преспокойно заснул, если бы вдруг не услышал какой-то таинственный звук. Может быть, никакого звука и не было и он ему только почудился, но все равно он не мог уже заснуть и так испугался, что у него вообще пропало всякое желание спать. Что ж это такое было? Человеческий голос?..
Но, может быть, это вскрикнула чайка, фрегат или качурка? Нет, это кричали не они. Юнга умел различать голоса как этих птиц, так и многих других. Неожиданно послышавшийся звук совсем не походил на крик птицы.
Это был человеческий голос, вернее — голос ребенка, причем не младенца, а девочки лет десяти.
И в этом голосе не слышалось жалобы, он был просто немного грустный. Может быть, со сна Вильяму показалось, что девочка с кем-то разговаривает?
Но это было невероятно, просто немыслимо! Его, должно быть, обмануло воображение, или он действительно принял за голос человека сонное бормотание какой-нибудь неизвестной ему океанской птицы.
Разбудить Бена и рассказать ему про все? А вдруг окажется, что это не человеческий голос, а чирикает спросонья какая-нибудь океанская пичуга, и он зря его разбудит? Бен ведь так нуждается в отдыхе. Конечно, он не рассердится, что Вильям его разбудил, но зато здорово высмеет, если он ему скажет, что в такое время ночи среди Атлантического океана разговаривает какая-то маленькая девочка. Чего доброго, еще скажет, что это морская сирена, и начнет отпускать на его счет всякие шуточки. Нет, он не хотел быть посмешищем даже для своего лучшего друга. Лучше уж промолчать.
И Вильям решил не будить матроса, а выбросить весь этот вздор из головы: все это ему только почудилось.
Но стоило только ему опуститься на свое жесткое ложе, как опять послышался тот же голос. На этот раз он звучал еще явственнее, словно девочка говорила громче или была ближе.
«Если это не голос маленькой девочки, — подумал Вильям, — значит, я никогда не слышал, как щебетала моя сестренка или болтали в детстве мои подружки по играм. А если это голос маленькой сирены, значит, сирены умеют разговаривать, потому что произнесено было не одно, а много слов подряд. Нет, надо разбудить Бена. Это не обман слуха, не игра воображения. Где-то поблизости разговаривает либо маленькая сирена, либо девочка. Ничего не поделаешь, придется разбудить Бена».
— Бен! Бен!..
— А-а-а! О-о-ох! Что за шум? Никак, семь склянок? Да ведь я не на «собачьей вахте»[200]. А-а-а! Это ты, Вильм? Что случилось, малыш?
— Бен, я слышу какие-то звуки.
— Звуки? Ну и что же? Тут посреди океана всегда что-нибудь услышишь. Мало ли здесь всякого зверья да птицы… Эх, малыш, мне снился такой хороший сон, когда ты меня разбудил! Будто я опять на своем старом фрегате… Ну, а что, собственно, хорошего было в моем сне? Ничего будто и не было: боцман поднял меня со сна, разорался над ухом, чтобы я скорее шел на вахту. А все-таки на той вахте было полегче, чем на теперешней. Так ты говоришь, будто что-то слышал, а?
— Я слышал голос. Во всяком случае, мне показалось, что это — голос.
— Голос? Человеческий голос?
— Да, по-моему, это был голос девочки.
— Голос девочки? Ты что, малыш, рехнулся? Ну-ка, подвинься ближе. Дай мне взглянуть на тебя.
— Совсем я не рехнулся, Бен. Я действительно слышал человеческий голос. Дважды слышал. Первый раз я подумал, что ошибся. Но сейчас услышал второй раз, и я…
— Если бы тут не водились буревестники, чайки, я не знал бы, что тебе и ответить. Они ведь кричат да плачут в точности как малые дети. Это их голоса ты и слышал. Тут их полным-полно, да и сирен тоже. Сам подумай, откуда тут взяться девочке? Ну, мужчине — это еще куда ни шло, и то…
Матрос не договорил и, вздрогнув, весь выпрямился и стал напряженно прислушиваться. Сквозь ветер, сквозь шум воды к ним донесся голос мужчины.
— Мы пропали, Вильм! — прошептал он, уже больше не слушая. — Это голос Легро! Самого главного из этих кровожадных людоедов на большом плоту. Значит, большой плот где-то здесь близко. А мы-то думали, что навсегда от них избавились! Приготовься, друг! Пришел, видно, наш смертный час…
Глава 16
ЕЩЕ ЛЮДИ, ЗАТЕРЯННЫЕ В ОКЕАНЕ
Если бы все эти события происходили днем, а не ночью, Брас и его юный товарищ не испугались бы так незнакомого голоса, доносившегося к ним с ветром. При свете дня они разглядели бы много такого, что не только бы не ужаснуло их, а, наоборот, заставило бы приблизиться.
А несло к ним сейчас вовсе не большой плот и услышали они не голос Легро или кого-нибудь из его гнусных спутников, о которых они с перепугу прежде всего подумали…
Если бы их глаза могли проникнуть сквозь глубокую темноту, окутавшую океан, они бы увидели множество вещей, носившихся, подобно им самим, по воле ветра или волн. Они заметили бы обгорелые бревна, обломки рей с остатками снастей и парусов, бочки и бочонки, почти затонувшие от тяжести своего содержимого. И чего только не было среди этих вещей! Доски упаковочных ящиков, вдребезги разлетевшихся, словно от страшного взрыва, каютная мебель, всевозможные плошки, миски, клетки-курятники, весла, гандшпуги и еще много всякой всячины. Все это носилось, покачиваясь на волнах, гонимое туда-сюда ветром.
Многие вещи плыли, сбившись в кучу, а многие рассеялись по океану на целую милю кругом. И если бы сейчас было светло, матрос с юнгой, увидев эти вещи, повсюду пестревшие на гладкой поверхности океана, сразу узнали бы в них остатки сгоревшей «Пандоры», с которой они едва спаслись.
А как бы им пригодились многие из этих вещей! Выловив их, они перестроили бы свой шаткий плот, сделали бы его надежнее, крепче. Плот явно в этом нуждался: он с трудом выдерживал тяжесть двоих людей и, уж конечно, развалился бы при первом же натиске шторма. Кроме того, среди всех этих блуждающих в океане предметов они увидели бы один, совсем не похожий на остальные, которому они бы сильно удивились и обрадовались.
Это был плот, немногим больше того, на котором они плыли сами, но построенный совсем по-иному. Несколько полусожженных досок, диван, бамбуковое кресло и еще какая-то легкая мебель-все это было кое-как связано вместе веревками. Плот этот был неуклюжий и, пожалуй, еще менее подходил для плавания по Атлантическому океану, чем тот, на котором находились Бен Брас с Вильямом. Но он выгодно отличался от их плота. Его мореходность обеспечивалась одним приспособлением, до которого не додумался или не успел додуматься матрос. Со всех сторон к нему были подвязаны пустые, плотно закупоренные бочки, благодаря которым он мог плыть, выдерживая на себе тяжесть примерно тонны в две. Кроме того, за плотом на буксире плыл небольшой бочонок, привязанный к плоту явно не для того, чтобы увеличить его плавучесть: бочонок, наполовину погруженный в воду, был не пустой.
Конечно, все эти вещи, случайно или по прихоти волн, могли сбиться в кучу и плыть вместе. Но не мог же плот связаться сам собой. Ясно, что это было сделано руками человека. И действительно, на плоту, окруженном со всех сторон бочками, сидел сам строитель этого странного сооружения. Это был человек примечательный, он привлек бы внимание каждого при любых обстоятельствах — чистокровный негр с лоснившейся, как эбеновое дерево, кожей, с крупным, почти квадратным черепом, покрытым низкой шапкой курчавых волос, да таких густых, что, казалось, это не волосы, а плотно свалявшаяся, словно приросшая к голове шерсть. Большие, сильно оттопыренные уши, широкий, как говорится, до самых ушей, рот с толстыми, выпяченными губами напоминали гориллу или шимпанзе.
И все же, несмотря на довольно безобразные черты, лицо негра вовсе не было отталкивающим или даже неприятным. В обычное время улыбка, сверкающие белые зубы и ярко-красные губы делали его лицо даже привлекательным. Во всяком случае, это говорило о том, что негр — человек неплохой и добрый.
Но сейчас, когда он сидел на своем оригинальном плоту и глядел через фальшборт из бочек, он не улыбался; наоборот, лицо у него было хмурое и озабоченное.
В этом не было ничего удивительного, потому что негр был не один: с ним на плоту находилась девочка на вид лет восьми-десяти.
Она сидела, слегка съежившись, словно в испуге, пристально глядя на своего черного спутника и только иногда безучастно переводя взгляд на темную поверхность океана. На лице этого совсем юного существа было столько грусти и отчаяния, что видно было: она потеряла всякую надежду на спасение.
Хотя она не была негритянкой, ее нельзя было назвать и белой. У нее была оливкового цвета кожа, но вьющиеся волосы, падавшие на плечи длинными локонами, и румянец на щеках говорили о том, что в ней больше кавказской, чем негритянской крови.
Тот, кто побывал на западном берегу Африки, увидев девочку, сразу бы догадался по типу ее лица, что она происходит из той смешанной расы, которая возникла в результате долгого общения между португальцами-колонистами и чернокожими туземцами.
Глава 17
КАК СНЕЖОК СПАССЯ С НЕВОЛЬНИЧЬЕГО СУДНА
Читатель, вероятно, догадался, что негр и девочка, как и Бен Брас с Вильямом, тоже являются жертвами крушения невольничьего судна «Пандора». Поэтому мы расскажем лишь, кто были эти новые лица и как им удалось спастись от страшного жребия, от которого не спасся ни один из черных на этом невольничьем судне.
Негр, хотя и был чернее многих из его злосчастных соплеменников, не входил в их число и не был на этом судне «грузом». Он был членом команды «Пандоры» и служил на ней коком[201]. Этого полновластного хозяина камбуза[202], словно в насмешку, звали на судне Снежком. Африканец по происхождению, он родился свободным, но был продан в рабство. Затем, уже снова обретя свободу, он перебывал коком или стюардом[203] на многих кораблях и не раз плавал вокруг света, избороздив чуть не все моря и океаны земного шара.
По натуре своей неплохой человек, он все же не совестился наниматься на невольничьи суда и не гнушался их команд, только бы ему платили хорошее жалованье и не скупились на запасы из корабельных кладовых. А так как на судах, занятых перевозкой негров-рабов, были щедры на этот счет, то Снежок часто на них и служил. Правда, с такой гнусной компанией, как команда на «Пандоре», Снежок столкнулся впервые и, надо отдать ему справедливость, стал откровенно ею тяготиться еще задолго до страшной гибели «Пандоры». Его желание убраться с корабля было почти таким же горячим, как и у Бена Браса с юнгой.
Однако он не рискнул бежать, когда они стояли у берегов Африки, так как хорошо знал, что там его поймают и снова продадут в рабство, от которого ему много лет уже как удалось освободиться.
Нельзя сказать, чтобы Снежок отличался безукоризненной нравственностью, но все же одной добродетелью он был наделен с избытком — способностью всю жизнь чувствовать благодарность к тому, кто сделал ему добро. Не обладай он этой добродетелью, он был бы сейчас один на плоту и не тревожился при мысли о безвыходности положения. Но именно оттого, что он умел сильно чувствовать благодарность, мысль о судьбе этой девочки, спасения которой он жаждал не меньше, чем собственного, нестерпимо мучила его.
В чем же была причина такой самоотверженной заботливости? Ведь девочка не была ему дочерью. Цвет кожи, черты лица говорили о том, что между нею и ее черным покровителем не может существовать близкое родство.
И в самом деле, никакого родства между ними не было. Девочка приходилась дочерью человеку, который стал его злейшим врагом, продав его в рабство. Но этот же человек впоследствии выкупил Снежка и этим на всю жизнь завоевал его благодарность.
Человек этот был прежде владельцем торговой фактории на побережье Африки. Последние же несколько лет он жил в столице Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Вот почему его дочка, родившаяся в Африке еще до его отъезда оттуда, оказалась в качестве пассажирки на борту «Пандоры» под покровительством Снежка. Она плыла к отцу, в его новую резиденцию на западе.
И как добросовестно негр выполнял свой долг ее защитника! Когда все покинули горящее судно и палуба уже пылала, верный негр сквозь дым и пламя, с риском для собственной жизни, спустился вниз в каюту, где девочка крепко спала, не подозревая об опасности, поднял ее и вместе со своей ношей на руках выбросился через окошко кормовой каюты в океан.
Плавал Снежок превосходно. Благодаря своей громадной физической силе он, и обремененный таким грузом, мог некоторое время продержаться на воде.
К счастью, ему попалась снасть шлюпбалки, с помощью которой спускали гичку, и, сунув ногу в петлю на конце ее, он полустоял, полуплыл в воде.
В эту самую минуту раздался взрыв, и судно с грохотом развалилось. Океан сразу же был усеян обломками дерева, бочками, бочонками, матросскими вещевыми сундуками, каютной мебелью и тому подобными вещами. Выловив кое-какие из них, Снежок соорудил нечто вроде плота и провел на нем вместе с ребенком остаток ночи. Утром, как только забрезжило, Снежок с ужасом увидел, что они с маленькой Лали совершенно одни и что его несчастных соплеменников на воде уже нет и в помине.
Вывезенные из глубины Африканского материка, из тех мест, где нет больших озер и рек, немногие из них умели плавать, и они, конечно, сразу же пошли ко дну. Остальных разорвали акулы — их очень много в этой части океана. И когда солнце поднялось над водой, осветив место, где разыгралась эта трагедия, Снежок с ужасом убедился, что среди всего этого безбрежного океана не осталось ни одной живой души, кроме него, маленькой Лали и акул с их спутниками.
Негр, однако, знал, что команда «Пандоры» спаслась. Он видел также, как тайком сбежал на гичке капитан горящего судна со своими сообщниками. И прежде чем решиться на отчаянный прыжок в воду. Снежок из окошка каюты видел, как они садились и как отчалила гичка. Он видел и как отвалил от судна большой плот, уносивший остальную часть команды.
У читателя, естественно, может возникнуть вопрос: почему Снежок не подплыл к большому плоту, к своим прежним спутникам? Почему он не попытался спастись вместе с ними? Причину этого мы вам сейчас откроем. Пожар на судне возник отчасти по небрежности самого кока. И он это знал, как знал и то, что об этом известно капитану и всей команде. Едва капитан, услышав крики «Пожар!», узнал о его причине, он вместе со своим помощником, не менее жестоким, чем он сам, так исколотили Снежка, что эти побои останутся ему памятными на всю жизнь. А когда и команда узнала причину пожара, то негра чуть было не растерзали на месте. Матросы уже схватили его, чтобы вышвырнуть за борт, как вдруг из люка, окутав всю палубу, вырвалось густое облако дыма. Забыв о Снежке, все бросились спасаться и, соорудив плот, отчалили от пылающего корабля.
Вот почему Снежок не стал искать спасения на большом плоту вместе с остальными. Ведь они будут ему беспощадно мстить и со злорадством, с яростью оттолкнут его от плота, нарочно для того, чтобы его разорвали акулы, которые, предвидя добычу, так и шныряли вокруг.
И Снежок решил лучше положиться на собственные силы, на удачу, а не ждать жалости от своих бывших товарищей, тем более что они за последнее время сильно его невзлюбили.
Может быть, это оказалось и к лучшему. Если бы он доплыл до плота и эта шайка негодяев разрешила ему остаться с ними, вполне вероятно, что они покусились бы на жизнь маленькой Лали, как покушались на жизнь юнги, лишь случайно избегнувшего страшной смерти.
Глава 18
СНЕЖОК НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ПЛОТУ
Приключения, пережитые Снежком и Лали за шесть суток с момента гибели «Пандоры», были, правда, не так разнообразны, как те, что пережили матрос и юнга, но все же достаточно интересны, чтобы о них стоило рассказать.
Остаток ночи после взрыва судна Снежок провел на связанных им вместе обломках. Долго еще отдавались у него в ушах дикие, яростные вопли проданных в рабство чернокожих людей, когда они цеплялись за большой плот, а их от него безжалостно отталкивали. Он видел, как смутно забелел в темноте внезапно поднятый на плоту парус и плавно заскользил по волнам. Снежок слышал предсмертные крики и стоны тех немногих, которые хорошо умели плавать, но, выбившись из сил, пошли ко дну или были заживо съедены шнырявшими кругом акулами. Но вот до его ушей долетел чей-то последний вскрик, и стало тихо, как в могиле. Затихла, успокоившись, и темная поверхность океана. Даже хищные акулы и те на несколько минут покинули страшное место, словно вдоволь обеспечив себя пищей; они ушли вглубь, чтобы пожрать ее без помехи в бездонной океанской пучине.
Настало утро. Негр с девочкой увидели множество предметов, плававших вокруг места кораблекрушения, но ни одного живого человеческого существа. Тут-то Снежок понял, что, кроме шестерых, захвативших гичку, и команды на большом плоту, никто больше не ушел от гибели.
Эти негодяи и парус-то на плоту подняли, для того чтобы уплыть подальше от бедных утопающих, моливших о спасении и цеплявшихся за плот, который, конечно, скоро скрылся из виду. Шестеро в гичке тоже гребли изо всех сил, чтобы их не смогли догнать прежние друзья и спутники.
Снежок задавал себе вопрос, почему же никто из оставшихся в живых не попытался спастись, ухватившись за какую-нибудь доску, за бревно — ведь их кругом так много плавало. Читатель, должно быть, тоже недоумевает, почему они этого не сделали.
А между тем причина была очень проста. Негры, умевшие плавать, ринулись вслед за большим плотом и заплыли так далеко, что у них уже не хватило сил плыть назад к горящему судну, а когда раздался взрыв и судно разлетелось на части, их уже не было в живых. Другие же, почти потеряв рассудок, при виде того, как огонь подбирается к ним все ближе, в отчаянии попрыгали в воду и тут же утонули.
И вот Снежок очутился один вместе с маленькой Лали среди этой безлюдной пустыни океана на нескольких деревянных обломках, без еды, без капли питьевой воды.
Ужасное положение, от которого самый мужественный человек может впасть в полное отчаяние!
Но Снежок не знал, что значит отчаиваться. Сколько раз в жизни бывал он в самых трудных переделках, сколько изведал опасностей и на море и на суше! И вместо того чтобы в эту тяжелую минуту пасть духом и сложить руки, он стал думать о том, как бы ему вернее выпутаться из страшной беды.
Едва только стало светать, как среди множества обломков, плававших вокруг, ему бросилось в глаза нечто, сразу настроившее его-и без того не особенно унывавшего — на еще более радостный лад. Теперь-то уж он сделает все, чтобы выловить этот десятигаллоновый бочонок, плававший около самого плота, и спасет свою беспомощную спутницу и себя самого. По какой-то примете Снежок сразу же его узнал. Он вспомнил, что поставил этот бочонок у себя в камбузе, в укромном уголке, незадолго до пожара; в нем было несколько галлонов пресной воды, он сам наливал ее в этот бочонок, взяв украдкой из общего запаса до того еще, как команда судна согласилась перейти на строго ограниченный суточный паек питьевой воды.
Бывший кок «Пандоры» мигом выловил бочонок и крепко привязал его к одной из досок плота, на которой сидел верхом.
Если бы не этот так неожиданно найденный запас воды, Снежок при всей его жизнерадостности неминуемо в конце концов впал бы в отчаяние, потому что без воды ему с Лали долго бы не протянуть.
Неожиданная находка бочонка побудила его к дальнейшим поискам среди обломков разбившегося корабля.
Среди них оказалось много самых диковинных вещей. Одна из них особенно привлекла его внимание. Лениво покачиваясь на маленьких волнах, плыл нескладной формы бочонок: в таких обычно держат муку. Снежок узнал в нем своего давнишнего знакомца по кладовой на «Пандоре» и вспомнил, что он доверху полон отборными сухарями из личных запасов капитана.
Так как бочонок не был герметически закупорен, то, конечно, сухари в нем насквозь пропитались морской водой. Но бывшего повара это обстоятельство нисколько не смутило-на жарком солнце они живо высохнут. Не очень, правда, будет вкусно, но есть можно.
Бочонок был мгновенно выловлен и помещен в безопасное место на плоту.
Теперь, решил Снежок, прежде всего надо позаботиться о перестройке плота: его нужно сделать более крепким и надежным. И, выловив из воды весло, он, гребя им, стал разъезжать вокруг, подбирая все, что могло ему для этого пригодиться.
В самое короткое время он набрал множество различных деревянных обломков, среди которых нашел и часть своего камбуза. Из этого строительного материала он соорудил основательной крепости и величины плот, когда вдруг, к великому своему удовольствию, заметил, что, покачиваясь на волнах, невдалеке плавают шесть порожних бочек. Вот так повезло! Теперь он сделает свой плот мореходным. На судне этих бочек было чересчур много, и пожар-то произошел потому, что их слишком усердно опустошали. Но для его теперешней цели было бы лучше, если бы их оказалось как можно больше. Работая веслом, Снежок подплывал на плоту то к одной, то к другой, пока всех их не выловил. И когда он привязал их к плоту, они, поднимаясь над водой, образовали вокруг него нечто вроде фальшборта.
Закончив свою работу, Снежок еще несколько дней кружил на том же месте, где погибла «Пандора», и собирал все, что могло ему в дальнейшем оказаться полезным. Время от времени поднимался слабый, быстро стихавший ветер. И плот был неразлучен со всей этой массой окружавших его вещей — их несло ветром вместе, и куда плыл он, туда плыли и они.
Негру ни разу не пришла в голову мысль поставить парус и, отплыв подальше, отделаться от всех этих неодушевленных предметов, которые, окружая его, напоминали о страшном бедствии.
А может быть, мысль о парусе у него и возникла, но он отбрасывал ее как нестоящую. Снежок, правда, не имел никакого понятия о судоходстве, но зато он хорошо знал его практически и на собственном опыте проверил, что представляет собой необъятный Атлантический океан, особенно та часть, где лежит путь страшного, надолго запомнившегося ему «центрального маршрута», — по этому пути везли и его, как проданного раба. Он был неплохо знаком и с той частью океана, где они сейчас находились, и понимал, что, если он поставит на плоту парус, тот, послушный воле ветра, будет носить их из стороны в сторону, что нисколько не увеличит шансов на спасение от этой водяной могилы. Вся надежда Снежка была на то, что какой-нибудь проходящий корабль подберет их. И, твердо веря, что рано или поздно это случится, он предпочитал дрейфовать, пока ничего не предпринимая, вместе с другими неодушевленными жертвами кораблекрушения.
Глава 19
СНЕЖОК СПАСАЕТСЯ, УХВАТИВШИСЬ ЗА КЛЕТКУ ДЛЯ КУР
Уже шесть дней Снежок вместе с маленькой Лали вели такую жизнь, питаясь одними просоленными морской водой сухарями и кое-какой другой провизией, которая случайно попадалась им среди плавающих вещей и обломков. Мучений жажды они не испытывали благодаря бочонку с водой.
Вероятно, поэтому Снежок все эти дни оставался бодрым и деятельным и ни разу не впал в уныние. Это было не первое в его жизни кораблекрушение и не впервые приходилось ему, старому морскому коку, блуждать затерянным в океане. Однажды во время шквала его сдуло ветром за борт и он отстал от своего судна. Сильный ветер помешал судну повернуть назад, чтобы его спасти. Снежок был отличным пловцом и продержался на воде, борясь с громадными волнами, чуть не целый час. В конце концов он все же, конечно, пошел бы ко дну, так как находился за сотни миль от берега. Но в ту минуту, как он уже потерял надежду на спасение, мимо проплыла клетка для кур, за которую он моментально уцепился. Клетка была очень большая и, несмотря на тяжесть Снежка, не дала ему потонуть.
Снежок сразу догадался: кто-то из товарищей сбросил ее с корабля для его спасения. Однако самого судна и след простыл. Несчастного пловца, несмотря на эту клетку, ждала несомненная гибель. К счастью, шторм пошел на убыль и ветер переменил направление. Судно, с которого Снежок упал, отнесло назад по его прежнему курсу. И когда оно оказалось от Снежка на расстоянии человеческого голоса, к нему на помощь подоспели товарищи и спасли его.
Снежок, вспоминая теперь об этом случае и оглядываясь на свою прошлую жизнь, решил, что таких страшных событий он пережил немало. И потому он будет действовать не как человек, который может еще надеяться на спасение, а как человек, уверенный в том, что непременно спасется.
В течение всех шести дней Снежок даже часа не провел без дела. Как мы уже говорили, он собрал много обломков погибшего корабля, плавающих вокруг, и соорудил солидный по размерам и прочности плот, затратив на это немало времени и труда, и бережно сложил на нем все съедобное, что ему удалось отыскать среди остатков судна. Закончив эту работу, Снежок занялся рыбной ловлей.
Около места, где произошло кораблекрушение, было много рыбы, большей частью акул. Прожорливые хищники, насытившиеся мясом несчастных негров, все же не покинули места катастрофы. На милю вокруг, где были рассеяны обломки судна, виднелись головы этих чудовищ. Они плавали то попарно, то группами, выставив из воды огромные, похожие на паруса, плавники, и шныряли по океану во всех направлениях в поисках новой добычи.
Снежку, как он ни старался, не удалось поймать ни одной акулы. Однако здесь было немало и другой довольно крупной рыбы, привлеченной надеждой поживиться, которую сулило разбившееся судно. То были альбакоры, бониты и много других океанских рыб. А вообще-то, исключая подобные печальные случаи, их можно лишь редко увидеть на поверхности океана.
С помощью гарпуна на длинной рукоятке — и когда только Снежок успел его смастерить! — он убил несколько рыбин. Таким образом к концу шестого дня его «кладовая» значительно пополнилась запасами: тут оказался альбакор, несколько бонит и три спутника акулы-лоцман-рыба и две прилипалы.
Выпотрошив рыб, Снежок нарезал их мясо тонкими пластами и разложил на бочках, чтобы оно хорошенько провялилось на солнце.
Стояла прекрасная погода, и повеселевший Снежок развил самую энергичную деятельность, стараясь любым способом раздобыть побольше еды, что, как мы видим, ему вполне удалось.
Теперь Снежок был спокоен: он и Лали продержатся не только несколько дней или недель, а, пожалуй, и целый месяц.
Водой они тоже были сравнительно обеспечены. Смерив бочонок каким-то одному ему известным способом, он точно рассчитал количество воды в нем и на сколько ее может хватить. Он с удовольствием убедился, что при строжайшей экономии они будут обеспечены водой на несколько недель.
И с этой мыслью он, впервые за все это время, спокойно и крепко уснул.
Не подумайте, что Снежок в продолжение всех ночей, проведенных ими на плоту, совсем не спал. Нет, часа два в ночь ему все же удавалось подремать. Ночи были темные, безлунные, кругом, на воде и на небе, одна чернота — и Снежку приходилось проводить их настороже, всматриваясь в темноту: вдруг пройдет какой-нибудь корабль и, проскользнув мимо, неслышный и незримый, лишит их единственной возможности спастись!
Маленькая Лали тоже принимала участие в этих ночных бдениях и сменяла Снежка, когда он, устав, уже не мог бороться со сном.
Но в эту ночь сторожить было бесполезно — ни луны, ни звезд не было, вокруг царила такая беспросветная тьма, что корабль мог пройти чуть ли не вплотную мимо плота и остаться незамеченным. Снежку и Лали ничего не оставалось делать, как лечь спать. И они растянулись на подстилках из парусины, как на самой удобной и мягкой постели, дожидаясь прихода волшебного сна.
Глава 20
ПРИ ВСПЫШКЕ МОЛНИИ
Не успел Снежок улечься, как сразу же захрапел.
Такой мощности звуки, какие издавал носом во сне Снежок, на океане редко услышишь, разве только если фыркнет кит, разбрызгивая воду, или запыхтит дельфин.
Но могучий храп Снежка не разбудил Лали. Раньше она его очень боялась, а теперь привыкла, и этот храп не только не мешал ей спать, но, наоборот, словно убаюкивал ее.
Было уже далеко за полночь, а они все спали. Но потому ли, что Лали спала более чутко, или потому, что Снежок всхрапнул особенно оглушительно, но только Лали вдруг проснулась.
Догадавшись, что ее разбудило, Лали улеглась поудобнее, собираясь опять заснуть, как вдруг увидела нечто такое, что сильно напугало ее, заставив забыть о сне.
В эту самую минуту непроницаемо-черное небо озарилось молнией, но сверкнула она не стрелой, не зигзагами, как обычно, а широкой полосой, которая на секунду закрыла весь небесный свод сплошным огненным покровом.
Поверхность океана тоже озарилась ярким блеском. И среди множества обломков и вещей, усеявших океан далеко вокруг — к ним глаза Лали за эти дни успели уже привыкнуть, — она увидела что-то необычное.
То была фигура красивого мальчика. Он, как ей показалось, стоял на коленях в воде или на чем-то едва над ней возвышавшемся.
При яркой вспышке света она успела разглядеть и кое-какие предметы возле него; среди них — два тонких шеста, поставленных стоймя, с какими-то белыми лоскутьями между ними.
Неудивительно, что это неожиданное явление так сильно поразило Лали. Откуда взяться человеку здесь, среди открытого океана, и как он удерживается на поверхности, стоя на коленях в воде? Неужели это действительно настоящий, живой мальчик? Или это только видение, внушенное ей воображением или вызванное причудливым сном, от которого она только что очнулась? Поэтому первым ее порывом было разбудить своего спутника.
Не дожидаясь вторичной вспышки молнии, она бросилась к своему черному опекуну.
— Что, что? — встрепенулся Снежок, внезапно разбуженный среди великолепного храпа. — Ты говоришь, увидела что-то? Да что же ты могла увидеть? Кругом ведь темно, как под землей. В таких потемках, Лали, дитятко, собственного носа и то не разглядишь. Небо черно, как кожа у меня, старого негра, и ни одной звездочки на нем. Ты, верно, ошиблась, моя чернушечка, ошиблась!
— Нет, Снежок, — уверяла Лали, путая португальские слова с негритянскими, — я не ошиблась. Когда я это видела, сверкнула молния, и на минутку стало светло-светло, как днем. И мне показалось, что я… нет, я действительно увидела кого-то!
— Мужчину или женщину? — недоверчиво спросил Снежок.
— Не мужчину и не женщину.
— Не мужчину и не женщину? Как же это? Тогда, верно… Может, это была сирена?
— Нет, Снежок! Тот, кого я видела, был похож на мальчика. Да, да, теперь я ясно припоминаю… на того мальчика!
— На какого же мальчика? Что ты болтаешь, Лали?
— На того самого мальчика, который был на судне. Помнишь молоденького англичанина, который служил на «Пандоре» юнгой?
— А-а-а! Так это ты о нем говоришь? Ну, этот мальчуган, мне думается, давно уже утонул либо плывет с остальными на большом плоту. Я знаю наверняка, что капитан его с собой не взял, потому что видел малыша возле камбуза уже после того, как гичка отчалила… Ну-ка, постой!.. Честное слово, там, в наветренной стороне, кто-то разговаривает! Слышишь, малютка?
— Слышу, Снежок. Это тот же голос, и он похож на голос того мальчика. Да, да, в точности, как у него.
— У кого — у него?
— Ах, да у этого юнги… Ой! Слышишь? Он опять что-то сказал, и кто-то ему отвечает.
— Боже милостивый! А ведь верно, моя чернушечка, я тоже слышу, что разговаривают двое. Один, как тот мальчик, о котором ты говоришь, а другой мужским голосом. Кто бы это мог быть? Неужто души кого-либо из утопленников или разорванных акулами? Прислушайся еще, Лали! Может, разберешь, кто это такие.
С этими словами негр быстро приподнялся и, положив руку на одну из бочек импровизированного фальшборта, замер, прислушиваясь.
Маленькая Лали тоже приподнялась и, стоя подле своего спутника, стала всматриваться в темноту. Она надеялась, что вот-вот опять блеснет молния и она увидит того мальчика с «Пандоры». Какой он красивый! Недаром она его не забыла.
Глава 21
ВЕСЛА НА ВОДУ!
— Пришел наш смертный час!
С этими страшными словами Бен Брас поднял голову с плота и стал, напряженно прислушиваясь, всматриваться в темноту.
Вильям ужаснулся словам своего защитника, но ничего не ответил — он тоже весь превратился в слух и зрение.
Было так темно, что наши скитальцы не видели друг друга. В такую ночь не только плота или лодки — корабля под всеми парусами не разглядишь, даже если он пройдет совсем рядом.
Но они не только ничего не видели, но ничего и не слышали: вокруг царила полная тишина, нарушаемая лишь шорохом ночного ветра и журчанием воды, которую разрезал их утлый плотик.
Несколько минут ничего не было слышно, кроме этого дуэта ветра и воды, и Брас начал думать, что они ошиблись или их обманул слух. Человеку спросонья может что угодно померещиться. И голос-то был неясный, похожий на бормотание. Может быть, это пыхтел дельфин или еще какой-нибудь неизвестный ему житель океана. Много их таких, которых даже самому бывалому матросу не приходилось ни видеть, ни слышать, потому что они редко показываются из воды. А может, это проворчал один из тех обитателей океана с человеческим обличием, у которых такое странное название, вроде манати или ламантина, или как их там еще звать!
Самое же удивительное, что Вильям все еще стоит на своем, будто слышал голос девочки, как матрос его ни уверял, что это ему показалось и что он принял за голос крик птицы или морской сирены. Бен готов уже был остановиться на последнем предположении, но одно его смущало: нежный голосок был не один — ему отвечал мужской голос, и этому обстоятельству матрос никак не мог найти объяснения.
— А ты, Вильм, тоже слышал голос мужчины? — спросил он наконец таким тоном, словно хотел либо окончательно рассеять свои сомнения, либо полностью их подтвердить.
— Да, Бен, конечно, слышал. Он говорил негромко, вернее — бормотал. Но не думаю, чтобы это был Легро. О, если это он!
— Кому-кому, Вильм, а тебе-то следовало бы запомнить голос Легро! Неужто ты забыл воронье карканье этого негодяя с его французским говором? Будем надеяться, что это был не он. Хорошо, если мы ошиблись, потому что, когда мы опять попадем к ним в лапы, пощады нам не будет. А теперь и подавно, потому что они, должно быть, и жадные и голодные, как акулы.
— Ох, Бен, хорошо, если это не они! Тогда бы…
— Тише, тише, малыш! — прервал его матрос. — Говори шепотом. Если это они и так близко, лучше, чтобы они нас не услыхали. А увидеть нас, пока не рассветет, они не смогут. Хорошо бы еще раз услышать эти голоса и проверить, откуда они идут. Я не помню, с какой стороны их слышал.
— А я помню. Оба голоса шли оттуда. — Вильям показал в подветренную сторону.
— Оттуда, думаешь?
— Уверен в этом.
— Странно все это, — сказал матрос. — Если это те, что на большом плоту, они должны были быть с другой стороны от нас. Или, может, ветер переменился? Потому что, когда мы от них уходили, мы были у них с подветренной стороны. Неужто ветер в самом деле переменился? Впрочем, это возможно — в этих местах ветер редко дует с запада. Да и без компаса не угадаешь, где находишься: кругом темно, на небе ни звездочки. А хоть бы даже и была какая, все равно по ней ничего не узнаешь. Вот Полярная звезда — это дело другое! Только в этих широтах ее не увидишь. Так ты верно говоришь, будто голоса шли с подветренной стороны?
— Я в этом уверен, Бен: голоса шли оттуда.
— Тогда давай и мы двинемся, чтобы уйти от них. Живее за дело, малыш! Уберем-ка наш парус из мяса акулы, а то он нас толкает по ветру, прямо к ним. Придется грести. Значит, весла наши нам понадобятся. Постараемся до света уйти от них подальше, чтобы нам их больше не видеть и не слышать.
Они быстро поднялись и стали снимать с веревок мясо, чтобы разложить его на парусине, а «мачтам», то есть веслам, на которых оно висело, вернуть их прежнее назначение.
Работали они молча, временами останавливаясь, чтобы прислушаться.
Бен Брас и Вильям сняли уже мясо и принялись отвязывать веревки, закрепленные на веслах. И в этот момент внимание их задержалось на той из них, которая, стягивая горловину брезентового «бака» с водой, удерживала его в том положении, которое не давало воде вылиться. К счастью для них, они действовали с осторожностью. Не прояви они ее и вытащи весло, к которому эта веревка была привязана, — запас воды быстро бы уменьшился, а то и весь вылился бы в океан, прежде чем успели бы заметить несчастье.
Но на одном весле далеко не уедешь, а другое, оказывается, нельзя освободить, потому что оно выполняет крайне ответственную функцию. Тут они вспомнили, что у них имеется несколько обломков от гандшпуга, съеденного акулой. Хорошо, что Бен Брас выловил их из воды. Теперь один из них можно приспособить к делу. Они вынули весло, вставили вместо него самый длинный из обломков и привязали к нему мешок с водой — вся операция заняла несколько минут. Теперь, когда у них было опять два весла, они уселись по краям плота и, работая каждый своим, принялись грести против ветра, уходя прочь от таинственных голосов.
Глава 22
«ЭЙ, НА КОРАБЛЕ!»
Не успели они и десяти раз взмахнуть веслами (оба гребли совершенно бесшумно и все время прислушиваясь), как до них донеслись те же звуки, которые Вильям принял за голос девочки. Как и прежде, эти звуки были едва слышны, словно говорившие вели спокойную беседу.
— Не значиться мне больше в судовых списках Беном Брасом, если это и вправду не голос девочки! — вскричал матрос. — Но что за черт! С кем она там разговаривает? И девочка-то совсем маленькая, ну не больше гайки. Да что это, черт возьми, может значить?
— Не знаю. Неужели это сирена?
— А что ж, возможно…
— А разве сирены существуют?
— Существуют ли? Вот так вопрос! Кто посмеет сказать, что их нет? Одни лишь сухопутные крысы, которые над всем смеются да ни во что не верят. А почему не верят? Да потому, что сроду ничего диковинного не видали, разве только телят о двух головах да цыплят о четырех ногах. Ясное дело, сирены водятся в море — тут и разговаривать не о чем! Я сам их видел, и не одну. Мне пришлось плавать с одним товарищем, так тот мне рассказывал, что он их в Индийском океане встречал целыми косяками. Волосы у них, рассказывал он, длинные, ниже плеч, как у молоденьких школьниц, которые прогуливаются стайками где-нибудь на окраине в Портсмуте или Грэйвсэнде… Тише! Опять она!
И действительно, в эту минуту опять послышался тоненький высокий голосок девочки лет восьми-десяти. Вибрируя, он ясно отдавался на воде, и, судя по его интонациям, девочка с кем-то разговаривала.
И тут же, отвечая ей, послышался другой, мужской голос.
— Если то была сирена, — шепотом проговорил Бен, — значит, это дедушка-водяной. Занятная, шут возьми, парочка! Вот задали загадку! Что это, по-твоему, значило бы, малыш?
— Не знаю, — машинально ответил юнга.
— Важно одно, — облегченно вздохнул матрос, — что это не большой плот! На нем никакой девочки не было. И мужчина не каркает, как Легро. Мне спросонья сперва почудилось, будто это он… А коли тут близко косячок маленьких сирен да между ними затесалось несколько водяных, то пугаться нечего… Главное дело, это не француз и не кто-либо из его гнусной компании. Слава тебе, Господи! Слушай, малыш, а может, это подходит к нам какой-нибудь корабль?
Одна мысль об этом заставила его разом вскочить, как будто он хотел скорее убедиться, так ли это или не так.
— Знаешь что, Вильм, подам-ка я им голос! Будь что будет, подам-и все! А ты слушай хорошенько, что мне ответят!.. Эй, на корабле!
Крик был направлен в ту сторону, откуда раздавались эти таинственные голоса. Ответа на его оклик не последовало. Матрос секунду, две внимательно прислушивался и повторил свое: «Эй, судно!»-более громким голосом.
Чей-то голос, словно эхо, повторил его слова, но то было не эхо. На океане эха не бывает. К тому же тот, кто повторил этот принятый между моряками оклик «Эй, на корабле!», произнес его иначе, чем матрос, совсем с другим, неанглийским произношением, да и звук его голоса был не как у англичанина. Но все же это был человеческий голос, и притом голос мужчины. Довольно-таки грубый, резкий голос, но стоит ли говорить, что он показался нашим скитальцам приятнее всякой музыки! И за словами: «Эй, на корабле!» — последовали и другие, исходившие из тех же уст.
— Боже милосердный! — кричал этот странный голос. — Кто это там, черт возьми, орет? С «Пандоры» кто-нибудь? Это вы, капитан? Или вы, масса Легро?
— Негр! — всплеснул руками Брас. — Ей-богу, это Снежок, наш кок с «Пандоры»! Клянусь Нептуном, это он! Не пойму только, как этот черный тут оказался. И на чем он плавает? На большом плоту его с остальными не было. Я думал, он удрал вместе с капитаном. А если это так, значит, он кричит с гички.
— Нет, это не гичка, — ответил юнга. — Я своими глазами видел Снежка возле камбуза уже после того, как гичка отчалила. А так как и на большом плоту потом его не оказалось, я думал, что он утонул или не успел сойти с горящего судна… Но ведь это в самом деле его голос. Слышишь? Опять кричит!
— Эй-эй, э-э-эй, на корабле! — еще раз громко прокатилось над водой. — Слушай, корабль, кто это у вас сейчас кричал? Какой это корабль? Как его звать? Или это вовсе и не корабль? Может, кто с «Пандоры»? Потерпевшие кораблекрушение?
— Да, это мы! — ответил Бен. — Потерпевшие кораблекрушение с «Пандоры». Кто зовет? Снежок, это ты?
— Да, да, я! А вы кто? Это вы, масса капитан?
— Нет.
— Значит, вы, масса Легро?
— Да ну тебя с твоим массой Легро! Это я, Бен! Бен Бpac!
— Боже ж ты мой! Неужто масса Брас? Да как вы тут оказались? Вы же были на большом плоту!
— Был, да сплыл! А теперь на своем собственном… А ты, Снежок, тоже на своем?
— На своем, на своем, масса Бен! Построил его из обломков да из бочек.
— Ты один на плоту?
— Не совсем. Со мной моя чернушечка! Девочка из каюты. Помните маленькую Лали?
— Так это она? — пробормотал Бен, припоминая маленькую пассажирку на «Пандоре»— А-а! Помню, помню, Снежок!.. Ты стоишь на месте или двигаешься?
— Торчу, словно бревно, все на одном месте! Мы и мили не прошли с тех пор, как порох взорвался.
— Ну так жди нас! У нас есть весла. Мы сейчас к вам подойдем.
— Вы сказали «мы»? Разве вы не один на плоту?
— Со мной малыш Вильм.
— Малыш Вильм?! Ох, и хороший же он мальчуган и до чего храбрый! Я видел, когда спускался вниз в каюту за моей чернушечкой, как он топором отбивал решетки люка, чтобы выпустить из трюма негров… Эх, все равно ничего хорошего для них не получилось! Одних сожрали акулы, а другие утонули! Господи, как они кричали, прыгая с судна в воду, чтобы спастись от огня!
Из этого разговора, вернее — монолога, произносимого Снежком, к ним долетали только отдельные слова. И Бен с юнгой, торопясь скорее двинуться в путь, не стали бы и слушать его, если бы голос негра не служил им ориентиром, помогающим добраться к нему в этой темноте. Теперь, когда они знали, что невдалеке Снежок, они повернули плот и двинулись в ту самую сторону, откуда только недавно еще так стремительно убегали.
Они неслись так быстро — теперь их подгонял еще и попутный ветер, — что к тому времени, как Снежок заканчивал свой бессвязный рассказ, они были уже в полукабельтове от него, различая сквозь темноту неясные очертания оригинального «судна», которое Снежок смастерил для себя и для Лали.
В эту минуту опять сверкнула молния, и пассажиры обоих плотов увидели друг друга. Через несколько секунд плоты оказались рядом, и обе команды так горячо и радостно кинулись навстречу, так весело приветствовали друг друга, словно с этим неожиданным свиданием миновали все опасности и самая угроза смерти.
Глава 23
ПЛОТЫ СОШЛИСЬ
Путешественники, даже незнакомые друг другу, повстречавшись в безлюдной пустыне, вероятно, не пройдут мимо, не обменявшись хотя бы несколькими словами. А если они старые знакомые, то наверное задержатся друг возле друга, откладывая как можно дольше минуту расставания. И если случайно окажется, что путь их лежит в одном направлении, как же они будут счастливы, что очутились вместе, что отныне смогут делить и труд и компанию!
В точности так же, как два путешественника или две группы путешественников встретились бы в пустыне на суше, так встретились среди водной пустыни океана оба эти плота. Их пассажиры были не чужие друг другу, а старые знакомцы. Если они до сих пор и не были друзьями, то теперь, в подобных обстоятельствах, они неизбежно должны были стать ими. Страх перед общей опасностью заставляет ягненка жаться ближе ко льву, а свирепого ягуара ластиться к робкой лани, которая уже не трепещет от такого опасного соседства.
Но между этими двумя так удивительно соединившимися группами не было вражды.
Естественно, что после такой встречи не могло быть и речи о том, чтобы опять расстаться. Все четверо понимали, что у них одно стремление, одно желание, — ведь они были жертвами кораблекрушения, все скитались по океану и потому только и мечтали о том, чтобы вырваться из этой водной пустыни, избавиться от опасности, грозившей им смертью. Оставаясь вместе, они могли скорее добиться спасения. Тогда для чего же им было разделяться и добиваться своей цели порознь?
Надо прямо сказать, что они даже и не помышляли о разлуке. С минуты их встречи разум говорил им, что у них теперь одна судьба, одна общая цель, а потому необходимо объединить свои усилия, работая в дальнейшем сообща.
И тут же, после первых приветствий и расспросов, Бен Брас и Снежок решили соединить плоты.
— Вот что, Снежок, — сказал матрос, — найдется у тебя лишний канат?
— У меня его тут хоть завались, — ответил бывший повар «Пандоры». — Целая бухта крепчайшего сезеня. Годится?
— Еще как годится! — сказал матрос и, перекинув через бочку фальшборта сооруженного Снежком плота один конец переброшенного ему сезеня, крикнул: — Крепи на ней канат, дружище Снежок! До света мы этим, пожалуй, обойдемся, а когда рассветет, свяжем плоты покрепче.
Бывший повар, повинуясь команде матроса, схватил брошенный ему конец и привязал его к одной из досок своего оригинального «судна». Бен в это время привязал другой конец к обломку гандшпуга, послужившего в свое время рулем на его плоту.
Выполнив свою часть работы и рассказав затем друг другу о том, что каждый из них пережил с момента гибели злосчастной «Пандоры», они решили, что всем им — благо теперь еще ночь — надо отдохнуть, чтобы встать с первой же зарей и подумать, как получше соединить оба плота в один.
Глава 24
ПЕРЕСТРОЙКА ПЛОТА
Едва занялся рассвет, все уже были на ногах. Первым поднялся Бен Брас и мигом всех разбудил. Лучи восходящего солнца вновь осветили фигуры четверых скитальцев, но выражение их лиц было совсем иное, чем накануне вечером. Конечно, до настоящего веселья было далеко, но они стали живее, бодрее, ибо эта новая встреча родила в них и новые надежды на спасение. Даже маленькая Лали и та понимала, что, так нежданно объединившись, они станут сильнее и им легче будет бороться с опасностью: двое таких крепких людей, как Снежок и матрос, работая сообща, сумеют сделать много такого, что было бы не по силам каждому из них в отдельности, не говоря уже о том, что и работа будет спориться лучше.
Самый факт их удивительной встречи казался Снежку и матросу не простой случайностью. Недаром обстоятельства до сих пор складывались для них самым счастливым образом-они не только выходили в прошлом из самых, казалось, затруднительных положений, но и в дальнейшем их жизнь на какое-то время была ограждена от гибели.
И хотя сам Бен Брас приложил все старания, чтобы избежать этой встречи, теперь их уверенность в спасении окрепла, и они с еще большей надеждой смотрели в будущее.
Вот почему Бен Брас вскочил с первыми же лучами и поднял остальных.
Матрос слишком хорошо знал, как мало можно доверять причудам погоды даже в такой штилевой полосе океана: долго царившее затишье может в любую минуту смениться штормом. Надо поторопиться с перестройкой плота — пусть это будет один плот, зато такой большой и прочный, что никакая буря ему не будет страшна.
Умелому матросу Брасу построить такой плот не казалось трудным делом. Теперь, когда в их распоряжении было два плота да кругом еще плавало столько строительного материала, оно казалось вполне осуществимым. Словом, надо попытаться!
Наскоро посоветовавшись между собой, они решили разобрать меньший плот, для того чтобы его доски пошли на достройку второго плота, так как он был больше и надежнее.
Они не собирались вносить больших изменений в плот Снежка, устройство которого свидетельствовало о немалой изобретательности бывшего кока «Пандоры», а тем более полностью его перестраивать. Решено было сделать плот только попросторнее и понадежнее.
Однако, прежде чем приняться за работу, следовало подкрепиться. И Снежок не поскупился на угощение: сухари и вяленая бонита… из тех запасов, которые он заготовлял с таким усердием все эти дни.
За неимением огня бывший кок был лишен возможности показать себя во всем блеске своего поварского искусства. Намокшие в морской воде сухари слегка горчили на вкус. Но какое это имело значение для волчьего аппетита нашей голодной четверки! Завтрак показался им превосходным, тем более что горьковатые сухари они запивали пресной водой с добавленным в нее вином.
Вином? Откуда же у них взялось вино? — удивится, должно быть, читатель. С таким же вопросом обратился к Снежку и матрос, пораженный такой роскошью, как бочонок вина на плоту у кока.
Ответ был прост. Маленький бочонок с канарским, хранившийся у капитана в каюте, попал в океан вместе со многими другими вещами, а так как он был неполон, то преспокойно плавал, слегка лишь погрузившись в воду, откуда Снежок его и выловил.
Сразу же после завтрака закипела работа по перестройке плота. Прежде чем начать разбирать меньший плот, сняли вялившееся на нем мясо акулы и перенесли на второй. После этого опорожнили брезентовый «бак» — великое изобретение матроса, — теперь уже ненужный, и с величайшей осторожностью перелили из него воду в более надежное хранилище-в один из пустых бочонков, служивших фальшбортом. Туда же перенесли весла, обломок гандшпуга, топор и брезент, и, только когда меньший плот совсем опустел, его разобрали, а доски, два бруса и обломки рей, из которых он состоял, закрепили на должных местах.
Так они работали не покладая рук весь день, позволив себе передохнуть один час, чтобы пообедать. С помощью весел переезжали они на недостроенном плоту с места на место, выуживая из воды всякие полезные для них вещи, которые Снежок не успел или не сумел один выловить.
Солнце близилось уже к закату, а работа далеко еще не была закончена. Но они легли поспать, не тревожась: небо обещало назавтра такой же ясный день. И если погода останется хорошей, то к полудню они закончат работу. У них будет такой просторный плот, что на нем хватит места и для них самих, и для всех их запасов, а уж крепок он будет настолько, что устоит против самого сильного ветра, какой только возможен в этой зоне Атлантического океана, где царит вечный штиль.
Глава 25
«КАТАМАРАН»[204]
На следующее утро, как только рассвело, они возобновили работу.
Уложив и тщательно пригнав друг к другу бревна, они связали их вместе канатом, и все трое — матрос, Снежок и юнга — принялись изо всех сил затягивать его.
Плот получился продолговатой формы, напоминая дощаник для ремонта судов или плоскодонный паром. Он был футов в двадцать длиной, а шириной, в средней части, — около десяти. По краям его были опять размещены в должном порядке порожние бочки: одна уложена поперек у носа, другая тоже поперек — у кормы. Остальные четыре — всего их было шесть штук — вдоль обоих бортов, по две с каждой стороны. Этим достигались равновесие и симметрия вновь построенного плота. В общем, выглядел он теперь как настоящее мореходное судно, и Брас, его главный строитель, торжественно окрестил его «Катамараном».
На другой день, часам к двенадцати, «Катамаран» был готов. Если бы Снежок действовал один, он бы его в этом виде и оставил: негр все еще не верил, что у них есть хотя бы незначительная, но все же какая-то возможность добраться до берега на такой посудине. Однако матрос — а уж он-то в этих делах разбирался лучше — думал иначе. Он считал, что такое предприятие вполне осуществимо. Сейчас они находились в самом центре южного пассата. Даже будучи предоставлен самому себе и плывя по течению, плот со временем неминуемо должен пристать где-нибудь у берегов Южной Америки. Под парусами же его скорость еще увеличится. Правда, очень быстро такая неуклюжая посудина не пойдет, но все-таки они вполне могут рассчитывать, что хотя медленно, зато наверно они доберутся до твердой земли. Бен понимал, что это только вопрос времени и все зависит от того, насколько им хватит продовольствия и в особенности запасов воды.
Обдумав все, матрос решил, что у них есть кое-какие шансы на успех; счастья попытать стоит и поэтому следует установить на плоту мачту с парусом. На худой конец, они ведь ничем не рискуют, их смогут подобрать и в том случае, если они будут идти под парусом, а не только плыть по течению.
К счастью, материалов для постройки мачты и паруса у них было под руками сколько угодно. Неподалеку плавала контрбизань «Пандоры» со всей оснасткой. Из нее выйдет хорошая мачта и поперечная рея, и останется лишь натянуть парус, а тогда уж «Катамаран» даст ходу!
И матрос приступил к оснастке «Катамарана». Снежок и юнга помогали ему. К концу третьего дня посередине этого диковинного судна уже высилась настоящая мачта с поперечной реей, а на ней бессильно повис широкий парус, словно ожидая первого дуновения западного ветра.
Надо сказать, что тот ветер, благодаря которому Бен и Вильям добрались до обломков невольничьего судна, где они встретились со своим товарищем Снежком, дул не туда, куда матрос собирался повести судно, а как раз в противоположную сторону. Правда, это не был ветер, какого им хотелось бы в этих широтах, а всего лишь легкий бриз, и, если не считать его, вот уже много дней после гибели невольничьего судна стоял полный штиль. Начался он в ту ночь, когда два плота соединились вместе, и с тех пор штиль длился непрерывно, включая и те три дня, когда они были заняты постройкой «Катамарана».
На четвертый день — никаких перемен. Ни малейшего движения ветра. Поверхность океана как полированная. Несуразный, необычный корабль со своими шестью бочками, укрепленными по бортам наподобие фальшборта, с массивной, сужающейся кверху мачтой, одиноко торчащей посередине, отражался в воде, как в зеркале.
Однако ни «капитан» посудины Бен Брас, ни те из его команды, которые были достаточно взрослыми, чтобы задуматься о будущем и принять меры на случай всяких неожиданностей, не жалели об этом вынужденном бездействии, хотя катамаранцы не оставались без дела и на неподвижном плоту. Без устали работая веслами — на их счастье, у них оказалось несколько весел, — они избороздили вдоль и поперек все тот же небольшой, в квадратную милю, кусочек океана, по которому плавали уцелевшие обломки злополучной «Пандоры».
Таким образом им удалось выловить и сложить на плоту много таких «блуждающих» находок: в будущем все могло пригодиться.
Среди них Бен неожиданно обнаружил… свой собственный матросский сундучок! В нем нашлась смена белья, полный парадный костюм, который он надевал, когда сходил на берег, и множество различных мелочей, которые могли пригодиться им в предстоящем путешествии.
Сам же сундучок решено было использовать как шкаф.
В таких же трудах провели они и четвертый день.
Едва только на следующее утро взошло солнце, как зеркально гладкая до того поверхность океана внезапно вся сморщилась от ряби; казалось, ветер дует прямо с солнца.
Полотнище паруса скользнуло вверх по гладкой мачте. И когда оно туго натянулось, закрепленное шкотами, «Катамаран» понесся по волнам.
Роковое место, где погиб невольничий корабль, осталось позади.
— На запад! Так держать! — закричал Бен Брас, глядя, как надулся парус, и плот, создание его собственных рук, полетел по волнам, словно ожившая птица.
— На запад! Есть так держать! — закричали одновременно Снежок и юнга.
А у Лали глазки так и засияли от радости — такой ликующий вид был у ее спутников!
Глава 26
ВИЛЬЯМ И МАЛЕНЬКАЯ ЛАЛИ
Это был во многих отношениях благоприятный ветер. Во-первых, он дул в нужном направлении, во-вторых, дул ровно и постоянно, не превышая по силе легкого бриза, но и не затихая до штиля, мучившего их до этого. Штиля «капитан» «Катамарана» опасался не менее, чем урагана.
Это был как раз такой ветер, в каком они нуждались для испытания нового плота. Чуть рябивший поверхность воды, он в то же время так надувал паруса, что шкоты были натянуты, как тетива лука.
Так как ветер дул точно с востока, то та часть «Катамарана», которую Бен именовал носом, была обращена прямо на запад. А чтобы судно не бросало из стороны в сторону и не крутило ветром-не поворачивало через фордевинд, как говорят моряки, — наши кораблестроители соорудили на корме рулевое приспособление, чтобы управлять им. Это было просто длинное весло от большой шлюпки «Пандоры». Весло положили вдоль, опустив одним концом в воду, а посередине прикрепили его веревками к бочке, находившейся у кормы, причем так, что оно могло двигаться как рычаг — влево и вправо — и, таким образом, служить рулем. С помощью этого нехитрого приспособления «Катамаран» можно было поворачивать в любом направлении — не только по ветру, но и в наветренную сторону, лишь бы только ветер не дул прямо навстречу.
Правда, теперь кому-либо из них все время приходилось стоять у «штурвала», как называл шутливо Бен рулевое приспособление.
Первую вахту «капитан» выстоял лично сам, считая это, поскольку судно проходило испытание, слишком ответственным делом, чтобы его можно было доверить Снежку или Вильяму. Ну, а уж потом, когда судно по-настоящему ляжет на курс и его мореходные качества будут проверены и окажутся безукоризненными, придется постоять на вахте и остальным двум членам экипажа.
Итак, «Катамаран» плыл по курсу уже больше часа. Все было в полном порядке, происшествий никаких. «Капитан» сидел на корме, его вахта у штурвала еще не кончилась. Он один только следил за ходом своего корабля. Снежок возился среди припасов, разбросанных по плоту, наводя среди них некое подобие порядка; для всякой вещи он старался отыскать место, где та всего менее страдала бы от разрушительного действия волн и ветра.
Вильям и маленькая Лали находились около бочки, на носу плота. Бочка была почти совсем пуста и потому высоко держалась над водой. Они ничем не были заняты, если не считать делом их тихий, задушевный разговор и по временам радостные восклицания по поводу того, что судьба так счастливо свела их снова вместе, дав им двух таких храбрых защитников.
Надо сказать, что на корабле во время короткого путешествия, столь ужасно и неожиданно закончившегося, они виделись мало, а знали друг о друге еще меньше. Хорошенькая креолка находилась почти все время в своей каюте — девочке редко разрешалось покидать ее, а юный англичанин, живя в вечном страхе, чтобы ему не досталось от капитана или его помощников, не осмеливался показываться на запретной территории, разве только выполняя какое-нибудь поручение своего свирепого начальства.
Да и в тех случаях он бывал там ровно столько, сколько требовалось для выполнения поручений, зная, что стоит ему задержаться около каюты, как его или немедленно изругают, или даже столкнут в шпигат[205], а то грубыми пинками заставят убраться к себе на бак.
Неудивительно поэтому, что при таких неблагоприятных обстоятельствах юнге редко приходилось видеться с креолочкой, ставшей, как уже мы рассказывали, благодаря особым обстоятельствам его спутницей на злосчастном судне.
Хотя он почти не говорил со своей юной попутчицей и совсем не знал ни ее душевных свойств, ни характера, зато внешность ее он изучил прекрасно, до мельчайших подробностей. Не было ни одной черточки на хорошеньком личике, ни единого колечка вьющихся, черных, как смоль, волос, которые ускользнули бы от его взгляда.
Ах, как часто стоял он, наполовину скрытый парусами, и следил за ней, когда ей случалось задержаться на мгновение у двери каюты! В окружении грубых негодяев, составлявших команду «Пандоры», она напоминала ему беззащитного ягненка, попавшего в стаю волков.
Как часто при виде ее у него сильнее начинало биться сердце от непонятного ему самому чувства, в котором смешались и боль и радость!
Теперь же, сидя рядом с этим прелестным созданием на борту «Катамарана»
— пусть это было всего лишь хрупкое суденышко, которое в любую минуту мог разнести в щепы ветер или навсегда поглотить черные океанские волны, — Вильям больше не чувствовал страха и, любуясь ее личиком, ощущал лишь непонятное, но радостное чувство.
Глава 27
СЛИШКОМ ПОЗДНО!
Уже почти два часа, как «Катамаран» шел под парусом, а наши друзья все еще оставались на прежних местах, занимаясь своими делами. Наконец Снежок, покончив с укладкой припасов, предложил сменить Бена у штурвала, на что матрос с готовностью согласился и, оставив весло, направился на середину плота к своему сундучку. Встав на колени, он начал в нем рыться: Бену хотелось перебрать содержимое сундучка — может, в нем найдется что-нибудь такое, что пригодилось бы в их трудном положении.
Вильям и маленькая Лали все еще сидели на носу плота. По привычке взор юноши был устремлен вдаль; однако он то и дело посматривал на свою спутницу, стараясь развлечь ее разговором.
Девочка не говорила по-английски — она знала только несколько фраз, услышанных ею от английских и американских моряков, посещавших факторию ее отца на побережье Африки. Однако эти немногие фразы, повторяемые ею, были не только грубоваты, о чем она по своей наивности не подозревала, но и не совсем понятны, чтобы с их помощью можно было поддерживать хоть сколько-нибудь длительный разговор. Поэтому они говорили на родном языке креолочки. Вильям знал много португальских слов, так как большинство моряков на «Пандоре» были португальцами. Правда, этот жаргон был в большом ходу на побережье Африки, но он совсем не похож на португальское наречие, распространенное по берегам и большим рекам в тропиках Южной Америки.
Тем не менее, изъясняясь на этом жаргоне, Вильям был в состоянии, помогая себе знаками и жестами, кое-как поддерживать тот немногословный, отрывистый разговор, который он вел со своей спутницей.
В течение более двух часов, которые матрос простоял у штурвала, ничто не нарушило мирных занятий наших скитальцев.
Вскоре, однако, внимание Вильяма и его подружки привлекла очень странная рыба, плававшая на расстоянии около кабельтова впереди плота. Оба даже вскочили со своих мест и, сгорая от любопытства, следили за диковинным созданием.
Однако интерес, вызванный у них этой рыбой, был не из приятных. Наоборот, они смотрели на нее с чувством отвращения, почти с ужасом: это было одно из самых отвратительных чудовищ, обитающих в морских глубинах.
Длиной рыба была больше метра, и ее туловище постепенно сужалось к хвосту. У обычных рыб нет шеи, у этой же шея как будто была. Так, по крайней мере, казалось. Причина скрывалась в странной форме головы: короткая, но очень широкая, она далеко выдавалась в стороны. Голова и передняя часть туловища рыбы выглядели молотком на рукоятке. На обоих концах «молотка» находились большие глаза золотистого цвета.
Ноздрей сверху не было видно: они оказались на нижней стороне головы. А немного сзади них темнела подковообразная щель — рот. И когда пасть раскрывалась, в ней видно было несколько рядов острых зубов с пильчатыми краями.
Вильям не знал, какая это рыба, хотя она довольно часто встречается в некоторых частях океана. Но ему, к счастью или к несчастью, не приходилось видеть подобных тварей. Так как Лали спросила у него, что это за рыба, да и ему самому тоже хотелось знать, как она называется, он обратился к Бену. Бен, высунув голову из-за крышки сундучка и взглянув в направлении, указанном мальчиком, немедленно определил, что за чудовище плыло за кормой в виде почетного эскорта.
— Это молот-рыба, — коротко ответил он. — Один из видов акулы, причем самый что ни на есть отвратительный.
Сказав это, матрос снова погрузился в свои поиски, и голова его исчезла за откинутой крышкой сундучка. На рыбу он не обращал ни малейшего внимания. Этого животного, думал он, им нечего опасаться.
Да, так полагал Бен Брас сначала. Но какой обманчивой оказалась его спокойная уверенность! Через каких-нибудь десять минут он оказался футах в шести от страшной пасти, и ему угрожала непосредственная опасность быть растерзанным четырьмя рядами ужасных зубов чудовища.
Когда «капитан» «Катамарана» лаконично определил животное как молот-рыбу, Вильям вспомнил, что когда-то читал о ней в книгах по естественной истории и в романах о путешествиях. Действительно, это была молот-рыба, разновидность акулы; из-за устройства головы ее называют также «балансир-рыба». Научное ее название-«зигэна». Она считается одной из самых прожорливых из всего семейства акул, к которому она принадлежит.
Итак, чудовище было на расстоянии кабельтова от плота, прямо впереди по ходу. Оно вырисовывалось сквозь прозрачную воду океана во всем своем ужасающем безобразии. Акула плыла все в том же направлении, с равномерной скоростью, держась, таким образом, на одном и том же расстоянии от плота, — ну прямо разведчик или почетный курьер, сопровождающий «Катамарана» в его путешествии через Атлантический океан.
Некоторое время Вильям и Лали еще следили за рыбой, но так как картина не менялась: акула плыла по-прежнему, держась на том же расстоянии от плота, то это занятие быстро им надоело и они стали смотреть по сторонам.
Вскоре, однако, внимание юнги было привлечено новым зрелищем, и он даже вскрикнул дважды.
Первый раз в его возгласах слышалось веселое удивление, но затем их сменили тревога и смятение.
— Эй! — закричал он сначала, повернувшись и глядя на корму «Катамарана». — Смотрите, Снежок заснул! Ха-ха-ха, вот так старый кок! Смотрите, как спит, даже весло выскользнуло у него из рук!..
Но тут же у юноши вдруг вырвался тревожный крик, а затем торопливые восклицания, говорившие о непосредственной опасности:
— Ой, весло! Смотрите, весло!.. Оно поворачивается!.. Осторожней! Лали, осторожней!
Закричав, чтобы предупредить об опасности, юноша, расставив руки, подскочил к своей спутнице, словно желая защитить ее.
Но было уже поздно — выскользнувший из рук заснувшего штурвального конец рулевого весла повис над водой.
Оставшись без управления, «Катамаран» стал разворачиваться по ветру, отчего весло, в свою очередь, тоже повернулось, как огромный рычаг, вокруг своего крепления на кормовой бочке, зацепило концом маленькую Лали и, продолжая движение, далеко отбросило ее в синие океанские волны.
Глава 28
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!
— Упала! Упала в воду! — закричал Вильям при виде того, как девочка, подхваченная поднявшимся концом весла, была отброшена далеко от плота в океан.
Сам уже не сознавая, что кричит, юноша ринулся на край плота с намерением броситься в воду для спасения Лали, но в этот момент весло качнулось назад и, ударив его сзади под коленки, подбросило с такой силой, что он рухнул на плечи стоявшему на коленях Бену Брасу и, перелетев через его голову, свалился прямо к нему в сундучок.
Бен слышал тревожный крик мальчика и почти одновременно всплеск, когда Лали упала в воду. Он круто повернулся и хотел было подняться, но в эту-то самую минуту Вильям, с силой брошенный ему на спину, свалил его опять на колени.
Когда Вильям, перемахнув через него, очутился в сундучке, матрос уже оправился от неожиданности и вскочил на ноги.
— Кто? Где? Кто упал?.. — закричал Бен растерянно. — Ведь ты же тут! Да что случилось?
— Бен, Бен! — закричал ему в ответ Вильям, барахтаясь в сундучке, среди пожитков матроса — Маленькая Лали… она… ее сшибло веслом!.. Спаси ее! Ах, спаси же ее!
Но этот ответ и мольба мальчика были уже излишними. Матрос все понял. Он слышал всплеск и быстро огляделся вокруг: девочки на плоту не было. Ясно, кто из команды «Катамарана» упал за борт.
Расходившиеся по поверхности круги указывали место, где девочка ушла под воду. Как раз, когда Бен поднялся, она вынырнула и, крича и захлебываясь, стала судорожно бить по воде своими ручонками, инстинктивно стараясь удержаться на поверхности.
В эту решительную минуту храброму матросу даже не пришло в голову задумываться о том, как он должен поступить. Прыжок — и он у края «Катамарана»; другой — он на одной из бочек; третий — и он уже в океане, в шести футах от плота.
Если бы он был предупрежден о том, что случилось, хотя бы на десять секунд раньше, ему понадобилось бы только несколько взмахов руками, чтобы достигнуть места, где девочка упала в воду. К несчастью, из-за столкновения с Вильямом прошло еще несколько секунд. И вот в течение этих-то немногих секунд плот хотя и оставался без управления, а все же, плывя под парусом, довольно быстро уходил все дальше и дальше. Поэтому, когда матрос прыгнул в океан, барахтавшаяся в воде девочка была уже далеко за кормой, на расстоянии почти кабельтова.
Если бы Лали умела плавать, то это опять-таки было бы полбеды. Матрос знал, что добраться до плота ему с ней будет нетрудно: он может выплыть с ношей и потяжелее. Но он понимал, что девочка еле держится на поверхности и в любой момент может снова уйти под воду.
Матросу это стало ясно еще в ту секунду, когда он только бросился к ней на помощь. Поэтому, рассекая мощными взмахами воду, он спешил вовсю, напрягая каждый мускул рук и ног.
Тем временем Вильям вскочил на ноги и побежал на корму. Быстро взобравшись на бочку как раз в том месте, где крепилось злополучное весло, так что оно оказалось под ним, он, дрожа от волнения, следил за происходящей сценой, бросая взгляды то на беспомощно барахтавшуюся Лали, то на спешащего к ней быстрого пловца.
А Снежок тем временем преспокойно спал здоровым, непробудным сном, каким негры спят у себя в жарких странах. Ни крик Вильяма о помощи, ни восклицания матроса не оказали никакого действия на барабанные перепонки Снежка. Не слышал он и пронзительных криков Лали, хотя при этом было произнесено его собственное имя.
Ну, а раз ни один из этих звуков не вывел его из оцепенения, то теперь он и подавно мог продолжать свой сон как ни в чем не бывало, не видя и не слыша, что творилось вокруг. Ведь матрос плыл молча, крики девочки удалялись, становясь все тише и тише, а Вильям, теперь единственный спутник Снежка, был слишком поглощен происходящим-он не только кричать, но и дышать боялся.
Да, в эти мучительные мгновения, переживаемые катамаранцами, Снежку спалось так уютно и крепко, словно он растянулся на койке в своем камбузе, укачиваемый неторопливым ходом доброго парусника.
Вильям даже не подумал о том, чтобы разбудить его, потому что, по правде сказать, он не совсем еще пришел в себя. Голова его так и гудела от пережитого потрясения. На корму он бросился и вскочил на бочку, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает… И драма, развязки которой он ожидал с таким глубоким беспокойством, так приковала его к себе, что он и думать забыл о Снежке и о том, что его надо разбудить.
Молчание длилось недолго. Впрочем, для актеров и зрителя этой волнующей драмы оно могло показаться и долгим. Нарушил его радостный крик Вильяма, короткое и бурное «ура» — матрос достиг желанной цели! Вот он приподнимает Лали и, поддерживая ее одной рукой, другой гребет в сторону плота.
Глава 29
СПАСЕНА!
— Вот так Бен! Ура! Он спас ее!..
Возможно, что жесты, сопровождавшие этот взрыв восторга, были настолько бурными, что бочка качнулась и выскользнула у Вильяма из-под ног, или же истинная причина происшедшего заключалась в том, что его нервы чересчур ослабели после столь долгого и сильного напряжения, но, как бы то ни было, при последнем крике «ура» Вильям потерял равновесие и полетел с бочки, свалившись прямо на мирно спавшего повара.
Очевидно, чувство осязания у спящего было более тонким, чем чувство слуха, и негр наконец проснулся.
— Что за чертовщина! — закричал он, вскочив на колени и стараясь выбраться из-под Вильяма, свалившегося ему на спину. — Что за черт? Что за шум? Кто это кричал «ура»?.. Ты кричал, Вильям? Мне приснилось, кто-то крикнул «ура»… Что, разве ты увидел корабль?.. Нет? А где же масса Брас и где наша маленькая девочка? Ой!..
Вопросы следовали друг за другом с такой быстротой, что мальчик не успевал ответить ни на один из них. Но последнее восклицание Снежка сказало о том, что вряд ли это было нужно.
Окинув плот быстрым и пристальным взглядом и увидев, что на нем нет Бена, а главное, нет его дорогой Лали, негр остолбенел от удивления и ужаса.
Он взглянул на воду. Как все люди, много плававшие по океану, он, по издавна выработавшейся у него привычке, сразу же посмотрел за корму: упавший за борт всегда окажется за кормой идущего под парусом судна. И негр был прав. Он тут же заметил Бена Браса, или, вернее, только его голову, чуть возвышавшуюся над волнами. А рядом с ней виднелась маленькая головка с черными локонами и крошечная ручка, доверчиво обнимавшая матроса за плечо.
Снежок мигом понял все. Вильям мог ничего не объяснять. Ему стало ясно, что произошло, пока он спал. Он не понял лишь причину происшедшего и даже не заподозрил, что несчастье случилось по его собственному нерадению. Но все равно беспокойство, испытываемое им, от этого нисколько не уменьшилось. Да что там беспокойство… он ощущал ужасную тревогу!
Это чувство возникло не сразу. Сначала, когда он увидел, что девочку поддерживает такой прекрасный пловец, как его старый товарищ, он не сомневался в конечном исходе происшествия, настолько не сомневался, что даже не бросился им на помощь, хотя в первую секунду именно так и думал поступить.
Однако он тут же убедился, что опасность, грозящая Лали и ее храброму спасителю, не миновала.
Не подумал и Вильям об этой опасности, когда кричал «ура», выражая свою радость. Он видел, что матрос подобрал девочку, и, безгранично веря в мужество и ловкость их защитника, не сомневался в том, что тот доберется до «Катамарана» вместе со своей нетяжелой ношей. Вне себя от радости, юнга не принял в соображение одного обстоятельства: «Катамаран» шел под парусом с такой скоростью, что даже самый быстрый пловец — один, без всякой ноши — и то не догнал бы его. В такую горячую минуту не обратил внимания на это печальное обстоятельство не только юнга, но даже Снежок, а ведь, надо сказать, Снежок был не только хороший кок, но опытный мореход. Однако почти тут же негр увидел опасность и понял, в чем она заключалась. Быстро встав на корточки около кормовой бочки, он схватил конец рулевого весла, который сам же раньше выпустил из рук с такой преступной небрежностью, и, хотя ему до сих пор и в голову не приходило, что сам он был всему причиной, принялся изо всех сил спасать положение.
Сильные руки негра заставили «Катамаран» повернуться против ветра и таким образом приблизиться к пловцу. Но наш рулевой увидел вдруг нечто, отчего бросил весло так внезапно, словно руку его разбил паралич или конец весла превратился в раскаленное железо.
Одно было ясно: причиной был не паралич. Его рука, выпустившая весло — правая рука, — потянулась к левому бедру, где на поясе у него висел в ножнах длинный нож. Он схватился за рукоятку, но не для того, чтобы его вытащить, а чтобы убедиться, на месте ли он.
Мгновение — и рука отдернулась. Негр был уже на ногах. О весле он больше не думал и, подбежав к краю плота, прыгнул в воду.
Глава 30
МОЛОТ-РЫБА
Поведение негра, бросившего рулевое весло и прыгнувшего в воду, было некоторое время непонятно Вильяму. Зачем Снежок сделал это? Разве матрос не мог один доплыть с девочкой до плота? Ведь он без труда поддерживал ее. Да и, кроме того, Снежок был бы гораздо полезнее, оставаясь на плоту и продолжая управлять им. Стоило бы ему постоять у руля еще несколько минут — и пловец оказался бы рядом с «Катамараном». Ну, а теперь, когда он выпустил весло, плот снова развернулся и, встав носом по ветру, стал удаляться в противоположную от матроса сторону.
Однако этого тревожного обстоятельства Вильям даже не заметил, а если и заметил, то спустя мгновение уже забыл о нем.
Всего несколько секунд следил он за негром. Неприятные мысли теснились у него в голове: почему негр, перед тем как прыгнуть, схватился за рукоятку ножа, чуть-чуть его вытащил и снова сунул обратно? Мгновенное подозрение промелькнуло в голове у мальчика. Зачем негру понадобился нож, если целью его было спасение пловца? Уж не пришла ли ему в голову дьявольская мысль — уменьшить число тех, которые нуждаются в пище и воде?
Правда, это подозрение возникло лишь на секунду и, возникнув, тотчас вызвало в юноше глубокое раскаяние. Как мог он так дурно подумать о Снежке?
Раскаяние пришло мгновенно, потому что взгляд его упал на…
Только теперь странный поступок негра стал ему понятен — не для убийства плыл Снежок к Бену Брасу, а для спасения!
Только от кого спасать? Неужели действительно была опасность, что матрос утонет и он нуждался в помощи для себя и девочки?
Но Вильям уже не спрашивал себя об этом. Зачем догадки и предположения? Опасность, угрожавшая его покровителю, предстала пред ним во всей своей ужасающей реальности. Этот плоский темный диск с серповидной выемкой посередине, который быстро скользил, пеня воду, не мог быть ничем иным, как спинным плавником акулы. И Вильям понял, какая грозит им опасность.
Ведь это та самая акула, которую он и крошка Лали спокойно наблюдали совсем недавно, опаснейшая молот-рыба. Сквозь прозрачную воду вырисовывалась ее молотообразная голова и зловеще светящиеся, навыкате глаза. Страшное зрелище!
И вот мальчик остался единственным свидетелем этой волнующей, потрясающей сцены, а участниками ее оказались Снежок, молот-рыба, Бен Брас и девочка, которую он спасал.
Еще в тот момент, когда Вильям понял, зачем негр бросился в воду, действующие лица разыгрывающейся трагедии расположились как бы на углах огромного равнобедренного треугольника, причем Снежок и акула находились в углах у основания, а Бен со своей ношей — в углу при вершине. Эта последняя точка оставалась почти неподвижной, а две другие двигались по направлению к ней: человек и акула состязались в скорости.
Вот как все это произошло: ушей чудовища, плывшего до этого впереди «Катамарана», достиг всплеск упавшей в воду Лали и более тяжелый и еще более громкий всплеск тела матроса, прыгнувшего с плота. Молот-рыба с хищным инстинктом, характерным для всей породы акул, мгновенно повернулась и поплыла, заходя за корму плота, где, как она чуяла, неминуемо должно оказаться то, что упало за борт, — будь то предмет или человек.
И вот, когда хищник подбирался таким образом к кормовой струе «Катамарана», Снежок, заметив веерообразный плавник и направление, в котором он двигался, разгадал его намерение.
Но едва только Снежок бросился в воду, акула, отклонившись от своего первоначального направления, поплыла в сторону негра — по-видимому, она решила переменить объект нападения. Однако, то ли негр пришелся ей не по вкусу, то ли она была испугана его храбростью — он плыл прямо ей навстречу,
— что бы там ни было, она метнулась назад, поплыв по прежнему курсу, навстречу Бену.
Разумеется, матрос, плывя с девочкой, почти потерявшей сознание и стеснявшей его движения, вряд ли мог защититься от нападения акулы, да еще такой акулы, как молот-рыба. Снежок знал это, и именно это побудило его броситься на помощь.
Что же касается самого негра, то трудно было найти в водах океана более опасного для акулы противника. Плавать он умел, как рыба, а нырять, как морская утка. Не раз он встречался лицом к лицу с акулой в ее родной стихии, не раз выходил победителем из такой встречи. Не за себя он боялся, выходя на этот поединок, а за тех, кого собирался спасать.
Уже в самом начале акула была ближе к Бену: она начала движение раньше. Но хотя им нужно было преодолеть почти равные расстояния, Снежок знал, что его соперник, превосходя по скорости, придет к цели первым.
Эта мысль приводила его в жгучее беспокойство, почти отчаяние.
Он неистово бил по воде руками и ногами, громко кричал и вообще всячески старался отвлечь внимание акулы на себя.
Однако ни его шумные движения, ни крики не принесли никакой пользы: хитрое животное не обращало на них внимания. Ее темный спинной плавник, словно парус под сильным ветром, несся навстречу более доступным для нее жертвам.
Стороны равнобедренного треугольника становились неравными очень медленно, но верно. Теперь это был уже косой треугольник, и Снежок с каждой секундой все яснее видел это.
— Ах, бедняжка Лали! — кричал он голосом, прерывавшимся от волнения. — Ой! Масса Бен, ради всех святых, берите же вправо — слышите, вправо! — а я заплыву между вами и этой свирепой тварью! Впра-а-а-во!.. Так, правильно. Вы только продержитесь, Бен! Только бы успеть доплыть, а я уж расправлюсь с этой тушей!
Указание Снежка возымело действие. До сих пор матрос не замечал опасности, единственной мыслью его было догнать плот. О каком нападении акулы мог он думать! Он даже не заметил приближения молот-рыбы. Дело в том, что плавник акулы был хорошо виден со стороны «Катамарана», то есть сбоку, но его трудно было заметить, глядя на него спереди. Неудивительно поэтому, что жертвы, на которых акула готовила нападение, не замечали ее приближения. И только при виде Снежка, прыгнувшего с «Катамарана» и плывущего ему навстречу, у матроса мелькнуло подозрение: акула! В то же мгновение он вспомнил, что Вильям спрашивал его об этом животном, а он кратко ответил ему, что оно называется молот-рыбой.
Теперь только Бен понял, что их настигает акула. Однако откуда ждать ее нападения, он не знал, пока не услышал предупреждающих криков Снежка: «Берите же вправо!»
Матрос был слишком высокого мнения об опыте бывшего кока, чтобы пренебречь его советом, и, как только услышал этот крик, повернул вправо так быстро, как только может это сделать пловец с одной свободной рукой. К счастью, этого было достаточно, и вскоре соотношение всех пловцов изменилось
— вместо треугольника они образовали теперь прямую линию: на одном конце был матрос, на другом акула, а посередине Снежок.
Глава 31
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Из-за такой церемены в расположении пловцов акула потеряла свои преимущества. Противником ее был уже не обессиленный обремененный ношей и безоружный матрос — да если бы даже и имелось оружие, все равно руки у него были заняты, — нет, теперь ей предстояло схватиться с вооруженным длинным ножом, бодрым, полным сил противником, который с детства привык к водной стихии и чувствовал себя в воде, может быть, не хуже самой акулы. Во всяком случае, негр мог спокойно продержаться на воде в течение нескольких часов, да и под водой не меньше, чем любое животное, дышащее воздухом.
Но Снежок вовсе не собирался погружаться глубоко в воду.
Ну уж нет, ни на дюйм! Наоборот, чем ближе к поверхности, тем лучше.
Он отлично понимал, что под водой-то его и подстерегала опасность.
Как вы уже знаете, ему не один раз приходилось вступать в поединок с акулой в ее родной стихии. Правда, ему больше доводилось иметь дело не с молот-рыбой, а с белой акулой, однако он знал кое-что и о повадках этого вида акул.
Дело в том, что молот-рыба и другие особи этого вида нападают только тогда, когда их жертва находится под ними. В противном случае им приходится перевернуться на спину или на бок, и тем круче, чем ближе к поверхности воды лежит их добыча. Если же она совсем на поверхности, то акула в силу своеобразного расположения рта и строения челюсти выгибается брюхом наружу.
Это обстоятельство хорошо известно всякому, кто провел свою жизнь на море, и особенно тем, кому не раз приходилось вступать в поединок с акулой.
Например, ловцы жемчуга в Красном море нисколько не боятся нападения акулы. Оружием защиты у них служит простая палка, заостренная с обеих сторон и для крепости обожженная в огне. Называют они ее «эстака».
Имея при себе это простое оружие — его носят в петле на поясе, — они не боятся нырять за жемчугом, хотя в эти места и наведываются акулы. Как только прожорливый хищник бросается на них, ловцы, дождавшись, когда тот проделает свое водное сальто, выгнувшись брюхом наружу и откроет огромную пасть, ловко суют эстаку в пасть хищника, и ему остается только убраться восвояси с разинутой пастью или же закрыть ее, себе на погибель. Однако в эти воды заходят и другие акулы, с которыми не так-то легко справиться. Называются они «тинтореры», и ловцы жемчуга опасаются их не меньше, чем моряки — обыкновенных акул.
Молот-рыба — свирепый хищник, и ее боятся больше, чем какую-либо другую акулу. Несомненно, однако, этот страх наполовину вызывается ее ужасной внешностью.
Снежок знал, что животное не может причинить ему вреда, предварительно не приняв своей обычной позы вполоборота, и поэтому приблизился к ней с намерением держаться на самой поверхности, не давая животному очутиться над ним.
Итак, поединок был теперь неизбежен.
Акула, хотя несколько и сбитая с толку происшедшим перемещением, видимо, все-таки не отказывалась от намерения во что бы то ни стало отведать человечины. Двое белых от нее ускользнули, но на этот счет у нее не было особого предпочтения, и чернокожий Снежок казался ей не менее аппетитным, чем Бен Брас и маленькая Лали.
Трудно, конечно, утверждать, что акула рассуждала именно таким образом или что она вообще могла рассуждать. Да и времени у нее не было для того, чтобы рассуждать.
Когда Снежок оказался между акулой и намеченными ею жертвами, курчавую голову негра и молотообразный череп хищника разделяло такое расстояние, что между ними нельзя было бы и трех раз уложить гандшпуг.
Положение не из приятных, и всякий другой на месте Снежка не выдержал бы и поддался бы страху.
Но не тут-то было! Опытный боец был готов к поединку, действуя с таким бесстрашием и решительностью, будто на нем был амулет, который давал ему полную уверенность в победе.
Вильям, стоя на корме «Катамарана», затаив дыхание, наблюдал все перипетии этого зрелища. Он увидел, как негр вытащил нож из ножен, но он недолго задержался в его руках — чтобы высвободить и удобнее маневрировать, избегая своего противника, Снежок взял нож в зубы. В таком необычном виде предстал он для встречи со свирепым властителем морских глубин.
Глава 32
ПО КРУГУ
Было бы естественно предположить, что акула мгновенно ринется на своего противника, движимая лишь одним желанием: сожрать его как можно скорее. Но нет! Несмотря на свою прожорливость, характерную вообще для всех видов акул, этому хищнику свойственна и большая инстинктивная осторожность. Этот морской тигр, так же как и тигр, обитающий на суше, может чутьем угадать, легко ли достанется ему добыча или противник окажется опасным.
Должно быть, такая мысль (если это можно вообще назвать мыслью) мелькнула в безобразной голове молот-рыбы: слишком уж решительный вид был у Снежка! Вполне вероятно, что если бы негр стал удирать от нее, а не поплыл ей навстречу, то акула тотчас же набросилась бы на него.
Вдобавок противник был примерно такой же крупный, как она сама, да и храбр не менее, чем она. Возможно также, что две лоцман-рыбы — обычные спутники акулы, — подплыв чуть ли не к самому носу Снежка и осмотрев его темное туловище, как хорошие разведчики, доложили своему хозяину, что приближаться к намеченной ими добыче нужно с осторожностью.
Как бы там ни было, акула, по-видимому, сразу обнаружила в противнике нечто такое, что изменило ее тактику: вместо того чтобы безрассудно броситься на Снежка или хотя бы плыть с той же скоростью, с какой она приближалась к нему раньше, акула, находясь уже на расстоянии нескольких морских саженей, вдруг стала сбавлять ход; ее бурые веерообразные, тихо колебавшиеся по бокам плавники уже не помогали ей в прежнем стремительном движении.
Более того, подплыв к негру почти вплотную, она вдруг подалась чуть в сторону, словно решила напасть на противника с тыла или даже проплыть мимо.
Интересно, что обе лоцман-рыбы, плывшие по сторонам у самых ее глаз, казалось, направляли движение акулы.
Негр был явно сбит с толку этим неожиданным маневром. Он ждал мгновенного нападения и сумел бы отразить его; он даже вытащил нож изо рта и зажал крепко в правой руке, готовясь нанести смертельный удар.
Нерешительность хищника вызвала и у него некоторое замешательство.
Ага!.. Снежок сообразил, что хитрая тварь норовит его обойти, чтобы броситься на беззащитных Бена и Лали за его спиной.
Как только это подозрение мелькнуло в него в голове, он повернулся в воде и поплыл наперерез акуле, чтобы, если возможно, перехватить ее.
Впрочем, теперь уже не имело значения, собирается ли хищник возобновить свой первоначальный план нападения на матроса и его ношу или это был просто маневр, чтобы зайти негру с тыла; так или иначе, Снежок выбрал правильную тактику. Негр сообразил, что если ловкий противник подберется к нему с тыла, то ему, так же как матросу с девочкой, придется плохо. Если бы акуле удалось обойти его и поплыть навстречу матросу, то каким бы хорошим пловцом ни был Снежок, за рыбой ему все равно не угнаться.
И тут ему пришла в голову мысль, как предотвратить опасность, которой он боялся больше всего: чтобы акула не обошла его и не бросилась на беззащитную пару. Вынув изо рта свой нож. Снежок закричал:
— Эге-ге-гей! Масса Брас, берите-ка вправо! Ей придется тогда ходить по кругу. Ради Бога, держитесь у меня за спиной, или вы пропали!
Но матрос вряд ли нуждался в этом совете: он и сам уже увидел опасность и начал маневр, который негр советовал ему предпринять.
Теперь все они двигались по кругу, или, точнее, по трем концентрическим окружностям, причем матрос с девочкой двигался по меньшему. Снежок-по кругу со средним радиусом, а акула со своими спутниками — по внешнему, самому большому. Ее горевшие злобой глаза были устремлены к центру: она только и ждала случая, чтобы прорваться через второй круг, охраняемый негром. Целых пять минут продолжалась эта схватка, причем без явного перевеса на чьей-либо стороне. И все же преимущество в этом состязании было на стороне игрока, плывущего по внешней окружности. Хотя акуле и приходилось преодолевать наибольшее расстояние, однако для нее это было своего рода спортивное состязание, для ее же партнеров — тяжкий труд, сопряженный к тому же с опасностью утонуть.
Если бы череп животного имел другое строение, а мозг был совершенней, то оно продолжало бы эту игру, и тогда его главному противнику, Снежку, пришлось бы либо просить пощады, либо отправиться на съедение рыбам. Но еще раньше туда же отправился бы обремененный ношей пловец, находившийся позади него.
Однако, как все животные, будь они сухопутные или водные, акула тоже не всегда способна проявить достаточное терпение и, бывает, приходит в ярость. И вот хищник, придя именно в такое расположение духа — по-видимому, свойственное водным хищникам, так же как и людям, — решил наконец нарушить правила этой игры и тем самым положить ей конец.
Не выдержав, акула внезапно вышла из своего круга и двинулась к Бену Брасу и маленькой Лали, приникшей к его плечу. Словом, несмотря на предостережение своих двух спутников и на поблескивающий под водой нож негра, акула бросилась стремглав к центру трех кругов. Ей пришлось пройти так близко от приплюснутого носа негра, что ее клейкая чешуя чуть не коснулась его выпяченных губ. Стоило Снежку протянуть руку — и его удар пронзил бы насквозь увертливого врага.
Снежок действовал иначе и так ловко, так проворно, будто заранее уже знал об этом новом маневре акулы. Как только бок хищника скользнул на дюйм от его носа, он вдруг опять схватил нож в зубы и, действуя одновременно руками и ногами, сделал в воде прыжок и, взметнувшись всем телом, вскочил хищнику на спину.
Одно мгновение — и левая рука его вцепилась в костистый нарост над левым глазом акулы, мускулистые пальцы впились в орбиту глаза, а длинный нож в правой руке заходил вверх и вниз, то сверкая в воздухе, то скрываясь под водой, с равномерностью парового молота.
Сделав свое дело, Снежок преспокойно слез со скользкого седла. Рядом плавала акула, или, вернее, ее труп, который окрашивал кровью лазурные волны на несколько морских саженей вокруг.
Глава 33
ПОГОНЯ ЗА «КАТАМАРАНОМ»
Как было уже сказано ранее, стоявший на корме Вильям следил за этой сценой, затаив дыхание. Едва только он увидел, что акула мертва, а Снежок вышел из поединка невредимым и победителем, мальчик, не в силах больше сдерживаться, закричал от охватившей его радости.
Однако крик этот тут же смолк и за ним последовал другой, выражавший совсем иные чувства. То был крик уже не радости, а ужаса.
Оказывается, драма в открытом океане, разыгрываемая перед ним, единственным зрителем, еще не закончилась. Предстоял новый, не менее волнующий акт, причем теперь юнга был уже не зрителем, а его участником.
И акт этот начался. Отчаянный крик, который вырвался у юнги, возвестил его начало.
Наблюдая за поединком между Снежком и акулой, Вильям упустил из виду одно очень важное обстоятельство.
Теперь в опасности был не только негр, но и Бен Брас и маленькая Лали, да и сам он-словом, судьба всей маленькой команды зависела сейчас от него самого, или, вернее, от того, удастся ли ему взять их спасение в свои руки; если это удастся, то они могут быть еще спасены, в противном случае наверняка погибнут.
Читатель, наверно, удивляется: о каком странном обстоятельстве, сулившем такой ужасный исход, может идти речь? Ничего таинственного, однако, тут не было. Просто «Катамаран», имея на себе наполненный ветром парус, уходил, как и следовало ожидать, все дальше от пловцов.
Вот почему юнга закричал от ужаса. Теперь, когда он перестал беспокоиться за исход поединка, он сразу осознал эту новую опасность. И, должно быть, Бен Брас тоже заметил ее. Не прошло и мгновения, как зычный голос матроса разнесся далеко над океаном.
— Вильм! — кричал он, стараясь держать голову как можно выше над водой, чтобы его лучше было слышно. — Ви-и-льм, голубчик, держи рулевое весло да разворачивайся! Слышишь? Становись против ветра, а не то нам конец!
Снежок тоже пытался кричать, но он так запыхался после долгой, напряженной борьбы с акулой, что изо рта его вылетали лишь бессвязные звуки, похожие скорее на хрюканье дельфина, чем на членораздельную человеческую речь. Понять его было совершенно невозможно.
Да и вряд ли это было нужно, так как Вильям сам увидел, в чем была опасность, и поспешно принял нужные меры. Руководствуясь собственным соображением и отчасти указаниями Бена Браса, он бросился к рулевому веслу и, вцепившись в него обеими руками, изо всех сил старался развернуть «Катамаран».
Через некоторое время ему удалось повернуть плот против ветра, или, точнее говоря, поставить его настолько «близко к ветру», насколько вообще такого рода судно могло выполнить этот маневр. И тут он вдруг увидел, что его усилия совсем или почти совсем бесполезны. Сбавив ход, плот со своим огромным, неуклюжим парусом продолжал удаляться от догонявших его пловцов, и расстояние между ними, как заметил Вильям, все увеличивалось. Даже Снежок, который, покончив с акулой, направился прямо к «Катамарану», — даже он не приближался ни на дюйм к гонимому ветром плоту.
Наступил самый напряженный момент. Тревога, казалось, достигла наивысшего предела: все видели, что плот не поддается управлению и уходит все дальше и дальше…
В таком положении дело долго оставаться не могло. Видно было, что оба пловца изнемогают от усталости. Снежок, плававший, как морская утка, мог еще продержаться некоторое время, но матрос, обремененный ношей, неминуемо должен был скоро пойти ко дну. Да и Снежок не мог плыть до бесконечности. Если погоня за уходящим по ветру «Катамараном» продолжится, негр неминуемо тоже окажется жертвой всепоглощающего океана.
В течение нескольких минут — они казались часами — продолжалось состязание между людьми и плотом без каких-либо видимых успехов для той или другой стороны. Правда, некоторая перемена в их взаимном расположении все же произошла Вначале негр плыл на несколько саженей позади Бена Браса и спасенной им девочки. Теперь позади были они, и, увы, они отставали все больше и больше. И хотя Снежок уплывал все дальше и дальше от Бена, к «Катамарану» он не приближался. Плот оказался более быстрым парусником, чем Снежок — пловцом.
Вначале, когда Снежок бросился догонять плот, он рассчитывал быстро добраться до него и повернуть его в сторону обессилевшего пловца.
Уверенный в своем умении плавать, он считал это вполне осуществимым. Но теперь, проплыв следом за плотом несколько минут, он убедился, что расстояние между ним и «Катамараном» не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. И им овладело сильнейшее беспокойство.
И беспокойство это росло: напрасно греб он во всю мочь, напрасно работал он крепкими ногами, напрягая все силы, — все та же широкая синяя полоса воды отделяла его от «Катамарана».
И когда наконец он увидел, что все усилия тщетны и что «Катамаран» уходит, беспокойство его сменилось мучительной тревогой. Неизвестно, было ли все на самом деле так, как ему казалось, но он решил, что догнать плот невозможно, и прекратил свои усилия.
Однако он не собирался оставаться на месте. Отказавшись от преследования «Катамарана», он ловко, как бобер, повернулся в воде и взглянул назад. Там, на расстоянии примерно двухсот морских саженей, виднелись две точки, настолько сливаясь друг с другом, что они казались одним пятнышком, черневшим над гребнями волн.
Да и заметить их можно было, только приподнявшись на несколько дюймов над водой.
И Снежок приподнялся еще выше, ибо знал, что там чернелось…
Ни секунды не колеблясь, он, рассекая воду, поплыл прямо туда.
Его не раздирали больше противоречивые чувства. Одна мысль завладела им целиком. Он плыл не с осознанной целью помочь, а лишь побуждаемый отчаянием, чтобы, пока в нем есть еще хоть капля сил, не дать утонуть маленькой Лали-ребенку, вверенному его попечению, а если сила и иссякнет, то погрузиться вместе с девочкой в огромную бездонную могилу, от которой не остается ни следа, ни надгробия.
Глава 34
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПАРУСА
Негр и матрос плыли теперь навстречу друг другу. Бен, правда, двигался довольно медленно, но нельзя сказать, чтобы и Снежок плыл назад быстро. Впав в отчаяние, он не чувствовал прежней решимости. Он даже не отдавал себе отчета, зачем он вернулся, разве только затем, чтобы утонуть вместе с двумя другими. По-видимому, теперь всех их ждал именно такой конец.
Как ни медленно они плыли, встретились они скоро. В их глазах застыло тяжкое отчаяние, какое бывает у людей, утративших последнюю надежду.
«Катамаран» был уже теперь на таком расстоянии, что если бы он даже стал на якорь, то вряд ли бы они добрались до него вплавь. Уже плот и привязанные вокруг него бочки скрылись из виду. Один лишь парус белел вдали, словно курчавое облачко, летящее по небу, да и он вот-вот грозил превратиться в белую точку, а там, может быть, и исчезнуть из виду. Какая уж тут надежда!
Бен Брас недоумевал, почему парус все еще не был убран. В первые минуты, нагоняя плот, он кричал Вильяму, чтобы тот отпустил шкоты, кричал до хрипоты, пока не стал задыхаться и совсем потерял голос. Да и плот тем временем отнесло так далеко, что вряд ли юнга услышал его. Наконец матрос перестал кричать; он продолжал плыть, храня мрачное молчание, недоумевая, почему Вильям не выполнил его приказа, и испытывая от этого грусть и досаду. Еще бы — ведь убери юнга парус, они могли бы еще надеяться нагнать «Катамаран»!
И в ту минуту, когда матрос погрузился в свое угрюмое молчание, он увидел, что к нему приближается Снежок. Как же тут не предаться отчаянию! Даже такой отличный пловец, как негр, отказался от попытки догнать плот. Ясно, значит, что для него дело и вовсе безнадежно.
Через несколько мгновений пловцы очутились рядом. Они обменялись взглядами и поняли друг друга без слов. Каждый прочел в глазах другого ожидавшую его страшную участь. Им суждено утонуть.
Первый нарушил тягостное молчание Снежок:
— Послушайте, масса Бен, вы, должно быть, совсем обессилели. Дайте-ка мне нашу девочку!.. Ну-ка, Лали, возьмись за мое плечо, пусть масса Брас переведет немножко дух.
— Нет, нет, не надо! — запротестовал матрос безнадежным тоном. — Чего уж там, подержу-ка ее еще немного. Все равно недолго осталось…
— Т-ш-ш! — перебил его негр свистящим шепотом и многозначительно показал взглядом на Лали. — Я так понимаю, — продолжал он спокойным тоном, предназначавшимся для девочки, — что опасности пока нет. Ясное дело, мы потихоньку догоним «Катамаран». Ветер переменится и пригонит его к нам… Говорите лучше по-французски. Бедная крошка не знает французского языка, — обратился он снова к Бену, переходя на жаргон, употребляемый жителями французских колоний. — Я-то знаю, что и вам, и мне, и плоту-всем нам конец! Но пусть хоть девочка не знает об этом до последней минуты. Зачем ей напрасно мучиться!
— Ладно, ладно! — забормотал Бен, мешая без разбору французские и английские слова. — Бедная девочка, пусть она, правда, не знает, что ее ждет впереди! Помилуй нас, Господи!.. Вот и плота уже не видно! Куда он девался?.. Не видишь ты его, Снежок?
— Ах ты, Боже праведный, нет его! — ответил негр, приподняв голову над водой. — Исчез! Кончено дело — теперь мы его больше не увидим!
Нота отчаяния в его голосе прозвучала еле слышно. Если до этого у них была еще какая-то слабая надежда на спасение, то теперь, когда плот исчез и даже его парус не виднелся на фоне голубого неба, и она пропала. И поэтому этот новый поворот в разыгрывавшейся драме не изменил настроения его главных участников. Смерть смотрела им в лицо с неумолимой неотвратимостью. Если в чем и произошла перемена, так это не в их настроении, а в действиях. Пловцы больше не двигались по какому-либо определенному направлению: им некуда было плыть. Парус исчез, и они теперь не знали, где находится плот. Может быть, он затонул, оставив их одних среди безбрежного океана?
— Да и к чему плыть?! — сказал Бен в отчаянии. — Только силы тратить, а их у нас и так немного осталось.
— И правда, не к чему, — согласился негр. — Будем плавать на одном месте — так легче будет, мы дольше продержимся. Послушайте, масса Бен, дайте мне нашу девочку! Вы, ей-ей, больше моего устали… Лали, держись за мое плечо… Вот так.
И, подплыв к матросу, негр осторожно снял ослабевшие руки девочки с его плеч и переложил их на свои.
Бен больше не пытался отказываться от благородного предложения своего товарища. Теперь, признаться, эта помощь была ему как нельзя более нужна. Они продолжали плавать, стараясь расходовать сил столько, сколько нужно было для того, чтобы удержаться на поверхности воды.
Глава 35
В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ
В течение нескольких минут оказавшиеся за бортом катамаранцы оставались все в том же опасном положении, почти не двигаясь среди темно-синих волн, словно повиснув между водой и воздухом, между жизнью и смертью. Ни негр, ни белый больше не думали о том, как избавиться от смерти, — они не сомневались в том, что наверняка погибнут.
Да и как могли они в этом сомневаться! Для них это был только вопрос времени. Пройдет час, два, а может, и меньше, потому что усталость и напряжение уже подточили их силы, — и все будет кончено. Они не избегнут законов природы: закона тяготения, или, точнее говоря, закона удельного веса, и погрузятся в бездонную и неведомую глубь океана; и маленькая Лали — это прелестное безропотное дитя, невинная жертва судьбы, — разделит их горестный жребий: исчезнет навсегда из этого мира.
Все это время девочка не обнаруживала никаких признаков панического страха, что при данных обстоятельствах было бы только естественно. Рожденная и выросшая в стране, где человеческая жизнь ценится недорого, она привыкла к зрелищу смерти, а это до известной степени лишает смерть ее ужаса, — ведь люди, часто наблюдавшие ее, обладают более стоическим равнодушием.
Но было бы ошибочно предположить, что девочка безразлично относилась к своей участи. Наоборот, она испытывала вполне естественный страх. Однако потому ли, что ее сознание было затемнено крайней опасностью положения, или она не чувствовала, насколько велика эта опасность, но поведение ее с начала и до конца было отмечено каким-то почти сверхъестественным спокойствием. Возможно также, что ее поддерживала вера в своих мужественных защитников. Оба они даже в эти роковые минуты избегали говорить ей о том, что жить им осталось недолго.
И все-таки они были в этом уверены далеко не в равной степени. Белый ощущал неизбежность гибели больше, чем негр. Трудно сказать почему. Может быть, потому, что Снежку очень часто приходилось бывать на самом краю гибели и всякий раз ему удавалось избегнуть ее, и, несмотря на, казалось бы, полную невозможность спастись, в его груди еще теплился слабый луч надежды.
Другое дело — матрос. Ни тени уверенности не оставалось в его душе. Он считал, что идут последние минуты его жизни. Раз или два у него мелькнула мысль самому положить конец борьбе и вместе с ней мучительным переживаниям этого страшного часа. Стоило ему только перестать двигать руками-и он пойдет ко дну. Его останавливал только врожденный инстинкт, которому претит самоуничтожение и который подсказывает нам, или, вернее, принуждает нас, дожидаться того последнего мгновения, когда смерть придет сама.
Так, в силу разных причини рассуждая по-разному, три выброшенных за борт скитальца с «Катамарана» продолжали держаться на воде. Маленькая Лали
— потому, что рядом был Снежок; Снежок — потому что где-то в глубине души еще теплился слабый луч надежды; а матрос — потому, что инстинкт самосохранения удерживал его от совершения поступка, который при любых обстоятельствах считается в цивилизованном обществе преступлением.
Никто не проронил ни слова после тех нескольких фраз, основной смысл которых Снежок и матрос старались скрыть от Лали, говоря по-французски.
Ужас приближающейся смерти сковал язык Снежка и матроса. Долго хранили почти совсем обессиленные пловцы глубокое молчание.
Глава 36
СУНДУЧОК В МОРЕ
Ничто не прерывало безмолвия этой торжественной минуты. Слышно было только, как волны, гонимые легким ветерком, плескались о тела измученных пловцов. Но трое несчастных даже не замечали этого, как не замечали и криков морской чайки. А если и замечали, то эти пронзительные крики только усиливали объявший их ужас.
И вдруг среди этого глубокого молчания и глубочайшей безнадежности послышался голос… Оба пловца вздрогнули от испуга, словно это был голос с того света. И действительно, он звучал так нежно, будто и впрямь исходил из другого мира. Но ничего сверхъестественного, однако, не было. Это был голос маленькой Лали.
Уцепившись за плечо негра, девочка видела дальше, чем державший ее Снежок или матрос, плывший рядом, так как находилась на несколько дюймов выше, чем они. Поэтому она заметила то, чего не могли увидеть измученные пловцы, еще боровшиеся за то, чтобы удержаться на поверхности океана: какой-то темный предмет плыл по воде довольно близко от них.
Ее слова так поразили обоих мужчин, что они сразу очнулись от своего оцепенения.
— Что ты видишь, маленькая Лали? Что, что там такое, а? — закричал Снежок первый. — Взгляни-ка опять, дорогая девочка! — продолжал он, стараясь в то же время приподнять повыше плечо, за которое держался ребенок. — Что ты увидела? Не плот, не «Катамаран», а?
— Да нет, нет, — ответила Лали, — не «Катамаран»… Это что-то маленькое, четырехугольное, вроде ящика.
— Ящика? Откуда же тут взяться ящику? Ящик! Ах, черт возьми…
— Разрази меня гром, если это не мой сундучок! — перебил его матрос, поднимая голову над водой, как гончая в поисках раненой утки. — Ну да, это он и есть, не будь я Бен Брас!
— Ваш сундук? — переспросил Снежок, в свою очередь поднимая курчавую голову над водой, чтобы лучше видеть — Вот чертовщина!.. Так и есть! Как же это случилось? Вы же оставили его на плоту!
— В том-то и дело, что оставил, — ответил матрос. — Можно сказать, последняя вещь, которую я держал в руках, перед тем как прыгнуть в воду. Я и сам глазам своим не верю — старый мой сундучок! Так и есть.
Разговор этот велся торопливо, и не успел он закончиться, как наши пловцы двинулись по направлению к так неожиданно появившемуся предмету.
Глава 37
ВМЕСТО СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА
Может, на самом деле это вовсе и не был сундучок Бена Браса, но то, что это плыл сундучок, а не что-либо другое, было очевидно. Устойчиво державшийся на воде, он сулил помощь нашим пловцам, до того обессилевшим, что еще немного — они бы не выдержали и пошли ко дну.
Это действительно был матросский сундучок, и к тому же принадлежавший Бену Брасу. Он-то уж никак не мог ошибиться: ему ли не узнать этой плотной обшивки из парусины, обшивки, сделанной им самим и собственноручно же окрашенной голубой масляной краской, для того чтобы сделать ее непромокаемой! А эти ручки из крепкой веревки — не он ли сам их сплел и прикрепил! А буквы «Б. Б.»! Ведь это же его собственные инициалы, крупно нарисованные им на боку, как раз под самой замочной скважиной, вместе с якорем наискосок, звездами и другими причудливыми изображениями, свидетельствовавшими о немалом искусстве его обладателя.
В первую минуту, когда он убедился, что это его собственный сундучок, Бен решил, что произошло несчастье и плот погиб.
— Эх, Вильм, Вильм, бедный малыш! — сказал он. — Если это так, кончено его дело…
Однако такое предположение вскоре отпало, и мысли матроса приняли иное направление.
— Нет, — сказал он, возражая против своей первой гипотезы, — быть того не может! С чего бы это плот мог вдруг развалиться? Ветра нет, море тихо… Да просто не с чего такому случиться!.. Ага, теперь я понял!.. Вот что, дружище мой Снежок, это не иначе, как дело рук Вильма. Это он бросил сундучок, понадеявшись, что тот доплывет до нас. Вот каким образом он к нам и попал. Ай да мальчишка, ай да молодец!.. Ну, хватайся за сундучок. Теперь не все еще потеряно!
Совет был излишним. Не сговариваясь, оба ухватились за ручки сундучка.
Что и говорить, при таких обстоятельствах сундучок представлялся им весьма заманчивой вещью. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а тут им представлялась возможность ухватиться не за соломинку, а за матросский сундучок! Плыл он дном вниз и крышкой вверх — ну, прямо, будто стоял возле койки Бена в кубрике фрегата! Очевидно, в этом положении его удерживала полоса железа, подбитая снизу и теперь служившая как бы грузилом. Сундучок так высоко поднимался над водой, что ясно было — он пуст или почти пуст. Даже ручки, приделанные с каждой стороны и отстоявшие на несколько дюймов от крышки, находились над водой.
За эти ручки удобно было держаться, и это было настолько заманчивым, что матросу не требовалось уговаривать Снежка, чтобы он схватился за одну из них, в то время как он, Бен, найдет себе опору, держась за другую.
По молчаливому соглашению, оба подплыли: один с одной, другой с другой стороны сундучка, и тут же ухватились за его ручки.
Благодаря этому сундучок сохранил равновесие и хотя из-за прибавившегося веса и погрузился на несколько дюймов глубже в воду, крышка его, к их огромной радости, все же возвышалась над поверхностью, даже когда на нее легла легкая фигурка девочки. Между поверхностью воды и захлопнутой крышкой все еще оставалось несколько дюймов, так что вода не могла проникнуть в глубь сундучка.
Глава 38
ДОГАДКИ НАСЧЕТ «КАТАМАРАНА»
Своеобразную группу представляли наши пловцы через две-три минуты после того, как добрались до сундучка. По правую сторону, наискосок от края, вытянулась фигура матроса, причем левую руку он по локоть пропустил через плетеную петлю ручки. Таким образом, добрая половина его веса приходилась на плавучий сундучок, и, чтобы держаться на поверхности, ему приходилось только слегка грести правой рукой. Как он ни устал, это было ему по силам: после всего перенесенного то был не труд, а отдых.
С другой стороны сундучка, в точно такой же позе, плыл Снежок, с той только разницей, что он, наоборот, опирался правой рукой, а греб левой.
Как уже было отмечено, маленькая Лали переместилась с плеча Снежка на более возвышенное место-на крышку сундучка — и лежала на животе, удобно держась ручками за выступающий край.
Излишне говорить, что благодаря такой перемене в положении и обстоятельствах произошла также перемена и в их планах на будущее. Смерть, правда, могла им казаться все такой же неизбежной, как и несколько минут назад, — она все еще стояла у порога, — только теперь она не так уж торопилась… С помощью этого сундучка — чем не первоклассный спасательный круг! — они продержатся на воде много часов, пока, обессилев от жажды и голода, не пойдут ко дну. Все зависит от того, сколько времени они смогут так протянуть. А окажись у них некоторый запас продовольствия и воды, то они могли бы рассчитывать на долгое путешествие, хотя и совершая его таким необычным способом. Но, конечно, все это при условии, если не налетит буря и не нападут акулы.
Увы! В любой момент можно было ждать и того и другого.
Правда, они пока не думали о такой опасности, как и о том, что погибнут от голода или его неразлучной спутницы — жажды. Удивительное совпадение, что сундучок приплыл к ним в момент, когда они едва не погибли, произвело не менее удивительную перемену в мыслях моряка и негра, породив у них если не твердую уверенность в спасении, то, во всяком случае, некое блаженное предчувствие, что их еще ждет впереди другая, более надежная и постоянная помощь и что им не суждено утонуть, или, по крайней мере, пока еще не суждено утонуть.
Надежда, сладкая, утешительная надежда, вспыхнула в их груди, а вместе с ней пришла и решимость продолжать борьбу за спасение своей жизни. Оба могли теперь свободно обмениваться разными соображениями и советами, и они принялись толковать о своем положении.
Прежде всего они стали гадать, каким образом появился здесь сундучок. Предположение, пришедшее в первый момент в голову его хозяину, будто плот погиб и сундучок — просто один из обломков происшедшего крушения, оказалось несостоятельным, а потому было тут же отвергнуто. Никакого сильного движения водных или воздушных стихий, которые могли бы разрушить «Катамаран», не произошло. Это замысловатое сооружение, целое и невредимое, плавало где-то в океане, красуясь своими фантастическими очертаниями.
Правда, его нигде не было видно. Даже маленькая Лали, которой, поскольку она находилась на более высоком месте, поручено было вести наблюдение, ничего не видела, хотя и старалась выполнить свою задачу со всей тщательностью.
Если бы плот находился на расстоянии одной-двух лиг[206], то большой четырехугольник паруса был бы достаточно хорошо виден. Но никакого паруса девочка не заметила.
Так она и доложила своим спутникам: ничего вокруг, только море и небо.
Отсюда можно было заключить, что «Катамаран» если даже и не утонул, то его отнесло так далеко, что им никогда его не догнать. Однако моряк, умудренный опытом, не предавался отчаянию. Догадки его были более утешительного характера. Основываясь на кое-каких других фактах и хорошенько пораскинув умом, он решил, что появление среди морских волн морского сундучка — дело не случайное. Это, несомненно, работа рук Вильяма, действовавшего по какому-то плану.
— Будь уверен, Снежок, — говорил он коку, — мальчишка выбросил этот сундучок за борт, наперед зная, что, если мы не догоним «Катамаран», он нас выручит. Сундук-то стоял посередине плота, когда я в нем рылся. Что ж, он сам, что ли, прыгнул в воду? Да ведь в нем были всякие вещи, а сейчас, будь уверен, он пуст — иначе бы так не плыл. Взял, значит, малыш этот самый сундучок, вытряхнул из него все мои вещички, и раз его — за борт! И очень умно сделал. Вот голова! Только он мог такое сообразить. Я и прежде замечал, что он дошлый парень. Ты только подумай, какой это молодец! А?
После этого потока похвал Бен переживал про себя свои восторги.
— Может быть, очень даже может быть, — согласился с ним негр.
— А потом он вот что сделал, — продолжал Бен плести свою цепь догадок.
— Что же?
— Взял да убрал парус. Не знаю только, почему он не сделал этого раньше. Я же ему кричал, и он, должно быть, меня слышал. Сдается мне, он ничего не мог с ним поделать. Сейчас я вспоминаю, что, поднимая наш парусишко, я затянул на шкотах такой узел, что ой-ей! Как же он мог быстро его развязать? Ведь пальцы-то у него маленькие! Вот в чем и была загвоздка! А теперь он убрал наконец парус, значит, ему удалось все-таки развязать мой узлище, а может, он просто взял да перерубил канат— вот почему мы и паруса не видим, а на самом деле «Катамаран» совсем близехонько. Быть того не может, чтобы он далеко уплыл, особенно если парус был уже спущен, когда мы увидели, что он исчез из виду.
— А ведь верно! Я тоже заметил, что парус ни с того ни с сего вдруг исчез, будто его кто сдернул.
— Значит, Снежок, — продолжал матрос все более веселым тоном, — если все так, как мы гадаем, то плот от нас недалеко ушел — на один или, может, на два узла. Видеть далеко мы ведь не можем, потому что сидим по шею в воде. Во всяком случае, я скажу тебе: плот наверняка идет по ветру, и без паруса его понесет не быстрее, чем мы поплывем. Это уж точно. Поэтому давай-ка махнем милю или две ему навстречу, а тогда видно будет, барахтается ли он еще где-то тут или прости-прощай навеки. Это будет, пожалуй, самое лучшее, а?
— Точно, масса Брас, это будет самое правильное! Ничего лучше не придумать, как пуститься и нам по ветру.
И без дальнейших разговоров они принялись осуществлять свою задачу. Один греб правой рукой, другой левой, но оба с одинаковой силой и решимостью. Быстрота их движения стала такой, что море так и пенилось вокруг и брызги долетали даже до уцепившихся за крышку сундучка пальчиков маленькой Лали.
Глава 39
ПО ВЕТРУ
Плыли они недолго. Вдруг Лали вскрикнула — и двое мужчин прекратили свои усилия.
Пока матрос и кок усердно трудились, Лали, стоя на коленях на крышке, смотрела вперед. И внезапно она увидела нечто, вызвавшее если не радостный, то, во всяком случае, достаточно веселый возглас.
— Что такое, Лали? — нетерпеливо спросил негр. — Ты что-то увидела? Святое небо, да неужто же «Катамаран»?
— Да нет же! Это только бочка плывет по воде…
— Бочка? Какая такая бочка? — удивился негр.
— Наверно, одна из пустых бочек от нашего плота… Ну да, на ней веревки.
— Так и есть, — подтвердил Бен, который, приподнявшись как можно выше, тоже увидел бочку. — Разрази меня гром! Все-таки, видать, наш плотик развалился… Э, нет! Все понятно!.. Это работа нашего Вильма — он обрубил у бочки веревки. Послал нам ее в помощь, на случай, если нам не повстречается сундучок. Обо всем подумал! Говорю тебе, голова у него!..
— А что, если б нам доплыть до этой бочки и тоже прихватить ее на буксир? — предложил кок. — Это было бы не лишним. Поднимется ветер, и тогда сундучок не очень нам поможет. Зато бочка еще как пригодится — в самый раз будет!
— Правильно, Снежок! Захватим и бочку. Сундучок сослужил нам хорошую службу, а все-таки бочка в бурном море более верное дело. Так и держи на нее
— она прямехонько перед нами.
Через пять минут пловцы поравнялись с бочкой. По веревкам они сразу узнали, что это бочка от плота. И матрос тут же разглядел, что веревки не перерезаны аккуратно ножом или каким-либо другим острым орудием, а, видимо, «перепилены» в спешке, так как концы их измочалились и во все стороны торчат волокна.
— Опять работа Вильма! Он, видать, перерубил веревки старым топором. А топор-то у нас тупой… Ура нашему славному мальчишке!..
— Постой-ка! — закричал Снежок, прерывая бурные восторги матроса. — Держитесь пока за сундучок, масса Брас, а я заберусь на бочку и взгляну-может, и увижу наш «Катамаран».
— Правильно, Снежок! Валяй, забирайся! Я буду один держать сундучок.
Снежок, высвободив руки из веревочной петли, подплыл к бочке и после некоторой возни наконец вскарабкался на нее.
Для этого ему пришлось проявить большую ловкость: бочка крутилась у него под ногами, грозя сбросить. Но такая водная гимнастика была Снежку нипочем. Балансируя, ему удалось найти достаточно устойчивое положение, чтобы как следует оглядеть расстилавшийся кругом океан.
Матрос с беспокойством наблюдал за его движениями. Ведь недаром же они получили две весточки от сообразительного юнги, говорившие о том, что тот находится где-то поблизости! Как он ожидал, так в действительности и случилось. Едва негр утвердился на бочке, как громко закричал:
— «Катамаран»! «Катамаран»!
— Где? — крикнул ему матрос. — По ветру?
— Точно по ветру!
— А далеко, славный ты наш кок, далеко?
— Близко, совсем близко — не дальше, чем на расстоянии свистка боцмана. Не больше трех — четырех кабельтовых.
— Ладно, слезай с бочки… Как по-твоему, что нам теперь делать, дружище Снежок, а?
— Самое лучшее, — закричал в ответ негр, — попытаться мне догнать наш плот! Парус на нем спущен, и он плывет не быстрее, чем бревно красного дерева в тихую погоду в тропиках. Я сейчас двинусь к нему, и тогда мы с Вильмом подойдем к вам на веслах.
— Думаешь, догонишь плот, Снежок?
— Догоню, как же иначе! Вы с Лали плывите да смотрите, чтобы не ушли от вас ни бочка, ни сундучок, — бочка нам даже нужнее. Мне бы только добраться до плота, а уж там я пригоню его к вам!
Проговорив это, негр накренил бочку и соскользнул в воду. Еще раз дав совет держаться ближе к месту, где они сейчас находятся, негр, загребая во всю длину своих мускулистых рук, поплыл, вспенивая воду и фыркая не хуже какого-нибудь представителя семейства китовых.
Глава 40
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА НА ВОДУ!
Вряд ли нужно говорить, что, в то время как происходили описываемые события, Вильям, находившийся на «Катамаране», чуть не лишился рассудка от беспокойства. Сначала он бросился к рулевому веслу, намереваясь выполнить первое указание Бена Браса, но, убедившись, что все его отчаянные попытки повернуть плот безуспешны, перешел к выполнению второго приказа матроса — принялся спускать парус. Однако недаром Бен недоумевал, испытывая при этом горестную досаду, почему его последнее распоряжение не было выполнено или, по крайней мере, выполнено недостаточно проворно. (Потом он все же решил, что Вильям в конце концов убрал парус, хотя истинная причина задержки Бену все еще оставалась неизвестна.) А между тем предположение, которым он поделился со Снежком, будто он «затянул такой узел, что ой-ей», и Вильям, наверно, не сможет его развязать, было правильно. Оказался Бен прав и в том, что в конце концов парус был спущен и Вильям или сумел развязать его «узлище», или же просто перерубил канат.
Верным оказалось второе. Действительно, с тугим морским узлом справиться юнге было не по силам. Вильям пробовал развязывать его и так и этак, наконец, махнув на все рукой, схватил топор и перерубил шкоты.
Парус тут же опустился, но было уже поздно; и когда Вильям опять взглянул на океан, его взору представилась бесконечная однообразная голубая гладь, и кругом ни точки, ни пятнышка.
Он понял, что впервые остался совершенно один-одинешенек среди безбрежного океана.
От такой мысли можно было прийти в отчаяние и, оцепенев от ужаса, потерять всякую способность действовать. И если бы на месте юнги был какой-нибудь другой юноша, то так бы оно и случилось. Но не таков был Вильям! Недаром он отправился в море, гонимый жаждой приключений: только юноша с предприимчивым и решительным складом ума мог решиться на такое.
Он не смирился перед судьбой, не пал духом, а продолжал напрягать все силы ума и тела в надежде как-то помочь катамаранцам в постигшей их катастрофе. Кинувшись обратно к рулевому веслу и отцепив его от крюка, на котором оно крепилось, служа рулем, он принялся грести им, чтобы двинуть судно против ветра.
Что и говорить, старался он изо всех сил, и все-таки ему вскоре пришлось убедиться, что от его усилий толку нет. Огромный плот, по выражению Снежка, был прямо как «бревно красного дерева в тихую погоду в тропиках».
Дело оказалось еще хуже: юнга увидел, что плот не только не идет против ветра или остановился, но он продолжает двигаться по ветру.
В этот критический момент ему пришло в голову… Он и раньше бы об этом подумал, если бы не был так поглощен надеждой, что сумеет поставить плот против ветра. Но как только эта затея провалилась, его сразу же и осенило: нужно выбросить что-нибудь плавучее за борт. Это позволит его спутникам дольше продержаться на воде.
Первый предмет, который попался ему на глаза, был сундучок моряка. Стоял он, как вы знаете, посередине плота, на том самом месте, где Бен Брас исследовал его содержимое.
Крышка была откинута, и Вильям увидел, что сундучок почти пуст: все вещи валялись рядом. Матрос раскидал свои пожитки, когда в нем рылся. И чего тут только не было! Какой выбор и в каком количестве!
Самый вид сундучка наводил на мысль о возможности использовать его в нужных Вильяму целях: его крашеный парусиновый чехол был водонепроницаемым. Стоит только захлопнуть крышку — и вот вам настоящий буй, который сыграет роль спасательного круга. Во всяком случае, ничего лучшего ему пока не подвернулось, и, не мешкая ни секунды, юноша захлопнул крышку; замок при этом защелкнулся, и сундучок оказался запертым. Схватив его за одну из плетеных ручек, юнга поволок сундучок на край плота… и вот он уже качается на волнах.
Удачно, что сундучок даже в воде сохранял свое обычное положение, плывя дном вниз. И как хорошо держался он на воде, будто был сделан из пробки! Ничего удивительного! Юнга вспомнил, что однажды он слышал разговор на баке «Пандоры» относительно этого самого сундучка. Разглагольствовал при этом главным образом сам Бен Брас, хваливший замечательные мореходные качества своего изделия.
— Мой сундук что судно! — хвастал бывший матрос военного фрегата. — Все равно, что спасательный пояс в случае, если кто оказался бы выкинутым в море. Если такое, не приведи Бог, случится, он удержит на воде, почитай, всю команду малой, а то и большой шлюпки!
Отчасти благодаря этому воспоминанию у юнги и возникла мысль спустить сундучок на воду. И теперь, глядя, как он удаляется за кормой «Катамарана», Вильям испытывал радость, чувствуя, что его спутник и защитник мог им справедливо гордиться: он не подвел! Но еще больше он радовался тому, что сундучок, возможно, спасет от смерти не только Бена, но и ту, которая была ему еще дороже, — маленькую Лали.
Глава 41
НАБЛЮДЕНИЕ С ВЫШКИ
Отправив сундучок за борт, Вильям не успокоился на этом и решил, что нужно послать по воде потерпевшим еще что-либо: может, новая посылка, дойдя до них, даст им лишний шанс уберечься от неминуемой гибели на дне океана.
Что еще такое пустить бы в ход? Может, доску? Нет, всего лучше бочку, одну из порожних бочек из-под воды. Вот это было бы здорово, ну просто здорово!
Сказано — сделано. Ножа не оказалось, и Вильям перерубил веревки топором. И вот бочка, отделившись от плота, плывет за кормой, догоняя матросский сундучок. Плывет она, однако, не очень быстро. Ведь паруса-то на ней нет, и потому ветер не подгоняет ее. А все же плот плыл быстрее сундучка и бочки, потому что ветер, как-никак, подгонял его. Вильям правильно рассудил, что для обессилевших пловцов, какими, несомненно, были сейчас и Бен и Снежок, лишний кабельтов, отделяющий их от плота, может сыграть решающую роль.
И он подумал, что, чем больше плавучих предметов будет сброшено на воду им в подмогу, тем больше вероятности, что хоть один из них они заметят и доберутся до него. Поэтому Вильям, не мешкая, принялся перерубать веревки у второй бочки, чтобы пустить и ее по воле волн.
Освободив таким образом вторую бочку, он проделал то же самое с третьей, потом перешел к четвертой и принялся было за пятую, намереваясь оставить только шестую с драгоценным запасом воды. Он знал, что, если даже обрубить все бочки, плот все равно не затонет. Этого он нисколько не боялся. И тем не менее, уже собираясь обрубить веревки, прикреплявшие к плоту пятую бочку, он вдруг остановился. Внимание его было привлечено одним странным обстоятельством: третья и особенно четвертая бочки, вместо того чтобы плыть в кильватере за кормой, покачивались у борта, словно не желая расставаться со своим старым другом — плотом.
В первую секунду Вильям ничего не мог понять. Но он быстро сообразил, в чем тут причина. Раз бочки не поддерживали больше плот на плаву, то он глубоко осел в воду, и поэтому ветер не мог уже гнать его быстрее, чем бочки. Таким образом, бочки и «Катамаран» двигались сейчас по ветру одинаково быстро, или, точнее, одинаково медленно.
Сначала юнга был этим недоволен, однако он тут же рассудил, что это будет на руку пловцам, — ведь не бочки плывут быстрее, а «Катамаран» плывет медленнее. Поэтому если трое его друзей смогут догнать бочки, то они с таким же успехом догонят и плот, и это будет чудесно! Ведь и в самом деле теперь плот шел так медленно, что даже самый плохой пловец мог бы без труда его настигнуть, в том случае, конечно, если расстояние между ними будет не очень велико.
Именно — не очень велико! В этом-то вся суть. Вильям забеспокоился. Далеко ли отстали от плота его трое спутников и смогут ли они доплыть до него? Где они сейчас? Он не был уверен в направлении, потому что неуправляемый плот поворачивался к ветру то носом, то бортами, то кормой.
Ничего не было видно, кроме сундучка, который к этому времени был уже на расстоянии в несколько сот морских саженей с наветренной стороны, чуть поближе к нему — бочка первая, и еще ближе — бочка вторая. Хорошо, однако, что они pacтянулиcь в одну линию, словно помогая угадать, где находились, если они еще не утонули, наши трое пловцов.
Больше того, эти три предмета не только помогали угадать направление, но они его точно указывали. Ведь плот мог двигаться только в ту сторону, куда дует ветер, или, как говорят моряки, «по ветру», а поэтому оказавшиеся за бортом его пассажиры должны находиться в той стороне, откуда дует ветер.
Он окинул взглядом часть океана до самого горизонта — и влево и вправо: ведь пловцы могли отклониться в сторону.
Однако напрасно он смотрел. Ничто не нарушало монотонности бегущих волн, ничто, кроме все того же сундучка, бочек да нескольких чаек, сверкавших своими белоснежными крыльями.
Пробежав по доскам плота, Вильям взобрался на единственную оставшуюся бочку фальшборта — самый высокий, не считая мачты, пункт наблюдения. С трудом удерживая равновесие, он опять окинул взглядом наветренную сторону и снова ничего не увидел: только бочки, сундучок и все те же чайки, лениво взмахивающие похожими на маленькие кривые сабли крыльями. Они чувствовали себя над безбрежным океаном как дома. Да океан и был для них домом, местом их жилья.
Испытывая все более сильное разочарование, Вильям спрыгнул с бочки и, подскочив к мачте, начал на нее карабкаться.
Несколько секунд — и он уже на верхушке. Держась обеими руками за мачту, Вильям опять взглянул вдаль.
Он смотрел, смотрел и не видел ничего, что походило на его пропавших спутников. От напряжения мышцы рук и ног совсем ослабели — приходилось спускаться, и он в отчаянии соскользнул вниз, на дощатый настил «Катамарана».
Чуть отдохнув, Вильям снова полез на мачту. И опять, не отрывая глаз, стал следить за движением сундучка и бочек. Если они ни на что больше не пригодятся, то послужат ему хотя бы ориентиром, указывая нужное направление.
Еще более удобным ориентиром служили юнге чайки. Как раз в той стороне, описывая короткие круги, носились сейчас над водой две чайки. Их, видимо, занимал какой-то предмет внизу, почти под водой. И хотя они были далеко от Вильяма, время от времени до него доносились их пронзительные крики. То, что они видели, возбуждало их любопытство или, может, какое-то еще более острое чувство.
Кружа над этим местом, они то и дело возвращались к его центру, и взгляд наблюдающего за ними Вильяма невольно останавливался на предмете, чернеющем на водяной глади. Предмет этот благодаря своему цвету отчетливо выделялся на голубом фоне воды. Был он совсем черный, чернее всего обитающего в океане, если не считать гигантского кита «мистицетус» с его очень темной окраской. Характерна была и форма предмета — почти шарообразная.
Вильям, пользуясь только методом доказательства от противного, мог бы догадаться, что это такое. Ясно, что это не черный альбатрос, не глупыш и не фрегат-птица. Хотя по цвету они и похожи на этот предмет, но очертание тел этих птиц совсем другое. Да и вообще ни у одного из обитателей океана не может быть таких контуров: ни у животного, ни у рыбы. Предмет этот был круглый, как шар, напоминающий морского ежа, а уж черный, словно смазанный дегтем блок! Да это же… да это же курчавая голова их кока Снежка! А несколько подальше от него виднеются еще два предмета, тоже темные и круглые, но все же не такие черные и круглые, как первый. Должно быть, это головы Бена и маленькой Лали. Чайки, по-видимому, тоже ими очень заинтересовались, потому что они подлетают то к одной, то к другой голове, вьются над ними, беспрестанно испуская пронзительные крики. И крики эти доносятся теперь гораздо отчетливее до слуха Вильяма, который будто прирос к мачте.
Глава 42
СНОВА НА БОРТУ
Юнга слез с мачты, как только убедился, что его спутники не утонули, а целые, невредимые плывут неподалеку от плота. Тогда, ободренный надеждой, он решил, что не ослабит своих усилий, пока они не будут спасены.
Соскользнув на доски плота, он подскочил к брошенному рулевому веслу и принялся грести против ветра. Надо правду сказать, что продвигался плот вперед не очень быстро, однако Вильям был доволен и этим: по крайней мере, плот уже не уходил от его товарищей, а, наоборот, приближался к ним. Ясным доказательством тому служила последняя бочка, у которой он перерубил веревки и спустил на воду: теперь она уплывала уже в подветренную сторону. Значит, сам плот двигался против ветра.
Сундучок и первая бочка были спущены на воду раньше; у последней бочки он обрубил канаты не сразу, а некоторое время раздумывал, стоит ли их рубить. Поэтому первая бочка, так же как и сундучок, плыли далеко с наветренной стороны. Юнга, глядя с мачты, заметил, что пловцы находятся недалеко от сундучка и поэтому вряд ли пропустят его.
Вильям спустился со своей наблюдательной вышки, так и не убедившись, видели ли сундучок его друзья или нет. А теперь ему, занятому греблей, и вовсе не было времени лезть на мачту. Главное, что плот движется в нужном направлении — против ветра. С каждой морской саженью он ближе к спасению жизни своих спутников; каждая сажень означает, что пловцам придется сделать на один взмах руки меньше, а они настолько устали, что и такое усилие для них не шутка. Как же он может оставить весло хотя на секунду? И Вильям греб изо всех сил, поглощенный одной целью — двигаться против ветра. К счастью, ветер, и до того уже довольно тихий, становился все слабее, будто и ему хотелось помочь делу спасения людей, и Вильям с удовольствием заметил, что бочки, которые он перегнал, уже далеко позади. Значит, плот шел вперед!
И тут глазам его представилось радостное зрелище. Он так был занят веслом, что ни на секунду не поднимал головы, чтобы взглянуть за борт, и когда наконец посмотрел в наветренную сторону, то с удивлением увидел, что не только бочка и сундучок подплывали все ближе, но что на крышке сундучка лежит кто-то и, вытянув руки, держится за выступающий край, а по обеим сторонам сундучка темнеют два шара, причем один из них круглее и чернее. Ясно было, что эти два шара-человеческие головы.
Загадочная картина скоро разъяснилась: на крышке сундучка лежала Лали, а по бокам его плыли Бен Брас со Снежком. Сундучок поддерживал на воде всех троих. Ура! Они спасены!
Теперь Вильям был в этом твердо убежден. Но этой радостной уверенности еще не испытывали трое пострадавших. Дело в том, что Вильям стоял на возвышенном месте плота и мог видеть любое их движение, в то время как они все еще не могли разглядеть его.
Но если он будет стоять, подумал юнга, и смотреть на них, то он им не поможет. Удовольствовавшись несколькими радостными восклицаниями, он снова взялся за весло и стал грести с еще большей энергией. Уверенность в успехе придала ему новые силы.
Когда он опять оторвался от своего занятия и, выпрямившись, бросил взгляд на океан, картина переменилась: маленькая Лали по-прежнему лежала на крышке сундучка, но рядом виднелась лишь одна голова-голова матроса. Его можно было узнать по белому лицу и длинным волосам.
«Но куда же девалась макушка кока? Где его курчавая голова? Неужели вместе с телом отправилась на дно океана?» — с тревогой спрашивал себя юнга. Но в следующую же секунду он получил самый удовлетворительный ответ на свой вопрос. Негр, видимый теперь целиком, сидел верхом на бочке: он просто был не на том месте, где юнга искал его глазами, вот почему он не сразу его заметил.
Однако рассудительный юноша не стал терять время на ахи и охи, а принялся опять энергично работать веслом.
Так он греб и греб, пока не услышал свое имя. Подняв глаза, он увидел, что Снежка нет на бочке и круглая черная физиономия его выглядывает из воды на расстоянии какого-нибудь кабельтова от «Катамарана».
Его оттопыренные уши оставляли пенистый след на воде по обе стороны головы, указывая точное направление, в котором он плыл, — прямо к плоту. А то, что он свирепо вращал белыми, как сама пена, белками глаз и вовсю фыркал и отдувался своими толстыми губами и вода так и ходила волнами вокруг него, указывало, что он всеми силами старался нагнать «Катамаран».
— Эй-эй! На плоту! — закричал он, задыхаясь, как только юнга мог его услышать. — Греби-ка сюда, Вильм, греби во всю мочь!.. Ух, и устал же я, прямо не могу больше! А уж представляю, что делается с теми двумя! Они позади, в кабельтове от меня.
И, кончив свою речь громким «У-у-ф!», произнесенным отчасти для того, чтобы избавиться от воды, попавшей в рот, а также и для того, чтобы выразить свое удовлетворение, кок поплыл к плоту, не сбавляя хода.
Спустя несколько секунд долгие усилия Снежка наконец увенчались успехом: с помощью юнги он вскарабкался на плот.
Едва переведя дух, негр схватил второе весло, и под дружными ударами двух весел плот достиг наконец сундучка. Оставшиеся двое членов команды были взяты на борт. Так они избавились от смерти, которая столь недавно казалась им неотвратимой.
Глава 43
ПОЧИНКА ПЛОТА
Вскарабкавшись на плот, Бен, этот здоровяк и великан, был в таком изнеможении, что не мог даже стоять на ногах. Сделав шаг, он покачнулся и без сил повалился на доски. О маленькой Лали позаботился Вильям. Поддерживая ее, почти неся на руках, он осторожно уложил ребенка на парусину около мачты. Если не считать нескольких слов, слабым голосом произнесенных девочкой, понявшей, что она спасена, то юнга был вполне вознагражден за свою нежную заботу благодарностью, которой так и светились глаза маленькой креолочки.
Снежок, измученный не меньше других, тоже растянулся на плоту. Долго все они, молча и не шевелясь, лежали на досках, чувствуя, что не в состоянии двинуть ни единым членом, ни произнести хотя слово.
Однако Вильям не бездействовал: уложив Лали, он тут же пошел в тот угол «Катамарана», где находилась небольшая бочка, прикрепленная к толстым доскам плота и наполовину погруженная в воду. Она была с драгоценным канарским. Осторожно вынув втулку-они нарочно привязали бочонок отверстием кверху, — он опустил в него маленький жестяной ковшик, случайно оказавшийся среди вещей матроса в сундучке. Он был привязан на веревке к бочонку наподобие тех ковшиков, какими пользуются виноторговцы. Зачерпнув сладостную влагу, он поднес ковшик сначала к губам маленькой Лали, потом своему дорогому защитнику Бену Брасу, после чего, зачерпнув из бочонка еще раз, дал хлебнуть вина его настоящему хозяину — Снежку.
Дух лозы, некогда росшей на склонах Тенерифа, оказался чудодейственным. Через несколько минут матрос и кок вновь обрели способносгь думать о том, какие меры предосторожности надо будет предпринять и с чего в первую очередь необходимо начать.
Прежде всего, решили они, следует выловить пустые бочки, которые Вильям спустил на воду. Лишившись этих бочек, плот не только дал большую осадку, но и вообще потерял часть своей мореходности.
И потом сундучок! Хозяин его чувствовал к нему теперь особое расположение. Его выловили в первую очередь, а за ним — ту самую бочку, на которую вскарабкался Снежок, чтобы получше видеть. И сундучок и бочка были близко — им не пришлось долго грести, чтобы их выудить.
Зато другие три бочки отнесло довольно далеко в подветренную сторону, и с каждой секундой они уплывали все дальше. Но так как они еще не скрылись из виду, то команда «Катамарана» не видела особой трудности в том, чтобы их догнать.
И действительно, это оказалось нетрудным делом. Матрос работал одним веслом, кок — другим, а Вильям указывал, куда грести. Несколько дружных взмахов весел— и плот одну за другой настиг уплывавшие бочки. Их выудили, наново закрепили веревками, придав бочкам прежнее положение. И если бы не мокрая одежда троих скитальцев, побывавших в воде, да не их измученные лица, никто бы и не догадался о происшествии на борту «Катамарана».
Что же касается мокрой одежды, то она недолго причиняла им неудобство: жаркое солнце, сиявшее в небе, быстро ее высушило. С этой стороны ущерб действительно был невелик, ибо они просыхали так быстро, что всех троих, а особенно Снежка, окутало густое облако пара. Вскоре на них и нитки мокрой не осталось.
Потому ли, что у негра в теле было больше естественного тепла, чем у остальных, или потому, что солнечные лучи прямо-таки обжигали, он дымился, как куча угля, когда из него гонят смолу. А потому сквозь завесу пара, за которой скрылись его голые плечи и голова, трудно было разглядеть, черный он или белый. И, как будто Юпитер, окруженный этим облаком, негр продолжал говорить и действовать, помогая матросу и Вильяму вылавливать из воды бочки, пока все они не были водворены на место, парус снова поставлен и «Катамаран», будто ничего не случилось, пошел по ветру, разрезая морские волны.
На этот раз, однако, они позаботились о том, чтобы узлы на шкотах были завязаны как следует. Теперь, по правде сказать, Снежку следовало бы сделать выговор, внушив ему быть в будущем поосмотрительнее. Однако катамаранцы сочли это лишним: опасность, от которой они спаслись, можно сказать, чудом, впредь послужит ему достаточным уроком.
Единственно, о чем им пришлось пожалеть, — это о потере значительной части запасов продовольствия: той вяленой рыбы, которую Снежок сушил еще до того, как двое плотов соединились, и вяленого мяса акулы, перенесенного с меньшего плота. Чтобы высушить всю рыбу на солнце, ее разложили на бочки фальшборта, те самые бочки, на которых Вильям обрубил канаты. Рыба свалилась в воду и либо пошла ко дну, либо осталась плавать на поверхности. В результате оказалось, что, хотя все другие беды были исправлены, большая часть запасов погибла. Может, они и не утонули, а их унесло водой, а вернее всего, их съели хищные птицы, парящие в небе, или не менее прожорливые хищники, сновавшие в морских глубинах. С глубоким огорчением думал Снежок о том, как уменьшились их запасы, и это чувство разделяли и все остальные члены команды. Однако они переживали эту потерю не так остро, как могло бы быть при других обстоятельствах: слишком приподнятое было у всех настроение после недавнего столь чудодейственного спасения. К тому же следовало надеяться, что они сумеют пополнить свои запасы точно таким же образом, каким добыли их в первый раз.
Глава 44
АЛЬБАКОРЫ
Вскоре им действительно представилась такая возможность.
Не успел парус наполниться ветром, как они увидели за бортом косяк самой красивой рыбы, какая только встречается в океанских просторах. Рыб было несколько сот. Как и в косяках обыкновенной макрели, все они были почти одного размера и плыли ряд к ряду. Но эти рыбы меньше макрели и, достигая примерно футов четырех в длину, при основательной толщине были пропорциональной и красивой формы, какая свойственна всем видам этого семейства.
Даже за один цвет их можно назвать очень красивыми созданиями. Голубая, как бирюза, отсвечивающая золотом спинка, серебристо-белое, переливающееся, как перламутр, брюшко. Спинные плавники в два ряда, ярко-желтые. Большие круглые глаза с серебристым ободком зрачков.
Длинные, серповидной формы спинные плавники, хорошо развитые и очень своеобразные: с глубоким желобком под ними вдоль хребта, в который они, когда находятся в спокойном состоянии, входят с такой удивительной точностью, что их даже не видно, будто и нет.
Если не считать красивой окраски, большого размера и еще кое-каких особенностей, рыбу эту вполне можно было принять за макрель, что не было бы большой ошибкой, ибо они принадлежат к тому же роду, что и макрель, только к другому виду. И этот вид самый красивый.
— Альбакоры! — закричал Бен Брас, как только косяк рыб поравнялся с плотом. — Ну-ка, Снежок, достанем наши удочки! Вот уж будет клев на таком ветерке! Теперь мы пополним нашу кладовую. Только, чур, никто ни слова, а то они сразу наутек… Тише, кок, тише, ты, старый камбуз!
— Какое там «тише», масса Брас! Неужто вы думаете, что они уплывут от «Катамарана»? Этого нам нечего бояться! Смотрите, как они шныряют: то они по левому борту, потом — раз! — и они уже по правому. Будто нигде не могут найти себе места.
Действительно, рыбы принялись странно маневрировать. Некоторое время, поравнявшись с плотом, они, не обгоняя и не отставая от него, плыли рядом, вдоль правого борта. Это было им нетрудно-плавники их чуть двигались, придерживаясь одинаковой с плотом скорости. И все они держались так точно параллельно ходу плота и параллельно друг другу, что можно было подумать, будто они связаны между собой невидимыми нитями. И вдруг неожиданно, как меняется узор в калейдоскопе, параллельное движение по отношению к плоту и друг к другу нарушилось. Шевельнув хвостами, весь косяк одновременно повернулся перпендикулярно к плоту и — раз! — нырнул под него.
Секунду их не было видно, а затем они появились, на этот раз уже вдоль правого борта, все время сохраняя параллельное к нему движение. Весь маневр был выполнен с такой точностью и слаженностью, что даже лучший в мире кадровый офицер не смог бы добиться от своих солдат такой четкости в движениях. Направо! Налево! Как будто им всем одновременно приходило желание повернуться, и в этот же миг хвосты их трепетали и они поворачивались все разом, показывая серебристые полоски брюшка, и затем так же дружно ныряли под киль «Катамарана».
Этот удивительный маневр они проделали несколько раз, переходя от правого борта к левому и обратно. Поэтому-то Снежок и заявил так уверенно, что пока рыбы двигаются подобным образом, нечего бояться, что они уплывут от «Катамарана».
Только Бен Брас понял, почему Снежок так сказал. Вильям же немало удивился, когда бывший кок так уверенно заявил об этом, да и вел он себя, словно нисколько не боялся отпугнуть столь робких на вид рыб.
— Послушай, Снежок, — сказал мальчик, — почему это ты говоришь, будто нам нечего бояться, что они уплывут от «Катамарана»?
— Потому, мой милый, что неподалеку есть кто-то другой, кого рыбки боятся больше, чем нас с тобой. Так я думаю. Я не вижу, кто это, но думаю, что не иначе, как длинное рыло.
— Что это значит — длинное рыло?
— Как — что? Длинное рыло, и все тут. Ну ладно, если хочешь, длинный нос. Посмотри-ка туда, по левому борту. Видишь? Негр знает, что тот недалеко. Вот почему рыбки мечутся туда и сюда, держась около нас. А пока они здесь, мы и поймаем несколько штук.
— Да это акула! — закричал юнга, увидев в некотором отдалении, там, куда указывал негр, по левому борту, какую-то большую рыбу.
— Акула? А вот и нет! — возразил негр. — Не акула. Если бы это была акула, рыбы не торчали бы у нас под бортом. Они бы резвились около акулы, как маленькие птички около орла или ястреба. Нет, этот хитрый зверь не акула, это длиннорылый-он настоящий враг альбакора! Пока он близко, рыбки от нас не уйдут.
Сказав это, негр принялся разбирать крючки и с помощью Бена наживлять на них приманку, проделывая все это с невозмутимым видом, подтверждавшим его уверенность в правоте своих слов.
Глава 45
МЕЧ-РЫБА
Вильям, с таким интересом наблюдавший за появившейся необычайной рыбой, подошел к левому краю, чтобы получше ее разглядеть. Но левый борт был обращен к юго-западу, и заходящее солнце мешало ему. Заслонив глаза рукой от солнца, он все смотрел, смотрел, но, кроме морских волн, так ничего и не увидел. Снежок, хотя и был всецело поглощен своей возней с лесками и крючками, все же посматривал, как юнга вел свое наблюдение.
— Ты напрасно туда смотришь. Видишь, альбакоры по левому борту? Значит, длинный нос по правому. Уж будь спокоен, они постараются не быть с этим голубчиком на одной стороне.
— Туда смотри, туда, Вильм! — вмешался Бен. — Видишь? Вон туда, прямо за кормой! Неужто не видишь?
— Вижу!.. — закричал Вильям. — Посмотри, Лали, какая странная рыба! Я никогда не видел ничего подобного.
Юнга говорил правду. Хотя молодой моряк успел избороздить не одну милю Атлантического океана, такой рыбы ему не случалось видеть. Он мог бы проделать сотни миль в любом океане и все равно ни разу ее не встретить.
Рыба, которая представилась взорам экипажа «Катамарана», — один из самых редких обитателей океана. Облик у нее настолько своеобразный, что, если бы даже Бен Брас и не сказал ему, как она называется, юноша сам об этом догадался бы. Длиной рыба была футов восемь или десять. Ее продолговатая костистая морда выступала вперед на длину одной трети всего тела. По существу, этот отросток — продолжение верхней челюсти, совершенно прямой и целиком состоящей из кости, сужающейся к концу, как рапира.
В остальном рыба не казалась безобразной: она ничем не походила на многих океанских хищников с присущим им ужасным обликом. В меч-рыбе чувствовалась некоторая настороженность в сочетании с удивительной стремительностью: она словно кралась. Как уже заметил Снежок, в пристальных глазах рыбы было свирепое, подстерегающее выражение, говорившее, что все существование хищника проходит в преследовании добычи.
Неудивительно поэтому, что Вильям принял эту рыбу за акулу: во-первых, потому, что ему мешало солнце, а во-вторых, у нее был целый ряд признаков, делавших ее похожей на некоторые разновидности акул, и нужно было хорошенько рассмотреть и уметь хорошо разбираться в таких вещах, чтобы обнаружить разницу. Вильяму прежде всего бросился в глаза большой серповидный плавник, поднимавшийся на несколько дюймов над водой, хвост с такой же выемкой, как у акулы; хищные глаза и настороженные движения — все то, что характерно и для акулы.
Но в одном эта рыба отличалась от акулы — она плыла не так медленно, как акула. По-видимому, это была одна из самых быстроплавающих рыб. Стоило альбакорам метнуться от одного борта к другому, как хищник повторял это движение с такой быстротой, что за ним невозможно было уследить.
Движения его были бы совсем неуловимы, если бы не две интересные особенности: во-первых, плавая, эта диковинная рыба издает шорох, напоминающий шорох ливня в лесу; а во-вторых, рыба эта на ходу внезапно меняет свою окраску — то она бурая, когда животное неподвижно, то вдруг пестрая, в голубую и синюю полоску, а иногда целиком бирюзового цвета.
Но не по этим особенностям Вильям смог опознать рыбу, а по ее сужающемуся, длинному, прямому, как рапира, носу. Кто хоть раз ее видел, не мог уже ошибиться и не узнать ее по этому бесспорному признаку. А юному моряку случилось однажды видеть такой нос, только не на воде и не под водой, а у себя в родном городке, куда случайно, проездом, привезли коллекцию диковинок природы, осмотр которой, надо признаться, сыграл немалую роль в его желании убежать из дому и стать моряком. Он подробно тогда осмотрел кость, сохраняемую под стеклянным колпаком, и выслушал объяснение, что этот экспонат — нос меч-рыбы. И теперь, в тропических волнах Атлантики, почти таких же прозрачных, как тот стеклянный колпак, он сразу узнал это грозное оружие меч-рыбы.
Глава 46
МОРСКИЕ РЫЦАРИ МЕЧА
Пока Вильям смотрел на удивительную рыбу, она неожиданно бросилась к плоту. Это движение вызвало характерный свистящий шелест; ее огромное тело мелькнуло в воде, и изогнутый, как восточная сабля, спинной плавник прочертил на поверхности воды длинный пенистый след.
Этот бросок был явно направлен к косяку плавающих вдоль «Катамарана» альбакоров.
Но их не так-то легко было застигнуть врасплох. Испытывая, по всем признакам, жесточайший страх, они тем не менее ни на секунду не теряли присутствия духа и, как только меч-рыба кинулась на них, словно по команде, с быстротой молнии метнулись на другую сторону плота.
Увидев, что нападение не удалось, меч-рыба вдруг остановилась с внезапностью, говорившей о ее подлинном плавательном мастерстве. Вместо того чтобы продолжать преследование, она, нырнув под «Катамаран», трусливо крадучись, предпочла следовать за плотом. Казалось, что если ей не удалось схватить добычу силой, то она решила действовать хитростью.
Вильяму стало ясно, что альбакоры держались около «Катамарана» не столько потому, что надеялись поживиться чем-нибудь, а потому, что плот служил им хорошей защитой от грозного противника. Этим, надо полагать, и объясняется, что не только альбакоры и родственные им бониты, но и другие виды рыб, которые ходят косяками, зачастую держатся близко к встречающимся им кораблям, китам и к любым крупным предметам, плавающим в открытом океане.
Тот способ нападения, какого придерживается меч-рыба — она стремительно бросается на жертву и насаживает ее на свой длинный, тонкий нoc, — весьма рискован для самого хищника. Ведь стоит «мечу» промахнуться и удариться о борт корабля или о другое такое препятствие, достаточно твердое, чтобы противостоять стремительному выпаду, и ее оружие либо сломается, либо вонзится в это препятствие с такой силой, что его собственник окажется пригвожденным и падет жертвой своей опрометчивой жадности.
Поскольку испуганные альбакоры были слишком поглощены наблюдением за движениями их противника, Снежок, понимая, что рыбы вряд ли удостоят своим вниманием крючки, которые он наживлял для них, не стал забрасывать удочки, а оставил их лежать на плоту, ожидая, пока меч-рыба уберется восвояси или отстанет настолько, что альбакоры смогут на какое-то время забыть о ее присутствии.
— Толку нет закидывать удочки, — сказал негр, обращаясь к матросу, — пока это хитрое рыло поблизости. Надо подождать, пока оно уберется, чтобы альбакоры не видели и не слышали его.
— Твоя правда, — ответил Бен. — А жаль. Они бы здорово клевали, если бы не эта дрянная рыбина! Я-то уж их знаю!
Еще много чего узнали от матроса о повадках альбакоров и их врага все присутствующие и особенно его любимец — юнга. Вильям испытывал необыкновенный интерес к альбакорам и жадно расспрашивал о них Бена. В промежутке, пока они дожидались какой-нибудь перемены в тактике преследователя альбакоров, Бен рассказал присутствующим несколько случаев из собственной жизни, в которых альбакор или меч-рыба, а иногда и обе рыбы выступали как главные действующие лица.
Среди других историй Бен сообщил и о том, как корабль, на котором он сам плавал, был пробит носом меч-рыбы.
В минуту, когда это произошло, никто на корабле даже не подозревал о случившемся. Команда обедала внизу, и только один из матросов, оказавшийся в это время на палубе, услышал громкий всплеск воды. Выглянув за борт, он увидел, что какое-то крупное тело погружается в воду, и, решив, что это тонет кто-то из команды, мгновенно поднял крик: «Человек за бортом!»
Команду выстроили, сделали перекличку: все оказались налицо. И хотя матросы так и не узнали причины этого загадочного случая, тревога их быстро улеглась и об этом деле забыли.
Вскоре после этого кому-то из матросов — им как раз и оказался сам Бен Брас — пришлось лезть на мачту такелажить, и, находясь наверху, он заметил, что сбоку в корабле, над самой ватерлинией, торчит что-то длинное. Спустили лодку, осмотрели в этом месте судно, и оказалось, что это нос меч-рыбы, отломившийся от ее головы. А то, что матрос принял за утопающего человека, была сама меч-рыба, убитая сотрясением при ударе о корабль.
Она пробила насквозь своим «мечом» и медную обшивку судна, и толстую доску левого борта. Матросы, спустившись в трюм, обнаружили, что конец «меча», пройдя через стенку трюма, торчит на восемь-десять дюймов внутри его, зарывшись в уголь.
При всей невероятности этой истории, рассказанной Беном Брасом, в ней нет ни слова выдумки. Что она правдива, знал и Снежок, так как он сам мог рассказать несколько таких же, лично им пережитых историй. Не усомнился в ее достоверности и Вильям, который читал про такой же случай и слышал, будто в Британском музее имеется даже доказательство такого происшествия: кусок толстой корабельной доски с застрявшим в ней носом меч-рыбы, и что каждый, кто этим интересуется, может этот экспонат увидеть.
Едва Бен закончил свою интересную историю, как со стороны охотившейся за альбакорами меч-рыбы последовало движение, ясно говорившее, что она намерена изменить свою тактику: причем не отступать, а, наоборот, еще смелее ринуться в атаку. Уж слишком заманчиво выглядел крупный косяк жирных альбакоров. Вид их, столь близких и вместе с тем столь неуловимых, был для нее, должно быть, невыносимо соблазнителен. А может быть, меч-рыба была настолько голодна, что решила, чего бы ей это ни стоило, ими пообедать.
С таким намерением она подплыла к «Катамарану» поближе и, то и дело меняя направление, стала носиться с места на место вдоль бортов, а раза два она даже стремительно кидалась к косяку, чтобы внести в него смятение и расстроить ряды.
Ей это удалось: красивые рыбы, перепугавшись пуще прежнего, вместо того чтобы плыть, как плыли до сих пор, сомкнутыми, стройными рядами, параллельно друг другу, сбились в беспорядочную кучу, а потом кинулись врассыпную, кто куда.
В этой сумятице большая группа альбакоров совсем отбилась от косяка и отстала от «Катамарана», оказавшись в его кильватере на несколько саженей.
На них-то теперь и были устремлены голодные глаза хищника, но только на мгновение, потому что в следующий миг он с такой быстротой врезался между ними, что вокруг только брызги полетели. Шум от его стремительного движения отдался далеко вокруг по океану.
— Гляди, гляди, Вильм! — крикнул матрос, боясь, чтобы его любимец не упустил этого любопытного зрелища. — Ты только посмотри, что это чудище вытворяет, а! Помяни мое слово, она сейчас подцепит парочку альбакоров на свой вертел!..
Бен едва успел договорить эти слова, как меч-рыба врезалась в самую середину перепуганной стайки. Вода брызнула фонтаном, из нее выскочили на поверхность несколько альбакоров и тут же ушли под воду. В течение нескольких минут поверхность океана в этом месте кипела ключом, пенясь и пузырясь, — ничего нельзя было разглядеть за этой завесой. Вскоре над водой показалась голова меч-рыбы с нанизанными на самый конец ее длинного носа двумя красивыми рыбами.
Несчастные создания судорожно извивались на нем, силясь освободиться из этого мучительного положения, однако усилия эти длились недолго. Чуть не в то же мгновение меч-рыба коротким движением головы вскинула в воздух сначала одну, потом другую жертву… Но упали они не в воду, а прямо в глотку жадному хищнику. Меч-рыба, лишенная зубов или других каких-либо приспособлений для прожевывания пищи, прекрасно обошлась без них, препроводив добычу всю целиком в свою ненасытную утробу.
Глава 47
АЛЬБАКОРОВ ЛОВЯТ УДОЧКОЙ
Катамаранцы с таким интересом следили за маневрами меч-рыбы, что почти совсем забыли о своем горестном положении. Особенно увлечены были редкостным зрелищем Вильям с маленькой Лали. И долго еще после того, как матрос и Снежок занялись другими, более важными делами, они, стоя рядом, смотрели в ту сторону, где только что виднелась меч-рыба…
Только что виднелась и вот уже исчезла. Проглотив парочку альбакоров, прожорливое чудище, видно, нырнуло глубоко в воду или, может, метнулось куда-то в другое место, подальше.
И куда только не глядели юнга и маленькая Лали! И за корму, где меч-рыба недавно продемонстрировала свое искусство, и в стороны, и вперед. Они смотрели так тщательно во всех направлениях потому, что, зная, какая мастерица меч-рыба плавать, понимали, что эта громадина может за две-три секунды проделать расстояние в несколько сот саженей в любую сторону.
Однако меч-рыбы нигде не было видно. И юнга так же, как Лали, хотя они с удовольствием еще полюбовались бы манипуляциями, которые умеет проделывать своим носом меч-рыба, вынужден был наконец примириться с тем, что представление кончилось, поскольку главный актер, очевидно, отправился показывать свое искусство где-то в другом месте океана.
— Похоже, очень похоже, что она и на самом деле убралась, — ответил Снежок на расспросы юнги. — Хорошо, если бы так и было. Тогда и нам удалось бы подцепить на удочку хотя бы парочку этих рыб. Взгляни-ка на них сейчас! Совсем по-другому себя ведут. Спокойны, ничего не боятся. Значит, длиннорылый повернул нос в другую сторону. Убрался, должно быть, восвояси.
Снежок правильно отметил: поведение альбакоров явно изменилось. Вместо того чтобы, как прежде, обезумев от тревоги, носиться от одной стороны плота к другой, они мирно плавали рядом, не отставая и не уходя вперед.
Более того, чувствовалось, что теперь альбакоры возьмут наживку, в то время как при меч-рыбе, сколько ни старались Снежок с матросом подсунуть им ее под самый нос, они упорно отказывались к ней притронуться.
Матрос со Снежком решили возобновить свои рыболовные операции. Насадили каждый на свою удочку по кусочку мяса акулы — и приманка выглядела тем соблазнительнее, что крючок удилища был обмотан лоскутком красной фланели; настоящей лески у них, конечно, не было — ее заменяла плетеная веревка в несколько футов длиной.
С плеском одновременно погрузились в воду оба крючка, и не успели еще исчезнуть круги на поверхности воды, как раздался другой, более громкий всплеск, и вода так и вспенилась: на крючках бились, бешено извиваясь, два альбакора. Быстро втащив их на плот, наши рыбаки сразу же пристукнули их ударом гандшпуга в голову.
Они не стали тратить время, рассматривая пленниц или радуясь пойманной добыче. Зато юнга с маленькой Лали не могли досыта налюбоваться этими красивыми созданиями, очутившимися так близко от них, а матрос и негр, наскоро поправив приманку на удочках, слегка растрепанную зубами тунцов-ведь альбакоры принадлежат к семейству тунцовых, — опять закинули удочки в воду.
На этот раз рыбы не ухватились за наживку с прежней жадностью.
Словно заподозрив что-то неладное, весь косяк робко шарахнулся от нее. Но она так заманчиво ходила у самого их носа, что сперва одна, затем другая рыбка стали подплывать все ближе и, отхватив кусочек, вдруг роняли его и испуганно кидались прочь, словно учуяв что-то неприятное в его вкусе или запахе.
Такое осторожное пощипывание продолжалось несколько минут, пока наконец один из альбакоров, очевидно более отважный, чем его спутники, или, может быть, с более пустым, чем они, брюхом, не вытерпел, глядя на этот соблазнительный кусочек, и, сказав себе: «Прощай, осторожность!» — бросился к наживке на удочке Бена, проглотив ее единым махом вместе с крючком и несколькими дюймами плетеной веревки.
Теперь можно было не опасаться, что рыба сорвется с крючка. Его бородка прочно засела во внутренностях рыбы еще до того, как Бен рванул удочку, чтобы вогнать крючок глубже. Дернув второй раз, он вытянул рыбу на середину плота, где, как и ее двух предшественниц, прикончил ударом гандшпуга в голову.
Снежок в это время продолжал усердно «тралить» своей удочкой; тем же занялся и другой рыбак, который, сведя счеты со второй пойманной им рыбой, насадил свежую приманку и снова закинул удочку в воду.
Но что-то опять напугало альбакоров: к ним вернулась их прежняя робость. Рыбаки, как видно, тут были ни при чем — рыб встревожило что-то другое, невидимое с плота.
Альбакоры подвинулись к нему так близко, что можно было разглядеть каждое их движение, каждую мельчайшую подробность — вплоть до блеска радужной оболочки их глаз.
Наблюдавшая за ними четверка увидела, что рыбы смотрят вверх. Стали глядеть вверх и наши рыболовы, и ничем не занятые юнга с Лали: все уставились на небо. Но там не видно было ничего такого, что могло бы нагнать страх на альбакоров. «Почему же тогда они так тревожно смотрят вверх?» — подумали юнга с Лали. Матрос тоже недоумевал: и он видел лишь голубое, безоблачное небо и ничего больше.
Только Снежок, у которого знаний океанской жизни было вдвое больше, чем у всех троих вместе, не отвел, как они, взгляда, а, наоборот, в течение нескольких минут все упорнее всматривался в небо. И наконец у него вырвался удовлетворенный возглас: он разглядел нечто такое, чем, по его мнению, и объяснялось странное поведение альбакоров.
— Фрегат!.. — пробормотал Снежок сквозь зубы. — Да их там два: самец и самка, должно быть. Может быть, поэтому рыба так и перепугалась.
— Что? Фрегат? — повторил матрос.
Это было название одной из самых своеобразных, блуждающих над океаном хищных птиц. Натуралисты обозначают их именем «пеликанус аквила», а моряки за быстрый полет и изящное строение тела знают больше под названием, какое дал ей Снежок.
— Да где ж ты его увидел? Где он? Никакой птицы не вижу! Где он, а?
— А вот… почти прямо над головой… Возле того облачка. Вот они — один, а рядом другой: самец и самочка. Я ясно вижу обоих.
— Ну и острые глаза у тебя, Снежок! А я так никакой птицы не вижу… А, вот они! Их две, верно! Правильно, дружище, ясное дело — это фрегаты! Их сразу узнаешь по крыльям: ни у одной другой птицы, что летает над океаном, таких нет. И ни одна из них не поднимается так высоко, как эта. Крылья у нее, когда она их распускает, футов двенадцати в ширину, а отсюда они кажутся не больше ласточкиных. Значит, птицы поднялись на добрую милю. Правильно я говорю, Снежок?
— На милю, масса Бен? Скажите лучше — на две. Совсем укрылись от ветра. И застыли на одном месте. Здорово, должно быть, спят!
— Спят? — отозвался юнга. В тоне его послышалось крайнее изумление. — Уж не хочешь ли ты сказать, Снежок, что птица может спать на лету?
— Эх, малыш Вильм, мало же ты знаешь о повадках птиц в здешних местах! Может спать на лету? Конечно, они спят на лету. А иной раз сложат крылья, прижав их к туловищу, и спрячут под крыло голову… Верно я говорю, масса Бен?
— Не знаю, Снежок, не могу точно сказать, так оно или не так, — неуверенно ответил бывший матрос военного фрегата. — Я слышал об этом, только мне кажется — ерунда это!
— Вот так сказали! — ответил Снежок, насмешливо покачав головой. — Почему же ерунда? Ведь может корабль-фрегат «спать» на воде, убрав паруса? Почему же фрегат-птица не может спать в воздухе? Что вода для фрегат-корабля, то воздух для фрегат-птицы. Что ей может там помешать спать? Разве только сильный ветер. В сильный ветер ей там, конечно, не уснуть.
— Вот что, дружище… — ответил матрос. По тону его чувствовалось, что у него нет определенного мнения на этот счет. — Может, ты прав, а может, и нет. Я не говорю, что ты врешь, и нисколечко этого не думаю. Одно знаю, что много раз видел фрегатов, неподвижно замерших в воздухе, вроде как сейчас вот, не двигаясь ни в подветренную, ни в наветренную сторону. А все-таки я не верю, что они на лету спят. Я сколько раз видел: они при этом то складывают свой похожий на вилку хвост, то раскрывают его, как портной ножницы. И мне думается, что сна у них в это время ни в одном глазу нет. Если бы они спали, как же они могли бы так шевелить хвостом? Он у птиц хоть из перьев, а все же в нем есть тяжесть. Как же фрегат им во сне ворочает?
— Ну, ну, масса Бен, — сказал негр еще более покровительственным тоном, словно жалея матроса за то, что он не мог выдвинуть более солидного довода, — а вы разве не шевелите во сне большим пальцем или ступней, а то и всей ногой? И потом, по-вашему, выходит, что фрегат и вовсе не отдыхает, не спит. Вы же знаете, что плавать он не умеет, потому что на ногах у него совсем малюсенькая перепонка. И на воде он держится не лучше, чем какая-нибудь цесарка или старая курица, привыкшая к своей навозной куче. Ведь спать на воде для фрегата — такое же невозможное дело, как для нас с вами, масса Бен.
— Ладно уж, Снежок, — медленно, словно подыскивая ответ, сказал матрос, — я бы и рад с тобой согласиться: то, что ты говоришь, как будто похоже на правду… А все-таки, хоть убей, не пойму, как так птица может спать на лету. Да это то же самое, если бы я поверил, что могу повесить, зацепив за краешек облака, свою старую брезентовую шляпу. А в то же время, по совести сознаюсь, никак в толк не возьму, как же на самом деле фрегаты отдыхают. Разве только они каждую ночь возвращаются на берег, а поутру летят назад.
— Вот так сказали, масса Брас! Да неужто вы ничего умнее не придумали? Люди говорят, будто фрегат никогда не отлетает от берега дальше чем за сто лиг. Враки! Этот негр, — ткнул себя Снежок в грудь, — видал такого старого самца среди самого Атлантического океана на гораздо более далеком расстоянии, чем сто лиг, от берега. Они и сейчас на таком же расстоянии. Хорошо, если бы это было правдой, будто фрегат никогда не залетает от земли дальше чем на сто узлов, тогда бы нам, может, и удалось его поймать. Господи! Да ведь мы сейчас вдвое дальше от земли, а эти вот длиннокрылые птицы висят у нас высоко над головой и спят так же спокойно, как этот негр, — ткнул он опять себя в грудь, — спал, бывало, в камбузе на старушке «Пандоре».
На этот раз Бену нечем было крыть. Прав ли был негр в своих доводах или только хитроумно придал им видимость правды, но факт остается фактом. Высоко в небе маячили два темных силуэта, ясно выделяясь на его ярко-голубом фоне. Хотя они висели очень высоко и явно не двигались, все же видно было, что это живые существа, что это птицы, и именно того особого вида, к которому и матрос и негр при всем своем научном невежестве сразу и безошибочно их отнесли.
Глава 48
ФРЕГАТ
Фрегат («пеликанус аквила»), вызвавший на «Катамаране» столько оживленных споров, во многих отношениях существенным образом отличается от прочих океанских птиц. Хотя его обычно причисляют к пеликанам, он почти ничем не похож на эту уродливую, неуклюжую, напоминающую домашнего гуся, птицу.
От большинства других птиц, промышляющих добычу, летая над океаном, он отличается прежде всего тем, что у него между пальцами только небольшая плавательная перепонка, а когти на ногах такие же, как у орла или у сокола.
Он и в других отношениях сильно походит на этих птиц, так что моряки, исходя из этого сходства, не делают между ними различия и попросту зовут фрегата морским соколом, фрегат-соколом или фрегат-орлом. Так зовется и крупный альбатрос, летающий в поисках добычи над океаном.
У фрегата-самца сплошь черное, как агат, туловище и только клюв ярко-красный, очень длинный, сплюснутый и к концу круто загнутый книзу. Самка вся тоже черная, только на брюшке у нее большое белое круглое пятно.
Ноги у фрегата, по сравнению с туловищем, короткие. Пальцы, как мы уже говорили, снабжены большими когтями, из которых средний покрыт чешуей и сильно загнут крючком. Ноги у фрегата до самой ступни покрыты перьями, в чем опять-таки проявляется его сходство с сухопутными хищными птицами. У них имеется еще один общий и характерный признак — средний палец у фрегата загнут внутрь, как бы для того, чтобы им можно было цепляться, садясь на дерево, что он и делает, когда прилетает на берег, где зачастую вьет на дереве гнездо или ночует, садясь на ветку, как на насест.
В сущности, эта птица является, можно сказать, промежуточным звеном между хищными птицами, обитающими на суше, и перепончатыми, которые преследуют добычу на океане.
Возможно, что фрегат продолжает линию, начатую рыболовом-птицей и морским орлом. Они добывают себе пищу из воды, однако в поисках ее не залетают далеко от берега.
Фрегат, которого действительно можно назвать морским соколом или орлом за его смелость, силу, за все качества, свойственные ему, так же как и этим царственным птицам, — отлетает так далеко от берега, что его нередко можно увидеть над самой серединой океана.
Удивительное свойство есть у этой птицы, которому орнитологи до сих пор не находят объяснения. Дело в том, что перепонок на лапах у нее почти нет, следовательно, плавать она не может. И правда, никто никогда не видел, чтобы фрегат садился на воду отдыхать. Не может он держаться и на волне: строение ног и туловища делает это невозможным. Но тогда как и где он все-таки отдыхает, когда у него устают крылья? На этот вопрос действительно очень нелегко ответить.
Некоторые, как, например, Бен Брас, утверждают, будто фрегат каждую ночь возвращается ночевать на берег. Но если вспомнить, что долететь ему до своего насеста — значит иной раз отмахать на крыльях чуть не тысячу миль, не говоря уже об обратном путешествии к месту его рыбной ловли, — то такого рода предположение теряет всякое правдоподобие. Многие моряки придерживаются мнения, что он спит, высоко повиснув в воздухе. Таково было и мнение Снежка.
И вот это мнение или предположение — назовите как хотите, — над которым Бен Брас посмеялся и слегка даже поиздевался, как над самой невероятной несуразицей, в конце концов, может быть, не так уж далеко от истины. Как часто бывало, что диковинные истории, рассказанные каким-нибудь матросом, принимались за россказни, за самые фантастические бредни, подобно, например, рассказу о фрегате, и подвергались осмеянию с научной точки зрения кабинетными учеными-натуралистами, а в конце концов оказывались чистейшей правдой.
Почему утверждение моряков, будто фрегат спит на лету, не может оказаться правильным? Ведь оно основано на личном наблюдении, а вовсе не является матросской выдумкой, какой ее считают умные и высоко о себе мнящие, но часто ошибающиеся преподаватели естественных наук.
Давайте проверим: так ли уж неправдоподобна теория моряков насчет сна фрегата?
Что фрегат может отдыхать в воздухе, не подлежит никакому сомнению. Нередко можно наблюдать, как наблюдали сейчас наши катамаранцы, что он, распростерши крылья, неподвижно висит в воздухе и только чуть покачивает своим длинным раздвоенным хвостом, временами то раскрывая его, то складывая, по меткому выражению матроса, как портной ножницы. Это движение, возможно, чисто мышечного характера и вполне совместимо с состоянием сна или дремоты, в котором птица находится отдыхая. Как бы там ни было, она держится, не меняя положения, не двигаясь с места, иногда в течение многих минут не делая ни одного движения, а только раздвигает и сдвигает длинные, изящно изогнутые перья своего раздвоенного хвоста.
Рыба спит, не делая сколько-нибудь заметных усилий, чтобы удержаться в этом положении в воде. Почему не могут делать этого в воздухе некоторые птицы, чье тело гораздо легче рыбьего, а костяк снабжен воздушными полостями, помогающими им держаться в воздухе?
Фрегат редко когда отдыхает в обычном понятии этого слова. Его ритмичный, грациозно-легкий полет на стройных при всей их огромной длине крыльях — распростертые, они нередко достигают десяти футов-доказывает, что в воздухе он чувствует себя, может быть, так же покойно и легко, как на ветке дерева. Достоверно известно, что он неделями, месяцами подряд не знает, что значит отдыхать на дереве или на каком-нибудь другом высоком месте.
Правда, если фрегат рыбачит вблизи берега, он обычно на берегу же и ночует. Если же он залетает далеко в море, так и проводит всю ночь на крыльях. Фрегат не ищет отдыха, как это делают многие другие океанские птицы, вроде его ближайшего сородича — глупыша. Он не садится отдыхать ни на мачту корабля, ни на какой-нибудь иной высокий шест на судне, а постоянно носится над мачтами плывущих кораблей, словно находит в этом удовольствие, и отрывает иной раз клювом клочки цветной материи на флагштоке.
О фрегате, захваченном на месте преступления, когда он занимался этим делом, рассказывают забавный анекдот. Матрос, который влез на верхушку мачты и схватил его, был простой деревенский парень, служивший на корабле только временно. Был он длинный и худой, как жердь. И вот команда на борту корабля после этого случая постоянно потешалась над ним, уверяя, что фрегат, который привык узнавать матросов по выправке, ошибся, приняв новичка за шест, а не за матроса, и пал жертвой собственной ошибки.
Строго говоря, фрегат не рыбачит, как остальные хищные птицы на океане. Так как он не может ни плавать, ни нырять, то не может, конечно, и вылавливать рыбу из воды. Но, в таком случае, чем же он существует? Где находит он пропитание? Скажем коротко: он ловит добычу в воздухе и питается главным образом всякого рода летучей рыбой и летучими каракатицами. Когда тe, спасаясь от своих преследователей, выскакивают из воды, ища безопасности в воздухе, фрегат подстерегает их и камнем падает сверху, хватая прежде, чем те успевают вернуться в свою столь же опасную для них стихию, из которой только что выпрыгнули.
Кроме летучек, фрегат ловит и рыб, имеющих обыкновение выскакивать из воды на поверхность, а иногда отнимает добычу у глупыша, у чайки, морской ласточки и другой тропической птицы, умеющей и нырять и плавать, причем сначала он силой заставляет их выпустить рыбу, а затем подхватывает ее в воздухе, прежде чем та упадет обратно в воду.
В бурю эта своеобразная хищная птица прямо-таки благоденствует: это — время самого обильного для нее лова, так как она может хватать рыбу, выкинутую бурей прямо на бурлящую волнами поверхность воды. А когда на океане царит полный штиль, она прибегает к другому способу: силой заставляет птиц, выловивших рыбу из воды, отдать ей свою законную добычу. Больше того, она вынуждает их даже отрыгнуть уже проглоченную рыбу.
Поразительное мастерство полета не только дает ей возможность без промаха схватить выброшенный кусок — она пускается и на такие фокусы: если случится, что рыба попала в клюв не так, как ей удобно, она подбрасывает ее в воздух, ловит снова и снова, пока не сможет проглотить.
Глава 49
МЕЖДУ ДВУМЯ ХИЩНИКАМИ
Птицы, за которыми так внимательно следили катамаранцы, внезапно вышли из состояния неподвижности и, кружа в воздухе, стали по спирали спускаться все ниже и ниже к воде.
Вскоре они оказались так низко, что алый, выдававшийся вперед, как у пыжащегося голубя, зоб у самца был уже отчетливо виден. Стройные по своим очертаниям тела птиц с длинными, серпом изогнутыми крыльями и изящным раздвоенным хвостом четко вырисовывались на фоне небесной синевы.
Альбакоры совсем перестали обращать внимание на приманку, предлагаемую им Снежком и Брасом, и быстро засновали в воде туда и сюда, пока не рассеялись по океану во все стороны.
Неужели это страх перед нависшими над ними фрегатами заставил их так изменить обычную для них тактику?
Нет, такое поведение было вызвано чем-то другим — не страхом. Они, по-видимому, бросились за чем-то, чего ни самим им, ни нашей четверке на плоту еще не было видно.
Бен Брас и Снежок знали, что альбакоры подняли такую суету совсем не потому, что испугались фрегатов: им они вовсе не были страшны. Но юнга, который мало еще разбирался в жизни океана, хотя и заметил, что вид у альбакоров вовсе не испуганный, не понял, почему они вдруг так заметались, и, показывая на птиц, которые были сейчас не выше чем в сотне саженей над поверхностью воды, обратился к старшим товарищам:
— Неужели такая большая рыба тоже боится фрегатов?
— Да они вовсе не альбакоров высматривают, — ответил матрос. — И альбакоры их не боятся. Здесь где-то неподалеку другая рыба, только не видать какая. Не видно ее и этим голубым красавцам. Но они ищут ее во все глаза. Видишь, как они носятся вокруг. И уж, ясное дело, как та рыба завидит альбакоров, так от страха и выпрыгнет разом из воды.
— О какой другой рыбе ты говоришь? — спросил матроса юнга.
— Понятно о какой-о летучей. О той самой, что в свое время спасла нас от голодной смерти, помнишь? Тут где-то близко целый косяк ее. И фрегаты тоже ее учуяли, вот почему они и кружат над этим местом. Они заметили альбакоров, а так как знают, что те тоже охотятся за летучими рыбками, то и спустились вниз, чтобы быть поближе к игре. Пока альбакоры не увидели крылатых созданий и не врезались между ними, фрегату придется только облизываться. Ему ничего не сделать, пока вспугнутые альбакорами рыбы не выскочат из воды. А эти голубые красавцы все еще, кажется, их не видят, но, судя по маневрам, помяни мое слово, сейчас заметят!.. Вот! Что я тебе говорил, Вильм? Погляди туда. Охота началась!
И действительно, несколько альбакоров внезапно повернули в сторону, параллельную курсу «Катамарана», и молниеносно пронеслись вперед в прозрачной воде.
Зрители на плоту увидели, как несколько белых пятен сверкнуло на мгновение в воздухе и тут же исчезло в воде.
Катамаранцы по серебристому блеску прозрачных плавников-крыльев сразу узнали косяк летучих рыбок; сейчас за ними охотились самые опасные из их врагов — альбакоры.
Некоторые летучие рыбки так и не успели взвиться в воздух, став добычей своих преследователей.
Фрегаты кружили и над преследователями и над преследуемыми, дожидаясь своего часа. И как только эти хорошенькие создания показались над водой, птицы камнем кинулись вниз между двумя отрядами войск, каждая выбирая себе жертву. Налет получился удачный. Катамаранцы увидели, как оба фрегата взмыли вверх, держа в клюве по летучей рыбке.
Однако одному фрегату показалось, должно быть, мало только схватить рыбку — ему захотелось еще и поиграть ею: внезапно тряхнув головой, он подбросил свою добычу вверх и поймал ее на лету, и так много раз. Натешившись вволю, он, как только рыбка очутилась у него опять в клюве, проглотил ее целиком. Вместе со своими плавниками-крыльями она исчезла у него в глотке, куда до нее, без всякого сомнения, попадало много таких, как она.
Но по одной рыбке фрегатам, как видно, было мало; едва они их проглотили, как заняли прежнюю позицию, дожидаясь удобной минуты, чтобы кинуться вниз за новой жертвой.
И катамаранцам посчастливилось: им привелось наблюдать один из тех исключительно интересных эпизодов, происходящих порой на океане, ту маленькую трагедию, которая часто разыгрывается в природе, причем действующими в ней лицами стали три сотворенные ею существа, и все три совершенно разные.
Фрегат, высматривая новую добычу, наметил себе в жертву летучую рыбку прямо под собой, которая случайно оказалась совсем одна. Потому ли, что она плавала или летала хуже своих товарок, но она отбилась от всей стаи.
Но больше она не мешкала, и вполне понятно почему: за нею следом мчался вовсю альбакор фута в три длиной. И альбакор и летучая рыбка пустили в ход всю силу мышц, заключенную в их плавниках: одна, чтобы удрать, а другая, чтобы помешать ей это сделать.
Для находившихся на плоту было совершенно очевидно, что альбакор останется в этом состязании победителем. Увы, это поняла и летучая рыбка. Крошечное создание, рассекая плавниками прозрачную воду, казалось, все так и дрожало от страха. И наши зрители решили, что сейчас она взметнется в воздух и оставит своего жадного преследователя в дураках.
Несомненно, это было единственным выходом для затравленной летучей рыбки, и несомненно также, что она так именно и собралась сделать, как вдруг увидела длинные черные крылья и жадно вытянутую шею маячившего над ней фрегата.
Этого зрелища было достаточно, чтобы чуть-чуть задержать рыбку под водой, правда всего лишь на одно короткое мгновение. Вот положение! Вверху
— этот уродливый красный зоб и хищно вытянутая шея. Внизу— страшная пасть, готовая раскрыться и поглотить ее. На спасение не было никакой надежды.
Фрегат, в нетерпеливом ожидании маячивший над ней, бросился, не теряя времени, чтобы схватить ее. Но был ли он слишком уверен в добыче или по какой-то другой необъяснимой причине, он оказался наглядной иллюстрацией к старинной и всем известной пословице о том, что от чашки до рта еще далеко; короче говоря, летучая рыбка от него ускользнула.
С «Катамарана» видели, как он кинулся к ней, широко раскрыв клюв и алчно растопырив когти, чтобы вцепиться в нее. Но… весь боевой пыл пропал даром: серебристо-белая рыбка стрелой сверкнула мимо него и упала невдалеке в океан. Катамаранцы поняли, что летучая рыбка спаслась.
Глава 50
СНЕЖОК ЛЕТИТ КУВЫРКОМ В ВОДУ
И теперь все с удивлением смотрели на фрегата: потому что, вместо того чтобы подняться опять вверх и возобновить свою охоту либо за упущенной им рыбкой, либо за какой-нибудь другой, он остался на поверхности океана и, распростерши крылья, стал бить ими по воде с такой силой, что брызги так и летели вокруг, окутывая его сплошным водяным облаком.
При этом он пронзительно кричал, не смолкая ни на минуту.
Но это не был победный крик. Наоборот, чувствовалось, что ему самому угрожает опасность или что он стал жертвой какого-то хищника, еще более могучего, чем сам. В течение нескольких секунд длились эти необъяснимые движения, похожие на усилие высвободиться. На протяжении нескольких квадратных ярдов вся поверхность океана ходила ходуном, волнуемая усилиями какого-то живого существа под водой. А птица в это время все продолжала кричать и пенить крыльями воду, словно гигантский, разыгравшийся на воле пеликан.
Никто на плоту не мог понять, чем объясняется такое странное поведение старого фрегата.
Даже Снежок, который считал, что нет ничего на океане, чего он не мог бы объяснить, был удивлен и растерян не меньше остальных.
— Да что ж это такое с ним творится, Снежок, а? — спросил Бен в надежде, что кто-кто, а уж негр сумеет найти объяснение этому странному поведению фрегата. — Фрегат задел за что-то килем… Разрази меня гром, если он не пойдет сейчас ко дну!
— Разрази и меня гром! — ответил Снежок, бесцеремонно заимствуя излюбленное восклицание матроса. — Провалиться мне на месте, если я знаю, что тут происходит! Батюшки, видно, кто-то ухватил птицу за ногу!.. Может, это акула, а может, длиннорылый… А не то…
Снежок сказал бы «меч-рыба», если бы успел закончить свою фразу. Но ему это не удалось. В тот самый момент, когда он, строя догадки, удивленно вращал своими белками, что-то сильно стукнуло в днище плота. Удар пришелся как раз в ту доску, на которой стоял Снежок, и был так силен, что она выскочила из своих креплений и, подлетев кверху, сбила его с ног, да не просто сбила, а как из катапульты выбросила с «Катамарана» прямо в океан.
И это было еще не все! Доска, которая смахнула Снежка в воду, мгновенно вернулась на свое прежнее место — она была одной из самых тяжелых деревянных частей плота, — но, вместо того чтобы остаться на месте, опять подскочила кверху и тут же свалилась в воду, словно ее потащила туда чья-то невидимая, но сильная рука — рука какого-нибудь морского божества, может, самого Нептуна.
Да и не только доска — весь плот пришел в движение, словно кто-то невидимый залез под него и тряс, качал его вверх и вниз. Так быстры и так сильны были эти таинственные толчки, что оставшиеся на плоту еле удерживались на ногах.
Вместе с плотом ходуном ходила и вода под ним; из-под досок, на которых наша тройка, как акробаты, проделывала чудеса ловкости, чтобы не потерять равновесия, слышался громкий плеск и шум; и через несколько секунд после первого сильного толчка волны кругом так и пенились белыми шапками.
Негр, опомнившись от невольного сальто-мортале, вынырнул на поверхность, но, увидев, что плот все еще качает вверх и вниз, не решился взобраться на него, а поплыл рядом, все время испуганно и невнятно что-то бормоча. Даже отважный Бен Брас, бывший матрос военного фрегата, столько раз глядевший смерти в глаза, и тот сейчас испугался.
Да и как же иначе! Он не мог объяснить себе, какая сила природы могла вызвать это загадочное сотрясение, а необъяснимое, естественно, вызывает страх.
— Черт возьми! — крикнул Бен Брас с дрожью в голосе. — Что за дьявол возится там под нами?! Кит это, что ли, трется спиной о плот? Или…
Но он не успел договорить, как вновь послышался грохот, словно доска, так таинственно подпрыгивавшая, раскололась вдруг надвое.
Этот звук, что его ни вызвало бы, оказался апогеем всей сумятицы. После этого «скачки» плота прекратились, волны от его непрерывного качания постепенно улеглись, и наконец, подпрыгнув в последний раз, он поплыл, как обычно, по успокоившейся поверхности океана.
Глава 51
УДАР НАСКВОЗЬ
Лишь только «Катамаран» пришел в равновесие, Снежок, вскарабкался на него. Вид у негра был такой забавный, что, когда он стоял, весь мокрый, и вода так и лилась с него, всякий, увидев это, не мог бы не расхохотаться. Но его товарищам было не до смеха. Наоборот, они были подавлены: до сих пор они не понимали, что было причиной этой только что закончившейся странной передряги с плотом. Страх, который она им внушила, продолжал держать всех троих в своей власти и словно лишил их языка. Снежок первый нарушил молчание.
— Силы небесные! — воскликнул он, стуча зубами, как кастаньетами. — Что ж это такое было?.. Как вы думаете, масса Бен, кто это там затеял такую возню у нас под плотом?.. Вода кругом пеной кипела, так что ничего за ней не видать было. Боже мой, не дьявол ли это?
По испуганному лицу негра видно было, что он серьезно считает, будто именно черт вызвал всю эту таинственную суматоху.
Хотя матрос и сам не был свободен от суеверий, однако он не разделял наивной веры Снежка. Тщетно искал он объяснения этому странному происшествию, но все же никак не мог приписать его действию сверхъестественных сил. Удар, покачнувший доску, на которой стоял Снежок, дал сильный толчок всему плоту. Впрочем, возможно, этот необъяснимый и неожиданный удар произошел и вполне естественным путем: мало ли кто мог его нанести — огромная рыба или иное чудище, вынырнувшее из пучины. А вот то, что на «Катамаране» и потом продолжалась качка, да еще такая, что весь экипаж едва не попадал в воду, — это больше всего смущало Бена Браса. Он никак не мог понять, почему эта рыба или иная тварь, стукнувшись головой о киль, не поспешила после такой опасной встречи сию же минуту удрать.
В первую минуту Бен подумал, что под плотом кит. Он слыхал, что киты попадают под суда. Но само упорство этого загадочного существа, продолжавшего, как ни странно, атаковать плот, свидетельствовало, что все происшедшее не может быть чистой случайностью. Но если нападение было намеренным и виновник его — кит, так просто они бы не отделались. Матрос знал, что кит не оставил бы их в покое, лишь покачав плот. Одним взмахом хвоста морской великан подбросил бы суденышко в воздух, швырнул в пучину или, разбив вдребезги, разметал обломки по волнам.
Он уже наверняка проделал бы с ними что-нибудь в этом роде, — так полагал Бен Брас. Стали быть, это не кит едва не опрокинул их в море.
А если так, что же это было?.. Акула? Нет, не она! Правда, бывают акулы длиной и с доброго крупного кита, но матрос никогда не слыхал, чтобы они нападали на проходящие суда.
И вот наши скитальцы стояли, раздумывая над загадочным происшествием, как вдруг Снежок громко вскрикнул — наконец-то он сообразил в чем дело. Едва лишь негр оправился от страха, как первой его мыслью было осмотреть доску, с которой он сделал вынужденное сальто-мортале, словно акробат с трамплина.
И вот тут-то — на том самом месте, где он стоял, — обнаружилось нечто такое, от чего сразу все сделалось понятным. Из бревна чуть наискосок торчал, выдаваясь на целый фут, острый костяной предмет. Он так крепко засел в дереве, словно его вогнали туда ударами кузнечного молота. Сразу было видно, что он вошел в доску снизу: острие все в зазубринах и вокруг отверстия — щепки.
Впрочем, Снежок не стал долго раздумывать. Стоило ему только взглянуть на этот предмет, которого раньше здесь и в помине не было, как весь страх его моментально прошел. Взрыв хохота, скорее напоминавший продолжительное ржание, возвестил, что Снежок снова стал самим собой.
— Ей-богу!.. — воскликнул он. — Эй, масса Бpac! Гляньте-ка на штучку, которая задала нам такого страха! Поди ж ты! Кто бы подумал, что у этой длиннорылой уродины такая силища! Вот штука-то!
— Да это меч-рыба! — вскричал Бен.
Действительно, остроконечная кость, торчавшая из доски, оказалась мечевидным отростком одной из этих странных тварей.
— Правильно, Снежок, меч-рыба, она самая!
— Да нет, это только ее рыло, — пошутил негр. — Самой рыбы и близко не видать. Так вот какое черное тело я видел под плотом! Теперь-то ее и след простыл. Обломала себе носище — и это ее и убило. Подохла да тут же ко дну пошла.
— Так и есть, — подхватил матрос. — «Меч» сломался, покуда она билась и все рвалась на волю. Слыхал я, как что-то трахнуло, будто треснул корабельный брус; и потом сразу же плот перестало швырять, все успокоилось. Господи помилуй! Ну и удар! Доска-то, поди, самое малое — дюймов пяти толщиной, а вот видишь, длиннорылый пробил ее насквозь да еще наружу «меч» высунул на фут с лишним. Ну и ну! Что за диковинные, сумасбродные твари водятся в океане!
Этим философским рассуждением матроса и закончилось приключение.
Глава 52
МЕРТВАЯ ХВАТКА
Теперь уже весь этот странный эпизод перестал быть загадкой для обоих взрослых. Ясно было, что меч-рыба проткнула доску своим отростком и сломала его. Очевидно, «удар мечом» не был нанесен с намерением напасть на «Катамаран». Это произошло совершенно случайно.
Да и вряд ли могло быть иначе: ведь удар оказался роковым для самого меченосца. Несомненно, сейчас чудовище лежало мертвым где-нибудь на дне морском: костяной клинок сломался почти у самого основания, а его обладатель не мог жить без своего оружия. Даже если страшное увечье не сразу убило меч-рыбу, все равно потеря этой длинной «шпаги», посредством которой она только и добывала себе пропитание, наверняка должна была сократить остаток ее дней, и развязка не замедлила наступить.
Но ни матрос, ни бывший кок не сомневались, что рыба совершила самоубийство против собственной воли.
Бен Брас объяснял все это Вильяму просто и логично. Меч-рыба погналась за стайкой альбакоров. Ослепленная стремительностью своего бурного натиска и страшной прожорливостью, она не заметила плота, покуда не наткнулась своим длинным «мечом» на доску и не пробила ее насквозь. Не в силах вытащить глубоко застрявший в дереве мечевидный отросток, огромная рыбина билась до тех пор, пока не наступила катастрофа. Очевидно, это произошло так: плот подбросило кверху, а потом вдруг накренило со всего размаха вниз — она и напоролась на доску.
Не было необходимости все это подробно объяснять юнге: Вильям и без того уже знал кое-что. Из прежних разговоров на эту тему ему были известны случаи, когда меч-рыба вот так же легкомысленно «фехтовала» своим оружием.
Впрочем, сейчас было не до этого. Как только «Катамаран» принял прежнее положение и Снежок вскарабкался на плот, взоры всей команды, в том числе и негра, вновь обратились к странному зрелищу, которое занимало их внимание до этого столкновения. Все принялись наблюдать за необычным поведением фрегата.
Птица все еще носилась над самой водой, металась из стороны в сторону, билась и, вздымая брызги, хлопала крыльями. Маленькое облачко пены, окружая ее словно ореолом, всюду следовало за ней.
Даже Бен Брас и Снежок, разгадавшие странную историю с меч-рыбой, не могли понять, что творится с птицей. За всю свою жизнь на море они не видели, чтобы так вел себя фрегат или какой-либо иной пернатый хищник океана.
Долго стояли они, дивясь и переговариваясь между собой. В чем же тут причина? Видно было, что судорожные движения птицы непроизвольны, что происходит какая-то борьба. К тому же она дочти непрерывно кричала — от страха или боли, а может быть, и от того и другого.
Но почему она так упорно держится у самой поверхность моря? Ведь известно, что эта птица может взмыть в воздух почти вертикально и взлететь так высоко, что за ней не угнаться ни одному из крылатых созданий.
Вопрос этот долго оставался неразрешимым для матроса и негра. Они не только не могли найти ключ к его решению, но даже не пытались строить сколько-нибудь правдоподобные предположения.
Добрых десять минут ломали они себе головы. И вот наконец-то задача была решена: загадочное происшествие получило объяснение. Но злосчастная птица не была добровольной участницей этой драмы — она попала в плен.
Казалось, фрегат начинает изнемогать. По мере того как силы его слабели, крылья все тише хлопали по воде, брызги пены уже не вздымались вокруг и море волновалось меньше. Теперь зрители увидели, что птица была не одна: там, внизу, какая-то рыба вцепилась ей в ногу. По форме, величине и лазоревой окраске легко можно было признать альбакора. Несомненно, это был тот самый хищник, который одновременно с птицей состязался в погоне за летучей рыбкой.
Так вот почему фрегат не мог подняться над водой! Но это еще не все. Видимо, альбакор, измученный схваткой, тоже выбился из сил: он уже не носился стрелой из стороны в сторону, как вначале, а двигался еле-еле. Стало видно, что лапа морского ястреба вовсе не застряла в пасти у рыбы, как думали катамаранцы, — нет, птица стояла на голове у альбакора, словно забравшись на жердь, и балансировала на одной ноге.
Чудо из чудес! Что это все могло бы значить?
Борьба фрегата и альбакора как будто приближалась к развязке: теперь схватки перемежались паузами. После каждого перерыва птица все тише взмахивала крыльями, рыба все медленнее шевелила плавниками. Под конец оба хищника замерли: фрегат над океаном, альбакор в воде.
Если бы птица не распростерла так широко свои могучие крылья, она, наверно, погрузилась бы в глубь океана. Рыба все еще время от времени делала слабые попытки cтaщить ее вниз, под воду. Но мешали крылья, раскинувшиеся почти на десять футов над водой.
Это диковинное зрелище разыгралось прямо перед «Катамараном», и плот, идя по ветру, все приближался к месту поединка. С каждым мгновением силуэты противников вырисовывались все отчетливее. Но лишь когда «Катамаран» подошел вплотную и обоих выбившихся из сил борцов взяли на борт, выяснилось окончательно, как они сцепились между собой.
Оказалось, что схватка произошла совершенно случайно, помимо желания обеих сторон.
Да и как могло быть иначе? Альбакор слишком силен для клюва фрегата, слишком велик, чтобы птица могла заглотать его своим громадным зевом. Со своей стороны, разве решился бы фрегат вторгнуться во владения могущественного морского хищника?
Причиной встречи, которая привела к такой роковой путанице, оказалось то, что они погнались за одной в той добычей. То была маленькая летучая рыбка, которой удалось ускользнуть от врагов, подстерегавших ее в обеих стихиях — и в воздухе и в воде.
Бросившись на летучую рыбку, птица промахнулась и угодила кривыми когтями прямо в глаз альбакору. То ли когти пришлись как раз по глазной впадине, то ли слишком глубоко погрузились они в волокнистую ткань мозга, — так или иначе, они там застряли. И ни птица, ни рыба, страстно жаждавшие сбросить мучительное ярмо, не могли положить конец вынужденному содружеству. Разлучить их пришлось Снежку. Им объявили развод, самый эффективный, какой когда-либо давался судом со времен сэра Крессуэлла Крессуэлла[207].
Суд был короткий. Каждому из преступников был вынесен приговор, и казнь свершилась тотчас же вслед за осуждением — рыбу оглушили ударом по голове; иная кара, не менее скорая, постигла птицу-ей попросту свернули шею.
Так погибли два морских тирана, будем надеяться, что такое же возмездие за свои злодеяния получат все тираны земли!
Глава 53
МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Новое появление меч-рыбы — не была ли это та самая, что уже однажды повстречалась им? — разогнало всех альбакоров по соседству с «Катамараном». Вернее же, они заметили стайку летучих рыбок и пустились в погоню, так что теперь поблизости не осталось ни одного альбакора, кроме того, который был вырван из когтей фрегата.
Оправившись от волнения после этого необычного происшествия, почти столь же странного, как и предшествующий случай, команда занялась осмотром плота: нет ли повреждений от толчка.
К счастью, ничего серьезного не было обнаружено. Была пробита доска, в которой крепко застрял костяной отросток, но это оказалось сущим пустяком. Правда, «меч» почти весь целиком, кроме выдававшейся над доской верхней части, торчал на несколько футов вниз. Но все-таки его не стали вытаскивать: он не особенно мешал «Катамарану» на ходу.
Доска чуть сдвинулась с места, бревно, другое расшаталось — вот и все. Что стоило исправить этакую безделицу умелым рукам Снежка и матроса!
Оба они закинули было снова удочки в воду, насадив на крючки приманку; но солнце уже садилось, а клева все не было. Ни одного живого существа: ни альбакора, ни рыбы, ни птицы — не было видно на фоне заката. Солнце, медленно опускавшееся в безмолвную пучину океана, оставило их одних в пурпуровой мгле.
Невесело было им в этот сумеречный час. Правда, они пережили столько захватывающих приключений, что им было некогда скучать. Днем волнующие происшествия не давали задуматься над истинным положением вещей. Но сейчас, когда повсюду вновь воцарился покой, мысли их невольно обратились к прежнему: как мало надежд спастись из этой безбрежной водной пустыни, простирающейся словно до самых границ мироздания!
Печальным взглядом провожали они солнце, погружавшееся в море. Золотое светило исчезло на западе, там, куда стремились и они. Если бы только в этот момент они могли быть там, где светил сияющий шар, — о, тогда они очутились бы на суше! Уже одна мысль о земле, о чудесной, незыблемо твердой земле охватила блаженным трепетом эти несчастные жертвы кораблекрушения, цеплявшиеся за свой утлый плот среди безграничного океана.
Их угнетала мертвая тишина, царившая кругом. Малейшее дуновение ветерка замерло перед заходом солнца. Море сделалось спокойным, гладким, как стекло. Сумерки сгущались, и в этой зеркальной поверхности отразились мириады мерцающих звезд, мало-помалу высыпавших на небе.
Было что-то величественное и грозное в этой торжественной тишине, и им стало страшно.
Изредка молчание нарушалось какими-то звуками. Но они скорее наводили грусть, чем радовали. Ибо то были звуки, которые можно услышать только в безмолвной пустыне океана: крик морской чайки, напоминающий чей-то дикий хохот, пронзительный свист птицы-боцмана.
У наших скитальцев сегодня появилась еще одна причина для уныния: они тревожились о потере столь необходимых запасов сушеной рыбы.
Правда, прожорливый океан поглотил только часть провизии. Но и об этом стоило погоревать — не так-то легко будет возместить утрату.
Пока они охотились за альбакорами в надежде на удачный улов, это их не так беспокоило. Зато теперь, когда вся стая ушла и у них остались всего лишь три рыбки, они острее почувствовали свое бедствие. Мало было надежды, что попадется другой такой косяк.
По мере того как сумерки сгущались, все более глубокое уныние овладевало нашими друзьями. Прошел час, другой, но печальные скитальцы не обменялись ни словечком.
Глава 54
ВЕЧЕР НА ПЛОТУ
Уныние не может длиться вечно — так уж устроила благодетельница-природа. Бывают времена, когда тоска овладевает сердцем более или менее надолго, но такие моменты всегда сменяются светлыми проблесками — и наступает если не радость, то, во всяком случае, некоторое облегчение.
Примерно через час после захода солнца люди на «Катамаране» вновь воспрянули духом, словно освободившись от тягостного настроения, угнетавшего их.
Конечно, произошло это не без причины. Что-то изменилось в окружающей природе: поднялся легкий бриз и подул на запад, как раз в том самом направлении, куда так стремились катамаранцы.
И они пустились в путь. Несмотря на страшный удар мечом, полученный «Катамараном», плот понесся с попутным ветром так быстро, словно хотел показать, что нападение меч-рыбы вовсе не вывело его из строя.
Всякое движение оказывает благотворное действие на человека, впавшего в тоску, особенно если двигаешься в нужном направлении.
«Вперед!» — вот слово, ободряющее павших духом, чудодейственное слово для отчаявшихся.
Никто на «Катамаране» и не помышлял о том, что бриз отнесет их к твердой земле или хотя бы продержится так долго, что продвинет плот на много миль по океану. Но уже одна только мысль, что они все-таки не стоят на месте, подбодрила их.
И они стали подумывать об ужине. Снежок с готовностью вскочил на ноги и отправился к своим запасам.
Его «кладовая» помещалась посередине плота. И так как далеко идти было незачем, а выбирать припасы не из чего, то вскоре он вернулся на корму, где неподалеку уселись его товарищи. В руках он держал с полдюжины соленых морских сухарей и несколько кусков вяленой рыбы.
Это был весьма скудный и неприхотливый ужин; при виде его любой бедняк пренебрежительно скривил бы губы. Но катамаранцы, для которых он предназначался, оказали ему весьма радушный прием.
Тут же, перед их глазами, на настиле «Катамарана», лежал еще больший деликатес — то был альбакор, по вкусу не уступающий ни одной из океанских рыб. Но мясо альбакора пришлось бы есть сырым, а у Снежка была запасена вяленая рыба, что, по мнению катамаранцев, было гораздо вкуснее.
Вообще в положении наших скитальцев не приходилось быть слишком разборчивыми, особенно если можно запить ужин глотком канарского вина, но-увы! — вино распределялось весьма экономно и щедро разбавлялось водой.
Надо сказать, что Снежок был очень бережлив. Может быть, именно этому свойству он был обязан тем, что остался в живых. Ведь если бы негр не собирал так усердно и не хранил так тщательно свои запасы, наверно, и сам он, и маленькая Лали уже давно погибли бы голодной смертью.
Поедая свой более чем скромный ужин, Снежок погоревал о том, что нет огня, на котором можно было бы поджарить альбакора. Уж кто-кто, а шеф камбуза отлично знал, какой лакомый кусочек эта рыба!
Он и в самом деле сильно огорчался не столько за себя, сколько за свою любимицу Лали. Как охотно угостил бы он ее чем-нибудь повкуснее вяленной на солнце рыбы и соленых сухарей! Но так как об огне нечего было и мечтать, приходилось отказаться от удовольствия приготовить ужин для Лали. Чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить себя, он дал девочке сладкого канарского больше, чем им всем полагалось.
Как ни микроскопичны были порции, доставшиеся на долю каждого, все же выпитое вино еще больше подбодрило наших скитальцев.
Покончив с ужином, Снежок, Вильям и Лали легли спать. На «собачьей вахте» остался Бен Брас-править рулевым веслом и нести все прочие обязанности дежурного.
Глава 55
СНЕЖОК ВИДИТ ЗЕМЛЮ
Долгие ночные часы простоял на вахте Бен Брас. Верный своему долгу, он ни на минуту не оставлял рулевое весло. Ветер продолжал дуть все в ту же сторону, и плот быстро шел на запад, подгоняемый экваториальным течением.
С океана стал подниматься легкий туман, и звезды скрылись из виду. Казалось бы, теперь рулевому уже нельзя будет держать курс по-прежнему. Но Бен считал, что ветер не меняет направления, и, руководствуясь этим, вел плот. И впоследствии оказалось, что он не ошибся.
Лишь перед самым рассветом его сменил Снежок, приняв вахту и заняв его место у рулевого весла.
Бен не решился разбудить негра и, вероятно, великодушно оставался бы на посту до угра, если бы тому вздумалось еще поспать.
Снежок проснулся не по своей охоте и не потому, что его потревожил товарищ, — его охватила дрожь от сырого тумана. Очнувшись, он несколько минут весь трясся, словно в лихорадочном ознобе, так что навешанные на нем побрякушки из слоновой кости дребезжали, стукаясь одна о другую.
Не скоро еще Снежок окончательно пришел в себя: из всех видов климата африканский негр хуже всего переносит холодный. Не раз он похлопывал себя обеими руками по широкой груди крест-накрест, так что кончики пальцев почти сходились на позвоночнике, пока ему удалось наконец восстановить кровообращение. Лишь тогда, спохватившись, что самое время становиться на вахту, к рулю, он предложил сменить матроса.
Разумеется, тот и не подумал отказаться. Но прежде чем лечь спать, он дал Снежку необходимые указания, как вести «Катамаран», чтобы не отклониться от взятого курса.
Тем временем Вильям, верно, видел во сне отчий дом в Англии, а крошка Лали грезила о своей африканской родине. Матросу же, скорее всего, снилось, что он благополучно «погрузился» на бак британского фрегата, идущего под всеми парусами, а кругом, растянувшись на нарах или подвесных койках, спят сотни таких же матросов, как он сам.
В первый час вахты Снежок ни о чем не думал и старался только, следуя инструкции матроса, вести «Катамаран» по курсу.
Между прочим, ему было наказано наблюдать, не покажется ли где парус. Но в таком густом тумане, какой окружал их сейчас, не удалось бы заметить и самый большой корабль, пройди он даже в одном кабельтове от «Катамарана».
Поэтому Снежок и не пытался разглядеть что-либо в океане.
Но он не прекратил своих наблюдений, чего и требовал матрос, — ведь моряку уши служат не хуже, чем глаза.
Если и не увидишь корабль, зато услышишь голоса команды или другие случайные звуки на борту. Случалось не раз, что таким образом судно выдавало свое присутствие и в самую темную ночь, и в глухой туман на море.
Правда, в такую погоду чаще бывает, что корабли подходят и удаляются, и ни один из них не знает о том, как близко другой.
Подобно двум призракам-великанам, они встречаются посреди океана и молчаливо расходятся вновь, каждый бесшумно следуя своим путем.
Уже светало, а черный кормчий все еще не слышал ни звука, кроме шелеста ветра в парусе «Катамарана» и глухого плеска волн, ударявшихся о пустые бочки по краям плота.
Наступило утро. Над горизонтом показался верхний краешек солнечного диска, и под его лучами туман стал медленно, но заметно рассеиваться. И тогда вдруг перед глазами у Снежка возникло нечто такое, что кровь его с быстротой молнии прихлынула к сердцу, забившемуся в бешеном восторге, словно хотело выскочить из могучей груди.
В то же мгновение он вскочил на ноги, бросил рулевое весло, словно в руках у него очутился раскаленный докрасна железный брусок, и, ринувшись вперед, на правый борт «Катамарана», встал, жадно всматриваясь в морскую даль.
Что же могло так внезапно потрясти нашего негра? Какое зрелище поразило его?
Он увидел землю!
Глава 56
ЗЕМЛЯ ЛИ ЭТО?
Казалось бы, при виде этого зрелища, столь неожиданного и радостного, он тотчас же завопит на весь мир о своем открытии.
Но этого не случилось. Наоборот, он молчал: и когда прошел вперед по настилу плота, и когда, спустя некоторое время, стоял на носу и смотрел вдаль.
Вот она, страстно желанная, нежданная, негаданная земля! Поэтому-то он все еще опасался объявить о ней спутникам. И немало прошло времени, пока он решился поверить, что зрение не обманывает его.
Правда, негр не отличался обширными познаниями в географии морей, но ему были хорошо знакомы тропические широты Атлантики. Не раз проделал он этот страшный путь через экватор: однажды закованный в цепи и частенько потом на службе у работорговцев, помогая перевозить «живой груз» таким же бесчеловечным способом. Ему было известно, что там, где они, по всей вероятности, находятся сейчас, поблизости нет ни клочка земли, будь то остров, скала или риф. Никогда не приходилось ему видеть или слышать о чем-либо подобном. Он знал, что здесь есть остров Вознесения и маленький необитаемый островок Святого Павла. Но ни один из них не мог оказаться на пути «Катамарана».
Что же все-таки он увидел? Не ослеп же он! Картина острова отпечаталась на сетчатке у него так ясно, с такой отчетливостью, что это не могло быть обманом зрения.
Только вполне уверившись, он решился наконец: закричал громовым голосом и разбудил своих спутников. Все сразу вскочили на ноги, мигом очнувшись от сна.
— Земля! — орал Снежок.
— Земля? — откликнулся Бен Брас, вскакивая и протирая заспанные глаза. — Земля, говоришь, Снежок? Да что ты! Быть не может! Тебе, верно, почудилось, дружище!
— Земля? — переспросил Вильям. — Да где же, Снежок?
— Земля! — воскликнула маленькая Лали, догадавшись, что значит это слово, хоть оно и было сказано на чужом языке.
— Да где же она? — осведомился матрос, пробираясь по доскам на плоту, чтобы зайти спереди паруса, заслонявшего ему поле зрения.
— Вон, вон! — твердил Снежок. — Вон там, масса Брас, как раз у штирборта, справа!
— А ведь верно… право, земля!.. — подтвердил матрос, пристально вглядываясь в незнакомые очертания, смутно виднеющиеся сквозь туман. — Провалиться мне на месте, если это не земля! Да, да, это остров, хоть и небольшой, а все ж таки островок!
— Вот так штука! Да там люди!.. Гляньте, масса Брас, они ходят там повсюду. Я вижу их так же ясно, как солнце на небе. Да их там целые десятки! Снуют себе взад-вперед. Туда, туда смотрите!
«Вижу, как солнце на небе» — не совсем точно сказано, так как момент был выбран малоподходящий. Дневное светило все еще скрывалось в тумане, и поэтому трудно было различить неясные контуры острова, или, вернее, того, что наши скитальцы принимали за остров.
Только Снежок, который дольше всех всматривался в эту «землю» и выработал в себе особую зоркость зрения, ясно различил там множество движущихся фигур. Теперь, когда он обратил на это внимание своих спутников, Бенy Брасу и Вильяму также стало казаться, что и они их увидели.
— Разрази меня гром! — воскликнул матрос. — А ведь и вправду люди! Мужчины и даже женщины, и в белых платьях! Кто они, откуда взялись?.. Черт побери! Я глазам своим не верю! Сроду не слыхивал, чтобы на этой стороне в Атлантике был остров! Разве только он выскочил из моря за какой-нибудь год, другой!.. Ну, а ты что скажешь, Снежок? Уж не Летучий ли это Голландец[208] или скала, что как раз сейчас высунулась из воды? Или все-таки самый настоящий остров?
— Что вы! Не водится здесь Летучий Голландец. Нет, масса Брас, ваш негр зря не бросает слов на ветер. Это — остров, самая настоящая земля. Вот увидите сами! Только повернем «Катамаран» и подойдем чуть ближе.
Послушавшись совета Снежка, матрос пробрался обратно через весь плот, взялся за рулевое весло и повернул «Катамаран» носом вперед, прямо к неведомой, только что открытой земле.
Остров казался очень невелик — он занимал ярдов сто на горизонте. Впрочем, не всегда удается правильно определить на глазок, особенно если, как сейчас, мешает туман.
Казалось, остров возвышался на несколько футов над уровнем моря. С одной стороны он заканчивался крутым обрывом, с другой — отлого спускался к воде.
Люди виднелись главным образом на возвышенности. Кое-где они стояли, собираясь группами по трое и по четверо, в других местах прогуливались парами и в одиночку.
Видимо, они были неодинакового роста и одеты по-разному. Даже сквозь туман можно было разглядеть, что на них самые разнообразные цветные платья. Встречались тут и рослые люди; рядом с ними попадались другие, казавшиеся карликами. Снежок утверждал, что эти «малютки» — дети тех, кто повыше.
Позы их также были различны. Некоторые стояли выпрямившись, с какими-то длинными копьями за плечами; другие, также вооруженные, нагибались к земле. Многие усердно трудились, равномерно ударяя по земле огромными кирками, как если бы рыли яму.
Правда, все эти манипуляции виднелись неясно, так что катамаранцы никак не могли понять, что за работы ведутся на острове.
Действительно ли у них перед глазами остров, а фигуры — точно ли люди? Снежок не сомневался и с жаром отстаивал свою точку зрения. Однако Бен был настроен несколько скептически и держался менее решительно. Впрочем, это не мешало ему клясться и божиться, поминутно изъявляя желание тотчас же «провалиться на этом самом месте», если только это не остров.
Матрос не оспаривал факт существования острова. В те времена, о которых мы рассказываем, то и дело возникали внезапно новые земли посреди океана-там, где раньше о них и понятия не имели. И сейчас, когда, казалось бы, мореплаватели избороздили океан вдоль и поперек, обследовав каждый дюйм, там все еще нередко открывают скалы, отмели, даже неведомые острова.
Итак, Бена смущало вовсе не это. Его озадачивало другое: слишком уж много было там людей.
Если бы на этой земле им встретилось человек двадцать-двадцать пять, ну тогда еще можно было бы объяснить, почему остров оказался обитаемым. Правда, такое объяснение едва ли пришлось бы по душе ему самому и его спутникам. Возможно, что это потерпевшие крушение матросы с «Пандоры» основали временную колонию на маленьком островке и, усердно работая кирками, роют колодцы в поисках пресной воды.
Впрочем, едва ли это был экипаж погибшего в волнах невольничьего корабля: против этого говорили и самая многочисленность населения, и ряд других обстоятельств. Уверившись, что им не придется столкнуться с шайкой головорезов с «Пандоры», катамаранцы набрались смелости подойти поближе.
Однако, невзирая на всю очевидность, матрос все еще сомневался, что перед ними остров. Еще менее он мог поверить, что эти фигуры, сновавшие на берегу, — действительно человеческие существа.
Ничто не могло заставить Бена Браса поверить в это, пока «Катамаран» не подошел к берегам фантастического острова так близко, что он совершенно ясно заметил развевающийся на нем флаг.
Флаг был сделан из алой материи, какая обычно идет на знамена, и водружен на высоком конусообразном древке, Он свободно развевался по ветру, и даже туман, наполовину его заволакивавший, не мог совсем скрыть его из виду. Слишком редко встречается в океане такой яркий красный цвет. Разве это может быть наряд какого-либо из морских обитателей — длинные перья тропической птицы, которые так высоко ценятся полинезийскими вождями, или багряный зоб морского ястреба?
Нет, это могло быть только полотнище флага, и ничто иное!
Так в конце концов решил Бен Брас. И это его убеждение, выраженное на присущем ему своеобразном жаргоне, вселило уверенность в сердца всех. Итак, тот предмет, который виднеется на горизонте, должно быть, скала или риф, или остров, а движущиеся на нем существа — несомненно, мужчины, женщины и дети.
Глава 57
КОРОЛЬ КАННИБАЛОВЫХ ОСТРОВОВ
Торжественное заявление матроса рассеяло все сомнения. Конечно же, темное пятно там, впереди, — это остров, а вертикальные фигурки на нем — человеческие существа. При этой мысли сильнейшее возбуждение охватило катамаранцев.
Чувство это овладело ими с такой силой, что они больше уже не могли сдерживаться и все разом подняли радостный крик.
Если бы они вняли голосу осторожности, то не стали бы столь бурно выражать ликование. Правда, на острове не было разбойничьей шайки — жертв крушения «Пандоры». Зато там могли оказаться другие, столь же злобные и кровожадные дикари.
Кто мог поручиться, что там не живут людоеды?
Может показаться странным, что мысль эта мелькнула в уме у наших скитальцев. Однако именно об этом сразу подумали все они, и в первую очередь сам Бен Брас.
Жизненный опыт матроса не только не опроверг того, что он слышал в детстве о племенах, пожирающих людей, — наоборот, этот опыт еще более укрепил его веру в существование людоедов.
Бен Брас бывал на островах Фиджи, где познакомился с их королем Такомбо, прямым наследником династии Хоки-Поки-Вити-Вум, и с другими вельможами этого племени каннибалов. Он видел их огромные котлы для варки человеческого мяса; горшки и сковороды, где оно тушилось; блюда, на которых оно подавалось на стол; ножи, которыми обычно его резали; кладовые, набитые человечиной и насквозь пропитанные человеческой кровью. Более того, матрос был очевидцем одного грандиозного пиршества, где подавались тела убитых мужчин и женщин: и жареные, и вареные. В угощении принимали участие сотни придворных Такомбо. И рядом с ними сидел, взирая нa этот омерзительный церемониал, с внешне невозмутимым и довольным видом сам капитан нашего матроса, капитан британского фрегата, — да, коммодор британской эскадры, который имел в своем распоряжении столько пушек, что мог стереть с лица земли весь остров Вити-Bay!
Нелегко понять образ действий этого англичанина, которого звали чуть ли не «его сиятельство». Единственное объяснение, которое здесь напрашивается, следующее: его ограниченный ум находился в плену у нелепой, но — увы! — нередко слишком удобной теории международного невмешательства — самого опасного бюрократизма, который когда-либо сковывал щепетильную совесть глупца в чиновничьем мундире.
Далеко не так действовал Уилкс, этот янки-командир, к которому мы так любим придираться. Он также посетил остров людоедов Вити-Вау. Но во время пребывания на острове Уилкс навел на него свои сорокафунтовые пушки и задал такой урок и королю и его подданным, что они если и не отреклись от своего противоестественного национального обычая, то уж, во всяком случае, закаялись справлять его и по сей день.
В самом деле, хорошенькое невмешательство! Международная деликатность по отношению к племени кровожадных дикарей! Нация людоедов — поистине, разве это нация? Тогда почему не признать национальное право за любой шайкой разбойников, которой посчастливилось завоевать себе независимое существование? Увы! Мир полон необоснованных претензий, отравлен ядом политического лицемерия.
Конечно, сам Бен Брас так не рассуждал — за него это делает его биограф. Бен мыслил узко и практически: он твердо верил в существование людоедов. И пока плот, с которым он, помимо воли, связал свою судьбу, шел к таинственному острову, матрос не переставал страшиться его обитателей.
Поэтому он хотел подойти к берегу со всевозможными предосторожностями. Но только он собрался посоветовать это своим спутникам, как все его благие намерения рухнули. Снежок издал радостный крик «ура», ему вторил Вильям, и к общему хору присоединился полудетский голосок малютки Лали.
Предостережение матроса запоздало, хотя это, может быть, и было необходимо для безопасности команды «Катамарана». Неосторожный возглас возымел совершенно неожиданный эффект: произошло нечто такое, что изменило весь ход мыслей не только у Бена Браса, но и у его спутников.
Шумный хор голосов нарушил спокойствие океана и вызвал внезапную перемену во всей картине острова, или, вернее, во внешнем виде его обитателей. Если это были человеческие существа, то они принадлежали к странной, очень странной расе: у них имелись крылья! Как же иначе они могли бы, заслышав крики с «Катамарана», оторваться от твердой земли и все как один взлететь высоко в воздух?
Впрочем, катамаранцам не приходилось долго ломать себе голову. Если еще можно сомневаться, что перед ними остров, то его обитатели уже перестали быть загадкой.
— Да это птицы! — вскричал негр. — Только и всего!
— Правильно, Снежок! — согласился матрос.
— Ну да, самые настоящие птицы! Что ж, тем лучше! Так оно и есть. Кое-кого я даже узнаю. Тут и фрегаты, и глупыши, и много других. А вот и выводок буревестников, сдается мне… Да тут есть всякие — и большие и малые!..
Больше не стоило строить догадок о том, что за существа населяют остров. Загадочные фигурки, которые ввели в заблуждение команду «Катамарана», оказались, правда, двуногими, но отнюдь не людьми и даже не земными обитателямв. То были «жители воздуха». Когда их спугнули странные крики, которые донеслись до них впервые, они бросились искать спасения в родной стихии, где можно было не страшиться преследований врагов на земле и в воде.
Глава 58
ЭТО КИТ!
Отлет птиц разрушил предположения катамаранцев, но все же не поколебал их до конца. Остров оставался на месте, перед глазами у всех, правда совершенно пустынный, покинутый обитателями. Достаточно было одного возгласа, чтобы внезапно началось массовое переселение.
Над островом по-прежнему развевался флаг. Но на берегу, как видно, не было ни одного существа, которое с гордостью салютовало бы этому одинокому знамени.
Да, здесь не ступала нога человека. Разве иначе птицы прожили бы так долго, словно в заповеднике, что в конце концов их испугал самый звук человеческого голоса?
А если на острове никого нет, значит, отпадает всякая необходимость в дальнейших предосторожностях, следует только присматривать за плотом. И, придя к решению высадиться на берег необитаемого острова, матрос и Снежок вместе с Вильямом усердно взялись за весла, чтобы поскорее причалить.
Подгоняемый бризом и усилиями гребцов, «Катамаран» понесся по воде с большой быстротой.
Не прошло и нескольких минут, как «Катамаран» уже очутился в каких-нибудь ста саженях от таинственного острова и, скользя по волнам, все более приближался к нему.
Остров был уже близко. Утренний туман рассеялся в лучах восходящего солнца, и перед катамаранцами яснее вставала загадочная земля там, впереди. Бен Брас, бросив весло, еще раз обернулся, чтобы заново разглядеть ее.
— Ну и земля! — воскликнул он с первого же взгляда. — Как же, хорошенький остров, держи карман шире! Разрази меня гром, если это остров!.. Какая же тут земля — ни клочка ее нет! Так, что-то вроде скалы. Да нет, не скала, скорей на кита смахивает!.. Ну да, кит, очень похоже!
— Очень, очень похоже! — откликнулся Снежок, далеко не в восторге от того, что обнаружилось такое сходство.
— Да это и есть кит! — во всеуслышание заявил матрос уверенным тоном. — Самый настоящий… Ну да, — продолжал он, как бы осененный внезапной догадкой, — теперь-то все ясно. Это большой кашалот. Удивляюсь, как это не пришло мне в голову раньше. Его убили с какого-нибудь китобойца, вон оно что! Видите, флаг торчит на спине? Они и поставили веху. Это чтобы легче было найти тушу, как только возвратятся сюда… Китобои вернутся обязательно, вся надежда на это.
Кончив свои объяснения, Бен выпрямился, взобрался на самое высокое место на «Катамаране» и, не удостаивая кита больше взглядом, стал жадными глазами обозревать море вокруг.
Всем сразу стало понятно, с какой целью он снова принялся за разведку, — его окрыляла надежда.
— Кит наверняка был убит, — рассуждал матрос. — Ну, а где же тогда китобои?
Добрых десять минут обозревал он океан, пока не обследовал все кругом.
Сначала взгляд его горел надеждой и уверенностью, но мало-помалу на лицо матроса снова легла тень, и это настроение немедленно передалось его спутникам.
Насколько охватывал глаз, на море не видно было паруса.
Ни одно пятнышко не омрачило сияющую морскую даль.
С глубоко разочарованным видом «капитан» «Катамарана» покинул свой наблюдательный пост и снова обернулся к мертвому кашалоту. Теперь их отделяло всего около ста саженей; и расстояние это уменьшалось — плот под парусом подходил все ближе.
Оптический обман рассеялся вместе с туманом, непомерно увеличивавшим и искажавшем очертания предметов.
Уже нельзя было принять тушу кашалота за остров, но она все еще поражала своими громадными размерами. Теперь она скорее походила на большую черную скалу, возвышавшуюся над океаном. Кит имел более двадцати ярдов в длину; а тем, кто смотрел на него сбоку, с плота, он казался еще крупнее.
Через пять минут они подошли, спустили парус и остановили плот. Бен закинул канат на один из грудных плавников, и вот уже «Катамаран» ошвартовался около кашалота, как маленький тендер рядом с огромным военным судном.
Бену Брасу вздумалось взобраться на самую вершину этой горы из китового уса и жира. Как только плот был надежно закреплен, матрос начал свое восхождение.
Но оказалось, что вскарабкаться на китовую тушу не так-то легко.
Да и опасность грозила немалая — очень уж трудно было удержаться на скользкой коже морского великана, сочащейся маслянистой жидкостью, которую, как известно, выделяет кашалот.
Читатель, наверно, подумает, что такому пловцу, как Бен Брас, не страшно даже и поскользнуться: ведь падение в воду с высоты нескольких футов не грозит сколько-нибудь серьезными ушибами. Но если представить себе, что вокруг туши в поисках добычи рыскало множество акул, станет понятно, какая опасность подстерегала в случае падения отважного моряка.
Но не таков был Бен Брас, чтобы спасовать перед какой бы то ни было опасностью. С помощью Снежка он воспользовался одним из грудных плавников кита, к которому был пришвартован плот, и таким образом ему удалось вскарабкаться на спину мертвого чудовища.
Едва только он пристроился на новом месте поудобнее, ему бросили конец каната, и на кашалота взобрался Снежок. Оба моряка пошли к хвосту или, по выражению матроса, на «корму» этого своеобразного «судна».
Здесь, в задней части, возвышалась пирамидальная глыба жира, заметно выдаваясь над хребтом кита. Это был ложный, или жировой, спинной плавник, какой обычно имеется у кашалотов.
Взобравшись на эту выпуклость, моряки сделали привал. То была самая высокая точка на туловище кита; там развевался флаг на тонком древке. Они встали рядом, пристально всматриваясь в залитую солнцем, сверкающую морскую даль.
Глава 59
НА КИТОВОЙ ТУШЕ
Цель их совместной разведки была все та же, что и ранее. Вот они стоят на туше убитого кита. А где те, кто его загарпунили?
Тщательно обследовав горизонт, матрос вернулся к осмотру морского гиганта и обнаружил здесь некоторые ранее не замеченные предметы. Высоко поднятый флаг, известный среди китоловов под названием «веха», оказался не единственным свидетельством того, какой смертью погиб кашалот.
В боку у него торчали два больших гарпуна. Железное острие каждого глубоко вонзилось в жировой пласт животного. Из кожи выступали массивные деревянные рукояти; от них шли в воду лини с привязанными на концах толстыми колодами, которые держались на поверхности воды, как поплавки.
Бен сразу же признал в них буи, какие имеются в снаряжении каждого китобойного судна. Они были ему хорошо известны, и он умел ими пользоваться. В былые времена, прежде чем стать матросом военного флота, он работал гарпунером и знал толк во всем, что связано с профессией китобоя.
— Да, — заключил он, узнав орудия своего прежнего ремесла, — точь-в-точь, как я сказал. В эти воды заходил китобоец и охотился на кашалота… А впрочем, пожалуй, тут я и промахнулся, — заметил он, задумавшись на минутку. — Почем знать, может, здесь и не было никакого судна. Что-то больно не по душе мне эти буи.
— Буи-то? — переспросил Снежок. — Вот эти колоды, что держатся на воде?.. Чем же они вам не нравятся, масса Брас?
— Да если бы не они, я знал бы наверняка, что здесь побывало судно.
— А то как же? Обязательно! — утверждал Снежок. — Иначе откуда бы взялись и флаг и гарпуны?
— Эх! — вздохнул матрос. — Да они могли сюда попасть, хотя бы гарпунеров здесь и близко не было. Ничего-то ты, брат, не смыслишь в том, как ловят китов!
Такая речь привела негра в замешательство.
— Видишь ли, друг, — продолжал матрос, — буи здесь, потому что китиха еще не издохла, когда уходили вельботы. (Бывший китолов, как принято среди его прежних товарищей, говорил о китах всегда в женском роде.) Да, наверно, она была еще жива, — снова продолжал он. — Для того ей и привязали буи, чтобы далеко заплыть не могла. Там, видно, проходило целое стадо кашалотов, а потому матросам с китобойца не стоило время терять, возясь с раненой. Вот они и запустили в нее парочку гарпунов с буями, а в спину ей воткнули веху. Сначала, как я увидел все это, то думал совсем по-другому. Смотри, флаг торчит почти что прямо. А ну-ка, смекни, каким манером китобои могли всадить его так метко с вельбота? Опять-таки, у кого бы хватило духу, пока китиха не издохла, взобраться сюда да поставить флаг?..
— Ваша правда, — прервал Снежок.
— Да нет, — возразил матрос, — то-то и есть, что неправда… Поначалу я и сам так подумывал, а теперь вижу, что маху дал, вот как ты сейчас, Снежок. Погляди: древко от флага на спине у китихи не прямо торчит, а будто немножко накренилось в одну сторону. Это потому, что китиха, издыхая, чуть-чуть на бок повернулась. Что ж, разве трудно хорошему гарпунеру, коли он мастер своего дела, всадить флаг с вельбота? Так оно и было.
— Пусть так, — согласился Снежок. — Какая разница? Кита-то все равно убили.
— Разница большая. В этом все дело.
— Не пойму что-то, масса Брас.
— Сам подумай! Если бы в ту пору, как китиху отравляли на тот свет, за ней охотились с вельботов, — ну, это другое дело! Тогда и китобоец был здесь, покуда шла работа. Значит, он и сейчас где-нибудь неподалеку.
— Что ж, верно, так оно и есть.
— Эх, Снежок, кто теперь знает, где наши китобои? Китиха и с буями могла не одну милю проплыть с того места, где ее загарпунили. Знавал я таких, что по двадцать узлов делали, покуда не окачуривались… А эта старуха была здоровенная — таких крупных я и не видывал. Прежде чем подохнуть, и она, верно, так же далеко заплыла, уж никак не ближе… А тогда вряд ли китобоец нагонит ее, да в нас вместе с ней.
Матрос замолчал и снова вперил взгляд в море. Еще раз он тщательно, испытующе осмотрел горизонт. Потом все с тем же разочарованным видом вновь принялся разглядывать тушу кита.
Глава 60
ДИКОВИННАЯ КУХНЯ
Весь день матрос и бывший кок «Пандоры» вели наблюдение с «вышки» на мертвом кашалоте.
Впрочем, они оставались здесь не только ради этого. И на мачте «Катамарана» можно было бы устроить такой же наблюдательный пункт.
Но многое заставляло их держаться около туши, вместо того чтобы продолжать путь на запад. Больше всего они надеялись на возвращение китобоев, которые убили кашалота, — ведь, наверно, те не бросят такую ценную добычу.
Кроме того, катамаранцы чувствовали себя как-то спокойнее около гиганта-словно стояли на якоре у берегов настоящего острова. Отчасти и это побуждало их продлить стоянку.
Были у них и другие соображения. В общем, им хотелось оставаться здесь на причале еще некоторое время.
В долгие часы бодрствования они внимательно изучали ближайшую обстановку; предметом обсуждения сделалась и китовая туша. Посовещавшись, катамаранцы приняли решение — не покидать морского великана, покуда не удастся хотя бы отчасти использовать на будущее его останки.
Бывший китолов знал: под черной кожей этого кашалота, по которой они так бесстрашно ходят уже двое суток, имеются ценные вещества, которые могли бы им пригодиться, для того чтобы создать известный комфорт на «Катамаране».
Прежде всего толстые пласты жира, который можно выварить или вытопить. Такой крупный кит, как этот, может дать самое малое бочонков сто.
Впрочем, это меньше всего их интересовало. Чтобы вытапливать жир для торговых целей, надо иметь котлы, бочки для его хранения, судно для перевозки, а у них ничего этого не было.
Зато Бен знал, что в черепе кашалота имеются отложения чистого спермацета, который и без всякой обработки может им пригодиться, — об этом они уж позаботятся. Добыть его можно простейшим способом: стоит только вскрыть спермацетовый «мешок», находящийся в огромном черепе кашалота. Там обнаружится выстланная тонкой клетчаткой полость, в которой содержится не менее десяти-двенадцати больших бочек чистого спермацета.
Да им вовсе и не нужно так много. Достаточно двух — трех бочек, чтобы осуществить то, что надумали Снежок с матросом.
Немало натерпелись они без топлива: не так даже важно погреться, как сварить себе пищу. Наконец-то их лишения кончились. Теперь они смогут сделать запас спермацета на много дней: в «мешке» у кашалота его сколько угодно. На плоту же имеется шесть бочек, из них пять пустых. Если наполнить жиром только некоторые из них, то плот нисколько не пострадает: не уменьшится ни его плавучесть, ни мореходные качества.
И Снежок и Бен Брас видели, с каким отвращением Лали ест сырую пищу. Только жестокий голод мог заставить ее проглотить свою порцию. Оба они страдали от этого-им так хотелось раздобыть для нее что-нибудь получше, более подходящее для нежного детского организма.
Итак, задолго до того как наши путешественники задумали покинуть китовую тушу — вернее, сразу же, как только они там устроились, — Бен Брас, Снежок, а также взобравшийся на спину чудовища Вильям вскрыли топором большую полость в «мешке» у кита. Затем они опустили туда большой жестяной котелок, оказавшийся в морском сундучке матроса, и извлекли котелок обратно полным жидкого спермацета.
Котелок отнесли на «Катамаран», и путешественники тотчас же принялись разводить огонь.
Котелок был живо переоборудован в светильню. Рассучив несколько кусков просмоленного каната, наши изобретатели погрузили их в китовый жир — и светильня готова. Оставалось только зажечь фитиль.
Но недаром Бен Брас курил свою трубку без малого тридцать лет: как же ему было не оказаться на должной высоте? В том сундучке, откуда извлекли котелок, нашлись и необходимые принадлежности, чтобы высечь огонь, — трут, кремень, кресало. В водонепроницаемом отделении матросского сундучка трут сохранился совершенно сухим, так что светильню можно было зажечь тотчас же.
И действительно, вскоре огонь весело запылал, и язычки уже лизали края котелка. Над пламенем наши скитальцы успешно зажарили большой ломоть вяленой рыбы.
Сегодня все пообедали на славу: это была самая роскошная трапеза с того момента, как они были вынуждены спасаться с палубы горящей «Пандоры».
Глава 61
СБОРИЩЕ АКУЛ
Спермацет все еще ярко пылал, фитиль не выгорел до конца — и Снежку не хотелось прекращать стряпню. Он задумал зажарить побольше рыбы на ужин. В отличие от своих собратьев по профессии, бывший кок не любил, чтобы драгоценное топливо уходило зря. Как только эта мысль пришла ему на ум, он достал еще ломоть акульего мяса и, как прежде, подвесил его над огнем.
Глядя на его хлопоты, Бен Брас также загорелся блестящей идеей. Ведь вот стряпает же кок ужин заблаговременно. А что, если приготовить еды и на весь следующий день — словом, если заготовить впрок всю сырую провизию, какая только найдется под рукой? Тогда им огонь вообще не потребуется. А кроме того, жареная или хорошенько прокопченная в огне и дыме провизия куда лучше сохранится, чем сырая. В самом деле, любая рыба, консервированная таким образом — будь то сельдь, морская щука, треска, скумбрия, — может лежать месяцами и не испортится. Что и говорить, мысль превосходная! Как только Бен Брас поделился ею с остальными, тут же было решено привести ее в исполнение.
Нечего было опасаться нехватки топлива. Бен утверждал, что в «мешке» очень крупного кашалота-как раз такого, как их кит, — нередко содержится до пятисот галлонов жидкого спермацета. Кроме того, к их услугам было огромное количество китового мяса и целые горы жира. Да еще немало и других горючих веществ имеется в туше кашалота.
Словом, нежданно-негаданно команда «Катамарана» получила в свое распоряжение такой громадный запас топлива, что его хватило бы на целый год поддерживать пылающий костер.
А раз горючего имелось в изобилии, можно было поставить стряпню на широкую ногу. Беда только в том, что провизии было маловато. Их серьезно беспокоила мысль о том, что в «кладовой» припасов осталось совсем мало.
Пока Бен Брас и Снежок стояли и раздумывали, тихо жалуясь друг другу, как помочь горю, в уме у моряка мелькнула новая мысль.
— Гляди-ка, друг! — воскликнул он. — Да ведь нам ничего не стоит доверху набить кладовку! Здесь столько мяса, что тебе его не перестряпать до седых волос!
С этими словами матрос указал на воду.
Все поняли, что он имел в виду. Десятки синих и белых акул сновали вокруг туши кашалота со своей свитой «лоцманов» и прилипал. Море буквально кишело ими. На сотни саженей в окружности вряд ли можно было найти клочок морского пространства в пять квадратных метров, где не торчали бы из воды острия их жестких, зловеще выглядевших плавников.
Все эти морские хищники собрались у мертвой туши кашалота, вопреки их обычным повадкам. Они отнюдь не готовились к нападению: особое устройство пасти не позволяет акуле пожирать тушу большого кита. Несомненно, они следовали по пятам за охотниками в тот момент, когда кашалота загарпунили, и теперь оставались около забитого кита; инстинкт подсказывал им, что китобои, возвратясь, займутся разделкой, бросая им время от времени порядочные куски мяса.
— Эге! — воскликнул матрос. — Они как будто изрядно проголодались и накинутся на любую приманку. Стоит только захотеть — и мы наловим их, сколько душе угодно!
— А крючки для акул, масса Брас? Где мы их достанем на «Катамаране»?
— Да ты, братец, не беспокойся, — уверенно сказал матрос. — Ну и черт с ними, с крючками! Взгляни, вон там есть нечто поважнее твоих крючков. Акулы сейчас смирнехонькие, словно черепаха, если перевернешь ее на спину. Они всегда такие, как соберутся около мертвого кашалота… Видишь вон те штуки, что торчат в боку у кита? Да если я с ними не добуду парочку, другую акул, скажешь, что я в жизнь свою гарпуна в руки не брал! Бросай свою кухню, Снежок, живо! Иди помогай! Вот поймаем и разделаем несколько акул, тогда сможешь опять за дело приниматься. Закатим такую стряпню, что чертям тошно станет! А сейчас скорей, дружище, поторапливайся!
С этими словами Бен стал карабкаться на тушу.
Снежок понял, что его старый приятель задумал разумное дело. Он отложил кусок рыбы, который держал над огнем, и последовал за матросом на крутой бок кашалота.
Глава 62
ОПАСНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Бен захватил топор и, подойдя к одному из гарпунов, все еще торчащих в туловище кита, стал вырезать его.
В несколько минут он вырубил целую полость вокруг гарпуна и все углублял ее, до тех пор пока почти не обнажилось зазубренное острие.
Тут Снежок в нетерпении ухватился за крепкую деревянную рукоять и, дернув со всей своей геркулесовой силой, вырвал гарпун, застрявший в мягком жировом пласте.
К несчастью, стремясь высвободить гарпун, Снежок не рассчитал своих усилий.
После нескольких безуспешных попыток неожиданно для него гарпун легко поддался. Размахнувшись слишком сильно, негр потерял равновесие и поскользнулся. Осклизлая кожа кашалота словно убежала у него из-под ног, и он покатился вниз с таким шумом, будто шлепнулся на подтаявший лед.
Как ни досадна казалась неудача, все-таки это было еще не самое худшее. Разве падение так напугало негра, что он в страшнейшей тревоге громко закричал? И недаром — ему грозила сейчас куда более страшная опасность.
Туша лежала так, что вокруг гарпуна на боку у кита оставалось большое пространство — крутой наклон, заканчивающийся обрывом прямо к воде. Огромный бок кашалота, сочащийся маслянистой жидкостью, лоснился, как зеркало. С этой кручи и упал Снежок.
Падение было так стремительно, что негр не мог ни остаться лежать там, где поскользнулся, ни встать на ноги: он по инерции покатился в воду.
Силы небесные, что-то будет с ним теперь?! Там, внизу, уже поджидали десятки акул: разинув голодные пасти, они глядели на него горящими алчностью глазами. Заметив, что на кита взобрались два человека и один из них работает топором, все акулы бросились на эту сторону, решив, что начинается разделка туши.
Ничтожная случайность спасла Снежка от страшной участи — иначе чудовища сожрали бы его живьем. Падая, он крепко ухватился за гарпун; выпусти он его из рук — пришлось бы негру проститься с жизнью.
К счастью, у него достало присутствия духа крепко цепляться за гарпун; а возможно, он проделал это машинально. Как бы то ни было — гарпун он удержал. Посчастливилось ему также, что катился он не в сторону, где плавали буи, а в противоположную.
И то и другое оказалось для него спасением.
На полпути к воде падение внезапно задержалось, или, вернее, замедлилось, опять-таки только благодаря счастливой случайности: натянулся линь, привязанный к рукоятке гарпуна. Скатываясь, негр размотал канат с одной стороны до самого конца; другой конец оставался прикрепленным к бую, плававшему на воде по другую сторону китовой туши.
Но как ни велика была тяжесть буя, который, волочась по воде, служил противовесом падавшему негру, все же ее было недостаточно, чтобы удержать могучее тело Снежка. Правда, он стал катиться медленнее, но в конце концов все-таки упал бы в море и тотчас же очутился бы в желудках у акул. Но тут к нему подоспел на выручку Бен Брас. И как раз вовремя!
В ту минуту, когда Снежок уже почти касался пятками воды — до нее оставалось не более шести дюймов, — матрос успел ухватиться за линь и остановить падение.
Но только это и смог Бен Брас! Вскоре обнаружилось, что он не может втащить негра наверх. Сил его хватило ровно настолько, чтобы с помощью тяжелого буя удерживать кока на весу, когда удалось приостановить падение. Снежок повис между жизнью и смертью, цепляясь за скользкую кожу кашалота буквально зубами и ногтями.
Негр понимал, что положение его опасное, более того: почти безнадежное! Снизу ясно доносился шум — это плавали в воде акулы. Негр тревожно глянул туда-и замер в испуге: он увидел острия черных треугольных плавников и огромный светящиеся глаза, зловеще вращающиеся в глубоких глазницах. При этом зрелище дрогнуло бы самое стойкое сердце. И Снежок ужаснулся до глубины души.
— Держите, масса Бен! — невольно вскричал он. — Держите крепче, бога ради! Ни чуточки ниже, не то проклятые бестии слопают меня с потрохами!.. Ради всех святых, покрепче!
Но излишня была эта страстная мольба. И без того Бен напрягал все свои силы, удерживая канат. Сильнее тянуть он не мог: не смел даже переменить позу, чуть сдвинуть руку. Малейшее движение грозило гибелью его чернокожему другу.
Стоило только линю ослабнуть, опуститься чуть ниже — и Снежок останется безногим калекой; ведь и так уже его пятки болтаются в нескольких дюймах от поверхности воды, чуть ли не у самых акульих морд.
Быть может, за весь свой богатый приключениями жизненный путь негр не висел так низко над бездной. Достаточно ничтожной случайности, чтобы нарушить равновесие, — и он неминуемо попадет в лапы смерти!
Вряд ли можно усомниться в том, чем кончилось бы это трагическое происшествие, если бы матрос и кок были предоставлены только самим себе. С каждым мгновением истощались силы матроса, а тело негра становилось все тяжелее: слабея, он уже с трудом цеплялся за скользкую кожу кита.
Помощи, казалось, ждать было неоткуда — конец очевиден… Снежку придется, выражаясь фигурально, «отправиться к праотцам».
Но час негра еще не пробил. И это он понял, когда вдруг чьи-то юношеские, но сильные руки ухватились рядом с ним за линь. То были руки «малыша Вильма».
С самого момента, когда Снежок поскользнулся и упал, юнга понял всю опасность, грозившую его другу, и, стремительно вскарабкавшись наверх по плавнику кита, поспешил на помощь Бену.
Схватись он за линь секундой позже — все было бы кончено.
Но он подоспел вовремя — висевший над бездной Снежок был спасен. Матрос и Вильям общими усилиями медленно, но верно тащили негра вверх по скользкому наклону и опустили на широкую горизонтальную «площадку» у самой вершины этой горы из костей и жира.
Глава 63
УМЕЛО БРОШЕННЫЙ ГАРПУН
Прошло некоторое время, пока Снежок перевел дух и к нему вернулось обычное спокойствие. Матрос также совершенно задохнулся. И они долго не могли приступить к выполнению плана, который привел их на спину кита.
Едва Снежок оправился настолько, что смог заговорить, он горячо поблагодарил сначала Бена, который спас его от гибели, более страшной, чем смерть в волнах океана, а потом и Вильяма.
Но Бен глядел не на старого друга, спасенного от смерти, а на молодого, который помог избавить Снежка от нее.
Он смотрел на юношу глазами, в которых читалась живейшая радость.
Проворство и отвага, которые обнаружил его любимец во время этого происшествия, несказанно радовали Бена Браса.
Пожалуй, не один сверстник Вильяма или даже постарше его, вместо того чтобы, подобно нашему юнге, поспешить на помощь, остался бы на плоту, остолбенев от испуга, или же, в лучшем случае, из сочувствия поднял бы бесполезный крик, разразился воплями… Так думал Бен Брас.
Опасаясь испортить Вильяма высказанной вслух похвалой, Бен промолчал.
Но по выражению его взгляда, обращенного на юношу, видно было, что сердце честного моряка полно гордости и любви к юнге, к которому он давно уже питал почти отеческую привязанность.
Коротко поздравив друг друга с благополучным избавлением, как это обычно делается после пережитой опасности, все трое снова принялись за столь неожиданно прерванные занятия.
Вильям заменил Снежка, занимавшегося нехитрой стряпней, которую тому пришлось внезапно оставить по приказу «капитана».
Юнга вернулся на плот, будто бы заняться поджариванием рыбы. На самом деле ему больше всего хотелось успокоить Лали, которая все еще тревожилась, не зная толком, чем кончилось происшествие.
Бен отдышался и, как только пришел в себя, сразу же принялся за осуществление той задачи, ради которой вскарабкался на спину кашалота.
Взяв гарпун у негра, все еще крепко державшего его, словно страшась выпустить из рук, матрос стал втаскивать буй наверх.
С помощью Снежка ему вскоре удалось извлечь буй из воды и поднять на горизонтальную «площадку», где они находились.
Колода пока не требовалась — нужен был только линь, поэтому его отвязали и оставили буй лежать.
Вооружившись гарпуном, бывший китолов встал на свой наблюдательный пост; но на этот раз он искал уже не землю, а обозревал море вокруг.
Целое сборище акул расположилось около мертвого кита. Особенно много их было там, где только что Снежок чуть не угодил им в пасть.
Некоторые, явно разочаровавшись, бросились врассыпную. Но большинство осталось на месте, все еще дожидаясь, не удастся ли вернуть роскошное пиршество, которое только поманило их.
Бен намеревался загарпунить с полдюжины этих безобразных морских чудищ, чтобы их мясом пополнить запасы на «Катамаране». Как ни омерзительно выглядят эти твари и какое отвращение они нам ни внушают, однако мясо многих из них превосходно, особенно некоторые лакомые кусочки. Оно могло бы украсить стол любого гастронома, не говоря уже об изголодавшихся скитальцах.
Убить нескольких акул, тех самых, которые еще так недавно едва не проглотили Снежка, большой трудности не представляло. Для этого гарпунеру нужно было, чтобы они подплыли поближе. Но кожа кита была слишком скользкой, и матрос не отважился спуститься по этой опасной крутизне. Поэтому он решил попытать счастья в другом месте.
Дальше, по направлению к хвосту кашалота, спуск постепенно становился менее крутым и кончался отлого у самой воды. Там, почти на поверхности моря, лежали две большие, едва прикрытые водой хвостовые лопасти, раскинувшись на много ярдов в разные стороны.
Около хвоста кашалота носились несколько акул. Если посчастливится и они подплывут поближе, тогда можно будет бросить гарпун. Если же нет, гарпунер сумеет их приманить и пустить в ход свое оружие.
Бен велел Снежку принести несколько кусков жира, вырезанных из туши кита вместе с гарпуном, а сам пошел к хвосту. Он то и дело останавливался и острием гарпуна протыкал множество отверстий в ноздреватой коже кита, чтобы и он сам и его спутник, идущий вслед, получили более надежную точку опоры.
Облюбовав себе место у самой развилины хвостового плавника, он особенно тщательно проделал еще три отверстия. Наконец, приготовив все как следует, матрос встал и, нацелив гарпун, стал поджидать акул. Те как будто сначала не решались. Но бывший китобой знал, как этому помочь, — стоит только швырнуть вводу кусок жира, который Снежок держит в руках, и, едва раздастся всплеск, десятки акул, широко разинув пасти, ринутся схватить его.
Все пошло, как по-писаному.
Едва только бросили кусок в море, как можно ближе к китовой туше, — не менее двадцати акул накинулось на угощение. Но — увы! — не все вернулись обратно. Одной из них, пронзенной гарпуном Бена Браса, пришлось проститься с родной стихией. Ее извлекли из воды и втащили по скользкому наклону на самый верх кашалотовой туши.
Там, как акула ни билась, как отчаянно ни рассекала воздух страшными ударами задних плавников, негр живо расправился с ней топором, призвав на помощь всю свою силу и ловкость.
Еще одну акулу «подцепили» и отправили на тот свет тем же способом; за ней другую, третью… и так до тех пор, пока Бен Брас не нашел, что запасов акульего мяса на «Катамаране» хватит на самое длительное путешествие.
Что бы ни случилось, теперь они надолго обеспечены пищей, так же как и водой.
Глава 64
ИЗОБИЛЬНЫЕ ВОДЫ
Лучшие куски акульего мяса, снятые с костей и нарезанные тоненькими ломтиками, коптились и жарились на спермацетовой светильне.
В «мешке» у кашалота горючего было столько, что при желании можно было бы зажарить всех акул на десять миль в окрестности; а ведь их там плавала не одна сотня. Действительно, эта зона океана, где был найден мертвый кашалот, хоть и очень удалена от суши, тем не менее изобилует фауной во все времена года. Иногда на целые мили кругом море кишит рыбами разных видов, а воздух полон птицами. В этих водах встречаются большие стада кашалотов. Они греются на солнышке, время от времени выпуская из своих дыхал фонтаны воды и пара, или медленно плывут вперед, изредка неуклюже кувыркаясь. На их месте появляются стаи дельфинов, альбакоров, тунцов и других обитателей морских глубин — все они в погоне за своей излюбленной добычей. Тут же, хотя в меньшем количестве, охотятся и акула и меч-рыба, сопровождаемые своими «лоцманами» и прилипалами, морских чудищ привлекает обилие тех тварей, которыми они питаются. На солнце сверкают стайки летучих рыбок, в волнах плещутся, всегда настороже, тунцы, а над ними вверху, в небе, тучами носятся, буквально затемняя солнечный свет, пернатые хищники: чайки, глупыши всевозможного оперения, тропические птицы, фрегаты, альбатросы и десятки других птичьих пород, еще мало известных и не описанных натуралистами.
Правда, эти большие океанские просторы не всюду заселены так густо: иногда на обширных пространствах редко-редко попадется какая-нибудь птица или рыба. Судно идет день за днем и ночь за ночью, не встречая на своем пути ни единого живого существа. Можно проплыть сотни миль, и глаз не порадуется жизни ни в воде, ни в воздухе.
Это настоящие пустыни океана; так же как и на материке, пустыни эти кажутся не только необитаемыми, но и вообще неприспособленными для жизни.
Чем же объясняется такая разница, если море, по-видимому, везде одинаково?
Те водные пространства, где жизнь бьет ключом, отличаются различной глубиной: иной раз это всего несколько морских саженей, иногда же бездонная пучина. Подлинное объяснение иное. Ключ к решению этой задачи кроется не в глубине океана, а в направлении морских течений.
Всякому известно, что океаны пересекаются течениями; иногда они тянутся на сотни миль в ширину, а иной раз суживаются до нескольких узлов. Эти океанские течения постоянны, хотя определить их точные границы нелегко. Причиной их служат вовсе не временные штормы, а ветры, дующие постоянно в одном и том же направлении. Таковы пассаты в Атлантическом и Тихом океанах, муссоны в Индийском океане, памперосы в Южной Америке и норды в Мексиканском заливе.
Есть и другая причина, оказывающая, быть может, гораздо более сильное влияние, чем ветры (впрочем, она обычно меньше принимается в расчет): это — вращение Земли вокруг своей оси. Несомненно, именно поэтому пассаты дуют на запад; здесь сказываются центробежные силы земной атмосферы. Если это было бы не так и ветры дули бы на север и на юг, то они сталкивались бы на экваторе.
Но я вовсе не собираюсь писать диссертацию на тему о ветрах или океанских течениях — я ведь не ученый. И все-таки мне известно, что в этой области господствуют величайшие заблуждения, точно так же, как по вопросу о приливах и отливах. Ведь метеорологи до сих пор не уделяли должного внимания вращению нашей планеты, которое является истинной и главной причиной этих явлений.
Я коснулся этой темы не потому, что наша книжка специально посвящена океану. Дело в том, что морские течения играют большую роль в этой книге. И на ее страницах я пытаюсь объяснить загадочное явление: почему некоторые зоны океана так богаты жизнью, в то время как другие мертвы и пустынны. Причиной тому морские течения. Там, где сталкиваются встречные течения, как бывает нередко, они обычно приносят с собой множество органических веществ, растительных и животных остатков, которые либо задерживаются, либо вовлекаются в большие океанские водовороты. Это — морские водоросли с дальних берегов, выброшенные бурей и затерявшиеся и океане, птицы, упавшие в море мертвыми во время перелета, или же их помет, плавающий на поверхности воды; рыбы, погибшие от мора, естественной или насильственной смертью — ведь и «рыбье племя» подвержено общему закону природы, закону упадка и гибели, — все эти органические вещества носятся по воле течений, скопляются на нейтральной «почве» и служат пищей мириадам живых существ, многие из которых едва ли стоят на более высокой ступени эволюции, чем те, чьи останки они поглощают.
На этих водных пространствах кишат в несметном количестве плавающие в верхних слоях воды беспозвоночные улитки — янтипа, атланта; разнообразные крылоногие моллюски, сифонофоны, которых называют парусными медузами, головоногие моллюски, а также мириады медуз.
Таковы эти зоны океана, которые моряки зовут «изобильные воды». Здесь находят излюбленный приют и киты со своими неизменными спутниками, служащими им пищей, и акулы, и дельфины, и меч-рыбы, и летучие рыбки, и прочие существа, живущие в океане. А высоко над морем, в воздухе, парит множество пернатых — это либо враги обитателей морских глубин, либо их помощники, образующие вместе с ними единую цепь взаимного уничтожения.
Глава 65
КИТ В ОГНЕ
Быть может, нас также слишком «отнесло вдаль» морскими течениями. Прекратим это затянувшееся отступление и возвратимся к нашим скитальцам, затерянным в океане. Мы оставили их, когда они готовились жарить акул — да не отдельными кусками, а целыми тушами, как если бы собирались угостить рыбным обедом команду большого фрегата.
Как известно, топлива было достаточно. Но без фитилей нелегко разжечь спермацет и поддерживать огонь. Впрочем, изготовить фитиль не составит затруднений: достаточно старого каната, подобранного среди обломков «Пандоры» и припрятанного на всякий случай. Стоит только расщипать его — и из просмоленных волокон получится отличный фитиль, который долго будет гореть в светильне. Их тревожило другое: не было очага для варки пищи. Маленький жестяной котелок, в котором наши скитальцы готовили накануне свое единственное блюдо, не годится для грандиозного пиршества, затеваемого ими сейчас. В крайнем случае, конечно, можно пустить в ход и его, но тогда потребуется много времени и терпения. А время слишком дорого, чтобы тратить его попусту; что же до терпения, то вряд ли можно ожидать его в подобных условиях.
Конечно, очаг им крайне необходим. Но на «Катамаране» нет ничего, что могло бы его заменить. А если развести на плоту такой огонь, какой им хочется, без настоящего очага, это далеко небезопасно, и все может окончиться большим пожаром.
Эта мысль не приходила им на ум до тех пор, пока они не наготовили для обжарки бифштексов из акульего мяса.
Теперь они серьезно призадумались, но выхода из положения, по-видимому, не находилось.
Что делать, как соорудить кухонную плиту?
Снежок вздохнул при мысли о своем камбузе с целым арсеналом горшков и сковородок; особенно вспоминался ему громадный медный котел, в котором он, бывало, наваривал целые горы мяса, море разливанное горохового супа.
Но не таков был Снежок, чтобы предаваться праздным сожалениям, по крайней мере, надолго. Правда, приверженцы «науки» и пустые болтуны пытаются утверждать, что его расе присуще отсутствие высокого интеллекта, хотя сами они куда бездарнее представителей этой расы. Снежок же был одарен редкой изобретательностью, особенно во всем, что касалось кухни и кулинарного искусства. Не прошло и десяти минут, как возник вопрос о печи, а негр уже предложил свой план, который мог бы конкурировать с любым из патентов, столь широковещательно разрекламированных торговцами скобяным товаром, но при первой же проверке далеко не оправдывающих ожиданий. Этот план оказался подходящим для обстановки, в которой находился изобретатель, и, по-видимому, в данных условиях это был единственно возможный проект.
Не в пример другим изобретателям, Снежок тотчас же объявил свою идею во всеуслышание.
— А зачем это нам? — воскликнул он, как только его осенила догадка.
— К чему нам котел?
— Да ведь иначе нельзя, Снежок, — отозвался матрос, выжидающе глядя на собеседника.
— Отчего бы не развести огонь здесь?
Беседа происходила на спине у кита, на том месте, где убивали акул и разрубали их на части.
— Здесь? — все еще недоумевая, повторил матрос. — Да что толку разводить огонь, раз у нас все равно нет посуды: ни котла, ни сковороды…
— Да ну ее совсем, эту посуду, обойдемся и без нее! — ответил бывший повар. — Погодите, масса Брас, вот я покажу вам, как смастерить такой котел, что чудо! Туда можно будет собрать весь жир из туши нашего старичины-кашалота, как вы его зовете.
— Ну-ка, друг, расскажи в чем дело.
— Сейчас. Давайте сюда топор, и я вам все покажу.
Бен дал Снежку топор, и негр выполнил свое обещание. Он энергично принялся за работу над тушей и несколькими ударами хорошо отточенного инструмента прорубил в жировом слое большую полость.
— Ну, масса Брас, — воскликнул он, кончив работу и торжествующе, с видом победителя, размахивая топором, — что вы на это скажете?! Вот вам жаровня! Разве не войдет туда весь жир, столько, сколько нам вздумается? Как прикажете рыть яму — шире, глубже, как вам угодно? Хотите — живо сделаю глубокую, как колодец, и широкую, как колея от фургона? Ну что, масса Брас?
— Браво, молодец, Снежок! У тебя, дружище, мозги здорово работают, что там ни толкуй о вашем брате эти горе-философы! Я вот белый, а мне в жизни такая выдумка на ум не взбредет. Лучшего очага нам и не требуется. Живо лей сюда спермацет, бросай паклю и поджигай! И сразу же давай стряпать.
Яма, прорубленная Снежком в кашалотовой туше, тотчас же была наполнена жиром из спермацетового «мешка».
Затем они набросали туда паклю, полученную из рассученного каната.
Сверху, над ямой, путешественники устроили специальное приспособление, напоминающее колодезный журавль. С одной стороны подставили гандшпуг, с другой— весло. Сам «журавль» был сделан из длинной железной стрелы гарпуна, найденного в туше кашалота.
На него, как на вертел, плотно нанизали ломти акульего мяса.
Когда все было налажено, снизу подняли наверх светильню, и фитиль был зажжен.
Просмоленная пакля вспыхнула моментально, словно трут. Вскоре над спиной у кашалота на несколько футов вверх взвилось яркое пламя. Бифштексы аппетитно шипели и румянились над огнем, обещая в недалеком будущем поджариться в самую меру.
Посторонний зритель, наблюдая пламя издали, с моря, и не разобравшись в чем дело, мог бы подумать, что кашалот в огне.
Глава 66
БОЛЬШОЙ ПЛОТ
В то время как все птицы и рыбы в океане дивились такому невиданному зрелищу-пылающему костру на спине у кашалота — милях в двадцати отсюда им бы представилась совсем иная картина.
Если сценка, разыгравшаяся на кашалоте, носила скорее комический характер, то здесь происходила подлинная трагедия, трагедия жизни и смерти.
Эстрадой для нее служила площадка, грубо сколоченная из досок и корабельных брусьев, — короче говоря, плот. Действующие лица были мужчины — только мужчины. Правда, чтобы признать их человеческими существами, требовалось известное усилие воображения, да еще знакомство с теми обстоятельствами, которые привели их сюда. Человек посторонний, помня, какими они были ранее, или взглянув на верно изображавшие их портреты, пожалуй, усомнился бы в том, что это люди. Да и как можно было бы его порицать за подобную ошибку!
Если эти странные существа, скорее скелеты, чем живые люди, до некоторой степени еще походили на людей, то по духовному облику они были сущими дьяволами. Был здесь среди них даже и не труп, а голый остов, с которого начисто ободрали мясо. Окровавленные кости с сохранившимися на них кое-где кусочками хряща свидетельствовали, что труп был освежеван совсем недавно. Впрочем, скелет был неполный — некоторых костей не хватало, кое-какие из них валялись тут же рядом, на бревнах, а иные приходилось искать в таких местах, что при одном взгляде волосы вставали дыбом.
Самый плот представлял продолговатую площадку, футов двадцати в длину и пятнадцати в ширину. Он был сколочен из обломков мачт и бревен. Сверху устроен неровный помост из досок, кусков фальшборта, крышек от люков, каютных дверей, сорванных с петель, планок от ящиков с чаем, клеток и прочего корабельного имущества. На плоту стояла огромная бочка и два-три небольших бочонка. По краям привязано было несколько пустых бочонков, служивших поплавками, чтобы плот устойчивее держался на воде. В центре возвышалась одинокая мачта, где небрежно был укреплен большой треугольный парус-не то контрбизань, не то крюйс-брамсель.
У степса[209] мачты валялось множество разных предметов: весла, гандшпуги, выломанные доски, спутанные обрывки троса, два топора, с полдюжины котелков и чарочек, какие обычно в ходу у моряков, множество начисто обглоданных позвонков акул и… две-три кости совсем иного рода, подобные тем, о которых мы уже упоминали. Их форма и размеры не оставляли места сомнениям: то были берцовые кости человека.
Среди всего этого разнородного хлама находились человек двадцать-тридцать. Одни из них сидели или стояли, другие лежали, растянувшись во весь рост, или бродили, пошатываясь, — то ли под влиянием винных паров, то ли потому, что от слабости на ногах не держались. Отнюдь не качка была виной их странной походки. Океан был совершенно спокойным, и грубо сколоченный плот лежал на воде неподвижно, как колода.
Стоило только посмотреть на подножие мачты, чтобы понять в чем дело: там стоял небольшой бочонок, издававший сильный запах рома.
Эти живые трупы, едва державшиеся на ногах, были пьяны.
Но царило здесь не шумное возбуждение, говорившее о недавних излишествах, а скорее сменивший их нервный упадок сил.
На плоту раздавались не шутливые выкрики захмелевших собутыльников, но бред и хихикание сумасшедших. И не мудрено: ведь некоторые из них обезумели, допившись до белой горячки.
Но бочонок с ромом опустел, и на плоту не осталось больше ни капли дьявольского зелья.
Никто не обращал внимания на сумасшедших. Они свободно шатались повсюду, что-то бессвязно бормоча; их речь, обильно уснащенная проклятиями и богохульствами, изредка прерывалась воплями, взрывами дикого хохота.
Только в тех случаях, когда они нарушали покой кого-нибудь менее «экзальтированного» или когда двое из них случайно зaтeвaли ссору, разыгрывалась дикая сцена, в которой принимали участие все. Кончалось обычно тем, что одного из драчунов сбрасывали в море и заставляли поплавать, покуда ему не удавалось вскарабкаться обратно на утлый плот. Впрочем, сброшенный в море никогда не оставался за бортом. Как бы пьян он ни был, все же инстинкты не настолько отупели в нем, чтобы заставить забыть о самосохранении. В дико блуждавшем взгляде еще теплилась искорка разума, подсказывавшего, что черные треугольники, которые десятками мелькают вокруг плота, стремительно и круто рассекая волны, — это спинные плавники страшных акул. Достаточно было увидеть хотя бы одну из них, чтобы привычный ужас оледенил каждого матроса, даже мертвецки пьяного.
Этот «душ», сопряженный с испугом, как правило, приводил безумствующего в сознание. Во всяком случае, на плоту водворялось спокойствие, до тех пор пока вскоре не затевалась новая, еще более безобразная драка.
* * *
Так как большой плот, где находился экипаж сгоревшего судна, давно уже скрылся из виду, то читатель мог и позабыть о нем. Однако ни плот, ни его команда не погибли. Уцелели, правда, не все, но большинство еще оставалось в живых, и это были наиболее сильные, энергичные и злобные люди.
Недоставало почти двадцати человек. Мы уже знаем, почему не было капитана и его пяти спутников, бежавших на гичке. Понятно также отсутствие бывшего кока, английского матроса и юнги, а также крошки Лали.
Но среди людей, толпившихся на нескладном плоту, не хватало примерно шести, а может быть, и больше человек. Их отсутствие могло показаться загадочным не посвященному во все подробности этого злополучного рейса. Правда, обглоданный скелет и разбросанные повсюду человеческие кости могли бы порассказать кое-что об исчезнувших, по крайней мере тому, кто знает, до каких крайностей может довести свои жертвы голод.
Пусть же те, кого судьба хранила от подобных испытаний, прислушаются к разговорам на плоту в этот самый момент, когда мы хотим снова продолжать историю экипажа «Пандоры». Наше правдивое повествование объяснит ему, почему из тридцати с лишним матросов, первоначально составлявших команду, на плоту осталось всего двадцать шесть человек да обглоданный скелет.
Глава 67
КОМАНДА ЛЮДОЕДОВ
— Ну! — вскричал чернобородый человек, в чьем истощенном облике нелегко было признать некогда тучного бандита с невольничьего корабля, француза Легро. — Пора опять попытать счастья. Черт побери!.. Надо поесть, не то мы умрем!
А что эти люди собираются есть?
На плоту решительно не было ничего съестного, ни кусочка мяса. И так все время, начиная с того дня, как плот отошел от горящего судна. Небольшой ящик с морскими сухарями — вот и все, что матросы впопыхах успели захватить с палубы «Пандоры».
Каждому на долю досталось по два сухаря; нечего и говорить, что они исчезли в течение одного дня. Правда, моряки взяли с судна вдоволь воды да еще запаслись ею во время ливня, который пришел на помощь Бену Брасу и Вильяму. Пока шел дождь, матросы на большом плоту тоже наполнили водой свои рубашки и разостланный парус.
Но теперь и эти запасы драгоценной влаги подходили к концу. В бочке оставалось всего по одной-две порции.
Но как ни мучила людей жажда, голод терзал их еще сильнее.
Что имел в виду Легро, когда сказал: «Надо поесть»? Разве здесь, на плоту, была какая-нибудь пища, которая помогла бы им избежать этого страшного выбора — «поесть или умереть»? И почему они до сих пор еще живы? Ведь уже много дней прошло с момента, как они проглотили последнюю крошку морского сухаря, так скупо поделенного между всеми!
На все эти вопросы можно дать только один ответ. Страшно сказать его вслух, жутко даже подумать о нем!
О, этот начисто обглоданный скелет там, на плоту, явно принадлежащий человеку, эти кости, разбросанные повсюду, некоторые видишь даже в руках у матросов, расправляющихся с ними самым омерзительным образом!.. Разве можно еще усомниться в том, чем питаются эти изголодавшиеся изверги!..
Да, именно это и еще мясо небольшой акулы, которую им удалось подманить и убить гандшпугом, — вот и все, что служило им пищей с того момента, как они покинули «Пандору». А между тем море кругом кишело акулами. Самое малое
— десятка два их рыскали в волнах, в поле зрения людей на плоту. Но — смешно сказать! — так пугливы были эти чудовища, что не представлялось случая поймать их: ни одна не решалась подплыть поближе. Любые ухищрения не имели успеха. Напрасно те из моряков, кто потрезвее, по целым дням занимались ловлей. Вот и сейчас некоторые возились с рыболовными снастями: охотились на этих свирепых тварей, забрасывая далеко в воду крючки с приманкой из… человеческого мяса!
Все это они проделывали чисто автоматически, давно убедившись в неосуществимости подобных замыслов и все же упорствуя в своем отчаянии. Акулы держались настороже. Может быть, их страшила участь товарки, которая осмелилась подплыть слишком близко к этому диковинному суденышку, а может, тайный инстинкт подсказывал им, что рано или поздно они сами всласть полакомятся теми, кто сейчас так жаждет поживиться ими.
Так или иначе, акулы не шли на приманку. И тогда голодающие матросы стали пожирать друг друга волчьими взглядами. Мысли этих людей вновь обратились к чудовищному решению, которое должно было спасти их от голодной смерти.
И здесь, на плoту, так же как на палубе невольничьего судна, Легро все еще сохранял какую-то роковую власть над матросами. Бена Браса больше не было-и некому было противиться его деспотическим наклонностям.
Теперь Легро стал своего рода диктатором над товарищами по несчастью, над этими живыми трупами.
Все это время он в своих поступках руководствовался не столько честностью, сколько необходимостью удерживать подчиненных в повиновении, не давая вспыхнуть открытому мятежу. Поэтому при его правлении, хотя голодали все, больше всего страдали слабейшие.
Вместе с ним делили власть несколько самых сильных моряков: они составили личную охрану этого негодяя, готовые в трудный момент встать за него горой. За это они получали большие порции воды и лучшие куски омерзительной пищи.
Такая несправедливость не раз приводила к жестоким дракам, которые едва не кончались кровопролитием.
И если бы не эти редкие взрывы протеста, Легро со своей кликой установили бы деспотический режим, который дал бы им власть над жизнью слабейших.
Дело к тому и клонилось. На плоту создавалась абсолютная монархия — монархия людоедов, где королем должен был стать сам Легро. Однако до этого еще не дошло — по крайней мере, сейчас, когда возник вопрос о жизни и смерти. Как только появилась необходимость избрать новую жертву для чудовищного, но неизбежного заклания, эти несчастные выказали себя в какой-то степени республиканцами: они потребовали кинуть жребий, что было самым беспристрастным решением.
В момент, когда дело идет о жизни и смерти, люди обычно превозмогают свою неохоту к жеребьевке и признают ее орудием справедливости.
Конечно, Легро со своими жестокими телохранителями воспротивились бы этому, если бы чувствовали себя достаточно сильными, — точно так же, как противятся баллотировке другие могущественные и столь же свирепые политики,
— но бандит сомневался в прочности своей власти. Еще в самом начале плавания Легро и его клика со зверской жестокостью предложили на съедение голодающим юнгу Вильяма, что было встречено окружающими довольно благосклонно. Если бы не нашелся на плоту один честный малый — английский матрос, — юноша, наверно, первым сделался бы жертвой этих чудовищ в человеческом образе. Но поскольку выбор должен был пасть на кого-либо из их среды — о, тогда совсем другое дело! У каждого нашлись свои приятели, которые ни за что не допустили бы такого жестокого произвола. А Легро больше всего боялся общей свалки, в которой мог поплатиться жизнью не только любой другой матрос, но и он сам. Еще не настал момент для чрезвычайных мер. И всякий раз, когда перед моряками вставал вопрос: «Кто следующий?» — приходилось прибегать к жребию.
Вопрос этот поднимался сейчас снова, уже во второй раз. Поставил его сам Легро, выступив в качестве оратора.
Никто не ответил согласием, но никто и не возражал, даже знака не подал. Наоборот, казалось, предложение было встречено молчаливым, но безрадостным согласием, хотя все понимали его чудовищность и прекрасно отдавали себе отчет в жестоких последствиях.
Им было известно, откуда ждать ответа. Уже дважды обращались они к этому страшному оракулу, чье слово должно было прозвучать смертным приговором одному из них. Дважды признали они волю рока и безропотно подчинились ей. Предварительных приготовлений не требовалось-обо всем уже давно договорились. Оставалось только бросить жребий.
Когда Легро задал свой вопрос, на плоту началось движение. Можно было подумать, что слова его выведут матросов из апатии, но этого не случилось. Лишь некоторые обнаружили признаки испуга: у них побледнели лица и губы сделались белыми. Большая часть команды так отупела от страданий, что до них уже не доходил весь ужас происходящего и жизнь стала им не мила.
Впрочем, те, кто еще держался на ногах, поднялись с мест и окружили человека, бросившего им вызов.
В силу общего молчаливого согласия Легро выступал распорядителем. Он должен был метать банк в этой страшной игре жизни и смерти, где и сам принимал участие. Два-три его соучастника встали рядом, готовясь помогать ему, словно выполняя роль крупье[210]. Какой бы важной и торжественной ни представлялась жеребьевка, все должно было разрешиться чрезвычайно просто. Легро взял в руки продолговатый брезентовый мешок, по форме напоминающий диванный валик; в таком мешке матросы обычно держат свой выходной костюм для воскресных прогулок на берегу. На дне его лежали двадцать шесть пуговиц-по числу участников жеребьевки, — тщательно пересчитанные. Это были обыкновенные форменные пуговицы, какие видишь на куртке матроса торгового флота: черные роговые, с четырьмя дырочками. Матросы еще раньше спороли их с одежды для той же цели, что и сейчас, — теперь они должны были послужить им еще раз. Пуговицы были так тщательно подобраны, что даже на глаз их почти невозможно было отличить друг от друга. Только одна резко выделялась среди всех остальных. В то время как другие были агатово-черными, эта ярко алела, густо-багровая, словно замаранная кровью. Так оно и было на самом деле. Ее нарочно выпачкали в крови — красный цвет должен был служить эмблемой смерти.
Разницу между этой пуговицей и другими никак нельзя было уловить на ощупь. Даже чуткие пальцы слепорожденного не смогли бы отличить ее среди остальных, — где уж там мозолистым, перепачканным дегтем матросским лапам!
Красная пуговица была брошена в мешок вместе со всеми другими. Тот, кому она попадется, умрет!
Приготовлений не понадобилось; даже очередность не вызывала споров. Все это уже много раз обсуждалось открыто и обдумывалось втайне. Все пришли к заключению, что в конце концов шансы одинаковы и не все ли равно, чья судьба решится раньше. Красная пуговица с тем же успехом могла достаться и первому и последнему в очереди.
Поэтому никто не колебался приступить к страшной жеребьевке.
Как только Легро протянул матросам мешок, приоткрытый ровно настолько, чтобы могла пройти человеческая рука, один из них выступил вперед и небрежно и вместе с тем как-то по ухарски запустил пальцы в отверстие…
Глава 68
ЛОТЕРЕЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Один за другим подходили матросы и доставали из мешка пуговицы. Каждый, вынув свою, показывал ее на раскрытой ладони так, чтобы все могли видеть, какого она цвета, и потом откладывал ее в сторону, к другим; впрочем, едва ли она понадобится еще раз на случай такой же лотереи.
Несмотря на всю важность церемонии, на плоту не царила торжественная тишина. Несчастные даже перебрасывались шутками, пока тянули жребий. Посторонний наблюдатель, не зная страшных условий игры, подумал бы, что матросы, потехи ради, затеяли лотерею с каким-нибудь пустячным выигрышем.
Но были и такие, на лицах у которых читались совсем иные чувства. Некоторые подходили тянуть жребий с убитым видом, они, трусливо опуская руку в мешок, тряслись так сильно, что становилось ясно: люди эти всецело во власти страха, несказанно более мучительного, чем простой азарт игры в обычной лотерее.
Наиболее трусливые и робкие, подходя к мешку, дрожали всем телом, а вынув счастливый жребий, предавались самому бурному, безудержному веселью. Были и такие, которые не могли даже скрыть дьявольской радости, что спасли свою шкуру, и пускались в пляс, словно неожиданно сделались наследниками громадного состояния.
Эта странная лотерея отличалась от многих других: здесь выигравшим считался тот, кому достался пустой билет, а вынувший красную пуговицу проигрывал жизнь.
Легро держал мешок с напускной беспечностью. Но каждый, заглянув внимательно ему в лицо, понял бы, что это-чистое притворство. В дальнейшем обстоятельства показали, что хвастунишка-француз был, в сущности, трус. Правда, разъярившись или пылая местью, он мог броситься в драку даже с опасностью для жизни; но в таком поединке, как сейчас, где требовалось хладнокровие, где единственным его противником выступала сама Фортуна и он не мог отыграться на какой-либо бесчестной уловке, притворная храбрость окончательно его покинула.
Пока лотерея только начиналась и в мешке было много пуговиц, ему как-то удавалось сохранять маску равнодушия. Шансов на жизнь было еще много-почти двадцать против одного! Но жеребьевка тянулась — матросы один за другим показывали на ладони черную пуговицу, — и лицо француза все заметнее искажалось. Кажущееся хладнокровие начало изменять ему: в глазах засверкало лихорадочное возбуждение, близкое к ужасу.
Как только чья-нибудь рука показывалась из темного мешка, неся ее владельцу жизнь или смерть, Легро поспешно и тревожно впивался взглядом в этот крошечный роговой кружок, который матрос держал между указательным и большим пальцем. И всякий раз, как пуговица оказывалась черной, лицо его мрачнело.
Но когда вынули и двадцатую, а красная все еще не показывалась, — сам распорядитель страшно взволновался. Теперь он уже не в силах был скрывать свою тревогу. Шансы на жизнь падали с такой быстротой, что ужас овладел им. Сейчас уже было пять против одного-оставалось еще шесть счастливых жребиев.
В этот страшный момент, пытаясь обдумать происходящее, Легро прервал жеребьевку. Может, лучше передать мешок кому-нибудь другому? Пожалуй, счастье тогда переменится и улыбнется ему — недаром он горячо проклинал судьбу, когда был вытащен одиннадцатый номер. Все это время он всячески ухищрялся, чтобы красный жребий был вытащен из мешка: нет-нет, да и перетряхнет пуговицы — авось красная окажется наверху или как-нибудь попадется под руку ближайшему на очереди. Не тут-то было! С непостижимым упорством она оставалась на самом дне.
А что, если он передаст мешок другому и сам попытает счастья с двадцать первым жребием? «Не стоит!» — мысленно ответил он себе. Лучше уж держаться до конца. Неужели последней останется красная пуговица? Нет, едва ли — это в высшей степени невероятно. С самого начала было двадцать пять шансов против одного. Правда, прошло уже двадцать черных — совершенно непостижимо!
— а красная все не появлялась. Однако ее можно ожидать каждую минуту, точно так же, как и любую из шести черных.
Итак, менять порядок не имело смысла. Француз внутренне подобрался и, снова приняв вид храбреца, сделал знак окружающим, что готов продолжать.
Еще один матрос вынул номер двадцать первый. По-прежнему черная пуговица!
Вытащили из мешка номер двадцать второй— черная!
Двадцать три и двадцать четыре — то же самое!
Теперь оставались только две пуговицы. Решения судьбы ждали двое. Один из них — сам Легро, другой — ирландский матрос, быть может наименее преступный из всей этой бандитской шайки. Тот или иной должен был сделаться жертвой своих спутников-людоедов!..
Вряд ли есть необходимость доказывать, что за последний момент интерес к этой роковой лотерее усилился. Страшные условия ее были таковы, что и сначала все следили за ходом игры с самым напряженным и жадным вниманием. Изменилось только отношение участников: оно сделалось менее болезненным, когда опасный исход не угрожал больше каждому из них.
Лотерея приближалась к концу, и большинство были уже вне опасности, но тем мучительнее терзал страх тех, чья жизнь еще колебалась на чаше весов. По мере того как их становилось все меньше и они видели, что шансы на спасение падают, ужас охватывал их сильней. Когда же наконец в мешке остались только две пуговицы, а на очереди — двое жеребьевщиков, интерес к лотерее резко повысился.
Помимо жеребьевки, еще и другие обстоятельства привлекали внимание окружающих. Казалось, сама судьба захотела принять участие в этой жуткой драме. А может, здесь вмешалась странная, чрезвычайно странная игра случая…
Эти двое матросов, которые сейчас последними остались ждать приговора судьбы, уже давно были соперниками, или, вернее, настоящими врагами. Они смертельно ненавидели друг друга, точно были связаны вендеттой — кровной местью, обычной на Корсике.
Вражда эта возникла не здесь — она зародилась еще на «Пандоре», с первых же дней плавания.
Началось это с ссоры между Легро и Беном Брасом, в которой француз потерпел постыдное поражение. Ирландский матрос, честный по натуре и симпатизировавший Бену Брасу отчасти как своему соотечественнику, встал на сторону британского моряка, чем вызвал неукротимую злобу француза. В свою очередь, ирландец платил ему той же монетой. Легро бешено ненавидел Ларри О'Гормана — так звали ирландца — и при всяком удобном случае задевал его. Даже Бен Брас не был ему так противен. Памятуя полученный урок, француз стал относиться к английскому матросу если и не по-дружески, то с некоторым почтительным страхом. Вместо того чтобы упорствовать в ревнивом соперничестве, Легро примирился со своим второстепенным положением на невольничьем корабле и перенес всю злобу на сына Изумрудного острова.[211] Между ними нередко происходили мелкие стычки, из которых победителем обычно выходил лукавый француз. Но ни разу еще не возникала такая распря, чтобы обоим пришлось помериться силами в отчаянной борьбе — не на жизнь, а на смерть. Обычно враги старались избегать друг друга. Француз втайне побаивался противника, быть может подозревая в нем какую-то скрытую силу, которая пока еще не обнаруживалась, но могла развернуться вовсю в смертном бою. Ирландец же не чувствовал никакой склонности к ссорам, что встречается крайне редко среди его соотечественников. Это был человек мирного нрава и весьма немногословный-поистине редкостный случай, если принять во внимание, что звали его Ларри О'Горман.
В характере ирландца имелось немало добрых черт, но, быть может, самой лучшей была именно эта. По сравнению с французом его можно было счесть сущим ангелом, а среди всех остальных негодяев на плоту он казался наименее дурным. К лучшим его нельзя было причислить, так как это слово вообще не подходило ни к кому из всей разношерстной команды.
По своему внешнему облику противники отличались как нельзя более. Француз был черноволосый, с большой бородой, а ирландец — рыжий и безбородый. Однако роста они были почти одинакового: высокие, статные, оба они выделялись своим плотным, крепким сложением, даже некоторой дородностью.
Но разве такой вид имели они сейчас — в момент, когда участвовали в торжественной церемонии, которая должна была обречь на гибель одного из них! Вдобавок их трагическое положение вызывало кровожадный интерес у тех, кто должен был остаться в живых.
Оба они так исхудали, что одежда свободно болталась на отощавших телах. С глубоко запавшими глазами и торчащими скулами, с плоской, ввалившейся грудью, на которой можно было все ребра пересчитать, они казались скорее обтянутыми сморщенной кожей скелетами, чем людьми, в которых еще теплится дыхание жизни. Пожалуй, ни один из них не годился для той цели, на которую их обрекла жестокая неизбежность.
Легро как будто был менее истощен. Вероятно, это объяснялось его властью над командой, — пользуясь своим положением, он захватывал себе львиную долю пищи, столь скудно распределяемой между остальными. Впрочем, быть может, так только казалось благодаря густой растительности, покрывавшей его лицо, которая, скрывая крайнюю худобу черт, придавала ему более упитанный вид.
Но не будем говорить о них вновь. Нам только хотелось показать в настоящем свете, до каких крайностей, до каких чудовищных помыслов и еще более чудовищных дел может довести человека голод. Как бы мы ни содрогались от омерзения, именно так думали в этот тяжкий час жертвы кораблекрушения с «Пандоры».
Глава 69
ВЫЗОВ ОТВЕРГНУТ
Когда подошел момент тянуть последний жребий — другого уже не понадобится, — наступила пауза: обычное затишье перед бурей, готовой вот-вот разразиться.
Воцарилось молчание, такое глубокое, что, если бы не волны, плескавшиеся о пустые бочки, можно было бы услышать, как упадет на доски булавка. В шуме моря слышался похоронный плач, какой-то мрачный аккомпанемент к кощунственной сцене, разыгрывавшейся на плоту. Чудилось, что в этих пустых бочках заключены души грешников: они испытывают адские муки и вторят шуму волн криками агонии.
Два матроса, один из которых был неизбежно обречен, стояли лицом к лицу; остальные толпились около, образуя круг. Взоры всех были прикованы к ним, но противники смотрели только друг на друга. Ожесточение, злоба, ненависть сверкали во взглядах, которыми они обменивались; но еще ярче светилась у них в глазах надежда увидеть врага мертвым.
Обоих воодушевляла мысль, что сама судьба избрала их среди всех товарищей для столь необычного поединка. И они твердо верили в это.
Убеждение это было так сильно, что ни один из них и не помышлял противиться приговору рока, смирившись с мыслью, что «так уж, видно, на роду написано».
Однако они не были фаталистами, а больше верили в силу и ловкость, чем в слепой случай.
Именно на это и рассчитывал ирландец, выступив с новым предложением.
— Я так полагаю, — сказал он, — давай попытаем, кто из нас лучший.
— Тянуть жребий — штука нехитрая, тут шансы равны; может, выживет как раз что ни на есть худший. Клянусь святым Патриком, это не по чести, так никуда не годится! Пусть живет тот, кто достойнее. Правильно я говорю, ребята?
У ирландца нашлись сторонники, поддержавшие его. Предложение это, столь для всех неожиданное, показалось вполне разумным: оно открывало новые перспективы.
Перестав трепетать за свою жизнь, матросы могли теперь уже более спокойно ждать исхода борьбы. Чувство справедливости еще не совсем угасло в их сердцах. Вызов ирландца показался им делом чести. Многие склонны были поддержать его и высказались в этом духе.
У Легро было больше приверженцев, но они молчали, выжидая, что ответит противнику их вожак.
Все ждали, что Легро охотно примет вызов — ведь ему так не повезло в этой лотерее. К тому же он и раньше нередко торжествовал над своим соперником.
Но Легро решительно отказался. Наоборот, он возложил все упования на судьбу. Правда, внимательный наблюдатель по всему виду и поступкам француза заподозрил бы, что Легро рассчитывает на какую-то хитрость. Но никто особенно не следил за ним. Ни один человек не обратил внимания, что Легро мимоходом пожал руку одному из своих сторонников. А если бы даже кто и заметил, что из того? Попрощался с товарищем, ища у него сочувствия в момент опасности, — как же иначе истолковать этот жест?
Однако, если бы окружающие присмотрелись к этому прощальному приветствию повнимательнее, им стало бы понятно то равнодушие к смерти, которое с этого момента так явно выражалось в поведении Легро. Ясно было, что сейчас между обоими матросами произошло нечто значительное.
После этого беглого рукопожатия Легро больше не колебался. Он сразу же заявил, что ко всему готов и твердо намерен остаться при своем решении тянуть жребий.
— Черт побери! — вскричал он в ответ на вызов ирландца. — Может, думаешь, ирландец, что я струсил? Проклятие! Никому и в голову не взбредет такая небылица. Но я верю в свое счастье, хоть Фортуна подчас меня надувала, да и сейчас строит каверзы не хуже прежнего! Впрочем, как будто и ты у нее тоже не в фаворе, так что шансы равны. Ну что ж, давай попытаем еще раз!.. Черт возьми! Видно, в последний раз придется ей поиздеваться над кем-нибудь из нас-это уж наверняка!..
Разумеется, О'Горман не имел права менять установленный порядок лотереи; поэтому те, кто высказался против ее продолжения, оказались в меньшинстве. Матросы шумно требовали, чтобы сама судьба решила — который из двух?
Легро все еще держал мешок с двумя пуговицами — черной и красной. Заспорили — кому тянуть жребий. Вопрос был не в том, кто первый — второго все равно не будет, достаточно вынуть пуговицу одному. Если окажется красная
— умрет он; если черная — его противник.
Кто-то предложил, чтобы мешок взял человек посторонний и хорошенько перетряхнул его.
Но Легро воспротивился. Если уж ему доверили присматривать за порядком, он сам доведет дело до конца. Все видели, заявил он, много ли было пользы от того положения, которое ему навязали. Нет, совсем наоборот! Ничего, кроме неудачи, это ему не принесло. А уж если не повезло, всякий знает: такому злосчастью, может, и конца не будет. Впрочем, ему безразлично-так или иначе, все равно: тот, кто держит мешок, ничего хорошего не получит. Но раз он взялся и провел всю эту лотерею на свою беду, теперь уж он ее ни за что не бросит, пусть даже в награду за это поплатится жизнью.
Речь Легро имела успех.
Большинство высказались в его пользу, настаивая, чтобы он продолжал держать мешок.
Решено было: выбор сделает ирландец, вынув предпоследнюю пуговицу.
О'Горман не протестовал против такого распорядка, да к тому и не было серьезных оснований. Казалось, идет обычная игра — орел или решка. «Если орел — я выиграл, если решка — то проиграл». Но здесь эта формула приобретала новый, жуткий смысл, более подходящий к данному случаю: «Если орел — я буду жить, если решка — умру». Мысль эта мелькнула в мозгу у Ларри О'Гормана, когда он, смело подойдя к мешку, опустил кулак в его темное нутро и вынул… черную пуговицу!
Глава 70
НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
В мешке осталась красная. Удивительно, что она оказалась последней, но такие странности случаются иногда. Жребий выпал на долю Легро. Лотерея кончилась: француз проиграл свою жизнь.
Какой смысл имело теперь продолжать игру? Но, к удивлению зрителей, он на это решился.
— Черт! — воскликнул он. — Опять не повезло!.. Ну ладно! — хладнокровно прибавил он, несколько удивив всех. — Дай-ка и я вытяну жребий. Хоть погляжу на эту клятую штучку, что будет стоить мне жизни!
С этими словами он опустил правую руку в мешок, в то же время продолжая придерживать его левой. Несколько секунд он что-то нащупывал там, внутри, как будто не сразу нашел пуговицу. Роясь таким образом, он опустил отверстие, которое зажимал левой рукой, и, ловко переместив пальцы, придержал мешок у самого дна. Делалось это, видимо, для того, чтобы засунуть пуговицу в угол и ухватить ее пальцами.
Несколько мгновений мешок висел у него на левой руке, пока сам он силился поймать маленький роговой кружок. Наконец ему это удалось. Он вынул правую руку, в которой что-то было крепко зажато, — очевидно, страшная эмблема смерти. Его спутники, охваченные любопытством, затаив дыхание, столпились вокруг, ловя все движения Легро.
Еще мгновение держал он кулак сжатым, высоко подняв его, чтобы все могли видеть. Затем стал медленно разжимать пальцы и показал раскрытую ладонь. Там оказалась пуговица, вынутая из мешка, но, ко всеобщему изумлению, не красная, а черная.
Только двое не разделяли общего удивления: то был сам Легро, хотя, казалось, ему-то и следовало дивиться более всех остальных, и матрос, который несколько минут назад встал рядом с ним и тайком передал ему что-то из рук в руки.
Неожиданный конец лотереи вызвал страшное волнение.
Несколько человек схватили мешок, вырвав его из рук у Легро. Мешок сразу же вывернули наизнанку — и на доски плота упала красная пуговица.
Матросы пришли в ярость и громко кричали, что их обманули. Некоторые строили догадки, каким образом негодяю удалось так сплутовать. Сообщник Легро, горячо поддерживаемый им самим, утверждал, что никакого обмана и в помине не было: произошла ошибка в счете пуговиц с самого начала, когда их клали в мешок.
— Вполне возможно, вполне возможно! — убеждал матрос, помогший Легро сжульничать. — Просто положили одной пуговицей больше — двадцать семь вместо двадцати шести, вот и все. Что ж, раз мы все помогали считать, никто и не виноват. Придется теперь снова тянуть. Только на этот раз смотрите считайте поаккуратнее!..
Возражать никто не посмел — все согласились. Но многие были убеждены, что с ними сыграли скверную шутку, и даже догадывались, каким образом это было подстроено.
Кто-нибудь из жеребьевщиков достал себе пуговицу, точно такую же, как те в мешке; зажав ее в кулак, он опустил руку и тотчас же вынул.
Двадцать шесть матросов тянули жребий — который же из них плут?
Многие подозревали в мошенничестве самого Легро. Бросалось в глаза его странное поведение. Зачем он опустил в мешок сжатый кулак и вынул его, так и не разжав пальцы? Уже одно это казалось довольно подозрительным; было замечено и еще кое-что. Но потом матросы припомнили, что ведь и некоторые другие вели себя точно так же. Итак, улик, чтобы вывести виновного на чистую воду, не находилось. Поэтому ни у кого не было сил и охоты выдвинуть обвинение с риском для себя.
Впрочем, такой человек нашелся. До сих пор он еще не высказывался — ждал, пока пройдет какое-то время после того, как распорядитель вытянул последний, всех разочаровавший жребий. Человек этот был Ларри О'Горман.
Пока остальные матросы выслушивали доводы сообщника Легро и один за другим охотно соглашались, ирландец стоял в стороне, видимо, глубоко погруженный в какие-то подсчеты.
Только под конец, когда все как будто пришли к соглашению вторично тянуть жребий, он очнулся от задумчивости и, стремительно выступив на середину, со всей решимостью крикнул:
— Нет!.. Нет, ни за что! — продолжал он. — Никаких жребиев, мои милые, покуда не разберемся хорошенько в этом маленьком дельце! Тут что-то нечисто, — все с этим согласны. Да только как найти плута? Пожалуй, я скажу вам, кто этот гнусный негодяй, у которого не хватило ни смелости, ни чести поставить на карту жизнь вместе со всеми нами.
При этом неожиданном вмешательстве на говорившего сразу же обратились взоры всех матросов. Сторонники разных партий одинаково были заинтересованы в разоблачении, которым угрожал О'Горман.
Если только удастся уличить мошенника, все будут смотреть на него, как на человека, который должен был вытащить красную пуговицу; следовательно, с ним и надлежит поступить соответственно. Это стало понятно, прежде чем с чьих-либо уст сорвался малейший намек. Те из матросов, которые ни в чем не были повинны, разумеется, чрезвычайно желали найти «паршивую овцу», чтобы не пришлось вторично тянуть опасный жребий; а так как к ним принадлежала почти вся команда, можно себе представить, с каким вниманием матросы ждали, что им скажет ирландец.
Все стояли, пожирая его нетерпеливыми взглядами. Только в глазах у Легро и его сообщника читались совершенно иные чувства. Жалкий вид француза особенно бросался в глаза: у него отвисла челюсть, губы побелели, в них не осталось ни кровинки, взгляд его горел дьявольской злобой. Весь облик напоминал человека, которому угрожает позорная и страшная участь, и он бессилен ее отвратить.
Глава 71
ЛЕГРО ПЕРЕД СУДОМ
Кончив речь, О'Горман устремил в упор взгляд на француза. Все поняли, кого он имеет в виду.
Легро сначала весь затрепетал под взором ирландца. Но, увидев, что необходимо призвать на помощь всю свою наглость, он сделал над собой усилие и ответил тем же.
— Черт побери! — воскликнул он. — Что это ты на меня так уставился? Уж не вздумалось ли тебе на меня поклеп взвести? Я, что ли, такую подлость сделал?
— А то нет! — ответил ирландец. — Да провались я к самому дьяволу в преисподнюю, если на тебя возвожу поклеп! Не такой человек Ларри О'Горман, чтобы бродить вокруг да около, мистер Легро! Я тебе прямо в лицо скажу: это ты, красавчик, собственной персоной, положил в мешок лишнюю пуговицу! Да, именно ты, мистер Легро, а не кто-нибудь другой!
— Врешь! — завопил француз, угрожающе размахивая руками. — Врешь!
— Потише, французишка! Ларри из Голуэя не запугаешь, куда уж тебе, хвастун! И опять скажу: это ты подбросил пуговицу!
— А ты откуда знаешь, О'Горман?
— Доказать можешь?
— Есть у тебя улики? — спросили несколько матросов сразу.
Среди них особенно обращал на себя внимание сообщник француза.
— Да что вам еще нужно, когда и так уж все ясно, как день? Когда я сунул руку в мешок, там было только две пуговицы и ни черта больше! Я перещупал их обе, — все не знал, какую взять! Да будь там третья, разве она не попалась бы мне? Могу поклясться на святом кресте Патрика блаженного — больше там пуговиц не было!
— А это еще ничего не значит, могло быть и три, — настаивал приятель Легро. — Третья, должно быть, закатилась куда-нибудь в складку, вот ты ее и не нащупал!
— Какие там еще, к дьяволу, складки! Закатилась-то она в ладонь к этому мошеннику, больше ей некуда было! В кулаке у него — вот где она была! Пожалуй, скажу вам, и как она туда попала. Дал ее ему вон тот парень, тот самый, который сейчас ко мне с ножом к горлу пристал-докажи да докажи… Попробуй-ка соври, Билль Баулер! Я своими глазами видел, как ты шептался с французишкой тогда, когда ему пришел черед. Видел я, как вы жали друг другу лапы и ты что-то сунул ему потихоньку. Тогда я толком не разглядел, но-клянусь Иисусом! — все думал: что за дьявольщина? Ну, а теперь-то знаю, что это такое было, — пуговица!
Слова ирландца заслуживали внимания-так к ним матросы и отнеслись. Улики против Легро были вескими и в глазах большинства убедительно доказывали его виновность.
Нашлись и еще свидетели, поддержавшие обвинение. Матрос, который тянул жребий перед О'Горманом, решительно утверждал, что в мешке были только три пуговицы. А другой, стоявший в очереди за человека до него, твердил с такой же уверенностью, что, когда он тащил жребий, в мешке было всего четыре. Оба заверяли, что они уж никак не могли ошибиться в счете. Недаром, мол, они «общупали» каждую пуговку в отдельности — им все хотелось узнать ту, в крови. Боже сохрани ее вытащить!
— Эх, да что толковать! — воскликнул ирландец. Ему, видно, не терпелось добиться осуждения противника, виновного в плутовстве. — Французишки это дело-и все тут! Зря он, что ли, возился и ковырялся в мешке! Все это сплошное надувательство. Пуговица была у него в кулаке все время. Клянусь Иисусом! Ему полагается смертный жребий, это так же верно, как если бы он его вытянул. Умереть должен он!
— Каналья! Лжец! — кричал Легро. — Если я умру, ты…
С этими словами он прыгнул вперед с ножом в руке, явно покушаясь на жизнь своего обвинителя.
— Стой! — заревел ирландец, отпрянув подальше от нападающего. И, в свою очередь выхватив нож, он встал в позицию защиты. — Стой, лягушатник, собачий сын, а не то я мигом отправлю тебя в ад без покаяния, прежде чем успеешь прочитать «Отче наш» за свою мерзкую душу, хоть она — видит Бог! — в этом здорово нуждается! Ну, а теперь подходи, — продолжал ирландец, хорошенько укрепившись на своей позиции. — Ларри О'Горман готов встретить и тебя и любого другого, кто бы там ни прятался за твоей гнусной спиной!
Глава 72
ДУЭЛЬ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
Жеребьевка, происходившая на плоту, которая велась до сих пор с некоторой торжественностью, близилась к неожиданной развязке.
Но теперь никто не помышлял вторично обратиться к богине удачи. Уже не было больше нужды прибегать к ее приговору. И без того скоро наполнится кладовая этой шайки людоедов; порукой тому — смертельная вражда двух вожаков потерпевшего кораблекрушение экипажа: Легро и О'Гормана.
Скорая гибель ждет одного или другого, а возможно, и обоих. Противники намеревались вложить клинок в ножны не ранее, чем он вонзится в тело врага,
— об этом неопровержимо свидетельствовали их позы, исполненные решимости.
Никто не пытался вмешаться, никто не встал между ними, чтобы разнять. Конечно, у каждого из них имелись друзья, или, выражаясь точнее, сторонники, но они были так же бесчувственны, как и обычные почитатели «чемпионов ринга».
При иных обстоятельствах каждая партия бывает огорчена поражением своего чемпиона, на которого она делает ставку. Но здесь, на плоту, зрители жаждали смерти любого из противников.
И та и другая сторона охотнее согласилась бы на гибель своего избранника, чем допустить, чтобы оба вышли из схватки живыми.
Каждый матрос в этой разбойничьей шайке, движимый эгоистическим инстинктом, ждал исхода предстоящего столкновения, и инстинкт этот заглушал в нем всякую приверженность к вожаку. Некоторые, быть может, и испытывали кое-какие дружеские чувства к Легро или О'Горману, но большинству было совершенно безразлично, кто из двоих будет убит. Нашлись даже такие, которые в глубине души тайно лелеяли надежду увидеть обоих противников жертвами взаимной вражды. О, тогда не скоро еще пришло бы время возобновлять эту ненавистную лотерею, к которой они-увы! — вынуждены были прибегать уже не раз.
Обе партии насчитывали теперь почти одинаковое число сторонников. Еще десять минут назад у француза было значительно больше приверженцев, чем у его соперника-ирландца. Но поведение Легро во время лотереи оттолкнуло многих. Большинство считали, что он действительно допустил плутовство. И это трусливое мошенничество так кровно задевало всех, что даже те, кто раньше был равнодушен к Легро, теперь сделались его врагами.
Но, не говоря уже о личных соображениях, даже здесь, среди этого сборища подонков, были такие, в ком еще не окончательно умолк голос чести, требовавший «игры по правилам»; и жульничество француза вновь пробудило это чувство в их сердцах.
Как только противники выказали твердую решимость вступить в смертный бой, толпа на плоту как бы машинально разделилась на две группы: одни встали позади Легро, другие — позади ирландца.
Матросы разместились на обоих концах плота, и так как обе группы по числу людей были почти одинаковы, равновесие не нарушилось. Посередине плота имелась горизонтальная площадка, не предоставлявшая преимуществ ни одному из противников; на ней-то и должна была разыграться кровавая драма.
Решено было биться на ножах. Правда, на плоту имелось и другое оружие: топоры, тесаки, гарпуны, но пользоваться ими противникам воспрещалось. Да и что может быть честнее доброго матросского ножа, какой имеется у каждого из них!
Итак, каждый вооружился своим собственным ножом, отвязав его от ремня. Нога выдвинута вперед, чтобы лучше противостоять натиску врага, рука с обнаженным клинком поднята; мускулы напряжены до отказа; глаза горят огнем ненависти, которая может окончиться только со смертью, — так стояли они друг против друга.
За спиной у каждого встали его сторонники, образовав полукруг, в центре которого находился их чемпион. Все они жадно ловили каждое движение противников, зная, что один из них, а быть может, и оба, уже на пути в преисподнюю.
Заходящее солнце озаряло эту страшную дуэль. Золотой шар уже низко опустился над горизонтом. Солнечный диск казался зловеще багровым — освещение, вполне подходящее для такого зрелища. Немудрено, что враги безотчетно обернулись на запад и вперили взор в светило. Оба они думали, что, быть может, никогда больше не придется им любоваться сверкающим солнечным блеском…
Глава 73
НЕНАВИСТЬ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ
Противники сошлись не сразу. Некоторое время они сторонились друг друга, страшась приблизиться, — так грозно сверкали острые ножи у них в руках. Однако они не оставались неподвижными и бездеятельными, наоборот — оба были все время начеку, передвигаясь из стороны в сторону, описывая короткую дугу и стараясь все время держаться лицом к противнику.
Изредка, через какие-то промежутки времени, но далеко не регулярно, кто-нибудь из них делал вид, что нападает, или же притворным отступлением пытался ослабить бдительность врага. И все же после нескольких таких вылазок и контр вылазок ни у кого не оказалось даже царапины, не пролилось ни капли крови.
Большинство зрителей следили с каким-то болезненным интересом. Но некоторые не выказывали ни малейшего волнения, с полным безучастием относясь к тому, кто станет победителем, а кто — жертвой. Им было безразлично, если даже оба падут в бою. Были на плоту и такие, что предпочли бы именно подобную развязку кровавой схватки.
Те же, кого увлек азарт борьбы, старались подбодрить дерущихся то криками, то увещаниями.
Но были здесь и зрители совсем иного рода, которых исход схватки, казалось, волновал не менее, чем тех, о ком мы только что говорили. То были акулы! Глядя, как они описывали круги, свирепо тараща глаза на людей, как тут было не подумать, что они понимают все, происходящее на плоту, сознают, что сейчас произойдет убийство, и только выжидают случая, который пойдет им на пользу!
Какова бы ни была развязка, ее не придется долго ожидать зрителям — ни тем, что на воде, ни тем, что под водой. Еще бы! Два разъяренных матроса с обнаженными клинками стоят лицом к лицу, и каждый страстно желает поразить противника. Никто их не разнимает; наоборот, зрители натравливают дерущихся друг на друга, подстрекая к убийству, — так долго ли тут до кровавого конца? Ведь это не дуэль на шпагах, где, искусно фехтуя, можно надолго затянуть борьбу, или на пистолетах, когда неумелый выстрел опять-таки может отсрочить исход.
Эти дуэлянты знали, что стоит им подойти друг к другу на расстояние вытянутой руки, — и тут же один из них получит смертельную рану.
Вот уже несколько минут, как противники встали в позицию нападения, но эта мысль все еще удерживает их на почтительном расстоянии.
Крики товарищей принимают уже иной характер. Вперемешку с поощрительными возгласами слышатся насмешки и издевательства. Раздаются возгласы: «А ведь хвастунишки-то струсили!»
— Живей, Легро! Всади ему нож! — кричат сторонники француза.
— Ну-ка, Ларри, задай ему! Хвати его хорошенько! — орут зрители, делавшие ставку на ирландца.
— Эй вы, оба, принимайтесь за дело! Бабы вы, а не мужчины! — вопят те, кто, казалось, не принадлежал ни к той, ни к другой партии.
Эти бесцеремонные советы, выкрикиваемые на разных языках, оказали нужное действие. Не успели умолкнуть последние возгласы, как участники поединка бросились друг на друга и, сойдясь вплотную, одновременно нанесли удары ножом. Но у каждого из них клинок напоролся на левую руку противника, быстро выставленную вперед, чтобы отразить удар. И они разошлись без особых увечий, отделавшись легкими ранами, ни один из них не был выведен из строя. Однако это их разъярило и сделало менее осторожными. Не заботясь больше о последствиях, они тотчас же снова сошлись. Зрители встретили их столкновение одобрительными криками.
Все ждали, что теперь-то скоро определится исход схватки, но им пришлось жестоко разочароваться. После нескольких безрезультатных выпадов с обеих сторон сражающиеся снова отступили, и на этот раз не получив серьезных ранений. Дикое бешенство ослепляло их, не давая нанести верный удар; а возможно, они ослабели от длительного голодания. Противники разошлись вторично, и ни один из них не был ранен смертельно.
И третья встреча оказалась столь же безрезультатной. Как только они сблизились, каждый схватил своей левой рукой правую противника, в которой тот держал оружие; и так, крепко ухватив друг друга за кисть, они продолжали борьбу. Теперь это было уже состязание не в ловкости, а в силе. Пока длится это вражеское «пожатие», опасности нет никакой: ведь никто из них не в силах пустить в ход нож. Каждый в любой момент может разжать свою левую руку, но тогда он освободил бы вражескую руку с ножом и тем немедленно подставил бы себя под удар.
Оба сознавали опасность и, вместо того чтобы разойтись, продолжали цепко держать друг друга.
Несколько минут они боролись таким странным манером, каждый стараясь повалить противника на плот. Если бы это удалось, оказавшийся наверху был бы близок к победе.
Они извивались, вертелись, гнулись, но все-таки как-то ухитрялись держаться на ногах.
Сражающиеся не стояли на одном месте, но метались по всему плоту: наталкивались на мачту, кружили около пустых бочек, наступали на разбросанные кругом кости. Зрители расступались, когда они приближались, проворно прыгая из стороны в сторону. Подмостки, на которых разыгрывалась эта страшная драма, непрестанно качались: не помогал ни балласт — пропитанные водой бимсы, ни пустые бочки, служившие поплавками.
Вскоре стало видно, что в этом состязании сдаст Легро. Француз не только уступал своему врагу-островитянину в мускульной силе, но и в состязании на выносливость все равно он оказался бы побежденным.
Зато Легро был хитрее ирландца, и в этот критический момент он прибегнул к одной уловке.
Кружа по плоту, француз прижал голову к правому рукаву куртки О'Гормана; рукав плотно охватывал запястье ирландца и касался кисти, в которой тот держал свой грозный нож. Вдруг Легро, едва не свихнув шею, ухватил зубами этот рукав и изо всей силы вцепился в него своими мощными челюстями. В мгновение ока его левая рука скользнула к правой; нож молниеносно переброшен из одной руки в другую; еще миг — и лезвие сверкнуло, угрожая пронзить грудь противника.
Казалось, судьба О'Гормана решена. Обе руки его были скованы — как же избегнуть удара?
Зрители молча, затаив дыхание ждали его неминуемой гибели. Но они и вскрикнуть не успели, как, к великому удивлению, увидели, что ирландец ускользнул от опасности.
К его счастью, сукно матросской куртки оказалось далеко не первосортным. Материя даже новая и то была плоховата, ну а теперь, после долгой и небрежной носки, она почти расползлась. Поэтому, когда О'Горман отчаянно рванулся, он высвободил руку из челюстей своего врага, оставив в зубах француза всего лишь лоскут.
Внезапно все переменилось: теперь перевес был на стороне ирландца. Не только его правая рука была снова свободна, но и левой он все еще держал своего соперника, сковывая его движения. Легро же мог действовать только левой, а это ставило его в крайне невыгодное положение.
Сразу смолкли крики, которыми сторонники француза только что собрались приветствовать его победу, казавшуюся несомненной. И борьба снова продолжалась в молчании.
Еще несколько секунд длился бой, пока не завершился совершенно неожиданно для всех.
Вне всякого сомнения, победителем вышел бы О'Горман, если бы схватка окончилась, как все и предполагали, смертью одного из бойцов. Случилось, однако, так, что никто не пал в этом кровавом поединке. Судьба хранила обоих, хотя для иной, но столь же страшной кончины, а одному из них суждено было погибнуть смертью вдесятеро ужаснее.
Как я уже говорил, счастье улыбнулось ирландцу. Он понял это и не замедлил воспользоваться своим преимуществом.
Все еще крепко сжимая кисть Легро, он действовал правой рукой с такой силой, которая, казалось, должна была решить исход борьбы; француз же, защищаясь левой, мог оказывать только слабое сопротивление, не в силах ни наносить, ни парировать удары.
Клинки врагов сталкиваются все чаще и чаще; еще несколько выпадов, но пока никто не ранен. Впрочем, этот безрезультатный бой длился недолго. Кончилось тем, что ирландец одним ловким ударом всадил лезвие врагу а ладонь, пронзив ему насквозь пальцы, ухватившиеся за нож.
Оружие выпало из разжавшейся руки и, пройдя сквозь щели в бревнах, пошло ко дну.
Вопль отчаяния вырвался у француза, когда он увидел занесенный над ним нож.
Но удар, грозивший ему, повис в воздухе. Прежде чем враг собрался его нанести, ему помешали. Кто-то из зрителей схватил поднятую руку ирландца и закричал громким голосом:
— Не убивай его! Нам не придется его съесть! Гляди туда!.. Спасены, спасены!
Глава 74
ОГОНЬ!
С этими странными словами матрос, так неожиданно прервавший смертный поединок, протянул руку в морскую даль, словно указывая на что-то, замеченное им на горизонте.
Взоры всех тотчас же устремились в ту сторону. Магическое слово «спасены» поразило не только зрителей, но и актеров внезапно оборвавшейся трагедии. Сладостный звук этого слова укротил злобу в их сердцах. Ирландец, который, подобно большинству своих соотечественников, был вспыльчив от рождения и загорался легко — «как огниво от искры», — мгновенно остыл.
Он не вырвал у матроса руку, поднятую для удара: она ослабела; пальцы, которыми он крепко сжимал горло противника, разжались. И француз, очутившись на свободе, смог беспрепятственно отступить с поля боя.
Вместе с остальными О'Горман обернулся и стоял, всматриваясь в даль, туда, где кто-то увидел спасение для них всех.
— Что это там? — воскликнули, как один, несколько матросов. — Неужели земля?
Но нет, это было невозможно. Никто из них не был новичком в морском деле и не мог думать, будто он и на самом деле видит землю.
— Парус? Корабль?..
Вот это уже больше походило на правду; хотя, на первый взгляд, на горизонте не было заметно ни паруса, ни корабля.
— Что же это такое? — все снова и снова спрашивали матросы.
— Огонь! Как же вы не видите? — спросил матрос с глазами рыси — тот самый, чье вмешательство в поединок вызвало это неожиданное отклонение от программы. — Смотрите! — продолжал он. — Вон там, где солнышко садится. Маленькая точка, но я-то отлично вижу. Это, верно, светится нактоуз[212] на корабле.
— Черт побери! — воскликнул какой-то испанец. — Это просто солнечный отблеск. Ты видел блуждающий огонек, приятель!
— Ба! — сказал другой. — Пусть даже ты прав и это в самом деле лампа с нактоуза, нам-то что до этого? Только себя раздразнить — и все без толку. Если это нактоуз, то судно обращено к нам кормой. Где уж нам догнать корабль!
— Клянусь Богом, огонь! Огонь! — вскричал зоркий маленький француз. — Я вижу его. Да, да, в самом деле! Но только… черт побери!.. это не лампа с нактоуза!
— И я вижу! — воскликнул другой.
— И я! — присоединился третий.
И тотчас же матросы заговорили все сразу: каждый вставлял свое слово, чтобы поддержать веру в этот огонек, зажегшийся на море. Никто не посмел усомниться, даже те, кто вначале отнесся недоверчиво.
Правда, этот свет, который показался в океане, был всего лишь крошечной искоркой, слабо мерцавшей на фоне неба; легко можно было ошибиться, приняв звезду за него. Но в этот час на западе, где еще рдеют лучи заходящего солнца, звезд не бывает.
Как ни огрубели морально матросы, но они еще не потеряли своих умственных способностей и, раздумывая над появлением огонька, не могли принять за звезду это желтоватое пятнышко, едва выделявшееся на таком же желтом закатном небе.
— Нет, это не звезда, бьюсь об заклад! — уверенно заявил один из них.
— А если это огонь на корабле, так не лампа с нактоуза. Уж будьте покойны, это я вам говорю! И кому это вздумалось тут болтать о нактоузах да о всяких там лампах! Может, что-то и светится на корабле, но тогда это камбузная плита — кок готовит кофе для команды.
Великолепное видение комфорта, вызванное перед ними, было уж слишком для умирающих от голода людей — нервы их не выдержали, и дикий крик ликования раздался в ответ на речь матроса. Камбуз, камбузная плита, кок, кофе для команды, тушеная говядина с картофелем и морскими сухарями, пудинг с изюмом, пирог с мясом, даже когда-то столь ненавистные гороховый суп и солонина — все это казалось теперь сказкой из иного мира, радостями прошлого, которыми больше никогда уже не придется наслаждаться.
Теперь, когда перед глазами у них вспыхнул огонек камбузной плиты — за который они принимали этот свет в океане, — самые дикие фантазии возникли в их разгоряченном мозгу.
Мгновенно были позабыты и недавний поединок и его участники. У каждого матроса на плоту все помыслы, все взгляды, исполненные страстного желания, оставались прикованными к этой светлой точке, которая тускло мерцала на красноватом фоне неба, озаренного закатным солнцем.
Пока они так смотрели, крошечная искорка, казалось, росла и разгоралась; не прошло и нескольких минут — и это была уже не искра, а яркое пламя, окруженное светящимся ободком.
Постепенно бледнели краски закатного неба и усиливалась темнота вокруг — вот чем объясняется эта перемена.
Так думали зрители, уверившись более чем когда-либо, что огонек, который они видят там, вдали, — пламя камбузной плиты.
Глава 75
НА МАЯК!
Когда искорка на горизонте разгорелась в яркое пламя, все на плоту воодушевились одним стремлением — поскорее добраться до места, где показался свет. Будь то в камбузе или еще где-нибудь, будь это пламя плиты или свет лампы-все равно огонь горит на борту корабля. В этой зоне океана не было земли; откуда же взяться огню посреди моря, если не на корабле?
В том, что это было судно, никто не сомневался ни на мгновение.
Все так были уверены, что несколько матросов, едва только мысль эта пришла им в голову, закричали что есть силы: «Эй, на корабле, эй!»
Но в окликах матросов сейчас уже не было прежней силы: их голоса ослабели так же, как их изможденные тела. Правда, если бы моряки кричали и вдесятеро сильнее, их все равно не услышали бы на таком расстоянии: свет был еще очень далеко от плота.
Огонек горел не меньше чем в двадцати милях от них. Но в том возбужденном состоянии, в котором они находились сейчас под влиянием жажды, голода и безумного волнения, вызванного открытием, у них возникло обманчивое представление о расстоянии: многим показалось, будто огонек совсем близко.
Впрочем, среди них нашлись рассуждавшие более разумно. Они не тратили сил попусту, надрываясь в бесполезном крике, а старались убедить других в необходимости приложить всю энергию и подойти к огню поближе.
Некоторые думали, что для этого особых усилий не потребуется: ведь свет как будто приближается к ним. И в самом деле так казалось. Но более умудренные опытом моряки знали: это только оптический обман, вызванный тем, что море и небо с каждой минутой становятся все темнее.
И словом и личным примером эти матросы убеждали товарищей идти на огонек — все они верили, что свет горит на судне.
— Давайте пойдем навстречу, — говорили они, — если корабль стоит здесь, на пути; а если нет, сделаем все, чтобы нагнать его.
Уговоров не понадобилось — даже самые ленивые из команды горячо принялись за работу. Новая надежда на жизнь, неожиданно открывшаяся перспектива спасения от смерти, казавшейся многим уже неизбежной, воодушевили их, заставили напрячь все силы. Никогда раньше они не работали с таким рвением, с таким единодушием, еще недавно столь чуждым им, как сейчас, когда они гнали свой неповоротливый плот вперед, в море.
Одни бросились к веслам, другие принялись хлопотать вокруг паруса.
Давно уже никто не обращал на него внимания; он болтался, свисая с мачты и слегка вздуваясь под случайным бризом. Матросы не имели ни малейшего представления, куда держать курс, а если бы даже они и наметили курс, все равно у них не хватило бы решимости следовать ему. Уже много дней носились они в океане, отдавшись на волю волн и ветров.
Теперь парус живо был поднят снова и приведен в состояние полной готовности. Натянули и укрепили как следует шкоты, установили совершенно прямо мачту, чтобы она не кренилась набок.
Так как «судно», к которому они направились, находилось не совсем с подветренной стороны, им пришлось управляться с парусом при ветре на траверзе. С этой целью двух матросов назначили к рулю. Правда, это была всего лишь широкая доска, поставленная на самый край и прикрепленная наклонно к бревнам на кормовой части плота. Но при помощи этого нехитрого приспособления им удалось вести плот «носом вперед», прямо на огонек.
Гребцы сели с обеих сторон. Почти каждый, кто не был занят у паруса или руля, помогал грести. Весел на всех не хватило, и тем, кому не досталось, пришлось орудовать чем попало-гандшпугами, обломками досок, — словом, всем, что хоть немного годилось в помощь гребцам.
Борьба шла не на жизнь, а на смерть — так, во всяком случае, думали матросы. Они твердо верили, что корабль близко. Вот-вот они его нагонят-в этом их спасение; если же не удастся — все погибнут. Еще день без пищи — и кто-нибудь из них умрет. Еще день без воды — и каждого ждут муки страшнее самой смерти.
Благодаря их дружным усилиям и широкому парусу громоздкий плот довольно быстро шел по воде — правда, далеко не так быстро, как им хотелось бы. Иногда они молчали; но время от времени сквозь шум весел слышались их голоса, и — увы! — слишком часто это были нечестивые речи.
Они кляли плот, его неповоротливость, медлительность, с которой они шли к кораблю, кляли и самый корабль за то, что он не идет им навстречу. Теперь те, кто прежде думал, что огонек движется к ним, отказались от этой мысли. Наоборот, сейчас, после почти целого часа гребли, всем казалось, что корабль удаляется.
Не проходило и минуты, чтобы кто-нибудь не впивался взглядом в огонек. Гребцы, сидевшие к нему спиной, то и дело оборачивались и глядели через плечо, чуть не рискуя свихнуть себе шею, и все это только для того, чтобы с огорченным видом снова принять прежнюю позу.
Многие не могли скрыть горького разочарования. Некоторые утверждали, что огонек уменьшается, что корабль на всех парусах уходит от них и что нет ни малейшей надежды нагнать его.
Матросы за веслами начали уставать.
Были и такие, которые выражали вслух сомнение — а вдруг вообще ничего этого нет: ни корабля, ни огонька на корабле? Ведь то, что они заприметили, было всего лишь светлое пятнышко в океане, какой-то искрящийся предмет, может быть, фосфоресцирующая мертвая рыба или моллюск, всплывшие на поверхность. Многим из них и не то еще доводилось видеть на своем веку! И кое-кто прислушивался к этим речам довольно доверчиво.
Недовольство все усиливалось и с течением времени, верно, привело бы к тому, что моряки побросали бы весла, как вдруг всеобщее напряжение, достигнув высшей точки, разрешилось неожиданно и одновременно для всех — свет погас!
Он исчез внезапно, на глазах у матросов, не сводивших с него взгляда. Свет гаснул не постепенно, как бледнеет и тает, скрываясь из виду, звезда,
— нет, он потух сразу, как если бы кто быстро задул его.
«Словно бочку соленой воды опрокинули на камбузную плиту», — вспоминал один матрос, увидевший исчезновение огня.
Едва свет погас, гребцы тотчас же отшвырнули весла и бросили руль. Стоит ли дальше вести плот? Ни луны, ни звезд на небе. Огонек был их единственной путеводной звездой, и, когда он исчез, они не имели ни малейшего понятия, куда держать курс. Ветер то и дело менял направление, но даже если бы он дул все время в одну сторону, всякий знал, как ненадежно ему доверяться, особенно с таким парусом и рулем!
Если и прежде матросы были почти убеждены, что преследуют в океане блуждающий огонек, и готовы были бросить погоню, то теперь стоило только ему погаснуть, как ночное плавание прекратилось.
Отчаяние вновь овладело матросами, и с дикими, злобными проклятиями они бросили парус на произвол судьбы-пусть ветры несут их по волнам, в любое место на океане, где, по воле рока, их злосчастная доля завершится мучительной агонией!
Глава 76
ТЬМА КРОМЕШНАЯ
Ночь была темная — как образно говорят испанцы, «словно горшок дегтя».
Трудно было представить себе, что она станет еще темней. И все же вскоре с воды тихо поднялся густой туман, окутавший большой плот.
В таком мраке ничего нельзя было разглядеть-даже огонек, если бы он и загорелся вновь.
Пока не было тумана, они все высматривали огонек: то один, то другой вставал на вахту, с отчаянной надеждой ожидая, не зажжется ли он вновь. Но по мере того как воздух все больше насыщался испарениями, это мрачное упорство понемногу ослабевало и под конец покинуло их.
К полуночи туман настолько сгустился, что ничего не стало видно на расстоянии и шести футов. Люди на плоту смутно различали только своих самых ближайших соседей, да и то словно сквозь прозрачную серую пелену.
Но темнота не мешала им разговаривать. Так как вместе с призрачным огоньком погасла всякая надежда на помощь, естественно, их мысли должны были направиться по другому руслу. Матросы вспомнили о той драме, от которой их так неожиданно отвлекли.
Голод, жгучий, нестерпимый голод, заставил их перенестись мысленно к сцене, которую так и не удалось закончить должным образом, чему помешал блеснувший впереди обманчивый свет. И теперь моряки задумались над тем, как по-иному сложилось бы все, не сделайся они жертвой миража.
Вот что занимало их мысли и служило темой для разговоров. И в этот торжественный, полуночный час, в туманной мгле, мрачно нависшей над бездонной пучиной, они снова принялись обсуждать страшный вопрос: «Кто следующий?»
Прийти к решению теперь, казалось, уже не так трудно, как прежде.
Большая часть матросов надумала, какого держаться курса. О том, чтобы опять бросать жребий, и речи не было. Да и к чему? Они уже прошли через это. Ну, а если те двое еще не свели счеты до конца, то, без сомнения, дело должно решиться только между ними. Тут и спорить не о чем.
Все единогласно заявили, что на съедение изголодавшимся скитальцам пойдет либо Легро, либо О'Горман. Иными словами, надо снова продолжать поединок, который так неожиданно пришлось отложить.
Пожалуй, такое решение вряд ли можно признать несправедливым, разве только по отношению к ирландцу. В тот момент, когда ему помешали, победа была уже за ним. Будь у него еще полсекунды-враг лежал бы бездыханным у его ног.
Любой третейский суд вынес бы решение в пользу О'Гормона и, быть может, избавил бы его от дальнейшей необходимости рисковать жизнью. Но здесь, где судьями выступали жертвы кораблекрушения, разбойничья шайка с невольничьего судна, причем добрая половина склонялась на сторону его противника, приговор был иной.
Большинством голосов постановили: поединок между ирландцем и Легро начнется снова и закончится только со смертью одного из участников.
Впрочем, сейчас нельзя было возобновить схватку: мешали ночь и мрак. Но с первыми же солнечными лучами смертный бой возобновится.
Порешив таким образом, бывшие матросы с «Пандоры» улеглись отдыхать. Правда, спалось им не так покойно, как на баке невольничьего судна. Жажда, голод, страх перед беспросветным будущим, не говоря уже о жестком ложе, — плохие спутники для сна. Да и измучены были матросы и телом и духом почти до полного изнеможения.
Некоторые спали. Они заснули бы даже в преддверии ада, у врат Плутона, под вой Цербера, раздающийся прямо у них над ухом.
Лишь немногие не могли или не хотели уснуть. Всю ночь напролет то один, то другой, а иногда и двое сразу, бродили по плоту или ползали по доскам, едва ли сознавая толком, что делают. Просто чудо, как эти люди не свалились за борт — ведь они были, в полном смысле слова, почти лунатиками. Но, несмотря на всю неестественность движений, им как-то удавалось удерживаться на плоту. Бултыхнуться через край — значило бы прямехонько угодить головой в пасть акул, которые уже поджидали, готовясь растерзать жертву своими острыми зубами. Быть может, сохранять равновесие этим бессонным скитальцам помогал какой-то инстинкт или же смутное предчувствие опасности.
Глава 77
ТАЙНЫЙ СГОВОР
Большинство матросов задремали, но тишины, полной, глубокой тишины, все еще не было. Временами слышался то шепот ветра, шелестевшего в поднятом парусе, то слабый плеск волн, рассекаемых тяжелыми бревнами плота.
Звуки эти перемежались с шумным дыханием спящих: кто ненароком всхрапнет, кто пробормочет что-то-непроизвольные речи человека, которому снится страшный сон.
Изредка раздавался шум совсем иного рода. Это несколько отверженных, которым не удалось заснуть, завели короткий разговор. Или же кто-нибудь, спросонок наткнувшись на распростертое тело сотоварища и нарушив его сладостный отдых, вернул несчастного к сознанию мучительной действительности, от которой тот искал забвения во сне.
Обычно в таких случаях затевалась злобная перебранка. Угрозы, проклятия градом сыпались с языка и у разбуженного и у того, кто его потревожил. И вслед за тем оба, все еще ворча, умолкали.
В этот час, когда ночь всего темнее, а туман гуще, два матроса примостились у подножия мачты: впрочем, заметить их можно было, только подойдя вплотную.
Согнувшись в три погибели, на коленях, подавшись туловищем вперед, они упирались в доски обеими руками.
Поза была явно неподходящая для отдыха. И в самом деле, если бы кто-нибудь понаблюдал за ними или подслушал их тихий разговор, он понял бы, что помыслы этих людей далеки от сна.
Но кто мог увидеть их в этой кромешной тьме? Правда, некоторые их спутники лежали всего в нескольких футах, но они либо спали, либо находились слишком далеко, чтобы расслышать шепот этих двух матросов.
А те продолжали разговаривать чуть слышно, поочередно подставляя губы к самому уху собеседника. И пока они шептались, по выражению их взглядов можно было догадаться, о чем — или, вернее, о ком — идет речь.
Речь шла о человеке, который лежал, растянувшись во весь рост на бревнах, неподалеку от мачты и как будто спал. Да он и в самом деле крепко спал: оглушительный храп вырывался временами из его рта.
Этот спящий, так шумно храпевший матрос был ирландец О'Горман — один из участников прерванной дуэли, которая должна была возобновиться на рассвете. Какие бы злодейства ни совершил он за свою жизнь (а за ним числилось немало грехов, ведь мы назвали его только наименее преступным из всей этой злодейской шайки!), трусом он, во всяком случае, не был. Если человек может так крепко спать, зная, что ждет его при пробуждении, значит, он храбр и не боится смерти.
Два матроса у мачты не сводили с него глаз. Однако они не могли отчетливо разглядеть лежащего. Сквозь белую пелену тумана смутно вырисовывалось человеческое тело, раскинувшееся на досках, причем видны были только нижняя часть туловища и ноги. Впрочем, даже при свете дня им не удалось бы увидеть отсюда его плечи и голову: их заслоняла пустая бочка из-под рома, о которой мы уже говорили.
Пока в бочке оставалась хоть капля, ирландец больше всех увеселял себя этим напитком: теперь же, когда ром был распит, возможно, самый запах спиртного привлек сюда матроса, подыскивавшего местечко для отдыха.
Так или иначе, оно должно было стать его последним приютом в жизни. Волей жестокого рока О'Горману не суждено уже было проснуться!
Такова была судьба, которую готовили ему два притаившихся у мачты матроса.
— Вот здорово спит! — шепнул один из них на ухо другому. — Слышишь, как храпит? Черт побери! Чисто боров!
— Да, спит, хоть из пушки стреляй! — подтвердил другой.
— Это хорошо! — тихонько сказал первый матрос, многозначительно пожав плечами. — Если обладим дельце как следует, ему уж тогда не очухаться… Верно говорю, парень?
— Как скажешь, так и сделаю, — заявил другой. — Да что нужно-то?
— Главное — без шума. Стукни разок — и готово! Только это надо умеючи. Пырнешь его ножом прямехонько в сердце-он и не шевельнется. Сам не заметит, как очутится на том свете. Даже зависть берет, как подумаю, что он так легко отделается от всей этой чепухи!
— Как бы шуму-то не вышло!
— Да это легче легкого — не труднее, чем бултыхнуться за борт. Кто-нибудь из нас зажмет ему рот, ну а другой… понял теперь?
Какое ужасное злодеяние должен совершить другой, матрос не решился сказать даже по секрету, шепотом!
— Ну, а если даже все сойдет гладко, — возразил его сообщник, — завтра что будет? Пожалуй, сразу догадаются, чьих рук это дело. Обязательно скажут на нас, на тебя-то уж, как пить дать, после вчерашнего… Об этом ты не подумал?
— Как бы не так! Я все обмозговал.
— Ну и что?
— Прежде всего дадим им пожевать, небось не станут тогда разбираться. А там если и заварится каша, наши-то куда сильнее. Эх, будь что будет!.. Лучше сразу в гроб улечься, чем каждый день умирать понемножку!
— Что правда, то правда.
— Да ты не трусь! Из-за них в беду не попадем. Я кое-что надумал, как их провести. Устроим так, будто он сам на себя руки наложил, — и все тут!
— Да что ты говоришь!
— Ну и непонятливый же ты! Туману тебе, что ли, в башку напущено! Не знаешь разве — у ирландца нож есть, да еще какой острый! Уж кому-кому знать, как не мне. Что ж, разве его стащить нельзя? Вот нож и найдут там, где полагается: будет торчать в ране, от которой ирландец окачурится. Понял теперь?
— Понял, понял!
— Первое дело — надо нож стянуть. Иди-ка лучше ты. Я не решусь. А ну как он сам проснется? Сразу смекнет, зачем я тут около него верчусь. А ты себе пройдешь мимо как ни в чем не бывало. Попытка не пытка — худа не будет.
— Что ж, попробую подцепить, — ответил другой. — Давай сейчас, что ли?
— Чем скорее, тем лучше. Нож добудем, а там уж что-нибудь надумаем. Достань, ежели сумеешь.
Проговорив это, матрос остался на месте. Другой поднялся на ноги и пошел прочь от мачты, по-видимому, без всякой цели. Однако путь этот привел его к пустой бочке из-под рома, туда, где лежал спящий ирландец, не слышавший его приближения.
Глава 78
ПОД ПОКРОВОМ ТЬМЫ ЗЛОДЕЙСТВО СОВЕРШИЛОСЬ
Вряд ли нужно объяснять, кто такие эти два матроса, тайком строившие злые козни. Первый, конечно, француз Легро; другой — его сообщник, тот самый, который помог ему смошенничать, когда тянули жребий.
Читатель, вероятно, уже понял из беседы этих людей о дьявольском замысле зарезать спящего О'Гормана.
У француза была не одна причина совершить это страшное преступление — и каждая в отдельности могла толкнуть на злодейство такую испорченную натуру. Он всегда ненавидел ирландца, а сейчас, после всего происшедшего днем, эта глубокая, смертельная ненависть усилилась еще больше. Уже одного этого было достаточно, чтобы негодяй Легро зарезал своего врага. Впрочем, действовать именно так побуждали его и другие, более серьезные и обоснованные соображения. Как известно, матросы в конце концов договорились, чтобы с первыми же лучами зари прерванный поединок был завершен. Легро знал, что следующий акт этой кровавой драмы будет последним, и, судя по только что разыгравшейся сцене, смертельно боялся развязки. Еще прежде, чем занавес упал после первого действия, он понял, что мог лишиться жизни; и теперь, чувствуя себя слабее противника, страшно трусил при мысли о последней схватке.
Чтобы избежать ее, он готов был на все, на любую низость и преступление, даже на такое коварное убийство.
Легро знал, что, если он хочет добиться удачи и уничтожить врага, необходимо, чтобы никто из матросов не стал свидетелем преступления: тогда против убийцы не будет прямых улик и суда товарищей бояться нечего.
Вопрос только в том, удастся ли совершить злодейство под покровом ночи, в полной тишине. Впрочем, вскоре это должно решиться.
Хитрость, задуманная Легро, едва ли имела бы успех в другой обстановке. Зарезать несчастного его собственным ножом, чтобы создать видимость самоубийства, — уж слишком все это белыми нитками шито! Но Легро был уверен, что здесь, на плоту, следствие не будет производиться по всей строгости закона. Вероятно, матросы поведут дело об убитом без соблюдения каких бы то ни было формальностей.
Во всяком случае, так для него куда меньше риска, чем во время поединка, который, по всей вероятности, завершится для него смертельным исходом.
Он больше не колебался в решении совершить это злое дело. И с этой целью он сделал первый шаг: послал своего сообщника похитить нож.
Кража удалась вполне.
Добравшись до бочки из-под рома, негодяй молча присел; несколько минут он оставался там, потом встал и направился обратно к мачте. Как ни была ночь темна, Легро все же заметил: что-то блеснуло в руке у сообщника. Француз знал, что это то самое оружие, которого он так страстно домогался.
Да, спящего предательски обезоружили.
И вот оба матроса стоят друг против друга; и за этот краткий миг нож был тайком передан сообщником настоящему убийце.
Затем оба с внешне беззаботным видом еще некоторое время оставались около мачты, будто разговаривая о самых будничных делах. Однако, беседуя, они как бы нечаянно слегка передвинулись с места — чуть-чуть, так что трудно было бы заметить даже при дневном свете. Еще и еще несколько таких еле уловимых движений, перемежающихся короткими паузами, — и вот уже заговорщики незаметно очутились у самой бочки. Один из них присел тут же, рядом; другой, обойдя кругом, вскоре последовал примеру товарища и уселся с противоположной стороны.
До сих пор в поведении обоих матросов не было ничего особенного, что могло бы привлечь внимание их спутников на плоту. Даже если бы кто и проснулся, сплошной мрак, скрывавший движения заговорщиков, помешал бы понять в чем дело.
Никто не видел, как убийцы сели рядом со своей спящей жертвой; никто не заметил, как оба сразу, протянув руки, склонились над ирландцем. Один душил его, накинув на лицо одеяло, другой, ударив в грудь сверкающим клинком, пронзил сердце.
Мгновение — и оба кончили свое подлое дело. В этом кромешном мраке некому было глядеть на убийство, кроме самих злодеев. Некому было услышать глухой крик, заклокотавший в горле умирающего, а если бы кто и уловил, то ему померещилось бы, что это вскрикнул сосед, которого мучит кошмар.
Убийцы, сами ужаснувшись тому, что сделали, дрожа, прокрались обратно к мачте.
Жертва их осталась распростертой недвижно, с лицом, обращенным вверх, на том же месте, где ее застигли убийцы.
Всякий, кто склонился бы сейчас над лежащим матросом, подумал, что он все еще спит.
Увы, это был сон смерти!
Глава 79
КОГДА ПОГАС СВЕТ
Мы покинули команду «Катамарана» в самом разгаре хлопот, когда они на спине у кашалота занимались копчением акульего мяса.
Катамаранцам хотелось иметь столько провизии, чтобы ее хватило на все путешествие — хотя бы на скудном пайке — в другой конец Атлантического океана.
Чтобы сделать такой запас, им пришлось проработать не только целый день, но несколько часов и ночью. Все это время они поддерживали ярко пылавший огонь, подбавляя свежего спермацета в самодельный очаг, который соорудили на спине у морского великана. Топлива жалеть нечего: его было столько, что можно было бы жарить бифштексы из акулы все двенадцать месяцев в году.
Но оказалось, что китовый жир не может гореть без фитиля, а так как они слишком дорожили своим запасным канатом, чтобы расщипать его весь на паклю, то по необходимости им пришлось экономить.
Решив, что акульего мяса про запас нажарено недостаточно, наши скитальцы собирались на следующий день снова приняться за стряпню. А чтобы не жечь фитиль зря, прежде чем уйти спать, они погасили огонь.
Причем потушили его довольно оригинальным способом: зачерпнув из спермацетового «мешка» кашалота побольше жидкости, вылили ее всю в очаг. Огонь ярко вспыхнул напоследок и сразу угас, оставив их в полной темноте.
Впрочем, они без труда добрались к себе на плот, где собирались провести остаток ночи. За последние дни они столько раз проделали этот путь
— с кашалота на «Катамаран» и обратно, что теперь могли свободно подниматься и спускаться и с завязанными глазами. Да, в сущности, и сейчас, в этот последний ночной переход, они чувствовали себя так, словно на глазах у них лежит повязка, — такая непроницаемая, сплошная тьма окружала убитого кита.
Пробравшись ощупью по скользкой спине кашалота, они спустились вниз по канату, привязанному к громадному грудному плавнику; поужинали порцией горячего жаркого, которое догадались захватить с собой, и, запив его глотком разбавленного канарского, улеглись спать.
Чувствуя себя более спокойными за будущее, чем все последнее время, они вскоре заснули. И вокруг кашалота и «Катамарана», сливавшихся во тьме в какую-то черную плавучую массу, наступила глубокая тишина.
В этот самый момент менее чем в десяти милях отсюда разыгрывалась далеко не столь мирная сцена. Читатель уже, наверно, догадался, какой огонь увидели матросы с большого плота, приняв его в своем воображении за камбузную плиту; в действительности это был спермацетовый очаг на спине у кита.
Когда свет погас, началась шумная ссора, достигшая апогея как раз в то время, когда команда «Катамарана» ужинала акульими бифштексами и прихлебывала винцо.
Уже давно катамаранцы погрузились в сладкий сон, позабыв обо всех окружающих опасностях, а на большом плоту еще долго тянулись раздоры.
Все четверо катамаранцев крепко проспали остаток ночи. Как ни странно, но, ошвартовавшись около громадины-кита, они чувствовали себя надежнее, чем если бы их крошечное, утлое суденышко одиноко носилось посреди океана. Правда, безопасность эта существовала только в их воображении, и все-таки на душе у них стало как-то спокойнее.
Светало, а они все еще спали. Наступил час рассвета, но все кругом было окутано густой пеленой. Туман был такой плотный и непроницаемый, что с «Катамарана» не видно было китовой туши, хотя их отделяло всего несколько футов.
Первым зашевелился Бен Брас. Снежок никогда не был ранней пташкой, и, если бы только позволили обстоятельства или ему вздумалось пренебречь своими обязанностями, он охотно провалялся бы до полудня. Но Бен знал, что впереди еще много дела и нельзя терять время попусту. «Капитан» «Катамарана» уже отказался от всякой надежды на возвращение китобойца. Итак, чем скорее они закончат все приготовления и смогут выйти из дрейфа, чтобы продолжить свой прерванный рейс на запад, тем больше у них шансов в конце концов достигнуть земли.
Бен бесцеремонно растолкал Снежка. Пока он будил его, проснулись также Вильям и Лали, так что теперь вся команда была уже на ногах и в полной боевой готовности.
В качестве утренней трапезы был сервирован на скорую руку завтрак по-матросски. После этого Снежок и моряк вместе с юнгой вскарабкались на спину кашалота, чтобы вновь приняться за прерванную стряпню; а Лали, по обыкновению, осталась сторожить «Катамаран».
Глава 80
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ
Бывший кок повел за собой своих помощников на самый верх туши. Но не сразу удалось ему разыскать свою кухню. Немало времени шарил он ручищей по осклизлой коже кита, покуда наконец не нащупал край ямы.
Остальные подоспели, когда он вставлял новый кусок фитиля. Живо запылал яркий огонь, и зашипела первая порция акульих бифштексов, подвешенных над пламенем.
Теперь оставалось только ждать, пока все куски поджарятся.
Не требовалось даже поливать их собственным соком, достаточно было только время от времени поворачивать и слегка передвигать куски рыбы, насаженные на гарпун вместо вертела так, чтобы каждый ломоть надлежащим образом подрумянился над огнем.
Эти несложные кулинарные операции лишь изредка требовали внимания повара. Как только Снежок увидел, что его «кухонная плита» работает на полный ход, он примостился подле на корточках — наш повар всегда предпочитал сидячее положение стоячему. Товарищи его оставались на ногах.
Не прошло и пяти минут, как вдруг негр вскочил так стремительно, словно кто-нибудь дал ему сзади пинка.
В то же мгновение у него вырвался крик: «Бог ты мой!»
— Что случилось, Снежок? — спросил Брас.
— Ш-ш-ш! Неужели не слыхали?
— Да нет же, — ответил матрос.
Юнга тоже подтвердил, что ничего не слышал.
— Ну, а я слышал.
— А что ж такое?
— Сам не знаю.
— Да это, верно, зашипели акульи бифштексы или, может, птица пискнула в воздухе.
— Ну нет, не то и не другое. Ш-ш! Масса Брас, знаете, что мне показалось? Совсем особенные звуки — будто самые настоящие человеческие голоса. Тихо, помолчите минутку! Авось опять услышим!
Как ни мало поверили Снежку его спутники, пришлось повиноваться. Пожалуй, они и не обратили бы особенного внимания на его слова, если бы не знали, что негр от природы был одарен исключительно острым слухом. Об этой способности можно было судить по его большим, прекрасно развитым ушам. Впрочем, это и без того было известно нашим скитальцам, так как и раньше они не раз убеждались в его чудесном даре. Поэтому они, последовав его совету, замолчали и стали внимательно прислушиваться.
В это мгновение, к удивлению Бена Браса и Вильяма, а также и самого негра, снизу донесся тоненький голосок Лали.
— Снежок! — позвала девочка, обращаясь к своему постоянному покровителю. — Я слышу, как люди разговаривают. Вон там, на воде. А ты разве не слышишь?
— Ш-ш-ш, маленькая! — хрипло зашептал негр, наклонившись вниз, к Лали. — Тихо, милочка, не болтай чепухи! Смотри же ни словечка, будь славной девочкой!..
Ребенок, напуганный этим градом посыпавшихся предостережений, замолчал. Снежок сделал знак товарищам соблюдать тишину и снова стал напряженно вслушиваться.
Это лишнее свидетельство убедило Бена Браса и юнгу, что негр действительно слышал нечто большее, чем шипение акульего жаркого; без лишних слов они последовали его примеру и стали прислушиваться.
Ждать пришлось недолго.
Они и сами услышали звуки, которые никак нельзя было спутать с шумом океана. То были голоса людей.
Голоса раздавались издали, хотя, возможно, были ближе, чем казалось.
Виною тому был густой туман, который, как известно, заглушает всякий шум.
Впрочем, расстояние, будь оно далеким или близким, все сокращалось. Прислушиваясь, катамаранцы уже через несколько минут убедились, что люди, произносившие эти звуки, эти слова, приближались к кашалотовой туше.
Как же они двигаются сюда? Ведь не пешком же по воде? Значит, они на борту корабля?
Вопросы эти волновали наших путешественников. О, если бы только можно было получить благоприятный ответ! Тогда и они, в свою очередь, закричали бы «ура». И в надежде на ответный отклик сквозь мрачную сень тумана понесся бы морской привет: «Эй, на корабле, эй!»
Но почему же его не слышно? Почему люди с «Катамарана» стоят, прислушиваясь к этим голосам, и не подают сигнал, а в их взглядах читается скорее страх, нежели радость избавления?
Впрочем, достаточно нескольких слов, вырвавшихся у Бена Браса, чтобы объяснить и это молчание и недовольство, читающееся на их лицах.
— Проклятие! Это большой плот!
Глава 81
НЕПРИЯТНЫЕ ДОГАДКИ
— Проклятие! Это большой плот!
Что за странные речи ведет матрос и почему так зловеще звучит его голос? Откуда эти злые предчувствия? Почему это суденышко, которое они зовут «большой плот», внушает такой страх всей команде «Катамарана»?
Ну, что касается Бена Браса и юнги Вильяма, здесь все ясно. Пусть читатель припомнит, как встревожились они сначала, услыхав точно так же, как сейчас, во мраке ночи, голоса Снежка и крошки Лали; с какими предосторожностями, с какой опаской они долго не решались приблизиться к негру, спрятавшемуся за бочками. Вспомним, почему они были так настороже: юнгу терзал настоящий ужас перед этой шайкой людоедов, которая не задумается его сожрать, а великодушный его защитник опасался стать жертвой их мести.
Все эти страхи еще не были позабыты и ожили с новой силой при одной только мысли: а может, большой плот близко?
Снежку незачем было бы так бояться матросов с «Пандоры», если бы не припомнилось ему кое-что. Как раз перед самым взрывом на невольничьем судне он понял по злобному обхождению капитана и его помощника, что они считают виновником катастрофы именно его. Негр знал, что это справедливо, и в то же время имел все основания полагать, что и остальные матросы отнюдь не заблуждаются на этот счет. Больше он с ними после этого не встречался, — и к счастью для него, так как иначе они наверняка выместили бы на нем всю свою безудержную ярость. У Снежка хватило ума это понять. И вот почему он так же сильно, как Бен Брас и юнга, жаждал избежать дальнейших встреч с затерянным в океане экипажем погибшего корабля.
Маленькой же Лали нечего было особенно бояться. Но она испугалась, видя страх своих спутников.
— Большой плот… — проговорил Снежок, машинально повторяя последние слова матроса. — Неужели это он, масса Брас?
— Разрази меня гром! Не знаю, что и думать. Снежок… Если только это он…
— А вдруг он, что тогда? — спросил негр, видя, что Брас неожиданно остановился и не договорил.
— Ну тогда нам несдобровать, попадем в переделку! Навряд ли они разжились где-нибудь провизией с тех пор, как мы дали от них тягу! Чудно, право, как это они выжили, если только это действительно матросы с «Пандоры». Может, им, как и нам, удалось раздобыть мяса акулы, а может, они ели…
Тут матрос внезапно оборвал речь, взглянув на Вильяма. Видно, то, что он хотел сказать, не годилось для ушей подростка.
Впрочем, Снежок отлично его понял и в знак согласия глубокомысленно покачал головой.
— Опять же, насчет воды, — продолжал матрос. — В ту пору у них еще оставалось немножко, ну а сейчас наверняка вся вышла. Зато рому у них было-море разливанное! Да это и к худшему, отсюда и пошли все беды. Правда, во время дождя они могли набрать воду в рубашки или в брезент, как и мы. Только где уж им-не такие они люди, чтобы об этом позаботиться, когда рядом стоит вот эдакая бочища с ромом! Ну, а сейчас, я думаю, если у них и было чего пожрать-ты меня понимаешь, Снежок, — то уж воды ни капли! Подыхают, поди, от жажды. А раз так…
— …а раз так, значит, они отберут у нас всю воду, какой мы запаслись. Тут нам и крышка!
— Это-то уж наверняка, — продолжал матрос. — Да ведь им этого мало-украсть нашу воду, что нам дороже всего на свете. Обдерут все дочиста, да еще и убьют в придачу… Дай Бог, чтобы это были не они.
— Что вы говорите, масса Брас? А если это гичка с капитаном и матросами? Как вы думаете?
— Что ж, может, и так, — ответил Бен. — Они у меня и вовсе из головы выскочили. Все может быть. Ну тогда еще с полбеды: нам нечего их так бояться, как тех, с большого плота. Пожалуй, им не приходится так тяжко. Ну, а если им и туговато, все же их не так много, чтобы нас запугать. Там и всего-то человек пять-шесть. Я беру на себя троих из шайки; ну а вы с Вильямом зададите хорошенькую взбучку остальным. Эх, кабы это были они! Но едва ли: лодка у них хорошая, есть и компас; стоило им только как следует взяться за весла, так их давно уж и след простыл. Эй, друг, у тебя уши получше! Навостри-ка их хорошенько да послушай. Ведь голоса матросов с «Пандоры» тебе все знакомы-попытайся, может, кого и признаешь.
За все время, пока негромко, почти шепотом, шел этот разговор, таинственные голоса молчали. Сначала, как только они послышались, казалось, будто разговаривают два-три человека. Впрочем, звуки доносились крайне неясно, словно люди находились еще далеко или же говорили очень тихо.
Теперь катамаранцы прислушивались, ожидая, не донесется ли до них какое-нибудь громче сказанное слово, и в то же время им этого вовсе не хотелось. Они предпочли бы никогда не слышать этих голосов.
Одно время казалось, что их мольба услышана. Прошло целых десять минут-и ни звука, ни голоса…
Сначала молчание успокоило их. Но вдруг в уме у Бена Браса мелькнула новая догадка-и все его думы и стремления приняли совершенно иной оборот.
А что, если они слышали голоса совсем чужих людей? Почему это обязательно должна быть команда погибшего невольничьего судна: либо негодяи-людоеды большого плота, либо капитанская шайка на гичке? Кто знает, может, все-таки это разговаривают матросы на палубе китобойца?
Бывший гарпунер об этом прежде не подумал. А теперь догадка так потрясла его, что он с трудом заставил себя сдержать крик: «Эй, на корабле!»
Но помешала другая, быстро мелькнувшая мысль, которая снова призвала его к осторожности. Если эти люди, голоса которых они слышали, не команда китобойца, а матросы с невольничьего судна, то окликнуть их-значит, наверняка навлечь неизбежную гибель на себя самого и на своих спутников.
Он шепотом поделился своими мыслями со Снежком, на которого они произвели точно такое же впечатление. Негру так же страстно хотелось крикнуть: «Эй, на корабле!» — и в то же время он сознавал, насколько это опасно.
Противоречивые чувства боролись в груди у обоих друзей. Как больно было думать, что тут же, рядом, так близко, что можно его окликнуть, находится корабль, который мог бы спасти их от всех опасностей! И, быть может, корабль так и пройдет мимо, бесшумно скользя по воде, скрытый от их взоров этим густым туманом. Еще какой-нибудь час, и он очутится далеко в океане, и никогда больше его команда не услышит зова наших скитальцев.
Одно-единственное слово, один возглас — и они спасены! И все-таки катамаранцы не решались: ведь этот крик может выдать их врагу и погубить.
Ими овладело сильное искушение: рискуя жизнью, дать опасный сигнал. Несколько секунд они колебались — молчать или окликнуть: «Эй, на корабле!» Но осторожность советовала замкнуть уста, и под конец восторжествовало благоразумие.
Такое решение было принято не случайно. Бывший гарпунер пришел к нему путем размышлений, основанных на его прежнем профессиональном опыте.
Если это китобойное судно, рассуждал Бен Брас, то оно должно вернуться на поиски кашалота. Команда знает, что кит убит: об этом говорят и буи и флаг. Бен Брас был уверен, что матросы непременно захотят вернуться на розыски кашалота. Именно эта уверенность все время поддерживала в нем надежду и заставляла его так долго оставаться подле кашалотовой туши. Не каждый день удается подцепить посреди океана этакую находку-кашалота, который может дать без малого сотню бочек спермацета! Он знал, что такое сокровище не бросишь на произвол судьбы, а попытаешься отыскать во что бы то ни стало.
Все говорило за то, что голоса послышались с китобойца. А в таком случае команда, задавшаяся целью найти кита, едва ли решится продолжать путь в тумане. Скорее они лягут в дрейф и станут дожидаться, покуда погода не прояснится. Таким образом, катамаранцы все-таки могли надеяться, что, когда туман рассеется, они увидят страстно желанный корабль на месте. И они решили хранить молчание.
Было еще очень рано. Заря только занималась. Когда появится светило и его могучие лучи разгонят мрак, тогда только наши скитальцы убедятся окончательно, чьи это голоса: людей или же людоедов, этих чудовищ в образе человеческом!
Глава 82
НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
Им не пришлось дожидаться, пока спадет туман. Задолго до того, как солнце приподняло дымку с океана, катамаранцы уже знали, кто их соседи. Нет, то были не друзья, а смертельные враги, те самые, которых они так боялись.
Открытие не заставило себя долго ждать. Дело обстояло так.
Все трое, Снежок, матрос и Вильям, по-прежнему оставались на туше кашалота, внимательно вслушиваясь. Бен Брас с юношей стояли, а негр полулежал, приникнув своим большим ухом к коже кита; видно, он считал, что так слышнее.
Напрягать слух им, однако, не пришлось. Когда наконец донесся звук — это оказался человеческий голос, да такой громкий и грубый, что даже глухой мог бы его расслышать.
— Черт побери! — воскликнул кто-то с явным изумлением. — Поглядите-ка, ребята! Среди нас мертвец!
Если бы эти слова произнес сам демон тумана, они не могли бы сильнее потрясти ужасом наших скитальцев, стоявших на спине у кашалота. Иностранный акцент и кощунственное ругательство могли изобличать любого, говорившего по-французски, но самый голос нельзя было не признать по его тембру: слишком часто гремел он у них в ушах с такими же резкими, неприятными интонациями.
— Ох, да это масса Легро! — пробормотал негр. — Каждый скажет — это он!
Друзья не ответили Снежку. Впрочем, ответа и не требовалось. В тумане зазвучали новые голоса.
— Мертвец? — вскричал другой моряк. — Ну да, так и есть. Кто такой?
— Да это ирландец! — воскликнул третий. — Смотрите, его убили! Вот и нож торчит меж ребер. Зарезан!
— Ну, это его нож! — произнес кто-то. — Как мне не узнать! Ведь раньше он мне принадлежал. Взгляните, там, на ручке, должно быть проставлено имя хозяина. Он тут же его и вырезал, в тот самый день, как купил нож у меня.
Наступила пауза, матросы замолчали, словно желая проверить сказанное.
— Правильно! — сказал один из них, продолжая вести самочинное следствие. — Вот оно, имя, — Ларри О'Горман.
— Он покончил с собой! — произнес еще один, раньше молчавший матрос.
— Это самоубийство!
— А что мудреного? — подтвердил другой. — Так или иначе, ему была бы крышка. Вот парень и надумал: чем скорее, тем лучше, да и с плеч долой!
— Как так? — спросил еще один, видимо, не согласившись с мнением тех, которые высказывались до него. — Зачем же помирать было ему одному, а не всем нам?
— Забыл, что ли, брат, сегодня ему драться с мосье Легро?
— Нет, не забыл. А что с того?
— А ну-ка, пораскинь мозгами!
— Никак не пойму, почему именно он был на очереди отправиться к праотцам, а не кто иной. Эй, ребята, смотрите! Дело тут нечисто! Ирландца зарезали его собственным ножом! Это-то ясно. Вряд ли это он сам над собой совершил. На кой черт это ему сдалось! Тут дело нечисто!
— А виновник кто, на кого думаешь?
— Не знаю я ничего, братцы! Если видели, скажите. Кто-нибудь да знает, как все это вышло. Мокрое дело, не иначе! Назовите злодея!..
Молчание длилось больше минуты. Никто не отвечал. Если матросы и знали, кто убийца, они не собирались его выдавать.
— Послушайте, ребята! — вмешался какой-то матрос, чей резкий голос прозвучал, словно крик гиены. — Я хочу жрать, как акула, у которой все нутро рассохлось с голодухи. Давайте отложим разбирательство, покуда не перекусим. Там будет видно, кто его на тот свет отправил. А может, никто и не виноват. Ну, что скажете?..
Никто не ответил на это гнусное предложение.
Тут опять раздался громкий крик, вызванный совершенно иной причиной. Все, что говорилось в дальнейшем, не имело никакого отношения к обсуждавшемуся вопросу.
— Огонь! Огонь! — вопили голоса.
— Тот самый, что вы видели вчера ночью! Камбузная печь! Э, да судно близехонько — всего каких-нибудь ярдов сто!
— Эй, на корабле! Корабль, эй!
— Эй, на корабле! Что за судно?..
— Эй, вы, там! Что ж вы, черти, не отвечаете?
— За весла, ребята! Живо за весла! Заснули там эти олухи, что ли, глаз еще не продрали?.. Эй, на корабле, эй, эй!..
Нетрудно было догадаться, что значат эти речи. Матрос и Снежок безнадежно переглянулись. Они уже узнали, что творится за спиной у них. Там, в самодельном очаге, ярко пылал спермацет, и над огнем румянились бифштексы. Взволновавшись, они совсем позабыли обо всем этом. Пламя, светясь сквозь туман, выдало их присутствие людям на плоту. Катамаранцы услышали приказ сесть за весла, смутно уловили тотчас же раздавшийся плеск воды и поняли, что большой плот несется прямо на них.
Глава 83
ЕСТЬ ВЫТРАВИТЬ ТРОС!
— Вон, вон они! Сюда плывут?.. — пробормотал Снежок. — Что делать, масса Брас? Если останемся, несдобровать нам!
— Останемся? Как бы не так! — воскликнул матрос. Теперь он говорил громко, так как шептаться уже не было смысла. — Все, что угодно, только не это!.. Живей, Снежок, живей, Вильям! Обратно на плот! Дай Бог ноги, только бы выбраться отсюда, с этой китовой туши, подобру-поздорову! У нас еще много времени, а там посмотрим, чья возьмет! Да не вешай ты нос, Снежок! Наш старый «Катамаран» — суденышко что надо! Я строил его сам, а ты мне помогал. Помнишь, друг! Уж мне ли не знать, каков он на ходу! Мы их еще перегоним!
— Обязательно, масса Брас! — подтвердил Снежок и сразу же вслед за матросом спустился вниз по канату на «Катамаран», где их уже ждал Вильям.
Перерезать канат, которым маленькое суденышко было прикреплено к плавнику кашалота, и оттолкнуть плот от причала оказалось делом нескольких минут.
Однако как ни кратки были эти мгновения, за это время взошло солнце и вся панорама чудесно изменилась.
Туман, носившийся над океаном, почти растаял в его жарких лучах, и глазам открылась непривычная картина. Все предметы поблизости от убитого кашалота можно было охватить одним взглядом-все они были на виду.
Как гигантская черная скала, возвышалась над морем туша морского великана. Сбоку виднелся крошечный «Катамаран» с поднятым парусом, только что отчаливший от нее. На нем хлопотала команда: двое мужчин и парнишка; ведь маленькая креолочка была только пассажиркой. Мужчины энергично работали веслами, а мальчик держал руль.
Меньше чем в ста ярдах за кормой виднелся большой плот и на нем около двадцати неясно различимых фигур. Кто сидел за веслами и усердно греб, кто правил рулем, а кто возился с парусом. Два матроса стояли на носу, громко отдавая приказания. Все они, видимо, были поражены столь неожиданно открывшейся картиной и не знали, что подумать, куда держать курс.
Люди на большом плoту были взволнованы и удивлены сильнее, чем катамаранцы: эти уже больше ничему не удивлялись. Они поняли все, едва только услышали голоса матросов, принимавших участие в своеобразном следствии, производившемся на плоту. Изумление, которое они испытывали сначала, теперь сменилось страхом.
А матросы на большом плоту все еще не могли оправиться от потрясения. Да и не мудрено — любого поразило бы это видение, которое так внезапно возникло у них перед глазами, сначала смутно рисуясь в тумане, но мало-помалу становясь все отчетливее.
Сколько же здесь удивительного! Вон гигантская туша кита; на спине у него разведен костер, и языки пламени высоко вздымаются к небу; над огнем стоит «журавль», и на нем что-то подвешено для копчения; рядом — плот, так похожий на их собственный, с таким же парусом и пустыми бочками, поддерживающими его на плаву; на нем хлопочут трое людей, — все эти чудеса, все эти странные, необычайные явления могли изумить самого равнодушного наблюдателя. Некоторые матросы чуть языка не лишились на время; зато другие бурно выражали свое удивление громкими криками и возбужденными жестами.
Первый приказ, который отдал Легро (это его голос услышали на «Катамаране»), был следующий: идти полным ходом к темной массе, или, вернее, к маяку, пылающему на ее вершине. Матросы тотчас же повиновались. Всех их мучил какой-то безотчетный страх: а вдруг огонек, как и прежде, снова скроется с глаз?
Но по мере того как они подходили ближе и туман редел, все становилось виднее. Изумление матросов не уменьшилось, но они стали лучше ориентироваться в окружающей обстановке.
Поспешное отступление катамаранцев само по себе уже было показательно: маленький плот отчаливал. Это больше, чем что-либо другое, помогло матросам с «Пандоры» понять, почему те пустились в бегство.
Сначала они никак не могли сообразить, что это за люди на маленьком плоту. Было видно, что их четверо, но туман все еще мешал ясно разглядеть их фигуры, черты и выражение лиц. Будь там только двое, а вместо плота — простой помост из досок, тогда, пожалуй, можно было бы догадаться. Ведь, помнится, именно на таком плоту удрали Бен Брас с мальчишкой. Может быть, это они и есть? Но кто же тогда двое остальных? И откуда взялись на этом стремительно убегающем суденышке шесть бочек, парус и прочие корабельные принадлежности?
Матросы не стали терять время на догадки. Хватит и того, что эти четверо, увидя их, пустились наутек. Уже одно это казалось неопровержимым доказательством того, что у них имеется что-то ценное, что стоит спасать, — неужели вода?
Кто-то обронил это слово. Оно внесло сильнейшее смятение в эту разноплеменную команду, где все терзались мучительной жаждой. Не колеблясь ни мгновения, матросы кинулись к веслам и изо всех сил пустились в погоню за «Катамараном».
Глава 84
ПОГОНЯ
На веслах и под парусом матросы в несколько минут добрались до кашалотовой туши. Они ее хорошенько разглядели, догадались, как она сюда попала, но все еще не могли надивиться фейерверку там, наверху.
Когда они проходили под сенью этой громадины, кто-то предложил сделать остановку, уверяя, что пищи здесь хватит на всех. Но большинством предложение было отвергнуто.
— К черту! — загремел властный голос Легро. — Пищи у нас вдоволь! Вода — вот что нам нужно сейчас до зарезу! Где мы возьмем воду на ките? А вот у тех, кто удирает, кто бы они ни были, уж наверняка есть вода. Давайте сначала пустимся за ними! Нагоним — и сразу же обратно. А если не удастся, вернемся все равно!
Это показалось настолько разумным, что никто не возражал. Под одобрительный гул голосов решение было принято. Гребцы с новыми силами взялись за весла, и плот промчался мимо туши, оставив позади, за кормой, и черную массу и пылающий на ней маяк.
Словно пытаясь оправдать свое поведение перед остальными, Легро продолжал:
— Не дрейфьте, найдем эту дохлую рыбищу! Глядите, туман рассеивается. Еще полчасика-и следа от него не останется. Да мы увидим эту китовую тушу миль за двадцать: вон какой дым от нее валит, словно из пекла! Гребите так, чтобы чертям тошно стало! Видите эти бочки?.. Уж будьте покойны — в какой-нибудь из них отыщется водица! Подумать только — вода!
Пожалуй, не требовалось повторять это магическое слово, чтобы вдохнуть новые силы в измученных жаждой моряков. Они и так уже гребли что было сил.
Погоня длилась примерно минут десять: их разделяло каких-нибудь двести ярдов или чуть меньше.
Собственно говоря, они уже могли смутно видеть друг друга, но черты лица все еще нельзя было разглядеть.
У катамаранцев было одно преимущество: они-то знали, кто гонится за ними по пятам.
Зато матросы на большом плоту и понятия не имели, кто эти четверо и почему они так стремятся уйти от встречи. Было видно, что взрослых только двое, но это не давало ключа к разгадке: кто же эти беглецы?
Разумеется, никто не подумал перебрать в уме всех, кто вместе с ними совершал рейс на «Пандоре». Но если бы это даже и пришло кому-нибудь в голову, ни один из них не поверил бы даже на минутку, что черный кок Снежок и португальская девочка, которую, кстати, редко даже видели на палубе невольничьего судна, сумели остаться в живых.
Только когда туман совсем рассеялся-вернее, поредел настолько, что казался прозрачной дымкой, — преследователи узнали беглецов.
И тут все сомнения исчезли.
Одного из четверых на палубе стремительно убегавшего суденышка можно было признать безошибочно. Этот гигантский округлый торс, покрытый черной кожей и увенчанный шарообразной головой, из всех живых существ на земле мог принадлежать лишь бывшему коку с «Пандоры». Негр разделся, чтобы ему удобнее было грести. Какое тут может быть сомнение! Разумеется, это Снежок.
Как только негра узнали, матросы разразились криками. В течение нескольких минут воздух звенел голосами его бывших спутников, убеждавших африканца «отдать якорь».
— В дрейф, Снежок! — кричали матросы. — Зачем перерубил трос?.. Стой, погоди! Держись! Сейчас подойдем. Не бойся — худа не сделаем…
Снежок «держался», правда, не так, как хотелось бы его прежним сотоварищам. Все их просьбы имели как раз обратное действие, он с еще большей силой приналег на весла, чтобы избежать этой «дружеской встречи», грозившей, как ему было отлично известно, неминуемой гибелью.
И Снежок не поддался на уговоры. К тому же Бен Брас подавал ему здравые советы. Поэтому негр оставался глух ко всем настояниям преследователей и в ответ только энергичнее работал веслами.
Уговоры сменились приказами, затем угрозами и протестами. Матросы клялись жестоко отомстить Снежку и всячески расписывали те страшные муки, которые ждут его, стоит только ему попасться к ним в руки.
Но угрозы не действовали, так же как и слезные мольбы. И матросы, мало-помалу убедившись в этом, притихли.
Молчаливое, но упорное сопротивление, с которым Снежок отклонял все их домогательства, привело в ярость тех, кто раньше тщетно его молил, и в порыве злобы они с еще большей энергией пустились вдогонку за убегавшим от них суденышком.
Между преследователями и беглецами все еще оставалось двести ярдов. Двести ярдов в океане, на ровном, без препятствий, пространстве! Что будет дальше: уменьшится ли расстояние и «Катамаран» попадет в лапы врагу или же расстояние будет увеличиваться и плот спасется?
Глава 85
ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ
Что ждет катамаранцев — избавление или плен? Вот что занимало умы обеих команд: и тех, кто убегал, и тех, кто преследовал. Впрочем, вопрос этот и не обсуждался.
На обоих плотах люди из сил выбивались: одни, чтобы убежать, другие — помешать их бегству. Но как непохожи были причины, толкавшие на борьбу каждую из сторон!
Катамаранцы верили, что, идя на веслах и под парусом, борются за собственную безопасность; и они не заблуждались, так как матросы с «Пандоры» охотились за ними с самыми враждебными намерениями, стремясь отнять у них все, даже самую жизнь.
Так неслись они в безбрежном океане. Страх неудержимо гнал беглецов вперед. За ними летела погоня, обуреваемая кровожадными инстинктами.
«Катамаран», бесспорно, превосходил большой плот мореходными качествами, и, будь только ветер немного посвежее, наши скитальцы вскоре оставили бы преследователей далеко позади.
На беду, сейчас дул самый слабый бриз, и потому исход погони решали весла.
Тут «Катамаран» сильно уступал своему сопернику: на нем имелась всего одна-единственная пара весел, а на большом плоту матросы располагали примерно двенадцатью парами, включая гандшпуги и прочие корабельные принадлежности. И в самом деле, когда команда пустилась в погоню, за весла взялась сразу целая дюжина гребцов.
Пусть даже они гребли не в такт и неумело, все-таки им всем вместе удавалось нагонять скорость, большую, чем на «Катамаране», и экипаж маленького плота с ужасом увидел, что преследователи берут верх.
Расстояние сокращалось хотя и не очень быстро, но заметно.
Тревога росла: еще немного-и их настигнут.
Под такой угрозой люди, склонные легко падать духом, прекратили бы всякие усилия и сдались бы на милость рока, казавшегося почти неизбежным.
Но ни английский матрос, ни негр не были малодушными. Это были люди прочной закалки. Даже сейчас, когда исход погони складывался не в их пользу, они обменивались ободряющими словами, поддерживая друг друга в обоюдном решении: не складывать рук до тех пор, пока между ними и их безжалостными преследователями останется хотя бы только шесть футов.
— Нет, — воскликнул матрос, — не к чему весла бросать! От них пощады не жди, что от твоих акул. Знаю я их повадки!.. Держись, Снежок, ни одного удара веслом зря! Авось мы еще вымотаем из них душу!
— За меня не тревожьтесь, масса Брас! — возразил негр. — Я буду грести, пока есть хоть капля силы в руках и дыхание в груди. Будьте покойны!
Казалось, команда «Катамарана» вступила в борьбу с самой судьбой. Но не все еще было потеряно. Что-то должно было их ободрять и воодушевлять на новые усилия Но что же?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоило только оглянуться назад.
Там, на некотором расстоянии от преследующего их плота, на водной глади можно было заметить нечто новое. Наискось через весь горизонт протянулась темная полоса. Рядовой наблюдатель, пожалуй, не обратил бы на нее внимания, но для опытного глаза Бена Браса (моряк сидел за веслами лицом как раз в ту сторону) эта полоса имела особый смысл. Он знал, что скоро волнение на море усилится и ветер будет крепчать. Да и тучи, собиравшиеся с огромной быстротой за кормой, указывали, что надвигается буря.
Бен Брас тут же поделился своими наблюдениями со Снежком. И это окрылило их надеждой на спасение.
Оба думали, что сильный попутный ветер поможет им уйти от преследователей. По-прежнему сосредоточив все силы на том, чтобы вести вперед «Катамаран», они в то же время глаз не спускали с океана за кормой, следя за ним еще с большей тревогой, чем за нагонявшими их матросами.
— Эх, только бы не подпустить их близко! — прошептал Бен Брас товарищу-гребцу. — Продержаться бы еще хоть четверть часика! Бриз вот-вот настигнет, а тогда у нас будет хоть капля надежды. Сейчас они нас нагоняют, но ветер нагонит их, пожалуй, еще быстрее. Эх, подул бы ветерок, свежий, крепкий! Видишь, вода рябит там, в трех узлах, за кормой большого плота? Греби же, Снежок, коли жизнь мила! Гром меня разрази! Вон они нас нагоняют!
В последних словах матроса прозвучала нотка отчаяния: как видно, «капитану» «Катамарана» положение стало казаться безнадежным. Снежок только печально кивнул головой в знак согласия: бывший кок разделял мрачные предчувствия своего товарища.
Глава 86
ПЕРЕРЕЗАН ПОПОЛАМ
Несколько секунд матрос и Снежок молчали. Оба были слишком заняты греблей и своими наблюдениями, чтобы найти время для разговоров.
Преследователи подняли крик. Пока не было полной уверенности в исходе погони, матросы держались молча, но, как только они убедились, что их неповоротливый плот идет быстрее и перегонит «Катамаран», в воздухе снова зазвучали их дьявольские, злобные голоса. Беглецам вдогонку неслись грозные оклики, требования остановиться вперемешку с угрозами жестоко отомстить за неповиновение.
Особенно выделялся угрожающими речами и жестами один из них, видимо занимавший важное положение на плоту. Человек этот был Легро.
Стоя впереди, почти на самом носу, с длинным багром в руке, он, казалось, командовал остальными, всячески подстрекая их к нападению. Слышно было, как он рассказывал своим, что видел у беглецов съестные припасы и воду, целую бочку воды, прикрепленную к «Катамарану».
Что до того, ложны или правдивы эти речи! Все равно они сделали свое дело, воодушевив матросов за веслами.
«Вода!» — звенело музыкой в ушах у них. При одном звуке этого слова все как один напрягли свои силы до предела.
Большой плот понесся еще быстрее, словно торопя развязку. Он нагонял своего соперника. Не прошло и десяти минут, как он очутился так близко от кормы «Катамарана», что решительный человек мог бы перепрыгнуть с одного плота на другой.
Команда «Катамарана» смотрела с отчаянием — враг приближался…
Они видели, как сзади набегают черные волны с белыми пенящимися гребнями; видели, как небо над головой у них все больше и больше заволакивается грозовыми тучами. Но, казалось, небеса грозно хмурились словно для того, чтобы сделать еще мрачнее ужасную судьбу, настигающую их.
— Разрази меня гром! Слишком поздно! Нам уже не спастись! — вскричал Бен Брас, намекая на запоздалый ветер.
— Слишком поздно? — откликнулся Легро с большого плота.
Отвратительно было глядеть на француза: такой свирепый вид придавали ему белые зубы, хищно сверкавшие сквозь черные усы.
— Слишком поздно, говорите вы, Бен Брас? А почему бы это так, разрешите спросить? Для нас-то не поздно нахлебаться вволю из вашей бочки с водой! Ха-ха-ха!.. Эй ты, бродяга! — продолжал он, обращаясь к негру. — Ты что ж это весла не бросаешь? Черт побери! На что они тебе сдались, мерзкая черномазая образина? Не видишь разве — еще несколько секунд, и мы всех вас возьмем на абордаж? Весла долой, говорю тебе, и не задерживай! Посмей только ослушаться — шкуру спустим живьем, когда попадешься к нам в лапы!..
— Никогда, масса Гро, — гордо ответил Снежок, — не спустить вам шкуру с меня! Живым не дамся — раньше умру! Знайте, у меня есть нож. И, клянусь, не один из вас будет убит, покуда меня схватите! Так берегитесь же, масса Гро! Лучше вам связаться с самим дьяволом, чем наложить лапу на старину Снежка!
Француз не удостоил ответом эту угрозу противиться до конца. У него не было времени вести дальнейшие переговоры. Сейчас плоты сошлись так близко, что все его внимание было поглощено каким-то новым замыслом.
Легро, увидев, что «Катамаран» можно достать багром, схватил его и, наклонившись вперед, вонзил абордажный крюк в корму маленького суденышка.
Одну-две секунды длилась борьба, и в результате оба плота, верно, столкнулись бы, если бы не находчивость английского матроса: ловким ударом весла он не только оторвал багор от плота, но и вышиб его из рук Легро.
В то же мгновение француз, потеряв равновесие, покачнулся и внезапно провалился, но не упал навзничь, а продолжал держаться стоймя, словно ноги его попали в щель между бревнами плота.
Так оно и было. Как только на обоих плотах оправились после первого потрясения, все увидели, что от Легро осталось только полчеловека — с подмышек до макушки; нижняя половина туловища застряла между досками, не дававшими французу целиком погрузиться в море.
Быть может, для него лучше было бы совсем упасть в воду… Так или иначе, самый смелый прыжок вниз головой не мог бы кончиться для него более печально.
Не успел он провалиться между бревнами, как из глотки у него вырвался отчаянный вопль и все черты внезапно побледневшего лица дико исказились. Очевидно, произошло нечто более страшное, чем простой шок от падения в воду по пояс.
Один из товарищей — тот самый злодей, его сообщник, о котором мы уже говорили, — бросился вперед, чтобы освободить Легро из западни: было очевидно, что француз не может выбраться собственными силами.
Матрос схватил его за плечи и начал было тащить вверх, как вдруг неожиданно выронил и с криком ужаса отпрянул назад.
Столь странное поведение стало понятным, только когда все увидели, что обратило матроса в такое стремительное бегство.
Это был уже не Легро и даже не его труп — от него оставалась только верхняя часть туловища, начисто перерезанная на уровне живота словно гигантскими ножницами.
— Акула! — вскричал кто-то, высказывая общую мысль, которая одновременно пронеслась в уме у всех: и у матросов на большом плоту, и у команды «Катамарана».
Так плачевно завершилась жизнь этого грешника, который, безусловно, заслужил страшную кару и, наверно, не был достоин лучшей доли.
Глава 87
НЕПРЕДВИДЕННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Зрелище, столь неожиданное и, главное, столь жуткое, не могло не произвести сильнейшего впечатления на всех, кто был его очевидцем. Настроение преследователей изменилось, и они на время почти приостановили погоню. В свою очередь, катамаранцы ослабили усилия. На несколько секунд и та и другая сторона словно оцепенели под действием каких-то чар. На обоих плотах поднятые весла замерли в воздухе.
Эта передышка пошла на пользу «Катамарану», более легкому на ходу, чем плот преследователей. К тому же его команда скорее пришла в себя от изумления — какое им было дело до того, что приключилось с Легро! Спутники полусъеденного француза еще не решили, продолжать ли им погоню, а катамаранцы уже ушли вперед на расстояние, равное нескольким плотам в длину: так стремительно убегали они от опасного соседства.
Это удивительное событие настолько ужаснуло разбойничью шайку с «Пандоры», что одно мгновение они готовы были поверить во вмешательство сил, более могущественных, чем простой случай. Далеко не все из них были друзьями несчастного, на долю которого выпал столь необычный жребий. В их памяти все еще было свежо прерванное расследование; будь только оно доведено до конца, думали многие, виновность Легро была бы доказана и он был бы обличен как убийца О'Гормана.
На большом плоту многие и не подумали бы продолжать погоню, если бы дело шло только о том, чтобы отомстить за Легро. Но они все находились во власти иного, более могущественного побуждения: их терзала жажда, и они были убеждены, что на убегающем плоту найдется чем ее утолить.
На досках еще валялась половина туловища искалеченного француза. Но это недолго занимало их мысли. Вскоре они и совсем позабыли о нем, когда снова раздался крик «Вода!», заставивший их опять ринуться в погоню.
Еще раз взялись они за весла, еще раз принялись грести изо всех сил, но
— увы! — с гораздо меньшим успехом. Мучительная жажда все еще гнала их вперед, но в их действиях уже не было прежнего единодушия, которое всегда является залогом победы. Не стало человека, который заставлял их идти за собой. И матросы действовали теперь так нерешительно и несогласованно, что заранее были обречены на неудачу.
Быть может, если бы все осталось неизменным, они наверстали бы упущенные возможности и со временем нагнали беглецов на «Катамаране». Но за эти полные волнения минуты передышки на море произошла перемена, которая должна была решить судьбу и беглецов и преследователей.
Темная линия на дальнем краю горизонта, за которой с самого начала так пристально следили на «Катамаране», больше уже не была узкой полосой мрака. Все то время, пока длилась погоня, полоса росла и теперь закрыла небо и океан. Тяжелые, черные тучи заклубились на небе, быстрые пенящиеся волны вскипели на море, с разбегу ударяясь о бочки на обоих плотах. Все предвещало если не шторм, то, по крайней мере, сильный ветер. Казалось, теперь-то исход погони будет совершенно иной.
И вот все переменилось. К тому времени, как потерпевшие кораблекрушение матросы на своем неуклюжем большом плоту снова пустились в погоню, они увидели, что более легкий на ходу «Катамаран», широко распустив по ветру парус, стремительно ускользает от них.
Погоня прекратилась. Возможно, матросы и не отказались бы от нее, если бы волны, вздымавшиеся вокруг, не напомнили им о новой опасности. Пена захлестывала их с головой, океан с каждым порывом ветра грозил потопить их плохо управлявшийся плот. Хлопот у них было по горло, и, теряя последние остатки сил, они цеплялись за бревна своего кое-как сколоченного суденышка.
Глава 88
ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ
Так еще раз катамаранцы избавились от страшной опасности, вырвались буквально «из когтей смерти».
Тот самый бриз, который так вовремя умчал их от преследователей «Катамарана», вскоре превратился в сильный ветер и все крепчал, обещая перейти в еще более страшное для мореплавателей явление-в грозу океана, шторм.
Плоты уже больше не были на виду друг у друга. И пяти минут не прошло после того, как Легро взял их на абордаж, а сильный ветер уже подхватил «Катамаран»: быстроходное маленькое суденышко далеко унеслось вперед от громоздкого вражеского плота.
Еще час — и «Катамаран» благодаря хорошему рулевому был на несколько миль дальше к западу. В это время большой плот, который не мог идти на веслах и плохо слушался руля, казалось, отдался на волю ветров. Матросы, находившиеся на нем, безнадежно пытались идти в фордевинд.
Несмотря на то что ветер крепчал, а океан все больше волновался, катамаранцы не отчаивались. Бен Брас словно не замечал опасности и уговаривал своих товарищей не падать духом.
Были приняты все меры, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Как только катамаранцы заметили, что преследователи остались позади и что с этой стороны опасность им больше не грозит, они тотчас же спустили парус на мачте, так как ширина его была слишком велика для все усиливающегося ветра. Его не убрали совсем, а только укоротили, зарифовав кое-как, чтобы наполовину уменьшить поверхность, подставляемую ветру. И это оказалось как раз тем маневром, который был необходим, чтобы сделать «Катамаран» еще более устойчивым на ходу.
Нельзя сказать, чтобы «капитан» и его команда не боялись за безопасность плота. Наоборот, они испытывали сильный страх, столь естественный в их положении, и поэтому принимали все меры, чтобы избежать грозившей гибели.
Положение, в котором они очутились, было для них совершенно ново. С тех пор как они соорудили свой незамысловатый плот, они ни разу не повстречали на своем пути шторм или хотя бы сильный ветер. С момента гибели «Пандоры» погода им благоприятствовала. Они плавали «в летних водах», посреди тропического океана, где нередко проходят целые недели, и ни ветры, ни волны не нарушают безмятежную морскую гладь, — словом, в океане, где штиль опаснее шторма. До сих пор они еще не сталкивались с резкими атмосферными явлениями; самое большее-их подгонял свежий бриз, и тогда «Катамаран» проявлял себя как превосходный парусник.
Но устоит ли он перед бурей, которая может перейти в шторм или даже в грозный ураган?
Предвидя эти события, наши скитальцы не слишком были уверены в своем благополучии. Они трепетали от ужаса. И они со страхом глядели ввысь, на все мрачнеющее небо и на бурю, готовящуюся вот-вот обрушиться на них.
Целое утро бриз все крепчал и в полдень стал очень сильным. К счастью для команды «Катамарана», он не перешел в шторм, иначе их утлое суденышко было бы разнесено вдребезги.
Хотя волнение на океане по сравнению с тем, что происходит в шторм, было весьма умеренным, команда едва могла сохранять свой плот в целости. Мало радости было думать, что, случись настоящий шторм, «Катамаран» непременно разлетится на куски. Они могли лишь тешить себя надеждой, что, прежде чем это произойдет, они пристанут к твердой земле или, что еще вероятнее, их подберет какое-нибудь судно.
Но сейчас катамаранцы и не помышляли о благополучном завершении странствий: так незначительны были шансы на спасение и такой отдаленной казалась самая его перспектива. Стоило им только задуматься над этим, как они вспоминали всю безвыходность положения и впадали в глубокое уныние. Впрочем, сегодня у них не хватало времени уноситься фантазией так далеко — к концу своих скитаний. Их тело и дух были слишком заняты тем, чтобы не дать этим странствиям трагически оборваться. Мало того, что им приходилось держаться настороже перед каждой накатывающейся волной и следить, чтобы «Катамаран» выдерживал ее натиск, — надо было еще присматривать, чтобы не разошлись связывающие бревна канаты.
Уже несколько раз океан обрушивался на них. Не будь крошка Лали и Вильям так крепко привязаны к основанию мачты, их обоих смыло бы волной и они, конечно, погибли бы в мрачной пучине океана.
Двое сильных мужчин с величайшим трудом могли удерживаться на плоту; чтобы их не смыло за борт, пришлось прикрепить и себя к бревнам, обмотав веревки вокруг кисти.
Однажды нахлынула громадная волна и затопила их, так что они очутились на несколько футов под водой. В этот тяжкий миг все четверо решили, что настал их последний час. Несколько секунд им казалось, будто они идут ко дну и никогда больше не увидят дневного света.
Скорее всего, так и случилось бы, если бы их не спасло своеобразное устройство плота: не так-то легко потонуть порожним бочкам — они тотчас же всплыли обратно на поверхность, снова вынеся вверх, из воды, «Катамаран» и его команду.
К счастью, Бен Брас и Снежок не слишком полагались на волю случая, когда строили свой необычный плот. Бывалый моряк предвидел, что их может застигнуть в пути такая буря, как сегодня. И вместо того чтобы соорудить временное суденышко, годное для плавания только в тихих водах, матрос не пожалел трудов, стремясь сделать плот возможно более мореходным. Вместе со Снежком они приложили всю свою силу, чтобы попрочнее скрепить бревна и бочки канатами, и все свое мастерство для умелого использования не слишком-то пригодного материала, находившегося в их распоряжении.
Уже плавая на «Катамаране», они продолжали возиться с ним каждый день, чуть ли не каждый час, внося все новые усовершенствования.
Зато теперь они пожинали плоды своих трудов — ведь только благодаря этой предусмотрительности и трудолюбию сумели они благополучно противостоять буре.
Понадейся они на удачу и предайся лености, что было бы, пожалуй, понятно в том отчаянном положении, в каком они тогда находились, сегодня наступил бы их последний день-«Катамаран», может быть, и не пошел ко дну, но развалился бы на куски, и никто из экипажа не остался бы в живых после такой катастрофы.
Как бы то ни было, и плот и команда выдержали бурю. Перед заходом солнца ветер стих, сменившись легким бризом. Тропическое море мало-помалу вернулось к своему обычному состоянию — наступило затишье. И «Катамаран», снова распустив свой широкий парус, устремился с попутным ветром вперед в лучах золотого светила, медленно спускавшегося к западному краю безоблачного неба.
Глава 89
ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ КРИК
Ночь оказалась приятнее дня. Ветер больше не был им врагом. Сменивший его бриз благоприятствовал скитальцам больше, чем полный штиль, так как делал их плот устойчивым против мертвой зыби.
К полуночи стихла и зыбь. Так как буря длилась недолго, то волнение было слабое, да и оно вскоре совсем улеглось.
Наконец-то они могли подумать об отдыхе, таком необходимом после стольких трудов и треволнений. Проглотив несколько кусков невкусной пищи и запив их чаркой разбавленного канарского, все легли спать.
Ни сырые доски, служившие постелью, ни насквозь промокшая одежда, облипавшая тело, не помешали им заснуть.
В более суровом климате им было бы, пожалуй, неуютно. Но здесь, в тропическом поясе, на океане ночью бывает так жарко, что «мокрые простыни» кажутся не только терпимыми, но порой даже приятными.
Итак, катамаранцы все до одного улеглись отдыхать.
Обычно они поступали иначе: по ночам кто-нибудь оставался на вахте — сам «капитан», или бывший кок, или же юнга. Само собой разумеется, малышка Лали была освобождена от этих обязанностей.
Такая обязательная ночная вахта имела двойной смысл: нужно было вести «Катамаран» по его курсу и в то же время наблюдать за морем, не покажется ли где парус.
В эту ночь, если бы они встали на вахту, им прибавилась бы еще одна обязанность: не следует забывать, что они все еще не избавились окончательно от своих недавних преследователей. Те, наверно, также шли под ветром.
Катамаранцы ни о чем не позабыли. Но хотя эта мысль не шла у них из ума, все равно они не в силах были противиться сну. Пусть плот идет куда хочет, пусть встречный корабль, если попадется на пути, неслышно проплывет мимо, пусть даже их нагонит большой плот, если так угодно судьбе, — будь что будет, ничто не помешает им заснуть глубоким, беспробудным сном.
И вдруг все разом проснулись — их поднял на ноги крик, который мог бы разбудить и мертвеца. Дикий вопль пронесся над морем с такими странными, нечеловеческими интонациями, что, казалось, он мог возникнуть только в пучине океана. Это был короткий, отрывистый крик, но такой громкий, что даже Снежок очнулся от оцепенения.
— Что за чертовщина? — первый спросил негр, потирая себе уши, чтобы убедиться, не сделался ли он жертвой иллюзии.
— Право, не знаю, — отозвался матрос, тоже ошеломленный тем, что слышал.
— Как будто кто-то тонет, масса Брас?
— Похоже, что акула разорвала человека… Так мне все это сразу и вспомнилось.
— Ей-богу, ваша правда! Точь-в-точь так кричал напоследок масса Гро!
— А все-таки, — продолжал матрос после минутного раздумья, — что-то непонятно. Не человек это крикнул, нет, нет! В жизни не слыхал, чтобы человеческая глотка могла издать такой вопль.
— А ведь большой плот не близко. Как вы вышибли багор тогда, мы и пустились наутек. Такой взяли старт, что куда уж тем с «Пандоры»! Им не удалось подойти хоть чуточку ближе — ей-ей, не вру! Нет, оттуда крика не услышишь…
— А вы поглядите-ка вон туда! Там что-то виднеется! — вскричал Вильям, вмешавшись в разговор.
— Да где же? Что там такое? — спросил матрос.
— Вон там! — ответил юнга, указывая вправо. — Примерно в трех кабельтовых от нас на воде. Какой-то черный предмет, вроде лодки.
— Лодка! Разрази меня гром! Да, теперь и я вижу. И правда она! Да только откуда ей взяться здесь, посреди Атлантического океана?
— Правильно, лодка! — вставил Снежок. — Могу сказать наверное.
— Похоже, что так, — сказал матрос, вглядевшись еще пристальнее. — Да, это лодка!.. Вот, вот, теперь еще лучше видно… Эге, в ней кто-то есть! Я вижу только одного: торчит посередине, будто мачта. Пожалуй, тот самый, что крикнул сейчас, если то не был сам дьявол. Нет, что ни говори, люди так не кричат!..
Словно в подтверждение последних слов матроса, крик снова повторился точь-в-точь, как прежде. Правда, сейчас, когда они уже очнулись ото сна, он произвел на них несколько иное впечатление.
Несомненно, это был голос человека — ничем иным он не мог быть даже в этой обстановке, — но человека, в котором угасла последняя искра разума.
Пожалуй, команда «Катамарана» еще оставалась бы в недоумении, если бы все ограничилось только этим вторично раздавшимся криком. Однако тотчас же полились какие-то речи — бессвязные, но все же членораздельные, затем раздался взрыв хохота, какой можно услышать только в коридорах дома для сумасшедших.
Все как один стояли, слушали и дивились.
Ночь была безлунная, темная, но уже близился рассвет. Заря окрашивала розоватыми тонами небо. В сером полусвете раннего утра, слабые лучи которого играли на поверхности воды, можно было отчетливо разглядеть любой предмет и на значительном расстоянии.
Действительно вдали виднелось нечто вроде лодки, посреди которой маячила человеческая фигура. Да, это лодка и кто-то в ней стоит. Оттуда несутся эти восклицания, этот хохот, к которым они прислушиваются. Какое может быть сомнение-там сумасшедший!
Но безумец он или нет, зачем бежать от него? Здесь, на плоту, двое сильных мужчин, которые не побоялись бы встретиться с помешанным где угодно
— пусть даже посреди океана. Heт, эта встреча им не страшна. Как только они воочию убедились, что увидели лодку и человека в ней, сразу же скомандовали: «Лево руля!»-и направили плот прямо к шлюпке.
Минут через десять после того, как наши путешественники изменили курс, они ясно увидели свою цель. Стоило им только всмотреться повнимательнее, и за несколько секунд их любопытство было удовлетворено вполне. Теперь они поняли, что собой представляет это странное суденышко и его еще более странный экипаж!
Перед ними была гичка с невольничьего судна, и посреди нее стоял капитан злосчастного погибшего корабля.
Глава 90
БЕЗУМЕЦ ПОСРЕДИ ОКЕАНА
Теперь уже катамаранцам незачем было строить какие-либо предположения: ни таинственный предмет на воде, напоминавший лодку, ни человеческая фигура, там видневшаяся, не были больше загадкой. Тайна рассеялась, когда и гичка и человек в ней были опознаны.
Единственное, что их еще смущало, — почему в лодке оказался только один человек вместо шести?
Там должно быть шестеро. Ведь именно столько спаслось в гичке с горящего судна: еще пять, кроме того, кто сейчас находится в ней и в ком, как ни странно он изменился, все еще можно узнать капитана невольничьего судна.
А где же те, которых не хватает: помощник капитана, плотник и матросы-все, кто сбежал вместе с ним? Может быть, они лежат на дне лодки и потому их не видно с «Катамарана»? Или все они погибли в какой-нибудь страшной катастрофе и только этот один остался в живых?
Гичка сидела в воде неглубоко. Верхний край фальшборта заслонял от катамаранцев все, что там происходило. Если они хотели что-нибудь разглядеть, надо было подойти поближе, а на это они не решались.
В самом деле, как только наши путешественники узнали лодку и человека, они тотчас же спустили парус и легли в дрейф, работая веслами, чтобы держаться подальше.
Сделали они это под влиянием какого-то инстинктивного страха. Ведь те, кто спасся на гичке, ни на грош не лучше, чем люди с большого плота: на невольничьем судне командиры были такими же подонками, как и большая часть матросов. Зная это, катамаранцы колебались-не опасно ли подойти близко? Если в лодке все еще оставалось шестеро, да вдобавок без пищи и без воды, то они ни на минуту не задумаются ограбить «Катамаран», так же как собирались те, другие, с большого плота. Пощады здесь не жди. А раз помощи не получишь, то лучше держаться от них подальше.
Мысли эти стремительно пронеслись в уме у Бена Браса, и он не замедлил сообщить их своим спутникам.
Но были ли те пятеро все еще в гичке?
Может быть, они лежат на дне? Впрочем, едва ли они спят. Да и как можно заснуть под эти вопли и стоны? Ведь капитан все еще продолжает кричать, лишь время от времени делая передышку.
— Гром и молния! — пробормотал Снежок. — Уж, верно, в лодке никого нет, кроме старого капитана. Да и от него самого осталась одна только шкура: ума-то он уже давно решился. Он буйный!
— Пожалуй, ты прав, Снежок, — согласился матрос. — Из всех только он один и остался. Видишь, как гичка высоко поднялась над водой? Может быть, кроме капитана, там и есть кто, но не больше одного, двух. Бояться нечего — можно подойти поближе. Давай повернем и как-нибудь пристанем к борту. Согласен?
— Да я не прочь, масса Брас… право, не прочь. Раз вы так думаете, так чего нам бояться? Я ведь такой — готов и на риск пойти. Если кто там и есть еще кроме нашего капитана, все равно им с нами не справиться. Мы двое стоим не меньше четверых, уж не говорю о нашем Вильме!
— Почти наверняка, — отвечал матрос, все еще колеблясь, — он там один. Лучше всего подойдем вплотную и захватим лодку. Пожалуй, придется нам с ним повозиться, если он и вправду спятил; а ведет себя он так, что, видать, совсем рехнулся. Ну да ничего, авось как-нибудь справимся!.. Лево руля!.. И давай разберемся хорошенько, что там такое творится!
Снежок взялся за рулевое весло и, повинуясь приказу своего «капитана», снова повел «Катамаран» к дрейфующей гичке, матрос же и Вильям стали грести.
Трудно сказать, заметил ли человек в гичке плот. Скорее всего, это не дошло до его сознания. Страшные вопли и бессвязные речи, казалось, ни к кому не были обращены. То был лишь дикий бред помешанного.
Все еще царил серый предрассветный сумрак, и над водой поднимались легкие испарения. Правда, катамаранцы даже сквозь дымку тумана узнали гичку и капитана «Пандоры», но удалось им это потому, что все происшествия были слишком свежи в их памяти. И лодка и человек в ней виднелись лишь смутно. Возможно, капитан их не заметил и до сих пор не догадывается об их присутствии.
Пока они приближались, с каждым мгновением становилось все светлее. Теперь их, несомненно, уже увидели, так как человек в гичке продолжал вопить, выкрикивая бессмысленные слова: «Эй, парус! Корабль, эй! Что это за судно? Стой, будьте вы прокляты! Стой, чертовы олухи, а не то я вас потоплю!»
Так беспорядочно выкрикивал он отрывистые фразы, перемежая их пронзительными воплями и сопровождая свою речь возбужденными и нелепыми жестами. Все это могло бы вызвать смех, если бы не производило такого гнетущего впечатления.
Свидетели этой сцены уже не сомневались: бывший капитан «Пандоры» сошел с ума.
Приближаться к нему опасно, — это понимали и катамаранцы. Поэтому, подойдя к лодке на полкабельтова, они перестали грести, решив вступить в переговоры и посмотреть, не удастся ли успокоить помешанного разумными словами.
— Капитан! — закричал моряк, окликнув своего бывшего командира самым дружелюбным тоном. — Это я! Неужели не узнаете? Я — Бен Брас, матрос с вашей старой «Пандоры». Мы все время плавали здесь, на этом маленьком плотишке, с тех самых пор, как сгорело судно. Я и Снежок…
Дьявольский вой вырвался из глотки помешанного и прервал речь матроса, только что собравшегося вкратце рассказать о своих злоключениях. Теперь катамаранцы были так близко, что могли ясно видеть выражение лица капитана, его безумную мимику и дико вращающиеся глаза. Не могло быть сомнений, что он сошел с ума. Дальнейшие события вскоре доказали это.
Все время, пока матрос говорил с капитаном, тот молчал. Но, едва услышав слово «Снежок», сумасшедший неожиданно пришел в сильнейшее возбуждение: страшный крик потряс воздух, судорога исказила черты лица, глаза зажглись таким огнем безумия, что жутко стало глядеть.
— Снежок! — завопил он. — Ты сказал — Снежок, назвал имя этого чертова пса! Давай его сюда!.. Ах, дьявол его побери! Это он поджег мой корабль!.. Где он? Пустите меня к нему! Дайте задушить черномазого собственными руками! Я покажу подлому негру, как держать свечку, которая озарит ему дорогу прямо в ад! Снежок!.. Да где же он, где?
Его дико блуждающие зрачки внезапно застыли. И все видели, как он уставился на негра, словно отчаянно силясь разглядеть его.
Пожалуй, Снежок и задрожал бы под этим взглядом, да, к счастью, не успел его заметить. В тот же миг безумец снова испустил отчаянный вопль, подскочил на несколько футов вверх и стремительно ринулся в море.
На одну-две секунды он исчез под водой. Затем снова вынырнул на поверхность и, рассекая волны сильными взмахами, поплыл к «Катамарану».
Глава 91
ПОТЕРЯВШИЙ РАЗУМ ПЛОВЕЦ
Еще несколько мгновений — и он был уже у самого плота. И как смогли бы скитальцы помешать ему взобраться на «Катамаран», не применив грубой силы? Пришлось снова схватиться за весла, и плот понесся в противоположную сторону.
Но безумец плыл с такой быстротой, что несколько раз едва не ухватился за борт рукой. Только когда Бен Брас и Снежок стали грести еще быстрее, они увидели, что сумасшедший их не настигнет. Опять началась погоня, которая пока что разыгрывалась вничью, так как и преследователь и беглецы шли почти с одинаковой скоростью, а если и был небольшой перевес, то на стороне капитана.
Трудно сказать, как долго могла бы длиться эта странная погоня. Быть может, до тех пор, пока не истощились бы силы, которые придавало капитану безумие, и он бы не утонул, — ведь несчастный как будто и думать забыл о том, чтобы вернуться к себе на гичку. Он ни разу даже не оглянулся посмотреть, как далеко позади она осталась. Нет, он плыл только вперед; и взгляд его оставался неотступно прикованным к тому, кто, казалось, всецело завладел его душой, — к негру. Сумасшедший думал только о нем — это было ясно из его речей. Даже в воде он призывал проклятия на голову Снежка; имя это не сходило с уст безумца, угрозы не прекращались.
Погоня не могла затянуться надолго, даже если бы продолжалась до полного изнеможения потерявшего рассудок пловца. Сверхъестественная сила, свойственная безумию, не всегда будет поддерживать его — рано или поздно настанет момент, когда он беспомощно пойдет ко дну.
Но рок судил иначе. Не такой смертью должен был погибнуть несчастный: его ждал иной, более страшный, насильственный конец. Сам он еще не подозревал о нем, а на «Катамаране» уже заметили приближение катастрофы.
Позади, на расстоянии меньше кабельтова, его преследовали два морских чудовища. Страшно было глядеть на этих тварей-то были акулы с головой-молотом! Они были отчетливо видны: поднявшись на поверхность, они плыли за ним, и их темные спинные плавники торчали кверху треугольными остриями. Хотя катамаранцы их прежде не замечали, но, как видно, акулы уже давно держались около гички, несомненно следуя за ней.
Сейчас они бок о бок неслись вперед, вслед за пловцом, с совершенно очевидными намерениями. Они гнались за ним так же яростно, как он гнался за «Катамараном».
Несчастный не видел их и вовсе о них не помышлял. Но даже если бы капитан их и заметил, он вряд ли сделал бы малейшую попытку спастись. Скорее всего, они показались бы ему такими же кошмарными видениями, как те, что уже теснились в его мозгу.
Так или иначе, ему не ускользнуть от этих грозных и разъяренных чудовищ, которые охотятся за ним, — разве только вмешаются люди на плоту. Но если они и пожелают протянуть ему руку помощи, то для этого потребуется самое быстрое и умелое вмешательство. И что же? Они не только захотели спасти его, но страстно устремились на помощь. Сердца катамаранцев дрогнули, когда они увидели этого несчастного помешанного в такой ужасной опасности. Пусть они страшились его, как самого смертельного врага, — все-таки это был человек, их ближний, который вот-вот должен был стать добычей акул.
Чем бы ни грозила эта опасная встреча с буйным помешанным, от которого можно было ожидать всего, — будь что будет! Они перестали грести и повернули обратно навстречу пловцу. Даже Снежок изо всех сил старался подвести «Катамаран» возможно ближе и поспеть на выручку бедняге, который стремился к собственной гибели, ослепленный безумной ненавистью.
Однако их добрые намерения оказались напрасными-человеку суждено было погибнуть! Акулы настигли его прежде, чем катамаранцы успели приблизиться и сделать что-нибудь для его спасения. Те, кто так жаждал его спасти, увидели это и прекратили все старания, оставшись свидетелями трагической катастрофы.
Все произошло с быстротой молнии. Чудовища подплывали к намеченной жертве с обеих сторон, и вот их неуклюжие тела очутились рядом с ним. Сначала ему попалось на глаза одно из них, и так как в этот момент инстинкт заговорил в нем сильнее развенчанного разума, несчастный метнулся в сторону. Но как раз это движение и бросило его во власть другой акулы-та молниеносно перевернулась на спину и схватила его своей широко разинутой пастью.
Раздался страшный крик, и катамаранцы увидели только полтуловища капитана.
Несчастный вскрикнул всего лишь раз. Он не успел повторить вопль, даже если бы хватило сил, — вторая акула подхватила изуродованный обрубок тела и унесла его в безмолвную пучину океана.
Глава 92
НА ЛОДКЕ
Ход назад, к гичке!
Такое решение, естественно, возникло у команды «Катамарана» после того, как они сделались свидетелями ужасной сцены. Оставаться здесь было незачем. Мгновенно обагрившиеся кровью воды, где разыгралась трагедия, уже не представляли интереса для ее невольных зрителей. И, снова повернув плот к дрейфующей гичке, они направились к ней со всей быстротой, какую давали плоту весла и вновь поставленный парус.
Они уже не раздумывали, есть ли в лодке люди и спят ли они или бодрствуют. После всего, что случилось, трудно было представить, чтобы кто-нибудь находился на борту. Наверно, уже задолго до этого часа гичку покинули все, кроме одинокого безумца, который, стоя посередине ее, произносил свои бессмысленные речи, обращая их лишь к океану.
Куда же девались остальные? Вот что занимало команду «Катамарана». Но они так и не смогли найти ответа.
Оставалось только строить догадки; но ни одна из них не выдерживала критики.
Катамаранцы знали о том, что происходило на большом плоту, и это наполняло сердца их отвращением.
Быть может, и на гичке люди вели себя так же? Впрочем, это казалось маловероятным. Известно было, что лодка отошла от горящего судна, нагруженная таким запасом провизии и воды, которого хватило бы если не на долгое путешествие, то, во всяком случае, на много дней. Вильям мог это подтвердить-он собственными глазами видел, как они отчаливали. Так почему же плавание в гичке закончилось столь трагически? Голод не мог быть причиной гибели экипажа. Не могла быть и буря. Так что же тогда?
Если бы на лодку обрушились волны, они затопили бы или опрокинули ее. И тогда капитан не смог бы один управлять ею. Да и как ему удалось бы остаться в живых, единственному из всех шестерых?
Но за это время не было такого сильного шторма, который мог бы вызвать подобную катастрофу. Если только лодка не управлялась из рук вон плохо, моряки никак не могли очутиться за бортом.
Все еще не зная, как найти ключ к этой странной загадке, катамаранны продолжали грести — и наконец подошли к гичке вплотную.
Глазам их открылось ужасающее зрелище. И все-таки они не понимали, что здесь произошло, все оставалось столь же необъяснимым, как и прежде. По всему, что они увидели, можно было только догадываться, что в лодке разыгралась какая-то страшная трагедия и что причиной таинственного исчезновения команды была не ярость стихий, а рука человека.
На дне лодки лежал труп, обезображенный множеством ран: любая из них могла быть смертельной. Лицо было зверски изрезано; череп пробит в нескольких местах, словно следовавшими один за другим ударами тяжелого молота; на груди и на всем теле зияли бесчисленные раны, нанесенные каким-то острым оружием.
Этот истерзанный труп, потерявший человеческий облик, лежал наполовину в воде, скопившейся на дне лодки и походившей на кровь. Ее было так много и она была такого густого, темного оттенка, что как-то не верилось, будто вся эта кровь вытекла из ран одного человека. Алая жидкость, заливая мертвое тело, окрасила его в такой же кроваво-красный цвет.
Невозможно было распознать черты этого страшно обезображенного трупа. Топор, нож или другое оружие изуродовали его до неузнаваемости. Но, несмотря на это, Бен Брас и Снежок вскоре узнали, кто это был. Одежда, обрывки которой местами еще сохранились на теле, помогла признать его. То был помощник капитана с невольничьего судна, слишком хорошо им знакомый.
Но и это открытие не пролило света на таинственное происшествие — наоборот, все стало еще более запутанным. Человек этот был убит-об этом свидетельствовали раны. Судя же по обильному кровоизлиянию, они были нанесены, когда жертва еще жила.
Само собой напрашивалась мысль, что злодейство совершил сошедший с ума спутник. Множество ран, резаных, рваных, колотых, и самый их характер говорили о том, что здесь орудовала рука безумца, — добрую их половину он нанес жертве после смерти, когда жизнь уже угасла в теле.
До сих пор все казалось понятным: безумный капитан убил своего помощника. Оставались невыясненными мотивы убийства. Но разве помешанному нужны какие-нибудь причины, чтобы совершить убийство?
Все же остальное было окутано тайной. Где остальные четверо, чем объяснить их отсутствие? Что с ними сталось? Команда «Катамарана» могла только высказывать догадки — одну страшнее другой. Наиболее разумным показалось то, что предполагал Снежок.
Наверно, капитан и его помощник, утверждал негр, сговорились между собой. Они решили убрать с дороги других и захватить для себя все запасы воды и продовольствия, чтобы таким образом иметь больше шансов выжить. Тем или иным путем им удалось осуществить свой жестокий замысел. Может быть, завязалась драка, и эти двое силачей, более крепкие, чем остальные, оказались победителями: а может, обошлось и без всякой борьбы. Злодеяние могло совершиться ночью, пока ничего не подозревавшие товарищи крепко спали, или даже среди бела дня, когда команда напилась до бесчувствия, — ведь недаром на гичке, среди прочих запасов, имелся спирт!
Омерзительно было даже представить себе все это; тем не менее ни Снежок, ни матрос не могли прогнать эти мысли. Иначе нельзя было объяснить ту ужасающую драму, которая произошла в этой залитой кровью лодке.
Если только их догадки справедливы, неудивительно, что единственный оставшийся в живых участник таких сцен сделался буйно помешанным-разум его не выдержал!
Глава 93
«КАТАМАРАН» ПОКИНУТ
Некоторое время катамаранцы стояли и рассматривали гичку и безжизненное тело в ней; во взглядах их читалось отвращение.
Впрочем, они прошли уже через столько ужасов, что и это чувство притупилось и мало-помалу совсем прошло.
Не время и не место было предаваться чувствительности и бесплодным раздумьям. Слишком сильно угнетали их собственные бедствия, и, вместо того чтобы понапрасну строить догадки о прошлом, они обратили свои мысли к будущему.
Прежде всего надо было решить: что делать с гичкой?
Конечно, они возьмут ее себе — какой тут может быть вопрос!
Правда, «Катамаран» сослужил им добрую службу. До сих пор он спасал им жизнь, и только ему они были обязаны тем, что еще не утонули.
Им было так уютно на самодельном суденышке! Только бы продолжалось затишье: пока у них еще остается вода и съестные припасы, они чувствуют себя в полной безопасности. Но плот движется вперед слишком медленно, и путешествие может затянуться дольше, чем хватит запасов, а это означает верную смерть. Едва ли им посчастливится в другой раз наловить рыбы; а если выйдет вся вода, и думать нечего раздобыть ее снова. Пожалуй, придется дожидаться целые недели, пока опять пройдет такой ливень: а если при этом разразится буря, не удастся собрать ни единой кварты воды.
Но тихий ход-это не единственный упрек, который можно адресовать «Катамарану».
В прошлую ночь, во время бури, они на опыте убедились, как ненадежен их плот: если его настигнет настоящий шторм, бурное море разнесет его в щепки. Под натиском волн лопнут тросы и разойдутся бревна. А если даже они и устоят и порожние бочки-поплавки удержат плот на плаву, все равно волны смоют катамаранцев за борт, — и они найдут свою смерть в океане.
Сколько еще пройдет времени, пока они пристанут к твердой земле, и можно ли надеяться на неизменно хорошую погоду?
Вот если у них будет такая превосходная гичка — тогда совсем другое дело!
Бен Брас отлично знал ее: не раз он плавал на ней гребцом.
Это была легкая, быстроходная лодка, даже когда она шла только на веслах. А если установить еще и парус, то при попутном ветре смело можно рассчитывать на скорость от восьми до десяти узлов в час. Тогда, возможно, в недалеком будущем удастся попасть в полосу пассатов и позднее бросить якорь в каком-нибудь порту на южноамериканском побережье, а может, в Гвиане или Бразилии.
Размышления эти заняли всего несколько секунд. Все было обдумано задолго до того, как они подошли к гичке.
И, конечно, неудивительно, что такие мысли как-то сами собой приходили на ум при одном виде лодки.
Сейчас в их распоряжении очутилась гичка с высокими мореходными качествами. Как же могло прийти им в голову бросить ее на произвол судьбы? Нет, надо покидать плот…
Если они и задумались, прежде чем перебраться со всеми своими пожитками с «Катамарана» на гичку, то всего на краткий миг, прикидывая в уме, как бы поудобнее обставить свое переселение.
Прежде всего придется привести лодку в надлежащий порядок, а тогда уже и перебираться. Итак, едва оправившись от потрясения, вызванного представшим перед ними отвратительным зрелищем, матрос и Снежок сразу же принялись за работу: надо было убрать мертвое тело с глаз долой, а также удалить всякий след кровавой борьбы, происходившей в гичке.
Изуродованный труп был выброшен в море и сразу же исчез под водой. Впрочем, едва ли он пошел на дно: на этом месте все еще кружили те хищные чудовища, которые растерзали потерявшего разум капитана. Они алчно подстерегали новую добычу для своего ненасытного брюха.
Катамаранцы вычерпали красную от крови воду, начисто отмыли кровяные пятна на досках и сполоснули лодку свежей морской водой, выплеснув потом и ее за борт. Так работали они до тех пор, пока от прежних ужасов и следа не осталось.
Наши скитальцы сохранили в лодке то немногое, что в ней нашлось, — авось пригодится в дальнейшем. Правда, там не оказалось ни кусочка съестного, ни капли воды, годной для питья. Но зато им достался вполне исправный корабельный компас. А матрос слишком хорошо знал цену этому сокровищу, чтобы расстаться с ним, с таким компасом не сбиться с пути даже в самую облачную погоду.
Когда в гичке все было готово для новоселья, путешественники принялись переносить сюда свои запасы с «Катамарана». С особыми предосторожностями они подняли на борт бочку воды, так же как и маленький бочонок драгоценного канарского. Затем перенесли с одного суденышка на другое сундучок, в котором была уложена сушеная рыба, весла и другое имущество, причем в гичке все было так пристроено, чтобы у каждой вещи был свой уголок.
Места хватило на все с избытком-лодка была просторная, рассчитанная на двенадцать человек; и команда «Катамарана» сумела расположиться в ней со всем своим скарбом вполне удобно.
Напоследок перенесли мачту и парус. Их сняли с «Катамарана», чтобы установить на гичке, и оказалось, что по размерам они как раз к ней подходят.
Итак, на плоту не осталось ничего, что могло бы пригодиться нашим путешественникам в дальнейшем плавании. После того как «Катамаран» лишился мачты и паруса, он казался совершенно опустевшим. Когда развязали канаты, соединявшие гичку с плотом во время переселения на новое «судно», какое-то уныние охватило всех. Они успели привязаться к своему суденышку, такому утлому и нелепому на вид, как люди привыкают к любимому дому. Да ведь это и был их дом среди водной пустыни, и они не могли расстаться с ним без глубокого сожаления.
Может быть, отчасти поэтому у них не хватило духу сразу же приналечь на весла и уйти подальше от плота. Впрочем, и без того нашлись причины задержаться вблизи «Катамарана».
На гичке предстояло еще установить мачту и прикрепить к ней парус; и так как лучше было проделать это все сразу, они тотчас принялись за работу.
Пока они были этим заняты, гичка шла по ветру, делая два-три узла в час. Но оба суденышка все не могли расстаться, так как ветер с той же скоростью гнал вперед и лишенный снастей плот, который теперь неглубоко сидел в воде. Когда же наконец мачта была установлена на самой середине лодки и скитальцы готовились поднять парус, расстояние между гичкой и плотом оказалось меньше кабельтова.
«Катамаран» все шел позади, за кормой, и так быстро, словно твердо решил не остаться одиноким среди этой безлюдной водной пустыни.
Глава 94
СТАДО КАШАЛОТОВ
Казалось, настал момент навсегда проститься с плотом, который спас их от стольких опасностей. Еще несколько мгновений — парус будет поднят и лодка быстро понесется по волнам; они никогда больше не увидят еле-еле ползущий вслед «Катамаран». Еще несколько миль — и он навсегда скроется из глаз. Так предполагали они, начиная ставить парус.
Как мало думали они о том, что ждет их впереди! Рок не сулил им такой внезапной разлуки. Счастье еще, что «Катамаран» так упорно следовал за ними по пятам, как бы предлагая приют-тихую гавань, «островок спасения», где они смогут укрыться. Увы! Скоро-скоро им так понадобится пристанище!
Итак, они принялись ставить парус. С такелажем управились как следует
— парусину натянули на рею, фалы закрепили и сделали все, что полагалось; оставалось только поднять и подтянуть парус.
Последнее было минутным делом, но заняться этим не пришлось.
Матрос и Снежок стали уже подтягивать парус, как вдруг у Вильяма вырвалось восклицание, и оба они прервали работу.
Юнга вглядывался в океанскую даль, не отрывая глаз от какой-то точки. Рядом стояла Лали и смотрела в туже сторону.
— В чем дело, Вильм? — нетерпеливо спросил матрос, подумав, не парус ли увидел юноша.
Вильям и сам загорелся этой надеждой. Он заметил на горизонте какой-то беловатый диск, который показался было ему поднятым парусом, но тут же исчез, словно растаял в воздухе.
Вильяму стало стыдно, что он только зря поднял тревогу. Едва он собрался оправдаться, как снова показалось что-то белое, поднимаясь к самому небу. На сей раз все это заметили.
— Вот, вот что я видел! — сказал поднявший панику юнга, признаваясь в своей ошибке.
— Эх, малыш, если ты это принял за парус, — возразил матрос, — то ты ошибаешься. Это кашалот выпускает свой фонтан, только и всего.
— Да тут не один… — сказал Вильям. — Посмотрите вон туда, там их с полдюжины!
— Правильно, паренек! Только какое там с полдюжины, скажи лучше — с полсотни! Примерно столько и будет, никак не меньше. Ведь ты увидел шесть фонтанов сразу!.. Да тут их большое стадо — пожалуй, целый косяк!
— Вот так штука! — вскричал Снежок, рассмотрев китов. — Они идут сюда!
— Верно… — пробормотал бывший гарпунер; в тоне его не чувствовалось радости по поводу такого открытия. — Прямо на нас. Эх, не по душе мне это!.. Они перекочевывают куда-то, это я вижу. Боже сохрани, попасться им на пути в такое время — да еще в такой лодчонке, как наша!
Услышав это, катамаранцы перестали возиться с парусом. Стадо китов, которое делает переход или забавляется прыжками, — зрелище настолько редкое и в то же время захватывающее, что вызывает величайший интерес; и путешественник, который оставит его без внимания, верно, должен быть поглощен очень серьезными занятиями.
Как великолепны движения этих морских великанов, когда они, рассекая волны, прокладывают себе путь в лазурной стихии, то вздымая ввысь перистые столбы белого пара, то взметая свои широкие, веерообразные хвостовые лопасти! Иногда они подскакивают на несколько футов вверх, а потом шлепаются обратно в воду всем своим гигантским телом, вызывая такое волнение, что в океане вздымаются громадные волны с белыми гребнями, словно изошел сильный шторм.
Такие мысли проносились в голове у бывшего китобоя, когда он увидел, что стадо кашалотов мчится прямо на их утлое суденышко. Он знал, что мертвая зыбь, которая поднимается на пути у кита, идущего напролом, может потопить самую большую лодку. А если хоть одному из этих китов, что несутся сейчас прямо на них, вздумается мимоходом выпрыгнуть из воды, едва ли скитальцы смогут что-нибудь поделать — гичка разлетится в щепы.
Впрочем, уже не было времени размышлять над всякими случайностями. В тот момент, когда катамаранцы впервые заметили китов, те находились на расстоянии не более мили отсюда; а так как они двигались со скоростью десяти узлов в час, то не прошло и нескольких минут, как передний был уже почти рядом — там, где находились лодка и покинутый плот.
Киты двигались довольно беспорядочно, хотя там и сям попадались группы из четырех или пяти особей, которые шли стройной шеренгой. Стадо занимало пространство около мили в окружности; и как раз в самом центре его, на несчастье, покачивались на волнах две хрупкие скорлупки: гичка и брошенный «Катамаран».
Это был один из самых громадных косяков, какие только приходилось видеть Бену Брасу в своей жизни. В нем насчитывалось около сотни голов, все взрослые самки с сосунками; среди них выделялся единственный старый самец-вожак и защитник стада.
Не успел матрос кончить свои наблюдения, как кашалоты уже шли мимо; море взволновалось на целые мили вокруг, как если бы пронесся шторм, оставив после себя мертвую зыбь.
Киты проходили один за другим, плавно скользя по воде с такой грацией, которая могла бы вызвать восхищение любого, кто наблюдал бы за ними из безопасного места. Но люди, смотревшие с гички, трепетали, глядя на их величественные движения, слыша их шумное дыхание, подобное грохоту прибоя.
Киты уже почти все прошли, и команда гички только что собралась вздохнуть свободнее, как вдруг они заметили, что самый крупный в косяке, старый самец, отстал от остальных и теперь идет прямо на них. Из воды высовывались его голова и часть спины объемом в несколько морских саженей. Время от времени он ударял хвостом по воде, словно подавал сигнал идущим впереди, указывая им путь или предостерегая от грозящей опасности.
Злобой дышал весь облик «патриарха» морей. Едва заметив его, Бен вскрикнул, предупреждая товарищей. Но крик вырвался у него лишь инстинктивно: ничто уже не могло предотвратить грозную встречу.
Никто не успел не только сделать, но и подумать что-либо. Почти в тот же самый миг, как раздался предостерегающий крик матроса, кит обрушился на них. Все они почувствовали, как их с силой подбросило в воздух, словно выстрелом из катапульты: и сразу же вслед за тем они полетели головой вниз, в бездонную пучину океана.
Все четверо сейчас же вынырнули вновь. Матрос и Снежок, придя в себя первыми, стали искать глазами гичку. Увы! Ее не было. На воде плавали обломки: разбросанные в беспорядке весла, гандшпуги, оторванные доски и другие предметы. Среди них барахтались фигурки, в которых можно было узнать юнгу Вильяма и малютку Лали.
Картина мгновенно изменилась.
Раздалась команда: «Ход назад, на «Катамаран»! И через двадцать секунд юнга уже плыл рядом с матросом к плоту. Туда же, посадив себе на левое плечо Лали и рассекая волны, устремился и Снежок.
Еще минута — и все четверо очутились на суденышке, которое покинули так недавно. И на этот раз они спаслись от гибели в пучине океана!
Глава 95
ХУЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
В этом событии, только что приключившемся с ними, ничего загадочного не было. Когда Бен Брас почувствовал страшный удар, он знал, кто его нанес.
Недаром он предупреждал других, какими опасностями грозит косяк кашалотов во время перекочевки. Правда, спутники его сначала не представляли этого, зато теперь они убедились воочию. Грозный час настал и вновь миновал. Очутившись снова на плоту, они увидели, что ничто более не угрожает их жизни.
Объяснений не требовалось. Обломанные доски с гички, плававшие в воде, и потрясение, ими пережитое, достаточно красноречиво рассказывали, как все произошло. Одним ударом хвоста снизу вверх старый самец разнес лодку вдребезги с такой же легкостью, словно это была яичная скорлупа; обломки он швырнул в воздух на несколько футов вверх вместе со всеми людьми и предметами, находившимися в гичке.
Захотелось ли кашалоту сделать это назло или он просто решил порезвиться, только на это морскому гиганту понадобилось не больше усилий, чем отмахнуться от мухи. Позабавившись, старый самец поспешил вслед за весело играющим косяком, скользя в волнах с таким невозмутимым видом, словно ничего особенного не случилось.
В самом деле, для него ровно ничего не значило ни крушение, ни все, что оно несло с собой. А вот для тех, кого он так бесцеремонно опрокинул, это было настоящей трагедией.
Теперь только, когда катамаранцы довольно сносно устроились на плоту и понемножку стали успокаиваться, они почувствовали всю глубину своего несчастья.
Все их запасы были выброшены в море; весла и другие предметы их обихода носились по волнам; и, что всего хуже, совершенно исчез из виду морской сундучок матроса, который они недавно, спешно перебираясь на гичку, набили до отказа акульим мясом. С таким тяжелым грузом он наверняка пошел ко дну, унося с собой все ценные запасы. Правда, бочка с водой и маленький бочонок с канарским еще не потонули-так тщательно они были закупорены. Но что толку в питье, когда нет еды? А у них не осталось ни кусочка!
Несколько минут они ничего не делали, созерцая обломки — зрелище полнейшего разорения.
Можно было подумать, что это бездействие было вызвано отчаянием, под влиянием которого они как бы оцепенели.
На самом деле причина была иная. Не такие они были люди, чтобы отчаиваться. Они только и ждали удобного момента приняться за работу. А это было невозможно, пока хотя немного не улеглась бы страшная мертвая зыбь, поднятая китами.
На море вздымались волны, «громадные, как горы»; и плот, где катамаранцы кое-как примостились, скорее на четвереньках, нежели стоя на ногах, так сильно качало из стороны в сторону, что они едва удерживались на нем.
Мало-помалу на океане установилось обычное спокойствие, и наши скитальцы, успевшие за это время многое обдумать, принялись за дело.
У них пока еще не было какого-либо определенного плана на будущее.
Прежде всего им хотелось подобрать кое-какие обломки крушения, рассеянные по волнам, и, если возможно, снова оснастить плот, на котором они опять нашли себе пристанище.
К счастью, поблизости виднелась мачта — она вместе с реей и державшимся на ней парусом плавала неподалеку от разбитой лодки. Так как это были наиболее нужные снасти, которых лишился «Катамаран», то теперь, когда они нашлись, казалось, нетрудно будет восстановить плот в его первоначальном виде.
Прежде всего следовало приложить все усилия, чтобы раздобыть хоть какие-нибудь весла. А на это придется затратить немало времени и сил. На лишенном снастей плоте не было даже палки, которая могла бы заменить весло. Им пришлось грести руками.
За время их вынужденного безделья обломки крушения отнесло довольно далеко — вернее, плот, державшийся на воде благодаря пустым бочкам, проплыл мимо них и ушел на несколько кабельтовых вперед.
Надо было идти против ветра — и двигались они медленно, так медленно, что с досады кровь вскипала.
Снежок уже собрался было прыгнуть за борт и пуститься за веслами вплавь, но матрос об этом и слышать не хотел. Он тут же напомнил чернокожему другу, какой опасностью грозят акулы, кишащие в воде. Правда, негр отнесся к этому довольно легкомысленно, но более осторожный товарищ удержал его. Набравшись терпения, они принялись вновь грести руками.
Наконец им удалось поймать два весла, и с этого момента работа пошла живее.
Потом они нашли мачту и парус, выловили их из моря и втащили на плот; опять водворили в надежное место бочонки с водой и вином; один за другим подобрали рассеявшийся по океану инвентарь. Только железные инструменты и топор затонули на дне Атлантического океана.
Но самым тягостным была потеря сундучка со съестными припасами. Это было непоправимо и предвещало еще более страшное несчастье — утрату жизни.
Глава 96
САМЫЙ МРАЧНЫЙ ЧАС
Снова смерть во всей своей мрачной неизбежности смотрела им в лицо. Они очутились без всякой провизии. Ни крошки не сохранилось из всех тех запасов, которые так заботливо и искусно собирались и заготовлялись впрок. Кроме того, что было упаковано в сундучке, на плоту еще кое-где оставались отдельные ломти вяленой рыбы. Их также перенесли в гичку, и, когда она перевернулась, эти запасы тоже утонули.
Подбирая обломки крушения, катамаранцы искали свою провизию в надежде, не удастся ли выловить хоть несколько затерявшихся кусков, но ничего не нашлось. Те припасы, которые плавали на воде, были подхвачены либо акулами, либо другими прожорливыми хищниками океана.
Впрочем, если бы даже нашим скитальцам и попались эти уцелевшие куски, все равно в этот тяжкий момент они не прикоснулись бы к ним: пища, пробывшая столько времени в морской воде, стала бы слишком соленой. Тем не менее они знали, что настанет время, когда придется отбросить подобные причуды. И в самом деле, через несколько часов все четверо почувствовали такие муки голода, что теперь уже не отказались бы и от самой грубой и невкусной пищи. С того момента, когда так спешно пришлось покинуть стоянку у туши кашалота, им еще ни разу не удалось как следует поесть. Урывками, на ходу, они съедали кусочек рыбы, выпивали глоток воды.
Как раз перед последней катастрофой они собрались закусить по-настоящему. Но прежде чем приступить к обстоятельной трапезе, они ждали, когда будет поставлен парус и лодка понесется своим путем.
Одним ударом хвоста кашалот разрушил весь тот уют, который они пытались себе создать. К несчастью, крушение, так много уничтожившее, нисколько не повлияло на их аппетит.
Время шло. Они продолжали трудиться в поте лица, подбирая обломки крушения, а голод все усиливался; все четверо почувствовали, что таких мучений они еще не испытывали с самого начала этого долгого и опасного плавания.
Работа не спорилась у людей, почти до полусмерти измученных голодом.
Поместив в надежном месте различные предметы, подобранные в океане, так, чтобы их не смыло обратно в воду, они принялись раздумывать, где бы раздобыть новые запасы провизии.
Конечно, прежде всего они подумали о рыбах. Ведь только они и могли бы послужить им пищей.
Воодушевленные прежними успехами в рыбной ловле, катамаранцы и сейчас охотно занялись бы ею, если бы, к несчастью, обстоятельства не изменились.
Среди безвозвратно затерявшихся в море вещей оказались и крючки. А гарпуны, послужившие им столь смертоносным оружием, так и остались в туше кашалота. Они торчали в спине у мертвого великана, превращенные в самодельный вертел для поджаривания мяса акулы. Словом, все железные предметы, даже их собственные ножи, брошенные в гичку как попало, очутились на дне морском.
Не осталось ни кусочка металла, из которого можно было бы смастерить крючок, а если бы и удалось разыскать, что пользы в том? Все равно негде достать хоть крошечку мяса для наживки.
Казалось, сколько ни ломай себе голову, нет ни малейшей возможности наловить рыбы. С отчаянием в душе они были вынуждены в конце концов отказаться от этой мысли.
В этот тяжкий час они вспомнили о кашалоте, но не о том выскочившем из воды морском великане, чьи вражеские действия так неожиданно омрачили их радужные перспективы; нет, им вспомнился убитый кашалот, у громадной туши которого они недавно делали стоянку. Там, быть может, удастся раздобыть хотя бы что-нибудь съестное. А если нет, найдется вдоволь китового мяса или жира. Правда, мясо у кашалота жесткое, но жизнь поддержать оно все же может. Зато там его столько, что можно битком набить провизионные склады для команды не только большого корабля, но и целой эскадры!
Пожалуй, им и удалось бы найти обратный путь. Они шли по ветру — ветер же дул все еще с той стороны. Все расстояние, пройденное за ночь, можно пройти обратно в короткое время.
Впрочем, даже в лучшем случае, если им придется бороться только со стихиями, и то это будет трудным предприятием с сомнительным исходом.
На пути у них вставало препятствие, более страшное, чем сопротивление ветра или опасение сбиться с курса.
Наверно, на покинутую стоянку вернулись их преследователи; и, быть может, в этот момент они пришвартовывают свой плот к тому самому огромному грудному плавнику, где еще так недавно стоял «Катамаран».
Поэтому мысль о том, чтобы вернуться к кашалоту, не встретила поддержки и тут же была отклонена.
Мрачные думы терзали катамаранцев, пока они сидели и размышляли над этим вопросом; мрачные, как эти ночные тучи, которые стремительно опускались на море и окутывали их непроницаемой мглой.
Никогда еще они так не падали духом! И все же никогда они не были столь близки к избавлению от всех бедствий. Этот самый тяжкий час уныния предшествовал их спасению, так же как самый темный час ночи — тот, который предшествует дню.
Глава 97
ВЕСЕЛЯЩАЯ ЧАРОЧКА
Они и не пытались сдвинуться с того места, где застало их заходящее солнце.
Наши скитальцы до сих пор еще не установили мачту с парусом, а трудиться над веслами, казалось, не имело смысла. Стоило ли терять силы на греблю, если все равно движешься так медленно! Да и вообще возникал вопрос: что пользы и дальше держать курс на запад? Так или иначе, нет ни малейших шансов добраться до твердой земли прежде, чем они умрут голодной смертью, А умереть от голода они могут и не трогаясь с места. Такая смерть одинаково мучительна, что здесь, что там. Не все ли равно, под какими широтами проведут они последние минуты своей жизни?
Таково было состояние духа, в которое впали катамаранцы под влиянием пережитых бедствий. Ими овладело какое-то оцепенение, напоминавшее скорее бесчувствие отчаяния, чем покорность судьбе.
Так печально тянулось время в темноте и угрюмом молчании, как вдруг одно незначительное обстоятельство заставило их встрепенуться. Это был голос Бена Браса, предлагавшего ужинать. Услышав его со стороны, можно было вообразить, что моряк сошел с ума. Но его товарищи так не думали. Они поняли, что он имел в виду. И от них не укрылся тот нарочито жизнерадостный тон, которым он хотел их подбодрить. Предложение, сделанное Беном, вовсе уж не было такой бессмыслицей; правда, назвать «ужином» то, что он предлагал, можно было только условно.
А впрочем, что за важность! Все же это было нечто такое, что могло заменить ужин, правда, не столь существенный, как им хотелось бы. Но зато это могло не только продлить им жизнь, но и на мгновение облегчить сердце от гнетущей тяжести. То была чарка канарского.
Катамаранцы не забыли, чем они владеют. Иначе, пожалуй, они впали бы в еще большее отчаяние. В бочке оставалось немного драгоценного виноградного сока, надежно хранившегося в их старой «кладовой». До сих пор они удерживались от соблазна пригубить его, сберегая на крайний случай. Теперь, казалось, момент настал, и Бен Брас предложил на ужин чарку вина.
Разумеется, никто и не думал возражать против столь заманчивой перспективы.
Вынули втулку из бочонка, взяли маленькую роговую мерку, найденную среди обломков разбитой гички, тщательно прикрепили ее к бечевке, опустили в бочонок и вынули оттуда, полную сладкого вина. И пошла она гулять вкруговую
— от одного к другому; первыми коснулись ее хорошенькие губки маленькой Лали. Еще и еще окунали чарку и наконец водворили втулку на прежнее место. Так, без излишних церемоний, закончился этот ужин.
И не знаю, было ли то бодрящее действие вина или же наступила естественная душевная реакция, обычно приходящая на смену отчаянию, — только оба они, и матрос и Снежок, закупорив бочку, вновь принялись строить планы на будущее. И снова робкая надежда закралась в их сердца. Беседа шла о том, не попытаться ли немедленно, не теряя ни минуты, снова установить мачту и поднять парус. Правда, ночь была черна, как смола, но что из того?
Можно проделать это и без света; а если понадобятся канаты, то-уж будьте покойны! — они и с ними управятся без труда, будь ночь хоть вдесятеро темнее. Так выразился по этому случаю Снежок, хотя это и казалось физически невозможным.
Убеждая товарища, матрос приводил следующий довод: если идти вперед, худа не будет. Раз двигателем будет парус, от них больше не потребуется усилий, независимо от того, тронется ли плот или станет неподвижно на месте.
Конечно, рассуждение было малоубедительное. Вряд ли с его помощью можно было добиться толку и убедить негра, по природе фаталиста, который порой бывал весьма бездеятельным. Но Бен Брас пустил в ход еще один более серьезный довод, и Снежок с готовностью согласился.
— Только вперед! — молвил Бен. — Так скорей увидим судно, если оно попадется на пути. А если заляжем здесь, что твоя колода, то как бы не нагрянули сюда те мучители. Знаешь, ведь они идут с наветренной стороны да еще под парусом… Если только не вернулись назад, к кашалоту. Ну, тогда нам нечего их бояться. А впрочем, кто его знает: лучше принять меры. Давай поставим napyc!
— Вот славно, масса Брас! — ответил Снежок, который и раньше противился только для виду. — Правильно вы говорите. Только скомандуйте — и я отвечу: «Есть ставить парус!» Ветерок-то чудесный!.. Хотите — примемся за дело сию же минуту!
— Ладно, — откликнулся матрос, — давай начнем! Натягивай парусину! Чем скорей, тем лучше…
Больше они ни о чем не говорили. Изредка только передавались вполголоса указания или приказ Бена, вместе со Снежком занятого установкой мачты на «Катамаране». Как только с этим управились, поставили вертикально рею, туго натянули и закрепили шкоты; и мокрый парус, поднятый снова, наполнился ветром и с каким-то певучим звуком помчал плот по волнам.
Глава 98
КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК ИЛИ КОРАБЛЬ В ОГНЕ?
Теперь «Катамаран» снова шел под парусом по своему прежнему курсу. Казалось, для команды все опять стало по-старому, как было до встречи с убитым кашалотом. К несчастью, это было далеко не так!
Обстоятельства изменились к худшему. Тогда у них еще оставалась провизия; правда, на полный рацион не хватало, но все-таки имелись небольшие запасы, рассчитанные на довольно продолжительное время. Более того, в их распоряжении имелось кое-какое оружие и инструменты, при помощи которых они в случае нехватки могли пополнить свои запасы.
Совсем другое было сейчас. «Катамаран» служил им все так же верно и надежно, оснастка была та же, что и тогда, мореходные качества нисколько не пострадали. Зато снабжение было уже не на прежней высоте, особенно «продовольственный отдел», и это тяжко угнетало команду.
Вскоре уныние охватило их снова; но, несмотря на это, катамаранцы не могли противиться сну. Пусть читатель вспомнит, что в прошлую ночь из-за сильной бури они спали мало; да и в позапрошлую едва удалось чуть-чуть вздремнуть — так они заняты были поджариванием мяса акулы.
Истощенный организм настоятельно требовал отдыха. Все буквально с ног валились — и команда в полном составе отправилась на покой. Никто не остался даже на вахте у руля.
Порешили на том: пустить плот по воле ветра, пусть идет куда хочет.
Дыхание небес! Только оно одно уносило «Катамаран» все дальше по его пути.
Как далеко ушел плот, предоставленный самому себе, не записано в вахтенном журнале. Засечено только время; известно, что полночь наступила раньше, чем пробудился кто-либо из команды, — так крепко уснули все, умаявшись с установкой паруса.
Первым очнулся Вильям.
Юнга никогда не спал крепко, а в эту ночь сон его был особенно тревожен. На душе было неспокойно; еще прежде, чем он прилег отдохнуть, его мучило какое-то неясное волнение. Меньше всего он боялся за собственную судьбу. Хотя он и был еще молод, но уже чувствовал себя настоящим моряком и не мог терзаться только эгоистическими соображениями — он волновался за малютку Лали.
Вот уже много дней, как он следил за переменой во всем облике этого юного существа. Он замечал, как мало-помалу щеки ее становились все бледнее, как быстро таяла ее маленькая фигурка. Сегодня, после этого страшного потрясения, которое им всем пришлось вынести, юная креолочка особенно, казалось, ослабела — больше чем когда бы то ни было. И, засыпая, юнга томился грустным предчувствием, что именно она сделается первой жертвой тех тяжких испытаний, которые им еще сулит судьба, и что скоро-скоро это должно свершиться.
Юношеская привязанность и тревога за милую ему девочку не давали юнге заснуть крепко.
И хорошо, что так случилось, — иначе, пожалуй, его не разбудило бы яркое пламя, около полуночи вспыхнувшее на море, на траверзе «Катамарана». А если бы он не проснулся, ни ему, ни его трем спутникам не пришлось бы, пожалуй, больше увидеть человеческое лицо, разве только в предсмертной агонии, взглянув в глаза друг другу.
Озарив далеко кругом темные воды океана, пламя осветило спящих катамаранцев. Оно сверкнуло юнге прямо в глаза — и Вильям проснулся.
Встрепенувшись, он смотрел на видение, которое поразило и в то же время встревожило его. Да, сомнений быть не может — это корабль или какое-то его подобие; но таких кораблей юнга еще не встречал.
Казалось, судно объято огнем. Большие клубы дыма поднимались с палубы и стлались над кормой, ярко озаренной огненными столбами, которые вздымались ввысь перед фок-мачтой, достигая почти нижних вантов. Всякий непривычный к такому зрелищу человек, едва взглянув, тотчас же подумал бы: на судне пожар!
А между тем Вильям уже должен был разбираться в том, что видел сейчас. К несчастью, зрелище горящего корабля не было для него ново. Он сам был очевидцем гибели судна, которое привезло его в Атлантический океан, да так и оставило здесь по сей день, в страшнейшей опасности для жизни.
Но воспоминания об этом пожаре не очень-то помогли ему понять, что сейчас творится у него перед глазами. Он видел, как на палубе «Пандоры» люди метались в диком ужасе, спасаясь от пламени. Здесь же, на корабле, который маячит вдали, бросается в глаза совершенно обратное. Он видит, как люди стоят перед самыми огненными столбами и не только остаются спокойными вблизи бушующего пламени, но как будто даже стараются разжечь его еще сильнее.
Подобное зрелище могло поразить ужасом и глубоко смутить даже самого бывалого моряка. При виде этого невольно хотелось спросить: «Что это, корабль-призрак или корабль в огне?»
Глава 99
КИТОБОЙНОЕ СУДНО
Все эти наблюдения, так подробно нами описанные, отняли у юнги не более десяти секунд. В мгновение ока одним взглядом охватил он это странное зрелище, так неожиданно открывшееся перед ним. Ему и в голову не пришло доискиваться ответа на возникший вопрос. Потрясенный ужасом и изумлением при виде этого призрачного явления, он быстро разбудил товарищей.
Все трое, очнувшись, сразу же закричали. Но крики, вырвавшиеся одновременно, свидетельствовали о самых противоречивых чувствах. Девочка взвизгнула в сильнейшем испуге. Снежок завопил, обуреваемый смешанным чувством изумления и тревоги. А матрос, к вящему удивлению Вильяма и других, возликовал безудержно и вскочил на ноги так проворно, что резким движением чуть не опрокинул «Катамаран».
Не успел никто и рта раскрыть, чтобы спросить в чем дело, как Бен Брас уже стоял, выпрямившись, и кричал и вопил что было силы.
Матрос все отчетливее повторял такой привычный, давно знакомый отклик: «Эй, на корабле!»-вместе с другими приветствиями, принятыми по морскому обычаю, когда видят проходящее судно.
— Убей меня Бог, это корабль! — вставил словечко Снежок. — И на судне пожар.
— Да нет же! — нетерпеливо возразил бывший гарпунер. — Ничего подобного! Это просто китобойное судно, на котором вытапливают жир из убитых кашалотов. Не видишь разве, как люди стоят у салотопенных котлов и подбрасывают туда куски жира?.. Боже милосердный! А что, если они пройдут мимо, да так и не услышат, что мы их окликаем!.. Эй, на корабле! Эй, китобой!.. — И матрос снова закричал во всю мочь своих богатырских легких.
Тут и Снежок присоединил к нему свой зычный голос. Моментально сообразив со слов бывшего гарпунера, в чем дело, он понял, как важно, чтобы их услыхали.
Несколько минут «Катамаран» гремел криками: «Эй, на корабле! Эй, китобой!..» Казалось, их можно было услышать даже дальше, чем находилось отсюда это загадочное судно. Но, к ужасу катамаранцев, им не отвечали.
Теперь они уже ясно различали корабль и видели все, что делалось на борту. Два огненных столба, высоко поднимаясь из-под огромных салотопенных котлов, установленных перед самой фок-мачтой, освещали не только палубу, но и океан на многие мили кругом.
Наши скитальцы видели, как большие клубы густого дыма, озаренные желтоватым отблеском бушующего пламени, окутывают корму и как в зареве ярких огней маячат призрачные тени людей, кажущихся великанами. Одни стоят перед самой топкой, другие расхаживают вокруг, и все усердно заняты каким-то делом, которое показалось бы любому, кроме бывшего гарпунера, сплошной чертовщиной.
Но, несмотря на всю отчетливость, с которой они это видели, и на близость корабля, люди на плоту не могли добиться, чтобы их услышали, как громко они ни кричали.
Это показалось катамаранцам таким странным, что и в самом деле они готовы были поверить, будто перед ними корабль-призрак, а гигантские фигуры, виднеющиеся на нем, не люди, а привидения.
Но бывший гарпунер был слишком умудрен опытом, чтобы поверить такой нелепице. Он знал, что это обыкновенное китобойное судно со своим экипажем, и понимал также, почему матросы не отвечают на его оклик: они попросту не слышат. Рев пламени заглушает все остальные звуки, и китобои не различают даже голосов стоящих рядом товарищей.
Все это пришло на ум Бену Брасу, и смертельный ужас охватил его при мысли, что корабль может пройти мимо, так и не услышав и не заметив их.
Вероятно, они не миновали бы столь плачевного исхода, если бы удача не благоприятствовала им. Их спасло одно обстоятельство, которое и привело к более счастливому завершению эту случайную встречу двух скитальцев океана — «Катамарана» и китобойца.
Китобойное судно, где, судя по всему, перетапливался жир недавно загарпуненного кита, легло в дрейф против ветра; конечно, теперь оно не могло быстро двигаться вперед, да, впрочем, команда и не слишком заботилась об этом.
Пока китобоец медленно подходит, держась носом почти по ветру, катамаранцы смогут без труда подвести свое суденышко к нему вплотную с наветренной стороны.
Матрос живо сообразил, какой козырь у них в руках. Как только он убедился, что с такого расстояния их оклики все равно не услышать, тотчас же бросился к рулевому веслу, повернул его и повел плот прямо на китобойное судно, словно решился с ним столкнуться.
Еще несколько мгновений-и «Катамаран» очутился на расстоянии одного кабельтова от носовой части судна. И тут-то Снежок с матросом снова подняли оглушительный крик: «Эй, на корабле!..» Хотя на этот раз оклик и был услышан, но ответили на него не сразу. Матросы, привлеченные возгласами людей на плоту, глазели на освещенную огнями воду и, завидев прямо под носом своего корабля такое диковинное суденышко, на мгновение оцепенели от удивления.
Однако бывший гарпунер вскоре нашел с ними общий язык. И через десять минут катамаранцы уже не дрожали от холода в насквозь промокшей одежде, а голодный желудок уже не терзал их, делая еще несчастнее. Теперь они стояли перед жарко пылавшим огнем, около стола, накрытого для обильной и питательной трапезы. Их окружало множество простых, честных людей, и каждый наперебой старался превзойти другого в заботах о том, чтобы им было хорошо.
Глава 100
КОНЕЦ ПОВЕСТИ
Итак, катамаранцы уже больше не были «затерянными в океане». Они объединились с экипажем китобойного судна, а их маленькая пассажирка нашла себе приют и ласку в каюте капитана.
Сам «Катамаран» не был брошен и не «отдал якорь», как говорят моряки. Его разобрали на части и подняли на борт корабля, где он еще должен был послужить для самых разнообразных целей: найдут себе применение и канаты, рангоут и парус, бревна пойдут в распоряжение плотника, а бочки попадут к бондарю, где их, вероятно, наполнят тем дорогостоящим спермацетом, вытапливанием которого занята команда.
Побыв недолго на судне, Бен Брас убедился, насколько правильна оказалась его догадка. Это был тот самый китобоец, чьи матросы загарпунили с вельботов и оставили «на буях» мертвого кашалота. Убитый кашалот был самцом из большого косяка, за которым охотились китобои. Не отставая от судна, вельботы погнались за другими кашалотами: китобои убили нескольких из них, но в пылу погони потеряли след того, кого ранили первым.
Все же они собирались отправиться на его поиски, как только кончат обрабатывать туши пойманных кашалотов. Теперь благодаря указаниям Бена Браса капитану китобойного судна куда легче будет разыскать потерянную добычу. Кашалот, по мнению капитана, должен был дать семьдесят-восемьдесят бочонков жира; и, конечно, стоило потрудиться, чтобы вернуться за ним.
На следующий день после того, как потерпевших крушение взяли на борт, судно, погасив огни салотопок, отправилось на поиски кашалота, оставленного «на буях».
К тому времени бывшая команда «Катамарана» уже успела рассказать своим спасителям обо всех приключениях. Наши скитальцы страшились, как бы не встретить около туши разбойничью шайку с большого плота. Такая возможность очень заинтересовала матросов с китобойца. И когда корабль подходил к месту, где ожидали найти оставленного кашалота, все взоры устремились на океан.
Поиски убитого кашалота увенчались успехом. Китобои увидели его в тот момент, когда садилось солнце. Еще до наступления ночи, в сумерках, судно легло в дрейф рядом с тушей. Когда корабль подошел, в воздух взвилась большая стая морских птиц, расположившихся на плавучей массе, — очевидно, людей здесь не было. Большого плота нигде не было видно; никаких признаков того, что он сюда возвращался. Зато сохранилось потешное сооружение вроде колодезного журавля, воздвигнутое катамаранцами на самом верху туши. Оно оставалось точь-в-точь в том виде, как они его бросили, только ломти акульего мяса обуглились и превратились в пепел, да внизу уже не пылал огонь, который их сжег.
Впрочем, недолго была покрыта тaйнoй судьба, постигшая жертвы крушения невольничьего корабля. Дня через три после того, как китобои, разделав тушу кашалота, вытопили жир, судно снова пустилось в плавание. Вскоре они натолкнулись на странную находку: на воде плавали два-три корабельных бруса и несколько пустых бочек. Нетрудно было признать в них обломки большого плота с «Пандоры», носившиеся по волнам неподалеку от места, где китобои только что разделывали убитого кашалота.
Можно было догадаться, что произошло. Буря, которую стойко выдержал «Катамаран», оказалась роковой для большого плота. Сколоченный как попало, управляемый из рук вон плохо, он разбился вдребезги, и несчастные матросы, не имея сил уцепиться за бочку или брус, вероятно, пошли ко дну. И Вильям рассказывал потом:
— Так погиб экипаж невольничьего судна. Ни один из них — ни спасавшиеся в гичке, ни на большом плоту — никогда больше не увидел земли. Они погибли в безбрежном океане, погибли страшной смертью, и никто не протянул им руку помощи, никто не оплакивал их!
Поистине, казалось, что чернокожие невольники — жертвы их зверской жестокости — были отомщены!
Если бы в нашу задачу входило рассказать всю последующую историю катамаранцев, это было бы очень приятным занятием, — пожалуй, приятнее, чем описывать плавание их знаменитого «судна».
Но нам остается место только для того, чтобы коротко заключить повествование.
На другой день после того, как Снежок ступил на палубу китобойного судна, он был назначен главным корабельным поваром. В этой высокой должности он оставался несколько лет и покинул ее лишь для того, чтобы занять такое же положение на борту превосходного судна под командованием капитана Бенджамена Браса, который вел постоянную торговлю с Африкой. Но разве это была та самая «африканская коммерция», какой занимались на «Пандоре» и других невольничьих кораблях! О нет, не такие товары перевозил на своем судне капитан Брас! Его трюмы были полны не чернокожими, а белой слоновой костью, желтым золотым песком и страусовыми перьями. И недаром ходили слухи, что после каждого такого рейса на африканское побережье капитан и владелец этого судна всякий раз имел обыкновение совершать экскурсию в Английский банк, где вносил на свой текущий счет кругленькую сумму.
После того как много лет он с неизменным успехом занимался своей торговлей, этот бывший гарпунер, матрос военного флота, некогда командир «Катамарана» и капитан африканского торгового судна, решил удалиться на покой. Он нашел себе тихую пристань и «бросил якорь» на вилле в Хэмпстед Хауз, где и по сей день наслаждается своей трубкой, стаканчиком грога и приятным досугом.
Что же касается «малыша Вильма», то его уже давно перестали так звать-с тех самых пор, как он сделался капитаном первоклассного клипера и повел торговлю с Ост-Индией. Да разве подходит это имя детине шести футов росту, который стоит на шканцах своего собственного корабля, и такой из себя молодец и лицом и фигурой, что, как видно, ему без труда удалось взять в жены нежно любящую его девушку!
Она-красавица, с глубоким, исполненным благородства взглядом, с пышными черными, как смоль, волосами и очень смуглым цветом лица. Кое-кто считает, что в жилах у нее течет восточная кровь и что капитан вывез ее из Индии, возвращаясь на родину после одного из своих обычных рейсов. Но более близкие друзья могли бы рассказать иную историю, которую слышали от него самого: они знают, что жена его-креолка, уроженка Африки, и зовут ее Лали.
Слыхали они также, что впервые он познакомился с ней на борту невольничьего судна и что детская дружба, выросшая потом в любовь, накрепко связала их, когда они — жертвы кораблекрушения — носились по волнам на плоту, затерянные в просторах Атлантического океана.
ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ТРИЛОГИЯ (цикл)
Герои африканской трилогии — бур Гендрик ван Блоом и его дети — путешествуют по Южной Африке в поисках сначала просто места под Солнцем, а потом и способов заработка.
В дебрях Южной Африки, или Приключения бура и его семьи (роман)
Бур Гендрик ван Блоом и его семья терпят страшные бедствия из-за нашествия саранчи. И решают отправиться на поиски нового места жизни.
Глава 1
БУРЫ
ГЕНДРИК ВАН БЛООМ был буром.
Мой юный читатель, не подумай, что я хочу выразить какое-то пренебрежение к минхеру ван Блоому, называя его буром[213]. В нашей милой Капской колонии бур — это фермер. Назвать человека фермером — не попрек. Ван Блоом и был фермером — голландским фермером на Капской земле, иначе говоря — буром.
Буры Капской колонии сыграли в новейшей истории заметную роль. Миролюбивые по складу характера, они оказались все же вовлеченными в ряд войн — и с туземцами Африки и с европейцами — и доказали своею доблестью, что мирные люди, когда нужно, умеют сражаться не хуже тех, кто весь смысл своей жизни видит в разбойной воинской славе.
Буров, правда, обвиняли в жестокости, особенно по отношению к туземцам. Обвинение, пожалуй, справедливое. Верно, что они низвели желтокожих готтентотов до положения невольников, но в те времена мы, англичане, вывозили из Гвинеи за Атлантику полные корабли чернокожих, а испанцы и португальцы обратили в рабство американских краснокожих.
Надо к тому же знать и нравы туземцев, с которыми сталкивались капские голландцы. Все, что дикарям приходилось сносить от колонистов, казалось милосердием по сравнению с тем, что они терпели от собственных деспотов. Это, конечно, едва ли служит оправданием голландцам, поработившим готтентотов, но если принять в соображение все обстоятельства, то какой же морской народ вправе будет назвать их жестокими?
Юный читатель, я многое мог бы сказать в оправдание капских колонистов, но здесь для этого нет у меня места. Могу только заявить, что, по-моему, буры — люди смелые, сильные, здоровые и нравственные, трудолюбивые и мирные. Они поборники правды, друзья республиканской свободы — словом, благородный народ.
Итак, назвав Гендрика ван Блоома буром, разве я проявил этим пренебрежение к нему? Скорее наоборот.
Но минхер Гендрик не всегда был буром. Он мог бы похвалиться более высоким положением, вернее сказать — лучшим образованием, чем то, которое обычно получает рядовой капский фермер, да к этому и некоторой искушенностью в военном деле. Родился он в метрополии, а в колонию пришел не бедным искателем счастья, а офицером голландского полка, стоявшего тогда в тех краях.
Военным он оставался недолго.
Некой розовощекой и златокосой Гертруде, дочке богатого фермера, приглянулся молодой лейтенант, и он тоже ее полюбил. Они поженились. Вскоре после их свадьбы отец Гертруды умер, и большая ферма со всем табуном, с готтентотами, курдючными овцами и длиннорогими быками перешла к Гертруде. Это навело ее мужа-солдата на мысль уйти из полка и стать фее-буром, то есть фермером-скотоводом, что он и сделал.
Случилось это за несколько лет до того, как англичане завладели Капской колонией. К приходу англичан Гендрик ван Блоом стал уже в колонии влиятельным человеком и фельдкорнетом[214] по своему округу, лежавшему в живописной местности, в графстве Грааф-Рейнет. В ту пору он был вдовцом с четырьмя детьми на руках. Его горячо любимой жены, розовощекой, златокосой Гертруды, уже не было в живых.
История расскажет вам, как голландские колонисты, недовольные правлением англичан, восстали против них. Бывший лейтенант, начальник ополчения, сделался одним из видных предводителей повстанцев. История расскажет вам далее, что восстание было подавлено, а многие замешанные в нем лица казнены. Ван Блоом спасся бегством, но его прекрасное имение в Грааф-Рейнете конфисковали и отдали другому.
Несколько лет спустя мы застаем его в дальнем округе за великой рекой Оранжевой, где он ведет жизнь трек-бура, то есть фермера-кочевника, который не избирает постоянного пристанища, а переходит со своими стадами с места на место, оседая на время там, где ему приглянутся пастбища и плещется вода.
В ту пору я и завел знакомство с ван Блоомом и его семьей. О событиях его прежней жизни я успел уже рассказать все, что знаю, но его история за последующие годы известна мне в мельчайших подробностях. Я слышал ее из уст его родного сына. Рассказы молодого человека были очень занимательны и в то же время поучительны. Они явились для меня первыми уроками по зоологии Африки.
И вот, мой юный читатель, решив, что и для тебя они окажутся поучительными и занимательными, я излагаю их в этой книге. Ты не должен видеть в них один лишь вымысел. Все, что ты прочтешь в этой повести о диких животных, об их образе жизни, повадках, инстинктах, ты должен принимать как списанное с природы. Юный ван Блоом был истинным учеником Природы, и на правдивость его описаний можно вполне положиться.
Утратив вкус к политике, бывший начальник ополчения жил теперь на далекой окраине, можно даже сказать — вне границ колонии, потому что от ближайшего европейского поселения его отделяла добрая сотня миль. Его крааль лежал в округе, примыкавшей к великой пустыне Калахари, которую называют Сахарой Южной Африки. Местность на сотни миль вокруг была необитаема: разбросанные тут и там группы бушменов — дикарей, почти лишенных человеческого облика, — едва ли с большим правом можно назвать населением, чем хищных зверей, рыскающих вокруг них.
Я уже сказал, что ван Блоом сделался трек-буром. Фермеры Капской колонии занимаются по преимуществу разведением лошадей и рогатого скота — коров, овец и коз; эти животные и составляют богатство бура. Но у бывшего повстанца осталось теперь совсем небольшое стадо. Попав в «черный список», он лишился былого богатства, а кочевое скотоводство на первых порах не принесло ему удачи. Закон об отмене рабства, принятый английским правительством, распространялся не только на негров Вест-Индских островов, но и на готтентотов Капской земли; поэтому слуги минхера ван Блоома покинули его. Некому было теперь ходить за скотом, и животные стали отбиваться от стада. Иные из них сделались добычей хищников, другие погибли от мора. Табун его поредел от загадочной южноафриканской болезни — «конской хвори», — а отара овец все таяла, расхищаемая гиенами и гиеновыми собаками — симрами.
Так терпел он постоянный урон, пока не осталось у него от силы сто голов лошадей, коров, овец и коз. Все же ван Блоом не считал себя обиженным судьбой. Было у него три славных сына — Ганс, Гендрик и Ян. Была розовощекая, златокосая дочка Гертруда, точный образ и подобие ее покойной матери. Он связывал с ними надежду на лучшее будущее.
Два старших мальчика были ему уже помощниками в его трудах, того же вскоре можно было ждать и от младшего. Гертруда — или Трейи, как называл ее отец ласкательно, — обещала сделаться со временем отличной хозяйкой. Так что он не был несчастлив и если иногда с печальным вздохом смотрел на дочку, то лишь потому, что маленькая Трейи вызывала в его памяти образ покойной Гертруды.
Нет, Гендрик ван Блоом был не из тех, кто склонен впадать в уныние. Неудачи его не сломили. Он с удвоенным рвением принялся наново ковать свое счастье. Ради себя самого он не стремился бы к обогащению. Он удовольствовался бы той же простой жизнью, которую до сих пор вел. Но его смущала забота о будущем семьи. Не мог он примириться с мыслью, что дети его так и вырастут среди необитаемых степей и не получат образования. Нет, они должны со временем вернуться к людям, должны участвовать в жизни цивилизованного общества. Так он решил.
Но как этого добиться? Хотя так называемая «измена» была прощена ван Блоому и он получил право вернуться в пределы колонии, у него не было к тому возможности. Продав все свое поредевшее стадо, он не собрал бы достаточно денег, чтобы переехать в город: их едва хватило бы на месяц жизни. Вернуться
— значило вернуться нищим! Эти размышления поселяли в нем тревогу. Но они же придавали ему энергию и зажигали желанием преодолеть все препятствия, встававшие на его пути.
Последний год ван Блоом трудился с особенным упорством. Стараясь обеспечить на зиму кормом скот, он засеял большое поле кукурузой и гречихой, и теперь и та и другая дали богатые всходы. Его сад и огород тоже цвели и обещали изобилие фруктов, дынь и разных овощей. Словом, тот кусок земли, на котором временно обосновался бывший повстанец, был теперь оазисом в миниатюре. Изо дня в день все с большей радостью ван Блоом взирал на созревающие плоды и посевы. Вновь начинал он мечтать о полном достатке — надеялся, что наступил конец его невзгодам.
Увы! То была обманчивая надежда. Ван Блоома ждал еще долгий ряд испытаний и несчастий, лишивших его почти всего, что у него было, по-новому определивших весь уклад его жизни. Впрочем, эти происшествия едва ли следует именовать несчастьями, так как в конце концов они имели хороший исход.
Но об этом, юный читатель, ты составишь собственное мнение, когда познакомишься целиком с историей приключений трек-бура и его семьи.
Глава 2
КРААЛЬ
Бывший фельдкорнет сидел перед своим краалем, как называют в Южной Африке усадьбу. Изо рта у него торчала огромная пенковая трубка на длинном чубуке. Все буры — курильщики.
Наперекор бесчисленным утратам и невзгодам минувших лет в глазах у него светилось довольство. Его радовал прекрасный вид посевов. Кукуруза уже «налилась молоком», и початки, укутанные в папирусообразную обертку, казались крупными и полновесными. С восхищением слушал он шелест зеленых клиновидных листьев и смотрел на золотые кисти, колеблемые ветром. Сердце фермера согревалось, когда он окидывал взглядом посевы, обещавшие обильный урожай.
Но еще теплее становилось у него на сердце, когда глаза его останавливались на детях. Вот они, все здесь, вокруг него! Ганс — самый старший, степенный, рассудительный — трудится в саду, так хорошо разбитом, в то время как младший, шалунишка Ян — малорослый, но бойкий — поглядывает на брата, и нет-нет, да чем-нибудь поможет ему. Гендрик — запальчивый Гендрик, с жарким румянцем на щеках и светлыми курчавыми волосами — чистит лошадей в «конском краале»; а Трейи, прелестная Трейи, розовощекая, златокосая, возится со своей любимицей — полугодовалой газелью из породы горных скакунов, чьи яркие глаза милым и чистым своим выражением могут сравниться только с ее собственными глазами.
Да, недаром бывший фельдкорнет радуется всей душой, когда переводит взор с одного своего ребенка на другого. Все они хороши собой, все обладают хорошими задатками. Лишь иногда, когда ему случается остановить глаза на розовощекой, златокосой Гертруде, у него, как мы говорили, сжимается сердце.
Время, однако, давно превратило его скорбь в мягкую грусть. Вот и сейчас приступ тоски быстро миновал, и лицо фельдкорнета вновь просветлело при взгляде на сыновей, подающих такие добрые надежды.
Ганс и Гендрик уже достаточно сильны, чтобы помогать отцу в его занятиях; да и то сказать, только на их помощь он и мог рассчитывать — на них да еще на Черныша.
Кто же такой Черныш?
Загляните в «конский крааль», и вы там увидите Черныша: он помогает своему молодому хозяину Гендрику оседлать двух лошадей. Приглядевшись, вы решите, что Чернышу лет тридцать; столько ему и есть, но, если бы вы попробовали измерить его рост, получилось бы четыре фута с небольшим. Он, впрочем, крепко сложен, и объем груди у него почти такой же, как у людей нормального роста. Вы увидели бы также, что лицо у него желтое, хотя по его имени могли бы подумать, что он негр. Вы приметили бы, что нос у него приплюснутый и тонет в круглых щеках, губы очень толстые, ноздри широкие, лицо безбородое, а голова почти безволосая, потому что редкие маленькие клочки кудлатой шерсти, разбросанные по всему черепу, едва ли можно назвать волосами. И вы, конечно, обратили бы внимание на то, как несоразмерно велика у него голова и в соответствии с нею и уши, а в выражении его глаз вам почудится что-то китайское. Словом, вы могли бы отметить в Черныше все характерные особенности южноафриканского готтентота. Однако Черныш не готтентот, хоть и принадлежит к той же расе. Он бушмен.
Как же дикарь-бушмен попал на службу к бывшему фельдкорнету ван Блоому? Об этом я могу рассказать небольшую романтическую историю. Вот она.
Среди диких племен Южной Африки бытует очень жестокий обычай: бросать своих стариков и калек, а часто также больных или раненых на одинокую смерть в пустыне. Дети в пути покидают родителей, и товарищи нередко уходят от раненого, оставив им только на день пищи да кружку воды. Жертвой такого обычая сделался и бушмен Черныш. Вместе с несколькими своими сородичами он отправился на дальнюю охоту и был сильно покалечен львом. Товарищи, решив, что он не выживет, оставили его умирать в голой степи; и он бы, наверно, погиб, если б не наш ван Блоом. Тот, кочуя в степях, набрел на раненого бушмена, забрал его, отвез на свое становище, перевязал ему раны и выходил. Так Черныш оказался на службе у фельдкорнета.
Благодарность, говорят, не очень свойственна его племени, но Черныш проявил себя иначе. Когда все другие слуги разбежались, он не изменил своему хозяину и с той поры сделался для него самым деятельным и полезным помощником. Ведь только он один и остался при ван Блооме, он да девушка-служанка Тотти; она была, как вы догадываетесь, готтентоткой и почти такого же роста и сложения, такого же цвета кожи, как и сам Черныш.
Как мы сказали, Черныш и юный Гендрик взнуздывали двух лошадей. Управившись с этой задачей, они вскочили в седла, выехали из крааля и направились прямо в степь. Их сопровождала пара сильных, свирепого вида собак.
Им надо было, как и всегда в этот вечерний час, пригнать домой коров и лошадей, пасшихся на дальних лугах, потому что в Южной Африке приходится запирать на ночь стада, чтобы защитить их от хищников. Для этого строятся загоны с высокими заборами — краали. Слово «крааль» однозначно с испанским «corral», и, мне думается, оно ввезено в Африку португальцами; во всяком случае, это слово не туземное.
Краали для скота — важная часть усадьбы бура, почти столь же важная, как его собственный дом, который тоже называют краалем.
Итак, Гендрик с Чернышем уехали за лошадьми и стадом, а Ганс, оставив работу в саду, отправился загонять овец. Овцы паслись в другой стороне, неподалеку от дома, и Ганс пошел пешком, прихватив с собою маленького Яна.
Трейи, привязав своего любимца к столбику, пошла в дом, помочь Тотти приготовить ужин. Ван Блоом остался наедине со своей трубкой, которую он все не выпускал изо рта. Он сидел в полном молчании, хоть и еле сдерживался, чтобы не выразить громким возгласом радость, которую чувствовал, видя, как прилежно трудятся его домочадцы. Всеми своими детьми был он доволен, но, надо сознаться, он питал некоторое пристрастие к запальчивому Гендрику, носившему одно с ним имя и больше остальных походившему на него самого в молодые годы. Отец гордился красивой посадкой Гендрика в седле, и он провожал его взором, пока всадники не удалились почти на милю и там уже потерялись среди стада.
В эту минуту перед глазами ван Блоома появился предмет, сразу приковавший к себе его внимание. В той стороне, где скрылись Гендрик и Черныш, но, по-видимому, дальше, за пастбищем, стлалось какое-то необычное облако. Оно походило на бурый туман или дым, как будто где-то далеко-далеко горела степь.
Неужели пожар? Неужели кто-то поджег кустарник в степи? Или идет туча пыли?
Ветер был не настолько силен, чтобы поднять такое облако пыли, но с виду это была все-таки пыль. Или ее подняли животные? Может быть, появилось в степи большое стадо антилоп, которые двинулись в поиски новых пастбищ? На много миль облако заволокло горизонт, но ван Блоом знал, что стадо антилоп нередко захватывает пространство в десятки миль. И все же ему не верилось, что это антилопы.
Он смотрел и смотрел на странное явление, стараясь по-всякому его себе объяснить. Вот облако как будто поднялось в небе выше, походя то на пыль, то на дым огромного пожара, то на рыжую тучу. Идет оно с запада и уже закрыло собой вечернее солнце. Оно прошло заслоном по солнечному диску, и лучи его уже не падают на равнину. Не предвестник ли это страшного бурана или землетрясения?
Такая мысль пронеслась в уме ван Блоома. Завеса не похожа на обыкновенную тучу… не похожа на облако пыли… не похожа на дым. Не похожа ни на что, что доводилось ему видеть раньше. Неудивительно, что им овладели беспокойство и дурные предчувствия.
Вдруг темно-рыжая масса обволокла и стадо на равнине, и ван Блоом увидел, как скот заметался с перепугу. Потом показались два всадника и тотчас исчезли в бурой мгле. Ван Блоом вскочил, теперь уже не на шутку встревоженный. Что это могло значить?
На возглас, которого он не сдержал, прибежали из дому Тотти и маленькая Трейи; а тут, загнав овец и коз, вернулись и Ганс с Яном. Все смотрели на необычайное явление, но никто не мог сказать, что это такое. Все были в сильной тревоге.
Пока они стояли так и, скованные ужасом, глядели на тучу, из нее вырвались два всадника и пустились галопом по степи прямо к дому. Они неслись во весь опор, но еще не успели они доскакать, как, обгоняя коней, донесся голос Черныша.
— Баас ван Блоом! — кричал он. — Спринган идет! Спринган! Спринган!
Глава 3
САРАНЧА
— A! Spring-haan! — воскликнул ван Блоом, разобрав голландское наименование знаменитой перелетной саранчи. — Прыгунки!
Загадка была разрешена. Странная туча, шедшая по степи, оказалась летящей саранчой.
Кроме Черныша, никому из них не доводилось раньше наблюдать это зрелище. Правда, сам ван Блоом довольно часто видел саранчу и даже разных пород. В Южной Африке встречается несколько видов этого своеобразного насекомого, — однако никогда он не видел ее в таком количестве. А сейчас перед ним была настоящая перелетная саранча, которую случается встретить совсем не так часто, как можно бы заключить по рассказам путешественников. Чернышу саранча была хорошо известна. Когда он так громогласно возвестил о ее прилете, он вовсе не был испуган. Наоборот, его большие, толстые губы расплылись поперек лица в смешной гримасе радости. Инстинкты дикаря забурлили в маленьком бушмене. У его народа налет саранчи вызывает не ужас, а ликование — ее появление для туземца желанно, как богатый улов креветок для рыбака из Ли[215] или как добрый урожай для землепашца.
Радовались и собаки: они лаяли, повизгивали и резвились, словно предвкушая охоту. Когда выяснилось, что это только саранча, у всех сразу отлегло от сердца. Младшие — Трейи с Яном — смеялись, хлопали в ладоши и с нетерпением ждали, чтоб она подлетела поближе. Все были достаточно наслышаны о саранче и знали, что это всего-навсего «прыгунки» — нечто вроде кузнечиков: они не кусаются, не жалят, бояться их нечего.
Даже сам ван Блоом сперва нисколько не был озабочен. После тяжелых предчувствий было большим облегчением услышать, что это лишь перелет саранчи, и фермер стал с любопытством его наблюдать, не подумав, что он ему сулит. Но вдруг его мысли приняли иное течение. Он обвел взором свое кукурузное и гречишное поле, свои дыни, свой сад и огород; новая тревога овладела им; в памяти одна за другой всплывали слышанные им истории об этих опустошителях, и, когда встала перед ним вся неприкрытая правда, он весь побелел, и горький стон сорвался с его губ.
Дети изменились в лице. Они видели, что отца что-то мучает, хоть и не понимали, что. И они жались к нему, не смея ни о чем спросить.
— Погибло! Все погибло! — твердил он. — Весь наш урожай — труды целого года, — все пошло прахом! Ах, мои бедные дети!
— Почему погибло?.. Почему пошло прахом? — спросили в один голос Гендрик и Ян.
— Перелетная саранча! Она сожрет наш урожай — весь как есть!
— Да, правда, — подтвердил Ганс: в книгах по естественной истории, которыми он так увлекался, ему нередко случалось читать о том, какие опустошения производит саранча.
Радостные лица снова омрачила печаль, и дети уже с иным чувством глядели на далекую тучу, так нежданно затмившую их радость. У ван Блоома были все основания для страха. Если полчище надвинется и осядет на его поля, тогда прощай надежда на жатву. В мгновение ока саранча сгложет всю зелень на его земле. Она не оставит на своем пути ни стебелька, ни листика, ни соломинки.
Все стояли, с мучительным беспокойством следя за движением тучи. Ее отделяло от них еще добрых полмили. Казалось, она вовсе и не приближается. Хорошо бы!
Луч надежды зажегся в душе ван Блоома. Фермер снял свою широкополую поярковую шляпу и подержал ее в протянутой руке. Дул северный ветер, а туча была сейчас на запад от крааля. Саранча надвигалась с севера, как это почти всегда бывает в Южной Африке.
— Да, — сказал Гендрик, который побывал в самой гуще саранчи и знал, в какую сторону движется полчище, — она идет с севера. Когда мы повернули коней и помчались галопом домой, мы быстро ушли от нее, и она, как видно, летела не за нами вслед; я уверен, что она летит к югу.
Ван Блоом утешался надеждой, что, поскольку на север от крааля горизонт чист, саранча, возможно, пройдет стороной, минуя его ферму. Он знал, что обычно она идет по ветру. Пока ветер не переменится, она не сворачивает со своего пути. Жадно всматривался он вдаль. Кромка тучи, видел он, не приближается. Надежды крепли. Его лицо просветлело. Дети, заметив это, радовались, но ничего не говорили. Все стояли молча, смотрели, что будет.
Странное это было зрелище. Стоило понаблюдать не только за тучей насекомых. В воздухе над ней сновало множество птиц — странных птиц разных пород. На бесшумных, медленных крыльях реял бурый орику, самый крупный из африканских грифов; а рядом с ним — желтый стервятник, ястреб Кольбе. Парил на широко развернутых крыльях бородатый коршун. Клекотал большой кафрский орел, и бок о бок с ним кривлялся смешной короткохвостый фигляр. Там были соколы всяких размеров и окрасок, коршуны, рассекавшие воздух, вороны и вороны и множество видов насекомоядных. Но всех больше было здесь маленьких рябеньких птичек, напоминавших ласточку. Мириады их темнили воздух, сотни их непрестанно ныряли в тучу насекомых и вновь взмывали ввысь, каждая с добычей в клюве. У англичан эта птичка зовется саранчовым грифом, но она не принадлежит к роду грифов. Питается она исключительно насекомыми, и наблюдатели никогда не встречали ее в местах, где не водится саранча. Она следует за саранчой во всех ее перелетах, свивая гнезда и выводя птенцов вблизи от своей добычи.
Да, зрелище было любопытное — это сонмище крылатых насекомых и их бесчисленных врагов. Люди стояли и глядели дивясь. Нет, живая туча нисколько не приближалась, и надежда ван Блоома крепла.
Туча в самом деле двигалась к югу и теперь заволакивала на западе весь горизонт. Было видно, как она постепенно опадала, как ее верхняя кромка мало-помалу опускалась, очищая небо. Значит, саранча уходила на запад? Нет.
— Они устраиваются на ночлег, мы их теперь наберем полные мешки! — сказал с довольным видом Черныш.
Для него саранча составляла лакомство, и он готов был пожирать ее с таким же рвением, как орел и коршун или даже сам саранчовый гриф.
Как сказал Черныш, так и случилось. Туча действительно осела на равнину.
— Солнца нет — они не летают, — продолжал бушмен. — Слишком холодно. Они до утра как мертвые.
Так оно и вышло. Солнце закатилось, холодный ветер ослабил крылья маленьких кочевников и принудил их заночевать на деревьях, кустах и траве. Несколько минут — и темного тумана, только что застилавшего весь горизонт, не стало видно; но равнина вдали приобрела такой вид, точно по ней прошел пожар. Ее густо покрыли тельца насекомых, и, сколько глаз хватал, вся она почернела. Птицы-попутчики, почуяв приближение ночи, подняли крик, потом разлетелись во все стороны. Одни опустились на скалы, другие укрылись в низких зарослях мимозы, и вот через короткое время на земле и в воздухе все смолкло.
Ван Блоом беспокоился о своем скоте. Силуэты животных вырисовывались далеко в степи, покрытой саранчой.
— Дай им немного подкормиться, баас, — посоветовал Черныш.
— Чем подкормиться? — спросил хозяин. — Не видишь разве — вся трава завалена этой нечистью!
— Самими прыгунками, баас, — ответил бушмен. — Хороший корм для большого быка, лучше, чем трава, лучше даже, чем кукуруза.
Но поздний час не позволял оставлять дольше скот в степи: скоро выйдут на прогулку львы — возможно, из-за саранчи раньше обычного, потому что и царь животных не брезгает наполнить свой желудок этими насекомыми, когда удастся набрести на них. Ван Блоом счел необходимым поскорее загнать свой скот в крааль. Оседлали третьего коня, и начальник ополчения сам сел в седло и выехал в степь, взяв с собой Гендрика и Черныша.
Необычайная картина представилась их глазам, когда они приблизились к саранче: красные тельца покрывали землю толстым слоем, иногда в несколько дюймов толщины. Всю листву, все ветви кустов гроздьями облепила саранча. Не осталось ни листика, ни травинки, не покрытых насекомыми. Саранча была неподвижна, словно в оцепенении или во сне. Вечерний холод лишил ее способности летать.
Но самым странным в глазах ван Блоома и Гендрика было поведение их собственных лошадей и коров. Они паслись неподалеку, в самой гуще уснувшего неприятеля, но нимало не были этим встревожены. Они жадно набирали в рот насекомых и мололи их в зубах, точно зерно. Сколько их ни гнали, они нипочем не хотели уходить с пастбища; и только рычание льва, разнесшееся в тот час по степи, да кнут, пущенный в ход Чернышем, сделали их более послушными, и они наконец дали загнать себя в краали и расположились на ночлег.
Глава 4
БЕСЕДА О САРАНЧЕ
Тревожно протекала ночь в краале ван Блоома. Если ветер повернет на запад, утром саранча непременно покроет сад и поля, и тогда весь урожай погиб. Или хуже того: саранча, возможно, истребит зелень во всей окрестности, миль на пятьдесят, а то и более. Чем он тогда прокормит свой скот? Непросто будет уберечь его. Коровы могут передохнуть раньше, чем удастся перегнать их на какое-нибудь пастбище.
Такой исход представлялся вполне вероятным. В истории Капской колонии было немало случаев, когда бур после налета саранчи терял свое стадо. Неудивительно, что ночь в краале трек-бура протекала тревожно. Время от времени ван Блоом выходил во двор проверить, не переменился ли ветер. До позднего часа перемены не замечалось. Дул по-прежнему легкий ветерок с севера — из великой пустыни Калахари, откуда, по всей видимости, и прилетела саранча. Ярко светила луна, и свет ее мерцал над темным полчищем насекомых, покрывшим степь. Доносилось рычание льва вперемежку с пронзительным лаем шакалов и сумасшедшим хохотом гиены. Эти и многие другие звери радовались богатому пиршеству.
Видя, что ветер не меняется, ван Блоом немного успокоился, и они стали разговаривать о саранче. Больше всех рассказывал Черныш, так как он лучше других был знаком с предметом, видел в жизни не первый налет саранчи и съел ее не один бушель[216]. Но откуда она появилась, Черныш не знал. Он никогда не задавался этим вопросом. Ответ на него предложил начитанный Ганс.
— Саранча, — сказал он, — приходит из пустыни. Она откладывает свои яички в песок или в пыль; там они и лежат, покуда не выпадут дожди и не начнет усиленно расти трава. Тогда из яичек вылупляются личинки саранчи, которые на первых порах питаются этой травой. Истребив ее, они по необходимости пускаются на поиски нового корма. Отсюда миграции, как называют такие походы.
Объяснение показалось понятным.
— А я вот слышал, — заговорил Гендрик, — будто фермеры, чтобы не пропустить саранчу, раскладывают вокруг посевов костры. Но разве костры удержат саранчу, даже если сделать настоящий огненный забор вокруг поля? Ведь она крылатая и может легко пролететь над огнем. — Костры разводят, — ответил Ганс, — в расчете, что дым не даст саранче опуститься на поле; но чаще их разводят против бескрылой, так называемой пешей саранчи. Это, собственно, не сама саранча, а ее личинки, у которых не отросли еще крылья. Пешая саранча тоже пускается в поиски корма и нередко производит больше опустошений, чем взрослые насекомые, которых мы видим сейчас. Она передвигается по земле ползком и, прыгая наподобие кузнечиков, идет все время в одном направлении, следуя инстинкту, побуждающему ее держаться определенного курса. Ничто не может остановить неукротимое движение вперед, пока саранча не придет к берегу моря или какой-нибудь широкой и быстрой реке. Маленькие реки она переплывает, да и большие тоже, если течение в них медленное. Нигде не сворачивая, всползает она на заборы, на дома, даже на дымовые трубы и, перейдя преграду, продолжает свой путь в том же направлении. При попытках перейти широкие и быстрые реки она тонет в несчетных количествах, и река сносит ее в море. Небольшие скопления саранчи фермерам иногда удается задержать посредством огня, как ты и слышал, Гендрик. Но когда саранча появляется в большом числе, тогда и от огня не будет проку.
— Но как же это так, брат? — допытывался Гендрик. — Ту саранчу, о которой ты рассказываешь, можно, сам говоришь, остановить при помощи костров — это и понятно, она бескрылая. Только как, в таком случае, она проходит через огонь? Перепрыгивает?
— Нет, по-другому, — отвечает Ганс. — Костры разводят слишком большие и широкие, их не перепрыгнешь.
— Как же они проходят, брат? — спросил Гендрик. — Мне невдомек.
— И я не понимаю, — сказал маленький Ян.
— И я, — добавила Трейи.
— Сейчас объясню, — продолжал Ганс. — Миллионы насекомых ползут прямо в огонь и гасят его.
— Ого! — вскричали все разом. — И они не сгорают?
— Сгорают, конечно, — ответил Ганс. — Они обугливаются и гибнут целыми мириадами. Но их бессчетные тельца забивают костры. Передние ряды великого полчища приносятся в жертву, и остальные проходят невредимо по трупам погибших. Итак, вы видите, даже огонь не может остановить саранчу, когда она многочисленна. Во многих местностях Африки, там, где туземцы занимаются земледелием, едва разнесется весть, что начался перелет саранчи и что она идет на их поля и сады, среди жителей поднимается настоящая паника. Они знают, что неизбежно лишатся урожая, и потому налет саранчи внушает им не меньший ужас, чем землетрясение или другое стихийное бедствие.
— Нам ли не понять их чувства! — заметил Гендрик и многозначительно переглянулся с другими.
— Крылатая саранча, — продолжал Ганс, — по-видимому, не так неуклонно следует взятому направлению, как ее личинки. Она держится по ветру. Зачастую ветер сносит ее всю в море, где она погибает массами. Случалось, находили мертвые тельца саранчи, прибитые обратно к берегу в невероятных количествах. В одном месте море выбрасывало их на отмель, пока не выросла гряда в четыре фута высоты и пятьдесят длины. Некоторые известные путешественники утверждали, что трупный запах, пропитавший воздух, чувствовался в полутораста милях от берега!
— Ну да! — сказал маленький Ян. — Не поверю я, что у кого-нибудь такой хороший нюх.
При этом замечании все дружно рассмеялись. Только ван Блоом не разделял веселья. Его лицо стало к этому часу совсем хмурым.
Чернышу тоже было что порассказать о саранче.
— Бушмен не боится прыгунка, — говорил он: — у бушмена нет сада, нет кукурузы, нет гречихи — нет ничего, что ест прыгунок. Бушмен сам ест саранчу. Все едят прыгунка. Все жиреют в налет саранчи. Го-го! Славный прыгунок!
Замечание Черныша было, в сущности, верным. Саранчу едят почти все виды животных, какие водятся в Южной Африке. Ее с жадностью пожирают не только плотоядные, но и другие звери и птицы. Антилопы, куропатки, цесарки и дрофы и, как ни странно покажется, даже самый крупный из зверей — слон-исполин совершает путешествия за много миль, чтобы только поживиться на перелетах саранчи. Домашняя птица, овцы, лошади и собаки жрут ее столь же охотно. И еще одна странная вещь — саранча сама ест саранчу! Если среди прыгунков появляется раненый, то другие немедленно накидываются на него и съедают. Бушмены и прочие африканские народы едят саранчу не в сыром виде, а сперва варят ее или жарят.
Иногда, хорошенько высушив, ее толкут в муку и потом, замешивая на воде, изготовляют из нее особого рода варево. Хорошо провяленная саранча сохраняется очень долго, и для беднейших дикарей она порой составляет весь запас пищи на целых полгода.
Многие племена, в особенности те, что не знают земледелия, встречают нашествия саранчи, как праздник. Снарядившись в путь с мешками, а нередко и с упряжкой волов, люди отправляются всей деревней собирать саранчу, и в таких случаях ее ссыпают горами и запасают впрок — совсем как зерно.
В разговорах обо всем этом проходит вечер, пока не настало время ложиться спать. Ван Блоом еще раз вышел узнать направление ветра, потом заперли в краале дверь, и все улеглись.
Глава 5
НАЛЕТ САРАНЧИ
Ван Блоому не спалось. Беспокойство гнало от него сон. Он ворочался, метался и думал о саранче. А если и засыпал на минутку, то видел во сне саранчу, сверчков, кузнечиков и всякого рода больших долгоногих, пучеглазых насекомых. Он обрадовался, когда первый луч света проник в маленькое оконце его комнаты. Он вскочил с кровати и, едва дав себе время одеться, выбежал на воздух. Было еще темно, но это не помешало понять, откуда дует ветер. Не понадобилось даже подбросить перо или поднять шляпу, истина и так была слишком ясна. Дул сильный ветер — и дул с запада! Не помня себя, ван Блоом побежал дальше, чтоб удостовериться, что не ошибся. Выбежал за ограду, окружавшую крааль и сад. Здесь он остановился еще раз и проверил, откуда дует ветер. Увы, первое впечатление не обмануло его. Дуло прямо с запада — прямо от саранчи. Он улавливал запах ненавистных насекомых; не оставалось места для сомнений. Подавив стон, фермер вернулся в дом. Больше он не надеялся избежать страшного нашествия. Первой его заботой было собрать все, что было в доме полотняного — белье, одежду, куски холста — и заложить в фамильные сундуки. Почему? Неужели он опасался, что саранча поест материю?
Да, опасался — эта прожорливая тварь не гнушается ничем. У нее нет в еде каких-либо пристрастий. Горький лист табака ей, видимо, так же по вкусу, как сладкий и сочный стебель кукурузы. Полотно, хлопчатобумажную ткань и даже фланель она пожирает, как будто это нежные побеги зелени. Камень, железо да самое твердое дерево — вот, пожалуй, все, что оставляют нетронутым ее жадные челюсти. Ван Блоом об этом слышал, Ганс читал, а Черныш знал по собственному опыту. Поэтому то, что могло пострадать от саранчи, было предусмотрительно убрано; потом приготовили завтрак и в молчании съели его. На всех лицах лежала печаль, потому что глава семьи сидел безмолвный и подавленный.
Несколько коротких часов — и такая перемена! Еще накануне вечером ван Блоом и его маленькая семья наслаждались полнотой счастья… Оставалась последняя, но очень слабая надежда. Что, если, на счастье, пойдет дождь? Или день окажется холодным? И в том и в другом случае, сказал Черныш, саранча не сможет расправить крылья — в холод и дождь она не летает. Если день выдастся холодный или сырой, она не поднимется, а потом ветер, возможно, опять переменится. О, хлынул бы ливень! Или день оказался бы холодный и облачный! Тщетное желание, тщетная надежда! Лишь полчаса прошло после того, как встало яркое африканское солнце, а его горячие лучи уже обогрели спящее воинство и вернули его к жизни. Насекомые начали ползать, подскакивать, и вот, точно по единому импульсу, мириады их поднялись в воздух. Ветер направил их полет в ту сторону, куда он дул, — в сторону обреченного кукурузного посева.
Через пять минут — и даже меньше — после того, как саранча взлетела, она была над краалем, и начала десятками тысяч оседать на окрестные поля. Полет ее был медлителен, спуск мягок, и тем, кто снизу наблюдал за ней, представлялось, будто падает большими перистыми хлопьями черный снег. За несколько мгновений она покрыла собою всю землю. Каждый початок кукурузы, каждое растение, каждый куст нес на себе сотни насекомых. До края равнины, насколько хватал глаз, все пастбища были густо усеяны саранчой; она направила свой полет уже на восток от дома, и солнечный диск снова померк, застланный тучей.
Саранча подвигалась как бы эшелонами: тыловые отряды все время перелетали на передовую линию и затем, сделав привал, кормились до тех пор, пока их, в свою очередь, не обогнали задние, двигавшиеся тем же порядком.
Не менее любопытен был шорох, производимый их крыльями: он напоминал непрерывный шелест ветра в лиственном лесу или шум воды под мельничным колесом.
Перелет саранчи над фермой длился два часа. Почти все это время ван Блоом и его семья просидели в доме, затворив двери и окна: неприятно было оставаться во дворе под ливнем насекомых, которых ветер нередко швырял в лицо с такой силой, что делалось больно. Но, помимо того, не хотелось давить ногами непрошеных гостей, а без этого нельзя было и шагу ступить из дому, потому что земля была покрыта сплошным слоем саранчи. Все же немало ее заползло внутрь дома сквозь щели в двери и окне, и она с жадностью набрасывалась на все предметы растительного происхождения, какие случайно остались неубранными.
Через два часа ван Блоом выглянул наружу. Саранча почти вся уже пролетела. Снова светило солнце, но что оно освещало! Не зеленые поля и цветущий сад, нет. Вокруг дома со всех сторон — с севера, с юга, с востока и запада — глазам представлялась только черная пустыня. Не видно было ни былинки, ни листика — даже кора на деревьях была обглодана, и теперь они стояли, словно убитые карающей дланью. Если бы прошел по земле степной пожар, он не мог бы оставить большей наготы и разора. Не было сада, не было гречишных и кукурузных полей, не было больше фермы — крааль стоял среди пустыни! Не передать словами, что почувствовал в ту минуту ван Блоом. Не описать пером его мучительных переживаний. За два часа такая перемена! Он едва верил глазам, едва верил в реальность случившегося. Он знал, что саранча пожрет его кукурузу и гречиху, овощи и плоды, но воображение его не в силах было нарисовать такую картину полного опустошения, какую явила действительность! Весь ландшафт преобразился — травы не было и в помине, деревья, нежная листва которых всего лишь два часа назад играла на легком ветру, теперь стояли мертвые, оголенные хуже, чем зимой. Сама земля точно изменила свои черты. Ван Блоом не узнавал своей фермы. Если бы владелец был в отлучке, когда здесь пролетала саранча, и вернулся, не предупрежденный о случившемся, он, конечно, не признал бы мест, где жил.
С флегматичностью, свойственной его народу, ван Блоом опустился на скамью и долгое время сидел так, безмолвный и недвижимый. Дети подходили, глядели на него, и юные их сердца сжимались от боли. Они не могли до конца понять, в какое трудное положение поставило их это событие; отец и тот не сразу понял. Он думал сперва лишь об ущербе, нанесенном гибелью прекрасного урожая; эта потеря и сама по себе, если вспомнить, как уединенно жил ван Блоом и как мало было у него надежды восстановить утраченное, явилась для него большим бедствием.
— Пропало! Все пропало! — воскликнул он горестно. — Ох, судьба, судьба! Снова ты жестока ко мне!
— Папа, не горюй! — сказал мягкий голосок. — Мы все живы, все подле тебя.
— И при этих словах маленькая белая ручка легла ему на плечо.
То была ручка его милой Трейи.
Точно улыбнулся ему ангел. Ван Блоом взял девочку на руки и в приливе нежности прижал ее к сердцу. И на душе у него потеплело.
Глава 6
ЗАПРЯГАТЬ — И В ПУТЬ!
Ван Блоом знал, что не может предоставить свое спасение «деснице Божьей». Не так он был воспитан. Он тотчас же взялся за дело, чтобы выйти из неприятного положения, в какое поставил его налет саранчи.
Нет, положение было хуже, чем неприятное, как начал теперь понимать ван Блоом, — положение было гибельное! Чем больше думал он, тем тверже убеждался в этом.
Вот они одни среди черной, голой равнины, на которой, куда ни глянь, нет зеленого пятна. Как далеко тянется она в такой наготе, он не мог определить, но он знал, что перелеты саранчи опустошают иногда пространства на тысячи миль. Не приходилось сомневаться, что этот перелет, разоривший его ферму, был из самых мощных.
Стало ясно, что оставаться в краале нельзя. Лошади, коровы, овцы не могут жить без корма, а если погибнет скот, чем существовать самому фермеру с семьей? Он должен бросить крааль. Должен отправиться в поиски пастбища, не теряя времени, немедленно! Животные, обеспокоенные тем, что их не выпустили в привычный час, уже на все лады поднимали свои голоса. Вскоре они почувствуют голод, и трудно сказать, когда удастся их накормить.
Нельзя было мешкать. Каждый час был дорог — не следовало терять лишней минуты даже на раздумье.
Ван Блоом уделил размышлениям всего лишь несколько минут. Оседлать самого быстрого из своих коней и пуститься одному на поиски пастбища? Или лучше сразу заложить фургон и отправиться в дорогу со всем добром?
Он избрал второе. Все равно приходится оставить обжитое место, бросить свой крааль. Если уехать сперва одному, он, возможно, не так скоро найдет место, где есть и трава и вода, а скот его тем временем будет страдать от голода.
Это соображение, да и ряд других склонили ван Блоома к тому, чтобы сразу же заложить фургон и пуститься в дорогу — с табуном, со стадом, с отарой, со своим добром и всей своей семьей.
— Запрягать — и в путь! — прозвучала команда.
И Черныш, гордившийся славой хорошего кучера, замахал своим бамбуковым кнутом, похожим на длинное удилище.
— Запрягать — и в путь! — подхватил Черныш, привязывая к своей двадцатифутовой трости новый ремень, который он недавно сплел из шкуры антилопы каамы. — Запрягать — и в путь! — повторил он, щелкая кнутом так громко, точно стрелял из пистолета. — Да, баас, я сейчас запрягу!
И, уверившись, что бич хорошо прилажен, бушмен прислонил кнутовище к стене дома и пошел в коровий крааль отбирать волов для упряжки.
Сбоку подле дома стоял большой фургон — непременная принадлежность и гордость каждой капской фермы. Это был первоклассный экипаж под парусиновым верхом, послуживший фельдкорнету еще в его лучшие дни, экипаж, в котором он, бывало, возил жену и детей на увеселительные прогулки. В те дни в фургон впрягали цугом восьмерку отличных лошадей. Увы! Теперь их место предстояло занять волам, ибо весь табун ван Блоома составляли только пять коней, а они нужны были под седло. Но фургон был почти так же хорош, как и в давние годы, когда на него поглядывали с завистью все соседи из Грааф-Рейнета. Никаких поломок, все на своем месте. Все так же хорош белоснежный парусиновый верх с клапанами — передним и задним — и внутренними «карманами», все в исправности: и изящно выгнутые колеса, и удобные козлы, и диссельбом[217], и крепкий тректоу[218] из буйволовой кожи. В целости и сохранности все, чему полагается быть у фургона. Он и в самом деле составлял лучшее из всего, что сохранилось у бывшего фельдкорнета, да и стоил не меньше, чем все коровы, быки и овцы на его ферме.
Пока Черныш и Гендрик вылавливали двенадцать упряжных волов и привязывали их к диссельбому и тректоу, сам баас занялся погрузкой мебели и пожитков, в чем ему помогали Ганс и Тотти, а также Трейи и маленький Ян.
Дело это было нетрудное. Скарб, заполнявший маленький крааль, был невелик, и его быстро погрузили, частью уложив внутри просторного экипажа, частью привязав снаружи.
За какой-нибудь час фургон был нагружен, волы запряжены, лошади оседланы, и все было готово, чтобы двинуться в путь.
И тут встал вопрос: куда?
До сих пор ван Блоом думал только о том, что нужно сняться с места и уйти за пределы лежавшей вокруг него оголенной степи. Теперь же необходимо было решить, в какую сторону держать им путь, — вопрос достаточно трудный. Двинуться туда, куда полетела саранча? Или туда, откуда она явилась? И в том и в другом случае пришлось бы пройти десятки миль, покуда встретишь хоть клочок травы для голодных животных; скот не выдержит и погибнет.
Или двинуться в другом каком-либо направлении? Но что, если они встретят траву, но не найдут воды? Без воды оказывалась под угрозой не только жизнь животных, но и собственная их жизнь. Итак, было очень важно выбрать правильный путь.
Сперва ван Блоом надумал было податься в сторону поселений. Если двинуться туда, ближайшую воду они нашли бы примерно в пятидесяти милях на восток от крааля. Но в этом направлении только что пролетела саранча. Она успела, конечно, опустошить всю местность — вплоть до реки Оранжевой, а может быть, и дальше. Было бы крайне рискованно направиться в ту сторону.
На север лежала пустыня Калахари. Податься туда — об этом нечего было и думать. Ван Блоом не знал ни одного оазиса в пустыне. К тому же саранча явилась как раз с севера. Когда ее впервые увидели, она летела к югу и притом, очевидно, долгое время — значит, успела опустошить в этом направлении равнину на большом пространстве. Ван Блоом прикидывал, что сулит им запад. Правда, враждебное полчище шло как раз оттуда, но ван Блоом полагал, что сперва оно надвинулось с севера и только внезапная перемена ветра заставила его свернуть со своего пути. Ван Блоом думал, что, подавшись на запад, он вскорости выберется из полосы опустошения.
О западной части равнины ему было кое-что известно — немного, правда, но все же он знал, что милях в сорока к западу от фермы есть родник с хорошей водой, а вокруг него — недурное пастбище. Он его открыл, разыскивая своих коров, которые, отбившись от стада, забрели однажды в такую даль. У него тогда явилась мысль, что здесь, пожалуй, лучшее место для скота, чем вокруг его фермы, и он не раз подумывал перебраться к источнику. Не сделал он этого лишь потому, что не хотел забираться в такую глушь. Он и без того жил далеко от поселений, но хотя бы мог поддерживать с ними связь. Если же обосноваться еще дальше, это станет крайне затруднительным. Но теперь, когда явились новые веские соображения, мысли его снова обратились к роднику, и, пораздумав как следует еще несколько минут, ван Блоом решил двинуться на запад.
Чернышу приказано было держать к западу. Бушмен мигом вспрыгнул на козлы, щелкнул мощным кнутом, выправил свою длинную упряжку и тронулся в путь по равнине. Ганс и Гендрик уже вскочили в седла и, очистив с помощью собак краали от всякой живности, погнали впереди себя мычащий и блеющий скот. Трейи и маленький Ян сидели подле Черныша на козлах, и можно было увидеть, как из-под парусинового верха выглядывает с любопытством, поводя большими круглыми глазами, хорошенький горный скакун. Окинув последним взглядом свой опустевший крааль, ван Блоом натянул поводья и поскакал на коне вслед за фургоном.
Глава 7
«ВОДЫ! ВОДЫ!»
Маленький караван продвигался отнюдь не в безмолвии. Почти непрерывно слышались окрики Черныша и щелканье его кнута. Это щелканье разносилось по равнине на добрую милю, точно раскаты мушкетных выстрелов. Громкие возгласы Гендрика тоже создавали изрядный шум; и даже тихий обычно Ганс по необходимости должен был кричать во весь голос, чтобы скот шел куда надо. Время от времени Черныш подзывал мальчиков помочь ему управиться с головными волами, когда те из упрямства или по лени вдруг останавливались или же норовили свернуть с пути. Тогда либо Ганс, либо Гендрик скакал вперед, выравнивал волов, шедших во главе упряжки, и угощал их своим ямбоком.
Ямбок для строптивого вола — жестокий палач. Это эластичный, выделанный из шкуры носорога (или, еще лучше, из шкуры бегемота) кнут примерно в шесть футов длиной, постепенно суживающийся от ручки к концу.
Всякий раз, когда головным волам случалось заартачиться, а Черныш не мог дотянуться до них длинным фоорслагом[219], Гендрик был рад пощекотать их своим тугим ямбоком; этим он держал волов в страхе и повиновении.
И получалось так, что почти все время одному из мальчиков приходилось скакать во главе каравана.
В Южной Африке воловью упряжку сопровождает обычно конный вожатый. Правда, у ван Блоома, с тех пор как сбежали от него слуги-гуттентоты, волы приучены были тащить фургон без вожатого, и Черныш проехал не одну милю с помощью только лишь своего длинного кнута. Но после налета саранчи все вокруг имело такой необычный вид, что волы робели и дичились; к тому же саранча стерла все колеи и тропки, по которым они могли бы идти. Равнина была вся одинакова — нигде ни следа, ни меты. Даже сам ван Блоом с трудом узнавал черты местности и должен был держать путь по солнцу.
Гендрик скакал большей частью подле головных волов. Ганс, когда стадо наконец тронулось в путь, гнал его дальше без особого труда. Страх побуждал животных держаться кучно, а так как не было по сторонам травы, которая соблазняла бы их разбредаться, они шли хорошо.
Ван Блоом ехал во главе каравана, указывая дорогу. Ни он и никто из членов его семьи не переоделись в дорогу и пустились в путешествие в своем обычном платье. Сам ван Блоом был одет, как одеваются по большей части буры: на нем были широкие кожаные штаны, называемые в этой местности кракерами, длинный, просторный сюртук из зеленого сукна с глубокими наружными карманами, жилет из шкуры молодой антилопы, белая поярковая шляпа с широченными полями, а на ногах — полусапожки африканской некрашеной кожи, известные среди буров под названием «фольтскунен», то есть «деревенские башмаки». Через седло его был перекинут леопардовый каросс — плащ, а на плече висел его верный громобой — большое ружье чуть ли не в сажень длиной, с замком старинного образца, — весьма изрядный груз. На это ружье бур возлагает все свои надежды; житель американских девственных лесов, наверно, рассмеялся бы, взглянув на подобное оружие, но, познакомившись хоть немного со страною буров, он изменил бы свое мнение. Его собственное короткоствольное ружьецо, заряжаемое пулей не больше чем с горошину, принесло бы немного пользы в охоте на крупную дичь. В африканских степях не меньше истых охотников и смелых зверобоев, чем в лесах и прериях Америки.
На левом боку у ван Блоома висел, высовываясь острым концом из-под руки, огромный гнутый рог для пороха — самый большой, какой только можно снять с головы африканского быка. Ван Блоом вывез его из страны бечуанов, хотя и на Капской земле почти все быки отличаются необычно длинными рогами. Ван Блоому этот рог служил, как сказано, пороховницей; набитый до краев, он вмещал фунтов шесть, не меньше. Патронташ из шкуры леопарда под правой рукой, охотничий нож за поясом и большая пенковая трубка, заправленная под ленту на шляпе, довершали снаряжение трек-бура ван Блоома.
Одежда, снаряжение и оружие Ганса и Гендрика мало чем отличались от отцовских. Штаны на них были, разумеется, из выделанной овчины, широкие, как всегда у юных буров, и на них тоже были сюртуки, и фольтскунены, и широкополые белые шляпы. У Ганса за плечом висело легкое охотничье ружье, у Гендрика — тяжелый карабин, так называемый «егер», превосходное оружие для охоты на крупную дичь. Гендрик очень гордился своим ружьем, и недаром: он наловчился попадать в гвоздь со ста шагов. Гендрик был в караване лучшим стрелком. У обоих мальчиков тоже были изогнутые полумесяцем рога-пороховницы и патронташи, набитые пулями. И у обоих лежали поверх седел плащи, но, в отличие от отцовского плаща, сделанного из редкостной шкуры леопарда, эти были попроще: из шкуры антилопы у одного, из шакальей — у другого. На маленьком Яне тоже были широкие штаны; сюртук, полусапожки и широкополая поярковая шляпа, — словом, Ян, хоть и был ростом в один ярд, по костюму являл собою копию отца — типичный бур в миниатюре. На Трейи была шерстяная синяя юбочка, изящный корсаж со шнуровкой, искусно расшитый по голландской моде, а ее белокурую головку защищала от солнца легкая соломенная шляпа с бантом и на ленте. Тотти была одета очень просто — в грубый домотканый холст; голова же у нее оставалась и вовсе непокрытой. А на Черныше была только пара старых кожаных кракеров, полосатая рубашка да еще каросс из овчины. Так выглядела одежда наших путешественников. На добрых двадцать миль равнина была оголена. Ни былинки не осталось для скота, страдавшего к тому же без воды. Весь день ярко светило солнце, слишком ярко — его лучи пекли, как в тропиках. Путешественники едва ли выдержали бы этот зной, если б не дул весь день, с утра до вечера, легкий ветер. Но дул он, к сожалению, прямо в лицо, а в сухих африканских степях всегда хватает пыли. Да тут еще саранча, непрестанно прыгая, разрыхлила миллионами крохотных ножек верхнюю корку почвы, и пыль теперь свободно поднималась по ветру. Ее клубы окутывали, точно облаком, маленький караван, отчего продвигаться было и трудно и неприятно. Задолго до вечера одежда на людях насквозь пропылилась, в рот набилось песку, разболелись глаза.
Но это было еще пустяком. Задолго до вечера дала себя знать другая беда — отсутствие воды.
Спеша поскорее уйти от зрелища опустошенного крааля, ван Блоом не запасся в дорогу водой — печальное упущение в такой стране, как Южная Африка, где родники столь редки, а ручьи и реки то пересыхают, то меняют русло. Задолго до вечера все думали только о воде, все одинаково томились жаждой.
Томился ею и сам ван Блоом, но о себе он не думал, а если и думал, то лишь казнясь за оплошность. По его вине страдали теперь другие. Мысль о непростительной ошибке тяжело угнетала его. Он не мог пообещать им никакого облегчения, покуда караван не доберется до родника. Ближе, насколько он знал, воды не было.
Достичь родника в тот вечер нечего было и надеяться. В путь тронулись поздно. Волы шли медленно. К закату можно было проделать от силы половину пути.
Чтобы добраться до воды, пришлось бы идти всю ночь, а это было невозможно по многим причинам. Волам потребуется отдых — тем более что они голодны; и тут ван Блоом понял — слишком поздно — еще одно свое упущение: во время налета саранчи он не позаботился набрать ее побольше на корм скоту.
При налетах саранчи подчас только так и спасают скот; но ван Блоому это не пришло на ум; а поскольку в краали, где заперты были животные, саранчи проникло немного, скот оставался без пищи со вчерашнего дня. Особенно сказывался голод на упряжных волах: они ослабели и тянули фургон словно нехотя, так что Черныш надрывал горло криком и непрестанно пускал в ход свой длинный кнут.
Но были и другие причины, заставлявшие подумать о ночном привале. Ван Блоом не так уж твердо знал дорогу. Ночью он не мог бы держаться избранного им направления, тем более что не было и подобия тропы, которая вела бы караван. К тому же идти после захода солнца представлялось небезопасным, потому что в это время выходит на прогулку ночной разбойник Африки — лютый лев. Итак, есть ли вода или нет ее, все равно приходилось сделать на ночь привал.
До темноты оставалось всего с полчаса, когда ван Блоом пришел к такому решению. Он только хотел подождать немного в надежде добраться до такого места, где будет хоть трава. Караван отдалился уже от покинутой фермы на двадцать миль, а равнину покрывал черный «след» саранчи. Травы по-прежнему нет и в помине, по-прежнему кусты стоят без листьев, без коры.
Ван Блоому уже начинало казаться, что он движется в ту самую сторону, откуда прилетела саранча. Он не сбился с западного направления, в этом он был уверен. Но как знать, быть может, саранча надвинулась с запада, а не с севера? Если так, придется идти много дней, пока набредешь на зеленый лужок.
Эти мысли смущали ван Блоома, и он беспокойным взором обводил равнину, глядя то прямо вдаль, то вправо и влево. И вдруг — радостный возглас зоркого бушмена: он видит впереди траву! Видит несколько кустов с листвой. Туда еще с милю пути, но волы, точно и до них дошел смысл этих слов, пошли бодрее. Прошли еще с милю — и в самом деле появилась трава. Пастбище, однако, оказалось скудным: редкие стебельки, разбросанные по красно-бурой земле, — волу не поживиться. Не наполняя желудка, трава только терзала несчастных животных мукой Тантала[220]. Зато ван Блоом уверился теперь, что полоса опустошения пройдена, и он провел караван еще немного вперед, надеясь встретить пастбище получше. Надежда, однако, не оправдалась. Путь их лежал через дикую, бесплодную степь, почти настолько же лишенную зелени, как и местность, по которой шли они до сих пор. Но теперь она обязана была своей наготой не саранче, а безводью. Не оставалось больше времени на поиски пастбища. Солнце уже ушло за горизонт — пришлось остановиться и распрягать.
Следовало бы соорудить краали — один для коров, другой для коз и овец. Кругом было для этого достаточно кустов, но кто же из утомленного отряда найдет в себе силы нарезать ветви и приволочь их к месту? И без того хватало работы — заколоть на ужин овцу, собрать топлива, чтобы зажарить ее. Краали делать не стали. Лошадей привязали к фургону. Коров и быков, овец и коз оставили на воле. Поскольку не было поблизости пастбища им на соблазн, понадеялись, что, измученные долгой ходьбой, они не уйдут далеко от костра, который было решено поддерживать всю ночь.
Глава 8
УЧАСТЬ СТАДА
Но они ушли.
Когда рассвело и путешественники огляделись вокруг, они не увидели ни единого быка, ни единой коровы, кроме одной молочной. Подоив ее накануне вечером, Тотти оставила свою любимицу на ночь привязанной к кусту, — там она и стояла сейчас. Все остальные ушли, козы и овцы — тоже.
Куда же они ушли?
Мальчики вскочили на коней и отправились на розыски. Коз и овец нашли неподалеку, среди кустов; но остальные животные, как обнаружилось, ушли совсем. Их след тянулся мили на две. Он вел обратно по тому же пути, которым пришел сюда караван; не осталось сомнения, что они повернули назад, к краалю. Нагнать их, не дав дойти до места, было трудно, пожалуй даже невозможно. Следы показывали, что животные снялись с места в самом начале ночи и двигались быстро, так что к рассвету, должно быть, достигли уже старого жилья.
Печальное открытие! Бесполезным делом было бы пуститься за стадом на голодных, измученных жаждой лошадях, а без упряжных волов как дальше тащить фургон, как добраться с ним до родника? Задача казалась неразрешимой; но после недолгого совещания рассудительный Ганс предложил выход.
— А нельзя ли впрячь в фургон лошадей? — спросил он. — Ведь пять лошадей смогут, конечно, дотащить его до родника.
— Как! Бросить стадо? — сказал Гендрик. — Если мы не отправимся за ним, скот околеет, и тогда…
— За стадом можно будет поехать и позже, — ответил Ганс. — Не лучше ли сперва дотащиться до источника, а потом, дав коням отдохнуть, вернуться за волами? Они к тому времени будут уже в краале. Там у них, во всяком случае, вдоволь воды, они не околеют до нашего прихода.
Предложение Ганса показалось вполне осуществимым. Во всяком случае, этот план представлялся лучшим, какой путники могли бы избрать, и они тотчас принялись приводить его в исполнение. Лошадей впрягли в фургон; в нем среди поклажи оказалась, к счастью, кое-какая старая конская сбруя; ее извлекли и как могли приспособили к делу.
Когда управились с этим. Черныш опять сел на козлы, подобрал вожжи, щелкнул кнутом и пустил свою упряжку. К общему удовольствию, большой и тяжело груженный фургон пошел так легко, как если бы его тащила полная воловья упряжка. Ван Блоом, Гендрик и Ганс порадовались от души, когда фургон прокатил мимо них, и, погнав следом за ним дойную корову, коз и овец, бодро двинулись в путь. Маленькие Ян и Трейи ехали, как и прежде, в фургоне; но остальные шли пешком, отчасти для того, чтобы погонять стадо, а отчасти и потому, что жалели лошадей и не хотели увеличивать и без того тяжелый груз.
Всех сильно мучила жажда, но они бы мучились куда сильней, если бы не добрая тварь, трусившая за фургоном, — дойная корова, «старушка Грааф», как звали ее. И накануне вечером, и утром она дала по нескольку пинт молока, и эта своевременная поддержка принесла путникам большое облегчение.
Лошади вели себя прекрасно. Хотя сбруя оказалась неполной и плохо была пригнана, они тянули за собой фургон так же хорошо, как если бы все ремешки и пряжки были налицо. Умные животные как будто понимали, что их добрый хозяин попал в беду, и решили вызволить его. А может быть, они уже учуяли перед собой родниковую воду. Так или иначе, они пробыли в упряжи уже много часов, когда фургон въехал в небольшую живописную долинку, покрытую зеленой, сочной на вид муравой, и несколько минут спустя остановился у холодного, прозрачного ключа.
Все вволю напились и быстро пришли в себя. Лошадей выпрягли и пустили на траву; остальные животные стали резвиться на лугу. Около ключа разложили большой костер, сварили четверть бараньей туши на обед, а потом все сидели и ждали, пока насытятся кони.
Ван Блоом, примостившись на одном из ящиков фургона, курил свою большую трубку. Он был бы и вовсе доволен, если б не исчезновение стада. Найдено отличное пастбище — своего рода оазис среди пустынной равнины, место, где есть и топливо, и вода, и трава — все, чего может пожелать душа фее-бура. Оазис тянулся не так далеко, но все же был достаточно велик, чтобы на нем могло прокормиться стадо в несколько сот голов, достаточно велик для очень приличной скотоводческой фермы. Лучшего и желать не приходилось, и, если бы ван Блоому удалось добраться сюда с упряжными волами и всем скотом, фермер чувствовал бы себя сейчас совсем счастливым. Но без скота — что проку в прекрасных лугах? Что делать здесь трек-буру, если нет у него скота хотя бы на развод? Все богатство ван Блоома заключалось в стаде, вернее сказать — он питал надежду, что со временем стадо его приумножится и принесет его семье богатство. Животные были у него породистые, и, за исключением двенадцати упряжных волов да двух-трех долгорогих бечуанских племенных быков, стадо состояло сплошь из отличных молодых коров, обещавших принести в скором времени большой приплод.
Естественно, что тревога за этих животных не покидала фермера ни на минуту и гнала скорее отправиться на розыски стада. Трубку свою он достал только затем, чтобы убить время, покуда кони щиплют траву. Он решил, как только они хоть немного восстановят силы, отобрать трех самых сильных и поскакать с Гендриком и Чернышем назад, к покинутому краалю.
Итак, едва лишь кони несколько передохнули, их изловили и взнуздали. Ван Блоом с Гендриком и Чернышем вскочили в седла и пустились в путь, а Ганса оставили стеречь лагерь. Ехали быстро, решив скакать всю ночь и, по возможности, затемно добраться до крааля. Там, где кончалась трава, они спешились и дали лошадям отдохнуть и подкормиться напоследок. Для себя они прихватили несколько кусков жареной баранины; на этот раз они не позабыли наполнить водой свои тыквенные бутыли — так что теперь им уже не пришлось страдать от жажды. Провели час на привале и снова двинулись в путь.
Уже совсем стемнело, когда путники достигли того места, где ушло от них стадо; но в небе стоял ясный месяц, и можно было следовать по оставленной фургоном колее, достаточно приметной в его свете. Время от времени ван Блоом просил Черныша осмотреть следы и проверить, по-прежнему ли стадо держалось дороги к дому. Бушмен без труда разрешал сомнения: он соскакивал с лошади, пригибался к земле и тотчас давал ответ. И каждый раз ответ был утвердительный. Животные несомненно шли к старым своим краалям. Ван Блоом и не сомневался, что найдет их там — но живыми ли? Вот что его тревожило.
Напиться коровы смогут в источнике, но где возьмут они корм? Там им не найти ни травинки; что, если к утру они все околеют?
Брезжил рассвет, когда показалась перед глазами старая ферма. Странное зрелище являла она. Не узнать было ее ни по единому дереву. После налета саранчи внешний вид фермы сильно изменился, но теперь прибавилось что-то еще, усилившее эту необычность вида: как будто цепь каких-то непонятных предметов насажена была по карнизу крыши и по оградам краалей.
Что это такое? Ведь не часть же самих строений! Со своим вопросом ван Блоом обратился скорее к самому себе, но произнес его довольно громко, так что расслышали и другие.
— Стервятники, — ответил Черныш.
Да, именно так: стая стервятников унизала стены краалей.
Появление нечистых птиц не сулило добра. У ван Блоома сжалось сердце от дурного предчувствия. Что их сюда привлекло? Значит, поблизости есть падаль? Всадники поскакали быстрей.
Уже совсем рассвело, и стервятники засуетились. Они хлопали своими темными крыльями, снимались со стен и садились маленькими шумными стайками вокруг дома.
— Там падаль, не иначе, — пробормотал ван Блоом.
Там и была падаль — много падали. Когда всадники подъехали ближе, птицы поднялись в воздух, и теперь можно было разглядеть на земле десятка два полуобглоданных скелетов. Длинные гнутые рога, видневшиеся подле каждого скелета, позволяли с легкостью определить, какого рода животному принадлежал он. В этих костях и растерзанных клочьях шкур ван Блоом узнал останки своего потерянного стада. Не осталось в живых ни одного животного. Останки каждого из них — всех его коров, всех волов и быков — можно было видеть у ограды краалей и на прилежащем поле. Где околели, там и валялся скелет.
Но почему они околели? Это оставалось непонятным. Не могли же они погибнуть от голода так быстро и все сразу! И не могли они подохнуть от жажды, потому что и сейчас тут же, рядом, громко журчал ручей. Не стервятники же их убили! Так кто же?
Ван Блоом не задавал лишних вопросов. И недолго оставался он в недоумении. Когда он и его спутники подъехали к месту, загадка разрешилась. Следы львов, гиен и шакалов достаточно все объяснили. Тут побывали большие стаи этих зверей. После налета саранчи округа оскудела дичью, а из-за этого хищники стали более жадными, чем обычно, и жертвой их жадности сделался скот.
Где сейчас хищники? Утренний свет и вид строений, возможно, отогнали их прочь. Но следы совсем свежие. Они тут неподалеку и к вечеру непременно вернутся. Ван Блоома разбирало желание отомстить проклятому зверью, и при других обстоятельствах он остался бы здесь и дал бы по ним несколько выстрелов. Но сейчас это было бы и неразумно и бесполезно. Нужно было, если достанет силы у коней, вернуться к ночи в лагерь. Итак, даже не зайдя в свой старый дом, они напоили коней, набрали в бутыли ключевую воду и снова с тяжелым сердцем покинули крааль.
Глава 9
ЛЕВ НА ОТДЫХЕ
Не проехали они и ста шагов, как перед ними возникло нечто, при виде чего они все внезапно и одновременно натянули поводья. То был лев. Он лежал среди равнины прямо на тропе, куда они собирались свернуть, — на той самой тропе, по которой они прискакали. Как случилось, что они его не заметили раньше? Он лежал под сенью невысокого куста; но, по милости саранчи, куст был без листьев, и его голые тонкие ветви не могли укрыть такого большого зверя. Светлая шкура льва приметно желтела сейчас сквозь них.
Дело в том, что льва там еще не было, когда всадники, спеша к краалю, проскакали мимо этого куста. Только завидев их, хищник отпрянул от места бойни и, прижимаясь к ограде, забежал им в тыл. К такому маневру он прибег, желая избежать встречи, потому что и лев обладает способностью рассуждать, хоть и не такой, как человек. Увидев, откуда появились всадники, он в меру своей сообразительности рассудил, что они едва ли вернутся той же тропой. Скорее всего, они продолжат свой путь. Человек, незнакомый со всеми предшествующими событиями, связанными с их поездкой, пожалуй, рассудил бы точно так же. Вам случалось, верно, наблюдать, что и другие животные — собаки, олени, зайцы — и птицы поступают большей частью так же, как поступил в этом случае лев. Несомненно, в мозгу льва прошел описанный здесь умственный процесс; и зверь, чтобы уклониться от встречи с тремя всадниками, прокрался им в тыл.
Так мирно лев ведет себя почти всегда, в пяти случаях из шести, если не чаще. Потому и укоренилось у нас ошибочное мнение относительно храбрости этого хищника. Некоторые естествоиспытатели, побуждаемые к тому, как видно, чувством злобы или зависти, обвиняют льва прямо-таки в трусости, отказывая ему решительно во всех благородных свойствах, какие приписывались ему с незапамятных времен. Другие, наоборот, утверждают, что лев не знает страха ни пред зверем, ни пред человеком, и, помимо отваги, наделяют его еще и многими другими добродетелями. Обе стороны подкрепляют свои взгляды не только голословными заверениями, но и множеством ссылок на твердо установленные факты.
В чем тут дело? Ведь не могут же быть правы и те и другие? Но, как это ни странно, правы в известном смысле обе стороны. Дело в том, что одни львы трусливы, другие храбры.
В доказательство этого можно написать целые страницы, но скромные размеры нашей книги не дают нам для этого места. Я, однако, думаю, юный мой читатель, что тебя удовлетворяет некая аналогия. Ответь: известен ли тебе какой-либо вид животных, в котором все особи совершенно одинаковы по своему нраву? Вспомни, например, знакомых тебе собак. Разве все они так уж похожи друг на друга? Не правда ли, есть среди них благородные, великодушные, смелые, преданные, готовые отдать, если надо, жизнь. А есть и совсем иные — подлые, льстивые, трусливые собачонки. Так и у львов. Теперь тебе ясно, что мое утверждение о львах может отвечать истине.
Храбрость и свирепость льва зависят от многого: от его возраста, от состояния его желудка, от времени года и часа дня; в первую очередь от того, какого рода охотников встречает он в своих краях. Влияние последнего обстоятельства покажется вполне естественным тому, кто верит в разум животных, как верю, конечно, я. Вполне естественно, что лев, подобно другим животным, вскоре изучит характер своего врага и станет бояться его или нет — как покажет дело. А разве не так оно и у людей? Старая история! Если память мне не изменяет, у нас был уже разговор на эту тему, когда зашла речь об американских крокодилах. Мы тогда отметили, что на Миссисипи аллигатор в наши времена редко нападает на человека; но раньше было не так: ружье охотника, которому нужна кожа аллигатора, укротило свирепость речного хищника. В Южной Америке крокодил того же вида пожирает ежегодно десятки индейцев, а африканский крокодил в иных местах внушает населению больший ужас, чем лев. Наблюдатели рассказывают, что на Капской земле львы в одних местностях менее смелы, чем в других. Значительно трусливей они как раз там, где ведет на них охоту храбрый и стойкий бур со своим длинноствольным громобоем.
За пределами Капской колонии, где нет у него другого врага, кроме тоненькой стрелы бушмена (которая и не покушается его убить!) да бечуанского легкого дротика, лев нисколько не боится человека — или почти не боится.
Был ли тот лев, что предстал пред глазами наших путников, по природе смел, я вам не скажу. Его отличала громадная черная грива — у буров такие львы зовутся черногривками и считаются самыми свирепыми и опасными. Желтогривка (в Капе водится довольно много различных по масти львов) слывет менее храбрым; однако в правильности этого взгляда можно усомниться. Дело в том, что темно-бурую окраску гривы лев приобретает лишь с годами, и часто молодого черногривку принимают по ошибке за светлогривого льва, а потом приписывают его характер всей светлогривой породе.
Ван Блоом не стал раздумывать, какой перед ним черногривка — свирепый и храбрый или не очень. Было ясно, что лев успел «заморить червячка», что он совсем не помышляет напасть на человека и что, если всадники предпочтут сделать небольшой крюк и мирно проехать мимо, они спокойно довершат свою поездку и больше в глаза не увидят этого льва и никогда о нем не услышат.
Но у ван Блоома были иные намерения. Он лишился своих драгоценных быков и коров. Этот самый лев растерзал если не всех, то часть из них. Голландская кровь колониста вскипела. Будь это самый сильный и свирепый хищник в своем львином племени, не дадут они ему мирно спать под кустом! Приказав спутникам стоять на месте, ван Блоом, не сходя с седла, двинулся вперед и остановил коня примерно в пятидесяти шагах от места, где лежал лев. Тут он спешился, намотал поводья на руку, воткнул в землю шомпол своего ружья и стал позади него на одно колено.
Вы думаете, что стрелку, пожалуй, безопасней было бы остаться в седле, потому что коня лев догнать не может. Верно, но это было бы безопасней и для льва. Нелегкое дело — метко выстрелить, сидя в седле; а когда мишенью служит грозный лев, только отлично натренированный конь будет стоять достаточно смирно и позволит взять правильный прицел. Так что при стрельбе с седла удача зависит от игры случая, а ван Блоом не собирался удовольствоваться случайным успехом. Установив ружье на шомпол и дав таким образом твердую опору длинному дулу, он стал тщательно его наводить, глядя в прицельную рамку слоновой кости. Все это время лев не шевелился. Между ним и стрелком был куст, но едва ли зверь считал его надежным прикрытием. Желтые бока льва отчетливо различимы сквозь тернистые ветви, видна его голова, его усы и морда, измазанная бычьей кровью.
Нет, лев не считал себя в безопасности. Легкое ворчание и два-три взмаха хвостом доказывали противное. И все же он лежал тихо, как лежат обычно львы, покуда к ним не подойдут поближе. Охотник же, как я сказал, стоял в добрых пятидесяти ярдах от него.
Лев не двигался и только слегка помахивал хвостом, пока ван Блоом не спустил курок; и тут он, взревев, подпрыгнул на несколько футов от земли. Охотник опасался, что ветви отклонят его пулю и она лишь скользнет по шкуре; но выстрел явно попал в цель: стрелок видел, как клок шерсти вылетел из львиного бока в том месте, где ударила пуля. Лев был только ранен, и, как вскоре выяснилось, не смертельно. Бия хвостом, оскалив грозные зубы, разъяренный лев длинными прыжками надвигался на противника. Грива, развеваясь, словно увеличила вдвое размеры зверя. Он казался сейчас огромным, как буйвол.
За несколько секунд он покрыл расстояние, только что отделявшее его от охотника, но тот был уже далеко.
Нажав спуск, ван Блоом в тот же миг вскочил на коня и поскакал к остальным.
Недолгое время они стояли все трое рядом; Гендрик — держа на взводе карабин, Черныш — с луком и стрелами в руках. Но зверь кинулся вперед, прежде чем тот или другой успел выстрелить; пришлось пустить вскачь коней и отступить с его пути. Черныш мчался в одну сторону, ван Блоом с Гендриком — в другую; зверь оказался теперь меж двух огней и притом в изрядном отдалении от противников. Когда первый наскок не удался, лев остановился и поглядел сперва на один вражеский отряд, потом на другой, словно не решаясь, за каким погнаться. Вид его в эту минуту был невыразимо страшен. Вся его свирепая природа возмутилась. Грива стояла дыбом, хвост хлестал по бокам, пасть была широко раскрыта, обнажая крепко посаженные клыки, — их белые острия резко контрастировали с багровой кровью, закрасившей скулы и пасть. Яростный рев должен был усилить ужас, который зверь внушал всем своим грозным видом.
Но из трех противников ни один не поддался страху, как ни приглашали к тому зрение и слух. Гендрик навел на льва карабин, хладнокровно прицелился и выстрелил; и в тот же миг со свистом прорезала воздух посланная Чернышем стрела. Оба взяли верный прицел: и пуля и стрела попали в зверя; стрела вонзилась ему в ляжку, и было видно, как покачивается ее древко. Лютого зверя, до сих пор проявлявшего, казалось, самую решительную отвагу, теперь как будто охватил внезапный страх. Стрела ли была в том повинна или одна из пуль, но ему вдруг надоела борьба: опустив задранный, похожий на метлу хвост до уровня спины, он ринулся прочь и, сердито побежав вперед, проскочил прямо в дверь крааля.
Глава 10
ЛЕВ В ЗАПАДНЕ
Странно было, конечно, что лев ищет убежища в столь необычном месте, но это показывало его сообразительность. Не было сколько-нибудь близко другого укрытия: теперь, после налета саранчи, не так-то просто стало найти такие кусты, где можно было бы спрятаться. Попытайся же он спастись бегством, охотники верхом на конях его легко догнали бы. Лев видел, что дом необитаем. Он рыскал вокруг него всю ночь, а может быть, наведался и в комнаты — значит, знал, что представляет собой это место. Инстинкт не обманывал зверя. Стены дома могли защитить его от неприятельского оружия, разившего издалека; а вздумай враги приблизиться, это было бы выгодно для льва и опасно для них.
Когда лев вбежал в крааль, произошло нечто удивительное. В одном конце дома имелось большое окно. Стекол в нем, конечно, не было, да никогда и не бывало. В тех краях застекленные окна редкость. Закрывалось оно только крепким деревянным ставнем. Ставень еще висел на своих петлях, но в суматохе отъезда его не заперли. Дверь тоже стояла распахнутая настежь. И вот, когда лев вскочил в нее, из окошка так и посыпались маленькие зверюшки, похожие не то на лисиц, не то на волков, и во всю прыть пустились наутек по равнине. Это были шакалы.
Как выяснилось позже, львы или, может быть, гиены загнали одного вола в дом и здесь загрызли. Более крупные хищники проглядели его тушу, а хитрые шакалы подобрались к ней и преспокойно завтракали, пока им не помешали так бесцеремонно.
Когда в дверях появился грозный царь зверей, да к тому же разгневанный, шакалы кинулись спасаться в окно; а вид подъезжавших к дому всадников еще больше напугал этих трусливых животных.
Они бросились со всех ног прочь от крааля и вскоре исчезли из виду.
Трое охотников не удержались от смеха; но их веселье сразу погасло перед новым происшествием, случившимся почти в тот же миг. Ван Блоом захватил с собою двух собак, чтобы те помогли пригнать обратно скот. Пока люди отдыхали у ручья, собаки навалились на полуобъеденные туши, валявшиеся под оградой; и так как им пришлось изрядно наголодаться, они не оторвались от еды даже тогда, когда всадники отъехали от крааля. Ни одна из них не видела льва до той минуты, когда раненый зверь ринулся прочь от охотников и понесся прямо к краалю. Выстрелы, львиное рычание и шумное хлопанье крыльев, поднявшееся, когда вспугнутые стервятники улетали, — все это сказало собакам, что впереди происходит нечто требующее их присутствия, и, оставив свою приятную трапезу, они перемахнули через ограду.
Во дворе они очутились как раз в тот миг, когда лев был в дверях. Храбрые и благородные животные без колебания кинулись за ним следом и вбежали в дом. Некоторое время смутно доносился хор разных звуков — лай и тявканье собак, рев и рычание льва. Потом послышался глухой шум, как будто ударили о стену чем-то тяжелым, отчаянный визг, потом звук, похожий на хруст костей… Громкий, грубый бас довольно «мурлыкавшего» огромного зверя — и затем глубокая тишина. Борьба закончена. Это ясно — собаки не подают больше голоса. Они, скорее всего, погибли. Охотники в крайней тревоге глядели на дверь. Смех замер у них на губах, когда они стояли, прислушиваясь ко всем этим мерзким звукам — признакам страшной схватки. Они окликали по именам своих собак. Они еще надеялись, что те выбегут, хотя бы раненые. Но нет, собаки не показываются… Они мертвы!
Долго длилось молчание после шума борьбы. Ван Блоом уже не сомневался, что его любимицы, его единственная пара собак, убиты. Взволнованный этим новым несчастьем, он едва не утратил всякое благоразумие. Он был готов броситься к порогу, откуда мог бы стрелять в ненавистного врага почти вплотную, когда Чернышу пришла на ум блестящая мысль. Громкий возглас бушмена остановил стрелка:
— Баас! Баас! Мы его поймаем! Мы запрем негодника!
Предложение было разумным и легко осуществимым. Ван Блоом сразу его оценил и, отказавшись от прежнего своего намерения, решил принять план Черныша. Но как его исполнить? Дверь и ставни еще висели на петлях. Если бы удалось подобраться к ним и накрепко закрыть, лев оказался бы во власти охотников и можно было бы спокойно прикончить его. Только как, не подвергая себя опасности, запереть дверь или окно? Вот в чем трудность… Едва люди приблизятся к окну или двери, лев сразу их увидит и, так как он сейчас разъярен, непременно кинется на них. Может быть, подъехать на лошадях? Но и это опасно. Лошади не будут стоять смирно, пока всадники станут тянуться в седле, чтобы ухватиться за ручку или за щеколду. Все три скакуна и так уже в нетерпении перебирали ногами. Они знали, что в доме лев — время от времени зверь выдавал свое присутствие рычанием, — и вряд ли смогут они достаточно спокойно приблизиться к двери или к окну; ржание и стук копыт побудят разъяренного зверя выбежать и броситься на всадников. Итак, было ясно, что запереть окно или дверь — задача очень опасная. Покуда охотники держались на открытом месте и в некотором отдалении, им нечего было бояться льва, но если они приблизятся к нему и окажутся в стенах крааля, то не исключено, что кто-либо из них станет жертвой лютого зверя.
Большая, нескладная голова, которую носил на плечах Черныш, заключала в себе немалое количество мозга, а жизнь в постоянной заботе о том, чтобы как-нибудь утолить голод, научила его постоянно упражнять свой мозг. В эту трудную минуту изобретательность Черныша пришла на помощь охотникам.
— Баас, — сказал он, спеша унять нетерпение своего хозяина, — погодите-ка, баас! Дайте старому бушмену закрыть дверь. Он сделает.
— А как? — спросил ван Блоом.
— Подождите немного — увидите.
Они подъехали все трое к краалю меньше чем на сто ярдов. Ван Блоом и Гендрик сидели молча в седле и смотрели, что станет делать бушмен.
А тот вынул из кармана клубочек бечевки и, аккуратно ее размотав, привязал один конец к стреле. Потом он подъехал ближе к дому и в тридцати ярдах от него сошел с коня — не прямо против входа, а немного наискосок, так, чтобы деревянная дверь, раскрытая, к счастью, лишь на три четверти, была обращена к нему наружной стороной. Закинув поводья через руку, бушмен натянул тетиву и пустил стрелу в дощатую дверь. И вот стрела глубоко вонзилась в край двери, как раз под щеколдой. Выстрелив, Черныш в тот же миг вскочил в седло, готовый к отступлению в случае, если лев выбежит. Черныш, однако, не выпускал из руки бечевку, привязанную одним концом к стреле. Гулкий удар стрелы в дверь привлек внимание льва. Об этом сказало охотникам его сердитое ворчание. Лев, впрочем, не показался и снова притих. Черныш натянул бечеву. Сперва для проверки он легонько подергал ее, а затем, убедившись, что стрела сидит крепко, дернул со всей силы и захлопнул дверь. Щеколда сработала, и дверь осталась запертой даже и после того, как Черныш ослабил веревку.
Теперь, чтобы открыть дверь, льву надо было либо догадаться приподнять щеколду, либо же проломить толстые, крепкие доски. Ни того, ни другого опасаться не приходилось.
Но окно еще оставалось открытым, и зверь легко мог выскочить в него.
Черныш, понятно, намеревался закрыть ставень тем же способом, что и дверь. И тут возникла новая большая опасность. У Черныша имелась только одна веревка — та, что была сейчас привязана к стреле. Как освободить ее и снова ею завладеть?
Не оставалось как будто ничего другого, как подойти к двери и отвязать веревку от древка стрелы. Но здесь-то и таилась опасность: ведь если бы лев заметил человека и выскочил в окно, бушмену пришел бы конец.
Подобно большинству охотников-бушменов, Черныш был не так смел, как хитер, хотя его отнюдь нельзя было назвать трусом. В ту минуту, однако, ему совсем не хотелось подходить к двери крааля. Гневное рычание, доносившееся оттуда, обдало бы холодом и самое отважное сердце.
Разрешил задачу Гендрик. Он придумал, как, не приближаясь к двери, вновь овладеть веревкой. Крикнув Чернышу, чтобы тот был начеку, Гендрик тоже подъехал поближе к краалю и остановился в тридцати ярдах от входа, около столба с несколькими рогулями, служившими для привязывания лошадей. Гендрик сошел с коня, зацепил поводья за одну из этих рогуль, положил карабин на другую и затем, нацелившись в древко стрелы, спустил курок. Щелкнул выстрел, перебитое древко отвалилось от двери, веревка свободна! Охотники хотели отъехать подальше, но лев, хоть и свирепо зарычал при звуке выстрела, все же, по-видимому, не тронулся с места. Черныш притянул назад веревку, прикрепил ее к новой стреле и, объехав крааль, остановился наискосок против окна. Через несколько минут стрела просвистела в воздухе и глубоко вошла в податливое дерево. Затем ставень повернулся на петлях и плотно закрылся.
Охотники спешились и, очень быстро, но в полном молчании подбежав к дому, укрепили затворы на ставне и на двери ремнями — обрезками старых поводьев из сыромятной кожи.
Ура! Лев в западне!
Глава 11
СМЕРТЬ ЛЬВА
Да, разъяренный зверь был пойман в западню. Трое охотников вздохнули свободно.
Но как довести дело до конца? И дверь и ставень в окне закрыты наглухо, пригнаны плотно; в оставшиеся щелки все равно ничего не разглядишь. Раз двери и ставни закрыты, в доме полный мрак. Да если бы они и могли увидеть льва, что толку? Ни в одно отверстие все равно не просунешь ствол. Зверь был в такой же безопасности, как и поймавшие его охотники. Покуда дверь заперта, они могли причинить ему не больше вреда, чем он им.
Можно было предоставить запертому зверю околеть с голоду. Какое-то время он продержался бы остатками шакальего завтрака да тушами двух собак, а там пришлось бы ему смириться и погибнуть жалкой смертью. Однако ни ван Блоому, ни его спутникам подобный исход не казался неизбежным. Поняв, что дела его плохи, лев мог навалиться на дверь и, пустив в ход острые когти и зубы, проломить ее.
Разгневанный ван Блоом не желал оставлять своему пленнику такую возможность. Он решил, что не уйдет отсюда, покуда не уничтожит зверя. И вот он стал раздумывать, как бы это сделать самым быстрым и верным путем.
Он надумал было просверлить ножом дыру в двери, достаточно широкую, чтобы можно было и глядеть в нее и просунуть ствол ружья. Если сквозь дыру плохо будет видно зверя, тогда можно проделать вторую в ставне. Два отверстия с противоположных сторон осветят всю внутренность дома, ибо жилище ван Блоома состояло всего из одной комнаты. Пока он там жил, комнат получалось две благодаря перегородке из зебровых шкур, но ее убрали при отъезде.
Два отверстия — одно в двери, другое в ставне — позволят выпустить в зверя сколько угодно пуль, покуда охотники не уверятся, что ему на них не напасть. Но покуда просверлишь их, уйдет немало времени. Это останавливало ван Блоома. Ему и его спутникам нужно было торопиться: кони притомились и были голодны, а прежде чем явится возможность накормить их, предстояло проделать еще долгий путь.
Нет, нельзя сверлить отверстия, нужен способ более быстрый.
— Отец, — сказал Гендрик, — а что, если поджечь дом?
Отлично. Добрый совет.
Ван Блоом бросил взгляд на крышу — покатую с длинным карнизом. Она состояла из сухих тяжелых деревянных балок, стропил, перекладин, и все это было покрыто толстым — в добрый фут толщиной — слоем сухого тростника. Она бы вспыхнула огромным костром, и лев, наверно, задохся бы от дыма раньше, чем дошел бы до него огонь.
Предложение Гендрика было одобрено. Принялись готовить все до поджога. Вокруг дома еще оставалось много валежника, обглоданного, но не сожранного саранчой. Это позволяло с легкостью осуществить задуманное, и они стали подтаскивать этот валежник и заваливать им дверь.
Можно было подумать, что лев разгадал их намерения: перед тем он долгое время не подавал голоса, а тут снова начал грозно рычать. Возможно, зверя встревожил шорох сучьев, стукавшихся снаружи о дверь; и, поняв, что пойман и заперт, он стал проявлять нетерпение. То, что он считал укрытием, обернулось западней, и теперь он рвался высвободиться из нее. Это явствовало из всего его поведения. Было слышно, как он мечется по дому — от двери к окну, от окна к двери — и бьет то в дверь, то в ставень своими огромными лапами, чуть не срывая их с петель и все время испуская дьявольский рев. Хоть и не без тайных опасений, трое охотников продолжали свою работу. Кони были у них под рукой, готовые принять в седло всадников, если лев проложит себе дорогу сквозь огонь. Так охотники и рассчитывали: поджечь — и на коней, чтобы сразу, как только костер как следует разгорится, отъехать и наблюдать за пожаром с безопасного расстояния.
Они перетаскали и нагромоздили у двери все ветви и доски, какие только нашлись. Черныш вынул свой кремень с огнивом и хотел было высечь огонь, когда до слуха охотников донеслось из дома шумное царапанье, не похожее ни на что слышавшееся им до сих пор. Казалось, лев скребет когтями о стену, но к этому примешивались еще какие-то странные звуки, словно зверь отчаянно боролся; его рычание стало хриплым, приглушенным и слышалось словно издалека.
Что делал зверь?
Охотники приостановились на миг, поглядели тревожно друг другу в лицо. Царапанье продолжалось, время от времени доносился хриплый рев, и вот он смолк наконец, потом раздалось фырканье, а за ним рычание, такое громкое и полнозвучное, что все трое содрогнулись от ужаса. Не верилось, что все еще стоит стена между ними и грозным врагом.
Снова прозвучал этот омерзительный рев. Силы небесные! Он доносится уже не из-за двери — он раздается над их головами! Неужто лев выскочил на крышу? Все трое враз отпрянули на несколько шагов и подняли головы. Им представилось такое зрелище, что они замерли в изумлении и ужасе.
Из дымовой трубы высунулась голова льва. Пылающие желтые глаза и белые зубы казались еще страшнее в контрасте с черной от сажи мордой. Зверь силился вылезть в трубу. Одна лапа уже лежала на каменной кладке; ею и зубами он расширял вокруг себя отверстие. Зубы и когти его работали вовсю, из-под них летели во все стороны известь и камень. Скоро освободится от каменных тисков его широкая грудь, и тогда… Ван Блоом не стал раздумывать о том, что будет тогда. Он и Гендрик с ружьями наперевес подбежали ближе к стене. Труба высилась в каких-нибудь двадцати футах от земли; длинный ствол ружья поднялся прямо вверх, чуть ли не на половину этого расстояния. Так же был наведен и карабин. Два выстрела ударили одновременно. Глаза льва вдруг закрылись, голова судорожно качнулась вбок, лапа свесилась над трубой, челюсти разомкнулись, открыв зев, и по языку заструилась кровь. Через несколько секунд зверь был мертв. Это видно было всем. Но Черныш не успокоился, пока не выпустил в голову зверя штук двадцать стрел, которые придали его мертвому врагу сходство с дикобразом. Огромный зверь так плотно застрял в дымоходе, что и смерть оставила его все в том же необычном положении.
При других обстоятельствах охотники не преминули бы стащить льва вниз ради его шкуры. Но свежевать тушу было некогда. Не тратя больше времени, ван Блоом и его спутники сели на коней и поскакали прочь.
Глава 12
БЕСЕДА О ЛЬВАХ
На обратном пути, чтобы скоротать время, охотники повели разговор о львах. Каждый из них кое-что знал об этих хищниках; но Черныш, родившийся и выросший в африканской лесостепи, среди львиных логовищ, был, конечно, хорошо знаком с повадками льва — куда лучше, чем сам господин Бюффон. Излишне было бы описывать, как выглядит лев. Всем образованным людям, конечно, знаком его облик — каждый либо видел живого льва в зверинце, либо его чучело в музее. Каждый знает, как сложно этот зверь, помнит его большую косматую гриву. Каждый знает вдобавок, что львица лишена этого украшения и значительно отличается от самца как ростом, так и всем своим внешним видом.
Хотя все львы относятся к одному и тому же виду, но существует несколько разновидностей его, очень мало, впрочем, друг от друга отличных — куда менее, чем разновидности большинства других животных.
Таких признанных разновидностей насчитывается семь: варварийский лев, сенегальский, индийский, персидский, желтый капский, черный капский лев и лев безгривый.
Различие между всеми этими животными не так уж велико — каждый с первого же взгляда отнес бы их всех к одному роду и виду. Персидская разновидность несколько мельче других; варварийская отличается темно-бурой окраской и самой тяжелой гривой; сенегальский лев посветлей, пожелтей, и грива у него жидкая; а безгривый лев совсем лишен этого убора. Впрочем, существование седьмой разновидности некоторые естествоведы берут под сомнение. Если верить другим, безгривый лев водится в Сирии. Два капских льва различаются главным образом по цвету гривы: у одного она черная или темно-бурая, у другого — желто-рыжая, в одну масть со шкурой.
Из всех львов оба южноафриканских, пожалуй, самые крупные, а черная разновидность свирепей и опасней желтой.
Лев распространен по всему Африканскому материку и в южных странах Азии. В глубокой древности он водился местами и в Европе, но теперь его там уже не встретишь. В Америке львов нет. Животное, которое в Латинской Америке известно под именем льва, не лев, а кугуар, или пума; оно втрое меньше его и схоже с царем зверей только той же бурой окраской. Пума несколько напоминает, пожалуй, полугодовалого львенка. Африку по преимуществу можно назвать страною льва. Он встречается по всему материку, за исключением, понятно, нескольких густонаселенных местностей, откуда его изгнал человек.
Льва издавна прозвали царем лесов, и прозвали неправильно. Он, по существу, не лесной зверь. Он не умеет лазить по деревьям, так что в лесу ему труднее добыть себе пищу, чем на открытой равнине. Пантера, или леопард, или ягуар — те отлично лазают по деревьям. Они могут выхватить птицу из гнезда и настигнуть обезьяну на ветке. В лесу они у себя дома. Это лесные звери. Другое дело — лев. Широкая равнина, где бродят крупные жвачные животные, да заросли низкого кустарника, где можно притаиться, — вот где любит селиться лев. Питается он мясом самых разных животных, хотя иным отдает особое предпочтение — смотря по местности. Животных себе на еду он убивает сам. Рассказы, будто его «поставщиками» являются шакалы, которые якобы убивают зверей для льва, — чистейшее измышление. Напротив, часто сам лев снабжает пищей ленивцев-шакалов. Вот почему их так часто можно видеть в его обществе — они держатся поближе к льву в расчете на «крохи с барского стола».
Лев сам для себя «бьет скот», хотя и предпочитает, чтобы это сделали за него другие. Он охотно отбирает добычу у волка, шакала, гиены, а когда может, и у человека. Лев — неважный бегун, как и другие истинные представители семейства кошек. Жвачные животные почти все обгоняют его в беге. Как же тогда он может их настичь? Благодаря уловке, благодаря внезапности нападения и еще благодаря огромной длине и быстроте своего прыжка. Лев залегает и ждет жертву или же подкрадывается к ней. Он набрасывается из-за прикрытия. Особенности строения тела позволяют льву покрывать прыжком очень большое, почти невероятное расстояние. Некоторые авторы говорят о прыжках на шестнадцать шагов, утверждая, будто видели воочию такой прыжок и сами тщательно измерили его длину.
Когда не удается настигнуть жертву первым же прыжком, лев ее не преследует, а поворачивает и бежит рысцой в обратную сторону. Впрочем, иногда намеченная жертва соблазняет льва и на второй прыжок, а то и на третий; но, если и тот не принесет удачи, лев уже непременно оставит преследование.
Лев не стадное животное, хотя нередко можно встретить группу в десять, а то и в двенадцать голов: львы временами охотятся сообща и гонят дичь друг на друга. Львы набрасываются на зверей всех видов, какие водятся поблизости, и пожирают их: даже сильного и тяжелого носорога они не страшатся, хоть тот частенько отбрасывает их и побеждает. Нередко молодые слоны становятся их добычей. Свирепый ли буйвол, жираф ли, сернобык, огромная канна и эксцентричный гну — над всеми лев одерживает верх благодаря своей превосходной силе и мощному вооружению. Однако не всегда лев выходит победителем из борьбы. Иногда тот или другой зверь побеждает его, и лев сам становится его жертвой. А случается и так, что оба противника остаются мертвыми на поле битвы.
Профессионал-зверобой не охотится на льва. Невелика корысть: за львиную шкуру много не возьмешь, а других сколько-нибудь ценных трофеев убитый зверь не сулит. Поскольку охота на него сопряжена с большой опасностью и поскольку охотник, как уже известно читателю, может, когда захочет, избежать столкновения, то львов совсем почти не убивали бы, если бы сами они не чинили обид человеку — не уносили бы у фее-бура его лошадей и скот. Тут на сцену выступает новая страсть — жажда мести. Охваченный ею, фермер нашел особый смысл в охоте на льва и стал с большим усердием и рвением преследовать его.
Но где нет скотоводческих ферм, там нет и этой побудительной причины. И там охота на льва никого особенно не прельщает. Примечательно, что бушмены и другие бедные кочевые племена совсем не убивают льва или же убивают крайне редко. Они в нем не видят врага. Лев для них поставщик!
Гендрику доводилось об этом слышать, и он спросил у Черныша, правда ли это. Бушмен без обиняков подтвердил. Бушмены, сказал он, обычно высматривают льва или идут по его следам, пока не набредут на него самого или на тушу убитой им жертвы. Иногда им указывают к ней дорогу стервятники. Если лев окажется на месте или если он еще не окончил обеда, люди ждут, чтобы он удалился, а потом подбираются к остаткам его добычи и присваивают их. Часто им таким образом перепадает половина, а то и три четверти туши какого-нибудь крупного животного, которого им не так-то просто убить самим. Зная, что львы редко нападают на человека, бушмены не очень боятся этих хищников. Наоборот, они скорее радуются, когда видят, что в округе много львов. Ведь это означает для них соседство с охотником, который будет поставлять им еду!
Глава 13
ПУТНИКОВ ЗАСТИГЛА НОЧЬ
Наши путники еще долго вели бы разговор о львах, если бы их не тревожило состояние лошадей. С тех пор, когда появилась саранча, несчастные животные только два-три часа пощипали траву, а потом все время оставались без пищи. Зеленая трава — неважный корм для верхового коня, и, конечно, лошади под нашими охотниками уже сильно страдали от голода. Как ни гони коней, не добраться было всадникам до своей стоянки раньше, чем глубокой ночью. Уже совсем смерклось, когда они прибыли к месту, где сделали привал накануне вечером. Темнота была полная. Ни луны, ни звезд — тяжелые черные тучи заволокли все небо. Вот-вот, казалось, нагрянет буря с ливнем — но дождь никак не хотел пролиться.
Путники думали сделать здесь привал и дать коням немного попастись. В расчете на это все трое спешились; но сколько ни искали, нигде не могли найти травы. Странно! Ведь накануне они ясно видели траву на этом самом месте. Куда она исчезла? Лошади тыкались носом в землю, но снова поднимали голову, сердито фыркая в явном разочаровании. Они так изголодались, что, конечно, стали бы щипать траву, если бы она там была: в пути они жадно обрывали даже листья с кустов. Не побывала ли и здесь саранча? Но нет — кусты мимозы еще сохраняли на ветвях нежную листву; они стояли бы голые, навести саранча этот край.
Путники застыли от удивления. Где же трава? Ведь она тут была — определенно была накануне! Уж не сбились ли они с пути?
Темнота мешала видеть землю, но все же не мог ван Блоом заблудиться — этот путь он совершал в четвертый раз. Пусть не видно было под ногами дорогу, но время от времени глаз распознавал какой-нибудь куст или дерево, которые фермер заприметил, когда проезжал здесь раньше, и это давало ему уверенность, что они едут правильно.
Озадаченные отсутствием травы там, где они так недавно видели ее, путники не стали все же разглядывать поверхность земли; они хотели добраться поскорее до родника и потому отказались от привала. Вода в тыквенных бутылях давно иссякла; уже опять давала себя чувствовать жажда. К тому же ван Блоом не был вполне спокоен за детей, оставленных при фургоне. Полтора суток прошло, как он расстался с ними, — мало ли что могло произойти за этот срок, мало ли грозило опасностей? Он и то уже поругивал себя, что уехал от детей. Лучше было бросить скот на гибель. Так думалось ему теперь.
Все сильней одолевала мысль, что там у них не все благополучно; и эта мысль настойчиво гнала ван Блоома вперед и вперед.
Ехали молча. И только когда Гендрик высказывал сомнение насчет дороги, снова завязывался разговор.
Черныш тоже полагал, что хозяин сбился со следа. Сперва ван Блоом уверял их обоих, что это не так, но, проехав немного дальше, признался, что и у него возникли сомнения, а затем, сделав еще с полмили, объявил, что потерял дорогу: он больше не узнает картину местности, не может отыскать взглядом ни одной запримеченной черты.
В таких обстрятельствах вернее всего опустить поводья и дать свободу лошадям; все трое хорошо это знали. Но лошади были измучены голодом и, предоставленные самим себе, не пожелали идти вперед, а подались к зарослям мимозы и стали жадно ощипывать листья с ветвей. Чтобы заставить их бежать, всадникам все время приходилось пускать в ход и кнут и шпоры, а это отнимало уверенность, что кони находят правильную дорогу. Так они ехали час, и другой, и третий в тягостном беспокойстве, но, сколько ни вглядывались, не видно было ни фургона, ни костра. И путники решили все-таки сделать привал. Ехать дальше казалось теперь бессмысленным. Они знали, что находятся, вероятно, неподалеку от лагеря, но, продолжая путь, одинаково могли и приблизиться к нему и удалиться.
И они пришли наконец к заключению, что самое разумное — до рассвета не двигаться с места.
Поэтому они спешились и привязали коней в кустах — пусть жуют листья до зари, которой уже недолго оставалось ждать. Завернулись в свои кароссы и улеглись на землю. Гендрик и Черныш сразу заснули. Ван Блоома тоже клонило ко сну, он достаточно был утомлен, но тревога за детей, переполнявшая сердце отца, не давала ему сомкнуть глаз, и он лежал без сна до утра. Оно наконец наступило, и с первым же проблеском света трек-бур оглядел окружающую местность. Путники, к счастью, заночевали на вершине небольшого холма, откуда во все стороны открывался вид на много миль, но ван Блоом еще не окинул взглядом и половины всего представшего ему простора, как возник перед его глазами предмет, при виде которого его сердце забилось радостью. То был белый парусиновый верх его фургона!
Веселый возглас, вырвавшийся у ван Блоома, разбудил спящих, которые тут же вскочили на ноги; все втроем они загляделись на это отрадное зрелище. Но понемногу их радость уступила место другим чувствам. Да полно, их ли это фургон? Похоже, что их; но он стоял в доброй полумиле — в таком отдалении все фургоны напоминают один другой. А вид окружавшей его местности наводил на сомнения.
Нет, решительно место было совсем не то, где выпрягли они лошадей!
Свой фургон они оставили в узкой долине между двумя пологими склонами — и этот стоял в подобной же долине. Там было рядом маленькое болотце, образовавшееся подле ручья, — и здесь было такое же: они видели издали блеск воды. Но во всех других отношениях местность рознилась с тою. Долину, где они разбили лагерь, всю сплошь — по дну и по склонам — застилал зеленый ковер травы, а эта лежала перед их глазами бурая и голая. Не видно было ни былинки — зелень, казалось, сохранилась тут только на деревьях. Кусты, какие пониже, и те были как будто лишены листвы! Местность своим видом нисколько не походила на ту, где они стали лагерем. А здесь, подумалось им, была, очевидно, стоянка каких-то других путешественников. Они совсем уже было пришли к такому заключению, когда Черныш, внимательно осматривавший все вокруг, наконец уставился в землю под ногами. С полминуты он ее разглядывал
— что теперь, при усиливавшемся свете, стало уже нетрудным — и вдруг повернул лицо к остальным и предложил им обратить внимание на поверхность почвы в степи. Ее, как они увидели, сплошь покрывали какие-то следы, как будто бы от тысячи копыт. В самом деле, степь сейчас походила на обширный овечий загон; такой обширный, что, насколько хватал глаз, повсюду видна была все та же покрытая следами, истоптанная земля.
Что это значило? Гендрик не понимал. Ван Блоом не мог решить. Но Черныш определил с одного взгляда. Для него такое зрелище было не ново.
— Все хорошо, баас, — сказал он, подняв голову и глядя хозяину в лицо. — Это наш старый фургон!.. И ручей тот, и долина та… то самое место… Тут прошли трек-бокен.
— Трек-бокен? — подхватили разом ван Блоом и Гендрик.
— Да, баас, и очень большое стадо. Это следы антилоп… Смотрите!
Ван Блоому все теперь стало понятно. Нагота степи, отсутствие листьев на более низких кустах, миллионы отпечатков маленьких копыт — все разъяснилось.
По степи прошло стадо антилоп из вида горных скакунов («трек-бокен», как они зовутся у буров). Вот что так неузнаваемо изменило местность! А фургон, стало быть не чей иной, как его собственный.
Не теряя времени, они отвязали своих лошадей, взнуздали их и быстро понеслись вниз по склону холма. Хотя при виде фургона у ван Блоома немного отлегло от сердца, он все еще не освободился от дурного предчувствия.
Вскоре путники могли уже разглядеть подле фургона двух лошадей, привязанных к его колесам, тут же стояла и корова, но ни коз, ни овец нигде поблизости не было видно.
У задних колес фургона горел костер, под фургоном что-то чернело, но не приметно было нигде никого из людей.
По мере приближения все сильнее бились сердца у ван Блоома и у двух его спутников. Они не сводили глаз с фургона.
Тревога становилась все острей. Триста ярдов отделяли их от места, а на стоянке все еще никто не шевелился — не появлялось ни одной человеческой фигуры. Ван Блоом и Гендрик были вне себя от беспокойства. Но вот обе лошади у фургона громко заржали; черная тень под фургоном задвигалась, вылезла, поднялась во весь рост, и путники узнали Тотти. Она торопливо отодвинула заднюю дверцу фургона, и оттуда выглянули три юных лица. Крик радости вырвался у всадников, а мгновением позже маленькие Ян и Трейи выпрыгнули из-под парусиновой крыши прямо в объятия отца, между тем как Гендрик, Ганс, Тотти и Черныш весело здоровались. И столько было при этом радостной суматохи, что, право, не описать!
Глава 14
КОЧЕВЬЕ АНТИЛОП
Не обошлось без приключений и у тех, кто оставался в лагере; и рассказ их был вовсе не веселый, так как из него вытекало неприятное обстоятельство: овцы и козы потеряны. Стадо пропало — и при крайне необычных обстоятельствах, а надежда возвратить его была более чем сомнительна.
Ганс начал так:
— В день, когда вы от нас уехали, не произошло ничего особенного. С обеда до вечера я был занят — резал для крааля кусты колючки, так называемой «стой-погоди». Тотти помогала мне таскать их, а Ян и Трейи присматривали за стадом. Наши козы и овцы не забредали за пределы долины — трава была хорошая, а усталость после долгого пути еще давала о себе знать. Так вот. Мы с Тотти, как вы видите, соорудили крааль по всем правилам. Когда настала ночь, мы в него загнали стадо; потом Тотти подоила корову, все поужинали и легли спать. Мы изрядно устали и всю ночь спали без просыпу. Вокруг рыскали гиены и шакалы, но мы знали, что они не проникнут в крааль.
Широким движением руки Ганс указал на круговую ограду, отлично им построенную из терновника. Затем он вернулся к своему рассказу:
— Утром мы все нашли в полном порядке. Тотти снова подоила корову, мы позавтракали. Овец и коз выпустили попастись на траве, лошадей и корову — тоже. Ближе к полудню я стал подумывать, что же нам сварить на обед, — все, что у нас оставалось, съели за завтраком. Мне не хотелось закалывать еще одну овцу, покуда можно обойтись без этого. Итак, приказав Яну и Трейи не отходить от фургона, а Тотти — присматривать за стадом, я взял свое ружье и отправился поискать дичи. Пошел пешком, так как мне казалось, что я видел вдалеке на равнине горных скакунов, а к ним лучше подбираться без лошади. Горных скакунов, что и говорить, было вокруг немало. Когда я вышел за край долины и обвел глазами открывшееся предо мной пространство, я увидел, смею вас уверить, удивительную картину. Я сам едва поверил своим глазам. С западной стороны вся степь, казалось, являла собой одно сплошное стадо антилоп; и по их окраске — светло-желтой на боках, белоснежной на крестце — я в них узнал горных скакунов. Они минуты не оставались в покое: пока одни пощипывали траву, сотни других непрестанно прыгали чуть ли не на десять футов в высоту, наскакивая друг на друга. Право же, это было едва ли не самое любопытное зрелище, какое случалось мне видеть, и самое приятное: я знал, что животные, покрывшие степь, не лютые звери, а прелестные, грациозные маленькие газели. Моей первой мыслью было подобраться к ним поближе и выстрелить; я уже направился прямо в степь, когда заметил, что антилопы сами надвигаются на меня. Я увидел, что они быстро приближаются и, если мне стоять на месте, они меня избавят от труда идти к ним самому. Я улегся за кустом. Лежу и жду. Ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как передние из стада значительно ко мне приблизились, а еще через пять минут уже два-три десятка оказались на расстоянии выстрела. Но я не стал стрелять, я знал, что они подойдут еще ближе, и лежал, наблюдая за движениями этих красивых антилоп. Я разглядывал их легкие, изящные формы, их стройные ноги, их окраску: коричневая спинка, белое брюшко, рыжая продольная полоска на каждом боку. Я видел лировидные рога самцов и, главное, своеобразные белые пятна на крупах, открывавшиеся глазу каждый раз, когда антилопы подпрыгивали, задирая хвост и показывая под ним густую шелковистую шерсть, белую, как снег. Все это я примечал, и наконец, налюбовавшись вдосталь, высмотрел одну хорошенькую самочку — я не позабыл об обеде, а всем известно, что самое вкусное мясо бывает у самок. Старательно нацелившись, я выстрелил. Самка упала, но, к моему удивлению, остальные животные не разбежались. Только несколько самых передних отпрянули назад и подскочили высоко в воздух, но тут же стали снова преспокойно щипать траву. Основная масса продолжала, как и раньше, двигаться вперед. Я как мог скорее перезарядил ружье и повалил еще одного скакуна, на этот раз самца, по-прежнему не спугнув остальных.
Я принялся в третий раз заряжать, но не успел еще довести дело до конца, как передние ряды антилоп уже пронеслись мимо меня с обеих сторон, и я оказался в середине стада.
Прятаться за кустом, решил я, было теперь ни к чему. Я поднялся, стал на одно колено и выстрелил в ближайшего от меня скакуна, который тут же упал. Его товарищи не остановились, и тело его оказалось растоптано тысячью копыт. Я снова зарядил ружье и стал во весь рост. Тут я впервые задумался, почему горные скакуны ведут себя так странно; вместо того чтобы помчаться прочь при моем появлении, они только слегка шарахнулись в сторону и продолжали бежать, не изменив направления. Их точно несло вперед, как в дурмане. Мне вспомнилось, где-то я слышал, что так горные скакуны ведут себя во время своих переселений. Значит, подумал я, это и есть переселение стада.
Вскоре я утвердился в этой мысли, потому что стадо вокруг меня сбивалось с каждой минутой все теснее, и мне становилось не по себе. Я не то чтобы боялся этих животных — они не выказывали никаких поползновений направить на меня свои рога — наоборот, они старались сколько могли обходить меня подальше. Но я внушал беспокойство только самым ближайшим; тех, что находились от меня в ста ярдах, мое присутствие ничуть не страшило, и они не желали хоть сколько-нибудь посторониться. Поэтому ближайшие могли податься лишь на два-три шага от меня, заставляя соседей сбиваться в кучу или же перепрыгивая через них, так что вокруг меня все время было двойное плотное кольцо — одно на земле и второе в воздухе! Не могу описать, какие странные чувства владели мною в этом необычном положении, и не знаю, долго ли я простоял бы так на месте. Может быть, я попытался бы еще несколько раз зарядить ружье и выстрелить, если бы вдруг не вспомнил об овцах. «Стадо увлечет их за собой», — подумалось мне. Я слыхал, что это случается довольно часто. Антилопы, сообразил я, направляются к нашей долине — передние уже вступили в нее; скоро они добегут до того места, где, как я недавно видел, паслись овцы и козы. В надежде, что я опережу горных скакунов и загоню овец в крааль раньше, чем те завлекут их в свое стадо, я побежал к долине. Но, к моему огорчению, я не мог идти быстрее, чем подвигалось стадо.
Задолго до того, как я пробился к фургону, я увидел, что Ян, и Трейи, и Тотти благополучно сидят под парусиновым верхом. Это меня порадовало, но я увидел также, что козы и овцы уже смешались со стадом горных скакунов и те увлекают их за собой, как если бы наши животные принадлежали к одному с ними виду. Боюсь, мы потеряли их безвозвратно… Итак, ван Блоом и его семья очутились в крайнем затруднении. Весь их скот ушел. Только и было у них, что одна корова и несколько лошадей, да и для тех антилопы не оставили не клочка травы. Чем их теперь кормить?
Пуститься по следам кочующих горных скакунов в надежде вернуть своих овец и коз? Бесполезное дело! Так уверял Черныш. Несчастные животные пробегут сотни миль, пока смогут отделиться от огромного стада антилоп и закончить свое невольное путешествие. Оседлать коней и пуститься в погоню? Но далеко на них не проскачешь. Их нечем подкормить, кроме как листьями мимозы, а это не корм для изголодавшихся лошадей. Счастье будет, если они не падут прежде, чем удастся выбраться с ними на какое-нибудь пастбище. Но где теперь искать его? Сперва саранча, а потом еще и антилопы, казалось, превратили всю Африку в пустыню.
Ван Блоом быстро принял решение. Он переночует здесь, на месте, а рано поутру двинется разыскивать какой-нибудь другой источник.
К счастью, Ганс не преминул приволочь туши подстреленных им горных скакунов, и теперь их мясо, сочное и вкусное, пришлось как нельзя более кстати. Жаркое из антилопы да глоток холодной ключевой воды быстро восстановили силы трех истомившихся путешественников. Лошадей пустили пастись среди деревцев мимозы и предоставили самим себе; и, хотя, при обычных обстоятельствах они «воротили бы носы» от такого корма, теперь они отнеслись к нему совсем по-другому и принялись обчищать колючие ветви усердней иного жирафа.
Глава 15
В ПОИСКАХ РОДНИКА
Едва рассвело, ван Блоом был уже в седле. С собою он решил взять только Черныша; Ганс и Гендрик остались при фургоне ждать их возвращения. Лошадей для поездки отобрали из тех, что еще не покидали лагеря, — эти были менее утомлены.
Ехали неуклонно на запад. Это направление они предпочли по той причине, что стадо горных скакунов, как показывали следы, пришло с севера. Путники надеялись, что, двигаясь все время на запад, они быстрее выйдут из полосы опустошения.
К большой их радости, уже через час они оказались за пределами местности, где прошло стадо антилоп; и хотя вода еще не встретилась, всюду была прекрасная трава.
Теперь ван Блоом отправил Черныша назад за остальными лошадьми и коровой, условившись, куда тот приведет их пастись, а сам пустился дальше на поиски воды. Сделав еще несколько миль, он увидел на севере длинную гряду скал, вставшую прямо над степью и уходившую далеко на запад, до самого горизонта. Полагая, что близ этих скал скорее сыщется вода, он повернул к ним своего коня. Чем ближе подъезжал он к основанию хребта, тем больше его привлекала открывавшаяся перед глазами картина. Он пересекал покрытые густой травой поляны, то маленькие, то побольше, отделенные друг от друга рощами нежно-зеленой мимозы; местами они образовывали обширные заросли, местами же состояли из нескольких низеньких кустиков. Высоко над мимозовым подлесьем здесь и там поднимались купы деревьев-исполинов какой-то совсем незнакомой ван Блоому породы — таких он еще никогда не видывал. Они разбросаны были по степи разреженным лесом; но густая вершина каждого дерева представляла сама по себе как бы целый лесок. Вся местность вокруг напоминала своим видом пленительный парк и являла приятный контраст угрюмому хребту. Он вздымался над равниной скалистой кручей высотою в несколько сот футов и отвесной, казалось, как стены дома.
Глаз путника отдыхал на этом красивом ландшафте: такой чудесный уголок среди такой наготы! Ван Блоом знал, что окружающая местность почти всюду малопривлекательна — немногим лучше нелюдимой степи. К северу она переходит в пустыню, которая тянется на сотни миль, — знаменитую Калахари, — и эта каменная гряда составляет часть южного рубежа пустыни.
При других обстоятельствах подобное зрелище наполнило бы радостью сердце фее-бура, но теперь, когда не стало у него скота, что проку было ему в этих тучных пастбищах!
Как ни хороша была картина местности, думы путника приняли печальный оборот. Однако ван Блоом не предался отчаянию. Тревоги дня не позволяли задерживаться слишком долго на мыслях о будущем. Первая задача — отыскать такое место, где могли бы откормиться лошади. Без них он не сможет двинуться дальше в глубь степей, без них он поистине беспомощен. Самое желанное сейчас
— вода. Покуда не удастся найти воду, весь этот чудесный парк, которым он проезжает, для него имеет не больше цены, чем бурая пустыня. Но, конечно, такой прелестный оазис не мог бы существовать без самого необходимого — без влаги. Так размышлял ван Блоом. И каждый раз, как вставала перед ним новая роща, глаза его принимались отыскивать ручей.
— Го-го! — вскричал он радостно, когда из-под ног его шарахнулась со всем своим выводком намаква, крупная куропатка. — Добрый знак! Эту птицу не часто встретишь вдали от воды.
Вскоре затем он увидел стайку красивых цесарок, побежавших в рощу, — новое свидетельство, что неподалеку есть вода. Но вернее всего указывал на ее близость третий признак: на маковке высокой жирафьей акации ван Блоом разглядел сквозь листву яркое оперение попугая.
— Ну, теперь, — пробормотал он, сам себя успокаивая, — я, конечно, совсем рядом с каким-нибудь ручьем или заводью.
Весело поскакал он дальше и через несколько минут въехал на гребень довольно высокого взгорья. Здесь он остановил коня и стал следить за полетом птиц.
Он сразу же увидел выводок куропаток, летевших на запад, затем еще один потянулся туда же. Оба выводка опустились, как показалось ему, у исполинского дерева, высившегося среди равнины ярдах в пятистах от подошвы скалистого кряжа. Дерево это росло особняком от прочих и было куда больше всех, какие видел в пути ван Блоом.
Пока он стоял на месте, дивясь дереву-великану, он подметил, как несколько пар попугаев сели в его ветвях.
Они перекликались и, посидев немного, снимались парами с веток и опускались на землю где-то у подножия дерева. «Там она, значит, и есть, вода, — подумал ван Блоом. — Подъеду погляжу».
Но его лошадь не ждала, пока он примет свое решение. Она уже рвалась в узде и, как только всадник направил ее в сторону дерева, бодро понеслась, вытянув шею и храпя на скаку. Доверившись инстинкту своего коня, всадник опустил поводья, и не прошло и пяти минут, как оба — конь и всадник — пили уже вкусную воду из чистого ключа, бившего в десяти шагах от дерева.
Ван Блоом не стал бы медлить и тут же пустился бы в обратный путь к фургону, но он подумал, что, если дать лошади с часок пощипать траву, она потом побежит резвее и доставит его на место примерно к тому же времени. Поэтому он снял узду и дал скакуну попастись на воле, а сам растянулся под деревом-великаном. Лежа в тени, он невольно залюбовался величественно вздымавшимся над ним удивительным произведением природы. Это было чуть ли не самое большое дерево, какое видел на своем веку ван Блоом. Оно принадлежало к одному из видов фикуса, к породе, называемой «нвана», а широким резным листом, густо росшим на его великолепной вершине, напоминало явор. Ствол его достигал двадцати футов в поперечнике и больше чем на двадцать футов был ровный и гладкий, и только выше пускал во все стороны множество длинных горизонтальных ветвей. Сквозь густую листву проглядывали блестящие яйцевидные плоды величиной с кокосовый орех.
Наслаждаясь прохладой под навесом тенистой листвы, ван Блоом снова и снова возвращался к мысли о том, что хорошо бы построить в этом месте крааль. Обитателям жилища, приютившегося под дружественным кровом нваны, не придется бояться нещадных лучей африканского солнца; да и дождь едва ли пробьется сквозь этот лиственный полог. Право, густая крона дерева сама по себе уже почти составляла крышу.
Не лишись фее-бур своего скота, он, конечно, сразу бы решил обосноваться здесь. Но как ни казалось это соблазнительным, что стал бы он делать теперь в таком месте? Для него оно было той же пустыней. Никаким промыслом он не мог заняться в таком отдаленном уголке. Правда, здесь можно прокормить себя и семью охотой. Дичи вокруг, он видел, было сколько угодно. Но это сулило бы жалкое прозябание без видов на будущее. Что стали бы делать впоследствии его дети? Неужели они должны вырасти только для такого назначения в жизни — сделаться охотниками, необразованными, стоящими на уровне несчастных дикарей-бушменов? Нет, нет и нет! Ставить тут свой дом — об этом не могло быть и речи. Придется лишь на несколько дней дать отдых измученным лошадям, а потом со свежими силами двинуться в обратный путь и выбраться к поселениям.
Но что с ним будет, когда он вернется в колонию? Этого ван Блоом не знал. Будущее представлялось мрачным и неопределенным. Час или немного больше предавался он этим думам; потом решил, что пора возвращаться в лагерь. Поймав и взнуздав свою лошадь, он вскочил в седло и пустился в путь.
Сочная трава и свежая вода восстановили силы лошади, и она резво его понесла; не прошло и двух часов, как ван Блоом съехался с Чернышем и Гендриком на условленной поляне. Теперь лошадей повели обратно в лагерь, запрягли, и тяжелый фургон снова покатил по степи. Солнце еще не зашло, когда длинный белый парусиновый тент заблистал под лиственным кровом исполинской нваны.
Глава 16
ГРОЗНАЯ ЦЕЦЕ
Расстилавшийся вокруг зеленый ковер, густая листва деревьев, цветы у ручья, кристальная вода в его русле, черные крутые скалы, громоздившиеся вдали, — все это вместе составляло чарующую картину. Глаза путников отдыхали на ней, и, пока распрягали фургон, каждый не преминул громким возгласом выразить свой восторг. Место, как видно, всем пришлось по душе. Гансу полюбилась эта лесная красота, дышавшая покоем. О лучшем уголке для прогулок он и не мечтал бы — бери книгу в руки и часами броди в одиноком раздумье. Гендрику место понравилось потому, что оно было, как он выразился, «истоптано на славу»; иными словами, он уже углядел вокруг следы разнообразных африканских животных, вплоть до самых крупных. Маленькую Трейи радовало, что здесь так много красивых цветов. Она видела кругом и ярко-малиновую герань, и белые звездочки душистого жасмина, и горделивые лилии, розовые и белые. Цветы не только пестрели в траве — они цвели и на кустах, и даже на деревьях.
Тут был и медовый кустарник, самый красивый в своем семействе, весь в больших чашевидных венчиках — алых, белых и желтых; было здесь и серебряное дерево с нежными серебристыми листьями — когда ими играл ветерок, они становились похожи на громадные букеты шелковых цветов, — и были усыпанные золотом деревца мимозы, разливавшие в воздухе свой сильный и приятный запах.
Но больше всего восторгала маленькую Трейи прелестная голубая кувшинка, недаром слывущая одним из самых красивых африканских цветков. Поодаль от ручья, в сторону равнины, сверкала небольшая заводь, хотя, пожалуй, ее можно бы назвать и озерцом, а на ее тихой водной глади дремали в величавой красоте небесно-голубые венчики этих кувшинок.
Трейи, ведя за собой на поводу своего маленького любимца, подошла к самому берегу полюбоваться на них. Девочка глядела и не могла наглядеться.
— Мне хочется, чтобы папа остался здесь подольше, — сказала она увязавшемуся за нею маленькому Яну.
— И мне… Ах, Трейи, какое там чудесное дерево! Посмотри! Орехи на нем величиной с мою голову, право! Как бы нам, сестрица, сбить их с веток?
Переговариваясь так, двое малышей любовались каждый по-своему новой для них картиной.
Однако как ни были довольны все младшие в семье, они лишь очень сдержанно выражали свою радость, потому что их смущал пасмурный взор отца. Ван Блоом спокойно сидел под приютившим их деревом, но не поднимал взгляда, как будто погруженный в мучительное раздумье. Это видели все.
Мысли его были в самом деле мучительны, да иначе и быть не могло. Ему оставалось одно: вернуться в колонию и начать свой жизненный путь сначала. Но с чем начинать? К чему приступиться? Он лишился всего и мог только пойти на службу к кому-либо из более богатых соседей, а для человека, привыкшего смолоду к независимости, это было бы очень тяжело. Он поднял глаза и посмотрел на пятерку своих лошадей, которые теперь усердно щипали сочную траву, росшую в тени у подножия скалистого кряжа. Когда они наберутся сил, чтобы можно было снова запрячь их? Пожалуй, дня через три-четыре он тронется в путь. Отличные лошади, породистые, сильные, — они, конечно, повезут фургон без большого труда… Так текли мысли бывшего фельдкорнета.
Не думал он в ту минуту, что его лошади уже никогда не смогут тянуть ни фургона, ни другой повозки. Не думал он, что все пять его благородных коней обречены на гибель… Но это было так. Не прошло и недели, как шакалы и гиены затеяли свару на их костях. В ту самую минуту, когда владелец загляделся на пасущихся лошадей, яд уже сочился по их жилам и начали воспаляться смертельные язвы. Увы! Над головою ван Блоома нависла новая туча. Он подметил, что время от времени пасшиеся лошади проявляли признаки беспокойства. Они вздрагивали вдруг, принимались хлестать себя по бокам длинным хвостом, тереться головой о кусты. «Им, верно, докучает какая-то муха», — подумал трек-бур и больше о них не тревожился. Знай он, что представляет собой эта маленькая мушка, он бы сорвался с места, кликнул своих сыновей и бушмена, кинулся с ними к лошадям, изловил их как можно быстрее и увел бы подальше от этих темных скал. Но он не был знаком с мухой цеце. Оставалось еще с четверть часа до захода солнца, и лошадям не мешали пастись на воле. Но ван Блоом заметил, что они с каждой минутой ведут себя все беспокойней — вдруг забьют копытами о землю или отпрянут в сторону и время от времени начинают сердито ржать. Ван Блоома от них отделяло с четверть мили, и он с такого расстояния не мог увидеть, что беспокоит лошадей; но их необычное поведение в конце концов побудило его встать и направиться к ним. Ганс и Гендрик пошли с ним вместе. Когда они подошли поближе, то их поразило то, что они увидели: каждую лошадь точно осаждал пчелиный рой! Потом они разглядели, что это не пчелы, а насекомые помельче, коричневого цвета, с виду похожие на большую муху-жигалку и очень быстрые в полете. Они тысячами сновали в воздухе над каждой из пяти лошадей и сотнями садились им на голову, на шею, на спину, на бока, на ноги, — словом, на все части тела. Мушки не то кусали, не то жалили их; неудивительно, что бедным лошадям было не по себе.
Ван Блоом предложил отогнать лошадей подальше в степь, куда эти мушки, по-видимому, не залетали. Его беспокоило только одно: что лошади из-за них нервничают.
По той же причине жалел лошадей и Гендрик; из всех троих один только Ганс угадал истину. Ему доводилось читать о страшном насекомом, которое водится в некоторых глубинных областях Южной Африки, и при виде мушек у него сразу возникло подозрение, что это оно и есть.
Юноша тотчас поделился своею догадкой с отцом и братом, и те не на шутку встревожились.
— Позовите сюда Черныша! — распорядился ван Блоом.
Кликнули бушмена, и тот немедля прибежал с веревками в руке. Последний час он был занят разгрузкой фургона и не думал о лошадях и о странном их поведении. Но когда он прибежал на зов и увидел рой, круживший над лошадьми, маленькие глазки его широко раскрылись и все лицо исказилось в изумлении и крайней тревоге.
— Что это такое, Черныш? — спросил хозяин.
— Мин баас! Мин баас! Тут сам дьявол… эта разбойница — муха цеце!
— А что такое «цеце»?
— Боже!.. Все мертвы… Мертвы! Все наши лошади!
То и дело сам себя перебивая громкими причитаниями, Черныш принялся разъяснять, что жало мухи, которую они видят перед собой, ядовито; что лошади неизбежно умрут — раньше или позже, в зависимости от числа полученных ими укусов; но стоявший над ними рой не оставил у бушмена сомнения, что лошади основательно искусаны и в течение одной недели все до единой падут.
— Ждите, мин баас, — завтрашний день покажет.
И в самом деле, на другой день, еще до полудня, у лошадей появились опухоли на голове и по всему телу; воспаленные веки почти закрывали им глаза; несчастные животные не желали щипать траву и бродили, словно вслепую, по тучному пастбищу, давая знать о мучившей их боли глухим, печальным ржанием. Каждый понял бы, что они обречены на гибель. Ван Блоом пробовал пустить им кровь, испытывал разные другие средства, но безуспешно. От укуса мухи цеце нет исцеления!
Глава 17
ДОЛГОРОГИЙ НОСОРОГ
Гендрик ван Блоом был на грани полного отчаяния. Судьба, казалось, преследовала его на каждом шагу. Годами он шел под уклон, из года в год оскудевало его земное богатство, он делался все беднее. Теперь он достиг самой низшей ступени — стал просто нищим. У него не осталось уже ничего. Лошади были все равно что мертвы. Только корова была спасена от цеце: ее не подпускали к подножию хребта и выгоняли пастись в открытую степь; она и составляла теперь весь «живой инвентарь» трек-бура, все его имущество. Правда, у него оставался еще превосходный фургон, но что проку в нем без волов или лошадей? Фургон без упряжки! Уж лучше бы упряжка без фургона.
Что предпринять? Как найти выход из положения? А оно было достаточно трудное, чтобы не сказать хуже: трек-бур находился сейчас в двухстах милях от ближайшего культурного поселения, и добраться туда не было иной возможности, как только пешком; но как пройти с малышами двести миль? Немыслимое дело!
Пешком по голым, безлюдным степям, превозмогая страшную усталость, терпя голод и жажду, подвергаясь встречам с опасными хищниками! Нет, не под силу будет детям совершить такой путь. «А что еще делать?» — спрашивал себя ван Блоом. Оставаться здесь с детьми на всю жизнь, кормясь охотой в меру удачи да кореньями? Неужели стать ему дикарем-охотником, бушменом, «лесным человеком», а детям — «лесными ребятами»?
Такие мысли непрестанно осаждали ван Блоома. Неудивительно, что он чувствовал себя глубоко несчастным. Он сидел, сжав виски ладонями, и восклицал:
— Милосердное небо! Что станется со мной и с детьми?
Бедный ван Блоом! Он дошел до самой низкой ступени, уготованной ему судьбой. Да, поистине самой низкой, потому что в тот же день — и даже в тот же час — случилось нечто такое, что не только доставило облегчение его угнетенной душе, но обещало лечь в основу нового благополучия. Один лишь час спустя будущее стало рисоваться ван Блоому совсем в ином свете, один лишь час спустя он был уже счастливым человеком, и все вокруг почувствовали себя такими же счастливыми!
Вам не терпится услышать, как произошла такая перемена? Какая маленькая фея выскочила из родника или сошла с горы, чтобы оказать покровительство доброму буру-кочевнику в трудную минуту? Вам не терпится услышать? Вы услышите!
Солнце клонилось к закату. Трек-бур со своей семьей сидел под большой нваной у костра, на котором только что сварили ужин. Не было разговоров, веселой болтовни — дети видели, что отец удручен, и сами притихли. Никто не разговаривал, только изредка перемолвятся словом, да и то шепотком. В эту-то минуту и выразил ван Блоом свои печальные думы приведенным выше восклицанием.
Словно ища ответа, он поднял к небу глаза, потом обвел ими равнину. И вдруг его взгляд остановился на странном предмете, только что появившемся из дальней заросли кустов. Это был какой-то зверь, очень большой, так что ван Блоом и другие приняли его поначалу за слона. Никто из них, кроме Черныша, еще не видывал диких слонов. Хотя слоны водились когда-то по всей южной половине Африки, они уже давно ушли из населенных мест, и в наши дни встретить их можно только за пределами Капской колонии. Но трек-бур и его сыновья знали, что слоны здесь водятся, так как приметили уже их следы, а потому они все и подумали, что приближавшееся животное, наверно, слон. Впрочем, Черныш составил исключение. Как только взгляд его упал на зверя, маленькой бушмен вскричал:
— Чукуру! Это чукуру!
— Носорог? — сказал ван Блоом, зная, что «чукуру» — бушменское название, носорога.
— Да, баас, — ответил Черныш, — очень большой детина! Кобаоба, длиннорогий белый носорог. Эти слова Черныша означали, что приближавшийся к ним зверь принадлежал к крупному виду носорогов, которых туземцы именуют «кобаоба». Теперь, мой юный читатель, я позволю себе заметить, что ты, вероятно, всю свою жизнь воображал, будто на свете есть только один вид носорога, который так и зовется: носорог. Я прав? Ну конечно.
Ты, доложу я тебе, ошибался. Существует множество различных видов этого весьма своеобразного животного. Мне их известно по меньшей мере восемь. И я без колебания скажу, что, когда Центральная Африка, Южная Азия и острова Малайского архипелага будут в полной мере исследованы, видов носорога окажется еще в полтора раза больше.
В Южной Африке хорошо известны четыре вида, еще один вид, отличный от них, водится в Северной Африке, а большой индийский носорог имеет лишь отдаленное сходство с каким бы то ни было из африканских. К обособленному виду, отличному от африканских и индийского, принадлежит носорог, живущий на острове Суматра, и еще один самостоятельный вид составляет яванский носорог, обитатель острова Ява. Итак, мы насчитали не менее восьми пород носорога, резко различающихся между собой.
По музеям, зверинцам и по картинкам, пожалуй, наиболее известен индийский носорог. Он отличается характерными складками кожи и весь изукрашен толстыми шишками, придающими его шкуре сходство с панцирем. Это отличает его от африканских видов, которые все лишены такого панциря, хотя у некоторых из них шкура узловатая или бородавчатая.
У абиссинского носорога шкура также собрана в складки, что несколько сближает его с индийским.
Носорог Суматры и яванский носорог невелики по сравнению со своим родичем
— огромным индийским носорогом, водящимся только в континентальной Индии, в Сиаме и Кохинхине.
Яванский носорог приближается к индийскому, поскольку он, как и тот, покрыт шишками и имеет один рог. Однако мы не находим у него своеобразных складок шкуры, характерных для индийского вида. У носорога Суматры нет ни складок, ни шишек. На его шкуре имеется легкий волосяной покров, а два рога на носу сближают его с двурогими африканскими видами.
Туземцам Южной Африки знакомы четыре различных вида носорогов, которые они обозначают соответственно четырьмя различными названиями; и можно здесь кстати отметить, что для классификации носорогов эти наблюдения охотников-дикарей заслуживают больше веры, нежели мнения чисто кабинетных ученых, которые строят свои выводы на присутствии или отсутствии какого-нибудь зуба, шишки или складок кожи. Нашим знанием одушевленной природы мы обязаны не столько кабинетным ученым, сколько «грубым охотникам», которых те пытаются презирать и которые, по правде говоря, научили нас чуть ли не всему, что нам известно о повадках и привычках того или другого животного. Такой «грубый охотник», как, например, Гордон Камминг, больше способствовал расширению наших сведений по зоологии Африки, чем целый синклит ученых теоретиков. Так вот, Гордон Камминг, которого столько обвиняли — и, по-моему, напрасно — в преувеличениях, написал очень скромную и правдивую книгу, где вы прочтете, что в Южной Африке встречаются четыре породы носорогов, и едва ли кто-либо знает это лучше, чем он.
Четыре африканских вида известны среди туземцев под именем «бореле», «кейтлоа», «мучочо» и «кобаоба». Два первых вида относятся к черным носорогам, то есть общая окраска их шкуры темная, тогда как мучочо и кобаоба
— белые насороги, и шкура у них грязно-белесого цвета. Черные носороги много мельче — чуть ли не вполовину против белых — и отличаются от них длиной, посадкой своих рогов и некоторыми другими особенностями.
Рога у бореле расположены, как и у всех прочих видов, на когтистом бугре над ноздрями, откуда и произошло это наименование — носорог. Но у бореле они торчат вверх, слегка отклоняясь назад, и один позади другого. Передний рог у него длиннее — он достигает восемнадцати дюймов в длину, а иногда и более того, но часто бывает обломан или же стерт. Задний рог у этого вида напоминает скорее что-то вроде шишки, тогда как у кейтлоа, то есть у двурогого черного носорога, оба рога вполне развиты и имеют почти одинаковую высоту.
У мучочо и кобаоба задний рог развит слабо; зато передний у обоих этих видов значительно длиннее, чем у бореле или кейтлоа. У мучочо он нередко достигает трех футов длины, а у кобаоба можно зачастую увидеть рог в четыре фута, торчащий над концом его безобразной морды, — грозное оружие!
У двух последних видов рог не загнут назад, а направлен острием вперед, и, так как оба эти носорога держат голову низко склоненной, их длинное острое копье оказывается нередко в горизонтальном положении. Формой и длиною шеи, посадкой ушей, да и многими другими особенностями черные носороги существенно отличаются от белых. Несходны они и образом жизни. Черные питаются преимущественно листьями и ветвями колючих кустов, таких, как колючая акация или «стой-погоди», тогда как белые живут травой. Черные свирепей нравом — они набрасываются и на человека и на любого зверя, какой попадется им на глаза, а иногда как будто даже срывают свою ярость на кустах и разносят их в клочья.
Белые носороги тоже довольно свирепы, если их поранить или раздразнить, но, в общем, склонны к миролюбию и позволяют охотнику пройти мимо, не причинив ему вреда. Они легко жиреют, и мясо их пригодно для еды. Из всех африканских животных ни одно так не ценится за мясо, как теленок белого носорога. Напротив, черные носороги никогда не жиреют, и мясо у них жесткое и невкусное.
Рога всех четырех идут у туземцев на различные нужды, так как они крепки, прекрасной фактуры и отлично поддаются полировке. Из самых длинных рогов местные жители выделывают массивные трости, а также шомполы для своих ружей. Рога покороче идут на молотки, стаканы, ручки для разных небольших инструментов и тому подобные поделки. В Абиссинии и других областях Северной Африки, где в ходу мечи, их рукояти делаются из рогов носорога. Шкура носорога также идет на различные изделия, между прочим — на кнут, известный под названием «ямбок», хотя ямбок из шкуры бегемота ценится выше.
У африканских носорогов, как мы уже упоминали, кожа не имеет ни складок, ни шишек, характерных для их азиатского сородича, но и у них она далеко не мягкая. Она так толста и труднопроницаема, что обыкновенная свинцовая пуля нередко сплющивается, ударяясь о нее. Чтобы она могла наверняка пробить шкуру носорога, ее отливают из особо твердого сплава.
Носорог не относится к водяным животным, вроде бегемота, однако и он любит водную стихию, и его не часто встретишь вдалеке от воды. Всем четырем африканским породам по нраву лежать и кататься в грязи — совсем как свиньям в летний день; и обычно они ходят сплошь облепленные грязью. Днем их можно увидеть лежащими или стоящими в тени какого-нибудь густого деревца мимозы в состоянии дремотной лени; ночью же они бродят в поисках пищи и водопоя. Если подойти к носорогу с подветренной стороны, его нетрудно захватить врасплох, потому что его крохотные бусинки-глаза не очень зорки. Наоборот, когда охотник идет по ветру, носорог может учуять его издалека, так как нюх у него превосходный. Будь носорог одарен к тому же и острым зрением, нападать на него было бы опасной игрой: бежит он с такой быстротой, что на первых порах обгоняет коня.
В броске и в беге черный носорог далеко превосходит белого. Все же охотнику легко от него увернуться: он только должен проворно отскочить в сторону, предоставив зверю слепо мчаться вперед.
Туловище черного носорога достигает шести футов высоты считая до плеч, и тринадцати футов длины. Белый крупнее: кобаоба имеет все семь футов вышины и четырнадцать длины.
Неудивительно, если зверя таких необычайных размеров приняли с первого взгляда за слона. Носорог породы кобаоба — самое крупное после слона четвероногое. При своей огромной морде — до полутора футов ширины, — неуклюжей вытянутой голове и громоздком туловище он производит впечатление такой мощи и тяжеловесного величия, что в этом не уступает самому исполину-слону, а, по мнению иных, даже превосходит его. Он, можно сказать, являет собою как бы карикатуру на слона. Поэтому не так уж груба была ошибка, когда ван Блоом и осталые, глядя из-за фургона, приняли кобаоба за могучего слона.
Черныш, однако, вывел всех из заблуждения, объявив, что животное, которое они видят, — белый носорог.
Глава 18
ЖЕСТОКАЯ БИТВА
Когда они впервые заметили кобаоба, тот, как сказано, только что вышел из чащи кустарника. Не задерживаясь, зверь прямиком направился к упомянутому выше озерцу, очевидно, с намерением добраться до воды. Эта заводь была, конечно, обязана своим существованием роднику, хоть она и лежала на добрых двести ярдов в стороне от него и примерно на столько же от дерева-великана. Она была почти круглой формы, имея сто ярдов в диаметре, и, значит, занимала площадь в два с небольшим английских акра. Она с полным правом могла именоваться озером. Так ее и называли дети ван Блоома.
У верхнего края озера — у того, что был обращен к роднику, — берег вставал высоким откосом, а в двух-трех местах даже скалами, которые тянулись к роднику вдоль русла небольшого ручейка. У дальнего же, западного, конца озера берег был низменный, и местами поверхность воды стлалась чуть не вровень с прилегающей степью. Поэтому он был весь исчерчен следами животных, приходивших на водопой. Гендрик, страстный охотник, среди знакомых следов приметил и такие, которые, по-видимому, принадлежали неизвестным ему породам.
Кобаоба направлялся как раз туда, к нижнему концу озера — несомненно, своему излюбленному и привычному месту водопоя.
Там был уголок, где подступ к воде был легче, чем повсюду, — немного вбок от того места, где уходило от озера в степь сухое русло ручья. Это был заливчик, окаймленный светлой песчаной отмелью. С равнины к нему вело подобие крошечной ложбинки, вытоптанной догола животными, издавна приходившими сюда утолять жажду. Вступив в заливчик, даже самые высокие животные находили здесь достаточную глубину и хорошее дно, что позволяло им пить спокойно и не слишком нагибаясь.
Кобаоба держал путь прямо к озеру, и, когда он подошел поближе, люди, наблюдавшие за ним, увидели, что он вступил в ложбинку. Это послужило доказательством, что он бывал здесь не раз.
Мгновением позже носорог, выйдя к заливчику, уже стоял по колено в воде. Сделав несколько изрядных глотков — то сопя, то чихая, — он погрузил в воду свою широкую рогатую морду и принялся мотать головой, пока вода не вспенилась, а затем лег на дно и начал перекатываться с боку на бок, как свинья в луже.
Здесь было мелковато, и большая часть его огромного туловища выступала над поверхностью, хотя, пожелай он выкупаться как следует, он в двух шагах от берега нашел бы достаточную глубину.
У ван Блоома и Гендрика сразу явилась мысль: нельзя ли окружить зверя и убить его? Не просто убить ради убийства, нет. Черныш успел уже им объяснить, как вкусно мясо белого носорога, а в лагере запас провианта пришел к концу. У Гендрика была и другая причина желать смерти зверя: ему нужен был новый шомпол для карабина, и он с вожделением поглядывал на длинный рог кобаоба.
Но пожелать носорогу смерти легко, а вот убить его не просто. У наших охотников не было лошадей — или, вернее, их лошади уже не годились под седло, — а попытка подкрасться к зверю на своих двоих была бы и пустой и опасной затеей. Носорог, по всей вероятности, поддел бы кого-нибудь из них на свое большое копье или попросту растоптал ножищами. А если бы даже ничего такого не случилось, он все равно ушел бы от них — носороги всех пород бегают быстрей человека.
Как же все-таки управиться с ним? Может быть, подойти поближе, выстрелить из засады и меткой пулей уложить на месте? Иногда удается убить носорога с первого же выстрела, но только надо знать, куда стрелять, чтобы пуля проникла в сердце или в другой жизненно необходимый орган.
План казался вполне осуществимым. Подобраться поближе было нетрудно: у самого водопоя росли подходящие кусты. Если зайти с подветренной стороны, старый кобаоба, пожалуй, и не учует охотников, тем более что в ту минуту он был всецело поглощен своим приятным занятием.
Охотники решили попытать счастья и уже встали с земли, когда Черныша вдруг как будто свело судорогой: маленький бушмен весь задергался, заплясал на месте, чуть слышно бормоча:
— Клау, клау!
Глядя со стороны, всякий подумал бы, что Черныш внезапно помешался, но ван Блоом знал, что возглас «клау» означает у бушмена «слон», и сам посмотрел в ту сторону, куда указывал Черныш. Да, с запада в степи, вырисовываясь на желтом небе, возникла темная громада, в которой, если присмотреться, угадывались очертания слона. Явственно была видна над низкими кустами его округлая спина; шевелились на ходу широкие висячие уши. С одного взгляда все поняли, что слон направляется к озеру — и почти той же тропой, по которой прошел только что носорог. Это, понятно, опрокинуло все планы охотников. С появлением могучего слона они и думать забыли о белом носороге. Едва ли могли они рассчитывать, что удастся убить зверя-исполина, но все же подобная мысль мелькнула у них в уме. Почему не попытаться?
Однако они не успели еще составить какой-либо определенный план действий, как слон уже подошел к берегу озера. Шествовал он как будто медленно, но его огромные ноги быстро отмеряли расстояние, и свой путь он совершил куда быстрее, чем можно было ждать. Охотники едва успели обменяться мыслями, когда зверь-исполин был уже в нескольких ярдах от воды. Здесь он остановился, повел хоботом в одну сторону, в другую и застыл, как будто прислушиваясь. Не слышно было никакого шума, который мог бы его смутить, — даже кобаоба притих.
Простояв так с минуту, исполин опять двинулся вперед и вступил в описанную уже ложбинку. Из лагеря он был виден теперь весь, как на ладони, хоть и находился в трехстах ярдах от зрителей. Он высился тяжелой громадой. Его туловище заполняло почти всю ширину ложбинки, а длинные желтые бивни, выдаваясь на два с лишним ярда из челюсти, изящно изгибались кверху. Это был, как шепотом пояснил Черныш, «старый бык».
До последней минуты носорог даже не подозревал о приближении слона; при огромных размерах исполина поступь его бесшумна, как у кошки. Правда, из его утробы, когда он двигался, доносилось какое-то грохотание, похожее на далекий гром, но кобаоба был тогда слишком увлечен купанием и не слышал или же не слушал звуков, недостаточно близких, а возможно, недостаточно отчетливых. Но когда внезапно огромное тело слона четким силуэтом встало между ним и солнцем и отбросило густую тень на водоем, носорог с легкостью, поразительной при его неуклюжем сложении, мгновенно вскочил на ноги. При этом раздалось нечто среднее между хрипением и свистом, а из ноздрей купальщика изверглась струя воды. Слон тоже на свой лад произвел салют, который прогремел трубным гласом и отдался эхом в скалах; затем великан застыл на своей тропе — он увидал носорога. Встреча, очевидно, явилась для обоих неожиданной; оба стояли несколько секунд неподвижно, взирая друг на друга в явном удивлении. Удивление, однако, быстро сменилось совсем другим чувством. Животные стали проявлять признаки гнева. Было видно, что не обойдется без драки. Да и как тут было мирно разойтись? Слон не мог спокойно вступить в заливчик, покуда не выйдет из воды носорог, а носорог не мог выйти, покуда слон своим огромным телом закрывал вход в ложбинку. Правда, кобаоба мог бы проскочить у слона между ног или отплыть и выйти на берег где-нибудь в сторонке; и так и этак — он очистил бы место слону. Но из всех зверей на свете носорог, быть может, самый неуступчивый. И добавим: самый, пожалуй, бесстрашный — он не боится ни человека, ни зверя, даже прославленного льва, который нередко пускается от него наутек, точно кошка. Так что старик кобаоба отнюдь не склонен был отступить перед слоном; вся его поза ясно говорила, что он не собирается ни прошмыгнуть у того под животом, ни отплыть в сторону хоть на ярд. Нет, он не отступит ни на ярд! Оставалось стоять и смотреть, как разрешится спор чести. Положение делалось все более напряженным, и люди из своего лагеря глядели не отрываясь на двух огромных «быков» — потому что кобаоба тоже был быком, и самого крупного размера, какого только достигает носорог. Несколько минут оба зверя мерили друг друга взглядом. Слон хоть и был больше ростом, хорошо знал силу своего противника. Ему случалось уже встречаться с носорогом, и он отнюдь не презирал его. Возможно, ему довелось уже разок познакомиться с прикосновением этого длинного вертелообразного нароста на носу у кобаоба. Так или иначе, слон не набросился сразу на противника, как поступил бы с какой-нибудь антилопой, которой случилось бы так вот встать на его пути. Однако терпение его иссякло. Его признанному достоинству нанесено оскорбление, его державную власть оспаривают, слон хочет искупаться и напиться — нет, он не может больше сносить дерзость носорога! С ревом, гулко отдавшимся в скалах, ринулся он вперед; потом твердо уставил свои бивни под плечи носорога, поднял его могучим рывком на воздух и сбросил в озеро. Тот нырнул и, высунув наполовину голову из воды, засопел и зафыркал, но через секунду снова был на ногах и сам повел нападение. Зрители видели, что он норовит всадить свой рог слону меж ребер, а тот старается не повернуться к нему боком. Слон опять подбросил кобаоба, и тот опять вскочил и бешено ринулся на великана-противника; так они сражались, пока вода вокруг них не побелела от пены.
Битва некоторое время шла в воде, но потом слон, решив, как видно, что это дает врагу преимущество, попятился в ложбинку и, выжидая, остановился, повернув голову к озеру. Но если он надеялся, что в такой позиции стены ложбинки дадут ему защиту, расчет его не оправдался: они были слишком низки, и его объемистые бока сильно выступали над ними. Стены только отняли у слона возможность поворачиваться и стесняли его движения. То, что дальше совершил носорог, едва ли было с его стороны рассчитанным маневром, как это показалось наблюдателям. Когда слон занял свою позицию в ложбинке, кобаоба вылез из воды на отмель и затем, сделав быстрый крутой поворот, пригнув голову чуть не к самой земле и выставив горизонтально свой длинный рог, кинулся на врага и ударил его сбоку между ребер. Зрители видели, как рог вошел в тело, а пронзительный вой слона и судорожные движения его хобота и хвоста ясно говорили, что великан получил жестокую рану. Бросив свою ложбинку, он устремился вперед и не останавливался, пока не оказался по колено в воде. Набрав полный хобот воды, он его поднял вверх и, задрав назад, стал большими струями окатывать все свое тело, а в особенности то место, куда вошел рог кобаоба. Затем он выбежал из озера и кинулся искать своего обидчика, но длиннорогого и след простыл!
Выйдя из «купальни» без урона для своего достоинства и, быть может, твердо веря, что одержал победу, кобаоба, как только нанес противнику удар, припустил вскачь и скрылся в кустах.
Глава 19
СМЕРТЬ СЛОНА
Битва между двумя огромными четвероногими длилась не больше десяти минут. Все это время охотники не делали никаких приготовлений, чтобы напасть на одного из двух бойцов, — так захватило их зрелище невиданной схватки. Только когда носорог оставил поле битвы, а слон опять вошел в воду, они снова принялись обсуждать план нападения на самого могучего из африканских зверей. Ганс взял ружье и присоединился к ним.
Слон, оглядевшись и не найдя врага, вернулся к озеру и вошел по колено в воду. Он, казалось, был в сильном возбуждении и не находил покоя. Исполин непрестанно шевелил хвостом и время от времени испускал пронзительный горестный рев, нисколько не похожий на его обычный трубный глас. Он поднимал из воды свои огромные ноги и снова шлепал ими по дну, пока взбаламученный заливчик не вскипел вокруг него пеной. Но самым странным было то, что проделывал слон своим длинным трубовидным хоботом. Он набирал в него огромное количество воды и затем, загнув его назад, выбрасывал струю на свою спину и плечи, как из огромной лейки. Снова и снова он тешил себя таким душем, хотя по всему было видно, что ему не по себе.
Все понимали: слон сейчас зол. Людям, предупреждал Черныш, чрезвычайно опасно в такую минуту попадаться ему на глаза, если под ними нет коней, чтобы вовремя ускакать. Поэтому все четверо укрылись за стволом исполинской нваны и выглядывали потихоньку — ван Блоом с одной стороны, Гендрик с другой, — наблюдая за движениями раненого слона.
Но как ни было это опасно, охотники все-таки решили напасть на слона. Они рассудили, что, если не сделать этого немедленно, он уйдет и оставит их без ужина, а они уже размечтались поужинать ломтиком слоновьего хобота. Времени оставалось мало, и они решили не мешкать. Они намеревались подползти к нему настолько близко, насколько можно будет это сделать, не подвергая себя слишком большой опасности. А потом они выстрелят разом и тут же залягут в кустах, чтобы посмотреть, чего добились.
Договорившись, ван Блоом, Ганс и Гендрик вышли из-за ствола и стали пробираться сквозь кустарник к западному концу озера. Лес тут не стоял сплошной чащей — каждое дерево с подлеском росло особняком, так что приходилось прокрадываться очень осторожно от заросли к заросли. Ван Блоом шел впереди, выбирая дорогу, мальчики следовали за ним по пятам. Так они двигались минут пять, пока не оказались под укрытием небольшой купы деревьев, расположенной у самой воды, достаточно близко к тому месту, где топтался слон. Теперь они подползли на четвереньках к опушке и, раздвинув листву, стали наблюдать за слоном. Четвероногий великан стоял прямо перед их глазами, ярдах в двадцати, не более. Он все еще то окунался в воду, то окатывал свое тело мощной струей. Ничем не показывал он, что заподозрил их присутствие. Значит, время позволяло спокойно выбрать на его огромном теле точку, куда направить пулю.
Когда они впервые увидели слона со своего нового наблюдательного пункта, тот стоял к ним грудью. Ван Блоом не считал эту минуту удобной для выстрела, так как они сейчас не могли ранить слона насмерть. Они поэтому стали ждать, когда слон повернется к ним боком, чтобы дать тогда свой залп. Ждали, не сводя с него глаз. Слон перестал наконец перебирать ногами, перестал обливать себя струей из хобота, и теперь охотники увидели, что вода вокруг него стала красного цвета. Ее окрасила кровь слона.
Не оставалось никаких сомнений, что носорог в самом деле поранил своего противника. Но была ли рана тяжелой, охотники не знали.
Кобаоба ударил слона в бок, а с того места, где находились наблюдатели, видна была только его широкая спина. Но они спокойно выжидали: знали, что, когда слон повернется, чтобы выйти из воды, он непременно подставит им другой бок. Несколько минут слон не менял положения. Но вот они заметили, что он уже не машет больше хвостом и весь бессильно обмяк. Время от времени он закидывал хобот к тому месту, куда пырнул его кобаоба. Рана явно мучила его, об этом свидетельствовало затрудненное дыхание, с шумом вырывавшееся из хобота.
Охотниками овладело нетерпение. Гендрик попросил позволения отползти в другое место и выстрелить в слона, чтобы заставить его повернуться. В этот миг слон сделал движение, показавшее, что он как будто собирается выйти из воды. Он совершил полный поворот. Его голова и передняя половина туловища высились уже над землей, и три дула направились в него… но вдруг исполин качнулся — и рухнул. С громким всплеском его огромное тело погрузилось в воду, и во все концы озера пошла от него большая волна. Охотники осторожно спустили курки и, выскочив из засады, бросились к отмели. С одного взгляда они поняли, что слон мертв. На его боку они увидели рану, нанесенную рогом кобаоба. Она была не так велика, но страшное оружие проникло глубоко в тело, в самые внутренности. Неудивительно, что такой удар принес смерть самому могучему представителю животного царства. Как только стало известно, что слон мертв, все бросились к озеру. Малышей, Яна с Трейи, вызвали из их укрытия (раньше им было приказано спрятаться в фургоне). Прибежала с другими и Тотти. Чуть ли не первым оказался на месте Черныш с топором и большим ножом в руках — бушмен собирался разделать по-своему слоновью тушу, а Ганс и Гендрик скинули с плеч куртки, чтобы помочь Чернышу в его работе.
Но чем же в это время был занят ван Блоом? О! Это более важный вопрос, чем вы предполагаете. То был решающий час — час крутого перелома в жизни начальника ополчения. Скрестив руки, он стоял на берегу прямо над тем местом, где повалился слон. Погруженный в безмолвное раздумье, он глядел не отрываясь на тушу мертвого исполина. Нет, не на тушу. Более внимательный наблюдатель увидел бы, что взгляд ван Блоома не блуждает по этой горе мяса, одетой в толстую шкуру, а прикован к одному определенному месту. Не к ране ли в боку животного? Не о том ли думал ван Блоом, как сумел носорог одним ударом убить такого огромного зверя? Нет, совсем не то. Мысли ван Блоома были далеки и от раны и от носорога.
Слон упал таким образом, что его голова высунулась из воды и легла на отмель; по песку растянулся во всю длину его мягкий и гибкий хобот. От основания хобота, изогнутые наподобие огромных ятаганов, шли два желтоватых, словно покрытых эмалью, бивня — то самое орудие из драгоценной слоновой кости, при помощи которого гигант десятки лет подкапывал деревья в лесу и повергал своих противников во многих смертельных поединках. Драгоценными и прекрасными трофеями являлись эти бивни, но — увы! — их всемирная слава стоила жизни тысячам представителей слоновьего племени. Сияя во всем своем великолепии, лежали эти два полумесяца, изящно выгнутые, мягко закругленные. К ним, только к ним, были прикованы глаза ван Блоома.
Да, прикованы с жадным блеском, необычным для его взгляда. А губы его были сжаты, грудь заметно вздымалась. Целое полчище мыслей пронеслось в эти минуты в его уме. Облако, с утра лежавшее на его лбу, бесследно исчезло. Вместо печали в глазах ван Блоома читались теперь надежда и радость, и в конце концов эти новые чувства выразились в словах.
— Это перст судьбы! — громко провозгласил ван Блоом. — Состояние! Целое состояние!
— Папа, что такое? — спросила Трейи, стоявшая подле отца. — О чем ты говоришь, папочка, дорогой?
Тут и остальные дети окружили его, увидев, что он взволнован, и радуясь его счастливому виду.
— Папа, что такое? — спросили все четверо разом. Черныш и Тотти стояли тут же и с таким же нетерпением ждали ответа.
Любящий отец не мог больше скрывать от детей тайну своего нежданного счастья. Надо их порадовать, открыв им ее.
Указывая на длинные желтоватые полукружья, он сказал:
— Видите вы эти прекрасные бивни?
Да, разумеется, они их видят.
— Отлично. А знаете вы, какая им цена?
Нет. Дети знают, что бивни слона кое-чего стоят. Они слышали, что слоновая кость делается из бивней — вернее, что бивни — это и есть слоновая кость и что она идет в промышленности на сотни разных изделий. У маленькой Трейи был, например, красивый веер из слоновой кости, перешедший к ней от покойной матери, у Яна — оправленный слоновой костью перочинный ножик. Слоновая кость — очень красивый материал, и стоит он, знали они, дорого. Все это им известно, но угадать цену двух бивней они не могут. Так они и ответили.
— Знайте же, дети, — сказал ван Блоом: — по приблизительному счету, они стоят на английские деньги фунтов двадцать каждый.
— Ну! Такая огромная сумма! — закричали все в один голос.
— Да, — продолжал ван Блоом, — каждый бивень, я думаю, потянет на весах фунтов сто; а так как слоновая кость идет сейчас по четыре с половиной шиллинга за фунт, то эта пара бивней должна стоить на английские деньги от сорока до пятидесяти фунтов стерлингов. — Ого! На это можно купить целую упряжку самых лучших волов! — воскликнул Ганс.
— Четверку кровных коней! — сказал Гендрик.
— Целое стадо овец! — добавил маленький Ян.
— Но кому же мы продадим слоновую кость? — спросил Гендрик, помолчав немного. — Мы вдалеке от поселений. Кто даст нам за нее быков, лошадей или овец? Кто поедет в этакую даль ради пары бивней…
— Ради одной пары, конечно, никто, — перебил отец, — но ради двадцати поедут; а может, их будет и не двадцать, а дважды двадцать, трижды двадцать… Теперь вы поняли, что меня так обрадовало?
— О! — вскричал Гендрик, а за ним и другие, которым постепенно стало ясно, почему отец сразу повеселел. — Ты думаешь, папа, мы сможем добыть в этих краях еще много бивней?
— Именно. Я думаю, слоны здесь водятся в большом числе. На это указывает множество следов, уже виденных мною. У нас есть ружья и, к счастью, нет недостатка в порохе и пулях. Все мы неплохие стрелки — почему же мы не можем добыть побольше этих ценных трофеев? И мы их добудем, — продолжал ван Блоом.
— Я знаю, добудем, потому что небо, я вижу, смилостивилось над нами; не случайно оно послало нам этот богатый дар в час горькой нужды, когда мы лишились всего. И оно пошлет нам еще и еще, если мы с верою последуем указанию судьбы. Итак, дети мои, не будем унывать! Мы выбьемся из нищеты, у нас всего будет вдоволь… Мы станем даже богаты!
Богатство само по себе нисколько не прельщало юных детей ван Блоома, но они видели, что отец их счастлив, и потому откликнулись на его слова возгласами бурного восторга. К общему ликованию присоединились и Тотти с Чернышем. Радостный клик пронесся над маленьким озером, всполошив на ветвях птиц, недоумевавших, что это за шум. Во всей Африке не нашлось бы семьи счастливей, чем эта горсточка людей, стоявших в тот час на берегу маленького озерца среди пустынной степи.
Глава 20
СКОТОВОД ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОХОТНИКА
Итак, ван Блоом решил сделаться профессиональным охотником на слонов, и ему приятна была мысль, что новая профессия, оставаясь увлекательным занятием, в то же время сулит большую выгоду. Он понимал, что нелегкое дело
— успешно охотиться на такую крупную и ценную дичь, как слон. Он вовсе не думал, что за несколько недель или месяцев возьмет богатую добычу, много слоновой кости; преследуя свою цель, он был готов отдать охоте даже целые годы. Да, годами он будет жить жизнью бушмена — «лесного человека», на годы его сыновья превратятся в «лесных ребят»; но он питал надежду, что со временем его терпение и труд окажутся щедро вознагражденными.
В тот вечер в лагере у костра все были очень счастливы и очень веселы.
Слона оставили там, где он упал, чтобы поутру освежевать его. Забрали с собой только хобот, кусок которого зажарили на ужин. Все слоновье мясо съедобно, но хобот считается особым лакомством. Он напоминает вкусом говяжий язык и в жареном виде всем очень понравился. А Черныш, которому уже не раз случалось есть мясо «старого доброго клау», был прямо в восторге от такого ужина.
Вдосталь было теперь и отличного молока. Корова, отъевшись на тучном пастбище, давала двойной удой; молока было столько, что каждый мог пить вволю.
Угощаясь новым для них вкусным блюдом — жарким из хобота, — наши охотники, естественно, повели разговор о слонах. Каждому известно, как выглядит слон, поэтому описывать его мы считаем излишним. Но не каждый знает, что существуют две разные породы этих четвероногих великанов — африканская и азиатская.
Более всего эти два вида различаются ушами и бивнями. У африканского слона уши непомерно большие, они у него сходятся над плечами и свешиваются концами на грудь. У индийского слона уши чуть ли не втрое меньше. Сильно превосходит африканский слон своего сородича и величиной бивней — у некоторых особей они весят до двухсот фунтов каждый, тогда как бивень индийского слона редко когда достигает ста фунтов веса. Бывают, впрочем, и единичные исключения. Конечно, двухсотфунтовый бивень не часто встречается у африканского слона, обычно он значительно меньше. Слониха-африканка также обладает бивнями, хотя и не такими громадными, как ее самец; у индийской же слонихи бивней либо нет совсем, либо они так малы, что лишь едва выступают над губами.
Другое существенное различие между двумя видами заключается в том, что у азиатского слона лоб вдавленный, а у африканского выпуклый; у азиатского четыре пальца задней ноги снабжены копытами, а у африканского мы видим на задней ноге только три копыта. И, наконец, о том, что эти животные представляют собой два обособленных вида, можно судить и по их зубной эмали.
Да и не все азиатские слоны одинаковы. Есть среди них несколько разновидностей, отмеченных каждая своими особыми чертами. И эти, как их называют, разновидности отличаются, по-видимому, друг от друга чуть ли не столь же резко, как любая из них от африканской породы. Одна из разновидностей, известная среди жителей Востока под названием «мукна», обладает прямыми бивнями, у острия загибающимися вниз, тогда как обычно слоновий бивень постепенно загибается кверху.
Азиаты делят своих слонов на два основных вида. Слон, именуемый «кумареа», представляет собой толстое и сильное животное с большим туловищем на коротких ногах. Второй вид зовется «мерги». Этот слон повыше, но не так плотен и силен, как кумареа, и туловище у него не такое объемистое. Длинные ноги позволяют ему обгонять кумареа в беге; но тому, поскольку он обладает более крупным туловищем и большей выносливостью, отдается предпочтение, и на восточном рынке он ценится дороже. Встречается иногда белый слон. Это просто альбинос, но в некоторых азиатских странах он очень в цене, и за него платят огромные суммы. А в иных местах к белому слону относятся с суеверным преклонением. Индийский слон водится в наше время почти во всех южных странах Азии, включая и большие острова — Цейлон, Яву, Суматру, Борнео. Все, конечно, знают, что в тех местах слон издавна служит человеку; там он домашнее животное. Однако существуют в Азии и дикие слоны.
В Африке слон водится только в диком состоянии. Ни один из народов, населяющих этот материк, не покорил лесного исполина, не подчинил его человеку. Здесь он ценится только ради своих дорогостоящих бивней, а также ради мяса. Высказывалась мысль, что африканский слон свирепей своего индийского сородича и не поддается приручению. Это глубокое заблуждение. Африканский слон не приручен по другой причине: просто ни одна из современных африканских народностей еще не достигла такого уровня цивилизации, чтобы ей под силу было покорить это могучее животное и заставить его служить себе.
Африканского слона можно так же легко, как и его индийского сородича, приручить и превратить в домашнюю скотину. Кое-где делаются такие попытки. Но к чему искать новых доказательств? Ведь некогда это уже удалось — африканского слона приручали, и в широком масштабе. Слоны карфагенского войска принадлежали к этому именно виду.
Сейчас африканский слон водится в центральных и южных областях Африки. Северной границей его распространения являются на востоке Абиссиния, на западе Сенегал. На юге же еще несколько лет назад стада слонов бродили по всей Капской земле вплоть до мыса Доброй Надежды. Но голландцы-охотники с их огромными длинными ружьями в усердной погоне за слоновой костью вытеснили слона из этих мест. Теперь к югу от реки Оранжевой его уже больше не встретишь.
Некоторые естествоиспытатели (в том числе Кювье) полагали, что абиссинский слон принадлежит к азиатскому виду. Эта мысль теперь отвергнута, и у нас нет основания думать, что в каком-то уголке Африки встречается слон-индиец. Но очень возможно, что в разных областях материка водятся различные разновидности африканского слона. Установлено, что слоны тропической полосы крупнее всех прочих; а в африканских горах, по реке Нигеру, встречается, говорят, особая порода — рыжеватой масти и очень свирепая. Правда, быть может, у виденных наблюдателями «красных» слонов шкура просто-напросто была покрыта слоем красной пыли, потому что у слонов есть привычка посыпать иногда себя пылью, причем вместо драги им служит хобот.
Черныш рассказал еще о разновидности, которую готтентотские охотники называют «коровья голова». Эта порода, сказал он, отличается полным отсутствием бивней и куда более злобным нравом. Встреча с таким слоном несравненно опасней, а так как она не сулит к тому же ценной добычи, ради которой стоило бы затрачивать труды и подвергаться риску, охотники стараются ее избегать.
В таких разговорах у костра прошел тот вечер. Большую часть сведений, приведенных нами здесь, сообщил Ганс, который почерпнул их, разумеется, из книг; но кое-что добавил и бушмен, и, пожалуй, на его свидетельство можно было верней положиться. Впрочем, в недалеком будущем нашим героям предстояло познакомиться на деле с обычаями и повадками четвероногого исполина, который теперь интересовал их больше всех животных на земле.
Глава 21
МЕРЗКАЯ ГИЕНА
Следующий день провели в тяжелом, но радостном труде. Он весь ушел на свежевание слона и заготовку слонины — тяжелая работа, так утомившая наших охотников, что они едва дождались часа, когда можно было наконец лечь и уснуть. Но заснуть не пришлось. Когда они лежали в полудреме, предшествующей сну, их покой был нарушен чьими-то странными голосами, слышавшимися неподалеку от лагеря. К ним доносились взрывы громкого смеха, и всякий, кому они были незнакомы, не усомнился бы, что они принадлежат людям. Казалось, что распустили целый негритянский Бедлам[221] и теперь сумасшедшие подходили к лагерю под нваной. Я говорю «подходили», потому что хохот звучал с каждой секундой все явственней и громче; и те, у кого он вырывался — кто бы они ни были, — приближались к лагерю.
Было ясно, что там не одно какое-то существо, и ясно было также, что это разные существа: голоса были так между собой несхожи, что и чревовещатель не взялся бы изобразить их все. Слышались и завывания, и визг, и хрюканье, рычание, и глухие, заунывные стоны, как будто от боли, и свист, и болтовня, и какое-то отрывистое, резкое тявканье, напоминавшее собачий брёх; потом две — три секунды полного молчания, и снова взрыв человеческого смеха, производивший впечатление более жуткое и омерзительное, чем весь остальной хор голосов. Вы думаете, верно, что такой дикий концерт должен был повергнуть лагерь в состояние крайней тревоги? Ничуть не бывало! Во всяком случае, никто не испугался — ни даже милая крошка Трейи, ни маленький Ян. Будь им вовсе незнакомы эти звуки, дети, конечно, испугались бы. Мало сказать «испугались» — они пришли бы в ужас. Ведь звуки эти повергают в смятение каждого, кто слышит их впервые.
Но ван Блоом и вся его семья достаточно долго прожили в пустынных африканских степях и не могли не знать этих голосов. По завыванию, болтовне и тявканью они узнали шакала; и отлично был им знаком сумасшедший смех мерзостной гиены. Поэтому они нисколько не встревожились, не вскочили с постелей, а преспокойно лежали и слушали, не опасаясь нападения этих шумливых тварей. Ван Блоом с детьми спали в фургоне; Черныш и Тотти — под открытым небом, прямо на земле, но у самых костров, так что и они не боялись никакого дикого зверя. Однако гиены и шакалы появились на этот раз в большом числе и вели себя предерзко. Лишь несколько минут прошло с момента, когда послышался первый раскат смеха, а уже многоголосый хор гремел вокруг лагеря со всех сторон — и так близко, что становился положительно неприятен, даже если и не думать о том, какого рода зверье дает концерт.
Звери наконец подступили так близко, что, куда ни взгляни, увидишь непременно пару зеленых или красных глаз с мерцающим в них отблеском костров. Можно было разглядеть и белые зубы, потому что гиена, когда смеется своим хриплым смехом, широко разевает пасть.
Видя перед глазами такое зрелище и слыша такие звуки, ни ван Блоом, ни его домашние, как ни устали они, никак не могли уснуть. Да уж какой там сон! О нем не могло быть и речи. Хуже того: всех, не исключая и самого ван Блоома, охватил если не страх, то какое-то смутное опасение. Никогда еще не доводилось им видеть такой большой и такой свирепой стаи гиен. Их собралось вокруг лагеря не менее двух дюжин, а шакалов еще вдвое больше.
Ван Блоом слышал, что хотя гиена в обычных обстоятельствах нисколько не опасный зверь, однако при случае может наброситься на человека. Черныш хорошо это знал, Ганс об этом читал. Неудивительно, что всем им было не по себе.
Гиены держались теперь с такой наглостью, выказывали такую хищную жадность, что нечего было и думать о сне. Нужно было сделать вылазку и отогнать зверье от лагеря.
Ван Блоом, Ганс и Гендрик выскочили из фургона с ружьями в руках, а Черныш вооружился луком и стрелами. Все четверо стали за стволом своей нваны, но не там, где горели костры, а с другой стороны. Здесь их укрывала тень и они могли наилучшим образом, невидимые сами, наблюдать при свете огней за всем, что произойдет дальше. Едва успели они занять свою позицию, как поняли, что допустили непростительную оплошность. Только теперь им впервые пришло на ум, что именно привлекло в лагерь такое множество гиен: несомненно, вяленая слонина (бильтонг), развешанная на шестах.
Вот зачем явилось сюда зверье! И все сообразили, что напрасно так низко повесили мясо. Гиены могли без труда добраться до него.
Скоро это подтвердилось на деле; даже сейчас, в ту самую секунду, когда ван Блоом выглянул из-за ствола, он отчетливо увидел в свете разведенных Чернышем костров, как пятнистый зверь заскочил вперед, привстал на задних лапах, ухватил зубами ломоть мяса, сорвал с шеста и убежал с ним в темноту.
Послышалась возня: другие гиены подбежали к первой, чтобы урвать свою долю добычи; и, конечно, быстрей чем в полминуты ломоть был сожран, ибо тотчас мерцание и поблескивание зубов показало, что вся стая возвращается назад и готовится схватить еще кусок. Никто из охотников не стал стрелять: гиены сновали так быстро, что невозможно было прицелиться ни в одну; а люди слишком ценили свой порох и свинец и не желали расходовать их на стрельбу в «белый свет». Осмелев после первого успеха, гиены подступили ближе. Казалось, еще минута — и они всей стаей набросятся на бильтонг и, конечно, расхватают значительную часть запасов. Но тут ван Блоому пришла мысль, что исправить ошибку можно и не прибегая к ружьям: надо просто убрать мясо подальше от зверья. А иначе либо не спи всю ночь и сторожи мясо, либо примирись с потерей всего запаса, до последнего куска.
Но куда его убрать?
Первой мыслью охотников было собрать все мясо и сложить его в фургон. Но это не только потребовало бы долгой и неприятной работы, но и выгнало бы на ночь из фургона всю семью. Само собой напрашивалось другое решение — подвесить мясо повыше, чтобы гиены до него не дотянулись.
Покончив с этим делом, охотники стали опять в тени за стволом нваны: им хотелось понаблюдать, как поведут себя дальше «африканские волки».
Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как стая снова с тем же воем, тявканьем и хохотом подступила к шестам; но на этот раз в диком хоре можно было различить нового рода хрип, выражавший как будто разочарование. Звери с одного взгляда поняли, что до соблазнительных красных лент уже не дотянуться. Все же звери не захотели уходить, не убедившись в этом на деле. Несколько самых крупных гиен смело стали под шестами и принялись прыгать вверх. Подскакивая каждый раз так высоко, как только могли, они после ряда попыток начали, как видно, терять надежду и, подобно лисе под виноградом, преспокойно удалились бы через некоторое время. Но ван Блоом, досадуя, что его обеспокоили среди ночи и лишили заслуженного отдыха, решил отомстить своим мучителям; он шепнул словечко остальным, и из-за дерева грянули разом три выстрела.
Нежданный залп быстро разогнал и гиен и шакалов. Послышался стук многочисленных ног — стая убегала. Подойдя к перекладине, охотники увидели распростертые на земле тела двух гиен и одного шакала. Едва другие нажали на курки, Черныш отпустил тетиву и, как показывала вонзившаяся меж ребер шакала отравленная стрела, попал в цель. Перезарядив ружья, охотники вернулись на прежнюю позицию. Здесь они прождали еще полчаса, но ни одна гиена, ни один шакал больше не появились.
Звери, впрочем, отбежали недалеко, как свидетельствовал снова поднявшийся дикий концерт; не возвращались же они по той причине, что обнаружили наконец лежавшую в озере половину слоновой туши, которая и пошла им на ужин. Из лагеря было отчетливо слышно, как гиены ныряют в воду, и всю ночь они выли, и хохотали, и визжали, насыщаясь обильной пищей.
Конечно, ван Блоом и его домашние не сидели всю ночь, слушая эту шумную музыку. Уверившись, что стая едва ли снова подступит к лагерю, они положили оружие, вернулись каждый на свою постель и вскоре погрузились в тот сладкий сон, который награждает человека после дня, отданного здоровому труду.
Глава 22
ОХОТА НА ОРИБИ
Наутро гиены и шакалы исчезли. К общему удивлению, исчезло также и все мясо на костях слона. В воде лежал лишь огромный, догола очищенный скелет; кости белели, отполированные шершавыми языками гиен. Мало того, две изнуренные лошади (несчастных животных давно предоставили самим себе) погибли в ту ночь: гиены их загрызли, и два конских скелета лежали неподалеку от лагеря, так же чисто обглоданные, как и костяк слона.
Все это указывало на то, что в окрестностях лагеря бродит множество подобных прожорливых тварей, а значит, здесь водится в изобилии и дичь, потому что там, где мало дичи, не прокормится и хищник. И в самом деле, множество следов, испещривших весь берег озера, указывало на то, что за ночь сюда приходили нa водопой животные самых разных пород. Тут были отпечатки круглых и крепких копыт квагги и ее близкого сородича дау[222], и был изящный след копытца капского сернобыка, и след побольше, оставленный антилопой канной; а среди них ван Блоом явственно различил след грозного льва. Хотя в ту ночь охотники не слышали львиного рычания, никто не сомневался, что в этом краю немало львов. Присутствие его излюбленной дичи — квагги, сернобыка и канны — служило верным признаком, что неподалеку прячется и сам царь зверей.
В тот день сделано было немного. Накануне пришлось усердно поработать по заготовке мяса слона, а ночью не удалось отоспаться; все чувствовали себя вялыми; ван Блоому и остальным не работалось. Они слонялись вокруг лагеря, ничего почти не делая.
Черныш вынул из «печи» ноги слона и ободрал с них шкуру; потом снял шесты с мясом и приладил их так, чтобы на него падало больше солнца. Ван Блоом сам пристрелил трех остальных лошадей, отогнав их сперва подальше от лагеря. Он сделал это, желая положить конец мучениям несчастных животных, — было ясно, что им не прожить и двух дней. Пустить пулю в сердце каждой из них было делом милосердия.
Итак, из всей живности у бывшего фельдкорнета осталась только одна-единственная корова, и ее окружили теперь величайшей заботой. Без превосходного молока, доставляемого ею в таком изобилии, их стол был бы слишком однообразен, и они высоко ценили ее за это. Каждый день ее выгоняли на самое лучшее пастбище, а на ночь запирали в надежном краале из ветвей терновника, называемого у колонистов «стой-погоди». Крааль этот построен был чуть поодаль от исполинской нваны. Деревца уложили таким образом, что нижние концы стволов обращены были все внутрь, а ветвистые верхушки смотрели наружу, образуя укрепление, сквозь которое ни одно животное даже и не пыталось бы прорваться. Перед такой преградой отступит и лев, если только не раздразнить его до безудержной ярости.
В ограде, разумеется, был оставлен проход для коровы, а закрывался он одним огромным кустом, вполне заменявшим створки ворот. Таков был крааль «старушки Грааф». Кроме коровы, в лагере было еще только одно домашнее животное — маленький баловень Трейи, годовалый горный скакун.
Но в тот же день к этим двум домашним животным прибавилось третье — прелестное маленькое создание, не менее красивое, чем горный скакун, но поменьше. Это был детеныш ориби — одной из самых изящных мелких антилоп, которые в таком разнообразии населяли равнины и лесостепи Южной Африки. Появлением малыша они обязаны были Гендрику, как и превосходной дичью, которую он в тот день доставил на обед и которую все, кроме Черныша, признали куда вкусней жаркого из слонины. Около полудня мальчик вышел в степь — ему почудилось, что на широком лугу неподалеку от лагеря виднеется какое-то животное. Он прошел с полмили и, хоронясь в кустах, что росли по краю луга, подкрался совсем близко к этому месту и увидел, что там и вправду пасется животное — и не одно, а два.
Животные эти принадлежали к породе, какой он до той поры еще никогда не встречал. Это были совсем маленькие создания, меньше даже, чем горный скакун, но по складу тела Гендрик отнес бы их к антилопам или же к оленям; а так как он слышал от Ганса, что олень в Южной Африке не водится, он решил, что перед ним, должно быть, один из видов антилопы. Чету составляли самец и самка — это Гендрик понял из того, что только у одного животного имелись на лбу рога. Самец не достигал и двух футов роста, отличался удивительно стройным сложением, а масти был красновато-буланой. У него было белое брюшко, белые полукружия над глазами, и под горлом красовались длинные белые волосы. Пониже колен у него висели желтоватые кисти шерсти; рога же были у него не лировидные, как у горного скакуна, а торчали почти вертикально дюйма на четыре в высоту, черные, округлые и чуть кольчатые. У самки рога отсутствовали, и была она значительно меньше самца.
По всем этим признакам Гендрик решил, что перед ним пара маленьких антилоп из породы ориби. Так оно и было.
Он продолжал продвигаться, пока не подошел к антилопам так близко, как только было можно. Но его все еще отделяло от них двести ярдов с лишним, а такое расстояние, конечно, не позволяло выстрелить по ним из его небольшого ружья. Сейчас его укрывал густой куст, а ближе подойти Гендрик не смел, чтобы не спугнуть дичь. Он видел, что это очень боязливые создания. Самец то и дело вытягивал во всю длину свою изящную шею, издавая слегка блеющий зов и недоверчиво поглядывая вокруг. Это и напомнило Гендрику, что антилопа — пугливая дичь и приблизиться к ней нелегко.
С полминуты Гендрик лежал, раздумывая, как поступить. От дичи он находился с подветренной стороны — он нарочно так зашел; но теперь убедился, к своему огорчению, что антилопы движутся по пастбищу против ветра и, значит, все больше удаляются от него. Тут Гендрику пришло на ум, что у них, наверно, такое обыкновение — пастись против ветра, как пасутся горные скакуны и некоторые другие животные. Если так, то лучше ему сразу оставить свою затею. Или, может быть, сделать большой крюк и зайти спереди? На это придется затратить немало времени, да и труда, а с толком или нет, неизвестно.
Юный охотник будет долго красться и ползти, а дичь-то, чего доброго, вдруг учует его раньше, чем он приблизится на расстояние выстрела, — ведь для того как раз и учит ее инстинкт пастись не по ветру, а против ветра.
Но луговина была велика, зеленый ковер тянулся далеко, и Гендрик, видя, как безнадежен этот его замысел, отказался от попытки подойти к антилопам спереди. Он уже хотел встать в рост и повернуть домой, когда у него явилась мысль прибегнуть к одной уловке. Он знал, что есть немало видов антилоп, у которых любопытство сильнее страха. Нередко он приманивал на расстояние выстрела горного скакуна.
Может, и ориби подбегут поближе, поддавшись любопытству?
Мальчик решил попробовать. На худой конец уйдет ни с чем. Но ведь другой возможности уложить пулей антилопу у него не оставалось. Не теряя ни мгновения, он сунул руку в карман. Там должен был у него лежать большой красный платок, которым он пользовался не раз в подобных случаях. Но, как на грех, платка в кармане не оказалось. Гендрик пошарил в обоих карманах куртки, потом в необъятном кармане штанов, наконец в нагрудном кармане жилета. Нет, платка не было и там.
Увы! Молодой охотник оставил его в фургоне. Экая досада!
Чем же еще можно бы воспользоваться? Снять куртку и помахать ею? Она неяркого цвета. Ничего не получится. Посадить шляпу на ружье? Это бы лучше; но нет, слишком будет похоже на фигуру человека, которого все животные страшатся. Наконец ему пришла в голову счастливая мысль. Он слышал, что любопытную антилопу странная форма или странные движения почти так же завлекают, как яркие цвета. Ему вспомнилась одна уловка, якобы с успехом применяемая иногда охотниками. Она нехитра и состоит только в том, что охотник становится вниз головой и болтает в воздухе ногами.
А Гендрик, как очень многие мальчики, забавы ради отлично освоил этого рода гимнастическое упражнение; он не хуже иного акробата умел стоять на голове и ходить на руках.
Не раздумывая попусту, он положил ружье на землю и, вскинув ноги вверх, принялся дрыгать ими, стукать башмак о башмак, перекрещивать и выкручивать их самым замысловатым образом. Он стал так, что лицо его, когда он уперся теменем в землю, оказалось обращенным к антилопам.
Понятно, сквозь высокую — в целый фут высоты — траву он не мог их видеть, покуда стоял на голове; но время от времени он давал своим подошвам коснуться земли и в такие мгновения, заглядывая меж собственных колен, мог проверять, удалась ли хитрость.
Она удалась.
Самец, когда впервые заметил странный предмет, издал резкий свист и понесся прочь с быстротою птицы — ориби одна из самых быстроногих африканских антилоп. Самочка побежала вслед за ним, но не так быстро и вскоре изрядно отстала.
Когда самец заметил это, он сразу остановился, точно устыдившись своего нерыцарского поведения, круто повернул назад, поскакал и остановился снова только тогда, когда опять оказался между самочкой и странным предметом, так его смутившим. «Что это такое?» — казалось, спрашивал он у самого себя. Это не лев, не леопард, не гиена и не шакал. И это никак не лисица, не земляной волк, не гиеновая собака — ни один из хорошо ему известных врагов антилопы. И не бушмен — бушмены не бывают двухголовыми, каким казалось это существо. Что же это может быть? Странный зверь не двинулся с места, не пустился его преследовать. Может быть, он совсем и не опасен? Да, это несомненно вполне безобидное существо. Так, наверно, рассуждал ориби. Любопытство взяло верх над страхом. Захотелось подойти поближе и разглядеть получше это неведомое существо, перед тем как обратиться в бегство. Чем бы оно ни оказалось, оно, во всяком случае, не причинит им вреда на таком отдалении; а догнать… фью! Во всей Африке нет создания двуногого или четвероногого, которое могло бы потягаться в беге с ним, с легконогим ориби!
Итак, самец подбежал поближе, потом еще ближе и все продолжал придвигаться: побежит по лугу, остановится, опять побежит, забирая то левее, то правее — зигзагами, пока не оказался ближе, чем в ста шагах от странного предмета, вид которого сперва так сильно его испугал.
Его подруга тоже побежала обратно; ее, как видно, разбирало такое же любопытство — при каждой остановке она глядела на странное существо своими широко раскрытыми большими блестящими глазами.
Самец и самка временами встречались на бегу; тогда они останавливались, словно для того, чтобы пошептаться и спросить друг у друга, не разгадал ли один из них, что это за существо.
Было, однако, очевидно, что ни один не разгадал, потому что они продолжали придвигаться, взглядом и всей повадкой выдавая недоумение и любопытство.
Но вот странный предмет исчез на мгновение в траве, потом снова возник, но на этот раз в измененном образе. Что-то у него ярко блестело на солнце, и этот блеск совсем заворожил самца — настолько, что он не мог двинуться с места, стоял и глядел, не отрывая глаз.
Коварное обольщение!
То был последний взгляд маленького ориби. Зажглась яркая вспышка. Что-то пронзило ему сердце — и больше он не видел сверкающего предмета.
Самочка прискакала туда, где упал ее товарищ, и встала над ним, жалобно блея. Она не знала, чем вызвана эта внезапная смерть, но видела, что он мертв. Перед ее глазами темнела ранка на его боку, из ранки струилась кровь.
Никогда она раньше не видела смерти такого рода, но знала, что возлюбленный мертв. Его молчание, его недвижимо распростертые на траве ноги и шея, его остекленевшие глаза — все говорило ей, что жизнь его кончена.
Она убежала бы, но не могла покинуть его — не в силах была расстаться даже с его безжизненным телом. Ей необходимо было остаться около него хоть немного — погоревать о Нем. Но недолго она оставалась одинокой. Опять над землей что-то вспыхнуло, опять затрещала сверкающая трубка, и бедняжка упала на тело своего товарища.
Юный охотник встал на ноги и побежал вперед. Он не остановился, чтобы тут же снова зарядить ружье, как делают обычно перед тем, как броситься к добыче: луговина была совершенно ровная, и поблизости не было больше ни одного животного.
Как же удивился Гендрик, когда, подойдя к антилопам, он увидел, кроме мертвых двух, еще и третью — живого ориби!
Да, крошечный детеныш, с кролика величиной, не больше, прыгал в траве, кружил у распростертого тела матери и блеял тоненьким голоском.
Гендрика удивило, что он не приметил раньше этого третьего ориби. Но ведь он и взрослых двух почти не видел до той минуты, когда смог прицелиться, а крошечного их детеныша трава укрывала с головой.
Хоть и завзятый охотник, Гендрик был сильно смущен открывшейся перед ним картиной. И только сознание, что он не умышленно и не ради пустой забавы лишил крошку матери, успокоило его совесть.
Гендрик тут же решил подарить малыша брату: Ян давно мечтал о своем собственном — как у сестры — ручном зверьке. Вскормить зверька можно будет на коровьем молоке.
Гендрик сразу решил, что, хотя у крошки нет ни отца, ни матери, его нужно выходить и вырастить. Поймал он его без труда — зверек не хотел удаляться от места, где лежала его мать, и вскоре Гендрик уже держал маленького ориби на руках.
Потом юноша привязал мертвую самку к самцу и, укрепив один конец толстой веревки на рогах самца, пошел домой, волоча за собой обеих убитых им антилоп.
Они лежали на земле головами вперед, так что волок он их не против шерсти, и тела легко скользили по траве. Только покрытая густой травой луговина и отделяла Гендрика от нваны, поэтому юный охотник без большого труда доставил в лагерь свою добычу.
Увидав, какую добрую дичь раздобыл он на обед, все в семье очень обрадовались. Но больше всех ликовал Ян; и теперь он уже не завидовал Трейи, обладательнице маленькой газели.
Глава 23
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО ЯНА
Лучше было бы Яну никогда и не видеть ориби — лучше и для него самого и для маленькой антилопы, потому что в ту ночь безобидное создание вызвало в лагере страшный переполох.
Все улеглись, как и в прошлую ночь: ван Блоом с тремя сыновьями и дочкой в фургоне, бушмен и Тотти на воле. Тотти забралась под фургон, а Черныш развел поодаль большой костер и растянулся у огня, закутавшись в свой каросс из овчины.
Все быстро заснули, не потревоженные гиенами. Объясняется это просто: три лошади, пристреленные днем, отвлекли на себя все внимание этих милых особ, как показывал их отвратительный смех, доносившийся издалека — с той стороны, где лежали конские трупы. Гиены получили обильный ужин; зачем им еще с опасностью для жизни подходить слишком близко к лагерю, где прошлой ночью им оказали столь нерадушный прием! Так рассудил ван Блоом — и, повернувшись на бок, мирно заснул. Впрочем, рассудил он неверно. Правда, в тот час гиены действительно занялись уничтожением конских туш, но ошибочно было предполагать, что такой ужин удовлетворит этих прожорливых тварей, которым, кажется, сколько ни дай, все будет мало. Задолго до рассвета ван Блоом, если бы проснулся, услышал бы их сумасшедший хохот совсем близко от лагеря и мог бы увидеть не одну пару зеленых глаз, устремленных на догоравший костер Черныша.
Впрочем, проснувшись раз среди ночи, он и в самом деле услышал хохот гиен, но, зная, что теперь бильтонг висит высоко, и полагая, что в лагере гиены никому не могут нанести вред, он не придал этому значения и спокойно опять заснул под их шумный концерт.
Вскоре, однако, его разбудил резкий, отчаянный писк — как будто предсмертный — какого-то животного, потом снова послышался писк, вдруг оборвавшийся, и показалось — оборвался он потому, что того, кто его издавал, удушили. В этих писках ван Блоом, да и другие, которые теперь тоже проснулись, узнали блеяние ориби, слышанное ими несколько раз в течение дня. «Гиены раздирают ориби!» — подумалось каждому. Но они не успели высказать это вслух, как новый, совсем иной крик достиг их ушей и заставил всех вскочить так быстро, как если бы под фургоном разорвалась бомба. Кричал Ян, и крик его прозвучал в той же стороне, откуда донесся писк задушенного ориби. «Боже! Что это значит?» Сперва их слуха достиг внезапный крик ребенка… потом послышалась глухая возня, словно была драка, и опять раздался громкий крик Яна, призывавшего на помощь; но голос мальчика теперь прерывался, и, казалось, зов доносился каждый раз все с большего расстояния.
Кто-то уволакивает ребенка!
Догадка возникла у ван Блоома, у Ганса, у Гендрика — у всех одновременно. Она их наполнила ужасом, но спросонок никто сразу не сообразил, что нужно делать.
Однако крики Яна быстро привели их в себя; и первое, что каждому пришло на ум, это кинуться в ту сторону, откуда доносился зов. Нащупать в темноте ружье означало бы потерю времени, и все трое выскочили из фургона безоружными. Тотти была уже на ногах и без умолку говорила, но о том, что произошло, она знала ровно столько, сколько и они. Расспрашивать ее не стоило. Издалека доносился голос Черныша. Бушмен не то громко причмокивал, не то изображал собачий лай; и тут они увидели пылающий факел, который уносила во мрак чья-то рука — несомненно, рука их верного Черныша.
Ван Блоом с сыновьями кинулись за путеводным огнем и бежали так быстро, как только могли. Вопли бушмена доносились до них непрестанно, но, к их безмерному ужасу, вперемежку с визгом маленького Яна. Конечно, никто не мог уяснить себе, чем все это вызвано. Они только спешили как могли, подгоняемые самыми страшными опасениями.
Когда их отделяло от огня шагов пятьдесят, они увидали, что факел вдруг опустился и опять поднялся, и снова опустился быстрыми, резкими взмахами. Голос Черныша затявкал и защелкал громче, чем до сих пор, — казалось, бушмен кого-то сечет и отчитывает. Но голос Яна смолк — неужели мальчика больше нет в живых? При этой страшной мысли они кинулись бежать быстрей.
Когда они добежали до места, глазам их представилась странная картина. Ян лежал на земле совсем рядом, меж корней какого-то куста, за ветви которого он крепко ухватился ручонками. Вокруг левого его запястья был укреплен красный ремень или постромок, протянутый сквозь кусты на несколько футов вперед, а к другому концу постромка был крепко привязан детеныш ориби, мертвый и весь изувеченный. Над ним стоял Черныш с горящим деревцем в руке, ярче разгоревшимся оттого, что бушмен только что отхлестал им по спине жадную гиену. Самой гиены не было видно. Она давно улизнула, но никому и в голову не пришло погнаться за нею, так как все были слишком озабочены состоянием Яна.
Не упуская ни минуты, ребенка подняли, поставили на ноги. Отец и братья беспокойно оглядели его всего, ища глазами рану; и, когда они убедились, что, кроме царапин от шипов и глубокого следа от затянутого на руке ремня, на его маленьком тельце нет никаких повреждений, крик радости вырвался у них. Мальчуган уже пришел в себя и уверял их всех, что ничуть не поранился. Слава Богу, Ян цел и невредим!
На долю малыша выпало теперь разъяснить, как произошла эта загадочная история. Он лежал вместе со всеми в фургоне, но они-то спали, а он нет. Он не мог уснуть ни на минуту, потому что думал о своем ориби, которого из-за тесноты не взяли на ночь в фургон, а привязали снаружи, к колесу. Яну взбрело на ум еще разок взглянуть на него перед сном. И вот, не сказав никому ни слова, он выполз из-под парусинового навеса и спустился к антилопе. Он ее тихонько отвязал, подвел к костру и сел у огня, любуясь своей живой игрушкой. Наглядевшись на нее вдосталь, Ян подумал, что и Черныш, конечно, тоже будет рад полюбоваться ею, и без долгих церемоний растолкал спавшего слугу. Тому отнюдь не понравилось, что его будят среди ночи ради удовольствия взглянуть на зверька: бушмен за свою жизнь съел не одну сотню ориби и других антилоп. Но Ян и Черныш были истинными друзьями, и бушмен не рассердился. Он сделал вид, что разделяет чувства своего маленького хозяина, и они довольно долго сидели вдвоем и разговаривали об ориби.
Наконец Черныш посоветовал мальчику идти все-таки спать. Ян согласился, но с условием, что Черныш позволит ему переночевать рядом с ним у костра. Он принесет свое одеяло из фургона и ничуть не потревожит Черныша, не попросит даже уделить ему часть овчинного каросса. Черныш стал было возражать, но Ян заявил, что в фургоне он замерз и отчасти из-за этого спустился к костру. Заявление это было со стороны малыша довольно прозрачной уловкой. Но Черныш не умел ему ни в чем отказывать и дал наконец согласие. Ничего худого не произойдет, подумал он, — небо ясное, дождя не будет.
Итак, Ян повернул обратно, бесшумно залез в фургон, вытащил оттуда свое одеяло и приволок его к огню. Потом завернулся в него и лег бок о бок с Чернышем, а маленького ориби поставил неподалеку с таким расчетом, чтобы видеть его и лежа. На всякий случай, чтобы зверек не убежал, он повязал ему вокруг шеи крепкий ремень, а другой конец ремня туго намотал себе на запястье. Несколько минут мальчик лежал и глядел на своего красавчика. Но сон в конце концов стал его одолевать, и фигурка ориби расплылась перед его глазами. О том, что произошло дальше, Ян и сам лишь немногое мог рассказать. Проснулся он от писка ориби и оттого, что его что-то дернуло за руку. Но не успел он хорошенько раскрыть глаза, как почувствовал, что его быстро волокут по земле.
Сперва он подумал, что это Черныш выкинул над ним такую шутку, но, когда его проволокли мимо костра, мальчик увидел при свете пламени, что его маленькую антилопу схватил какой-то большой черный зверь и теперь уволакивает их обоих — ориби и его самого. Тут он, конечно, стал звать на помощь и цепляться за все, что только попадалось, чтоб зверь не утащил его. Но ему не удавалось крепко за что-нибудь ухватиться, пока он не очутился в густом кустарнике. Тут он уцепился за ветку и держался изо всех своих силенок. Он не мог долго сопротивляться сильной гиене, но в эту минуту подоспел Черныш с факелом, осыпал похитительницу ударами и, отбив у нее добычу, прогнал прочь.
Вернувшись снова к костру, все еще раз убедились, что Ян невредим. Но бедный ориби, нещадно истерзанный, был мертв.
Глава 24
О ГИЕНАХ
У гиены повадки примерно те же, что у волка, да и внешне она несколько похожа на него: та же голова, только несколько больше волчьей; морда шире и тупее, шея крепче и короче. Главное — шерсть у нее более жесткая и лохматая. Один из самых характерных признаков гиены — неравномерное развитие конечностей. Ее задние лапы как будто короче и слабее передних, так что круп расположен значительно ниже плеч, и хребет идет не по горизонтальной линии, а по наклонной, опускаясь к хвосту.
Примечательны также в гиене короткая, толстая шея и сильные челюсти. Шея настолько коротка, что в давние времена, когда естественная история носила скорее сказочный, чем научный характер, считалось, что у гиены нет шейных позвонков. Благодаря своей крепкой шее и сильно развитым челюстям гиена превосходно справляется с костями, перед которыми в бессилии отступают волки и другие хищники. Ей ничего не стоит разгрызть самые крупные кости, и она не только высасывает из них мозг, но, размельчив в порошок и самые кости, пожирает их без остатка. Здесь перед нами открывается опять одно из доказательств мудрости природы: гиена водится только в тех странах, которые изобилуют крупными животными. Природа экономна и не терпит, чтобы что-нибудь пропадало даром.
Гиену называют африканским волком; иными словами, в Африке она заместительница крупного волка, который здесь не водится. Правда, шакал во всех отношениях тот же волк, но маленький, а настоящего, большого волка, сколько-нибудь похожего на поджарого пиренейского разбойника или на его близнеца — американского волка, в Африке не было и нет. Вот почему гиена зовется африканским волком.
Это бесспорно самый безобразный из хищников, и звериного в нем больше, чем во всех других. В его облике не найдешь ни одной привлекательной и благородной черты.
Я чуть не назвал гиену даже самой безобразной тварью в мире, но мне вовремя пришел на память павиан. Он, конечно, безобразием превосходит все — nec plus ultra[223]; но гиена отчасти напоминает павиана и общим обликом и некоторыми своими повадками.
До сих пор мы говорили о гиенах так, как будто существует только один их вид. Долгое время действительно была известна только одна разновидность — обыкновенная, или полосатая гиена: о ней-то и насочиняли множество небылиц. Быть может, ни одно животное не казалось людям более таинственным и не вызывало столь глубокого отвращения. Ее ставили в один ряд со сказочным вампиром и драконом. Наши предки верили, что взгляд гиены обладает притягательной силой, что она завораживает намеченную ею жертву и та не оказывает сопротивления; что гиена ежегодно меняет пол, что иногда, приняв образ красивого юноши, она заманивает в лес молодых девушек и там пожирает их; что гиена умеет в совершенстве имитировать человеческий голос; что гиена имеет обыкновение, притаившись около дома, подслушивать под окнами разговор людей, ожидая, чтобы один из собеседников произнес имя другого, а потом отчаянным воплем, словно человек, попавший в беду, выкликать того, как будто бы на помощь, называя подслушанным именем. И многие будто бы поддавались обману. Добежав до того места, откуда раздавались жалобные вопли, бедняги попадали прямо в лапы свирепой и прожорливой гиены.
Как ни странно, басни такого рода принимались повсюду, на веру. Но еще более странно то (как ни дико звучит в моих устах подобное заявление), что в каждой из них таится зерно истины. Канвой, на которой вытканы фантастические узоры, послужили в ряде случаев реальные факты. Здесь я ограничусь только двумя примерами. Что-то необычное во взгляде глаз гиены породило толки о колдовской, завораживающей силе, ей присущей, — хотя я ни разу не слышал, чтобы гиене удалось кого-либо увлечь за собою и сожрать. У гиены очень странный крик, и по той простой причине, что голос ее действительно очень схож с человеческим, родилось поверье, будто она умеет подражать человеческим голосам. Не стану утверждать, что крик гиены напоминает обыкновенный человеческий голос, но на голоса некоторых людей он и впрямь похож. Я знаю немало людей с гиеньими голосами. И надо сказать, ничто так не похоже на смех человека, как крик пятнистой гиены. Как он ни отвратителен, каждого, кто его слышит, не может не позабавить эта его необычайная особенность: так и кажется, что он выражает человеческие чувства! Нам слышится в нем хохот сумасшедшего, а его резкий металлический тембр напоминает некоторых мне известных представителей черной расы.
Полосатая гиена, хоть она и больше других известна в Европе, с моей точки зрения, наименее интересна. Распространена она шире, чем все ее сородичи. Она водится не только по всей почти Африке, но также и в Азии; мы встречали ее во всех южно-азиатских странах. Других видов гиен в Азии нет. Все остальные виды живут исключительно в Африке, которую справедливо называют родиной этого животного.
Ученые насчитывают только три вида гиен. Однако я нисколько не сомневаюсь, что их по крайней мере вдвое больше и что все они различаются между собой так же отчетливо, как и те три вида. Лично мне известны пять видов, если не причислять к гиенам ни капскую гиеновую собаку, ни маленькую гиену-землеройку, или земляного волка, с которыми несомненно придется столкнуться в ходе наших охотничьих приключений.
Расскажем прежде всего о только что упомянутой полосатой гиене. Пепельно-серая шкура ее, слегка отливающая желтизной, исчерчена множеством неправильных черных или темно-коричневых полос. Эти поперечные или, точнее говоря, косые полосы идут по направлению ребер. Не у всех особей они одинаково явственно выражены. Шерсть полосатой гиены (как, впрочем, и пятнистой) длинна, жестка и космата; на шее, спине и лопатках она длиннее и образует гриву, которая встает дыбом, когда животное раздражено. То же можно наблюдать и у собак.
Полосатая, или обыкновенная, гиена гораздо слабее и трусливее всех остальных своих сородичей. Это наименее сильная и наименее свирепая из гиен. Она в достаточной мере прожорлива, но питается по большей части падалью, не осмеливаясь вступать в борьбу с другим живым существом, даже когда оно вдвое слабее ее. Только самые маленькие зверушки становятся ее жертвами, и при всей своей прожорливости она — сущий трус. Десятилетний ребенок легко обратит ее в бегство.
Второй вид гиены, причинивший так много неприятностей знаменитому Брюсу во время его путешествий по Абиссинии, следовало бы назвать «гиеной Брюса». У этой гиены тоже полосатая шкура, и потому почти все зоологи смешивают ее с обыкновенной полосатой гиеной. Однако все сходство между ними исчерпывается наличием полос. И окраска шерсти, и даже рисунок самих полос у них различны.
Гиена Брюса почти вдвое больше обыкновенной — и вдвое сильнее, отважней и свирепей. Она нападает не только на крупных млекопитающих, но и на человека, врывается ночью в уединенные дома и деревни, похищает домашних животных, а иногда и детей. Как ни малоправдоподобными покажутся мои слова, они безусловно отвечают истине; подобные факты случались, и отнюдь не редко. О гиенах Брюса говорят, что они часто забираются на кладбище, разрывают могилы и поедают покойников. Некоторые зоологи это отрицают. Но почему? Хорошо известно, что во многих африканских странах жители не закапывают мертвецов, а просто бросают их где-нибудь в степи. Известно также, что выброшенные таким образом трупы неизменно становятся добычей гиен. Далее известно, что гиены умеют и любят копаться в земле. Что же странного и неправдоподобного в том, что они вырывают из земли трупы, составляющие их обычную пищу? Так поступают и волк, и шакал, и койот, и даже собака. Я видел своими глазами, как все они делали это на полях сражений. Почему бы и гиене не вести себя сходным образом?
К третьему виду, резко отличающемуся от обоих описанных выше, относится пятнистая гиена. Благодаря особенностям голоса, о которых мы уже имели случай говорить, ее иногда называют также «хохочущей». Общей окраской шерсти она походит на гиену обыкновенную, но ее бока покрыты не полосами, а пятнами. Пятнистая гиена крупнее, чем полосатая, а нравом и повадкой напоминает гиену Брюса, или абиссинскую гиену. Ее родина — Южная Африка, где среди голландских колонистов она известна под названием «тигровый волк». Гиену обыкновенную они называют просто волком.
К четвертому виду относится бурая гиена. Название это нельзя считать удачным, так как бурый цвет не представляет собой ее отличительного признака. Применяемое к ней иногда название «косматая» гораздо лучше характеризует ее: по длинной прямой шерсти, свисающей на бока, вы сразу отличите эту гиену от всякой другой. Она столь же свирепа, как и гиены других видов, и размеры ее те же — то есть величиной она с большого сенбернара. Но я не представляю себе, как можно было спутать ее с полосатой или пятнистой гиеной. Туловище у нее сверху темно-бурое или почти черное, а снизу грязно-серое. Общей окраской и характером шерсти она, пожалуй, походит на барсука или росомаху.
И все же многие видные ученые, с де Бленвилем во главе, относят ее к виду гиены обыкновенной. Это глубокое заблуждение. Самый невежественный фермер Капской колонии (бурая гиена — африканское животное) судит об этом вернее. Уже одно название, данное косматой гиене бурами — «береговой волк», — указывает на отличительную особенность ее повадки. Действительно, гиена этого вида водится только в прибрежных областях; в местах же, излюбленных обыкновенной гиеной, ее никогда не встретишь.
Есть еще одна «бурая гиена», отличающаяся от «берегового волка» и встречающаяся только в Великой пустыне. Ее можно узнать по сравнительно короткой и однотонно бурой шерсти, а во всем остальном она похожа на других представительниц своего рода. Не подлежит сомнению, что со временем, когда Центральная Африка будет наконец основательно исследована, перечень ныне известных гиен пополнится новыми видами.
Гиены в образе жизни и привычках имеют много общего с крупными волками. Они живут в пещерах или в расселинах скал. Иногда гиена селится в норе другого животного, которую она для себя расширяет, пустив в ход свои когти — отличное орудие для рытья.
Лазить по деревьям гиена не умеет, так как ее когти для этого недостаточно длинны и цепки. Главное ее оружие — зубы и мощные челюсти.
По своей природе гиены принадлежат к животным-одиночкам, хотя нередко, набрасываясь на добычу, соединяются в стаи. Сойдутся над какой-нибудь тушей десять — двенадцать гиен и, обглодав ее, разбредутся. Прожорливость их вошла в поговорку. Они едят чуть ли не все, вплоть до ремней и старых подметок. Слишком твердой пищи для них не существует. Кости они смалывают и проглатывают так легко, как другие хищники самое нежное мясо. Гиены очень наглы, особенно по отношению к несчастным дикарям, которые не охотятся на них с целью истребления. Отвратительные хищники пробираются в их жалкие краали и часто уносят маленьких детей. Можно с уверенностью сказать, что не одну сотню детей погубили в Южной Африке гиены.
По всей вероятности, вам невдомек, как допускаются такие вещи, почему местные жители до сих пор еще не объявили беспощадной войны гиенам, не прогнали их за пределы обитаемых местностей. Все это удивляет, потому что вы не принимаете в расчет той разницы, которая существует между цивилизованными и дикими странами. Вы подумаете, верно, что человеческая жизнь ценится в Африке куда меньше, чем в Англии. Да, до известной степени это так. Но если бы вы хорошенько познакомились с наукой о строении общества, вам бы открылось, что иные законы цивилизованного мира требуют такого несметного количества жертв, какого никогда не унести гиенам. Бессмысленные парады, пустые придворные празднества, приемы коронованных особ — все это требует огромных средств и в конечном счете пожирает множество человеческих жизней.
Глава 25
ДОМ СРЕДИ ВЕТВЕЙ
Ван Блоом понял теперь, что гиены могут оказаться для него настоящим бедствием. Им ничего не стоит подобраться к слоновьему мясу и другим припасам; даже детей небезопасно оставлять на становище одних, а ему, конечно, часто придется оставлять малышей, так как старших надо брать с собой на охоту.
Водились тут и другие звери, пострашней гиен. В ту же ночь он слышал рычание львов где-то у озера, а, когда рассвело, следы ясно показывали, что львы приходили на водопой.
Как мог он оставить маленькую Трейи, свою дорогую дочурку, или Яна, который ростом был не больше сестренки, — как мог он оставить их в открытом лагере, когда рыщут вокруг такие чудовища! Об этом нечего было и думать.
Он раздумывал, что теперь предпринять. Прежде всего ему пришло на ум построить дом. Но на такую работу ушло бы немало времени: не было под рукой подходящего материала. Каменный дом требовал тяжелого труда, так как пришлось бы таскать на себе камень чуть ли не за целую милю. Не стоило возиться — ван Блоом не собирался обосновываться здесь надолго. В этих краях он, может быть, и не встретит много слонов; хочешь не хочешь, а придется двинуться дальше.
Вы спросите: почему он не решил, в таком случае, построить дом из бревен? Работа оказалась бы не слишком тяжелой: местность вокруг была лесистая, топор у него имелся.
Да, лесу было кругом довольно, но то был совсем особенный лес. За исключением нван — высоких деревьев, росших на больших расстояниях друг от друга (и расстояниях таких правильных, точно деревья рассадил садовник), — здесь не встречалось ничего, что можно было бы назвать деревом в обычном смысле слова. Все остальное было скорее кустарником; тернистые заросли мимозы, молочаев, древовидных алоэ, стрелиции и цепкой замии, — все это пленяло глаз, но никак не годилось для постройки. А нвана была, конечно, чересчур велика. Срубить одно такое дерево немногим легче, чем возвести целый дом; а чтобы распилить ствол на доски, потребовалось бы обзавестись паровой пилой. Мысль о деревянном доме тоже была исключена. Между тем легкое строение из тростника и кольев не могло бы служить достаточной защитой. Какой-нибудь разъяренный носорог или слон в два счета сровнял бы с землей подобный дом.
Кроме того, приходилось подумать и о том, что в окрестностях могли жить людоеды. Так, по крайней мере, полагал Черныш: местность пользовалась в этом смысле недоброй славой. А поскольку они находились сейчас недалеко от родины Черныша, ван Блоом, доверяя словам бушмена, склонен был разделять его опасения. Какую защиту от людоедов мог представить шалаш? Почти никакой.
Было над чем призадуматься. Пока вопрос не был разрешен, ван Блоом не мог приступить к охоте. Необходимо было устроить такое убежище, где дети в его отсутствие были бы в полной безопасности.
Думая упорную думу, бывший фермер случайно возвел глаза к вершине нваны. Большие корявые лапы ветвей сразу остановили на себе его мысль, пробудив у охотника странное воспоминание. Он слышал, что в некоторых областях Африки, — пожалуй, в тех краях, где он сейчас находился, — туземцы селятся на деревьях. Иногда на одном дереве ютится целое племя в пятьдесят и более человек; и делают они это, спасаясь от хищного зверя, а порой и от человека. Дом они строят на помосте, опорой которому служат горизонтальные сучья; люди взбираются в свое жилье по приставной лестнице, которую перед отходом ко сну втаскивают к себе наверх.
Обо всем этом ван Блоому не раз доводилось слышать, и все это вполне соответствовало истине. Сама собой напрашивалась мысль, не сделать ли и ему то же самое. Не построить ли дом на гигантской нване? Такое жилье даст ему желанную защиту. Там они все будут спать с чувством полной безопасности. Там он, уходя на охоту, будет спокойно оставлять детей, сохраняя уверенность, что, вернувшись, найдет их на месте. Прекрасная идея! Но… осуществима ли она?
Ван Блоом стал обдумывать.
Раздобыть бы только доски для помоста, а прочее будет несложно. Крышу можно сделать самую легкую — листва уже почти заменяла ее. Но пол — вот что самое трудное. Где взять доски? По соседству их нигде не достанешь.
Тут взгляд его случайно упал на фургон. Ага! Вот они где, доски! Но неужели придется ломать свой верный фургон? Нет, ни за что! Об этом нечего и думать.
А впрочем, кто велит ломать? Он сделает это, не выдернув ни одного гвоздя, не отбив ни единой щепочки. Фургон устроен так, что его можно разобрать на части и вновь собрать, когда захочешь.
Что ж, он его разберет. Оставит нетронутым только дно. Вот вам и готовый помост. Ура!
В радостном возбуждении ван Блоом сообщил свой план остальным, восторженно рисуя подробности. Все согласились с его доводами, и, так как утро было уже на исходе, они без долгих слов приступили к выполнению замысла.
Прежде всего надо было построить лестницу в тридцать футов длины. На это ушло немало времени; зато она, хоть и грубая, но крепко сколоченная, удалась на славу и вполне отвечала своему назначению. По ней можно было теперь добраться до нижнего яруса ветвей; а отсюда уже нетрудно было соорудить лесенки и к верхним ярусам.
Ван Блоом взлез первый и, внимательно осмотревшись, выбрал, где установить платформу. Опорой ей могли служить два крепких горизонтальных сука, которые росли бы на равной высоте и расходились бы под возможно более острым углом. Множество толстых ветвей на огромном дереве позволило сделать выбор.
Фургон разобрали — на это ушло лишь несколько минут — и первым делом втащили наверх дно. Эта задача, далеко не легкая, потребовала соединенных усилий всей семьи. К одному концу привязали крепкие ременные вожжи и затем перекинули их через сук, росший ярусом выше, чем те, на которые должен был лечь помост. Черныш взобрался наверх, чтобы оттуда направлять громоздкую платформу, остальные же всей своей тяжестью навалились снизу нa импровизированный канат; даже маленький Ян тянул изо всех силенок, хотя на силомере он выжал бы не больше одного английского фунта[224].
Наконец платформу втащили, и она благополучно водрузилась на опорных сучьях; и тогда поднялся снизу ликующий хор голосов, а Черныш радостно откликался из гущи ветвей.
Самая трудная половина работы была завершена. Оставалось втащить по частям кузов и собрать его затем наверху в прежнем виде. Пришлось еще срубить несколько ветвей, чтобы расчистить место для парусинового верха. Но вот и его втащили и натянули.
К заходу солнца все было на своем месте, воздушный дом приспособлен для ночлега; и действительно, в ту же ночь они спали в этом доме, — «забравшись на насест», как шутливо выразился Ганс.
Однако они еще не считали свое новое жилье вполне законченным. На следующий день они еще продолжали трудиться над ним. Из длинных шестов было сделано продолжение платформы, соединившее фургон со стволом дерева, так что образовалась широкая терраса, по которой можно было двигаться.
Шесты были крепко переплетены ветвями красавицы плакучей ивы; она часто встречается в этих краях, и несколько старых плакучих ив росло у озера. В довершение всего на помост наложили толстый слой глины, взятой на берегу. В случае нужды можно было даже развести костер и варить ужин в воздушном жилище.
Когда главное строение было закончено, Черныш смастерил на других сучьях огромной нваны помост для себя и еще один — для Тотти. Над каждым из этих помостов он соорудил навес, защищавший их обитателей от дождя и росы.
Странное впечатление производили эти два навеса, каждый величиною с обыкновенный зонтик. Странное, потому что это были уши слона!
Глава 26
ДРАКА ДИКИХ ПАВЛИНОВ
Теперь ничто больше не мешало ван Блоому приступить к самому главному в его новой жизни, то есть к охоте на слонов. Он решил начать немедленно: он сознавал, что, пока не «уложит» хотя бы трех — четырех исполинов, ему не найти покоя. Ведь могло случиться и так, что не удастся убить ни одного; что станется тогда со всеми его большими надеждами и планами? Все окончится новым разочарованием, и в его трудной жизни ничто не переменится. Нет, переменится, но к худшему: потерпеть неудачу в каком-либо предприятии означает не только потерю времени, но и напрасную трату душевных сил. Успех поднимает дух, мужество, веру в себя, что способствует новым удачам, тогда как поражение ведет к робости и унынию. В этом смысле всякая неудача опасна; а потому, затевая какое-нибудь предприятие, надо наперед удостовериться, что оно вполне возможно и осуществимо.
Между тем ван Блоом был совсем не уверен, что его широкий план осуществим. Однако при данных обстоятельствах охотник не мог выбирать. У него не было в то время иных средств к существованию, и он решился испытать ту единственную возможность, какая раскрывалась перед ним. Он верил в свои расчеты и мог твердо надеяться на успех; но перед ним была неизведанная дорога. Неудивительно, что ему не терпелось скорее приступить к делу, скорее узнать, велики ли шансы на удачу.
Итак, он встал рано утром и отправился в путь. Его сопровождали только Гендрик и Черныш, так как он все еще не решался оставлять детей на одну лишь Тотти, которая сама была почти таким же ребенком. Поэтому Ганс остался в лагере.
Охотники двинулись сперва по течению речушки, которая брала начало в роднике и, растекшись озером, бежала дальше. Это направление они избрали потому, что здесь было больше кустарника, а они знали, что слонов скорее встретишь в лесу, чем в открытых местах. Между тем только близ реки было много леса. По обоим ее берегам тянулась широкая полоса джунглей. За ними шли разбросанные рощицы и перелески, а далее открывалась равнина, почти лишенная деревьев, хоть и одетая на некотором расстоянии ковром сочных трав. Она переходила в дикую степь, простиравшуюся на восток и запад, насколько хватал глаз. С севера, как мы уже упоминали, высился горный кряж, а за ним начиналась выжженная, безводная пустыня. Только с юга лежало то, что единственно еще напоминало лес; и, хотя такие невысокие заросли едва ли могли притязать на это имя, все же казалось довольно правдоподобным, что тут водятся слоны. «Лес» состоял преимущественно из мимозы, представленной в нескольких разновидностях; листья, корни и нежные ее побеги — любимое лакомство травоядного гиганта. Встречалась здесь и жирафья акация с ее тенистой зонтовидной кроной. Но над всем господствовала мощными вершинами нвана, накладывая особый отпечаток на ландшафт.
Охотники заметили, что, чем дальше они шли, тем шире делался ручей. Временами, особенно после обильных дождей, он, несомненно, получал большой приток воды и превращался, верно, в значительную реку. Однако по мере того как расширялось русло, вода в нем, напротив, все убывала и убывала, пока на расстоянии мили от лагеря не иссякала совсем.
Еще на полмили текучую воду сменила цепь стоячих прудов; однако широкое, сухое русло шло и дальше, и по обоим его берегам беспрерывно тянулся кустарник, такой густой, что продвигаться вперед возможно было только по самому руслу.
По пути попадалось немало разной мелкой дичи, вспархивавшей чуть ли не из-под ног. У Гендрика чесались руки «снять» хоть несколько штук, но отец запретил ему стрелять прежде времени: выстрел мог спугнуть ту крупную дичь, ради которой они отправились в путь и на которую могли натолкнуться с минуты на минуту. Гендрика успокоили, что на обратном пути ему дадут испытать свою ловкость; ван Блоом и сам рассчитывал вместе с сыном выследить антилопу, так как в лагере уже не осталось свежего мяса. Но это было делом вторым, первой же заботой было раздобыть во что бы то ни стало хоть пару бивней.
Черныш зато мог свободно пользоваться луком: бесшумное оружие не вызвало бы переполоха в лесу. Бушмена взяли с собою, чтобы он тащил топор и прочие принадлежности, а при случае помог и на охоте. Он не преминул, конечно, прихватить лук и колчан и все время высматривал, не найдется ли во что пустить свою маленькую отравленную стрелу.
Наконец он нашел мишень, достойную его искусства. В одном месте, где русло давало большую излучину, охотники предпочли пройти напрямик по равнине, и вот перед ними открылась довольно широкая лужайка, а посреди нее представилась взорам большая птица, стоявшая на прямых и высоких ногах.
— Страус! — воскликнул Гендрик.
— Нет! — отозвался Черныш. — Это пау.
— Да, — сказал ван Блоом, согласившись с бушменом, — это пау.
По-голландски «пау» означает «павлин». В Африке же, как известно, никаких павлинов не водится. Павлина в диком виде можно встретить только в Южной Азии и на островах Индийского архипелага. Значит, птица, которую они увидели, никак не могла быть павлином.
Это и не был павлин. Но все же птица напоминала павлина с его длинным, тяжелым хвостом, со своеобразным глазовидным рисунком на крыльях и переливчатым, «мраморным» оперением на спине. Правда, яркостью расцветки она уступала горделивому птичьему царьку, хотя и была столь же статна и много крупнее и выше его. Как раз из-за высокого роста и прямых, длинных ног Гендрик с первого взгляда принял ее за страуса. Птица не была ни страусом, ни павлином, а принадлежала к совсем иному роду, равно далекому от обоих, — к роду дроф. Перед нашими охотниками была крупная южноафриканская дрофа, которую голландцы-колонисты называют «пау» за глазовидные пятна на перьях и другие черты сходства с индийским павлином.
И Черныш и ван Блоом знали, что пау — лакомая дичь и могла бы скрасить их стол. Но в то же время они знали, что это самая пугливая птица — настолько пугливая, что ее трудно застрелить даже из дальнобойного ружья. Как же подобраться к ней на расстояние выстрела из лука? Вот о чем надо было подумать.
Птица стояла в двухстах ярдах от охотников, и, если бы она их заметила, это расстояние скоро увеличилось бы вдвое, так как пау отбежал бы еще на двести ярдов. Я говорю «отбежал», потому что птицы из семейства дроф редко пользуются крыльями; от врага их чаще спасают длинные ноги. Поэтому за ними нередко охотятся с собаками и берут их после жестокого гона. Слабые в полете, они отличные бегуны — в беге они почти не уступают страусу.
Однако пау пока что не заметил охотников. Они его увидели, еще не выбравшись из зарослей, а когда увидели, сразу же замерли на месте.
Как же, думал Черныш, приблизиться к птице? Пау стоял в двухстах ярдах от любого прикрытия, и поляна вокруг него была чиста, как свежевыкошенный луг. Правда, она была невелика. Черныш даже удивился, увидев пау на такой маленькой поляне: эта птица водится только в открытых просторах степей, где она может видеть врага с большого расстояния. Да, поле зрения было очень невелико, но, понаблюдав за дрофой несколько минут, охотники убедились, что птица решила держаться как можно ближе к центру лужайки и не проявляла наклонности приблизиться в поисках пищи к той или другой стороне чащи.
Всякий, кроме бушмена, расстался бы с надеждой подкрасться на выстрел к этой птице, но Черныш не унывал.
Попросив остальных соблюдать тишину, он подполз к самому краю зарослей и лег за густым широколиственным кустом. Затем он начал издавать гортанные звуки, в точности подражая токованию дрофы-самца, вызывающего соперника на бой.
Подобно тетереву, пау многоженец и в положенное время года становится страшным ревнивцем и забиякой. Черныш знал, что для пау как раз наступила «боевая пора», и он надеялся, подражая военному кличу дроф, приманить птицу (он в ней распознал петуха) на расстояние, доступное его стреле.
Едва заслышав клич, пау поднялся во весь свой рост, расправил веер огромного хвоста, опустил крылья, так что края их волочились по траве, и ответил на вызов. Но тут смутило Черныша новое обстоятельство: ему почудилось, что на его токование отозвались две птицы сразу.
Действительно, он не ослышался: только он собрался подать голос вторично, как пау снова издал боевой клич, и в ответ раздался подобный же вызов с другой стороны.
Черныш поглядел туда, откуда донеслось ответное токование, и увидел вторую дрофу. Она, казалось, свалилась с поднебесья или, что вернее, выбежала из укрывавших ее кустов. Во всяком случае, охотники не успели оглянуться, как она уже покрыла почти половину расстояния до центра поляны.
Обе птицы теперь отлично видели друг друга, и по их движениям можно было заключить, что сейчас, несомненно, начнется бой.
Уверенный в этом, Черныш не стал больше подражать их кличу; он тихонько притаился за своим кустом. Довольно долго птицы кружили на месте, выступая чопорным шагом, принимали угрожающие позы, обменивались оскорблениями, пока не раздразнили друг друга достаточно, чтобы завязалась драка. Они сражались по всем правилам своей птичьей чести, пуская в ход три вида оружия — крылья, клюв и ноги. То ударят крылом, то стукнут носом, а время от времени, когда представлялась возможность, угощали друг друга пинком, который, принимая во внимание длину и мускулистость ноги, должен был отличаться значительной силой.
Черныш знал, что, когда они сильнее увлекутся дракой, он сможет подойти к ним незамеченный, и терпеливо ждал своей поры.
С первых же секунд стало ясно, что ему не придется даже оставить свое прикрытие: птицы в драке приближались к нему. Он наложил стрелу на тетиву и выжидал.
Не прошло и пяти минут, как птицы дрались уже ярдах в тридцати от того места, где залег бушмен. Один из бойцов мог бы услышать звон тетивы, если бы был еще способен замечать что-нибудь вокруг себя. Другой все равно не услышал бы: прежде чем звук мог достичь его слуха, отравленная стрела пробила ему уши. Наконечник вышел, а стержень остался в голове, пронзив ее насквозь.
Сраженный пау, конечно, рухнул мертвым на траву, а его противник в изумлении смотрел на тело.
Кичливый боец сперва вообразил, что это сделал он сам, и стал с триумфом прохаживаться вокруг павшего врага.
Но вот его взгляд упал на стрелу, торчавшую в голове убитого. Он взирал на нее в недоумении. Этого он не делал! Что за чертовщина… Если бы ему предоставили еще хоть полсекунды на раздумье, он, верно, пустился бы наутек; но не успел он даже толком испугаться, как снова послышался звон тетивы, просвистела в воздухе вторая стрела, и вторая дрофа простерлась рядом с первой на траве.
Черныш бросился теперь вперед и завладел добычей; подстреленные птицы оказались молодыми петухами, так и просившимися на вертел.
Подвесив дичь на высокий сук, чтобы шакалы и гиены не могли ее достать, охотники отправились дальше и, спустившись снова в безводное русло реки, пошли вперед, куда оно их повело.
Глава 27
ПО СЛЕДАМ
Они прошли не больше ста ярдов, когда набрели на один из тех прудков, о которых говорилось выше. Он был довольно велик, а ил на его берегах был испещрен следами множества разных животных. Охотники увидели это еще издали, а когда пришли на место, Черныш, несколько опередивший остальных, вдруг обернулся и, выкатив глаза, выпятив дрожащие губы, отщелкал языком слова:
— Мин баас! Мин баас! След клау!
Не приходилось опасаться ошибки: след слона нельзя спутать ни с каким другим. Ил действительно был весь изрыт большими круглыми отпечатками в добрых два фута длиною и почти такой же ширины, глубоко вдавленными в почву тяжестью огромного туловища. Каждый отпечаток представлял собой большую яму, в которой уместился бы толстенный столб.
В радостном волнении охотники разглядывали след. Было очевидно, что он оставлен совсем недавно: поверхность ила там, где она была нарушена, еще не затвердела и казалась сыроватой. Она была изрыта не более как за час перед тем.
В эту ночь к болотцу приходил, очевидно, только один слон. Среди множества следов только один был недавним — след старого и очень крупного самца.
Об этом явственно говорили отпечатки ног: чтобы оставить рытвину в двадцать четыре дюйма длиной, животное должно быть очень крупным, а очень крупным может быть только самец, старый самец.
Что ж, чем старше и крупней, тем лучше — лишь бы не оказались по какому-нибудь несчастному случаю обломанными бивни. Бивни, если обломаются, уже не восстанавливаются. Слон, правда, сбрасывает их, но лишь в самом юном возрасте, когда они у него не больше клешни омара; а те, что вырастают им на смену, уже постоянные и должны служить ему до самой смерти — не один и не два десятка лет, ибо никто не скажет, сколько десятилетий бродит по земле могучий слон.
Посоветовавшись немного, наши герои двинулись в путь по следу — Черныш впереди, а за ним ван Блоом и Гендрик.
След вел из безводного русла в джунгли.
Когда есть вокруг кусты тех пород, которыми питается слон, его путь нетрудно проследить по ним. Сейчас, впрочем, слон их не трогал, но бушмен, умевший преследовать зверя не хуже гончей, шел по слоновьей тропе так быстро, как могли поспевать за ним его спутники.
Заросли сменялись порой открытыми полянами; миновав их, охотники увидели перед собой муравейник, стоявший посреди прогалины. Слон, по-видимому, прошел около муравейника, постоял немного… Ага, тут он, должно быть, лег!
Ван Блоом не знал, что у слонов есть такая повадка. Он слышал всегда, что они спят стоя. Сведения Черныша были вернее. Он пояснил, что слоны спят иногда и стоя, но чаще ложатся, особенно в таких местах, где на них редко охотятся. Бушмен считал хорошим признаком, что слон ложился. Отсюда он сделал вывод, что в этих краях слонов мало тревожат и, значит, к ним легче будет приблизиться на выстрел. И вряд ли они захотят покинуть спокойную местность, покуда охотники не возьмут «хорошую поживу».
Это соображение играло важную роль. Где слонов много преследуют и где они уже знают, что означает гул выстрела, там нередко один день охоты обращает их в бегство: они пускаются в кочевье и не осядут снова до тех пор, пока не окажутся вне пределов досягаемости. Так поступают не только отдельные, выслеженные охотником слоны. Все остальные также снимаются с места, как будто предупрежденные товарищами, пока последний слон не покинет округу. Эти странствия представляют одну из главных трудностей для охотника; и, когда слоны уходят на новые места, ему не остается ничего иного, как самому переменить поле действия.
Напротив, там, где слонов долгое время оставляли в покое, их не пугает раскат ружейного выстрела, и они долго мирятся с преследованием, прежде чем «покажут хвост» и покинут местность.
Так что Черныш недаром обрадовался, когда убедился, что старый слон лежал. Бушмен вывел из этого обстоятельства целую цепь заключений.
А что слон действительно ложился, было достаточно ясно — углубление в упругой насыпи муравейника показывало, куда он прислонился спиной: на земле был виден оттиск туловища, а большой бивень оставил рядом на дерне глубокую борозду. Бивень был, несомненно, велик, как показал отпечаток зоркому глазу бушмена.
Черныш сообщил спутникам несколько любопытных фактов о четвероногом великане — или, по меньшей мере, то, что ему представлялось фактами. Слон, сказал он, никогда не отважится лечь, если ему не к чему будет прислониться — к скале, к муравейнику, к дереву; он делает это, чтобы во сне не перекувырнуться на спину. Если он нечаянно попадет в такое положение, ему очень трудно встать, и он бывает тогда почти столь же беспомощен, как черепаха. Нередко он спит, стоя около дерева и всей тяжестью тела навалившись на ствол.
Черныш не думал, что слон наваливается на ствол, едва лишь расположится под деревом; дерево соблазняет его сперва своею тенью, а уж потом, когда великаном овладеет сонливость, он припадает к стволу, найдя в нем прочную опору.
Бушмен поведал также спутникам, что иногда у слонов бывают свои облюбованные деревья, к которым они возвращаются снова и снова подремать в жаркие полуденные часы — их обычное время отдыха. Ночью слоны не спят. Наоборот, они в это время бродят по окрестностям, пасутся, ходят к далеким водопоям. Впрочем, в глухих, спокойных областях они пасутся и днем, и не исключено, что повадки полуночника родились у них как следствие страха перед их неугомонным врагом — человеком. Все это Черныш излагал, пока охотники продвигались вперед по следу.
Начиная от муравейника, след менял свой характер. По дороге слон «завтракал». Сон вернул ему аппетит; кусты терновника «стой-погоди» были истерзаны его бивнями. Тут и там ветви были обломаны и дочиста ощипаны, и только жесткие голые прутья валялись на земле. Местами попадались вырванные с корнем деревья, и притом не маленькие. Слон валит деревья, если не может дотянуться хоботом до их листвы; когда же дерево повалено, вся зелень, конечно, оказывается в полном его распоряжении. Иногда же он вырывает деревья, чтобы пообедать корнями, так как некоторые породы пускают сладкие, сочные корни — любимое лакомство слона. Гигант выдергивает деревья хоботом, предварительно подрыв их бивнями, которыми пользуется, как киркой. Впрочем, слону не всегда удается достичь своей цели. Например, мимозу более крупных пород он может расшатать только после больших дождей, когда земля становится влажной и рыхлой. А иногда он привередничает: вырвет дерево из земли, протащит его несколько метров корнями вверх и бросит, едва отщипнув корешок. Проходя целым стадом, слоны беспощадно губят лес.
Малые деревья слон вырывает одним только хоботом, но для крупных он применяет мощный рычаг — свои крепкие бивни. Он подводит их под корни (дерево растет обычно в рыхлой песчаной почве) и, дернув, разом выкорчевывает его: ветви, корни, ствол мгновенно оказываются в воздухе, не устояв перед мощью лесного исполина.
На каждом шагу охотники встречали все новые доказательства огромной этой мощи: о ней ясно свидетельствовал след, оставленный по дороге их старым клау.
Этого было довольно, чтобы зародить страх и почтение, и ни один из троих преследователей не остался чужд этим чувствам. Если в часы спокойствия животное так склонно к разрушению и буйству, каким же чудовищем оно обернется, если его разъярить!
Было и еще одно соображение, смущавшее охотников, в особенности бушмена. Судя по некоторым признакам, это был слон-одиночка, или, как его называют индийские охотники, «бродяга». К таким слонам гораздо опаснее подступать, чем к их сородичам. В самом деле, при обычных обстоятельствах сквозь стадо слонов можно пройти так же спокойно, как если б это были не слоны, а смирные волы. Слон становится опасным противником, только если на него напасть или ранить его.
Совсем иначе обстоит дело с одиночкой, или бродягой. Он злобен по природе; едва завидев человека или зверя, он кидается в драку, не дожидаясь, когда его заденут. Он, по-видимому, питает страсть к разрушению, и горе тому, кто пересечет бродяге дорогу, не обладая более быстрыми ногами, чем у него!
Слон-бродяга ведет одинокую жизнь, скитаясь по лесу, и никогда не вступает в общение с сородичами. Он, видимо, является отверженцем среди своего племени, изгнанным за злобный нрав или по иной вине, и в своем отщепенстве становится еще более лютым и злобным.
Бушмен имел все основания опасаться, что выслеживаемый слон был таким одиночкой. Уже то, что он шел один, было само по себе достаточно подозрительно, так как слоны обыкновенно бродят по двое, по трое, а то и стадом в двадцать, в тридцать, в пятьдесят голов. Оставленные по пути следы разрушения, отпечаток огромных ступней — все, казалось, выдавало в нем одного из этих свирепых животных. А тому, что одиночки водились в этих местах, у наших охотников были уже доказательства. Черныш утверждал, что слон, убитый носорогом, принадлежал к тому же разряду, потому что иначе он не напал бы сам на врага. Предположение бушмена представлялось вполне правдоподобным.
След становился все свежее и свежее. Охотники видели вывороченные деревья, корни с отпечатком слоновьих зубов, еще увлажненные слюной, вытекшей из его огромной пасти. Видели обломанные ветви мимозы, от которых исходил сладкий запах, еще не успевший выветриться. Нетрудно было заключить, что дичь находится поблизости.
Пошли в обход опушкой, пустив бушмена по-прежнему вперед. Вдруг Черныш остановился и отступил на шаг. Он обратил к спутникам лицо. Глаза его вращались еще быстрей, чем обычно, но, хотя губы раскрывались и язык шевелился, бушмен не мог произнести ни слова: слышно было только какое-то щелкание, свист, но ни одного членораздельного звука — так он был взволнован. Однако остальные поняли его без слов: Черныш хотел, конечно, прошептать, что он видит клау. Отец и сын молча выглянули из-за куста и собственными глазами узрели четвероногого исполина.
Глава 28
СЛОН-ОДИНОЧКА
Слон стоял в рощице под сенью деревьев, называемых «мохала». В отличие от низкорослой мимозы, мохала обладает высоким, гладким стволом, над которым тихо качается густая крона, формой напоминающая зонт. Перистые нежно-зеленые листья мохалы составляют любимое лакомство жирафа, почему в ботанике она именуется жирафьей акацией; голландские же колонисты называют ее в просторечии верблюжьим терновником.
Высокий жираф с его хваткими губами и очень длинной шеей без труда ощипывает листья на высоте семи метров. Другое дело — слон, который не может дотянуться хоботом так высоко; ему зачастую пришлось бы разыгрывать пресловутую лису из древней басни, не располагай он превосходным средством достать соблазнительные листья, повалив дерево наземь. Ему это вполне под силу, если только ствол не слишком толст.
Когда взоры наших охотников впервые остановились на слоне, он стоял у вершины поверженной мохалы, которую только что сломал под корень. Теперь он обрывал листья, набивая ими свой вместительный желудок.
Овладев наконец даром речи, Черныш прерывисто зашептал:
— Осторожно, баас Блоом! Не подходи! Остерегись! Это злой старый клау! Ух! Он дурной. Я его знаю, старого чертова быка!
Этими сбивчивыми словами Черныш хотел предостеречь хозяина, чтоб он не приближался опрометчиво к великану.
Бушмен узнал в нем самого опасного из слонов — бродягу.
Покажется загадочным, откуда Черныш это заключил: ведь слон-одиночка ничем, собственно, не отличается внешне от других своих сородичей. Но наметанный глаз бушмена умеет кое-что прочесть в облике животного, как мы по неуловимым признакам отличаем злого и опасного быка от более добродушного или дурного человека от хорошего.
Да и сам ван Блоом и даже Гендрик поняли по виду слона, что он свиреп и дик и что действовать надо осторожно.
Охотники притаились в кустах и несколько минут наблюдали за четвероногим великаном. Чем дольше они глядели, тем более крепло в них решение напасть на него. Вид огромных бивней был слишком соблазнителен для ван Блоома; он ни на секунду не допускал мысли о том, чтобы отказаться от борьбы и дать животному уйти. Во всяком случае, он всадит в него две — три пули, а если представится возможность и если первых двух не хватит, — что ж, можно будет всадить и больше. Нет, ван Блоом не откажется без боя от этих чудесных бивней!
Он тотчас стал соображать, как вернее всего повести нападение, но время не ждало, и план не успел созреть. Слон казался неспокойным и, видимо, готов был двинуться дальше. С минуты на минуту он мог уйти и затянуть преследование на много миль, а то и вовсе скрыться от охотников в густой заросли «стой-погоди».
Эта перспектива ускорила решение ван Блоома сразу же пойти в атаку и, подступив к слону как можно ближе, выпустить в него заряд. Он слышал, что меткая пуля в лоб уложит любого слона, — только бы найти позицию, откуда можно было стрелять зверю прямо в морду. Ван Блоом считал себя достаточно метким стрелком, чтобы не промахнуться.
Он, впрочем, ошибался. Слона не убивают выстрелом в лоб. Такие сведения можно получить от джентльменов, охотившихся на слонов в своем кабинете, хотя другие кабинетные люди, анатомы — отдадим им должное, — ясно доказали, что этот способ невозможен ввиду особого устройства слоновьего черепа и расположения его мозга.
В то время ван Блоом разделял это ложное представление и потому допустил большую оплошность. Вместо того чтобы искать позицию для выстрела в бок, которую он нашел бы куда легче, он решил обойти слона кругом и выстрелить ему прямо в морду.
Оставив Гендрика и Черныша в тылу у противника, он под прикрытием кустов пополз в обход и наконец достиг тропинки, которую слон мог бы выбрать с наибольшей вероятностью.
Едва успел он занять свою позицию, как исполин двинулся прямо на него своей величавой поступью; и, хотя слон не бежал, а только шел, он пятью — шестью гигантскими шагами приблизился почти вплотную к засаде охотника. Животное еще не подавало голоса, но при каждом его движении ван Блоом слышал странный клекот или урчание, как будто в его огромном брюхе переливалась вода.
Ван Блоом стоял за стволом большого дерева. Слон до сих пор не замечал его и, может быть, прошел бы мимо, не подозревая о присутствии врага, если б тот позволил ему. У охотника и впрямь мелькнула такая мысль, потому что, как ни был он смел, при виде лесного великана у него на мгновение замерло сердце.
Но вот снова дуга слоновой кости блеснула перед его глазами, снова вспомнил он цель, которая привела его сюда, вспомнил о погибшем состоянии, о своем намерении нажить его, поставить на ноги детей… Эти мысли укрепили в нем решимость. Длинный ствол громобоя опирался на сук, дуло глядело прямо в лоб надвигавшемуся слону. Зрачок охотника сверкнул в прицельной рамке, грянул гулкий выстрел, и на мгновение облако дыма застлало все перед глазами… Ван Блоом услышал хриплый трубный рев, услышал хруст ветвей и урчание воды, а когда дым рассеялся, охотник, к своему великому смущению, увидел, что слон все еще стоит на ногах как ни в чем не бывало.
Пуля попала в ту самую точку, куда метил стрелок, но, вместо того чтобы нанести животному смертельную рану, она только привела его в крайнюю ярость. Слон теперь метался, ударял бивнями о стволы, хоботом обламывал ветви и швырял их в воздух, видимо совсем не понимая, что же это так дерзко щелкнуло его по лбу. К счастью для ван Блоома, толстый ствол дерева скрывал его от слона. Если бы разъяренный зверь заметил в это мгновение человека, ван Блоому бы несдобровать, но охотник знал это, и у него достало хладнокровия сохранить молчание и покой.
Иначе повел себя Черныш. Когда слон зашагал вперед, бушмен и Гендрик пошли, крадучись, вслед за зверем через мохаловую рощу. Они пересекли даже открытую поляну и вступили в кусты, где сидел в засаде ван Блоом. Когда Черныш услышал выстрел, а затем увидел, что слон невредим, мужество изменило ему. Он оставил Гендрика и кинулся обратно к мохаловой роще, оглашая воздух пронзительными криками.
Крики достигли ушей слона, и он тотчас же бросился в ту сторону, откуда они доносились. В одно мгновение он вынырнул из кустов и, увидев на открытой поляне бегущего человека, бешено ринулся за ним. Гендрик, который не трогался с места и остался незамеченным в прикрытии кустов, выстрелил по пронесшемуся мимо зверю. Пуля, угодив в лопатку, только усилила ярость слона. Он мчался, не останавливаясь, вслед за Чернышем, вообразив, несомненно, что бедный бушмен и причинил ему боль, происхождение которой он плохо понимал.
Лишь несколько секунд прошло после первого выстрела, а охота приняла новый оборот. Черныш едва успел выскочить из кустов, как слон уже мчался за ним, а когда бушмен повернул к мохаловой роще, он был на каких-нибудь шесть шагов впереди своего преследователя. Черныш хотел добраться до рощи, среди которой было несколько очень крупных деревьев. Он рассчитывал влезть на одно из них, так как это казалось ему единственным средством спасения. Но не пробежал он и половины открытой поляны, как понял, что ему не поспеть. Он слышал за собой тяжелый топот чудовища, слышал громкий злобный рев, ему казалось даже, что он ощущает на спине горячее дыхание зверя. А до рощи было еще далеко. Когда там еще добежишь да взберешься по стволу так высоко, чтобы слону не достать было хоботом! На это нужно время. Укрыться на дереве не оставалось надежды.
Эти соображения почти мгновенно сложились в мозгу Черныша. За десять секунд он пришел к заключению, что бегством ему не спастись; и вот он сразу прервал свой бег, круто повернул и встретил слона лицом к лицу.
Не надо думать, что он тут же составил новый план спасения. Не отвага, а только отчаяние заставило его обратиться лицом к преследователю. Он знал, что, продолжая бежать, непременно будет настигнут; если повернуться лицом к врагу, ничего худшего не произойдет, а может быть, еще удастся предотвратить роковой удар каким-нибудь ловким маневром. Черныш стоял теперь как раз посередине прогалины; слон мчался прямо на него.
Бушмен был совершенно безоружен: чтобы легче было бежать, он бросил свой лук, бросил топор. Впрочем, и лук и топор были бессильны против такого противника.
На человеке оставался только каросс из овчины. Овчина стесняла Черныша в беге, но бушмен умышленно не расстался с ней.
Черныш стоял на месте, пока вытянутый хобот не оказался в трех футах от его лица; и тут бушмен кинул овчину прямо на хобот слону, а сам, легким прыжком отскочив в сторону, побежал в обратном направлении.
Ему, несомненно, удалось бы забежать слону в тыл и этим спастись, но слон подхватил овчину на хобот и размахнулся ею. Описав в воздухе широкий круг, она, точно назло, хлестнула Черныша по ногам, и маленький бушмен, как подкошенный, растянулся на земле среди поляны.
С присущим ему проворством Черныш тотчас же вскочил и кинулся в новом направлении. Но слон уже понял его уловку, оставил каросс и вдруг помчался за человеком.
Черныш не пробежал и пяти шагов, как длинный гнутый бивень очутился у него между ногами; секунда — и тело бушмена оторвалось от земли.
Ван Блоом и Гендрик, которые к этому времени как раз достигли края прогалины, увидели, как Черныш перекувыркнулся в воздухе, но, к их удивлению, он не упал обратно на землю. Уж не подхватил ли его слон опять на бивни и теперь придерживает хоботом? Нет. Охотникам была видна голова животного. Бушмена на бивнях не было, не было его и на спине у слона, не было нигде. Слон, казалось, и сам не менее, чем наблюдатели, был изумлен внезапным исчезновением своей жертвы. Громадный зверь искал глазами, словно недоумевая, куда ускользнул предмет его ярости.
Куда мог исчезнуть Черныш? Где он? Вдруг слон издал громкий рев, кинулся к дереву и, обхватив его хоботом, бешено затряс. Ван Блоом и Гендрик подняли глаза к вершине дерева, ожидая, что увидят Черныша в густой листве.
Там он, конечно, и оказался: он сидел среди веток, куда его забросил слон. Ужас был написан на лице бушмена, потому что и здесь он не чувствовал себя в безопасности. Но он не успел выдать криком свой страх. Еще мгновение, и дерево с треском рухнуло, увлекая Черныша на своих ветвях.
Вырванное хоботом дерево упало прямо на слона. Черныш, падая, даже скользнул по спине животного и сполз по покатому заду к его ногам. Ветви ослабили падение, и бушмен ничуть не ушибся, но он сознавал, что теперь находится в полной власти беспощадного врага. Бегством не спастись. Он погиб!
И тут мгновенная мысль осенила его — какой-то инстинкт, пробужденный отчаянием. Вспрыгнув на заднюю ногу великана, он крепко обхватил ее руками, а свои босые ступни поставил на широкие копыта. На этой опоре он мог держаться, сколько бы животное ни двигалось.
Гигант, не имея возможности стряхнуть его или дотянуться до него хоботом, а сверх того, удивленный и напуганный этим невиданным способом нападения, издал пронзительный рев и, оттопырив хвост, задрав высоко хобот, ринулся прямо в джунгли.
Черныш держался на его ноге, пока слон не донес его благополучно до кустов, а там, улучив минуту, тихонько соскользнул наземь. Как только бушмен почувствовал под собою твердую землю, он вскочил на ноги и побежал во весь дух в обратную сторону.
Впрочем, он мог бы спокойно остаться на месте: слон был так испуган, что без оглядки ломился вперед сквозь заросли, корежа на своем пути сучья, сокрушая целые деревья. Четвероногий великан не остановился до тех пор, пока не убежал на много миль от места своего неприятного приключения.
Тем временем ван Блоом и Гендрик вновь зарядили ружья и двинулись на выручку бушмену. Но Черныш, так чудесно спасенный, уже мчался прямо к ним, как на крыльях.
Отец и сын, разгоревшись охотничьим пылом, предложили пуститься по свежему следу, но бушмен, не чувствуя влечения к «старому бродяге», с которым познакомился довольно близко, отказался наотрез. Без коней или собак, объявил он, слона не настичь, а так как у них нет ни тех, ни других, то продолжать преследование бесполезно.
Ван Блоом сознавал справедливость его слов и поэтому особенно жалел о потере своих коней. Слона легко догнать верхом на лошади, а собаки заставляют его перейти от бегства к обороне, но так же легко уходит он от пешего охотника, и раз уж он пустился наутек, преследовать его — напрасный труд.
Час был слишком поздний, чтобы разыскивать других слонов; с чувством разочарования охотники отказались от погони и направились обратно к лагерю.
Глава 29
ПРОПАВШИЙ ОХОТНИК И ДИКИЕ БЫКИ
«Беда никогда не приходит одна», — говорит пословица. Приближаясь к лагерю, наши охотники увидели издали, что там как будто не все благополучно. Тотти с Яном и Трейи стояли наверху у самой лестницы, и по их движениям чувствовалось, что случилось что-то неладное. А где же Ганс?
Едва завидев охотников, Ян и Трейи быстро спустились на землю и кинулись им навстречу. Беспокойные искорки в детских глазах предвещали недобрую весть, а когда дети заговорили, опасения сразу же подтвердились.
Ганса не было — вот уже несколько часов, как он куда-то ушел, и дети боялись, что с ним что-то приключилось, боялись, что он заблудился.
— Но чего ради он ушел из дому? — спросил ван Блоом, удивленный и встревоженный новостью.
На этот вопрос и только на этот, дети могли дать ему ответ. В долину пришло на водопой множество странных животных — очень-очень странных, по словам детей. Ганс взял ружье и быстро побежал за ними, наказав Яну и Трейи оставаться на дереве и не слезать до его возвращения. Он уверял, что уходит ненадолго и что им нечего бояться.
Вот и все, что знали дети. Они не могли даже указать, в какую сторону отправился Ганс. Он пошел по нижнему краю озера, но вскоре скрылся из глаз за кустами, и больше они его не видали.
— В котором часу это было?
Было это много часов назад, совсем еще утром, вскоре после того, как старшие ушли на охоту. Ганс долго не возвращался, и тогда дети начали беспокоиться, но им пришло на ум, что старший брат встретился, верно, с папой и Гендриком и остался с ними охотиться и что поэтому его так долго нет.
— А не слышали дети выстрела?
Нет, они все время прислушивались, но выстрела не слышали. Животные скрылись, когда Ганс не успел еще зарядить ружье, и он, наверно, не скоро их догнал. Может быть, потому-то дети и не слышали, чтобы он стрелял.
— А что это были за животные?
О, пока звери пили, малыши отлично разглядели их. Им никогда раньше не доводилось видеть таких зверей. Это были крупные животные, желто-бурого цвета, с косматой гривой и длинным пучком волос на груди, свисающим между передними ногами. Ростом они были с пони, уверял Ян, и вообще очень похожи на пони. Они прыгали и скакали совсем как пони, когда разыграются. А Трейи сказала, что животные скорей похожи были на львов. — На львов? — воскликнули разом ее отец и Гендрик, и голоса их выдали неподдельную тревогу.
Нет, в самом деле, животные показались ей похожими с виду на львов, повторила Трейи, и Тотти сказала то же самое.
— Сколько их было? Много?
Да, очень много, не меньше пятидесяти! Дети не могли их сосчитать, потому что животные были все время в движении: скакали с места на место и бодали друг дружку рогами.
— Ага! У них были рога? — подхватил ван Блоом и облегченно вздохнул.
— Да, конечно, рога были, — ответили дружно все трое.
Они видели у животных рога, острые рога, которые шли сперва вниз, а затем загибались кверху над самой мордой. А еще у них были гривы, утверждал Ян. Шея у них толстая, изогнутая, как у красивой лошадки, а на носу пучок волос, точно щеточка, тело круглое, как у пони, а сзади длинный белый хвост почти до земли, тоже как у пони, и такие же стройные ноги.
— Говорю вам, — продолжал настойчиво Ян, — что если бы не рога и не метелка волос на груди и на носу, я, наверно, принял бы их за пони. Они скакали совсем как пони, когда те разыграются: набегали друг на дружку, опустив голову, выгнув шею и потряхивая гривой, и даже фыркали совсем-совсем как пони; но иногда они принимались реветь прямо как быки, и, признаться, спереди они сильно напоминали быков; кроме того, я заметил, что у них раздвоенное копыто, как у коров. Я хорошо разглядел их, покуда Ганс заряжал ружье. Они почти все время оставались у воды, а когда снялись, поскакали длинной цепью друг за дружкой: самый большой — впереди и еще один, тоже очень большой, позади всех.
— Дикие быки! — провозгласил Гендрик.
— Гну! — закричал Черныш.
— Да, очевидно, дикие быки, — сказал ван Блоом. — Ян описал их довольно точно.
Догадка была вполне основательна. Ян правильно передал несколько очень характерных признаков гну, которого буры называют диким быком, этого самого необычайного, быть может, среди всех парнокопытных. Щеточка шерсти на носу, длинная метелка меж передних ног, рога, нависающие сперва над мордой и затем резко загибающиеся кверху, толстая, крутая шея, округлое, упругое, как у лошади, туловище, длинный белесый хвост и густая волнистая грива — все это верно рисовало гну.
И даже Трейи не сделала такой уж непростительной ошибки. Гну, в особенности старые самцы, бывают поразительно похожи на львов — настолько, что даже опытные охотники с трудом отличают их издали друг от друга.
Ян, однако, разглядел их лучше, чем сестренка, и будь они поближе, он мог бы заметить еще, что у животных красные горящие глаза, что мордой и рогами они несколько напоминают африканского буйвола и что ноги у них похожи на оленьи, тогда как в остальном они действительно походят на пони. Далее, он заметил бы, что самец крупнее самки и гуще окрашен. А если бы в стаде были телята, он увидел бы, что они еще светлее маток — что они белой или светлой масти.
Те гну, которых видели утром дети, принадлежали к самому обычному виду — белохвостому гну, известному среди голландских колонистов под именем «диких быков». Готтентоты же называют их «гноу» или «гну» — по гнусавому мычанию, которое они иногда испускают и которое передается словом «гноу-о-у».
Гну бродят большими стадами по диким южноафриканским степям. Это безобидное животное, пока его не ранят; но если ранить его, в особенности старого самца, то он становится чрезвычайно опасен и кидается на охотника, пуская в ход и рога и копыта. Гну может бегать очень быстро, но он почти никогда не скрывается от охотника, а кружит около него, держась на известном расстоянии, мечется по сторонам, грозно нагибает голову к земле, взбивает копытами пыль и ревет, как бык, а то и впрямь, как лев, потому что его рев напоминает львиное рычание.
Пока стадо пасется, старые самцы стоят на страже, защищая его с фронта и с тыла. А бежит стадо обычно вереницей, в одну линию, как описывал Ян.
Старые самцы держатся в тылу, между стадом и охотником; они скачут взад и вперед, бодая друг друга рогами, и нередко завязывают как будто серьезную драку. Однако стоит охотнику приблизиться, как быки тотчас прекращают ссору и пускаются вскачь, пока не уйдут от него. Нет ничего забавнее той причудливой игры, которой предаются эти животные, когда стадо пасется в степи.
В Южной Африке водится еще один вид антилопы из того же рода гну — полосатый гну. Охотники и колонисты называют его синим диким быком: шкура у него имеет голубоватый отлив — отсюда это наименование «синий», а на боках слегка намечены штрихи или полосы, почему и называется он полосатым. Всей повадкой он очень похож на обыкновенного белохвостого гну, но тяжелее его и глупее, а с виду еще причудливей и нелепей. Полосатый гну достигает в высоту пяти футов, белохвостый — от силы четырех.
Эти породы гну резко обособлены и никогда не смешиваются в одно стадо, хотя каждую из них можно встретить в обществе других животных. Гну принадлежат к характерной фауне Африки и не встречаются на других материках.
До последнего времени их причисляли к семейству антилоп, хоть и трудно сказать, на каком основании. С антилопой у них гораздо меньше общих признаков, чем с тем же быком. Повседневные наблюдения охотников и пограничных буров привели к тому же заключению, как свидетельствует название «дикий бык», которое дали они животному.
Гну издавна составляет излюбленную пищу пограничных фермеров и охотников. Его мясо вкусно, а мясо гну-теленка — настоящий деликатес. Из его шкуры выделываются всевозможные ремни и сбруя, а длинный шелковистый волос хвоста составляет особую статью торговли. Вокруг каждой пограничной фермы можно увидеть большую кучу рогов гну и горного скакуна — останки убитых на охоте животных.
Поохотиться на дикого быка — любимое развлечение молодого бура. Загонят их целым стадом в долину, где они оказываются как в мешке, а потом стреляют вволю. Иногда их заманивают в засаду, выставляя красный носовой платок или просто красную тряпку, так как к этому цвету они питают сильнейшее отвращение. Их можно легко укротить и приручить, но фермеры делают это неохотно, опасаясь, что гну заразят остальной скот особенной кожной болезнью, которой подвержены и от которой они гибнут тысячами каждый год.
Не следует, однако, думать, что все вышеизложенное послужило ван Блоому и его спутникам предметом долгой беседы. Они слишком тревожились о судьбе пропавшего Ганса и не могли теперь думать ни о чем ином.
Но только они собрались отправиться на розыски, как у дальнего края озера показалась фигура нашего молодого охотника: юноша шел очень медленно, сгибаясь под тяжестью какого-то большого и грузного предмета, который он тащил, вскинув на плечи.
Поднялся дружный хор радостных возгласов, и через несколько минут Ганс стоял среди своих.
Глава 30
АФРИКАНСКИЙ МУРАВЬЕД
На Ганса посыпался град вопросов. — Где был? Почему так поздно? Что с тобой случилось? Ты жив и здоров? Не ранен, надеюсь? — спрашивали его все наперебой.
— Здоров, как бык, — сказал Ганс. — Остальное расскажу, когда Черныш снимет шкуру с этого аард-варка, а Тотти сварит нам на ужин кусок его мяса. Сейчас я слишком голоден, так что прошу меня извинить.
С этими словами Ганс скинул с плеч тушу какого-то зверя величиной с овцу и покрытого длинной красно-бурой щетиной. Большой хвост, толстый у основания, утончался к концу, как морковь. Рыло животного было длинное, чуть ли не в целый фут, но тонкое и голое, рот очень маленький; прямые уши, похожие на рога, стояли торчком; туловище низкое и сплюснутое, ноги короткие, мускулистые, когти же непомерно длинные, особенно на передних лапах, где они не выступали наружу, а загибались внутрь, как зажатые кулаки или как пальцы на руках у обезьяны. В общем, у зверя, которого Ганс назвал аард-варком и предлагал сварить на ужин, был престранный вид.
— Хорошо, мой мальчик, — ответил ван Блоом, — мы охотно тебя извиним, тем более что все мы, полагаю, проголодались почти так же, как ты. Но я думаю, аард-варка лучше оставить на завтрашний обед. Тут у нас есть пара хороших петухов, и Тотти управится с одним из них быстрее, чем с твоей добычей.
— Пусть так, — согласился Ганс, — мне все равно. Я сейчас мог бы съесть что угодно, хоть бифштекс из старой квагги, но все же, я думаю, хорошо бы Чернышу — если ты только не очень устал, дружище, — теперь же снять шкуру с этого господина. — Ганс указал на аард-варка. — И надо бы его освежевать, чтобы он не испортился, — продолжал молодой охотник. — Ты-то уж, верно, знаешь, Черныш, что он очень вкусен, просто объедение, так что было бы обидно дать ему протухнуть. Не каждый день удается подстрелить такого зверя.
— Правильно вы говорите, минхер Ганс, Черныш все это знает. Сейчас мы с него шкуру долой — и гоуп готов. С этими словами Черныш вынул нож и стал свежевать тушу. Странное животное, которое Ганс называл аард-варком, а бушмен — гоупом, было не чем иным, как африканским муравьедом, правильное название которого — трубкозуб.
Хотя колонисты дали ему имя «аард-варк», что значит по-голландски «земляной поросенок», муравьед имеет очень мало общего со свиньей. Правда, мордой он похож немного на кабана. За это сходство, а также за щетину да еще за обычай копать рылом землю и дали ему, конечно, его ошибочное наименование. Эпитет «земляной» прибавлен на том основании, что трубкозуб прекрасно роет норы — он, надо сказать, один из лучших «землекопов» в мире. Он прокладывает путь под землей так быстро, что за ним не поспела бы лопата, — быстрее, чем барсук. Размером, повадкой и устройством многих частей тела он поразительно похож на своего южноамериканского сородича — тамандуа, который получил такую большую известность, что почти единовластно завладел званием муравьеда. Но земляной поросенок такой же полноправный муравьед, как и тамандуа: он так же может «взорвать» крепкостенный дом термитов, может набрать их на длинный липкий язык и проглотить столько же, сколько любой муравьед долины Амазонки. Вдобавок у него такой же хвост морковью, как у тамандуа, точно такое же вытянутое рыло, такой же маленький рот, длинный и гибкий язык. Когти у него мало уступают когтям американского муравьеда, и ходит он так же неуклюже, ставя боком передние лапы, пальцами внутрь.
Почему же, спрошу я, мы так много слышим разговоров о тамандуа и ни слова о земляном поросенке? Все музеи и зверинцы похваляются наперебой, что обзавелись «настоящим» американским муравьедом, но ни один не спешит признаться, что имеет африканского трубкозуба. Откуда такое несправедливое различие? В этом, я сказал бы, виноват знаменитый Барнум. Аард-варк, видите ли, голландец, капский бур, мужик, а бура в наши дни шпыняют со всех сторон. Вот почему зоологи и содержатели зверинцев так обидно пренебрегают моим толстохвостым уродцем. Но пора положить этому конец; я встаю на защиту аард-варка, и, хотя тамандуа специально именуется пожирателем муравьев, утверждаю, что земляной поросенок такой же муравьед, как и тамандуа. Он может прорыть ход сквозь такой же большой термитник, и даже сквозь больший, до двадцати футов высотой, «выбрасывает» такой же длинный и липкий язык в двадцать дюймов длиною, орудует им так же проворно и слизывает столько же термитов, сколько любой тамандуа. И как же он может разжиреть и сделаться очень грузным, а главное — скажем к его чести, — он может обеспечить вам самое вкусное жаркое, если вы его убьете и не побрезгаете отведать его мяса. Правда, оно слегка отдает муравьиной кислотой, но этот привкус как раз и ценят в нем гурманы. А если случится вам завести речь о ветчине, послушайте нашего совета: отведайте окорок земляного поросенка! Приготовьте его по всем правилам да скушайте ломтик, и больше вы никогда не станете расхваливать испанскую или вестфальскую ветчину!
Гансу доводилось лакомиться таким окороком. Чернышу тоже, так что бушмен отнюдь не вопреки желанию, а, можно сказать, с охотой стал разделывать тушу гоупа.
Черныш знал, какой ценный кусок держал он в руках, ценный не только своим качеством, но и потому, что он редко встречается. Хотя трубкозуб довольно обычное животное в Южной Африке, а в некоторых областях ее он водится даже в большом числе, все же охотнику не каждый день удается наложить на него руку. Захватить этого зверя очень трудно, хотя убить довольно просто: ударить по рылу — и он готов! Пугливый и осмотрительный, он редко выходит из своей норы, да и то лишь ночью, и даже в темноте он крадется так тихо и осторожно, что никакой враг не подберется к нему незамеченным. Глаза у него очень маленькие и, подобно большинству ночных животных, он видит плохо, но два других чувства — слух и обоняние — развиты у муравьеда до редкой остроты. Его стоячие длинные уши улавливают каждый звук, каждый шорох.
Аард-варк — не единственное животное в Африке, поедающее термитов. Водится там еще один четвероногий любитель этих насекомых, но внешностью он сильно отличается от трубкозуба. Животное это совсем лишено шерсти, зато его тело сплошь покрыто настоящим чешуйчатым панцирем, каждая чешуйка величиною с полкроны. Чешуйки слегка находят одна на другую, и животное может, когда хочет, поставить их торчком. Внешним видом оно скорее похоже на большую ящерицу или на маленького крокодила, чем на млекопитающее, но его обычаи в точности те же, что у земляного поросенка. Живет оно под землей, разрывает ночью термитники, выбрасывает длинный и липкий язык, набирает на него насекомых и с жадностью их пожирает.
Если напасть на него неожиданно и вдалеке от его подземного убежища, оно свернется, как еж или как некая разновидность южноамериканского броненосца, с которым придает ему известное сходство его чешуйчатый панцирь.
Этот истребитель термитов именуется панголином или ящером, но известно несколько видов панголина помимо африканского. Некоторые виды его встречаются в Южной Азии и на островах Малайского архипелага. Тот же, что водится в Южной Африке, зовется у зоологов «длиннохвостым ящером».
Тотти вскоре подала жаркое из «павлина» — вернее говоря, наспех поджаренную на вертеле дрофу. Хотя птица и не была приготовлена по всем правилам искусства, она оказалась достаточно хороша для тех желудков, для которых предназначалась. Наши охотники были слишком голодны, чтобы привередничать, и съели обед, не подвергнув его критике.
Теперь Ганс приступил наконец к рассказу о своем приключении.
Глава 31
ГАНС ПРЕСЛЕДУЕТ ГНУ
— Так вот, — начал Ганс, — прошло не больше часа после вашего ухода, как у водопоя показалось стадо диких быков. Шли они гуськом, но у самого берега нарушили порядок, и не успел я подумать, что неплохо бы пострелять их, как они уже плескались в воде.
Понятно, я знал это животное — и знал, что это добрая дичь, но я так засмотрелся на их потешную возню, что и думать забыл о ружье, пока стадо не напилось вдосталь. Тогда только я вспомнил, что мы живем вяленой слониной и не вредно было бы внести некоторое разнообразие в нашу еду. К тому же я приметил в стаде нескольких телят, которых я различил по их малому росту и более светлой окраске. Из их мяса, как я знал, получается превосходное блюдо, и я решил, что сегодня оно будет у нас на обед.
Я побежал наверх за ружьем. Тут только я понял, что сглупил, не зарядив его заблаговременно, когда вы собирались на охоту. Мне тогда не пришло на ум, что возможна всякая случайность, и, конечно, это было очень неразумно: как знать, что может произойти в любой час, в любую минуту!
Я очень торопился, когда заряжал ружье, так как видел, что дикие быки уже выходят из воды, и, кое-как забив пулю, бросился вниз по лестнице. Но на последней ступеньке я спохватился, что не взял ни пороховницы, ни патронташа. Возвращаться за ними было поздно: уже последний бык поскакал прочь, и я боялся прозевать их вовсе. Впрочем, я не собирался преследовать их на далекое расстояние. Я рассчитывал сделать по ним только один выстрел, а для него довольно было и той пули, что я забил в ружье.
Я поспешил за стадом, держась по мере возможности под прикрытием кустов, но через некоторое время я убедился, что такая предосторожность ни к чему. Гну нисколько не робели. А старые самцы — те и вовсе не знали страха, они преспокойно скакали и резвились в каких-нибудь ста ярдах, а иногда подпускали меня и ближе. Было ясно, что за ними никогда не охотился человек.
Раз-другой я приближался на выстрел к двум старым быкам, несшим, как видно, стражу в арьергарде. Но я не собирался убивать старых гну — я знал, что их мясо жестко.
Мне хотелось достать к обеду что-нибудь понежнее. И я решил приберечь пулю для телки или для молодого бычка, у которого еще не загнулись рога. Таких я видел в стаде несколько штук.
Как ни смирны были животные, мне никак не удавалось подобраться на выстрел к какому-нибудь из молоденьких. Старые быки, возглавлявшие стадо, все время уводили их слишком далеко; а те два, что прикрывали тыл, казалось, угоняли их вперед при моем приближении.
И вот таким манером они завели меня на милю с лишним. Увлекшись погоней, я не думал о том, что опрометчиво так удаляться от лагеря. Я думал только о дичи и, все еще надеясь использовать с толком свой заряд, шел дальше и дальше.
Наконец погоня вывела меня на открытое место. Кустов здесь больше не было, но и тут нашлось прекрасное прикрытие — термитники. Рассеянные по всей равнине, они стояли, точно большие палатки, на равном расстоянии друг от друга. Термитники были огромные — иные из них в двенадцать с лишним футов высоты — и по виду несколько отличались от обычного куполообразного холмика, распространенного повсюду. Они построены были в виде больших конусов или закругленных пирамид, у основания которых лепились во множестве, словно башенки, конусы поменьше. Я узнал жилище одного из видов термитов, известного энтомологам под именем «воинственного термита».
Были там и другие термитники, в форме цилиндра с закругленной вершиной, невысокие — всего около ярда высотой; вид у них был такой, точно взяли рулон небеленого холста, поставили стоймя, а сверху прикрыли перевернутой миской. Такие термитники принадлежат совсем иному виду термитов, именуемому у энтомологов «кусающийся термит»; впрочем, гнезда того же образца строит еще один вид термитов. Не подумайте, что я останавливался поглядеть на эти любопытные сооружения. Я упоминаю о них сейчас только для того, чтобы дать вам представление о местности, иначе вам непонятно будет дальнейшее.
Итак, равнина вся была усеяна конусообразными и цилиндрическими термитниками. Либо тот, либо другой попадался через каждые двести ярдов, и я вообразил, что под их прикрытием легко подберусь на расстояние выстрела к молоденькому гну.
Я пошел в обход, чтобы напасть на стадо спереди, и притаился за большим конусовидным холмом, близ которого пощипывала траву значительная часть стада. Но, заглянув в просвет между двумя башенками, я увидел, к своему огорчению, что маток с телятами уже угнали, они вне пределов досягаемости, а между мной и стадом скачут по-прежнему два старых быка.
Я повторил попытку и засел за другим высоким конусом, возле которого паслись животные. Когда я выпрямился, чтобы стрелять, меня опять постигло разочарование. Стадо снова снялось, и два быка по-прежнему охраняли тыл.
Мне это начало надоедать. Поведение быков раздражало меня до крайности, и мне чудилось, что они это знают. Они производили самые странные маневры, и казалось — с нарочитой целью раздразнить меня. Временами быки, грозно нагнув голову, подходили ко мне почти вплотную, и, должен признаться, глядя на их косматые темные груди, на острые рога и красные горящие глаза, я чувствовал себя не совсем уютно в этом соседстве.
В конце концов они меня до того разозлили, что я решил положить конец такому издевательству. Что ж, если они не дают мне подстрелить никого другого, подумал я, им это даром не пройдет, они сами поплатятся за свою дерзость и упрямство. По крайней мере один из них познакомится с моей пулей!
Только я поднял ружье, как увидел, что они опять стали в позу для новой драки. Они это делают так: опускаются на колени и скользят вперед, покуда не столкнутся лбами; тогда они вскакивают и неожиданно делают прыжок вперед, стараясь каждый первым наскочить на противника и затоптать его копытами. Если не удалось, оба проскачут дальше, пока не разойдутся на несколько ярдов, потом опять оборачиваются, опять подгибают колени и снова сближаются.
До сих пор эти драки казались мне просто игрой; я полагаю, так оно обычно и бывает. Но на этот раз быки, по-видимому, подрались всерьез. Громкий треск, с которым сшибались их крепкие лбы, их свирепое фырканье и мычанье, а главное, их злобная повадка — все убеждало меня, что они поссорились не на шутку.
Наконец один оказался опрокинутым несколько раз подряд. И каждый раз, едва успевал он стать на ноги, противник кидался на него и снова валил наземь.
Видя, что они поглощены дракой, я надумал, воспользовавшись этим, подойти поближе и выстрелить. Я выступил из-за термитника и подошел к дерущимся. Быки не заметили моего приближения — один увертывался от жестоких ударов, другой рьяно их наносил.
В двадцати шагах я поднял ружье и прицелился. Жертвой я наметил победителя, отчасти в наказание за жестокость, с какою бил он поверженного противника, но больше, пожалуй, потому, что он стоял ко мне боком и представлял удобную мишень.
Я выстрелил.
Дым на минуту скрыл обоих. Когда он рассеялся, я увидел, что побежденный все еще находится в коленопреклоненной позе, а тот, в которого я метил, к великому моему удивлению, стоит по-прежнему на ногах и, очевидно, цел и невредим. Я не сомневался, что заряд попал в него, но было ясно, что пуля не причинила ему значительного вреда.
Нельзя было тратить время на догадки о том, куда я ранил быка. Терять нельзя было ни секунды. Когда рассеялся дым, быки, вы думаете, пустились наутек? Ничуть не бывало! Тот, в которого я целился, тотчас задрал хвост, низко пригнул свою косматую голову и помчался прямо на меня. Глаза его горели злобой, а рев устрашил бы и более смелого человека.
В первую минуту я не знал, что делать. Я думал стать в оборонительную позицию и бессознательно перевернул свое ружье — теперь уже не заряженное, — собираясь орудовать им, как дубинкой. Но я тотчас понял, что мой слабый удар не остановит такого сильного и свирепого животного; бык, несомненно, забодает меня.
Я повел вокруг глазами, высматривая, нельзя ли спастись бегством. К счастью, мой взгляд упал на термитник — тот самый, за которым я только что сидел в засаде. Я сразу сообразил, что, если мне влезть на него, бык до меня не доберется. Но добегу ли я до термитника или враг настигнет меня на полпути?
Я бежал, как испуганная лиса. Ты, Гендрик, при обычных обстоятельствах побиваешь меня в беге. Но я думаю, что и ты не домчался бы до термитника быстрей моего.
Еще секунда — и было бы поздно. Только я ухватился за башенки и вспрыгнул наверх, как услышал за спиной топот копыт, и мне почудилось даже, что я ощутил на пятках горячее дыхание зверя. Однако я благополучно влез на вершину термитника и тут обернулся и глянул вниз, на гнавшегося за мной быка. Я сразу понял, что он не может следовать за мною дальше. Как ни остры были его рога, теперь они для меня были неопасны.
Глава 32
В ОСАДЕ
— Я поздравил себя с благополучным избавлением, — продолжал Ганс, выдержав некоторую паузу, — так как не сомневался, что, не будь термитника, бык растоптал и растерзал бы меня насмерть. Он был из самых крупных и свирепых и очень старый, как я мог судить по основанию его толстых черных рогов, почти сходившихся над лбом, и по темной его шерсти. У меня было достаточно времени, чтобы разглядеть его по всем статьям. Я чувствовал себя в полной безопасности — гну ко мне не подберется, и, сидя на вершине центрального конуса, с полным хладнокровием следил за движениями врага.
Правда, бык делал все, чтобы выбить меня из моей позиции. Снова и снова кидался он на холм, и несколько раз ему удавалось удержаться какое-то время на вершине одной из нижних башенок, но главный конус был для него слишком крут. Неудивительно — я и сам с трудом залез на него. Иногда в своих отчаянных попытках гну подскакивал ко мне так близко, что я мог бы достать стволом ружья до его рогов. И я готовился нанести ему удар при удобном случае. Я никогда не видывал, чтобы какая-нибудь тварь проявляла столько злобы. Дело в том, что моя пуля поранила его — попала ему в челюсть, и из раны обильно струилась кровь. Боль бесила быка, но ярость его вызвана была не только ею, как я уяснил себе вскоре.
После нескольких безуспешных попыток влезть на конус гну изменил свою тактику и начал бить рогами в термитник, как будто желая его сокрушить; отступит немного назад и опять со всей силой ринется на него. И, по правде говоря, временами казалось, что бык в конце концов добьется своего.
Некоторые из малых конусов были уже опрокинуты его мощным натиском; твердая глина подалась под ударами острых рогов, которыми он пользовался, как киркой, только не так повернутой. Я видел, что в нескольких местах он расковырял камеры насекомых или, вернее, коридорчики и галереи во внешней коре холма.
При всем том я не испытывал страха. Я был уверен, что гну скоро успокоится и уйдет и я тогда спущусь, не подвергаясь опасности. Но, понаблюдав за ним подольше, я был немало удивлен, увидав, что ярость его не только не слабеет, но, напротив, возрастает. Я вынул из кармана платок и держал его в руках, то и дело отирая пот с лица. На термитнике было жарко, как в печке. В воздухе ни ветерка, а солнце палило нещадно, да еще лучи отражались от белой глины, так что пот лил с меня в три ручья. Он мне заливал глаза, и я должен был поминутно вытирать их.
Так вот, перед тем как провести платком по лицу, я каждый раз встряхивал его; и каждый раз, как я это делал, я замечал, что мой бык кидается на приступ с удвоенным рвением. В такие минуты он переставал раскапывать рогами термитник, делал новую попытку добраться до меня и с ревом бросался на крутую стену.
Я был смущен и озадачен. Почему, едва я оботру лицо, дикий бык опять приходит в ярость? Сомневаться между тем не приходилось: стоило мне поднять руку, как им, по-видимому, овладевал новый порыв бешенства.
Дело наконец объяснилось. Я увидел, что бесит его не то, что я отираю пот, — он приходил в неистовство оттого, что я взмахиваю платком. Платок у меня, как вы знаете, ярко-алого цвета. Я об этом вспомнил и только тут сообразил, что все красное, как мне доводилось слышать, сильнейшим образом действует на гну и возбуждает в нем раздражение, граничащее с бешенством.
Мне не хотелось поддерживать в нем этот воинственный пыл. Я скомкал платок и засунул в карман, предпочитая обливаться потом, чем оставаться на термитнике лишний час. Я надеялся, что, когда я спрячу красную тряпку, мой бык вскоре успокоится и уйдет.
Но когда ты вызвал черта, не так-то просто с ним сладить. Бык не успокаивался. Наоборот, он по-прежнему наскакивал, тыкал рогами и ревел так же злобно, как раньше, хотя перед его глазами не было больше ничего красного.
Мне это надоело до смерти. Я никогда не представлял себе, что гну так неугомонен в своей ярости. Бык, несомненно, чувствовал свою рану. Временами он словно жаловался. И, казалось, он отлично понимал, что это я причинил ему боль.
Он, видимо, решил, что не даст мне уйти от возмездия. Ни единым признаком не выдавал он намерения удалиться, а рога и копыта его работали вовсю, как будто он надеялся разнести подо мной термитник.
Мне становилось сильно не по себе. Хотя я нисколько не опасался, что бык возьмет приступом мое убежище, меня смущала мысль, что я так долго не возвращаюсь домой. Мне не следовало покидать лагерь. Я думал о сестренке и братце. Там могла стрястись какая-нибудь беда. Меня сильно удручала эта мысль, а за себя я до сих пор почти не тревожился. Я еще не терял надежды, что быку надоест и он уйдет, а я тогда быстренько побегу домой.
Да, до сих пор мне не пришлось испытать серьезный страх за свою собственную персону, если не считать тех нескольких мгновений, пока бык гнался за мной до термитника, но тогда испуг быстро прошел.
Теперь, однако, явился новый предмет ужаса — новый враг, не менее грозный, чем разъяренный бык, враг, в страхе перед которым я в первую минуту чуть не прыгнул вниз, прямо быку на рога!
Я упоминал, что гну своротил несколько малых башенок — наружные укрепления термитника — и раскрыл пустые желобки внутри них. В главный купол он не проник, развалив только извилистые галереи и коридорчики, проложенные в его наружных стенах.
И вот я вижу, что из каждой новой трещины выползают тучи термитов. Еще когда я впервые приблизился к термитнику, я обратил внимание на множество насекомых, сновавших во всех направлениях по его склонам, и сильно удивился: я помнил, что термиты, когда им надо выйти из термитника или войти в него, пользуются обычно подземными ходами. Это я тогда приметил совершенно безотчетно, так как слишком был поглощен своей непосредственной задачей и не мог помышлять ни о чем постороннем. А последние полчаса я наблюдал за маневрами осаждавшего меня быка и не сводил с него глаз ни на минуту.
Но что-то копошившееся прямо подо мной привлекло наконец мое внимание, и я глянул вниз, любопытствуя, что бы это могло быть. При первом же взгляде я невольно вскочил на ноги и, как уже говорил, чуть не спрыгнул прямо быку на рога.
Мой конус весь кишел тучами рассерженных термитов; они заползали все выше и выше и уже лепились гроздьями возле моих башмаков. Каждая пробоина, сделанная рогами быка, извергала несчетное множество злых насекомых, и, казалось, все они устремились ко мне! Как ни малы эти твари, мне чудилось в их движениях определенное намерение. Всеми ими владело, казалось, одно стремление, один импульс — напасть на меня. Тут не могло быть ошибки, их намерение было очевидно. Они двигались дружной массой, как будто руководимые сознательными вожаками, и неуклонно приближались к тому месту, где я стоял.
Я видел также, что это были воины. Воина отличает от работника более крупная голова с длинными челюстями. Я знал, что они кусаются злобно и больно. Меня охватила дрожь. Признаться, я отроду не испытывал подобного ужаса. Недавняя встреча со львом была ничто по сравнению с этим.
Первой моей мыслью было, что термиты меня загрызут. Мне доводилось слышать о подобных случаях. Эти воспоминания нахлынули на меня, наполнив уверенностью, что, если я не найду способа поскорей сойти с этого места, термиты искусают меня до полусмерти и съедят живьем.
Глава 33
БЕСПОМОЩНЫЙ ЗВЕРЬ
— Что было делать? Как мог я избежать двух врагов сразу? Если спрыгнуть, дикий бык убьет меня наверняка. Он все еще стоял внизу, не сводя с меня ни на миг свирепых глаз. Если остаться на месте, меня всего покроет скоро отвратительная кишащая масса насекомых и сожрет дочиста.
Я уже чувствовал их страшные челюсти. Тех, что первые всползли на мои башмаки, мне удалось смести, но некоторые успели добраться до щиколоток и теперь кусали меня сквозь толстые шерстяные носки. Одежда, я знал, не послужит мне защитой.
Я вскарабкался выше по конусу и стоял уже на самой его вершине. Она была настолько остра, что я и так едва удерживал равновесие, а между тем от болезненных укусов насекомых я еще приплясывал с ноги на ногу, точно скоморох.
Но что значили эти укусы по сравнению с тем, что меня ожидало вскорости, когда несметные полчища термитов вонзят в меня свои челюсти! Вот они взбираются уже на последнюю террасу… Скоро они покроют вершину конуса, на которой я стою. Поползут мириадами по моим ногам… начнут меня… Мне страшно было даже представить себе, что сделают со мной термиты. Бык показался мне в ту минуту все-таки менее ужасным. Лучше прыгнуть вниз! Может быть, вызволит меня какой-нибудь счастливый случай! Буду отбиваться от гну прикладом ружья. Может быть, удастся добраться до другого термитника… Может быть… Я уже действительно приготовился к прыжку, когда новая мысль осенила меня; удивительно даже, как это я сразу не догадался. Что мешало мне держать термитов на подобающем расстоянии? У них ведь нет крыльев. Термиты не могут взлететь на меня. Они только могут ползти вверх по конусу. Я же могу сметать их вниз своею курткой! Конечно, могу! Как это я раньше не подумал?
Скинуть куртку было делом одного мгновения. Бесполезное ружье я отбросил в сторону, оно скатилось на нижнюю террасу. Держа куртку за воротник и пользуясь ею, как пыльной тряпкой, я в несколько секунд очистил склоны конуса; термиты тысячами скатывались вниз.
Я даже присвистнул: как это просто! Что бы мне сразу догадаться? Одно легкое движение — и мириады врагов сметены; прилагая самые небольшие усилия, я хоть до ночи буду держать муравьев на расстоянии.
Правда, те, что успели заползти мне под брюки, еще напоминали о себе укусами, но и от них я мог теперь избавиться, улучив время.
Итак, я остался на вершине, теперь уже в склоненном положении — отбивая термитов-воинов, которые все еще толпами устремлялись вверх, а в минуты передышки стараясь освободиться от тех, что ползали по мне. Насекомые теперь не смущали меня своей численностью, зато гну по-прежнему подстерегал внизу. Впрочем, теперь мне казалось, что он начинает проявлять признаки утомления и скоро снимет осаду; эта перспектива поддерживала во мне бодрость.
Но тут снова произошло нечто неожиданное. Снова пришлось мне узнать, что такое страх.
Приплясывая на вершине термитника, я вдруг почувствовал, что она подается у меня под ногами. Мгновение — свод надломился с оглушительным треском, и я провалился сквозь крышу. Мои ноги болтались теперь в пустом пространстве под куполом — я подумал, что потревожил, верно, самое «великую царицу» в ее покоях, — и вот уже я стою, засыпанный по шею.
Я был удивлен, да и напуган изрядно, но не моим внезапным падением — в нем не было ничего неестественного и я быстро оправился бы, — меня смутило другое: когда ноги мои коснулись, как мне показалось, почвы, под ними что-то задвигалось, всколыхнулось и затем быстро выскользнуло из-под них, предоставив мне лететь дальше в глубину.
Что бы это могло быть? Уж не пролетел ли я сквозь кишащую массу живых термитов? Нет, вряд ли. Судя по ощущению, это были не они. Мои ноги встретили на пути нечто цельное и сильное — ведь когда я навалился на это «нечто» всем весом, оно продержало меня на себе две — три секунды, перед тем как исчезнуть.
Что бы это ни было, я здорово перетрусил. Я и пяти секунд не продержал ноги в яме. Нет. Самая жаркая печь не успела бы опалить их — так быстро я выдернул их из провала. Пять секунд — и ноги мои снова были на стене, куда я поспешил выбраться и где стоял теперь, онемев от изумления.
Что дальше? Я больше не мог отбиваться от термитов. Я заглянул в черную дыру, зиявшую подо мною: термиты густыми тучами надвигались оттуда. Их теперь не стряхнешь!
В эту минуту мои глаза случайно остановились на быке. Мой враг стоял в трех-четырех шагах от термитника. Стоял боком, вполоборота к конусу, и уставился диким взглядом в его основание. Вся поза его совершенно изменилась, как и выражение глаз. Вид у него был такой, как будто он только что отскочил на свою новую позицию и готовился еще отбежать. Бык, видно, тоже чего-то сильно испугался.
Так оно и было: еще через мгновение он громко взревел и бросился прочь. На скаку он обернулся, остановился и замер на месте, опять уставившись на термитник.
Что бы это значило? Уж не смутили ли его провал крыши и мое внезапное исчезновение?
Так я сперва и подумал, но вскоре заметил, что гну не смотрит на вершину. Взгляд его был прикован к какому-то предмету у основания конуса, хотя, глядя сверху, я не видел ничего такого, что могло бы его напугать.
Не успел я остановиться на какой-либо догадке, как гну опять взревел и, высоко задрав хвост, пустился во весь опор по степи.
Обрадованный этим зрелищем, я не стал раздумывать долго о том, что избавило меня от его общества. Наверно, решил я, гну испугался моего странного падения. Впрочем, не все ли равно, почему мой противник обратился в бегство! Подобрав ружье, я приготовился спуститься со своей позиции, которая мне порядком надоела.
Сойдя до половины склона, я глянул нечаянно вниз и тут понял, что повергло в ужас старого быка. Да что тут было удивительного? Всякий испугался бы при виде этакой твари! Из отверстия в глиняной стене торчала длинная голая морда с цилиндрическим рылом и парой ушей, тоже очень длинных; уши эти стояли стоймя, как рога у горного козла, придавая их обладателю дикий и страшный вид. Я и сам, наверно, струсил бы, если б не был знаком с этим животным; я сразу узнал в нем самое безобидное создание в мире — земляного поросенка.
Не проронив ни слова, стараясь не шуметь, я перевернул ружье и, низко наклонившись, стукнул прикладом по высунутому рылу. Удар был самый зловредный, и, учитывая, какую услугу оказал мне только что аард-варк, прогнав назойливого гну, я, следует признаться, поступил крайне неблагородно. Но в ту минуту я не владел своими чувствами. Я не раздумывал. Мне помнилось только, что у земляного поросенка вкусное мясо.
Бедный аард-варк! Удар сделал свое дело. Слегка лишь дернув ухом, муравьед упал мертвым в яму, которую сам же прорыл своими когтями.
Однако на этом мои приключения не завершились. Они, казалось, никак не хотели прийти к концу. Я взвалил тушу на плечи и уже собрался двинуться в обратный путь, когда заметил, к своему удивлению, что старый гну, не тот, что держал меня в осаде, а его недавний противник, все еще лежит среди поля, на том самом месте, где я видел его в последний раз. Мало того: я заметил, что он сохранял свое странное положение — не то лежал, не то стоял на коленях, пригнув голову к земле.
Но нелепее всего были его движения. Я подумал, что он сильно ранен в драке и не может бежать.
Сперва я боялся приблизиться к нему, помня, с каким трудом унес ноги от его сородича, и решил идти своей дорогой. Хоть и раненый, он мог оказаться достаточно сильным и напасть на меня, а мое незаряженное ружье, как я уже в том убедился, представляло сомнительную защиту.
Подойти или нет? Я колебался. Однако, наблюдая странные движения гну, я все больше поддавался любопытству и вот наконец приблизился к нему и остановился, не доходя двенадцати ярдов. Как же я удивился, когда открыл причину его несуразных движений! Бык не получил никакого ранения, ни даже царапины, и тем не менее он был совершенным калекой, как если бы лишился пары ног. Беспомощным сделало его самое глупое обстоятельство. В борьбе с другим быком одна из его передних ног каким-то образом перекинулась через рог и там застряла, не только лишив его возможности пользоваться этой ногой, но вдобавок так прижав ему голову к земле, что он нипочем не мог сдвинуться с места.
Первой моей мыслью было помочь быку в его беде и вернуть ему способность движения. Потом мне вспомнился рассказ про пахаря и замерзшую змею, и я отказался от такого намерения.
Второй мыслью было убить его. Однако мне вряд ли удалось бы прикончить его своим незаряженным ружьем. К тому же мне едва было под силу дотащить до дому аард-варка, а я знал, что шакалы съедят убитого гну, прежде чем мы успеем вернуться за ним. Я решил, что, пожалуй, вернее оставить его в таком положении: маленькие трусливые хищники, видя, что он еще жив, не осмелятся к нему подойти.
И я его оставил, как он был, «с головой под мышкой», в надежде, что мы еще и завтра найдем его там.
Так закончил Ганс рассказ о своих приключениях.
Глава 34
СПАЛЬНЯ СЛОНА
Ван Блоом был далеко не удовлетворен тем, что сделал за день. Первый опыт охоты на слона оказался неудачным. Что, если так пойдет и дальше?
При всем интересе к рассказу Ганса он слушал сына с чувством неловкости, вспоминая собственную неудачу. Слон так легко ушел от охотников! Пули их, по-видимому, не причинили ему никакого вреда. Они только разъярили его, пробудили в нем опасного врага. Обе попали в такое место, где рана должна быть смертельна, и все же не произвели ожидаемого действия. Слон ушел как ни в чем не бывало, точно стреляли по нему не пулями, а горохом. Неужели так будет всегда?
Правда, охотники дали по слону только два выстрела. При хорошем прицеле двумя пулями можно уложить слониху, а иногда и самца, но требуется не две, а двадцать пуль, чтобы крупный, старый слон «глотнул земли». Только станет ли слон ждать, пока его преследователь столько раз перезарядит ружье? Нет, не станет. Слон в таких случаях мчится, не останавливаясь, много миль, и только верхом на коне человек может его догнать.
Как вздыхал ван Блоом, вспоминая о бедных своих лошадях! Никогда еще он так не жалел о них, не чувствовал так остро их утрату.
Но он слышал, будто слоны не всегда убегают при нападении. Да ведь и вчерашний «старый бродяга» не проявил готовности к отступлению, получив первую пулю. Только неожиданная выходка Черныша обратила его в бегство. Случись иначе, он вряд ли оставил бы поле сражения раньше, чем охотники всадили бы в него новую пулю, быть может, смертельную.
Эта мысль несколько утешила ван Блоома. Возможно, что следующая встреча кончится иначе. Возможно, в награду за труды он получит пару бивней. Надежда на такой исход, да и охотничье рвение побудили ван Блоома, не теряя времени, предпринять новую попытку. И вот на другое утро, еще до восхода солнца, охотники снова отправились выслеживать свою исполинскую дичь.
Они, правда, приняли свои меры — сделали кое-что, о чем не подумали раньше. Всем им случалось слышать, что обыкновенная свинцовая пуля не может пробить плотную шкуру огромного толстокожего. Не в этом ли причина вчерашней их неудачи? Если так, им не придется потерпеть неудачу вторично. Они отлили новую партию пуль, из более твердого материала. Нужно было сделать сплав, но у них не было олова на привар. Зато ту же службу с успехом могло сослужить им старое «серебро», украшавшее стол ван Блоома в более счастливые времена, в Грааф-Рейнете. Это были подсвечники, подносы, колпаки для блюд, судки и прочие вещи — все из так называемого голландского металла, то есть сплава меди с цинком.
Кое-что из этой утвари пошло в тигель, и с добавлением обыкновенного свинца получился сплав, из которого отлили пули, достаточно твердые даже для шкуры носорога. На этот раз охотники не опасались потерпеть неудачу из-за слишком мягких пуль.
Они пошли в том же направлении, что и накануне, то есть лесом, или, как они говорили, кустами. Не сделали они и мили, как напали на довольно свежий след слона. Он вел через самую чащу тернистых зарослей, где ни одно существо, кроме слона, носорога или вооруженного топором человека, не проложит пути. Там прошла, по-видимому, целая семья, состоявшая из слона-отца, одной или двух слоних и нескольких слонят различного возраста. Шли они, по слоновьему обыкновению, вереницей и проломили настоящую просеку в несколько метров ширины, совершенно свободную от кустов и хорошо утрамбованную их большими ногами. Старый самец, объявил Черныш, шел впереди и хоботом и бивнями расчищал дорогу. Так оно, по-видимому, и было, потому что охотникам не раз попадались большие обломанные сучья, иногда на земле, а иногда еще державшиеся на стволе и отведенные в сторону точно рукой человека.
Черныш утверждал, что подобные слоновьи тропы обычно ведут к воде, и притом самой легкой и краткой дорогой, словно обдуманно проложенной искусным инженером, что указывает на редкое чутье и догадливость слонов. Основываясь на этом, охотники рассчитывали прийти вскоре к какому-нибудь водопою; но могло быть и так, что след вел не к воде, а от воды.
Не прошли они и четверти мили, как вышли на другую такую же тропу, пересекавшую ту, по которой они следовали. Вторая дорожка тоже была проложена несколькими слонами, вероятнее всего — семьей слонов; отпечатки на ней были так же свежи, как и на первой.
С минуту охотники колебались, по какой тропе им пойти, но решили все же не сворачивать и держаться прежнего следа.
К их великому огорчению, тропа в конце концов привела к более открытому месту, где слоны разбрелись, и, безуспешно попробовав проследить сперва одного, потом другого слона, охотники запутались и совсем потеряли след.
Направившись в поисках его туда, где кусты росли реже, Черныш вдруг пустился бегом, крикнув остальным, чтобы они шли за ним. Ван Блоом и Гендрик устремились за бушменом — поглядеть, что там такое. Они подумали, что Черныш увидал слона, и оба в сильном волнении уже стянули чехлы со своих ружей. Однако никакого слона не оказалось. Когда они догнали Черныша, тот стоял под деревом и тыкал пальцем в землю у корней. Охотники посмотрели вниз. Они увидели, что землю с одной стороны дерева сильно потоптали, как будто несколько лошадей или других животных стояли здесь долгое время на привязи и, разворотив копытами дерн, превратили его в пыль. Кора дерева — густолиственной развесистой акации — была на одной стороне до известной высоты словно бы отполирована, как будто животные часто приходили и терлись о нее.
— Отчего это? — вырвалось сразу у ван Блоома и Гендрика.
— Спальное дерево слона, — ответил Черныш.
Объяснения были излишни. Охотники вспомнили все, что им рассказывали о любопытном обычае слона спать, прислонившись к дереву. Перед ними было, очевидно, одно из таких «спальных деревьев» толстокожего великана.
Но что проку в том? Разве что потешить немного свое любопытство? Слона тут нет!
— Старый непременно придет сюда опять, — сказал Черныш.
— Гм! Ты так думаешь? — спросил ван Блоом.
— Да, баас, поглядите: свежий след — большой слон спал тут вчера.
— И что же? Ты думаешь, нам следует подстеречь его и пристрелить, когда он вернется?
— Нет, баас, не стрелять. Лучше мы ему сделаем постельку, а потом посмотрим, как он ляжет.
Черныш, подавая свой совет, хитро улыбнулся.
— Сделаем постель слону? Что ты хочешь сказать? — спросил ван Блоом.
— Говорю вам, баас: слон у нас в руках, если вы дадите Чернышу сделать дело. Я вас научу, как взять его без пороха, без пули.
Бушмен стал развивать свой план, и ван Блоом, памятуя вчерашнюю неудачу, с готовностью дал согласие.
К счастью, у охотников нашлись под рукой все принадлежности, необходимые для выполнения этого плана: острый топор, крепкий ремень из сыромятной кожи и у каждого по ножу. Не теряя времени, они приступили к делу.
Глава 35
СТЕЛЮТ ПОСТЕЛЬ СЛОНУ
Охотникам нельзя было упускать ни минуты. Слона, если б он захотел в тот день вернуться, надо было ждать к самым жарким, полуденным часам. В их распоряжении осталось не больше часа, чтобы приготовиться к встрече — «сделать постельку», как в шутку сказал Черныш. И они с жаром принялись за работу. Бушмен был за главного, двое остальных беспрекословно подчинялись его указаниям.
Прежде всего Черныш велел им срезать и обтесать три кола из твердого дерева. Каждому колу надлежало быть в три фута длиной, в человеческую руку толщиной, и с одного конца его надо было заострить.
Колы вскоре были готовы. В изобилии росшее кругом железное дерево представляло самый подходящий материал. Срубили топором три деревца повыше, укоротили их до нужной длины и заострили охотничьими ножами.
Черныш тем временем не сидел сложа руки. Прежде всего он срезал ножом широкую полоску коры со «спального дерева», с той его стороны, где слон обыкновенно приваливался к нему, на высоте примерно трех футов от земли, потом в том месте, где снята была кора, он сделал топором надсечку — такую глубокую, что дерево неминуемо упало бы, будь оно предоставлено самому себе. Но оно не упало, так как Черныш заблаговременно принял меры: он заставил дерево держаться, привязав к верхним его сучьям сыромятный ремень, который он затем провел к ветвям другого дерева, стоявшего поодаль. Таким образом, «спальное дерево» удерживал от падения только ремень; при самом легком толчке оно должно было повалиться.
Теперь Черныш приложил к старому месту срезанный им кусок коры, который он приберег, и, когда все щепки были тщательно собраны, никто не сказал бы с первого взгляда, что дерево познакомилось с лезвием топора. Осталось произвести еще одну операцию — установить колья, уже заготовленные ван Блоомом и Гендриком. Чтобы закрепить их как следует, надо было вырыть довольно глубокие ямки. Черныш отлично справился и с этой задачей. Не прошло и десяти минут, как он выкопал три ямы, каждая больше фута глубиною и ни на полдюйма не шире, чем требовалось по толщине кольев. Вам, может быть, любопытно было бы узнать, как он умудрился это сделать? Доведись вам рыть яму, вы бы стали рыть ее лопатой, и яма неизбежно получилась бы с эту лопату шириной. Но у Черныша не было лопаты, а если бы и была, он все равно пренебрег бы ею, так как яма получилась бы шире, чем нужно.
Черныш не вырыл ямку, а пробурил, сделав это посредством маленькой острой палочки. Он сперва разрыхлил ею твердый грунт по кружку соответственного диаметра. Набрав затем в горсть взрыхленную землю, он выбросил ее и снова принялся орудовать, как раньше, острием «сверлильной палочки». Выбросит землю — и опять за палочку; и так до тех пор, пока не получилась узкая ямка нужной глубины. Вот как Черныш «пробурил» ямки.
Ямки были расположены треугольником у подножия дерева, но не с той стороны, где должен был стать слон, если бы вернулся на старое место, а с обратной. В каждое отверстие Черныш всадил кол тупым концом книзу, острием кверху, а у основания укрепил его при помощи мелкого щебня и пригоршни глины. Колья стояли так, точно в землю вросли. Затем колья обмазали мягкой глиной, чтобы замаскировать белизну дерева, стружки тщательно подобрали, и всякие следы работы были совершенно скрыты. Покончив с уборкой, охотники отошли от «спальни».
Но они отошли недалеко; выбрав большое кустистое дерево с подветренной стороны, они все трое взобрались на него и притаились в ветвях.
Ван Блоом держал на взводе свой громобой, а Гендрик — свой карабин. Только в случае, если бы остроумный прием Черныша не удался, они намеревались пустить в ход ружья.
Было уже двенадцать часов, и день выдался из самых жарких. Но в тени густой листвы наши охотники не страдали от зноя. Черныш считал жару добрым предзнаменованием — она была им на руку. Сильная жара скорее, чем что бы то ни было другое, могла пригнать слона к его любимой спальне, в прохладную сень жирафьей акации.
Уже двенадцать часов. Теперь он должен скоро прийти, думали они.
Слон действительно пришел; пришел не запоздав. Не просидели они на ветвях и двадцати минут, как услышали странное бульканье, звук, который, как знали они, доносится из слоновьей утробы. Еще минута — и они увидели самого слона. Он вышел из чащи и размеренной поступью направился прямо к дереву. Он, видимо, не заподозрил никакой опасности; сразу же стал у ствола акации — в том самом положении, с той самой стороны, как предугадал Черныш. Бушмен по оставленному следу заключил, что у слона в обычае становиться именно так.
Лесной великан стоял спиной к охотникам, но все же они могли видеть пару великолепных бивней — в шесть футов длиною, не меньше.
Наблюдая пристально, они увидели, как голова слона слегка наклонилась, уши перестали хлопать, хвост неподвижно повис, хобот замер.
Все трое насторожились. Вот тело великана слегка накренилось… вот коснулось дерева… Раздался громкий треск, за ним — хруст ветвей, и громадное темное тело слона повалилось на бок.
В то мгновение все прочие звуки утонули в страшном вопле, от которого лес огласился раскатистым эхом и затрепетал каждым листком. Последовал глухой рев, смешавшийся с шумом ломаемых сучьев; повергнутый на землю, могучий зверь забился в предсмертной судороге.
Охотники не слезают с дерева. Они видят, что слон упал, что колья пронзили его. Не понадобится их слабое оружие: животное ранено насмерть.
Агония длилась недолго. Некоторое время слышалось тяжелое предсмертное дыхание, затем наступила глубокая, грозная тишина.
Охотники спускаются на землю, подходят к неподвижному телу. Оно еще лежит, как упало. Колья сработали безотказно. Слон больше не дышит. Он мертв!
* * * *
Пришлось потрудиться не меньше часа, вырезая великолепные бивни. Но нашим охотникам это было нипочем: они только радовались, что каждый бивень оказался тяжелой ношей — едва под силу тащившему его человеку. Ван Блоом взвалил на плечи один. Черныш — другой, а Гендрик понес ружья, топор и прочее; так все трое, оставив позади себя мертвую тушу слона, с триумфом вернулись в лагерь.
Глава 36
АФРИКАНСКИЕ ДИКИЕ ОСЛЫ
Несмотря на успешную охоту, ван Блоом все же не мог прогнать беспокойные мысли. Да, сегодня добыча попала им в руки, но каким путем? Успех был чисто случайным и не позволял возлагать большие надежды на будущее. Много воды утечет, пока найдет он другое «спальное дерево» и еще раз возьмет легкую добычу. Такие не слишком приятные мысли осаждали ван Блоома в тот вечер, после удачной охоты.
Но еще настойчивее думал он об этом две недели спустя, оглядываясь на ряд неудачных попыток. За двенадцать дней неустанной охоты к их коллекции прибавилась одна только пара бивней, да и та малоценная — бивни слонихи, каждый не более как в два фута длины.
Тем обиднее было об этом думать, что почти ежедневно охотники наталкивались на слонов и давали по ним выстрел, другой. Но выстрелы не достигали цели. Ван Блоом неизменно убеждался, как легко четвероногий великан уходит от него. Убеждался, как слаба возможность взять такую дичь, если ты должен преследовать ее пешком.
Да, в охоте на слона у пешего охотника почти нет шансов на успех. Выследить слона не так уж трудно, нетрудно, пожалуй, занять хорошую позицию и сделать первый выстрел, но, когда животное кинется прочь сквозь зеленую чащу, преследовать его — ненадежное дело. Слон может пройти без остановки много миль, и если даже охотник догонит его, то и тут радости мало: всадишь вторую пулю, а слон опять скроется в кустах, да иной раз так, что преследовать его дальше станет уже невозможно.
Между тем конный охотник имеет все преимущества перед пешим. Лошадь легко догоняет слона, а у толстокожего великана есть одна странная особенность: стоит ему убедиться, что враг, кто бы он ни был, способен его догнать, как он тотчас же отказывается от бегства и становится в оборонительную позицию, и тогда стреляй в него хоть двадцать раз сряду!
В этом первое большое преимущество конного охотника. Второе заключается в большей безопасности такой охоты: всадник легко уйдет от разъяренного слона.
Неудивительно, что ван Блоом мечтал о коне и сокрушался, что нет у него этого благородного товарища, который так помог бы ему в охоте. Он сокрушался тем сильнее, что, познакомившись с местностью, нашел здесь раздолье для охоты на слонов. Он видел стада до сотни голов; и стада далеко не пугливые, не расположенные обращаться в бегство с одного или двух выстрелов. Слоны здесь, верно, никогда и не слышали, как бьет ружье, покуда громобой ван Блоома не потряс своим гулом окрестности.
Ван Блоом был уверен, что на лошади он мог бы застрелить их не один десяток и добыть много ценной слоновой кости. А без коня осуществить этот замысел было нелегко. Все попытки принесли бы ему, вероятно, одно разочарование.
Он очень остро это чувствовал. Светлые мечты, которым он с таким жаром предавался, грозили разлететься в прах; и снова тревожил трек-бура страх перед будущим. Он только понапрасну тратит время в этих непроходимых дебрях. Дети вырастут без книг, без образования, без общества. Если он неожиданно умрет, что станется с ними? Его прелестная Гертруда превратится в маленькую дикарку, его сыновья станут «лесными ребятами», маленькими бушменами, как шутя называл их отец, не на короткое время, а так и вырастут дикарями.
Эти думы снова и снова наполняли болью отцовское сердце. Чего бы только он не дал сейчас за пару самых невзрачных лошадей!
Размышляя таким образом, ван Блоом сидел среди ветвей огромной нваны, на помосте, установленном со стороны озера, так что с него можно было обозреть всю водную гладь. Отсюда открывался также широкий вид на местность, лежавшую к востоку от озера. Подальше начинался кустарник, но ближе к озеру лежала поросшая травой равнина, зеленым ковром расстилавшаяся перед глазами.
Охотник перевел глаза на эту равнину, и тут его взгляд привлекло стадо животных, которое пересекало ее, направляясь к воде. Это были крупные животные, размером и складом напоминавшие малорослую лошадь, и бежали они вереницей. Издали стадо имело вид каравана. В веренице их было около пятидесяти голов, и шли они твердым, уверенным шагом, как будто направляемые умным вожаком. Как не похожи были они в стаде на капризных гну с их эксцентричными движениями!
Однако, взятые порознь, они не лишены были сходства с гну, которых напоминали складом тела, формой хвоста, общей землистой окраской и «тигровыми» полосами, различимыми у них на морде, на шее и на плечах. По рисунку эти полосы были такие же, как у зебры, но гораздо менее четки и не распространялись, как у той, на туловище и на ноги. Общей окраской и некоторыми другими статями животные напоминали один из видов осла, но голова, шея и верхняя часть туловища были темнее и слегка отливали в рыжее. Можно сказать, что этот новый посетитель озера обладал чертами сходства со всеми четырьмя — с лошадью, гну, ослом и зеброй, — но все же явственно отличался от них. На зебру он походил более всего, так как действительно принадлежал к одному из видов зебры, к так называемым кваггам.
Современные зоологи разделяют семейство лошадиных[225] на два рода: собственно лошадей и ослов, причем главное различие заключается в том, что животные из рода лошадей обладают длинной волнистой гривой, пышным хвостом и бородавчатыми мозолями как на передних, так и на задних конечностях, тогда как у осла грива короткая, редкая и стоит торчком, хвост тонкий, и только на самом конце растут на нем длинные волосы, а задние ноги у него лишены мозолей. Однако на передних ногах они у него имеются — такие же, как у лошади.
Хотя род лошадей насчитывает множество разновидностей, иногда резко отличных друг от друга, их всех — от суффолька, мощного лондонского ломовика, до его миниатюрного родича — шотландского пони, — легко узнать по этим характерным признакам.
Разновидности ослов почти столь же многочисленны, хоть этот факт и не столь широко известен.
На первом месте назовем обыкновенного домашнего осла, типичного представителя рода; во многих странах встречаются его различные породы, причем некоторые своим изяществом почти не уступают лошади и ценятся столь же высоко. Существует затем западно-азиатский онагр, кулан или джигетай — «дикий осел». Его родина — степи Азии. Еще упомянем кианга, которого можно встретить в Ладаке.
Это все азиатские породы; они встречаются в диком состоянии и отличаются одна от другой складом, окраской, размером и даже образом жизни. Многие из них очень изящны, а в беге не уступают самому быстрому коню.
Мы не можем уделить в этой маленькой книжке много места описанию каждого из названных видов; ограничимся лишь несколькими замечаниями о тех, которые ближе касаются нашей темы, — об африканских диких ослах. Их существует шесть-семь пород, а может быть, и больше.
Во-первых, дикий осел, который распространен в северо-восточных областях Африки. От прирученных диких нубийских ослов произошел домашний осел.
Во-вторых, кумра, о которой почти ничего не известно, кроме того, что водится она в лесах Северной Африки и, в отличие от большинства других видов, живет не стадами, а в одиночку. Кумру часто принимали за дикую лошадь, но, по всей вероятности, она принадлежит к роду ослов. В Африке насчитывается еще несколько видов, настолько схожих между собой и складом, и размером, и привычками, что их можно объединить в один разряд под общим именем — зебра. Различаются, во-первых, собственно зебра — быть может, самое красивое четвероногое в мире, которое нет надобности описывать здесь; во-вторых, дау, или бурчеллиева зебра, как ее чаще называют. В-третьих, зебра Чапмана, близко напоминающая дау. В-четвертых, квагга; пятый же, не установленный вид известен под именем белой зебры, которое он получил за свою бледно-желтую окраску.
Все зебры состоят, несомненно, в близком между собой родстве. Все они в большей или меньшей степени отмечены своеобразными поперечными полосами — общеизвестным признаком зебры. Даже квагга носит эти полосы на голове и на верхней части туловища.
Собственно зебра исполосована от кончика носа до самых копыт, и полосы у нее сплошь черные на почти белом или бледно-желтом фоне. Дау не имеет полос на ногах; полосы у него не так темны и четки, а основная окраска не так светла и чиста. В остальном три первых вида очень схожи; и более чем вероятно, что имя «зебра» впервые было дано либо бурчеллиевой, либо чапмановской зебре — ведь животное, которое мы теперь называем собственно зеброй, водится в тех частях Африки, где едва ли могли его увидеть первые наблюдатели-европейцы. Во всяком случае, зебра и есть тот самый зверь, которого римляне назвали гиппотигром, то есть тигровой лошадью, а из этого обстоятельства мы заключаем, что та зебра жила в более северных областях Африки, нежели другие ее сородичи, которые все принадлежат к фауне южной половины материка. Правда, существует мнение, что собственно зебра распространена и в более северных краях, включая Абиссинию, но, может быть, тут просто произошло недоразумение и за собственно зебру была принята зебра греви, которая, несомненно, водится и в Абиссинии.
Из зебр только один вид — горное животное и живет среди скал, тогда как дау и квагга кочуют по равнинам и диким, ненаселенным степям. В таких же местностях удалось заметить и белую зебру, но только одному путешественнику
— Ле-Вайану, откуда и возникает сомнение в существовании белой зебры как обособленного вида.
Ни одна из пород не общается с другой, хотя каждая пасется общим стадом с другими животными. Квагга водит компанию с гну, дау — с полосатым гну, и в одном стаде с обоими можно увидеть высокого, надменно выступающего страуса.
Во вкусах и в характере разных видов наблюдается много различий.
Горная зебра очень пуглива и дика, дау почти не поддается приручению, между тем как квагга отличается робким, покорным нравом, и ее так же легко приучить к упряжи, как лошадь.
Если это не делается, то лишь по той причине, что южноафриканский фермер не испытывает недостатка в лошадях и квагга ему ненадобна ни в упряжь, ни под седло.
Но хотя фермеру ван Блоому никогда не приходило на ум объездить кваггу, ван Блоом-охотник ухватился за эту мысль.
Глава 37
КАК ПОЙМАТЬ КВАГГУ
До этого времени ван Блоом не удостаивал квагг никакого внимания. Он знал, что это за животные, и часто видел, как табун их — может быть, всегда один и тот же — приходил к озеру на водопой. Ни сам он, ни его домашние не трогали квагг, хотя легко могли бы застрелить не одну. Они знали, что желтое маслянистое мясо этих животных не годится в пищу и едят его только голодные туземцы, а шкура, хоть идет иногда на выделку мешков и другие хозяйственные нужды, особой ценности не представляет. Поэтому наши охотники давали кваггам спокойно приходить и уходить. Не стоило тратить на них порох и пули, да и не хотелось убивать ради пустой забавы такое безобидное создание.
Итак, каждый вечер квагги являлись к озеру на водопой и опять удалялись, не возбудив к себе ни малейшего интереса.
Но на этот раз получилось иначе. В голове ван Блоома зародился великий замысел. Табун диких квагг внезапно приобрел для охотника такой интерес, как если бы это были слоны. Он вскочил на ноги и стоял, не отрывая от них радостного и восхищенного взгляда.
Ван Блоом любовался их изящно исчерченными головами, крутыми линиями тела, легкими и стройными ногами, — словом, любовался в них всеми статями: их ростом, их окраской, их пропорциями. Никогда до той поры буру-скотоводу не казались квагги такими красивыми.
Но откуда такое неожиданное восхищение презренной кваггой? Ведь обычно капский фермер пренебрегает кваггой и если застрелит ее, то лишь на пищу своим слугам-готтентотам.
Почему она так полюбилась вдруг ван Блоому? Узнав, какие мысли теснились в тот час в его мозгу, вы это легко поймете.
Вот что он думал.
Нельзя ли поймать несколько квагг?.. А почему бы и нет? Нельзя ли приучить их к седлу?.. А почему нет? Не может ли квагга при охоте на слона сослужить ту же службу, что конь?.. Почему нет?..
Ван Блоом задал себе эти три вопроса. И через три минуты на все дал утвердительный ответ.
Ни в одном его предположении не было ничего невозможного или невероятного. Было ясно, что этот план вполне осуществим.
Ван Блоом почувствовал себя окрыленным новой надеждой. Лицо его засветилось радостью.
Он поделился замыслом с Чернышем и со своими сыновьями. Все горячо одобрили счастливую идею и только удивлялись, как никому из них раньше не пришла в голову такая простая мысль.
Но теперь возникал вопрос, как поймать квагг. Он требовал разрешения в первую очередь, и все четверо — сам ван Блоом, Ганс, Гендрик и Черныш — засели вырабатывать сообща план охоты.
Понятно, в ту минуту они ничего не могли предпринять и табуну, пришедшему на водопой, дали на этот раз удалиться с миром. Охотники знали, что завтра он вернется в тот же час.
Все они думали о том, что надо будет сделать, когда табун возвратится.
Гендрик предлагал «пришибить» кваггу — пробить пулей верхнюю часть шеи у самого загривка, после чего кваггу можно повалить и связать. При точном прицеле выстрел не смертелен. Вскоре животное поправляется, и тогда его легко объездить. Но такая операция все же сказывается на психике животного: квагга остается навсегда как бы оглушенной. Гендрику этот способ был знаком. Он видел, как буры-охотники «пришибали» квагг; и мальчик полагал, что и сам он без труда справится с подобной задачей.
Ганс считал такой прием слишком жестоким. Придется, может быть, убить немало квагг, прежде чем удастся ранить хоть одну в надлежащее место. К тому же придется потратить зря много пороху и пуль — с этим тоже нельзя не считаться. Может быть, попросту поймать несколько квагг в западню? Ставят же ловушки на других животных, не менее крупных, чем квагга, и, как он слышал, с успехом.
Гендрик не одобрил мысли брата. В западню можно поймать только одну кваггу, первую из табуна. Остальные, увидев, что вожак попался, поскачут прочь и уже никогда не вернутся к озеру. Где потом ставить ловушки на вторую? Пройдет, пожалуй, немало времени, пока удастся разыскать их новый водопой. Всадить пулю в загривок квагге — это верней: подкрадись к ней в степи и стреляй!
Очередь была за Чернышем. Он предложил устроить яму-западню. Таким способом бушмены обыкновенно ловят крупных животных, и Черныш превосходно знал, как сделать яму для квагги.
Гендрик выставил свои возражения — те же, в общем, что и против ловушки. Попадется только первая квагга. Прочие вряд ли будут настолько глупы, чтобы прыгать в яму, куда только что провалился вожак. Они, конечно, поспешат скрыться и никогда больше не пройдут по той дороге.
Другое дело, если б можно было приурочить охоту к ночи. В темноте, допускал Гендрик, пожалуй, удастся поймать несколько квагг, прежде чем тревога охватит всех остальных. Но нет, квагги всегда приходят к водопою днем; попадется только одна, а прочие испугаются и убегут.
Возражения Гендрика были вполне основательны, но он не учел одного важного обстоятельства, которое подметил ван Блоом, наблюдая квагг у водопоя. Дело в том, что животные неизменно входили в воду в одном месте, а выходили в другом. Объяснялось это, конечно, простой случайностью и зависело лишь от устройства дна, но так всегда было, и ван Блоом замечал это не раз.
Квагги имели обыкновение входить в озеро по ложбинке, описанной выше; напившись, они брели несколько ярдов по мелководью, а затем выходили на другую отмель.
Приведенное обстоятельство решительно меняло дело, и все это сразу же поняли. Если яму вырыть на тропинке, по которой животные входят в воду, то будет так, как указывал Гендрик: одна квагга, быть может, и попадется, а всех прочих это спугнет. Но такая же ловушка на обратной тропе должна была дать совсем иной результат. Если в ту минуту, когда табун напьется и станет выходить из воды, охотники покажутся на другом берегу, то квагги всполошатся и поскачут прямо в западню. Таким способом можно поймать не одну кваггу, а столько, сколько их уместится в яме.
Все это казалось настолько осуществимым, что никто не стал делать новые предложения, и план Черныша был сразу же единодушно одобрен.
Оставалось только выкопать яму, прикрыть ее как следует и ждать, что будет дальше.
Все время, пока обсуждался вопрос об охоте на них, квагги оставались на виду и резвились в открытом поле. Это зрелище было танталовой мукой для Гендрика, которому очень хотелось показать свое искусство стрелка и меткой пулей «пришибить» какую-нибудь кваггу. Но юный охотник понимал, что неразумно было бы стрелять по ним здесь, так как один смертельный выстрел навсегда отгонит их от озера; поэтому он сдержал себя и наряду с другими стал наблюдать за табуном, разделяя тот новый интерес, который все питали теперь к полосатому скакуну.
Квагги не замечали присутствия людей, хотя и паслись совсем близко от большой нваны. Охотники сидели среди ветвей, куда животным не приходило на ум взглянуть, а у подножия дерева не было ничего такого, что могло бы возбудить их опасения. Колеса фургона хозяин давно запрятал в кусты, чтобы они не рассохлись на солнце, а отчасти и ради того, чтобы вид их не отпугивал дичь, которая нередко подходила к дереву на расстояние выстрела. На земле не оставалось никаких следов, выдававших существование «лагеря» среди ветвей, и кто угодно прошел бы мимо, не приметив воздушного жилища, где ютилась целая семья охотников. А ван Блоому только того и нужно было. Он пока что мало был знаком с окружающей местностью. Как знать, не ждала ли его тут встреча с врагами похуже гиен и львов?
Наблюдая с дерева за поведением квагг, наши герои вдруг увидели, что одна из них сделала странное движение, какого до сих пор им не приходилось подмечать у этих животных. Эта квагга, мирно пощипывая траву, подошла к небольшой купе кустов, стоявшей одиноко среди открытого поля. У самой заросли квагга прыгнула вдруг вперед. Почти в то же мгновение из кустов шарахнулось какое-то косматое животное и пустилось наутек. Животное оказалось гиеной. Вместо того чтобы кинуться на кваггу и принять битву, как можно было ожидать от такого сильного и свирепого зверя, гиена взревела от страха и пустилась наутек.
Ноги, однако, недалеко ее унесли. Гиена, очевидно, хотела спастись в другой заросли, побольше, лежавшей немного поодаль, но уже на полпути квагга нагнала ее среди открытого поля и, испустив свое пронзительное «куаа-уаг», ринулась вперед и вскинула передние копыта на спину гиене. В тот же миг в загривок хищника вонзились зубы травоядного животного и сжались крепко, как тиски.
Зрители ждали, что сейчас гиена вырвется и помчится дальше. Но ждали напрасно. Больше ей не дано было в жизни пробежать ни ярда. Она не вышла живою из зажавших ее грозных тисков. Квагга мертвой хваткой держала судорожно бившуюся жертву, топтала ее копытами, трясла в своих сильных челюстях, пока гиена не перестала выть. Изуродованное тело хищника неподвижно легло среди поля.
Читатель подумает, что этот случай мог послужить нашим охотникам достаточным предостережением против квагги. Легко ли будет обуздать коня, у которого такие острые зубы?
Но им было известно, какое отвращение питает дикий полосатый конь к гиене. Они знали: при виде гиены квагга свирепеет, но в отношении человека нрав ее совсем иной. В самом деле, неприязнь к гиене у квагги так сильна и так неизменно травоядная квагга одерживает верх над хищницей, что пограничные фермеры часто пользуются этим замечательным обстоятельством и, чтобы уберечь от гиены скот, заводят в стаде по нескольку квагг, которые служат ему охраной и защитой.
Глава 38
ЗАПАДНЯ
Наблюдая за движениями квагг, ван Блоом неожиданно встал. Все взоры обратились на него. Чувствовалось, что он собирается что-то предложить. Что же именно?
Вот что пришло ему на ум: к устройству западни следовало приступить немедленно.
День клонился к вечеру, до темноты оставалось лишь полчаса; казалось, лучше бы отложить дело до утра. Но нет. Были веские причины торопиться. Охотники не поспеют к сроку, если не выполнят часть работы в этот же вечер.
Выкопать яму надлежащих размеров — нелегкое дело: ведь она должна была вместить сразу по меньшей мере полдюжины квагг. К тому же необходимо убрать вырытую землю, нарезать шестов и веток, чтобы ее прикрыть, и уложить их соответственным образом.
На все это пойдет немало времени; между тем управиться надо до возвращения табуна, а иначе все сорвется.
Если квагги явятся до того, как яма будет вырыта и все следы работы уничтожены, они ускачут, не входя в воду, и, пожалуй, больше никогда не вернутся к озеру.
Таковы были соображения ван Блоома. Ганс, Гендрик и Черныш согласились с ним. Все ясно видели, что нужно немедленно приступить к работе.
К счастью, в их «инвентаре» нашлись две хорошие лопаты, совок и кирка, так что все четверо могли работать одновременно. Нашлись и корзины, чтобы выносить землю и сбрасывать ее в глубокую канаву поблизости, где ее не будет видно. Хорошо, что там была эта канава, иначе землю пришлось бы уносить далеко, работа оказалась бы еще тяжелее, и было бы трудно выполнить ее к сроку.
Наметив размеры ямы, наши охотники дружно принялись орудовать лопатами, совками и киркой. Почва была довольно рыхлой, так что киркой почти не пользовались. Сам ван Блоом вооружился одной из лопат, Гендрик — другою, а Черныш между тем выгребал землю совком и так быстро наполнял корзины, что Ганс, Тотти и прибежавшие им на подмогу Трейи с маленьким Яном едва успевали их опоражнивать. Малыши таскали свою собственную небольшую корзину и оказывали существенную помощь в работе, облегчая труд Гансу и Тотти.
Работа весело шла до полуночи и даже за полночь, при свете полной луны; к этому времени наши землекопы стояли уже по шею в земле.
Усталость взяла наконец свое. Но теперь все знали, что легко успеют докончить яму утром; и вот, сложив свои орудия и умывшись в кристальной воде ручья, охотники возвратились на ночлег в надземное жилище.
На заре они снова принялись за работу и трудились хлопотливо, как пчелы; дело подвигалось так быстро, что, когда устроили перерыв на завтрак, ван Блоом, став на носки, едва мог выглянуть из ямы, а шерстистая макушка Черныша была уже чуть ли не на два фута ниже поверхности земли. Еще немного потрудиться — и довольно!
После завтрака все с новыми силами взялись за инструменты и работали, пока не нашли, что яма достаточно глубока. Выпрыгнуть из нее было бы под силу разве что горному скакуну; ни одна квагга не выбралась бы из такой западни.
Нарезали затем шестов и веток; и вот яма тщательно прикрыта шестами, а сверху устлана тростником и дерном, как и прилегающий кусок земли на довольно большом протяжении. Самое умное животное не заподозрило бы ничего. Даже лиса не открыла бы такой ловушки, пока сама не провалилась бы в нее.
Работу закончили до обеда, который, понятно, запоздал в тот день, так что оставалось только поесть и ждать появления квагг. За обедом, несмотря на страшную усталость, все были очень веселы. Перспектива поймать квагг представлялась такой соблазнительной, что возбуждала и поддерживала бодрость.
Каждый предсказывал по-своему, чем кончится дело. Один заявил, что поймают по меньшей мере трех; другие, не столь умеренные, называли цифру вдвое большую. Ян утверждал, что яма будет битком набита полосатыми красавцами, и Гендрик считал это довольно вероятным, принимая во внимание остроумный способ, к которому они собирались прибегнуть, чтобы загнать квагг в западню.
Надежды казались вполне обоснованными. Ширина ямы исключала возможность, что животные перепрыгнут ее, а поскольку она тянулась поперек всей дорожки, они не могли ее миновать.
Правда, если бы предоставить квагг самим себе и позволить им идти, как они привыкли, вереницей, то попался бы только вожак. Остальные, увидав, что он провалился, непременно повернули бы назад и поскакали бы врассыпную во все стороны. Но охотники не собирались мириться с подобным ходом вещей. Они надумали в нужную минуту обратить животных в паническое бегство и загнать их прямо в западню. На этом и была основана надежда поймать не одну, а несколько квагг. Им нужно было четыре — по одной квагге на каждого охотника. Но, конечно, если бы в яму попалось больше четырех, это было бы еще приятней. Чем больше, тем лучше: будет возможность сделать выбор.
Отобедав, охотники стали готовиться к приему «гостей». Как сказано, обед в этот день запоздал против обычного, и уже приближался час, когда должны были показаться квагги. Чтобы не прозевать их, каждый заблаговременно занял свой пост. Ганс, Гендрик и Черныш засели в приозерных кустах — на некотором расстоянии друг от друга. Нижний край озера, где животные обычно входили и выходили, был оставлен свободным. Ван Блоом ждал между тем на помосте в ветвях нваны, чтобы с высоты подкараулить квагг и холостым выстрелом дать сигнал трем остальным. А те должны были выскочить вдруг и, напугав табун неожиданным своим появлением и стрельбой из ружей, погнать его прямо к яме.
План был отлично задуман и удался на славу. Стадо показалось на равнине в обычный час. Троих, сидевших в засаде, ван Блоом оповестил о его приближении, повторив несколько раз приглушенным голосом:
— Квагги подходят, квагги подходят!
А те, не чуя опасности, прошли гуськом по ложбинке, разбрелись по озеру, вдосталь напились и стали одна за другой выходить по той тропе, поперек которой была вырыта яма.
Вожак, взобравшись на берег и заметив устилавшие дорогу свежие дерн и камыш, зафыркал, заржал и, видимо, склонен был повернуть обратно. Но как раз в это мгновение грянул громкий выстрел из ружья и раскатился по всей окрестности. Затем отозвались эхом с левой и с правой стороны выстрелы из меньших ружей, меж тем как Черныш гикал на самой высокой ноте откуда-то еще… Квагги, озираясь, убедились, что их почти отовсюду окружают неведомые враги. Но один путь оставался, по-видимому, открытым — дорога, которой они обычно возвращались с водопоя. С перепугу весь табун устремился на берег и, сбившись в кучу, ринулся к западне.
Послышался треск ветвей и шестов, топот множества копыт, гул от столкновения тяжелых тел, глухая возня и дикое ржание животных, в ужасе рванувшихся вперед. Было видно, как некоторые квагги взвились высоко на воздух, точно желая перепрыгнуть яму. Другие вставали на дыбы и, круто повернув, кидались обратно в озеро. Многие метнулись в кусты и убежали, продираясь сквозь чащу, но большая часть табуна устремилась обратно и, замутив воду, умчалась по той же ложбинке, по которой пришла. Через несколько минут последняя квагга скрылась из виду.
Мальчики подумали, что квагги все спаслись. Но ван Блоом со своей вышки разглядел несколько полосатых морд, высунувшихся над краями ямы.
Кинувшись к западне, охотники, к своей великой радости, увидели в яме ни больше, ни меньше, как восемь взрослых квагг — ровно вдвое больше того, сколько было им надо, чтобы каждому получить по скакуну.
* * * *
Меньше чем за две недели четыре квагги были приучены к седлу и покорились узде. Конечно, пришлось порядком с ними повозиться. Они брыкались, лягались, пускались в дикую скачку и не раз сбрасывали с себя седока, пока удалось переупрямить их. Однако Черныш и Гендрик были умелыми объездчиками и вскоре усмирили диких коней.
В первый же раз, когда квагг взяли на слоновую охоту, они блестяще оправдали возложенные на них надежды. Слон, как всегда, после первого выстрела обратился в бегство. Но охотники, верхом на кваггах, не упускали его из виду и мчались за ним по пятам. Когда слон убедился, что преследователи, как бы он ни мчался, не отстают от него, он гордо отказался от бегства и стал в оборону; это позволило охотникам выпускать в него пулю за пулей, пока смертельная рана не свалила великана наземь.
Ван Блоом был в восторге. Он воспрянул духом; снова восходила для него счастливая звезда.
Наперекор всему он исполнит свой замысел, будет ковать свое счастье. Через несколько лет он составит себе состояние — построит пирамиду из слоновой кости.
Глава 39
В ПОГОНЕ ЗА КАННОЙ
Самым ярым охотником в семье был Гендрик, любивший охоту ради охоты. Благодаря ему кладовая никогда не пустовала. В те дни, когда не шли все вместе на слона, Гендрик бродяжил один и гонялся за антилопами и другими животными, мясо которых составляло обычную пищу наших героев. Гендрик не давал столу оскудевать.
Антилопы — главная южноафриканская дичь, и Африку больше всех других частей света можно назвать страной антилоп. Вы, верно, удивитесь, услышав, что на земле существует семьдесят видов антилопы, в том числе более пятидесяти африканских, из которых по меньшей мере тридцать принадлежит Южной Африке, то есть области, лежащей между тропиком Козерога и мысом Доброй Надежды.
Следовательно, захоти мы дать подробное описание одних только антилоп, нам пришлось бы посвятить этому целый том. Здесь же я могу только сказать, что антилопы водятся главным образом в Африке, хотя много видов этих животных обитает также в Азии, и что в Америке встречается только одна порода — вилорог, а в Европе две, хотя одна из них, общеизвестная серна, скорее коза, чем антилопа.
Замечу далее, что семьдесят видов, причисляемых зоологами к антилопам, сильно отличаются друг от друга и складом, и ростом, и окраской, и привычками — словом, по стольким признакам, что именовать их всех одинаково антилопами крайне мало оснований. Некоторые виды имеют много общего с козой, другие приближаются к оленю, третьи напоминают быка, четвертые сродни как будто буйволу, а несколько видов обладают многими характерными особенностями дикой овцы.
В общем, однако, антилопа походит скорее всего на оленя, и многие виды ее так в просторечии и зовутся оленем. В самом деле, некоторые антилопы ближе к известным видам оленя, чем к иным из своих сородичей. Основное различие, отмечаемое между ними и оленями, заключается в том, что у антилопы костные рога постоянные, прикрыты роговыми футлярами, не ветвятся и не сменяются, тогда как у оленя они чисто костные, ветвятся и он их ежегодно сбрасывает.
Подобно оленям, различные виды антилоп ведут весьма различный образ жизни. Одни живут на открытых равнинах, другие — в дремучих лесах. Одни держатся тенистых речных берегов, другие любят скалистые кручи или сухие горные ущелья. Одни щиплют траву, другие, подобно козам, предпочитают листья и нежные молодые побеги. В самом деле, привычки этих животных настолько многообразны, что, каков бы ни был характер данной страны или области, она неизменно оказывает гостеприимство той или иной из антилоп. Даже в пустыне водятся свои антилопы, предпочитающие сухую, безводную степь самой плодородной, зеленой долине.
Из всех антилоп самая крупная — злен, или канна. Ростом она не уступает самой большой лошади. А весит крупная канна до тысячи футов. Это грузное животное, и даже не слишком быстроногий противник или конный охотник догоняет его без труда. Строением тела канна напоминает быка, только рога у нее прямые и стоят над теменем торчком, лишь слегка расходясь. Они достигают двух футов длины и отмечены желобком, который проходит по ним винтообразно почти до самых концов. У самки рога длиннее, чем у самца.
Глаза у канны, как почти у всех антилоп, большие, ясные и кроткие; выражение свирепости им чуждо. Это животное при огромной своей величине и силе обладает самым безобидным нравом и вступает в драку, только если его довести до отчаяния. В большинстве случаев общая окраска этой антилопы бурая с рыжим отливом. Но встречаются особи пепельно-серой окраски, чуть переходящей в охру.
Канна принадлежит к тем антилопам, которые, по-видимому, легко обходятся без воды. Ее можно встретить в пустынной степи, где поблизости нет ни ручья, ни родника; она как будто даже предпочитает такие местности — вероятно, чувствуя себя там безопаснее, — но водится и в плодородных, лесистых областях. Канны живут стадами, причем самки и самцы пасутся врозь, образуя стада от десяти до ста голов. Мясо канны очень ценится и нежностью не уступает мясу любой другой антилопы, оленя или представителя бычьего племени. Оно напоминает нежную говядину с привкусом дичи; а из мышц бедра, если их соответствующим образом приготовить и прокоптить, получается лакомая закуска, известная под странным названием «бедровые язычки».
Естественно, что канна, дающая превосходное мясо, да еще в таком количестве, представляет большой соблазн для охотников. А так как она тяжела в беге и тучна, то травля длится обычно недолго. Канну пристреливают, снимают с нее шкуру и разрубают тушу на части. Охота на нее сама по себе не увлекательна. Ее беззащитность и ценность ее мяса привели к усиленному истреблению этого вида антилопы; теперь стада канн можно встретить только по глухим окраинам.
С тех пор как ван Блоом и его семья поселилась в этой местности, они не видели ни одной канны, хотя порою им попадались ее следы. А Гендрику по ряду причин не терпелось застрелить хоть одну канну. Он никогда в жизни не охотился на нее — вот первая причина, вторая — ему хотелось обеспечить дом запасом вкусного мяса, которое в таком большом количестве имеется у этого животного. Поэтому Гендрик очень обрадовался, когда в одно прекрасное утро ему сообщили, что на верхней равнине, и притом неподалеку, видели стадо канн. Известие принес Черныш, успевший на рассвете побывать в горах.
Потратив ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы получить от Черныша все указания, Гендрик оседлал свою кваггу, вскинул на плечи карабин и поскакал разыскивать стадо. Неподалеку от лагеря, среди утесов, пролегал удобный проход, ведущий вверх на плоскогорье. То было нечто вроде лощины или расселины; и, как показывало множество следов, животные спускались по ней с плоскогорья в нижнюю равнину, где был родник и ручей. Квагги и другие обитатели пустынных степей, когда шли на водопой, избирали обычно эту тропу.
Гендрик поскакал вверх по лощине и, едва выбравшись из нее, увидел на плоскогорье, в какой-нибудь миле от скалистого обрыва, стадо канн — семь старых быков. На гладкой нагорной равнине негде было бы укрыться и лисе. Всю растительность в том месте, где находились канны, составляли разбросанные поросли алоэ, молочая да изредка чахлое деревце или пучок сухой травы, характерные для пустыни. Не было нигде даже маленького холмика, за которым охотник мог бы спрятаться от зорких глаз своей дичи, и Гендрик тотчас понял, что ему не подобраться к каннам незаметно. Хотя Гендрик никогда не охотился за этой антилопой, ему хорошо были известны все ее повадки, и он знал, как ее преследовать. Он знал, что в беге она слаба и любая старая кляча обгонит ее, не говоря уже о его квагге, самой быстроногой из всех четырех, прирученных семьей ван Блоома.
Следовательно, весь вопрос сводится к тому, как поднять дичь. Подобравшись для начала к стаду на близкое расстояние, он безусловно сумеет загнать одного из быков. Но дело сильно осложнится, если канны обратятся в бегство, увидав его еще издалека. Итак, нужно подкрасться к каннам, чтобы начать гон с близкого расстояния, — вот первая задача. Но Гендрик был осторожным охотником, и это ему скоро удалось. Он не поехал прямо на стадо, а сделал большой крюк, пока канны не оказались между ним и скалистым обрывом, и тогда, направив на них свою кваггу, неторопливо поскакал вперед.
В седле он сидел не выпрямившись, а припав к луке, так что грудь его почти лежала на шее скакуна. Этим он желал обмануть животных, которые иначе признали бы во всаднике врага. А так они не могли разобрать, что за тварь приближается к ним, и довольно долго стояли, взирая на Гендрика и его кваггу с большим любопытством, хотя, разумеется, и не без опаски.
Все же они допустили охотника на расстояние пятисот ярдов — достаточно близкое для него — и тогда только снялись с места тяжелым, неуклюжим галопом.
Гендрик теперь привстал в седле, пришпорил кваггу и помчался за стадом во весь опор. Его расчет оказался верен. Канны бежали прямо на скалы — не туда, где лощина образовала проход, а туда, где не было никакого спуска с плоскогорья, — и, достигнув стремнины, были вынуждены избрать новое направление, под прямым углом к прежнему. Гендрик это использовал и, срезав угол, вскоре настиг стадо. Он задумал отделить одного из быков от стада и загнать его, предоставив остальным ускакать, куда им будет угодно.
Свое намерение он выполнил без труда. Вскоре одна из канн, самая жирная, подалась в сторону, как будто рассчитывая найти там спасение, пока остальные бегут вперед. Но хитрость едва не сгубила канну. Гендрик не упустил ее из виду, и квагга с наездником мгновенно устремилась за ней. Еще одно усилие — и гон увлек и дичь и охотника на целую милю в глубь равнины. Канна из рыжевато-бурой стала свинцово-синей; слюна длинными нитями свисала с ее губ, пена взмылилась на широкой груди, из больших глаз катились слезы, и ее галоп перешел в усталую рысь. Канна явно выдыхалась. Через несколько минут квагга уже бежала за ней совсем по пятам, и тогда огромная антилопа, видя, что бегство ее уже не спасет, остановилась в отчаянии и повернулась навстречу преследователю.
Гендрик держал в руке заряженный карабин, и вы, вероятно, полагаете, что юный охотник тотчас вскинул его на плечо, прицелился, нажал курок и убил канну наповал.
Должен вас разочаровать: он не сделал ничего подобного.
Гендрик был истый охотник — не слишком опрометчивый и не склонный зря расходовать заряд. Он задумал кое-что поинтереснее, чем убить канну на месте. Он знал, что животное в его полной власти, так что теперь он может гнать его куда угодно, как смирного вола. Убивать же канну на месте означало напрасную трату пороха и пули. Мало того: это поставило бы перед ним новую и довольно-таки трудную задачу. Как перенести мясо в лагерь? В один прием не управишься, да еще был риск, что гиены сожрут главную часть добычи, пока охотник снесет домой первую порцию. Между тем он мог избавиться от всех хлопот, пригнав дичь к лагерю. Это он и собирался сделать.
Итак, приберегая пулю, Гендрик проскакал мимо затравленного зверя, потом повернул назад, заставил повернуть и канну и погнал ее перед собой в направлении к скалам. Канна не могла ни уклониться, ни оказать сопротивления. Время от времени она оборачивалась и делала попытку поскакать в сторону, но всадник, заехав вперед, опять легко направлял ее куда хотел, пока наконец не пригнал ко входу в расселину.
Глава 40
БЕШЕНАЯ СКАЧКА ВЕРХОМ НА КВАГГЕ
Гендрик уже поздравил себя с успехом. Радостно предвкушал он, как будут поражены все домашние, когда он пригонит к лагерю канну; ибо нисколько не сомневался, что это ему удастся. В самом деле, какие могли тут возникнуть сомнения? Канна уже вступила в расселину и бежала рысью вниз по тропе, а Гендрик на своей квагге поспешал за ней. Всего лишь несколько ярдов отделяло охотника от входа в расселину, когда вдруг до его слуха донесся громкий топот, словно целое стадо крепконогих животных поднималось по каменному коридору.
Гендрик пришпорил своего скакуна, чтобы скорее достичь края плоскогорья и заглянуть в глубину расселины. Но не успел он еще домчаться до места, как увидел, к своему удивлению, что канна скачет обратно в гору и норовит, минуя всадника, выбежать на равнину. Антилопа, по-видимому, испугалась чего-то там, в расселине, и, чем идти навстречу новому врагу, предпочла обратиться грудью к старому. Гендрик не стал преследовать антилопу — ее он мог догнать в любое время, — важнее было узнать сперва, какая причина заставила ее повернуть обратно; и он еще быстрее поскакал к расселине. Скажут, что мальчику следовало, пожалуй, действовать осторожнее — ведь там могли оказаться львы. Но топот копыт, будивший гулкое эхо в каменном коридоре, убеждал охотника, что не львы спугнули канну.
Наконец Гендрик достиг места, откуда мог заглянуть в глубину расселины. Впрочем, этого даже не требовалось — животные, чей топот он слышал, были уже близко; охотник увидел не что иное, как табун квагг. Гендрик был сильно раздосадован помехой — и тем сильнее, что виновницами оказались квагги, совсем не соблазнительная дичь. Будь вместо них что-нибудь стоящее, он пристрелил бы штуку, другую, но убить кваггу он мог бы сейчас разве что со зла, так как в ту минуту был основательно зол на них.
Сами того не зная, несчастные квагги одним своим появлением доставили охотнику много лишних хлопот: догоняй теперь снова канну да заставь ее опять свернуть к лощине! Неудивительно, что Гендрик обозлился. Но не настолько все же был он раздражен, чтобы с досады выстрелить в надвигавшийся табун, и, повернув своего скакуна, он погнался опять за канной.
Едва он снялся с места, как одна за другой вышли из расселины сорок — пятьдесят квагг. Каждая, завидев всадника, испуганно вздрагивала и кидалась в сторону, пока весь табун не вытянулся по равнине в длинную вереницу, и каждая квагга фыркала и испускала на скаку свое громкое «куа-а-аг!»
При обычных обстоятельствах Гендрик вряд ли заинтересовался бы ими. Ему часто доводилось видеть табуны квагг, так что они не могли возбудить в нем любопытства. Но на этот раз квагги привлекли его внимание, и вот почему: когда они проносились мимо, он заприметил среди них четыре с куцыми хвостами. По этому признаку охотник узнал тех скакунов, которые попались с другими в западню и были затем отпущены на волю. Черныш из каких-то соображений обкорнал им предварительно хвосты.
Гендрик нисколько не сомневался, что это были те самые квагги и что табун тот же самый, который приходил, бывало, к озеру на водопой, но после оказанного ему дурного приема уже не появлялся в окрестностях. Эта догадка, промелькнувшая в голове у Гендрика, и побудила его с некоторым интересом наблюдать за кваггами.
Внезапный испуг животных при виде всадника и забавные фигуры четырех бесхвостых рассмешили мальчика, и он громко расхохотался, когда пустил галопом своего полосатого скакуна.
Квагги между тем побежали в том же направлении, которое избрала канна, так что Гендрику было с ними по пути, и он поскакал за ними следом. Юному охотнику хотелось проверить, может ли квагга, несущая на себе всадника, держаться наравне с неоседланной — то, о чем столько спорят применительно к лошади, — и хотелось проверить заодно, уступает ли в беге его квагга хоть одной из прежних своих товарок. Так завязалась гонка — канна бежала впереди, за ней квагги, а Гендрик замыкал тыл. Ему не приходилось прибегать к шпорам: квагга летела как ветер. Благородный скакун словно чувствовал, что испытывают в соревновании его доблесть. С каждой секундой расстояние между ним и табуном сокращалось.
Квагги вскоре догнали тяжелую в беге канну и, когда та затрусила в сторону и остановилась, они пронеслись мимо. Проскакал не только табун, но и квагга Гендрика, не отстававшая ни на шаг от своих товарок, и не прошло и пяти минут, как канна осталась на добрую милю позади, а квагги все мчались и мчались вперед по широкой степи.
Что же затеял Гендрик? Уж не решил ли он отступиться от канны, дав ей спокойно уйти? Неужели он настолько увлекся гонкой? Неужели, гордясь своей быстроногой кваггой, он ждал, что она победит в состязании всех остальных? Так показалось бы всякому, кто посмотрел бы на гонку издали. Но кто посмотрел бы вблизи, тот объяснил бы поведение Гендрика совсем иначе.
Когда канна остановилась, Гендрик хотел сделать то же; с этим намерением он сильно натянул поводья. Но тут он, к своему удивлению, убедился, что квагга вовсе не разделяет его намерения. Не подчинившись узде, она закусила удила, прижала уши к голове и понеслась во весь опор. Гендрик попробовал тогда повернуть кваггу в сторону и натянул для этого правый повод, но сделал это так рьяно, что узда съехала, и полосатый конь совсем освободился от нее.
Квагга, понятно, получила теперь полную свободу бежать куда угодно. И ясно, что ей угодно было присоединиться к старым своим товарищам. А что это старые товарищи, она, несомненно, признала, как показывало ее приветственное пофыркивание и радостное ржание.
Сначала Гендрик был склонен смотреть на случай с уздой, как на маленькую неприятность, и только. Среди молодежи он был одним из лучших всадников Южной Африки и умел держаться в седле без поводьев. Квагга вскоре сама остановится, тогда он снова наденет на нее узду, которая осталась у него в руках. Так он рассудил поначалу. Но мысли его приняли другой оборот, когда он убедился, что квагга не собирается умерить свой галоп и несется с прежней быстротой, а табун все так же бешено мчится перед нею и по всем признакам тоже не склонен остановиться.
Дело в том, что квагги бежали, гонимые страхом. Они видели, что всадник рьяно преследует их. И хотя старая товарка легко узнала их, как могли они признать ее — с этим высоким горбом на спине? Она казалась им не кваггой, а каким-то страшным чудовищем. И хоть она каждый раз, когда могла перевести дыхание, издавала свое громкое «куа-а-г», как бы окликая товарищей, ничего не выходило. Они не останавливались, не слушали ее.
Что же тем временем делал Гендрик? Ничего. Он ничего не мог предпринять. Не мог остановить неистовый лет своего скакуна. Не смел выскочить из седла. Если б он отважился на это, он бы убился об острые камни или сломал себе шею. Он ничего не мог предпринять — и только старался крепче держаться в седле. Что думал он при том? Сперва он не задумывался и смотрел на свое приключение довольно легкомысленно. Потом, проскакав третью милю, несколько обеспокоился; а на пятой миле уже признался самому себе, что попал в очень скверную историю.
Но вот уже и пятая миля легла позади, за ней шестая, седьмая, а квагги все еще бешено несутся вперед: табун — подгоняемый страхом утратить свободу, горбатый отщепенец — желанием вновь ее получить. Гендрику было теперь сильно не по себе. Где он? Куда его увлекают квагги? Быть может, в пустыню, где он заблудится и погибнет от голода и жажды… Скалы остались на много миль в стороне, и он уже не сказал бы, в какой. Даже если бы он мог как-нибудь остановиться, он не знал бы, куда повернуть. Не нашел бы дороги!
Его опасения перешли в тревогу. Он не на шутку испугался. Что делать? Спрыгнуть на землю, рискуя сломать себе шею? Но если он и не сломает шеи, то лишится квагги и седла в придачу, не говоря уж о потерянной канне. И придется пешком добираться до лагеря, где его еще поднимут на смех. Все равно, пусть! Оставаясь в седле, он рискует жизнью. Квагги могут проскакать без остановки двадцать, нет — пятьдесят миль. Они не выказывают признаков усталости, ничуть еще не запыхались. Нужно спрыгнуть наземь и расстаться с кваггой и седлом.
Решение сложилось, и Гендрик уже готовился привести его в исполнение. Он обдумывал, как вернее избежать ушибов при падении, высматривал место помягче, когда вдруг его осенила счастливая мысль. Он вспомнил, что, укрощая эту самую кваггу и объезжая ее под седло, он широко пользовался одним совсем простым приспособлением — наглазником. Наглазник представлял собою всего-навсего кусочек мягкой кожи, которая надевалась животному на глаза; однако при всей своей простоте это приспособление оказывало самое верное действие, и квагга из строптивой, брыкающейся и рычащей твари превращалась в смирную лошадку. И вот Гендрик подумал теперь об этом способе.
Правда, у него не было при себе наглазника. Нельзя ли чем-нибудь его заменить? Носовым платком? Нет, он слишком тонок. Ага! Курткой! Куртка подойдет. Мешало ружье. Надо освободить от него спину. Спустить его на землю. На обратном пути можно будет его подобрать. Карабин был спущен на землю со всей возможной осторожностью и вскоре остался далеко позади. В мгновение ока Гендрик снял с себя куртку. Как же приладить ее так, чтобы закрыть квагге глаза? Куртку-то ни в коем случае нельзя выпускать из рук.
Секунда размышления — и находчивый мальчик выработал план. Он наклонился, продел рукава куртки под горло квагге и завязал их крепким узлом. Куртка лежала теперь на шее животного таким образом, что воротник приходился у загривка, а полы ближе к ушам. Затем Гендрик нагнулся как только мог вперед и, вытянув руки во всю длину, стал двигать куртку вверх по шее квагги, пока полы не упали ей через уши на морду.
Даже в таком склоненном положении всадник едва удержался в седле. Как только плотное сукно надвинулось квагге на глаза, та мгновенно застыла, точно подстреленная на скаку смертельной пулей. Однако она не упала, а только остановилась как вкопанная, дрожа всем телом. Конец ее неистовому галопу!
Гендрик соскочил на землю. Он не боялся, что ослепленная квагга попытается убежать; она и не пыталась. В несколько минут узда была надежно налажена. Гендрик, с курткой на плечах, снова твердо сидел в седле. Квагга почувствовала себя побежденной. Старые товарищи, соблазнившие ее выйти из повиновения, скрылись из виду; угнетенный новой разлукой, скакун покорился и удилам и шпорам, повернул и уныло пустился в обратный путь.
Гендрик не имел представления, где его дорога. Он направился, придерживаясь следов табуна, к тому месту, где спустил свое ружье, которое и подобрал, проскакав мили две. Не было солнца в небе, не было ничего, что могло бы служить ему вехой, и он подумал, что самое верное — идти и дальше по следу; и хотя след без конца петлял и увел его прочь от канны, юный охотник засветло добрался до расселины в скалах, а вскоре после захода солнца сидел уже под сенью нваны, угощая жадных слушателей рассказом о своих злоключениях.
Глава 41
КАПКАН-САМОСТРЕЛ
К этому времени ван Блоому и его семье сильно стали докучать хищники. Вкусный запах, каждый день распространявшийся от жилья наших героев, а также кости антилоп, убитых на жаркое, привлекали четвероногих гостей. Гиены и шакалы постоянно рыскали вокруг, а по ночам с неумолчной омерзительной музыкой часами осаждали нвану. Правда, никто не боялся этих животных, так как ночью дети были в полной безопасности в своем воздушном жилище, куда гиены не могли к ним забраться, но все же их присутствие было крайне неприятно. Из-за них нельзя было оставить внизу ни кусочка мяса, ни овчины, ни ремня — ни одной кожаной вещи. Эти хищники все размалывали своими зубами и пожирали. Они, случалось, выкрадывали целый окорок антилопы, а однажды испортили Чернышу седло, выев всю кожаную часть. Словом, гиены сделались так назойливы, что необходимо было принять меры к их истреблению.
Стрелять по ним было не так-то просто. Днем они вели себя осторожно и прятались либо в пещерах среди скал, либо в норах трубкозуба. По ночам они становились смелее и подходили к самому жилью, но тогда темнота не позволяла хорошенько прицелиться, а наши охотники слишком ценили свой порох и свинец, чтобы тратить их наудачу, — хотя нет-нет, да дадут выстрел по гиенам, когда те их слишком разозлят.
Так или иначе, надо было придумать способ уменьшить численность незваных гостей, а то и вовсе отделаться от них. С этим согласны были все. Испытали сперва два-три вида ловушек, но безуспешно. Из ямы гиена легко выскакивала, а от петли освобождалась, перегрызая острыми зубами канат.
Наконец ван Блоом остановился на способе, к которому часто прибегают в Южной Африке буры-колонисты для защиты ферм от гиен и прочей нечисти. Он решил устроить капкан-самострел. Есть несколько способов установки такого капкана. Само собой понятно, что главную роль в нем играет ружье, а уловка заключается в том, что веревочка механически спускает курок. В некоторых странах к веревке привязывают кусок мяса; схватив приманку, животное натягивает веревку, спускает курок и само себя застреливает. Но при таком устройстве ружье бьет не наверняка. Хищник может стать не прямо против дула, тогда он вовсе избежит пули или же его только «пощекочет», и он, конечно, уйдет.
В Южной Африке капкан-самострел устраивается куда хитрее. Животное, имевшее несчастье дернуть за курок, редко избегает гибели и либо падает мертвым на месте, либо получает такую жестокую рану, что не может убежать. Ван Блоом соорудил капкан по испытанному способу, и вот как. Он наметил место, где три деревца росли в один ряд на расстоянии ярда друг от друга. Не найди он деревьев, расположенных в таком порядке, их с успехом заменили бы крепко вколоченные в землю колья. Нарезав терновника, наши охотники построили крааль, как его строят обычно: уложив кусты верхушками к наружной стороне. Величина крааля безразлична, и, чтобы зря не тратить труда, построили, понятно, небольшой. Но, сооружая крааль, позаботились об одном: дверь или, лучше сказать, входное отверстие оказалось расположенным так, что с каждого бока стояло по деревцу, которые образовывали как бы косяки двери, и животное, входя в крааль, должно было непременно пройти между этими двумя деревцами.
Теперь о ружье. Как должно было оно действовать?
Его установили горизонтально, накрепко прикрутив приклад к деревцу, стоявшему вне крааля, а ствол — к одному из «косяков». В таком положении дуло приходилось у самого входа и смотрело прямо на второй «косяк».
Высота рассчитана была по уровню, где будет сердце гиены, когда она вступит в дверь.
Далее: как приспособить веревку? К ружейному ложу позади курка была прикреплена палочка в несколько дюймов длины. Утвердили ее под прямым углом к стволу, однако не накрепко, а довольно свободно — так, чтобы она могла послужить рычагом. К обоим концам палочки прикрепили по веревке. Одну из них привязали к спусковому крючку, другую же продели сперва в шомпольную муфту, а затем, натянув поперек входа, привязали ко второму «косяку». Веревка шла горизонтально, в направлении ружейного ствола, и была натянута очень туго. Малейший нажим на нее должен был сдвинуть палочку-рычаг и тем самым спустить курок. И тогда бы, конечно, ружье выстрелило.
Веревка прилажена, ружье заряжено — капкан готов. Теперь оставалось только положить приманку. Эта задача была несложна: надо было просто бросить кусок мяса или падали в крааль и оставить его там на соблазн рыскающим вокруг зверям.
Когда наладили ружье, Черныш притащил приманку — объедки убитой в тот день антилопы — и зашвырнул ее в крааль, после чего все спокойно легли спать, не думая больше о гиенах и капкане.
Но едва они заснули, их разбудил громкий выстрел, за которым последовал короткий придушенный крик, сказавший им, что капкан сделал свое дело.
Четверо охотников зажгли факел и торжественно отправились в крааль. Там они увидели мертвое тело крупного «тигрового волка», которое лежало, скрюченное, в дверях — прямо под дулом ружья. Зверь не сделал ни шага после того, как щелкнул курок, даже не дрыгнул ногой перед смертью.
Пуля с пыжом прошла прямо между ребер и, пробив безобразную дыру в боку, проникла в самое сердце. Гиена, по всей видимости, была в нескольких дюймах от дула, когда наткнулась грудью на веревку и произвела выстрел.
Наново зарядив ружье, охотники опять улеглись. Скажут, пожалуй, что им следовало бы оттащить куда-нибудь самоубийцу-гиену, чтобы труп ее не послужил предостережением для ее сородичей и не заставил их держаться подальше от капкана. Но Черныш знал, что делал. Гиен не могло отпугнуть мертвое тело товарки. Они бы увидели в нем только лакомую добычу, которую можно сожрать вместе с вкусными костями антилопы. Зная это, Черныш не унес трупа гиены, а только оттащил его в глубь крааля, чтобы он служил добавочной приманкой для других гиен и соблазнял их на попытку войти в дверь.
Под утро охотников опять разбудил громкий выстрел из большого ружья.
На этот раз они преспокойно остались в постелях. Когда же рассвело, они наведались к капкану и увидели, что еще одна гиена неосмотрительно надавила грудью на роковую веревку.
Ночь за ночью вели они таким образом свой поход на гиен, перенося крааль-ловушку с места на место по всей округе.
В конце концов назойливые хищники были почти истреблены или, во всяком случае, сделались так редки и так пугливы, что не очень докучали лагерю своим присутствием.
Зато к этому времени объявились иного рода гости, поопаснее прежних, и нашим охотникам пришлось рьяно приняться за их истребление. Это была семья львов. Львиные следы уже давно наблюдались в окрестностях, но поначалу хищники не подходили близко к лагерю. Однако к тому времени, как удалось избавиться от гиен, им на смену явились львы, которые приходили каждую ночь и рычали около лагеря самым устрашающим образом.
Как ни грозен был этот рык, обитатели воздушного жилища не так уж пугались, как можно бы вообразить. Они прекрасно знали, что львам не взобраться к ним на дерево. Будь это леопарды, охотники, вероятно, чувствовали бы себя похуже, так как те превосходно лазают по деревьям, но леопарда они в этих местах не видали и даже не вспоминали о Нем. Все же львы внушали им некоторый страх. Из-за них с наступлением темноты нельзя было спокойно спуститься вниз — каждую ночь, от заката до рассвета, все чувствовали себя как в осаде. Кроме того, хотя корову и квагг запирали в крепких краалях, каждую ночь охотники терзались опасением, как бы львы не задрали кого-нибудь из животных. Утрата любого из них, а в особенности их бесценного друга, «старушки Грааф», явилась бы тяжелым ударом.
Поэтому решено было испытать против львов тот же капкан-самострел, с помощью которого они так успешно расправились с гиенами.
Самое устройство капкана не требовало никаких изменений или дополнений. Только ружье следовало установить выше — так, чтобы дуло пришлось против сердца льва, — что не потребовало сложного расчета. Однако для приманки нужна была не падаль, а мясо недавно убитого животного. Для этой цели подстрелили антилопу.
Опыт привел к желанному результату. В первую ночь «застрелился» старый лев-отец, налетев грудью на роковую веревку. На другую ночь таким же образом погибла львица, а вскоре затем их взрослый сын — молодой лев. После этого ловушка некоторое время бездействовала, но спустя неделю Гендрик застрелил неподалеку от нваны полувзрослого львенка — несомненно, последнего в семье, так как львы с тех пор надолго исчезли. Великим врагом ночных разбойников оказался этот капкан-самострел.
Глава 42
ПТИЦЫ-ТКАЧИ
Теперь, когда хищные звери были истреблены или отогнаны от лагеря, жизнь в окрестностях стала безопасной, и детям можно было давать больше самостоятельности. При них, конечно, всегда оставалась Тотти, когда четверо охотников верхом на кваггах отправлялись выслеживать слона.
Они это делали очень часто, и так как в их отсутствие с детьми не случалось ничего дурного, то в конце концов такой порядок вошел у них в обычай. Яна и Трейи предупреждали только, чтобы они не отходили далеко от нваны и взбирались каждый раз на дерево, если увидят какого-нибудь подозрительного зверя. До истребления гиен и львов дети в отсутствие охотников совсем, бывало, не спускались на землю. Они чувствовали себя как в тюрьме; теперь же, когда главная опасность была, по-видимому, устранена, им дозволялось сходить вниз и резвиться на лужайке или же гулять по берегу озерца.
Однажды, когда охотники ушли, Трейи спустилась к озеру. Она была одна, если не считать горного скакуна, который всегда неотлучно брел за нею по пятам, куда бы она ни шла. Это изящное создание уже совсем выросло и оказалось на редкость красивым, а его большие круглые глаза с поволокой напоминали своим кротким, нежным взглядом глаза самой Трейи. Как я сказал, Трейи прогуливалась одна. Ян возился у подножия дерева, вправляя новую жердочку в птичью клетку, а Тотти ушла в поле пасти «старушку Грааф», так что Трейи со своей ручной газелью одиноко бродила по берегу.
Девочка пошла к воде не совсем бесцельно: ей вздумалось напоить свою любимицу и собрать букет голубых кувшинок. Сделав то и другое, она пошла дальше по берегу.
На озере с дальней стороны врезалась в воду низкая коса. Сперва это была только песчаная отмель, но постепенно она заросла травой и покрылась зеленым ковром. Совсем небольшая, коса представляла собой овал, заметно суживавшийся к берегу, где образовался как бы перешеек шириной не более трех футов. Словом, это был миниатюрный полуостров, который можно было при желании несколькими ударами лопаты превратить в крошечный островок.
Не было, понятно, ничего особенного в том обстоятельстве, что в озеро вдавался маленький полуостров. Это можно увидеть чуть ли не на каждом озере. Но самый полуостров был кое-чем примечателен. У острия косы росло дерево, необычное по своей форме и листве; дерево было невелико, и ветви его низко клонились над самой водой. Поникшие ветви и копьевидные серебристые листья позволяли без труда определить, что это за дерево. Это была плакучая, или вавилонская, ива, названная так потому, что ее ветвями уведенные в плен евреи увивали, по библейскому преданию, свои арфы, когда «плакали на реках вавилонских». Красавицы ивы простирают свою широкую сень над реками Южной Африки точно так же, как над Тигром и Евфратом, и нередко глаз утомленного странника радуется листве, засеребрившейся вдалеке над сушью изжаждавшейся пустыни, потому что вид этой листвы безошибочно указывает на близость воды.
Однако девочку Трейи дерево на маленьком полуострове заинтересовало не только по этой причине, но и кое-чем еще. Его ветви, склонившиеся над поверхностью озера, представляли очень странное зрелище: среди них можно было различить, по одному на кончике каждой ветви, множество каких-то причудливых предметов, свисавших так низко, что нижние их края почти касались воды. Эти предметы отличались, как сказано, довольно причудливой формой. Сверху, где они были прикреплены к сучку, у них имелось нечто вроде шара, нижняя же часть состояла из длинного, узкого цилиндра, а в донце каждого цилиндра было отверстие. В общем, они напоминали перевернутый графинчик со значительно удлиненным горлышком, или, если угодно, их можно было бы сравнить со стеклянными ретортами, какие вы, может быть, видели в химической лаборатории.
Каждая такая «реторта» имела в длину дюймов десять — пятнадцать и была зеленоватого цвета, почти такого же, как самые листья ивы. Не были ли это ее плоды? Нет. Плод плакучей ивы никогда не достигает таких больших размеров. Это были не плоды. Это были птичьи гнезда! Да, это были гнезда, принадлежавшие колонии безобидных певчих птичек, известных под названием «птицы-ткачи».
Я уверен, что вы и раньше слышали о птицах-ткачах, и вы, конечно, знаете, что они получили такое название за искусство, с каким они мастерят свои гнезда. Они не строят и не вьют гнезд, как другие птицы, а действительно ткут их остроумнейшим способом.
Не подумайте, что существует лишь один вид ткачей, только одна порода птиц, умеющих сооружать такие необычайные гнезда. В Африке, где они преимущественно водятся, насчитывается множество видов ткачей, относимых к различным родам. Не стану вас донимать их мудреными названиями. Каждая из этих различных пород строит гнездо своего, особого образца, и каждая выбирает для гнезда свой материал. Некоторые сооружают гнездо бобовидной формы, с входом сбоку, причем отверстие делают не круглое, а скорее напоминающее арку. Другие ткут свои гнезда таким образом, что снаружи по всей поверхности торчат кончики стебельков, придавая гнезду сходство с подвешенным к ветке ежом; а птицы другого рода, близкого к этому, строят свои гнезда из тонких веточек, оставляя их концы торчать подобным же образом. А некоторые строят целую колонию гнезд, жмущихся друг к другу под одной общей крышей, — настоящая птичья республика. Входы в гнезда расположены по нижней поверхности сооружения, которое занимает всю вершину дерева, напоминая с виду стог сена или большую, крепко сбитую охапку соломы.
Принадлежа к разным родам, все птицы-ткачи сильно сходны между собой по нраву и привычкам. Они большей частью зерноядные, хотя некоторые питаются также и насекомыми; а один из видов, красноклювый ткач, собирает свою добычу — клещей — на спине дикого буйвола.
Ошибочно думать, будто птицы-ткачи встречаются только в Африке или только в Старом Свете, как утверждают в своих трудах многие натуралисты. В тропической Америке к этим птицам относятся несколько видов, которые «ткут» такие же подвесные гнезда на деревьях по берегам Амазонки и Ориноко. Но настоящие птицы-ткачи, то есть те, которые считаются самыми типическими для всей группы, — это птицы рода древесных ткачей. И как раз представители одного вида из этого рода и разукрасили своими подвесными домиками плакучую иву. Птица этого вида известна под названием «ткачик висячий».
На плакучей иве было, в общем, около двадцати гнезд — все вышеописанной формы и зеленого цвета, так как жесткая бушменская трава, из которой они были сотканы, еще не утратила свежей окраски и должна была долго еще ее сохранять. Благодаря своему цвету такие гнезда в самом деле напоминают что-то выросшее на дереве — какой-то крупный грушевидный плод. Отсюда, верно, и пошли рассказы древних путешественников о том, что в Африке будто бы есть деревья, дающие чудесные плоды, внутри которых, если разломать их, увидишь живых птичек или же птичьи яйца!
Наша маленькая Трейи не впервые увидела сейчас птиц-ткачей и их причудливые гнезда. Колония уже довольно давно обосновалась на иве, и девочка успела завязать с птицами знакомство. Она часто приходила к ним в гости, припасала зерна и сыпала их под деревом. Во всей колонии не было ни одной пичужки, которая не присаживалась бы доверчиво девочке на руку или на белое плечико, не вспорхнула бы хоть раз на кудрявую головку. Для Трейи было самым обычным делом смотреть, как эти хорошенькие птички резвятся на ветвях или залезают в длинные вертикальные тоннели, служащие входом в их гнезда; самым обычным делом было для нее слушать часами их любовное щебетание или наблюдать за их играми над берегом у самой заводи.
И теперь, весело пробираясь вдоль озера, она думала не о них, а о чем-то другом — может быть, о голубых кувшинках, может быть, о горном скакуне, но только не о них. Однако птицы внезапно привлекли ее внимание.
Неожиданно, без всякой видимой причины, они подняли писк и закружили над деревом, голосом и движениями выдавая сильное волнение и тревогу.
Глава 43
АФРИКАНСКАЯ КОБРА
«Что там случилось с моими пичужками? — недоумевала Трейи. — Там у них что-то неладно! Ястреба не видать. Верно, они повздорили между собой. Пойду посмотрю. Они у меня сразу помирятся».
С такими мыслями девочка ускорила шаг и, обогнув залив, вступила на крошечный перешеек. Еще полминуты — и она уже стояла под ивой.
Вокруг не было обычного подлеска. Дерево росло одиноко у самого конца косы, и Трейи подошла вплотную к стволу. Тут она остановилась и взглянула вверх, на ветви, желая выяснить причину птичьего переполоха.
При ее приближении несколько птичек подлетели к ней и вспорхнули на руки и на плечи; но вся их повадка была сейчас иная, чем когда они ожидали от девочки корма. Они были явно напуганы и, казалось, искали у нее защиты. «Верно, поблизости притаился какой-то враг», — подумала Трейи, хотя никакого врага не видела.
Она посмотрела налево, направо, взглянула наверх. Нигде не видно было ястреба. Ни на иве, ни на соседних деревьях не было никакой хищной птицы. Если бы хищник сидел тут же, на иве, Трейи легко разглядела бы его, так как листва была легкая и редкая; к тому же ястреб не остался бы на дереве, когда девочка стоит так близко. Что ж все-таки испугало птиц? Что пугает их так до сих пор? Ведь они нисколько не унялись, не успокоились. Ага! Наконец-то враг обнаружен, наконец-то взгляд Трейи упал на страшилище, которое всполошило мирную колонию ткачей и подняло среди них такую тревогу!
По горизонтальному суку, обвив его несколько раз спиральными кольцами, медленно сползала большая змея. При каждом движении ее чешуя отливала на солнце; этот блеск и привлек сначала глаза Трейи, и тут она увидела отвратительное пресмыкающееся.
Когда Трейи впервые заметила ее, змея ползла спиралью по одной из горизонтальных ветвей ивы, удаляясь, по-видимому, от гнезд. Но едва девочка остановила на ней свой взгляд, длинное гибкое тело соскользнуло с ветки, и в следующую секунду змея, выставив голову вперед, уже спускалась по стволу дерева.
Трейи отскочила назад — и вовремя: через мгновение голова змеи показалась как раз напротив того места, где только что стояла девочка. Не отскочи она, в нее тотчас вонзились бы ядовитые зубы — змея уже доползла до того места, отвела голову от ствола, широко разинула зев, высунула раздвоенный язык и грозно зашипела. Она была, по-видимому, раздражена — отчасти потому, что потерпела неудачу в своих грабительских намерениях и не могла добраться до птичьих гнезд, а отчасти и потому, что ткачи, защищаясь, несколько раз ударили ее своими клювами, несомненно причинив ей чувствительную боль. Кроме того, ее раздразнило появление Трейи.
Так или иначе, но в ту минуту змея была очень зла, как показывали движения ее головы и блеск ее глаз. Она непременно бросилась бы на всякого, кто, на свое несчастье, перерезал бы ей путь.
Трейи, однако, не собиралась без всякой необходимости пересекать ей дорогу. Девочка знала, что это могла быть и вполне безобидная тварь, но все же от змеи в шесть футов длиною, ядовита она или нет, лучше держаться подальше. Трейи инстинктивно подалась в сторону и стала так далеко, как позволяла вода.
Девочка могла бы отбежать назад к узкому перешейку, но что-то ей подсказало, что змея поползет в том же направлении и, пожалуй, догонит ее. Эта мысль побудила ее отойти от дерева на другой край полуострова в надежде, что змея поползет по тропинке, ведущей с него на поляну.
Стоя у самой воды, девочка, дрожа всем телом, пристально глядела на мерзкого гада.
Если бы Трейи знала, к какой породе принадлежал этот гад, она бы и не так еще дрожала. Перед ней была одна из самых ядовитых змей, черная африканская кобра, которая гораздо опасней своей родственницы, индийской очковой змеи, так как при столь же грозном жале обладает более сильным и подвижным телом.
Этого Трейи не знала. Она знала только, что перед нею большая, безобразная змея, почти вдвое длиннее ее самой, и что эта змея широко разинула зев и высунула глянцевитый язык, намереваясь, как видно, ее проглотить.
Кобра, однако, как ни была она раздражена, не повернулась, чтобы напасть на девочку; не осталась она и на дереве. Прошипев свою громкую протяжную угрозу, она соскользнула на землю и быстро поползла прочь.
Двинулась она прямо к перешейку, видимо собираясь перейти его и уползти куда-нибудь в кусты, росшие поодаль на берегу.
Трейи уже почти совсем утвердилась в надежде, что именно это собирается сделать змея, когда та вдруг свернулась кольцом на узком перешейке, словно решив остаться тут надолго.
Этот маневр был проделан так неожиданно и, казалось, так непредумышленно, что Трейи повела вокруг глазами, ища причину. Только что змея быстро ползла вперед, вытянув во всю длину по земле свое блестящее тело, а в следующее мгновение это тело приняло вид свернутого каната, над краем которого поднималась злая головка с мешком чешуйчатой кожи на шее, вздувшимся в виде капюшона, — отличительный признак кобры.
Трейи смотрела вокруг, словно спрашивая, чем же вызвана внезапная перемена в поведении змеи. Она узнала это с одного взгляда.
От озера к равнине поднимался гладкий отлогий косогор. Он вел кратчайшим путем к полуострову. Взглянув наверх, девочка увидела, что по косогору быстро несется ее горный скакун. Приближение антилопы и заставило змею остановиться.
Трейи, едва заметив змею, громко вскрикнула с перепугу. Крик призвал ее любимца, который, пощипывая траву, отстал от хозяйки, и теперь горный скакун мчался вперед. Большие карие глаза антилопы беспокойно поблескивали, словно спрашивали о чем-то.
Трейи испугалась за своего любимца. Еще прыжок — и он наскочит на притаившуюся змею; еще один такой прыжок…
— Ах! Спасен!
Эти два слова сорвались с губ девочки, когда она увидела, что ее любимец взвился высоко на воздух и опустился далеко впереди, легко перепрыгнув через свернутую змею. Горный скакун вовремя заметил врага и спасся одним из тех головокружительных прыжков, на какие только он и способен. Едва избежав опасности, преданная газель прискакала к хозяйке и глядела на нее большими ясными глазами, в которых светился тревожный вопрос.
Но крик, вырвавшийся у Трейи, всполошил не только антилопу. К своему несказанному ужасу, девочка увидела, что маленький Ян тоже побежал по косогору и вступает прямо на ту дорожку, где лежит, свернувшись, змея.
Глава 44
ЗМЕЕЕД
Страшная опасность угрожала Яну. Он мчался опрометью вперед, прямо на свернувшуюся кобру. Он не знал, что она лежит перед ним. Предостеречь его, остановить на бегу не успеешь. Сейчас он вступит на перешеек, и никакая сила не спасет его от смертельного укуса. Мальчик не сможет отскочить в сторону или, как это сделал горный скакун, на высоте нескольких футов перепрыгнуть через гада. Трейи видела, что кобра взметнула свою длинную шею. Змея, конечно, дотянется до маленького Яна, она, может быть, обовьется вокруг него. Ян погиб!
Трейи точно окаменела. От ужаса у нее отнялся язык. Она только вопила и растерянно махала брату руками.
Но это не только не могло предостеречь Яна, а, напротив, лишь верней губило мальчика. Он связал эти стоны и жесты с ее первым криком. С сестрицей стряслась беда, а какая, он не знал; однако раз девочка продолжает кричать, то, значит, решил он, кто-то напал на нее. Может быть, подумалось ему, змея; но что бы там ни случилось, первым его движением было кинуться на выручку Трейи. Помочь ей он сумеет, только когда будет рядом; он ни за что не остановится, пока не добежит до места, пока не станет бок о бок с сестрой.
Итак, ее вопли, сопровождаемые дикими жестами, только побуждали мальчика бежать быстрей, а так как его глаза были тревожно устремлены на Трейи, не оставалось и тени надежды, что он заметит змею до того, как наступит на нее или почувствует ее роковой укус.
У Трейи вырвался последний крик предостережения, и вместе с криком она наконец выдавила из горла слова:
— Ой, братец! Назад! Змея! Змея!
Но и слова были тщетны. Ян услышал их, но не понял смысла. До него дошло слово «змея». Так он и думал! Змея напала на Трейи! И хотя змеи он не видит, она, несомненно, обвилась вокруг тела девочки. Ян побежал еще быстрей. Только шесть шагов отделяли его теперь от кобры, которая уже подняла свою голову, готовясь напасть на ребенка. Еще мгновение — и ядовитые зубы глубоко вопьются в его тело. С отчаянным стоном Трейи бросилась вперед. Она надеялась отвлечь этим внимание чудовища на себя. Девочка была готова отдать свою жизнь за жизнь брата!
Вот она уже в двух шагах от грозной змеи. Ян — на том же расстоянии с другой стороны. Опасность равна для обоих. Один из двоих… быть может, оба падут жертвой смертоносного укуса! Но близилось уже их спасение. Темная тень мелькнула у них перед глазами, их уши наполнил свист: «Уишь!» — и в тот же миг большая птица упала между ними.
Она не села на землю. Секунду ее широкие, сильные крылья бились в воздухе, посылая ветер им в лицо, но еще мгновение — и птица, сделав неожиданное усилие, взмыла по вертикали ввысь. Трейи глянула на дорожку — кобры там больше нет! С радостным возгласом девочка подбежала к Яну и кинулась ему на шею:
— Мы спасены, братец! Спасены!
Ян был ошеломлен. До сих пор он еще не заметил змеи. Он видел только, как ринулась между ним и сестрою птица, но она так проворно схватила кобру и унесла ее, что Ян, глядевший неотрывно на Трейи, не заметил добычи в клюве птицы. Он был в недоумении и в ужасе, так как все еще думал, что сестренке грозит опасность. Услышав ее возглас «спасены», он только сильней испугался.
— А змея? — прокричал он. — Где же змея?
Спрашивая, мальчик оглядывал Трейи с головы до ног, точно ожидая увидеть гада, обвившегося вокруг ее руки или ноги.
— Змея где? Разве ты не видел, Ян? Она была тут, у наших ног, а сейчас — гляди! Вон она где! Секретарь унес ее. Смотри, они дерутся! Добрая птица! Надеюсь, она накажет гадину, которая хотела украсть моих хорошеньких ткачиков! Так, милая птица, задай ей хорошенько! Смотри, Ян, как они схватились!
— Ага! Да-да! — воскликнул Ян, только теперь сообразив, в чем дело. — Да, верно, там змея и наш хохлач. Ничего, Трейи, ты не бойся. Мой секретарь не выдаст. Он покажет негоднице свои когти. Смотри, как запустил! Еще раз так хватит — и из гадины дух вон! Ага, опять — хлоп!
Обмениваясь такими замечаниями, дети стояли рядышком, наблюдая жестокую битву между птицей и змеей.
А птица была очень странная — такая, в самом деле, необыкновенная, что по всей земле у ней не сыщется родни. Внешним видом она напоминала журавля: те же длинные ноги и примерно та же величина, тот же рост. Однако форма головы и клюва сближала ее скорее с орлом или с коршуном. У нее были прекрасно развитые крылья, «шпоры» на ногах и очень длинный хвост, в котором два средних пера были длиннее остальных. Общая окраска была синевато-серая, горло и грудь — белые, а в крыльях перья отливали рыжиной. Но самым замечательным в этой птице был, пожалуй, ее хохол. Он состоял из множества длинных темных перьев, которые росли у нее на темени и ложились по шее, спадая почти до плеч. Это придавало птице причудливый вид, а воображаемое сходство с каким-нибудь писцом или секретарем стародавних времен, носивших за ухом длинное гусиное перо, в ту пору, когда еще не вошли в употребление стальные перья, послужило основанием к ее несообразному наименованию: «птица-секретарь». Другие называют ее «змееед», а натуралисты окрестили ее именем «гипогеран», то есть «журавлиный гриф». Иногда ее называют еще «герольд» — за важный, степенный шаг, каким выступает она по равнине.
Из всех этих названий «змееед» наиболее отвечает характеру нашей птицы. Правда, многие другие птицы тоже убивают и поедают змей, — например, южноамериканский руако и некоторые соколы и коршуны, — но секретарь один среди всех пернатых охотится исключительно на этих пресмыкающихся и ведет с ними постоянную борьбу. Впрочем, строго говоря, он питается не одними лишь змеями. Он ест ящериц, черепах и даже саранчу, но змея — его любимая пища, ради которой он нередко рискует жизнью в смертельной схватке с самыми крупными из этих опасных рептилий.
Змееед — африканская птица, и характерен он не для одной лишь Южной Африки. Его можно встретить также и в Гамбии. Змееед — чрезвычайно своеобразная птица, и натуралисты, не решаясь причислить его ни к орлам, соколам или грифам, ни к журавлям или семейству куриных, возвели его в самостоятельный подотряд, в котором он образует одинокое семейство, род и вид.
В Южной Африке он любит широкие и пустынные степи, где бродит на просторе в поисках поживы. Он чужд стадного обычая и живет одиноко или в паре, устраивая гнезда на деревьях, предпочтительнее на тех, что обладают густой и тенистой кроной, которая делает его жилище почти неприступным. Все сооружение достигает трех футов в диаметре и напоминает гнездо лесного орла. Оно обычно выложено прутьями и пухом; самка высиживает по два, по три яйца.
Змееед — превосходный бегун и проводит больше времени на земле, чем в воздухе. Он пуглив и осторожен, но тем не менее его легко приручить, и нередко можно видеть пернатого секретаря на дворе какой-нибудь капской фермы, где его держат, как домашнюю птицу, ради той пользы, которую он приносит, истребляя змей, ящериц и других пресмыкающихся.
Птица, так своевременно появившаяся между Яном и Трейи и, несомненно, спасшая одного из них или обоих от смертельного укуса кобры, являлась самым настоящим змееедом, который не так давно был приручен и поселился среди ветвей все той же гостеприимной нваны. Охотники нашли его в степи. Птица была ранена каким-то животным — быть может, очень большой змеей; они принесли ее домой, как диковинку. Со временем она совсем оправилась от ран, доброта и уход, которым ее окружили, пока она была калекой, не пропали даром. Когда ее крылья вполне окрепли, птица не воспользовалась этим, чтобы бросить своих покровителей, и по-прежнему держалась около их жилья. Днем она часто уходила в окрестные поля в поисках своей излюбленной пищи, но к ночи неизменно возвращалась и устраивалась на ветвях нваны. Она стала, конечно, любимицей Яна, и мальчик баловал ее; теперь она отплатила сторицей за всю его доброту — спасла его от смертоносного укуса кобры.
Дети, оправившись от испуга, стояли рядом, наблюдая необычайное зрелище — схватку между коброй и змееедом.
Птица схватила змею клювом за шею. Выполнить эту задачу было бы ей гораздо труднее, если бы дети не отвлекали на себя внимание кобры. Без этого змея была бы настороже.
Схватив с успехом кобру, птица поднялась почти по вертикали на высоту нескольких ярдов и затем, раскрыв клюв, дала гаду упасть на землю. Ее целью было оглушить противника. Правда, для этого ей следовало бы унести кобру значительно выше, но змея мешала полету, упорно стараясь обвиться вокруг крыльев змеееда.
Бросив наземь свою добычу, птица не осталась в воздухе. Нет, змееед камнем упал вслед за коброй и, едва та коснулась земли, впился когтями ей в шею. Но ни падение с высоты, ни этот последний прием не причинили змее заметного вреда. Она свернулась в кольцо и подняла высоко голову. Пасть ее была раскрыта во всю ширину, язык высунулся наружу, зубы устрашающе торчали, а глаза горели яростью. Она была, казалось, грозным противником, и с минуту секретарь так, видимо, и думал: он стоял на земле и с опаской поглядывал на гада.
Но вот, осмелев, птица стала — правда, очень осторожно — подбираться к кобре, готовясь возобновить нападение. Широко расправив и выставив вперед наподобие щита сильное свое крыло, она бочком подступала к змее, а потом, когда очутилась достаточно близко, вдруг круто повернулась, как на оси, на длинных своих ногах и резко ударила противника вторым крылом. Прием удался. Удар пришелся по голове и, очевидно, ошеломил кобру. Шея поникла, кольцо развернулось. Не дав змее оправиться, секретарь снова схватил ее клювом и унес в воздух.
На этот раз птица поднялась значительно выше, так как ничто теперь не затрудняло ее полета, и снова, как и в первый раз, выпустила змею, а затем ринулась вслед за нею.
Вторично упав на землю, кобра лежала, распростершись во всю длину, словно мертвая. Однако она была еще жива и приготовилась снова свернуться в кольцо. Но не успела она это сделать, как птица, повторяя прежний прием, вытянула в воздухе свою костлявую ногу и снова когтями «ущипнула» кобру за шею; затем, улучив мгновение, когда голова гада легла плашмя на землю, она нанесла ему острым клювом такой сильный удар, что расколола надвое змеиный череп. Жизнь в кобре угасла; отвратительное тело, распростертое во всю длину, лежало на траве, обмякшее и неподвижное.
Ян и Трейи с радостным криком захлопали в ладоши. Змееед, не удостаивая зрителей никакого внимания, подошел к мертвой кобре, склонился над ней и хладнокровно принялся за свой обед.
Глава 45
ТОТТИ И ПАВИАНЫ
Ван Блоом и его семья уже несколько месяцев обходились без хлеба. Впрочем, у них было чем его заменить, так как различные коренья и орехи вносили в их пищу известное разнообразие. Они выкапывали земляной, или, иначе, свиной, орех, который растет по всей Южной Африке, составляя основную пищу туземца. Из овощей у них было несколько сортов клубней, были плоды бушменской фиги. Далее был у них кафрский хлеб — мякоть, добываемая из стеблей некоторых видов замии; был кафрский каштан и, наконец, далеко не последнюю роль играли огромные корни «слоновой ноги». Имелись также в их распоряжении дикие лук и чеснок, а клубни красивого водяного растения апоногетона, богатые крахмалом, с успехом заменяли спаржу.
Все эти коренья, клубни и плоды можно было найти в окрестностях, и никто лучше Черныша не знал, как их разыскать и приготовить. Да и неудивительно: ведь Чернышу в его молодые годы нередко приходилось помногу недель, а то и месяцев питаться одними кореньями.
Но пусть эти дары природы имелись вокруг в любом количестве — они лишь слабо заменяли нашим охотникам хлеб. Ван Блоом и его дети сильно скучали по той еде, которая зовется обычно основой жизни, хотя в Южной Африке, где целые племена живут исключительно охотой, питаясь мясом убитых животных, едва ли можно применить к хлебу такое наименование.
Хлеб они должны были получить — и довольно скоро. Покидая свой старый крааль, они прихватили с собою небольшой мешок кукурузного зерна — последние остатки от прошлогоднего урожая. Всего-то было там с бушель, но и этого должно было хватить на посев; при тщательном уходе бушель зерна превращается во много бушелей.
Кукурузу посеяли вскоре после того, как семья обосновалась на новом месте. В нескольких ярдах от гостеприимной нваны был выбран клочок плодородной земли. За неимением плуга, землю вскопали лопатой и посадили семена, как в огороде: на правильных расстояниях.
Немало часов труда было отдано прополке и окучиванию. Каждое зернышко обкладывали горкой рыхлой земли, чтобы она питала корень и защищала его от знойного солнца. Время от времени всходы даже поливали.
Отчасти благодаря такому уходу, отчасти же благодаря плодородию целинной почвы кукуруза уродилась на славу. Стебли поднимались на все двенадцать футов высоты, и каждая метелка достигала в длину чуть ли не фута. Кукуруза уже почти созрела, и ван Блоом собирался через неделю, другую приступить к жатве.
И сам он и его домашние радостно предвкушали роскошный пир, на котором будут поданы хлеб, мамалыга, молочное пюре и разные другие блюда, приготовленные искусницей Тотти из индийского зерна.
Тут произошел случай, который едва ли не лишил их не только всех надежд, связанных с посевом кукурузы, но и самой незаменимой их домоправительницы. Вот как это случилось.
Тотти находилась на своем помосте под ветвями нваны, откуда можно было видеть и маленькое хлебное поле, и открывавшуюся за ним широкую равнину вплоть до подножия утесов. Готтентотка хлопотала «по дому», когда ее внимание привлек странный шум, донесшийся с поля. Тотти раздвинула ветви и посмотрела вниз. Удивительная картина представилась ее глазам, необычайное зрелище!
Со стороны утесов надвигался большой отряд очень странных на вид животных, числом до двухсот, а то и больше. Это были неуклюжие создания, ростом и складом напоминавшие каких-то уродливых собак, а цветом зеленовато-бурые. Только морды и уши были у них черные, и притом безволосые, в то время как все тело их было покрыто жесткой, грубой шерстью. Высоко задирая длинные хвосты, они размахивали ими самым эксцентрическим образом.
Тотти нисколько не испугалась, она знала, что это за животные. Это были, конечно, павианы. Стая принадлежала к виду, известному под названием «свиномордый павиан», или «чакма»; в Южной Африке он встречается почти во всех местностях, где только есть высокие скалы с пещерами и гротами, излюбленным жильем павиана.
Из всего обезьяньего племени павианы, или собакоголовые, наиболее безобразны и мордой и складом тела. Кто не испытывал отвращения, глядя на омерзительного мандрила, дрила, гамадрила или ту же чакму? А все они — павианы.
Павиан — представитель чисто африканской фауны, и нам он известен в шести видах: североафриканский обыкновенный павиан; бабуин южного и восточного побережья; гамадрил, или, иначе, тартарэн, встречающийся в Абиссинии; гвинейские дрил и мандрил; и, наконец, чакма, обитательница Капской земли.
Повадки этих животных так же омерзительны, как и внешность. Павиана можно приручить и сделать из него домашнее животное, но он оказывается довольно опасным другом, так как склонен при малейшем раздражении укусить кормящую его руку.
Мощная мускулатура и развитые челюсти с длинными собачьими зубами придают павиану удивительную силу, которой он при случае пользуется. Никакая собака не справится с ним, и даже гиена и леопард часто терпят поражение в схватке с павианом.
Однако павиан не принадлежит к плотоядным животным и, разорвав врага на части, никогда его не поедает. Пищу павиана составляют плоды и корнеплоды, которые он отлично умеет выкапывать из земли острыми когтями своих рук.
Паниан никогда не нападает на человека, если тот его не трогает, но, если его травят, он быстро сам переходит в нападение и превращается в опасного противника.
Южноафриканские колонисты рассказывают много странных историй о чакме. Она, говорят, похищает у путешественников пищу, а потом, отбежав на приличное расстояние, дразнит их, пожирая награбленное у них на глазах. Туземцы уверяют, что иногда павиан пользуется палкой при ходьбе, при выкапывании корней, а также для самозащиты. Говорят еще, что, когда молодому павиану удается отыскать лакомый корешок, другой, постарше и посильней, увидев это, нередко отбивает у него добычу, а случись молодому уже проглотить лакомство, забияка хватает его за шею, пригибает ему голову к земле и трясет нещадно до тех пор, пока тот не изрыгнет проглоченное. Много подобных рассказов ходит в Капской колонии, и они не совсем лишены основания, так как павиан, несомненно, в высокой степени одарен способностью мышления.
Тотти со своей вышки могла бы легко убедиться в этом, если бы она сама имела склонность к умозрительным обобщениям. Но Тотти не любила философствовать. Просто ее забавляли смешные ухватки обезьян, и она зазвала Трейи и Яна на дерево, чтобы и дети могли вместе с ней развлечься любопытным зрелищем. Старшие отправились все на охоту.
Ян пришел в восторг и тотчас взбежал по лестнице на площадку. Трейи последовала примеру брата, и все трое стали рядышком, наблюдая за странными движениями четвероруких тварей.
Они заметили, что толпа продвигается в определенном порядке: не шеренгой, но все же своим установленным строем. С правого и левого крыла шли разведчики, а в авангарде — вожаки. Вожаками шли павианы постарше и покрупнее остальных. Животные обменивались окриками и сигналами, и смена их интонаций убедила бы всякого, что между ними ведется настоящий разговор. Самки и полувзрослые самцы для большей безопасности шли в середине. Матери несли детенышей за спиной или же на плечах. По временам та или иная мать останавливалась покормить своего младенца и приглаживала ему волосы, пока он сосал, а потом галопом бежала вперед, наверстывая потерянное время. Порой можно было видеть, как иная бьет детеныша в наказание за какую-то провинность. Нередко две молодые самки затевали ссору из ревности или по другой причине, и тогда поднимался отчаянный галдеж, не смолкавший, пока кто-нибудь из вожаков громким, угрожающим лаем не приказывал им угомониться.
Так они продвигались по равнине, болтая, повизгивая и лая, как умеют только обезьяны.
Что им было нужно? Это выяснилось очень скоро. Трейи, Ян и Тотти увидели, к своему великому ужасу, что павианы пустились в поход не зря. Целью их похода была кукуруза.
Через несколько минут большая часть отряда уже вступила на поле и скрылась из глаз, утонув среди высоких стеблей и широких листьев кукурузы. Осталось на виду только несколько — и это были старые, рослые павианы; они встали на страже и непрерывно обменивались сигналами. Остальные уже обрывали драгоценные метелки.
Но странная картина представилась глазам при взгляде вдаль, за кукурузное поле. До самого подножия гор, выстроившись на равных промежутках друг от друга, тянулась шеренга павианов. Их планомерно оставляли на посту, по мере того как отряд, пересекая равнину, совершал свой путь к полю. С какой же целью?
Это тоже скоро разъяснилось. Через две минуты, не больше, едва только вся толпа утонула в зеленой гуще растений, над нивой замельтешили, перелетая в сторону шеренги, длинные початки в белесой обертке, словно кидаемые рукой человека. Павиан, стоявший во главе шеренги, мгновенно подхватывал их и перебрасывал второму, второй перебрасывал третьему, третий — четвертому, и так далее, пока сорванный со стебля початок за самый короткий срок не передавался таким путем прямо в «кладовую» павианов, далеко в горах.
Если бы эта дружная работа продлилась немного дольше, ван Блоому пришлось бы удовольствоваться в день сбора довольно скудным урожаем. Павианы считали, что кукуруза достаточно созрела, и быстро управились бы с жатвой, но тут их операциям был положен неожиданный конец.
Тотти и сама не знала, какой подвергалась опасности, когда выскочила прогнать несметную свору обезьян, вооруженная всего-навсего метлой. Девушка думала только об убытке, угрожавшем семье, и вот она опрометью сбежала по лестнице и бросилась прямо к кукурузному полю.
На краю поля ее встретили несколько часовых; они тараторили, корчили рожи, лаяли, визжали, скалили длинные собачьи зубы, но в ответ получали только удары метлой, которые щедро посыпались на их безобразные морды. На крик часовых сбежались другие. Через несколько минут несчастная готтентотка очутилась одна в кругу разъяренных обезьян, и только метла, управляемая ловкой рукой, мешала чакмам наброситься на девушку.
Но это легкое оружие недолго могло служить защитой, и Тотти неминуемо была бы растерзана в клочья, если бы в ту минуту не подоспели ей на выручку четыре всадника верхом на кваггах.
Это были возвращавшиеся домой охотники. Дружный залп из трех ружей тотчас разогнал обезьян и обратил их в бегство. Чакмы с ревом бросились к своим пещерам. После этого случая ван Блоом бдительно охранял свое поле, пока кукуруза не дозрела; наконец урожай был собран, снесен в дом и помещен в такое место, где до него не могли добраться ни птицы, ни гады, ни четвероногие, ни даже четверорукие воры.
Глава 46
КААМА И ДИКИЕ СОБАКИ
С тех пор как удалось объездить квагг, охота шла довольно успешно. Каждую неделю к коллекции прибавлялось по паре бивней, а то и по две и по три пары, и вскоре у подножия нваны выросла небольшая пирамида слоновой кости.
Ван Блоом, однако, был не совсем удовлетворен своим успехом. Он считал, что пирамида росла бы значительно быстрее, будь у него собаки.
Квагги честно служили охотникам, и верхом на них всадникам много раз удавалось догнать слона, но столько же раз их большая дичь уходила от них; и, надо сказать, упустить слона куда легче, чем думают, вероятно, большинство читателей.
Вот если б использовать в охоте собак, дело приняло бы совсем другой оборот! Правда, собаки не в силах повалить слона или причинить ему хотя бы малейший вред, но зато они могут следовать за ним повсюду и назойливым лаем принудить его остановиться.
Вторая ценная услуга, оказываемая собаками, заключается в том, что они отвлекают внимание слона от охотника. Четвероногий исполин, приведенный в ярость, становится, как мы уже видели, крайне опасен. В таких случаях он кидается на шумливых собак, принимая их за подлинных своих преследователей, и тут охотник получает возможность спокойно прицелиться, избежав непосредственной встречи со слоном.
Между тем за последнее время наши охотники не раз шли на смертельный риск. Их квагги не были так увертливы и послушны узде, как лошадь, и это усугубляло опасность. Не тот, так другой из них мог в недобрый час пасть жертвой взбешенного животного. Такие мысли не на шутку тревожили ван Блоома. Он с готовностью выменял бы несколько бивней на собак — по бивню за штуку, будь то хоть самые последние дворняги. Сказать по правде, порода роли не играла. Сошла бы любая собака, лишь бы она могла бежать за слоном по пятам и донимать его лаем.
Обдумывая свой замысел, ван Блоом сидел однажды на нване. Он расположился на сторожевой вышке, устроенной на самой вершине, откуда открывалась взору вся окрестность. Это было его любимое местечко, так сказать, его «курительная комната», куда он каждый вечер удалялся пососать на досуге свою пенковую трубку. Лицо его обращено было к степи, простиравшейся от границы кустарников в недоступную глазу даль.
Он спокойно следил за кольцами дыма, когда вдруг его внимание привлекли странные животные, пасшиеся поодаль в степи. Ему бросилась в глаза яркая окраска их шерсти.
На спине и на боках она была огненно-рыжая, цвета жженой сиены, а снизу белая; ноги же с наружной стороны были тронуты черным мазком, вокруг глаз были белые кольца такого правильного рисунка, точно их нанесла кисть художника. Рога были у них очень неправильной формы; узловатые, изогнутые, поднимались они над макушкой угловатой, вытянутой головы, какую, думается, не увидишь больше ни у одного животного. Телосложение их было далеко не изящно. Задняя часть туловища шла наклонно вниз, как у жирафа, но не так резко, а на сильно приподнятых плечах торчала длинная и сплющенная с боков голова. Каждое животное было почти в пять футов ростом, считая от переднего копыта до плеча, и не менее девяти футов в длину.
Они, конечно, принадлежали к антилопам — к тому виду, который известен среди капских колонистов под именем «костлявый бык», или «каама». Всего их было в стаде голов пятьдесят.
Когда ван Блоом их заметил, каамы мирно пощипывали траву в степи. Но секундой позже они беспокойно заметались взад и вперед, как будто всполошенные приближением врага.
И действительно, враг не замедлил объявиться. Еще через секунду стадо дружно снялось с места, и тут ван Блоом увидел, что за каамами гонится свора гончих! Я говорю «свора гончих», так как издали эти новые животные больше всего походили именно на гончих. Нет, не только походили — это действительно были гончие, дикие гончие.
Ван Блоом, конечно, понял, что это за звери. Он признал в них сразу тех гиеновых собак, которым ученые-зоологи на своей замысловатой латыни дали нелепое имя «гиена-охотница»; другие столь же нелепо зовут их «собака-охотница». Я объявляю эти имена нелепыми, во-первых, потому, что животное, которому они даны, столько же похоже на гиену, сколько, скажем, на ежа; а во-вторых, потому, что чуть ли не всякая собака вправе именоваться охотницей.
Почему, спрошу я теперь, господа ученые не желают принять то название, которое дали животному буры? Если можно придумать лучшее, пусть мне его сообщат. Право же, «дикая гончая» — превосходное название, подсказанное бурам их повседневными наблюдениями и в точности определяющее характер животного.
Назвать красавицу гончую гиеной — значит беззастенчиво оклеветать ее. Она не отличается ни уродливым телосложением гиены, ни жесткой шерстью, ни тусклой ее окраской, и ей не свойственны мерзкие повадки этого хищника. Назовите ее хоть волком, хоть дикой собакой, если вам угодно, но тогда она красивейший в мире волк, красивейшая дикая собака. А мы уж будем называть ее тем именем, которое дали ей буры, то есть «дикая гончая».
Это самое верное наименование, в какой бы разряд ни зачислили ее зоологи.
Она действительно несколько напоминает гончую ростом, сложением, гладкой, чистой шерстью, а также мастью: это смесь белого, черного и беловато-желтого цветов, разная у разных особей. Как у всех диких видов собак, длинные уши у нее, конечно, не висят, а стоят торчком.
Сходство довершают ее повадки. В своем естественном состоянии дикая гончая никогда не рыщет одна. Она смело травит дичь, преследуя ее большой, слаженной стаей, совсем как наши охотничьи гончие, и в облаве свора диких гончих проявляет столько же искусства, как если бы опытный егерь скакал за ними на коне, направляя их своим рожком и арапником.
Ван Блоому посчастливилось сейчас убедиться воочию в прирожденном искусстве диких гончих.
Гончие налетели на стадо каам совершенно неожиданно. Почти с первой же минуты одна из антилоп отбилась от стада и побежала в обратную сторону. Этого только и ждали хитрые собаки. Бросив стадо, они всей стаей погнались за одинокой каамой и бежали за ней неотступно. Надо сказать, что костлявый бык, хоть и сложен довольно несуразно, не уступает в беге даже самым быстрым антилопам, и дикая гончая может его догнать только после упорной травли. Точнее говоря, она вовсе не могла бы догнать его, если бы это зависело только от сравнительной быстроты их бега. Но дело не в одной лишь быстроте. Быку не хватает выдержки, а гончая очень хитра.
Каама, когда ее травят, бежит по прямой, но не придерживается подолгу раз принятого направления. Время от времени она подается то в одну сторону, то в другую, руководствуясь, может быть, поверхностью почвы или же другими обстоятельствами. Такое поведение составляет ее слабость. Гончая только того и ждет и тотчас обращает это в свою пользу ловким маневром, который словно свидетельствует о сознательном расчете с ее стороны.
Ван Блоом, наблюдая облаву, мог убедиться в редкой сообразительности диких гончих. Со своей вышки он прекрасно видел всю сцену, и от глаз его не ускользнуло ни одно движение ни преследуемого, ни преследователя.
Отделившись от стада, антилопа помчалась по прямой. Гончие понеслись за ней. Однако не покрыла она и полсотни ярдов, как ван Блоом заметил, что одна гончая норовит вырваться из стаи и вскоре действительно опередила остальных. Конечно, она могла быть самой быстрой в стае, однако охотник полагал, что дело тут в другом. Собака, думалось ему, просто «наддала» — как будто высланная вперед загонять дичь, пока прочие приберегают силу. Так и оказалось. Отчаянным усилием собаке удалось почти нагнать костлявого быка и тем заставить его свернуть немного в сторону. Стая, заметив это, в тот же миг изменила курс и понеслась наискосок, словно норовя обогнать антилопу, забежать вперед. Таким путем гончим удалось срезать крюк, проделанный и каамой и их товаркой.
Каама неслась теперь в новом направлении, и, как раньше, одна из гончих вырвалась из стаи и помчалась во всю прыть. Первый же загонщик, как только антилопа свернула с пути, умерил свой бег, присоединился к стае и теперь плелся в хвосте. Он исполнил свой долг, очередь была за другими.
Снова каама изменила направление. Стая опять перебежала наискосок, срезая угол; выступил новый загонщик и со свежими силами повел травлю дальше. Гончие на бегу заливались пронзительным лаем. Хитрые собаки несколько раз повторили этот маневр, пока не достигли желанного результата: антилопа окончательно выбилась из сил. Тогда, точно почувствовав, что животное в их полной власти и что стратегия больше не нужна, вся стая одновременно ринулась вперед, быстро настигая свою жертву. Каама сделала последнюю отчаянную попытку уйти, но, видя, что ноги ее не спасут, неожиданно повернулась и приготовилась встретить нападение. С губ ее падала пена, красные глаза искрились, словно горящие угли. Еще мгновение — и гончие тесным кольцом сомкнулись вокруг нее.
— Великолепная свора! — воскликнул ван Блоом. — Вот бы мне такую!.. Стой! — добавил он, пораженный новой мыслью. — У меня она будет! Почему бы и нет? Будет! В точности такая!
Вот каков был ход его мыслей. Дикую гончую можно приручить и натаскать для охоты, — а для охоты на слона даже легче, чем для всякой другой. Что это можно сделать, он знал по опыту других буров-охотников. Правда, собак надо взять еще щенятами, а отобрать детеныша у дикой гончей не так-то просто. Пока щенок не научится хорошенько бегать, мать не позволяет ему уходить далеко от логова, где она ощенилась, а логово это обычно представляет собой какую-нибудь щель в скале, неприступной для человека. Каким же образом раздобыть выводок щенят? А ван Блоом уже твердо решил раздобыть их. Где его найти, собачье логово?
Тут размышления ван Блоома были прерваны неожиданным обстоятельством. Поведение собак, совершенно необычное, дало наблюдателю новое доказательство их ума — и такое, что охотника точно молния озарила.
Когда каама остановилась, а гончие побежали к ней, ван Блоом, разумеется, ожидал, что сейчас они кинутся на свою жертву и повалят ее наземь. Он знал, что так они поступают обычно. Каково же было его удивление, когда он увидел, что вся стая отошла в сторону, как будто решив оставить антилопу в покое. Некоторые даже легли отдохнуть; другие стояли, разинув пасть и высунув язык, но отнюдь не показывали намерения броситься на затравленную дичь.
Ван Блоом мог отлично наблюдать все происходившее, так как антилопа стояла ближе к нему — то есть между нваной и грядою скал, а гончие столпились поодаль на равнине. Другим удивившим его обстоятельством было то, что собаки, нагнав и окружив кааму, затем нарочно отступили назад к теперешней своей позиции.
Что все это значило? Уж не боялись ли они ее уродливых рогов? Или они собирались с силами перед кровавой расправой? Охотник не сводил глаз с любопытной группы.
Антилопа отдышалась немного и, видя, что стая далеко, снова пустилась бежать. Теперь она взяла вбок, направляясь, по-видимому, к лежавшему в той стороне холму, на склонах которого она, должно быть, рассчитывала обогнать собак. Но только она снялась с места, как те понеслись за ней. Пробежав с четверть мили, они снова заставили ее остановиться. И опять стая отступила на изрядное расстояние, а каама оказалась одна посреди открытого поля. Она снова попыталась спастись бегством и помчалась из последних сил, но гончие по-прежнему погнались за ней по пятам.
На этот раз антилопа повела преследователей в новом направлении, облюбовав издали один утес, и, так как гон прошел совсем близко от нваны, все обитатели воздушного жилища могли прекрасно наблюдать за происходящим.
Каама бежала, казалось, быстрей, чем раньше, или, во всяком случае, собаки теперь не нагоняли ее; ван Блоом, а с ним и его сыновья уже надеялись, что несчастному животному удастся уйти от неутомимых преследователей.
Охотники следили за травлей, пока могли различить вдалеке яркое тело каамы, желтым пятнышком мелькавшее на фоне скал; собак же и вовсе не было видно. Потом и желтое пятнышко внезапно исчезло — точно погасла вдалеке свеча, и больше они его не видели. Антилопу, несомненно, повалили.
Странное подозрение зародилось тогда у ван Блоома, и, приказав Гансу и Гендрику оседлать квагг, он поскакал с мальчиками к тому месту, где в последний раз промелькнула каама.
Они подъезжали осторожно, и под прикрытием кустов им удалось подобраться незамеченными на расстояние двухсот ярдов. Поразительное зрелище вознаградило их за труды. Ярдах в десяти от утеса лежало тело каамы, в том месте, где ее повалили собаки. Оно было уже наполовину съедено, но не собаками, затравившими антилопу, а их щенятами всех возрастов. Их толпилось сейчас с полсотни вокруг трупа, они рвали мясо с костей и огрызались друг на друга. Взрослые собаки, принимавшие участие в гоне, лежали тут же на траве, еще запыхавшиеся от быстрого бега, но большинство попрятались, конечно, в многочисленных пещерах и расселинах, черневших у подножия скал.
Итак, странный факт был налицо, и сомневаться в нем не приходилось: дикие гончие планомерной травлей загнали кааму к своим логовам, чтобы накормить щенят, и не стали убивать ее среди поля, чтобы не пришлось тащить потом добычу издалека!
В самом деле, эти звери не в силах пронести громоздкую ношу на сколько-нибудь значительное расстояние, и вот поразительный инстинкт побуждает их пригонять антилопу прямо туда, где требуется ее мясо.
Кости и рога больших антилоп различных пород, сплошь усеявшие землю вокруг пещер, свидетельствовали о том, что дикие гончие поступали так уже не в первый раз.
Ван Блоом высмотрел щенят помоложе и вместе с сыновьями бросился было к ним. Но безуспешно! Хитрые, как их отцы и матери, малыши, едва завидев незваных гостей, оставили вкусный обед и разбежались по своим пещерам. Однако они были не настолько хитры, чтобы избегнуть ловушек, которые охотники расставляли для них изо дня в день. Не прошло и недели, как дюжина щенят была благополучно водворена в конуру, нарочно построенную для них под сенью исполинской нваны.
* * * *
Щенята подросли, и через пять-шесть месяцев наши герои стали брать некоторых из них с собою на охоту и приучили их травить слона. Прирученные дикие собаки исполняли эту задачу с отвагой и искусством, какого только можно ожидать от самых чистокровных гончих.
Глава 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несколько лет ван Блоом вел жизнь охотника на слонов. Несколько лет исполинская нвана служила ему домом, где он жил, не зная иного общества, кроме своих детей и слуг. И все же эти годы не были для бывшего повстанца самой мрачной порой его жизни, так как все это время и он и его семья наслаждались ценнейшим из благ — добрым здоровьем.
Он не дал детям вырасти без образования. Он не позволил им превратиться в дикарей. Он многому учил их по книге природы — многим вещам, какие можно усвоить в пустынных степях не хуже, чем в университете. Он заронил в их души добрые семена, воспитал их в благородных понятиях о чести и нравственности, без чего самое высокое образование не стоит и гроша. Он привил им любовь к труду и научил полагаться во всем на самих себя, познакомил их со многими достижениями современной культуры, чтобы они, вернувшись в цивилизованное общество, оказались на уровне его требований. В общем, годы изгнания, проведенные в гостеприимной пустыне, не оказались в его жизни пробелом. Он вспоминал о них с удовлетворением и благодарностью.
Человек, однако, создан для общества. Человеческое сердце, если оно не извращено, тянется к другому человеческому сердцу; и ум, в особенности развитой, отшлифованный образованием, ищет обмена мыслями, стремится к общественности, а вырванный из своей среды всегда тоскует по ней.
Так было и с ван Блоомом. Его влекло вновь вернуться в круг образованных людей. Тянуло вновь навестить те края, где долгие годы жил он так мирно и счастливо; влекло поселиться вновь среди былых своих друзей и знакомых, в живописных окрестностях Грааф-Рейнета. Да и в самом деле, бесцельно было бы теперь оставаться в диком воздушном жилище среди нелюдимой степи. Правда, он сильно пристрастился к вольной охотничьей жизни, но в дальнейшем она не обещала выгод. Слоны ушли из окрестностей лагеря, и уже не сыскать было ни одного на двадцать миль вокруг; они близко познакомились с опасным характером огнестрельного оружия и отлично знали теперь, что несет им гулкий раскат выстрела из громобоя. Они поняли, что из всех врагов самый грозный — человек; и они так страшились его соседства, что охотники нередко неделями не встречали ни одного слона.
Но ван Блоома это уже не тревожило. Иные заботы занимали его, и он нисколько не опечалился бы, если бы узнал, что не выследит больше ни одного четвероногого великана.
Вернуться в Грааф-Рейнет и поселиться там — вот что стало главным его желанием.
Наступило наконец время, когда он получил возможность осуществить свою мечту, и, казалось, ничто теперь не стояло ему поперек пути.
Судебный приговор в отношении его был давно отменен. Правительство объявило полную амнистию, и ван Блоом среди прочих был восстановлен в правах.
Правда, конфискованного имущества ему не возвратили; но это уже не имело для бывшего повстанца особого значения. Он создал новую основу своего благосостояния, как о том свидетельствовала большая пирамида слоновой кости, высившаяся под сенью исполинской нваны.
Оставалось только довезти эту слоновую кость до рынка — и она превратится в ферму, пашню, скот.
Изобретательная мысль ван Блоома нашла способ доставить ее на рынок.
Охотники вырыли еще одну яму-западню у горного прохода, и в нее попалось много квагг; затем опять пошли сцены укрощения.
Нелегко это далось — сломить строптивый нрав диких скакунов, приучить их к хомуту и вожжам и, наконец, впрячь в повозку.
Все же после долгих усилий квагг объездили, пользуясь для обучения поставленным на старые колеса примитивным подобием телеги. И вот наконец кузов фургона спустили с дерева, и снова свел он дружбу со старыми своими товарищами — колесами; а парусиновый верх взял все сооружение под свою защитную сень; и погрузили в фургон желто-белые полумесяцы слоновой кости; и впрягли квагг; и Черныш взобрался на козлы, защелкал снова длинным бамбуковым кнутом; и колеса, обильно смазанные слоновьим жиром, снова весело завертелись на осях!
Как удивились добрые жители Грааф-Рейнета, когда в одно прекрасное утро крытый фургон, запряженный двенадцатью кваггами, а за ним четыре всадника верхом на таких же необычайных конях показались на главной площади их городка! Как изумились они, увидав, что фургон битком набит слоновой костью — весь, за исключением одного уголка, где сидит прелестная девочка с румянцем во всю щеку и мягкими льняными волосами! И как они искренне обрадовались, когда узнали, что владелец этой слоновой кости и отец прелестной девочки не кто иной, как старый их друг и уважаемый согражданин, один из героев восстания — бывший фельдкорнет ван Блоом.
Но не только теплый прием ожидал охотника на людной площади Грааф-Рейнета — он нашел здесь готовый рынок для своего товара.
В тот год слоновая кость продавалась по необычайно высокой цене: в европейских странах вошел в моду и в обиход какой-то предмет — не припомню, какой, — главная часть которого выделывалась из чистой слоновой кости, что и обусловило повышенный спрос на нее. Для вернувшегося охотника это явилось счастливым обстоятельством, позволившим ему сбыть товар за наличные деньги и по хорошей цене: слоновая кость дала ему сумму, почти вдвое превышавшую его расчеты.
Ван Блоом, конечно, не мог захватить с собою сразу все свое богатство, так как бивней было столько, что никакой фургон не забрал бы их в один прием. Половину пришлось оставить, упрятав поблизости от нваны, и предстояло еще съездить туда за второй партией.
Когда подошло для этого время, ван Блоом отправился в путь и, благополучно доставив в Грааф-Рейнет свой товар, сдал его оптовикам, закупившим у него вперед всю партию. Теперь у него было целое состояние, и притом наличными деньгами. Ван Блоом снова стал богатым человеком.
На этом мы закончим его историю, добавив только, что успешная охота дала ему возможность выкупить старое свое имение и поставить в нем образцовое хозяйство, заведя лучшие породы лошадей, коров и овец; что ферма его процветала и он пользовался в обществе большим почетом; что и правительство вернуло ему свое доверие и, восстановив его сперва на прежней должности фельдкорнета, выдвинуло его вскоре на пост ланддроста, то есть главного должностного лица по округу.
Ганс вернулся к прерванным занятиям в колледже, а запальчивый Гендрик получил доступ к профессии, к которой питал наибольшую склонность, и был записан корнетом в полк капских конных стрелков. Маленького Яна отправили в школу учиться грамматике и географии, между тем как прелестная Трейи осталась при отце — украшать своим присутствием его почтенный дом и присматривать за хозяйством.
Тотти по-прежнему царствовала на кухне, а Черныш занял, конечно, в доме важное положение и еще долгие годы пощелкивал своим длинным кнутом, погоняя длиннорогих волов богатого ланддроста.
Но, пожалуй, довольно на этот год — довольно с нас пока и этих приключений. Будем надеяться, юные мои читатели, что, прежде чем мы с вами еще раз обернемся вокруг солнца, мы совершим новую поездку в страну буров и встретимся опять с достойным ван Блоомом, с его бушменом и с его «лесными ребятами».
Юные охотники, или Повесть о приключениях в Южной Африке (роман)
Юные охотники — дети бура Гендрика ван Блоома — продолжают путешествие по Южной Африке. Здесь они встречаются с различными дикими животными. То со львом, то с носорогом…
Глава 1
ЛАГЕРЬ ЮНЫХ ОХОТНИКОВ
Близ слияния двух великих рек Южной Африки — Оранжевой и Вааль — виднеется лагерь юных охотников. Он стоит на южном берегу реки Оранжевой, в роще вавилонских ив, ветви которых, покрытые серебристыми листьями, ласково склоняются над водой и окаймляют оба берега величественной реки на всем ее доступном глазу протяжении.
Редкой красоты дерево эта вавилонская ива. Даже пальмы — принцы лесов — едва ли превосходят ее изяществом очертаний. В наших краях ее вид навевает печальные мысли: мы привыкли видеть в ней эмблему горя. У нас она называется плакучей ивой, и ее нежная листва серебряным саваном украшает наши могилы. Совсем иные чувства вызывает это прекрасное дерево на безводных плоскогорьях Южной Африки. В этой стране ручьи и реки — большая редкость, и плакучая ива, верный знак присутствия воды, здесь символ радости, а не эмблема печали.
И действительно, в лагере, расположившемся под ее тенью на отмели величавой Оранжевой реки, царит веселье: непрерывные взрывы звонкого и громкого смеха оглашают воздух и вызывают эхо на противоположном берегу.
Кто же смеется там так громко и весело? Юные охотники.
А кто они такие, эти юные охотники?
Давайте пойдем к лагерю и поглядим на них поближе. Сейчас ночь, но яркие вспышки костра позволят нам рассмотреть всех, кто сидит вокруг него. При его свете мы и набросаем их портреты.
Они тут в «полном составе» — все шестеро, и ни одному из них нет еще и двадцати лет. Все это мальчики в возрасте между десятью и двадцатью годами, хотя двое или трое из них, а может быть, и еще некоторые, воображают себя взрослыми мужчинами.
В троих из этой компании вы с первого взгляда узнаете старых знакомых. Это не кто иные, как Ганс, Гендрик и Ян, наши бывшие «лесные ребята».
С той поры, как мы видели их в последний раз, прошло несколько лет, и они порядком выросли, но ни один еще не достиг полной возмужалости. Хоть они уже больше и не «лесные ребята», но все же мальчики. Яна, которого обычно называли «маленьким Яном», называют по-прежнему — и не без причины. Если б он вытянулся во весь рост и стал бы на самые кончики пальцев, то и тогда его затылок едва-едва пришелся бы вровень с верхушкой четырехфутового шеста.
Ганс сделался выше, но, пожалуй, стал тоньше и бледнее. Два года он провел в колледже, где усердно корпел над книгами, и сильно отличился, получив по всем предметам первую награду. С Гендриком произошла заметная перемена. Он перерос своего старшего брата и ввысь и вширь и выглядит почти совсем взрослым. Ему около восемнадцати лет, он прям, как тростник, вид у него решительный и походка, как у военного. Оно и неудивительно: ведь Гендрик за это время больше года прослужил корнетом в полку капских конных стрелков и теперь еще состоит в этом звании, в чем нетрудно убедиться, взглянув на его шапку с золотым шитьем на околыше. Вот все, что можно сказать про наших старых знакомых, «лесных ребят».
Но кто же остальные трое, сидящие вместе с ними у костра? Кто их товарищи? А они, несомненно, не только их товарищи, но и друзья. Кто они? Скажем в двух словах: это ван Вейки, трое сыновей Дидрика ван Вейка.
А кто такой Дидрик ван Вейк? Это тоже нужно объяснить. Дидрик — очень богатый бур-скотовод; каждый вечер в его обширные краали работники загоняют более трех тысяч лошадей и крупного рогатого скота, а овцам и козам его и числа нет. Дидрик ван Вейк справедливо считается самым богатым буром-скотоводом во всем Грааф-Рейнете.
Большое поместье, или ферма, Дидрика ван Вейка граничит с фермой нашего старого знакомого, Гендрика ван Блоома; и вышло так, что Гендрик и Дидрик стали закадычными друзьями и неразлучными приятелями. Встречаются они раза по два на дню. Каждый вечер Гендрик отправляется верхом в крааль Дидрика или Дидрик — в крааль Гендрика ради удовольствия выкурить вместе по громадной пенковой трубке или же выпить по стаканчику брандвейна, настоянного на косточках из собственных персиков. Они и правда настоящие старые товарищи, ибо оба в молодости понюхали пороху и, как все старые солдаты, любят вспоминать разные случаи из своей военной жизни и заново переживать сражения, в которых когда-то участвовали.
Неудивительно поэтому, что их дети тоже близко сошлись друг с другом. Впрочем, между двумя семействами есть еще и узы родства: их матери были двоюродные сестры, так что их дети — так называемые троюродные, а это весьма многообещающий вид свойства, и никому не покажется странным, если в один прекрасный день связь между семействами ван Блоома и его друга ван Вейка станет еще более тесной и нежной. Дело в том, что у ван Блоома (как известно всему свету) есть дочка — прекрасная светловолосая, румяная Трейи; а ван Вейк — отец прехорошенькой брюнетки Вильгельмины — тоже единственной дочери. По игре случая, в каждом семействе оказалось по трое сыновей; но хотя мальчики и девочки слишком молоды, чтобы думать о браке, однако ходят слухи, будто семейства ван Блоома и ван Вейков в очень недалеком будущем породнятся между собой путем двойного брака и что оба приятеля, Гендрик и Дидрик, будто бы против этого отнюдь не возражают.
Я сказал, что в каждом семействе по три мальчика. Вы уже знаете ван Блоомов — Ганса, Гендрика и Яна. Теперь позвольте познакомить вас с ван Вейками. Их зовут Виллем, Аренд и Клаас.
Виллем — старший, и, хотя ему еще нет и восемнадцати лет, по виду он уже вполне сложившийся мужчина. И в самом деле, Виллем юноша весьма крупный, настолько крупный, что ему даже дали прозвище «Толстый Виллем». Его сила соответствует этим размерам — из всех молодых охотников он самый сильный. О своей внешности он не слишком-то заботится. Его одежда, состоящая из просторной домотканой куртки, клетчатой рубахи и необычайно широких кожаных штанов, свободно висит на нем и делает его еще толще, чем он есть. Даже широкополая войлочная шляпа и та сидит на голове, как гриб, а его болотные сапоги несоразмерно велики для ног. Держится Виллем так же непринужденно, как свободна его одежда, и, хотя он силен, как лев, и знает это, он не обидит и мухи, а его мягкий и отзывчивый нрав сделал его любимцем всех окружающих. Толстый Виллем — славный охотник; его ружье, настоящий, самого крупного калибра голландский громобой, всегда при нем; кроме того, он носит с собой громаднейший пороховой рог и сумку, битком набитую свинцовыми пулями. Юноша обыкновенной силы зашатался бы под таким грузом, а Виллему хоть бы что.
Как вы, вероятно, помните, Гендрик ван Блоом тоже славный охотник, и — шепну вам на ушко — между этими двумя Нимвродами[226] установилось нечто вроде соревнования; не скажу — соперничества, потому что для этого они слишком добрые друзья. Любимое оружие Гендрика — винтовка, тогда как громобой Толстого Виллема — гладкоствольное ружье; и оба приятеля, сидя у костра, часто вступают в горячие споры по поводу достоинств этих двух видов оружия. Однако споры их никогда не переходят границ приличия, потому что, как ни распущен и неряшлив Толстый Виллем по своему внешнему виду, по характеру он настоящий джентльмен.
Такой же джентльмен, но куда более подтянутый и изящный, второй из ван Вейков — Аренд. Его замечательная наружность и мужественная красота под стать самому Гендрику ван Блоому, хотя ни в чертах, ни в цвете лица между ними нет сходства. Гендрик — светлый блондин, а Аренд — очень смуглый, черноглазый и черноволосый. Да и все ван Вейки смуглые, так как принадлежат к той части голландских поселенцев, которых называют иногда «черными голландцами». Но темный оттенок кожи очень идет к тонким чертам Аренда, и во всем Грааф-Рейнете не сыскать юноши красивее его.
Ходит слух, будто именно таково мнение красавицы Гертруды ван Блоом; но, вероятно, это только пустые сплетни, потому что прекрасной Трейи всего только тринадцать лет и, следовательно, ей еще рано иметь свое суждение по этому предмету. Впрочем, в Африке девушки развиваются рано, и кто его знает — может быть, тут что-нибудь да есть.
Одежда Аренда отличается хорошим вкусом и ладно сидит на нем. Это куртка из выделанных шкур антилоп-скакунов. Она не только изящно скроена и сшита, но и нарядно отделана узорами из кусочков красивого леопардового меха, широкие полосы которого тянутся вдоль наружного шва штанов, от поясницы до самой щиколотки, что придает всему его наряду богатый и эффектный вид. Головной убор Аренда такой же, как и у Гендрика ван Блоома: военная шапка, на околыше которой вышит золотом сигнальный горн и какие-то буквы; объясняется это тем, что Аренд, так же как и его троюродный брат, служит корнетом в полку капских конных стрелков и, несмотря на свою молодость, солдат он, конечно, лихой.
Нарисуем теперь двумя штрихами портрет Клааса. Клаас того же возраста, что и Ян, и одного с ним роста, но в их фигурах есть существенная разница. Ян, как вы знаете, худой и жилистый мальчуган, тогда как Клаас, напротив, широкоплечий, толстый и коренастый. Он так толст, что два с половиной Яна вряд ли составят одного Клааса.
На обоих надеты суконные куртки и штаны и небольшие широкополые шляпы; оба ходят в одну школу; во всем прочем они совсем не похожи друг на друга, но зато по части птицеловства и тому подобных подвигов оба они большие мастера. У каждого из них только по маленькому охотничьему ружьецу, и поэтому они не надеются убить антилопу или какое-либо другое большое животное; но, как ни малы их ружья, а мне жалко куропаток, цесарок и даже быстроногих дроф, если они, зазевавшись, подпустят к себе этих мальчиков на расстояние выстрела.
Я уже вскользь упомянул, что между охотниками Толстым Виллемом и Гендриком замечается своего рода охотничья ревность.
Такая же ревность, чуть приправленная завистью, издавна существует между обоими птицеловами и временами приводит их к взаимному охлаждению, которое длится, однако, совсем недолго.
Ганс и Аренд не завидуют друг другу и вообще никому на свете.
Ганс для этого чересчур философ; к тому же в знакомстве с естественной историей ему нет равных. Никто из его товарищей и не помышляет о такой учености; ему всегда принадлежит последнее слово во всяком научном споре, возникающем между друзьями.
Что касается Аренда, то он как будто даже не замечает своих достоинств. Красивый, храбрый, великодушный, он вместе с тем простой и скромный малый — юноша, которого нельзя не полюбить.
Вот теперь вы знаете, кто такие молодые охотники.
Глава 2
БУШМЕН ЧЕРНЫШ И КАФР КОНГО
Я уже говорил, что молодые охотники раскинули свой лагерь на южном берегу великой Оранжевой реки. Что же они там делают? Много долгих дней пути отделяет их от границ Капской колонии и еще более — от родного дома в Грааф-Рейнете. Поблизости нет никакого жилья. Ни один белый никогда не заходил так далеко, если не считать купцов; эти люди ради выгод меновой торговли проникают со своими караванами чуть ли не в самые центральные области Африканского континента. Изредка какой-нибудь бур-скотовод, кочуя со своими стадами в поисках пастбищ, случается, забредет в эту отдаленную страну; но тем не менее ее никак нельзя назвать населенной.
Что же делают в этой пустыне молодые ван Блоомы и ван Вейки? Наверно, они попросту отправились в охотничью экспедицию.
Эта экспедиция была давно задумана и долго обсуждалась. Со времени знаменитой охоты на слонов «лесные ребята» ни разу не гонялись за зверем. Гендрик был в полку, а Ганс и Ян занимались своими уроками. Аренд ван Вейк был вместе с Гендриком, а Клаас учился, как и Ян. Один только Толстый Виллем время от времени охотился на антилоп-скакунов и других животных, встречающихся в окрестностях ферм.
Теперь же они отправились в большую экспедицию, далеко за пределы населенной части колонии. Родители не противились их желанию. Мальчики получили полное их согласие, а также все необходимое снаряжение. У каждого была хорошая лошадь, и каждые три брата имели свой большой фургон для лагерных принадлежностей; эти же фургоны служили им палатками для ночлега. При каждом фургоне был свой возница и полная упряжка из десяти длиннорогих буйволов; сейчас буйволы и небольшая свора сурового вида гончих находились тут же, в лагере; буйволы стояли привязанные к перекладинам фургонов, а собаки разлеглись вокруг костра. Лошади тоже были привязаны: одни — к колесам, другие — к растущим поблизости деревьям.
Кроме ван Вейков и ван Блоомов, в лагере находились еще два человека, вполне заслуживающих того, чтобы сказать о них несколько слов; они — важные участники экспедиции, без них фургоны превратились бы только в обузу. Это возницы фургонов, и оба они очень гордятся своей должностью.
В одном из возниц вы узнаете своего старого знакомого. Большая голова и выдающиеся скулы, между которыми помещаются плоские, широкие ноздри, маленькие раскосые глазки, короткие курчавые волосы, редкими пучками торчащие на громадном черепе, желтая кожа, приземистая, плотная фигура едва четырех футов ростом, скромно одетая в красную фланелевую рубаху и темные кожаные штаны, — все эти отличительные черты безошибочно напомнят вам старого приятеля: бушмена Черныша.
Это и правда Черныш; и, хотя не один год пролетел над обнаженной головой бушмена, с тех пор как мы видели его последний раз, никаких заметных перемен в Черныше обнаружить нельзя. Редкие кустики коричнево-черных, похожих на шерсть волос по-прежнему украшают темя и затылок Черныша, и они ничуть не стали реже; та же добродушная усмешка расплывается на его желтом лице; он все тот же верный слуга, тот же искусный возница, тот же мастер на все руки, каким был всегда. И, разумеется, Черныш правит фургоном ван Блоомов. Возница фургона ван Вейков так же мало похож на Черныша, как, скажем, василек на медведя.
Во-первых, он на целую треть выше бушмена — ростом он более шести футов. На ногах у него не кожаные чулки — чулок он никогда не носит, — а сандалии: эта обувь ему более привычна.
Цвет лица у него темнее, чем у готтентотов, но не черный, а скорее бронзовый; и волосы на его голове хотя тоже немного смахивают на шерсть, но длиннее, чем у Черныша, и не так курчавы, чтобы можно было подумать, будто они собираются пустить корешки с обоих концов. Нос у Черныша приплюснутый, а у Конго — почти орлиный. Темные пронзительные глаза, ряд белых ровных зубов, губы умеренной толщины и прямой стан придают ему величественный вид в противоположность комической наружности бушмена, короткое и нескладное туловище которого и ухмыляющаяся физиономия вызывают невольный смех.
Одежда этого рослого дикаря не лишена изящества. Она представляет собой нечто вроде короткой туники, стянутой у пояса и спускающейся до середины бедер. Туника эта совсем особенная. Это как бы широкая драпировка или бахрома из длинных белых полос, но не сотканных вместе и не переплетенных между собой, а висящих свободно и густо. Это настоящая одежда дикаря, и состоит она всего-навсего из множества хвостов — белых хвостов антилопы гну, сшитых вместе у пояса и вольно спадающих во всю длину вдоль бедер. Что-то вроде накидки из таких же хвостов на плечах, медные кольца на щиколотках и тугие браслеты на запястьях, пучок страусовых перьев, развевающийся на голове, и нитка бус вокруг шеи дополняют наряд кафра Конго — ибо именно к этому племени романтических дикарей и принадлежит возница ван Вейков. «Что?
— воскликнете вы. — Кафр — возница?» Вам даже трудно вообразить, что кафр — этот воин, как вы его себе представляете, — может исполнять такую лакейскую должность. Однако это так. Множество кафров нанимаются возницами в Капской колонии — можно сказать, тысячи; они там не отказываются от еще более унизительных обязанностей, чем править несколькими парами буйволов, что, кстати, в Южной Африке вовсе не считается чем-то недостойным; напротив, там сплошь и рядом сыновья самых богатых буров, сидя на козлах фургона, размахивают длинным бамбуковым бичом с ловкостью заправских погонщиков. Так что ничего нет удивительного в том, что кафр Конго служит возницей у ван Вейков. Он покинул родину, убежав от деспотического владычества кровожадного чудовища Чаки. Задев чем-то самолюбие этого тирана, Конго должен был спасать жизнь бегством; он направился к югу и нашел убежище и защиту у колонистов. Здесь он сумел стать полезным членом цивилизованного общества, хотя врожденное уважение к старым обычаям заставляло его по-прежнему носить одежду его страны — страны кафров-зулусов. В этом не было ничего предосудительного, и никому не пришло бы в голову упрекнуть его за это. И теперь, когда Конго стоял, набросив на плечи, как римскую тогу, свой широкий каросс из леопардовых шкур, в серебристой тунике, грациозно спускавшейся до колен, украшенный металлическими кольцами, которые так и сверкали при свете костра, он представлял собой благородную фигуру, дикую, но живописную.
Кто мог бы укорить Конго за то, что ему хотелось показать свою стройную фигуру во всей красе национального наряда? Никто. Никто не завидовал красивому дикарю.
Впрочем, нет. Был один человек, не слишком-то расположенный к кафру. Был здесь кто-то, не любивший Конго, — соперник, который не мог равнодушно слышать расточаемые кафру похвалы. И этот соперник был Черныш. Мы уже упоминали о соперничестве между охотниками Гендриком и Виллемом и между Клаасом и Яном. И то и другое не могло идти в сравнение с той постоянной борьбой за первенство, которая завязалась между двумя погонщиками — бушменом Чернышем и кафром Конго.
Черныш и Конго были единственными слугами, взятыми в экспедицию. Поваров и другой прислуги у молодых охотников не было. Состоятельный чиновник ван Блоом (ибо не надо забывать, что теперь он был главным должностным лицом своего округа) и богатый бур ван Вейк, конечно, легко могли предоставить целый штат служащих для каждой троицы охотников. Но, кроме двух возниц, у юношей никакой прислуги не было. И не по причине экономии. Вовсе нет. Просто оба старых солдата, Гендрик ван Блоом и Дидрик ван Вейк, были не из тех, кто склонен баловать своих сыновей излишней роскошью.
«Собрались на охоту, так пусть привыкают к лишениям», — сказали они и отправили в путь своих мальчиков, снабдив их только двумя фургонами, где хранилось все снаряжение и куда можно было складывать добычу.
Да молодые охотники и не нуждались в услугах: каждый умел сделать для себя все необходимое. Даже младшие знали, как снять шкуру и как зажарить на огне грудинку антилопы; другой же стряпни во время экспедиции и не требуется. Здоровому желудку охотника не нужны никакие соусы — их заменяет аппетит; а аппетит лучше всякого соуса, даже приготовленного каким-нибудь искусным поваром со всеми ухищрениями кулинарного искусства.
Молодые люди странствовали уже несколько недель, пока достигли этой стоянки, и хотя они много охотились, но крупной добычи, вроде жирафов, буйволов и слонов, им не попадалось, да и ни одного сколько-нибудь замечательного приключения у них не было. Дня два назад между ними возник большой спор о том, пересекать ли им Оранжевую реку и идти дальше на север в поисках камелопарда (то есть жирафа) и слонов или же по-прежнему следовать вдоль южного берега реки, охотясь за скакунами, каамами и другими видами антилоп.
В конце концов порешили продолжать двигаться на север, пока позволяет время, ограниченное школьными каникулами и отпусками с военной службы.
Курс на север особенно привлекал Виллема, и Ганс его в этом поддерживал. Виллему очень хотелось добраться наконец до слонов, буйволов и жирафов. В этом роде охоты он был еще новичок: до сих пор ему ни разу не приходилось как следует поохотиться за такими гигантами. В то же время Ганс давно мечтал об экспедиции, в которой мог бы познакомиться с новыми, достойными изучения формами растительной жизни.
Как это ни удивительно, но Аренд подал голос за возвращение домой; и еще удивительнее, что охотник Гендрик присоединился к его мнению.
Но так как даже самые неразрешимые вещи поддаются разгадке, если рассматривать их тщательно и терпеливо, то не так уж трудно разгадать причину странного поведения обоих корнетов. Ганс коварно намекнул, что, по всей вероятности, некая брюнетка, по имени Вильгельмина, играет какую-то роль в решении Гендрика; а неотесанный Виллем, всегда говоривший в открытую, так прямо и заявил, что Аренда тянет домой из-за Трейи. В результате всех этих колкостей и намеков ни Гендрик, ни Аренд уже не противились путешествию на север, к слонам, и, покраснев до ушей, с радостью дали свое согласие, лишь бы только скорее прекратился этот неприятный разговор.
Клич «На север!» стал девизом юношей. На север, в страну длинношеих жирафов и могучих слонов!
Молодые охотники остановились на южном берегу Оранжевой реки, против всем знакомого брода, или переправы. Но река внезапно разлилась, и вот они
Глава 3
КАК КОНГО ПЕРЕШЕЛ БРОД
На следующее утро молодые охотники встали чуть свет, и первое, на что обратились их взоры, была река. К их радости, вода спала на несколько футов, в чем они легко убедились по следам, оставленным ею на деревьях.
Реки Южной Африки, как и большинства тропических и субтропических стран — особенно там, где местность гористая, — поднимаются и спадают гораздо стремительнее, чем в странах умеренного климата. Этот внезапный подъем объясняется громадным количеством воды, обрушивающимся за короткий срок во время тропических бурь, когда дождь идет не редкими мелкими каплями, а, тяжелый и сплошной, льет часами подряд, пока вся почва не пропитывается насквозь и всякая речонка не превращается в бурный поток.
О таких дождях дает представление наш летний грозовой ливень; его крупные частые капли в несколько минут превращают канаву в речушку, а колею от повозки — в быстрый ручей. К счастью, эти «спорые» ливни (случается, что во время такого ливня даже светит солнце) никогда не бывают продолжительны. Они у нас длятся не более получаса. Но вообразите, что такой дождь затянулся бы вдруг на целый день или на неделю! Если бы так случилось, мы стали бы свидетелями наводнения, столь же непредвиденного и страшного, какими бывают наводнения тропические.
Неожиданное понижение уровня в реках Южной Африки тоже легко объяснимо — их питают не ручьи и озера, как у нас, а главным образом облака. В тропиках реки редко берут начало от постоянных источников; когда нет дождя, им нечем питаться, и их уровень низко падает. Этому способствуют палящие лучи солнца, под которыми быстро испаряется вода, а также сухая почва, жадно поглощающая влагу.
Молодые охотники увидели, что Гарипа (таково туземное название Оранжевой реки) за ночь спала на несколько футов. Но как знать, можно ли через нее переправиться? Брод, которым пользовались готтентоты, бечуаны, торговцы и изредка буры-скотоводы, находился именно здесь, однако какова его глубина была теперь, никто из наших путешественников не имел понятия. Никаких знаков, по которым ее можно было бы определить, нигде не было видно. Дно тоже нельзя было разглядеть, так как вода вследствие разлива стала желто-коричневого цвета. Может быть, тут было всего три фута глубины, может быть, шесть, а течение так быстро, что пускаться вброд, не удостоверившись предварительно в безопасности перехода, было более чем неблагоразумно.
Между тем всем хотелось скорей перейти реку. Но как сделать это без риска?
Гендрик советовал переправиться верхом. Если реку нельзя перейти, ее можно переплыть. Он вызвался переплыть первым. Толстый Виллем, не желавший уступить Гендрику в отваге, вызвался тоже. Но Ганс, самый старший и самый осмотрительный из всех, с советами которого всегда все считались, решительно этому воспротивился. Такой эксперимент может оказаться гибельным, сказал он. Если глубина тут большая, лошадям придется плыть, а стремительное течение может отнести их ниже брода, где берег высокий и крутой. Выбраться из реки там невозможно, и лошадь со всадником утонут.
Кроме того, доказывал Ганс, если всадник даже и выплывет на другой берег, то буйволы с фургонами все равно не переплывут, а отправляться без них нет никакого смысла. Поэтому лучше немного подождать, пока река не войдет в свои берега. Убедиться в этом можно по прекращению убыли воды, и выяснится это не далее, как завтра, так что потеряют они всего только один день.
Ганс рассуждал здраво, и совет его был умный. Гендрик и Толстый Виллем должны были признать его правоту и согласились с его доводами. Но Виллему так хотелось поскорей добраться до слонов, бизонов и жирафов, что он готов был решиться на переправу не глядя ни на что. Гендрик склонялся к тому же просто из любви к приключениям — главным недостатком Гендрика была его чрезмерная храбрость.
Несомненно, оба рискнули бы переправиться вплавь, если б не упряжки, перетащить которые было немыслимо. Поэтому юноши волей-неволей согласились подождать еще один день.
Однако им не пришлось ждать не только дня, но даже и часа. Через час фургоны, буйволы и они сами уже прошли брод и двигались по равнине, расстилавшейся на том берегу.
Что же заставило их так неожиданно изменить свое решение? Каким образом убедились они, что брод проходим? Этим они были целиком обязаны кафру Конго.
Пока молодые люди спорили, Конго стоял на берегу и один за другим бросал в воду большие камни. Все подумали, что он просто забавляется или же совершает какой-нибудь дикарский обряд, и не придали этому ни малейшего значения. Один только Черныш внимательно следил за действиями кафра, и выражение его лица изобличало самый живой интерес.
Наконец несколько грубых восклицаний и громкий, презрительный смех бушмена обратили на Конго внимание молодых охотников. — Эй ты, долговязый дурак! Глубину меришь? Вот выдумал, глупая твоя башка! Ха-ха-ха! Ну и болван! Ха-ха-ха!
Кафр даже бровью не повел, услышав эти оскорбительные речи. Он спокойно продолжал бросать камни, но бросал их не как попало, а с каким-то определенным расчетом. Молодые люди, заметив это, тоже стали за ним наблюдать.
Как только камень падал в воду, Конго каждый раз быстро нагибался, приникал ухом чуть ли не к самой воде и, застыв в этой позе, казалось, вслушивался в звук падения. Когда звук замирал, он бросал новый камень, но уже на более дальнее расстояние, потом опять нагибался и слушал.
— Что это затеял ваш кафр? — спросил Гендрик у Виллема и Аренда, которые были хозяевами Конго и лучше других должны были разбираться в его поступках.
Те, однако, тоже были в недоумении. Наверно, это какое-нибудь заклинание
— Конго знает их множество. Но ради чего все это делается? Бог его ведает. Впрочем, предположение Черныша казалось им правдоподобным — кафр как будто и на самом деле вымерял глубину брода.
— Послушай, Конго! — крикнул Толстый Виллем. — Что это ты там делаешь, старина?
— Молодой хозяин! Конго смотрит, очень ли тут глубоко, — ответил кафр. — А разве так можно узнать?
Кафр утвердительно кивнул головой.
— Тьфу! — воскликнул Черныш, которому стало завидно, что его соперник возбуждает к себе интерес. — Ничего этот старый дурак не добьется, все одни глупости!
Конго оставил без внимания эти насмешки, хотя, конечно, они его задевали, и продолжал бросать камни, стараясь, чтобы каждый следующий упал дальше предыдущего.
Наконец, когда последний камень упал на расстояние одного или двух ярдов от противоположного берега реки, ширина которой была здесь более ста ярдов, он отошел от берега и, обратившись к молодым охотникам, заявил твердо, хотя и почтительно:
— Минхеры, брод можно перейти сейчас.
Все недоверчиво посмотрели на него.
— Какая тут глубина, как ты думаешь? — спросил Ганс.
Вместо ответа кафр положил руки на бедра. Это обозначало: «Вот досюда».
— Долговязый! Да тут в два раза глубже! — сердито крикнул Черныш. — Видно, ты хочешь нас утопить, старый дурак?
— Тебя утопить недолго, а больше я никого не утоплю! — ответил кафр и презрительно скривил губы, меряя взглядом низкорослого бушмена.
Молодые охотники громко расхохотались. Черныш почувствовал укол и несколько растерялся.
— Как же, болтай больше, старая рожа! — сказал он наконец. — Какой умник
— целое представление устроил! Фургоны пропадут, несчастные буйволы утонут — тебе этого хочется? Вода ему по пояс, ишь что выдумал! Коли по пояс, так лезь в воду, сам лезь! Ха-ха!
Черныш вообразил, что этим вызовом он нанес кафру сокрушительный удар. Конечно, Конго не отважится пуститься вброд, хоть и уверяет, будто тут неглубоко. Однако надеждам Черныша не суждено было сбыться; его ожидало полное посрамление.
Охотники с любопытством смотрели на Конго: как-то он поступит? Но Черныш не договорил еще своих насмешливых слов, как кафр, бросив быстрый взгляд на юношей, вдруг круто повернулся и в два прыжка сбежал к реке.
Все поняли, что он собирается переправиться на тот берег. Многие вскрикнули, требуя, чтобы он отказался от своей затеи.
Но в зулусе уже разгорелся дух отваги — он даже не слышал предостерегающих криков. И все же он не кинулся в реку очертя голову, а приступил к своему делу обдуманно и осторожно. Перед тем как войти в воду, он подобрал с земли громадный камень, весивший не менее пятидесяти килограммов. К общему изумлению, он поднял этот камень высоко над головой и, выпрямившись во весь рост, смело шагнул в воду.
Скоро всем стало ясно, для чего понадобился ему этот камень: своим добавочным весом он помогал ему бороться с быстрым течением. Остроумная выдумка Конго увенчалась полным успехом, и, несмотря на то что вода местами доходила ему до пояса, не прошло и пяти минут, как уже он, целый и невредимый, стоял на другом берегу.
Его приветствовали восторженные крики, к которым только Черныш не присоединил своего голоса. А когда кафр благополучно вернулся тем же путем, он был встречен новым взрывом восторга. Тотчас буйволы были запряжены, молодые люди вскочили на вмиг оседланных лошадей, и скоро фургоны, буйволы, собаки, лошади и охотники беспрепятственно перешли реку и продолжали свой путь на север.
Глава 4
ПАРА ЧЕРНОГРИВОК
Пока молодые охотники следовали вдоль южного берега Гарипы, их путешествие не отличалось обилием приключений; но как только они немного продвинулись на север, произошло событие, достаточно интересное, чтобы быть отмеченным в этом рассказе. Случилось это во время первого же привала после переправы.
Местом для привала молодые люди выбрали отлогий спуск к ручью, протекавшему посередине обширной равнины; к их услугам тут были и трава и вода, но, к сожалению, довольно неважные.
На голой равнине кое-где виднелись заросли низкого кустарника, а между ними местами торчали конусообразные постройки термитов, возвышавшиеся на несколько футов над землей.
Охотники только что отпрягли и пустили пастись своих буйволов, как вдруг раздался испуганный голос Черныша:
— Львы! Львы!
Все посмотрели, куда указывал Черныш. На открытой равнине, невдалеке от того места, где паслись буйволы, действительно стоял лев, большой и черногривый. Позади него росли кусты, из-за которых он вышел, увидав буйволов. Пройдя несколько шагов, лев улегся на траву; теперь он следил за буйволами, как кошка за мышью или как паук за беспечной мухой.
Молодые люди не успели толком рассмотреть его, как из-за кустов показался другой и быстрым, бесшумным шагом направился к своему товарищу. Мне следовало бы указать «направилась», потому что второй зверь был не лев, а львица, о чем свидетельствовало отсутствие гривы.
Ростом львица только немногим меньше льва, но ничуть не менее его свирепа и очень опасна для всякого, с кем бы ей ни довелось повстречаться.
Приблизившись к льву, она сначала легла возле него, но скоро оба поднялись и, как две громадные кошки, уселись, подобрав хвосты и обратившись лицом к лагерю и буйволам, с которых они не сводили голодного взгляда.
Охотники, погонщики и собаки — все были у них на виду, но что было львам до них, когда соблазнительная добыча находилась перед глазами! Они несомненно замышляли нападение, если не сейчас, то как только подвернется удобный случай, и уже предвкушали, как сытно они поужинают мясом буйвола или кониной.
Это были первые львы, встреченные охотниками за все их путешествие. Следы львов они видели, и раза два страшное рыкание раздавалось ночью около лагеря, но собственной персоной царь зверей, да еще со своей царицей, появился перед ними впервые. Естественно, что их присутствие вызвало среди молодежи немалое волнение. Не будем скрывать, что это волнение сильно походило на панику.
Прежде всего охотники трепетали за собственную жизнь, причем бушмен и кафр тоже разделяли их страх. Но скоро они немного успокоились: львы очень редко нападают на людей. Им нужны только находящиеся в лагере животные, и, пока эти животные тут, львы не бросятся на их хозяев. Непосредственной опасности как будто не было, и к нашим охотникам вернулось самообладание.
Однако нельзя же допустить, чтобы эти кровожадные звери растерзали буйволов! Никак нельзя! Необходимо что-то сделать для их безопасности. Нужно немедленно построить крааль и загнать в него скотину.
Львы сидели не шевелясь, но в угрожающих позах. Они находились на порядочном расстоянии — не меньше чем в пятистах ярдах, — и было сомнительно, чтобы они напали на буйволов, которые паслись около самого лагеря. Возможно, вид огромных фургонов пугал их и пока что удерживал от нападения. Львы или надеялись, что буйволы, щипля траву, подойдут к ним ближе, или выжидали время, когда тьма поможет им подкрасться незаметно.
Как только выяснилось, что львы не собираются немедленно броситься на них. Виллем и Гендрик вскочили на лошадей, осторожно проехали позади буйволов и перегнали их на другую сторону ручья. Здесь Клаас и Ян сбили их в стадо, а тем временем остальные, включая Черныша и Конго, вооружились топорами и секачами и направились к ближайшей заросли колючего кустарника «не тронь меня». Не прошло и получаса, как было нарублено достаточное количество кустов, которые вместе с фургонами образовали надежный крааль. Сюда были загнаны лошади и буйволы — первых накрепко привязали к спицам колес, а последним предоставили свободно бродить внутри загородки.
Теперь охотники почувствовали себя в безопасности. У обоих концов крааля они разожгли большие костры, хотя и знали, что огонь не вечно будет держать львов в отдалении.
Но юноши полагались на свои ружья; а так как спать они решили под брезентовой крышей фургонов, наглухо застегнув фартуки переднего и заднего входов, то опасаться им было нечего. Лев должен быть уж очень голоден, чтобы рискнуть пробиться в такой крепкий крааль, а ворваться в фургон, как бы ему ни хотелось есть, он никогда не отважится.
Удостоверившись, что все меры безопасности приняты, охотники расположились у одного из костров и приступили к приготовлению обеда, вернее — обеда-ужина, потому что длинный переход этого дня помешал им пообедать раньше, и теперь обе трапезы соединились в одну.
Оказалось, что, кроме вяленой говядины, готовить им почти нечего. За время долгой стоянки у переправы истощился запас свежего мяса антилопы, которую они убили за несколько дней перед тем. Правда, у них оставалась еще одна свежая туша, но это была туша самца болотной, или тростниковой, антилопы, названной так из-за ее привычки держаться в высоких зарослях тростника по берегам рек. Эту антилопу застрелил Гендрик после того, как, перейдя брод, они пробирались сквозь пояс таких зарослей. Тростниковая антилопа — или болотный козел, как еще ее называют натуралисты, — совсем маленькая. Ростом она меньше трех футов и с виду очень похожа на антилопу-скакуна, только шкурка ее грубее — пепельно-серая на спине, серебристо-белая на брюхе. И рога у нее не лировидные, как у газели, а широко расставленные и растут сначала прямо вверх, а потом угрожающе загибаются кончиками вперед. В длину они около двенадцати дюймов, витые у основания, с выпуклыми валиками посередине, гладкие к концам. Этот вид антилоп, как указывает название, селится в заросших тростником низинах у берегов ручьев и рек, и пищу их составляют травы, растущие в сырых и болотистых местах. Поэтому мясо их хуже, чем у большинства южноафриканских антилоп. Молодым охотникам оно не нравилось; они предпочитали ему даже бильтонг. Все же они его не выбросили и предоставили лакомиться им менее взыскательным Чернышу и Конго.
Конечно, Гендрик и Виллем охотно отправились бы на поиски антилоп или какой-либо другой дичи, но присутствие львов мешало этому. Молодым людям пришлось удовольствоваться куском бильтонга, и вот каждый, вооружившись коротким прутом вместо вертела, принялся жарить свою долю на углях.
Все это время лев и львица не покидали выбранной ими позиции посреди равнины; они, казалось, ни разу не шевельнулись. Они терпеливо ждали приближения ночи.
Толстый Виллем и Гендрик находили, что на львов надо напасть самим, но осторожный Ганс отсоветовал, напомнив им наказ, данный при отъезде их отцами. Наказ этот гласил: никогда не нападать на льва без крайней необходимости, а, наоборот, если только обстоятельства позволяют, непременно обходить «старого вояку» как можно дальше. Всем хорошо известно, что лев редко кидается на человека, если тот не нападает на него первый. Совет, данный Гансом молодым охотникам, был основательный и резонный, и им снова пришлось уступить.
До захода солнца оставалось часа два. Львы неподвижно сидели на траве, и охотники пристально за ними следили.
Вдруг их внимание привлек новый предмет. Далеко на равнине показалась пара удивительных животных, одинаковых по виду, только чуть отличавшихся размером и окраской. Они медленно приближались к лагерю. Оба были ростом с обыкновенного осла, а бурым или серовато-желтым оттенком шерсти сильно напоминали одного из его диких родичей. Очертания их тел были красивее, чем у осла, хотя они вовсе не казались грациозными или стройными. Напротив, фигуры их были плотны, округлы и внушительны. Готовы же и морды были разрисованы самым странным образом. По белому фону шли четыре темные полосы, расположенные так, что получалось впечатление, будто на них надето сделанное из черной кожи наголовье уздечки.
Первая из этих полос спускалась вдоль лба, другая — от глаз к углам рта, третья охватывала нос, а четвертая, как настоящий подбородник, сбегала от основания ушей под горло, чем окончательно довершилось сходство с недоуздком.
Еще обращали на себя внимание откинутая назад грива, темная спина и длинный черный пушистый хвост. Главным признаком, по которому их сразу можно было отличить от всех других животных, были великолепные рога. Рога эти, фута в три длиной, прямые и тонкие, были загнуты назад и лежали почти параллельно спине. Их кончики были остры, как стальные стрелы. У обоих рога были глубокого черного цвета и блестели, как полированное черное дерево. По размеру они несколько разнились друг от друга, но что удивительно — у меньшего животного рога казались длиннее, чем у более крупного. Рога у самки были длиннее, но слабее развиты, чем у самца. Молодые охотники без труда определили породу этих животных. С первого взгляда они узнали прекрасного орикса, или сернобыка, — одного из прелестнейших животных Африки и красивейших существ на свете.
Глава 5
ЛЕВ ПОДСТЕРЕГАЕТ СЕРНОБЫКА
Когда молодые охотники увидели оленей — так капские колонисты называют орикса, — первой мыслью их было убить или захватить живьем хотя бы одного из них. Шедшие по равнине животные представляли собой прекрасное зрелище, но наши охотники предпочитали видеть их на вертеле — уж очень вкусно (а они хорошо это знали!) мясо этого оленя, вкуснее, чем всякой другой антилопы, за исключением разве канны.
Итак, первой мыслью охотников было раздобыть себе на ужин оленье жаркое. Может быть, ужин их немного бы и запоздал, но зато оленина настолько вкуснее сухого бильтонга, что они согласны были подождать.
Ломти тонко нарезанного мяса, уже наполовину зажаренные, были мгновенно отброшены, в руках вместо прутьев-вертелов оказались ружья.
Но как действовать, чтобы добиться успеха?
Вряд ли удастся подкрасться к сернобыкам незаметно: они принадлежат к числу самых осторожных антилоп и редко подходят близко к какому бы то ни было укрытию — ведь за ним всегда может таиться враг. А если их вспугнуть, то они пускаются вскачь куда глаза глядят и спасаются в открытой пустыне, которая для них родной дом. Всего труднее подкрасться к ним, и охотники редко избирают этот способ. Перехватить на скаку их можно лишь на очень быстрой лошади, да и то после отчаянной гонки. И даже от самой быстрой лошади они нередко удирают, потому что в первом порыве одну — две мили они летят как ветер. Однако хорошая лошадь выносливее их, и умелый наездник может через некоторое время их догнать.
Схватив ружья, охотники тотчас подумали о лошадях. Что же делать — скорей седлать и мчаться за ориксами? Так бы они без долгих размышлений и поступили, если б не увидели, что сернобыки сами направляются им навстречу. Если сернобыки подойдут достаточно близко, не придется даже двигаться с места. Добыча сама окажется на расстоянии выстрела и избавит их от неудобств погони. Это было бы всего лучше, так как охотники изголодались, а лошади были утомлены после трудного дневного перехода.
Желанный исход казался очень вероятным — антилопы продолжали приближаться. Стоянка была хорошо скрыта за кустами. Только дым от костра выдавал ее присутствие, но антилопы могут его не заметить, а если и заметят, то, пожалуй, не испугаются. Кроме того, ручей протекал совсем рядом, и Виллем с Гендриком были уверены, что сернобыки держат путь к воде. Однако ученый Ганс поколебал их в этом убеждении, сказав, что сернобыки мало нуждаются в воде, хотя и не упустят случая напиться. Возможно, что антилопы направляются и не к ручью. Охотникам не следует на это рассчитывать.
Но, так или иначе, сернобыки несомненно приближались к стоянке. Они шли прямо на нее и были уже меньше чем в тысяче ярдов. Они подойдут раньше, чем охотники успеют оседлать лошадей, если только, испугавшись дыма, ориксы не бросятся наутек. Поэтому молодые люди оставили всякую мысль о погоне и, добравшись ползком до опушки, засели в кустах, ожидая появления антилоп.
Те все шли и шли вперед, не подозревая об опасности. Они, видимо, еще не заметили дыма, иначе непременно обнаружили бы признаки любопытства или испуга. К счастью, животные двигались по ветру, а не то острое обоняние давно предупредило бы их о близости охотничьей стоянки. Но этого не случилось, и они продолжали тем же медленным, ровным шагом приближаться к кустам, где шесть черных дул — целая батарея ружей — ждали их, чтоб дать по ним залп.
Однако ни одному из сернобыков не суждено было погибнуть от свинцовой пули. Смерть, внезапная и страшная, ждала их обоих, но не от руки человека. Она подстерегла их совсем в другом месте.
Глаза охотников, прикованные к приближавшимся антилопам, на время оторвались от львов; однако те, переменив позу, опять привлекли к себе внимание охотников. До сих пор львы сидели неподвижно, подобрав хвосты, но вдруг юноши увидели, что они разом распластались, как бы стараясь спрятаться в траве, и головы их повернулись в сторону сернобыков. Занятые созерцанием буйволов, львы заметили антилоп, лишь когда те подошли ближе, и теперь оба приготовились к нападению.
Но антилопы шли на лагерь, а не на львов, и если они почему-либо не свернут с дороги, то тем не придется ими поживиться. Сернобык легко спасается от льва, потому что лев тяжел и скоро устает на бегу; схватить добычу он может только в два — три неожиданных прыжка или же остается ни с чем. Поэтому, если львам не удастся улучшить свою позицию, добравшись до антилоп на расстояние прыжка, их шансы поужинать будут весьма слабы.
Львы это знали и теперь всеми способами старались поближе подобраться к антилопам. Охотники увидели, что лев тронулся с места и пополз наперерез антилопам, стараясь оказаться на их пути к лагерю. Благодаря ряду ухищрений — то низко приседая в траве, как кошка, которая охотится за куропаткой, то останавливаясь на мгновенье за кустами или позади термитника, чтобы кинуть быстрый взгляд на свою жертву, то проворно перебегая к следующему холму — он наконец достиг высокого термитника, стоявшего прямо на дороге, по которой шли сернобыки. Казалось, он был доволен своей позицией, потому что тут он остановился и тесно прижался к основанию холма. Из-за края высовывалась в сторону антилоп только небольшая часть его головы. Охотникам же из их засады в чаще отлично были видны вся фигура и каждое движение льва.
Но где же находилась львица? У кустов, где юноши ее впервые обнаружили, ее уже не было. Куда же она пошла? Вслед за львом? Нет. Она направилась почти в противоположную сторону. Наблюдая за действиями льва, охотники выпустили ее из виду. Теперь же, когда лев остановился, они стали искать глазами его товарку и обнаружили ее далеко на равнине. Львица продвигалась тем же способом, что и лев: то ползла по траве, то торопливо перебегала от куста к кусту, останавливаясь на момент за каждым из них, и было ясно, что цель ее — оказаться в тылу антилоп.
«Тактика» львов была теперь понятна. Лев должен был укрыться в засаде при дороге, а львица, сделав круг и очутившись позади антилоп, — гнать их навстречу льву; в случае же, если они испугаются и побегут обратно, за ними бросится лев и погонит обезумевших от страха животных назад, прямо в когти львице.
Маневр был точно рассчитан, и, хотя молодые люди рисковали лишиться добычи, их так заинтересовали действия хищников, что теперь они думали только о том, как бы досмотреть зрелище до конца.
Место для засады было выбрано очень удачно, и через несколько минут в успехе львиного предприятия не оставалось уже никаких сомнений.
Сернобыки медленно, но верно приближались к термитнику, время от времени помахивая черными пушистыми хвостами; последнее отнюдь не означало, что они чуют опасность — просто они сгоняли мух со своих боков. Львица успешно закончила свой большой обход и теперь кралась вслед за сернобыками, хотя и далеко позади них.
Когда антилопы подошли еще ближе, лев вобрал голову в плечи и почти спрятал ее под своей черной косматой гривой. Вряд ли они могли его увидеть, но и он уже не видел их и теперь мог полагаться только на свой слух, который должен был оповестить его о моменте, удобном для нападения.
Но лев не спешил; он ждал, когда обе антилопы окажутся прямо против него, не далее чем в двадцати шагах от термитника. Момент этот наступил. И вдруг два сильных, коротких удара хвостом, голова внезапно дернулась вперед, все тело вытянулось так, что стало чуть ли не в два раза длиннее, и в следующую секунду лев, как птица, взвился в воздух! Гигантским прыжком покрыв пространство, отделявшее его от ближайшего сернобыка, лев вскочил на круп обезумевшего от страха животного. Один удар мощной лапы опрокинул антилопу на землю, другой последовал почти в ту же секунду, и вот ее безжизненное тело уже лежит распростертое на траве!
Не обращая внимания на вторую антилопу или, может быть, решив расправиться с нею после, лев сел на спину своей жертвы и, вонзив клыки в ее горло, принялся сосать теплую кровь.
Сернобык, которого повалил лев, был самец — случайно он оказался ближе к термитнику.
Самка, как только лев бросился на ее товарища, в страхе отскочила в сторону, и все думали, что она тотчас обратится в бегство. Но, ко всеобщему удивлению, этого не случилось. Не такова натура благородного сернобыка. Оправившись от первого испуга, самка повернулась лицом к врагу и, опустив голову до самой земли, выставив вперед свои длинные рога, собрала все силы и ринулась прямо на льва! Тот, упивавшийся своим кровавым напитком, не заметил ее. А когда он почувствовал, как два копья пронзили его, было уже поздно: после этого он вряд ли вообще что-нибудь чувствовал.
Еще несколько мгновений продолжалась беспорядочная борьба, в которой оба, и лев и сернобык, казалось, принимали участие; но движения обоих были так порывисты и картина менялась так быстро, что зрители не могли разобрать, что, собственно, происходит. Рыкания льва уже не было слышно, его заменил пронзительный голос львицы, которая, громадными скачками примчавшись на поле сражения, тотчас вмешалась в бой.
Одно прикосновение ее когтей повергло самку сернобыка на землю и положило конец битве; и вот львица уже стоит над жертвами, издавая победные крики.
Но победные ли они? Что-то в них слышится необычное, и сама львица ведет себя как-то странно. Происходит что-то непонятное… Почему молчит лев? Рев его прекратился, он лежит на боку, обхватив лапами труп самца, и как будто пьет его кровь. Однако он совершенно неподвижен, ни один мускул не шевелится, и даже дрожь не пробегает по его рыжим бокам; не заметно и дыхания — никаких признаков жизни.
Неужели он мертв?
Глава 6
РАЗГНЕВАННАЯ ЛЬВИЦА
Да, все тут было загадочно. Лев продолжал лежать. Он не шевельнулся ни разу и не издал ни единого звука, а между тем львица, испуская пронзительный вой, металась взад и вперед вокруг беспорядочной груды тел. Она и не подумала приняться за еду, хотя окровавленная добыча лежала перед ней. Вряд ли она воздерживалась из страха перед своим повелителем. Или, может быть, он действительно желал один съесть обе туши?
Иногда так бывает. Иногда старый самец, как эгоистичный тиран, не подпускает к пище более молодых и слабых членов своей семьи, пока сам не наестся до отвала, оставляя им жалкие остатки своей трапезы.
Но вряд ли так было сейчас. На земле валялись две нетронутые жирные туши, которых вполне хватило бы на двоих. Кроме того, львица несомненно была товаркой льва — его супругой. Вряд ли он стал бы так с нею обращаться. Среди человеческих существ, как я, к сожалению, должен отметить, примеры такого эгоизма, такой грубой нелюбезности отнюдь не редки. Но молодые охотники никак не хотели поверить, чтобы лев мог быть виновен в подобной низости: ведь лев — воплощенное благородство. Не может этого быть! Однако что же тогда происходит?
Львица, рыча, сновала взад и вперед, то и дело наклоняясь над головой своего друга, прижимаясь носом к его носу и как бы целуя его. Напрасно! Он не отвечал ей ни звуком, ни движением. Наконец охотники, подождав еще некоторое время и видя льва по-прежнему недвижимым, окончательно убедились, что он мертв. Он был мертв — мертв, как придорожный камень! Мертвы были и оба сернобыка. Одна львица осталась в живых после кровавой битвы.
Когда в этом больше не оставалось сомнений, молодые люди начали совещаться, как им поступить. Нужно было во что бы то ни стало забрать туши антилоп, но, пока львица не ушла, сделать это было невозможно.
Отгонять ее в эту минуту было бы в высшей степени опасно. Она была разъярена до безумия и бросилась бы на всякого, кто оказался бы в ее соседстве. Злобный вид, с каким она шагала, хлеща себя по бокам, ее свирепый и решительный взгляд, громкое, грозное рыкание — все говорило о ее бешеной ярости. В каждом ее движении была угроза. Охотники видели это и благоразумно отошли поближе к фургонам на тот случай, если она вдруг двинется в их сторону.
Юноши решили подождать, пока львица не покинет мертвого льва, и тогда перетащить антилоп в лагерь.
Но они ждали и ждали, а в поведении рассвирепевшей львицы не замечалось никаких перемен. Она по-прежнему ходила вокруг груды тел, не прикасаясь к тушам сернобыков. По выражению одного из охотников, львица вела себя, «как собака на сене»: сама не ела и другим не давала.
Это замечание, сделанное маленьким Яном, вызвало общий смех, прозвучавший странным контрастом рядом с горестным воем львицы, от которого трепетали все животные в лагере. Даже собаки забились глубоко под фургоны или жались к ногам своих хозяев. Правда, эти верные животные, если б их натравить, мужественно ринулись бы в бой с львицей, несмотря на ее внушительные размеры. Но молодые охотники хорошо знали, что собака в когтях разъяренного льва — все равно что мышь в когтях у кошки. Поэтому они не собирались натравливать собак, не попытавшись сначала одолеть львицу сами; но от этого их удерживал Ганс и особенно наказ родителей, полученный перед отъездом из дому. Связываться с львицей, казалось, вообще не стоило: все надеялись, что она скоро уйдет прочь, бросив добычу или хотя бы часть ее на месте.
Однако время шло, а львица и не думала удаляться. Тогда, отчаявшись поужинать свежим мясом, юноши снова принялись жарить кусочки вяленой говядины.
Молодые охотники только что взялись за еду, как вдруг на поле недавней битвы явились новые пришельцы. На равнине показалось с полдюжины гиен; опасаясь львицы, они не подходили к тушам, но остановились невдалеке, и их голодные взгляды красноречиво говорили, что им здесь нужно.
Присутствие этих отвратительных животных сильно осложнило положение. Если львица даст им поживиться антилопами, то очень скоро от туш не останется и кусочка. Между тем охотники, хоть и потеряли надежду поужинать олениной, все же рассчитывали, что рано или поздно она им достанется. Невозможно было допустить, чтоб гиены уничтожили такую добычу!
Но как удержать их на расстоянии?
Выйти, чтоб отогнать их, так же опасно, как если б они вздумали отгонять львицу.
Толстый Виллем и Гендрик снова вызвались на нее напасть. Ганс, как и прежде, решительно восстал против этого, но на этот раз ему пришлось употребить все свое влияние, чтобы заставить товарищей отказаться от их необдуманного намерения.
И тут неожиданное предложение положило конец их спору.
Исходило оно от кафра Конго и состояло не более не менее, как в просьбе разрешить ему поединок со львицей!
— Что ты, Конго! Ты же один не справишься!
— Справлюсь.
— Ты с ума сошел! Она разорвет тебя в клочки.
— Не бойтесь, минхеры. Конго убьет льва, у Конго не будет даже царапины. Вот увидите, молодые хозяева!
— Как! Голыми руками? Без оружия?
— Конго не умеет стрелять, — ответил кафр. — Но Конго знает, как ее прикончить. Он просит одного: чтоб ему не мешали. Стойте здесь, молодые хозяева, а Конго пусть сам делает свое дело. Опасности нет. Конго боится только, что вы броситесь ему на помощь, а львица такая злая! Конго это нипочем. Для него чем она злее, тем лучше — значит, она не убежит.
— Что это ты затеваешь, Конго?
— А вот увидите, минхеры, увидите, как Конго убьет львицу.
Охотникам казалось, что кафр сошел с ума. По их мнению, его ждала верная гибель. Чернышу очень хотелось обвинить кафра в бахвальстве, его так и подмывало поднять Конго на смех, но он еще не забыл, как сегодня утром из-за своих насмешек попал впросак, и потому хоть и опасался, что Конго снова перещеголяет его в ответе, но на этот раз поостерегся обнаруживать свою зависть. Черныш прикусил толстую нижнюю губу и не сказал ни слова. Кое-кто из мальчиков, в особенности Ганс, старались отговорить Конго от его затеи, но Толстый Виллем считал, что ему надо предоставить свободу действий. Виллем лучше всех знал Конго. Кроме того, он был уверен, что хоть тот и настоящий дикарь, но все же не пойдет на риск из одной глупой похвальбы. На него можно было положиться. Так сказал Толстый Виллем.
Этот довод в соединении с соблазном отведать мяса орикса решил спор. Аренд и Ганс уступили.
Конго получил разрешение идти на бой с львицей.
Глава 7
КАК КАФР КОНГО УБИЛ ЛЬВИЦУ
И вот Конго снова оказался предметом такого же пристального внимания, как и утром. Вернее, еще более пристального, потому что перейти вброд Гарипу куда проще, чем бороться с разъяренной львицей. Возросла опасность, возрос и интерес к его новому предприятию. Молодым охотникам было очень любопытно посмотреть, как-то он подготовится к бою.
Приготовления его заняли очень мало времени. Он влез в фургон ван Вейков и минуты через три появился в полном снаряжении. Львице не пришлось долго ждать своего противника.
Вооружение кафра необходимо описать.
Оно было очень просто, хотя человеку непривычному и показалось бы довольно странным: это было обычное вооружение зулусского воина.
В правой руке он держал ассегаи, шесть штук.
Что же такое ассегаи? Это пика или копье, но употребляют его иначе. Ассегаи короче копья и пики, и древко его более тонко; подобно копью, стреле или пике, ассегаи снабжен железным наконечником. Во время боя его мечут во врага, и часто на большое расстояние. Точнее говоря, это попросту дротик, который употреблялся в Европе до изобретения огнестрельного оружия. В Южной Африке он и теперь составляет основное вооружение всех дикарских племен, а в особенности кафров. Кафры в совершенстве владеют этим опасным снарядом. На расстоянии сотни ярдов они бросают его с такой же силой и верностью прицела, с какой летит пуля или стрела. Ассегаи бросают одной рукой.
Таких дротиков у Конго было шесть, и он быстро перебирал их тонкие древки своими длинными мускулистыми пальцами.
Но не ассегаи были самой замечательной частью его вооружения. Еще более удивительный предмет был надет на его левую руку. Он был овальной формы, шести футов в длину и около трех в ширину; вогнутой стороной он был обращен к телу, выпуклой — наружу. Больше всего он напоминал небольшую лодку или челнок из шкур, натянутых на деревянную раму; и действительно, из этого материала он и был сделан. Это был щит, настоящий зулусский щит, но очень большой, больше тех, что употребляются в бою. Несмотря на свою величину, эти щиты совсем не тяжеловесны; напротив, они легки и упруги и притом настолько крепки, что стрела, ассегаи или пуля, ударившись об их выпуклую сторону, отскакивают, как от стального листа.
Два прочных ремня, прикрепленных к внутренней поверхности, дают воину возможность свободно двигать щитом; поставленный стоймя, нижним концом на землю, он может закрыть собой самого высокого мужчину. Так, щит Конго целиком закрывал его тело, хотя Конго был далеко не карлик.
Не говоря ни слова, Конго вышел из лагеря; на левую руку он надел свой громадный щит, в ней же зажал ассегаи — пять штук. В правую взял один — тот, что предназначался для первого удара; его он держал на весу, за середину древка.
Дела на равнине были в прежнем положении. Впрочем, за такое короткое время ничего и не могло измениться. С момента, когда кафр объявил свое намерение, и до того, как приступил к его исполнению, едва ли прошло пять минут. Львица продолжала метаться, оглашая окрестность страшным ревом. Гиены тоже оставались на прежнем месте. Только когда кафр подошел ближе, они с испуганным воем пустились наутек и быстро скрылись за кустами.
Совсем иначе повела себя львица. Она даже не заметила приближения охотника, не повернула головы и не взглянула в его сторону. Все ее внимание было поглощено лежавшей на земле грудой тел, с которой она не сводила глаз. Своим диким ревом львица, казалось, оплакивала участь грозного владыки, лежавшего мертвым у ее ног. Как бы там ни было, но она не увидела охотника, пока он не оказался в двадцати шагах от нее.
Здесь кафр остановился и поставил стоймя свой огромный щит. Правой рукой он раскачал ассегаи, метнул его — и вот уж ассегаи полетел, со свистом рассекая воздух.
Ассегаи вонзился в бок зверя и повис, дрожа, между его ребрами. Но это длилось только секунду. Рассвирепевшая львица извернулась, схватила древко в зубы и переломила его, как соломинку.
Острие ассегаи осталось у нее в боку, но она не старалась его вытащить. Теперь она увидела своего врага и, издав крик мести, бросилась на него. Одним громадным скачком она покрыла три четверти пространства, лежавшего между ними, со второго скачка она была бы уже на плечах кафра, но тот приготовился к встрече и, когда львица поднялась на дыбы, его уже не было видно! Он исчез, как по волшебству.
Если б юноши не следили за каждым его движением, они тоже не поняли бы, куда он делся. Но они успели заметить, что кафр скрылся под овальной выпуклой покрышкой, которую мгновенно положил на землю. Он лежал там, как черепаха под своим панцирем, изо всех сил ухватившись за ремни и крепко прижимая щит к земле.
Львица была изумлена гораздо больше, чем зрители. Прыгнув второй раз, она попала прямо на щит, и оглушительный грохот, произведенный ее падением, а также твердая и упругая поверхность, оказавшаяся под ее когтями, привели ее в полное замешательство: отскочив в сторону, она остановилась, с тревогой глядя на непонятный предмет.
Но это продолжалось только мгновение; разочарованно зарычав, львица повернулась и побежала прочь.
Это рычание было сигналом для Конго. Он чуть-чуть приподнял щит с края, прилегавшего к земле, — лишь настолько, чтоб можно было разглядеть спину удалявшегося зверя.
Потом Конго живо вскочил на ноги и, держа щит стоймя, приготовился бросить второй ассегаи.
Как молния, мелькнул ассегаи и так глубоко вонзился львице в плечо, что снаружи торчало только древко. С удвоенной яростью обернулась львица, снова ринулась на своего противника, но опять ударилась о твердую выпуклую поверхность щита. На этот раз она не отступила, а в угрожающей позе остановилась над странным предметом, ударяя его своей когтистой лапой и стараясь его перевернуть.
Для Конго это был опаснейший момент. Если б львица ухитрилась перевернуть щит, бедняге пришел бы конец! Но он знал, что ему грозит смерть, и, одной рукой ухватив ремни, а другой упираясь в край щита, так плотно надвинул его на себя, что щит, казалось, присосался к нему — крепче даже, чем моллюск присасывается к дну корабля.
Израсходовав свою ярость на несколько безуспешных попыток пробить или перевернуть щит, львица отошла на свою прежнюю позицию.
Ее рычание опять послужило сигналом для Конго. Вмиг он вскочил на ноги, еще один ассегаи просвистел в воздухе и воткнулся в шею львицы.
Однако эта рана тоже не оказалась смертельной, и животное, доведенное теперь до бешенства, еще раз бросилось на своего противника. Львица подбежала так быстро, что только необыкновенная ловкость помогла Конго юркнуть под свое укрытие. Еще минута — и его хитрость не удалась бы, потому что он не совсем еще опустил на себя щит, как львица уже скребла когтями его поверхность.
Тем не менее кафру удалось занять неприступную позицию, и он уже снова лежал невредимый под толстой буйволовой кожей. Разочарованная львица яростно завыла и после нескольких тщетных усилий перевернуть щит отказалась от этой попытки. Но теперь она не ушла, а в озлоблении принялась ходить кругом и наконец улеглась в трех футах от щита. Конго оказался в осаде!
Юноши сразу поняли, что Конго попал в плен. Об этом говорило поведение львицы. Хотя она была от них в нескольких сотнях ярдов, но по ее виду можно было заключить, что она решила добиться своего и, не отомстив, вряд ли покинет место сражения. Кафр очутился в ловушке.
Что, если львица так и останется здесь лежать? Каким образом Конго выберется тогда из своей западни? Убежать он не мог. Чуть только он приподнял бы щит, как свирепый зверь уже прыгнул бы на него. Это было ясно.
Юноши громко закричали, чтобы предупредить его. Они боялись, что он, может быть, не подозревает о том, что враг его совсем рядом.
Несмотря на страшную опасность, которой подвергался кафр, в его положении было что-то смешное, и молодые охотники, хотя и были озабочены развязкой, едва удерживались от смеха, глядя на эту картину.
В трех футах от щита лежала львица, не сводя с него сверкающих глаз и время от времени издавая грозное рычание. Лежал и овальный щит, скрывавший Конго, неподвижный и немой. Действительно, странные на вид противники?
Долго оставалась львица на страже, почти не меняя своего положения. Только хвост ее ходил из стороны в сторону и челюсти дрожали от подавленной злобы. Юноши то и дело кричали, предостерегая Конго, но из-под выпуклого щита не приходило ответа. Впрочем, кричать им было не к чему. Смышленый кафр давно сообразил, где находится его враг: громкое дыхание и рычание львицы уже оповестили его о ее местонахождении, и он твердо знал, как ему действовать.
Целых полчаса длилась эта необычайная сцена; и так как львица не проявляла ни малейшего желания покинуть свой пост, то в конце концов молодые охотники решили напасть на нее или хотя бы сделать вид, что нападают, лишь бы прогнать ее прочь.
Дело близилось к закату — что же будет с Конго, когда наступит ночь? В темноте львица его убьет. Внимание его ослабится, он может уснуть, и тогда его неумолимый враг получит все преимущества.
Что-то надо сделать, чтобы освободить кафра из его тесной тюрьмы, и немедленно.
Быстро оседлав коней, они вскочили в седла и уже собирались тронуться в путь, как вдруг Ганс, у которого было очень острое зрение, заметил, что львица находится гораздо дальше от щита, чем была прежде. Между тем львица не двигалась; во всяком случае, никто не видел, чтобы она пошевелилась — она лежала все в той же позе. Что бы это могло значить?
— Ах! Смотрите! Щит движется!
Как только Ганс произнес эти слова, все взгляды устремились на щит.
Щит и в самом деле двигался. Казалось, он, как гигантская черепаха, медленно и упорно ползет по траве: хотя края его по-прежнему плотно прилегают к земле. Все поняли, что не какая-то невидимая сила приводит его в движение, а сам Конго.
Охотники крепко натянули поводья и, затаив дыхание, стали следить за происходящим.
За несколько минут щит отодвинулся от львицы еще на десять шагов. Она как будто не замечала перемены, а если и замечала, то смотрела на непонятное ей явление скорей с любопытством и удивлением. Во всяком случае, она так долго оставалась на месте, что таинственный предмет успел отодвинуться от нее на большое расстояние.
Львица, пожалуй, не потерпела бы, чтобы щит ушел еще дальше, но для целей ее противника он был уже достаточно далеко. Кафр внезапно вскочил на ноги, и новый ассегаи, посланный его рукой, с шумом рассек воздух.
Этот удар оказался роковым. Львица лежала, повернувшись боком к охотнику. Прицел его был верный, и железное острие вонзилось ей прямо в сердце. Пронзительный вой, скоро утихший, короткая, отчаянная борьба, которой быстро пришел конец, — и могучий зверь неподвижно растянулся в пыли.
Громкое «ура» раздалось со стороны лагеря, и молодые охотники галопом поскакали на равнину, чтобы поздравить Конго со счастливым исходом его отчаянного поединка.
Потом все направились к груде мертвых тел, и здесь охотники узнали новые для себя обстоятельства дела. Лев, как они давно догадались, был мертв — острые рога сернобыка сделали свое дело; но поразило всех то, что, вонзившись в бок громадного зверя, они так там и остались. Сернобык не имел сил их вытащить и все равно погиб бы вместе со своей жертвой, даже если б львица не подоспела и не нанесла бы ему смертельный удар.
Конго и Черныш в один голос стали уверять охотников, что в этом ничего нет удивительного: в африканской степи часто случается видеть мертвых льва и сернобыка, заключивших друг друга в роковое объятие.
Самку сернобыка, у которой мясо было нежное, быстро освежевали и разрубили; и молодые охотники, поджарив над красными угольями лакомые куски мяса, предались веселью, смеясь над необычайными приключениями сегодняшнего дня.
Глава 8
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЬВАХ
Прежде чем приняться за ужин, охотники притащили к костру туши льва и львицы. Это было не очень-то легкое дело, но юноши с ним справились, крепко обвязав шеи животных полосами сырой кожи и волоча туши головами вперед — «по шерсти».
Львов перенесли для того, чтобы при свете костра снять с них шкуры; шкуры не такая уж особенная ценность, но это охотничий трофей, и молодым людям не хотелось бросить его посреди равнины. Если б убитые львы пролежали там всю ночь, то к утру гиены съели бы их без остатка вместе со шкурами. Не верьте, когда говорят, будто гиена не станет есть мертвого льва. Эта отвратительная тварь съест все, даже своего сородича, а уж более противной пищи и представить себе нельзя.
Сернобыки тоже были принесены в лагерь для свежевания и разделки. Самец был очень большой и весил не меньше осла, но это только доставило Толстому Виллему лишний случай показать свою громадную силу. Здоровенный малый, схватив конец бечевы, поволок за собой орикса так же легко, как если б это был привязанный к шнурку котенок.
Обе антилопы были по всем правилам разделаны и разрублены на куски; сушить их решили на следующей стоянке. Охотники, конечно, сразу занялись бы сушкой, но вода в этом месте была плохая, и им не хотелось оставаться здесь лишний день.
Рога тоже считаются охотничьим трофеем, а у убитой пары сернобыков они были образцом совершенства — длинные, с правильными валиками и черные, как черное дерево. Молодые охотники осторожно сняли их с костных выростов и, заботливо уложив в фургоны, присоединили к своей коллекции. Головы, с оставленной на них шерстью, также были тщательно вычищены и сохранены, чтобы в недалеком будущем сделаться украшением холлов в домах ван Блоомов или ван Вейков. Когда со всеми этими заботами было покончено, молодые люди сели ужинать у костра. Жареная грудинка и большие куски мяса орикса оказались восхитительными, и вся компания была довольна и весела. Конечно, темой разговора были львы, и юноши то и дело разражались громким смехом, вспоминая подробности схватки Конго со львицей.
За исключением Клааса и Яна, у всех нашлось что рассказать о разных приключениях со львами, так как эти животные и сейчас встречаются в Грааф-Рейнете. Толстый Виллем и Аренд не раз бывали на львиной охоте; Гансу и Гендрику тоже случалось сталкиваться с ними во время похода за слонами. А Черныш был опытный готтентотский охотник.
Но Конго знал о львах, пожалуй, даже больше, чем сам Черныш, хотя тот и пришел бы в негодование, если б кто-нибудь из присутствующих на это намекнул. И теперь оба, кафр и бушмен, сидя у костра, старались перещеголять друг друга в удивительных рассказах. Кое-кто из молодых охотников слышал, как охотятся на львов бечуаны на родине Конго. Способ этот самый простой. Кучка людей — голых дикарей — нападает на льва, где бы они его ни встретили, в лесу или на открытом месте, и бьется с ним, пока он не падает мертвым. Оружием им служит ассегаи, а своеобразной защитой — длинная палка с прикрепленным к концу пучком черных страусовых перьев. Эту палку, с виду немного похожую на большую метелку от мух, быстро втыкают в землю; лев принимает пучок перьев за своего врага и, бросаясь на него, дает охотнику возможность скрыться. Такого рода хитрость во многом уступает охоте со щитом, но этот необыкновенный прием под силу только таким искусным охотникам, как Конго.
Итак, в охотничьем обычае бечуанов не было ничего нового или замечательного. Единственная его особенность заключалась в его крайней опасности, так как бечуаны не бросают свои ассегаи, стоя на расстоянии, а держат их в руке, как копье, и, подойдя ко льву чуть не вплотную, с силой вонзают их в его тело. В результате каждой такой стычки со страшным противником несколько охотников бывают убиты или изувечены. Молодым людям это казалось странным. Они не понимали, зачем бечуаны так смело и безрассудно нападают на свирепого льва, когда нетрудно вообще избежать схватки. Им казалось непонятным, почему они, хоть и дикари, так равнодушны к жизни. И правда ли, что все племена охотятся на льва таким способом? Они спросили об этом у Конго. Он ответил, что да.
Это требовало объяснения, и Конго, по общей просьбе, разъяснил дело так.
Охотники, о которых шла речь, отправлялись на львиную охоту не по собственному почину и не ради удовольствия, а по приказу своего тирана-вождя. Так было на родине Конго, где правил кровожадный изверг Чака. Все подвластные Чаке люди были его рабами, и он, в припадке ярости или просто чтобы сорвать свою мелкую злобу, не задумываясь, за одно утро умерщвлял их тысячи. Делал он это неоднократно, иногда сопровождая казни пытками.
Рассказы об ужасах, творимых африканскими деспотами, могли бы показаться невероятными, если б их правдивость не подтверждалась неоспоримыми свидетельствами.
Конго рассказал юношам, что мужчины из племени, подвластного Чаке, по обычаю, служат пастухами при его многочисленных стадах, и, когда лев утащит овцу или корову — а это случается часто, — злополучные пастухи получают приказ убить льва и принести его голову вождю; если это им не удается, их приговаривают к смертной казни, и она неизменно приводится в исполнение.
Вот этим и объясняется кажущееся равнодушие к жизни и безрассудные, на первый взгляд, действия охотников. Конго добавил, что он сам участвовал в подобных охотах и ни разу они не обходились без человеческих жертв. Особенно запомнилась ему одна, во время которой погибло человек десять, прежде чем лев был пойман, а не убит, потому что вождю взбрело в голову получить льва живым! Им объявили, что, если они не доставят льва живьем, без единой раны или царапины, все участники охоты будут казнены. Хорошо зная, что это не пустая угроза, несчастные охотники поймали льва голыми руками и даже связали его, но при этом десятеро из них пали жертвой своего подневольного рвения.
Так, слушая рассказы о львах, молодые люди скоротали вечер у ярко пылавшего костра.
Глава 9
ЕДИНОРОГ
Затем разговор перешел на сернобыков, и тут уж Черныш мог рассказать больше, чем кто-либо другой. Конго знал их мало, потому что места, облюбованные этими красивыми антилопами, находятся значительно западнее страны кафров. Сернобыки водятся главным образом во владениях намакасов, хотя изредка встречаются и на границах великой пустыни Калахари.
Сернобык — это антилопа пустыни; он тучнеет даже от той скудной растительности, какую находит на иссохшей земле. Он очень смел и нередко отражает нападение льва и даже убивает его своими длинными, штыкообразными рогами. В том, что это правда, молодые люди сегодня убедились сами. Затравленный охотниками сернобык, в отличие от других антилоп, не ищет спасения в воде или чаще кустов. Он пускается напрямик в свою родную пустыню, полагаясь только на быстроту своих ног. И они редко его обманывают. Лишь самая быстрая лошадь может перехватить его на скаку; и чем он жирнее, тем легче его загнать.
Беседуя о сернобыках, молодые люди затронули интересный вопрос.
Аренд и его товарищи читали в записках разных путешественников, будто сернобыки и есть тот самый мифический единорог, изображение которого можно видеть на египетских скульптурах. Они спросили, так ли это. Их вопрос, как легко догадаться, был обращен не к Чернышу, а к натуралисту Гансу.
Ганс считал это совершенной нелепостью, пустой фантазией какого-то досужего путешественника по Южной Африке. Фантазию эту механически повторили другие, а затем она попала в книги кабинетных ученых. Предположение, будто сернобык является прообразом единорога, основано лишь на том, что два его рога, если смотреть на них сбоку, как бы сливаются в один; только это и делает его похожим на единорога, который на египетских скульптурах всегда изображается в профиль. Подобный довод был одинаково справедлив по отношению к любым антилопам, и потому в применении именно к сернобыку рушится сам собой.
Ганс перечислил ряд причин, почему сернобык не может быть прообразом мифического единорога. Очертания его тела и особенно головы совершенно не похожи на скульптурные изображения этого загадочного существа. Рога сернобыка по своей длине и по тому, как они поставлены, даже в профиль совершенно отличны от рога этого таинственного животного, у которого он торчит вперед, тогда как рога сернобыка направлены назад и лежат почти параллельно спине.
— Нет, — сказал Ганс, — если египетский единорог вообще не миф, а настоящее африканское животное, то скорее всего это антилопа гну; и мне кажется удивительным, что сходство между гну — я говорю об обыкновенном гну, а не о полосатом — и мифическим единорогом только недавно было замечено натуралистами и путешественниками. Я убежден, что всякий, взглянув на изображение единорога и на живого гну, будет поражен их сходством. Одинаковые очертания головы и тела, красивые округлые члены, раздвоенные копыта, длинный лошадиный хвост, гордо выгнутая шея и густая грива — все эти черты показывают, что именно гну послужил образцом для изображения единорога. Один рог — вот единственное, что как будто опровергает мою теорию; но несмотря на это, у гну все-таки гораздо больше сходства с единорогом, чем у сернобыка. Рога гну поставлены таким образом, что при известном положении их можно принять за один. Они устремлены вперед, а не вверх, и почти не поднимаются над черепом; вследствие этого, а также благодаря манере животного держать голову виден только один рог, а другой почти не заметен на темном фоне головы и гривы. На расстоянии вообще можно разглядеть только половину рога, расположенную почти совершенно так же, как и украшение на лбу единорога.
На современных рисунках рог единорога обычно изображается прямым; это не согласно с египетскими барельефами, где всегда показан изгиб — в полном соответствии с изгибом рогов гну. Но если б на египетских изображениях изгиба и не было, моя теория вряд ли от этого пострадала бы, потому что у молодого гну рога тоже прямые, а мы вправе предположить, что египтяне изображали именно молодых гну. Впрочем, я не утверждаю, что разрешил этот спорный вопрос, — продолжал Ганс, — ведь египтяне хорошо знали окружавших их животных и не стали бы изображать на барельефах недоразвившиеся экземпляры. Своеобразный же характер гну, его странные привычки и его удивительная внешность непременно должны были с древнейших времен привлекать к себе внимание, и египтяне никак не упустили бы случая изобразить такое прекрасное животное. Что же касается единственного рога, то это можно объяснить слабой наблюдательностью египетских скульпторов или, всего вероятнее, просто несовершенством их искусства. Египетские барельефы, по правде сказать, весьма грубы и примитивны, а особенный изгиб и постановку рогов гну очень трудно уловить. Даже теперь, когда искусство так развито, наши художники не могут точно передать очертания головы того же сернобыка. Итак, как видите, я вам довольно убедительно доказал, что именно гну является прообразом этой таинственной знаменитости — единорога.
Юные охотники были вполне удовлетворены объяснениями Ганса и теперь обратились к нему с вопросом, что он думает о единороге, упоминаемом в Библии.
— Единорог из Священного писания, — ответил Ганс, — это совсем другое дело. Совершенно ясно, какое животное подразумевается в книге Иова. Там сказано: «Можешь ли веревкою привязать единорога к бороне, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что сила у него велика, и предоставишь ли ему работу твою?» Здесь речь идет о настоящем единороге — однорогом носороге.
Чтобы исчерпать тему о сернобыках, Ганс сообщил своим друзьям, что сернобык является только одним из видов тех антилоп, которые известны под общим родовым названием «орикс»; кроме него, есть еще и другие виды: «аддас», «абу-харб» и «альгазель».
Абу-харб, или саблерогая антилопа, — крупная, сильная антилопа с длинными, острыми рогами, саблевидно загнутыми назад. Цвет абу-харба желтовато-белый с коричневыми метинами на лбу и щеках, а шея и горло у него красно-бурые; фигурой же абу-харб очень похож на сернобыка. Под именем орикса он был известен грекам и римлянам. В настоящее время натуралисты присвоили имя орикса всему роду этих крупных антилоп.
Абу-харб — уроженец Кордофана и Сеннаара, и его изображение тоже можно встретить на нубийских и египетских барельефах. В противоположность аддасу, он животное общественное и ходит большими стадами.
Альгазель, или бейза, тоже уроженка Центральной Африки, но о ней сведений меньше, чем о других видах ориксов, и некоторые натуралисты склонны считать ее просто разновидностью абу-харба.
Аддас, или мендес-антилопа, живет главным образом в Центральной Африке. Он почти такой же большой, как сернобык, но рога у него не прямые, а винтообразно изогнутые, одинаково развитые у самца и самки. Шерсть у аддаса желтовато-белая, голова и шея рыже-коричневые, а на морде белое пятно. Ходят аддасы не стадами, а парами, в песчаных пустынях, к странствованию по которым специально приспособлены их широкие копыта. Аддас был известен еще древним римлянам, они упоминают его под именем «стрепсицерос».
Когда Ганс кончил свое объяснение, было уже давно пора идти на покой, и, пожелав друг другу спокойной ночи, молодые люди разошлись по своим фургонам. Скоро все уснули.
Глава 10
ПТИЦЫ-ВЕРБЛЮДЫ
Перейдя вброд речку Оранжевую, наши охотники двинулись на северо-восток. Если б они пошли прямо на север, то скоро достигли бы границ великой пустыни Калахари, этой южноафриканской Сахары. Конечно, проникнуть в пустыню юноши не могли бы — им все равно пришлось бы свернуть на запад или на восток. Но молодые люди сами заранее избрали курс на восток, потому что там лежали земли, славившиеся обилием крупных животных — буйволов, слонов и жирафов, а реки этой части Африки кишмя кишели громадными бегемотами (гиппопотамами) и крокодилами. Молодым охотникам только этого и нужно было.
Шли они не наобум. Их проводником был Конго. На этом пути он знал буквально каждый шаг и обещал привести их в страну, где слонам и жирафам нет числа, и никто не сомневался, что кафр сдержит свое слово.
На следующий день они уже с раннего утра были в дороге и перед вечером, после большого перехода, остановились в роще мохала, на краю унылой пустыни, простиравшейся насколько хватал глаз, а на самом деле — гораздо дальше. Эта бесплодная пустыня казалась совершенно выжженной: единственной ее растительностью были одиноко возвышавшиеся древовидные алоэ с большими кораллово-красными конусообразными цветами, пальмообразные замии, несколько видов похожего на кактус молочая да кое-где разбросанные небольшие заросли колючих кустов «погоди-постой», получивших это шутливое название вследствие свойства их крючковатых шипов цепляться за одежду.
Все эти деревца и кустарники росли очень редко, и между ними открывались целые пространства бурой равнины, однообразие которой ничуть не скрашивалось этими жалкими растениями. Это был как бы дальний предвестник, клин пустыни Калахари, и охотникам предстояло пересечь его, чтобы добраться до благодатной страны, обещанной их проводником. Пятьдесят миль без единого ручья, родника или реки — пятьдесят миль от воды до воды.
Молодые люди остановили фургоны и распрягли буйволов у последнего родника, журчавшего между корней деревьев мохала, на самой границе пустыни. Здесь им нужно было провести два дня, чтобы высушить мясо ориксов, дать отдых своим животным и подготовить их к долгому и опасному переходу.
Уже солнце клонилось к западу, когда они распрягли буйволов и устроили свой лагерь в середине рощи, невдалеке от родника.
Любознательный Ганс вышел на опушку рощи, уселся под деревом, густая веерообразная верхушка которого давала приятную тень, и стал глядеть на широкую, скучную равнину. Через каких-нибудь полчаса он вдруг заметил три высокие фигуры на расстоянии нескольких сотен ярдов от рощи. Это были двуногие — он видел их с головы до пят. Однако это были не люди, а птицы. Это были страусы.
Всякий узнал бы их с первого взгляда, даже малое дитя, ибо кому не известен громадный африканский страус? Размеры и фигура страуса слишком характерны, чтобы спутать его с какой-нибудь другой птицей. Американский нанду или австралийский эму могут сойти за его полувзрослого птенца, но страуса, достигшего своих настоящих размеров, легко отличить от любого из его сородичей, обитающих в Австралии, Новой Зеландии или в Америке. Это всем птицам птица — самая большая из всех пернатых.
Конечно, Гансу достаточно было взглянуть на них, чтобы сразу признать в них страусов — самца и двух самок. Определить их пол было нетрудно, потому что между ними такая же разница, как между великолепным павлином и его невзрачной супругой.
Страус-самец гораздо крупнее своих подруг; на фоне угольно-черных перьев, которыми покрыто его тело, красиво выделяются белоснежные крылья и хвост — в пустыне действительно белоснежные. Окраска самок почти вся ровная серо-коричневая, и им очень недостает роскошного черно-белого наряда их господина и повелителя. Страусовые перья — прекрасное украшение, и они высоко ценились во все времена не только дикарями, но и цивилизованными народами.
Итак, перед глазами юного натуралиста предстали самец и две самки.
Страусы не спеша шли своей дорогой. Лагеря они еще не заметили. Да и как было его заметить, когда он скрывался за деревьями, почти в самой середине рощи? Вытягивая длинные шеи, они изредка щипали листочки или подбирали зернышки, а затем важно продолжали свой путь. Из того, что страусы не разбредались в разные стороны в поисках пищи, а шли напрямик, словно к определенной цели, Ганс заключил, что они направляются к своему постоянному месту ночлега.
Появившись справа от Ганса, они скоро прошли мимо него и теперь все дальше и дальше углублялись в пустыню.
Ганс хотел было позвать своих товарищей, которые возились около фургонов и не заметили страусов. Мелькнула у него и мысль поймать этих птиц.
Но после минутного размышления он оставил это намерение. Страус ни для кого не был в новинку. Разве только Яну и Клаасу захотелось бы на них взглянуть, но они так устали после долгой езды по жаре, что оба крепко уснули, растянувшись на траве. Пусть лучше спят, подумал Ганс.
Отказался Ганс и от мысли убить страусов. Птицы отошли уже довольно далеко, и подкрасться к ним по голой местности на расстояние выстрела было бы немыслимо — Ганс хорошо знал, как они осторожны; такой же праздной затеей была бы и погоня за ними на усталых лошадях. Поэтому Ганс продолжал спокойно сидеть под деревом, провожая взглядом удаляющиеся фигуры трех гигантских птиц-верблюдов. Они шли большими шагами и уже исчезали из виду… Но тут новое существо, вдруг появившееся на равнине, отвлекло от них внимание молодого натуралиста.
Глава 11
САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ИЗ ВСЕХ ЛИСИЦ
Существо это четвероногое — очень маленький зверек, не крупней средних размеров кошки, однако совсем другой по виду и пропорциям. Мордочка у него была не круглая, как у кошек, а длинная и остренькая, а хвост густой и пушистый. Ножки его были выше, чем у животных кошачьей породы, но всего любопытней казались его уши — удивительно большие и совершенно не соответствовавшие его маленькой фигурке.
Все его тело было в длину не больше фута, а уши на целых шесть дюймов возвышались над его макушкой! Они стояли совсем прямо, широкие, твердые, с острыми кончиками.
Спина зверька была красивого светло-желтого цвета, грудь и живот — матово-белые. Нет, зверек этот не походил ни на кошку, ни на собаку, хотя с собакой у него и замечалось какое-то сходство. Но с одним животным собачьей породы он действительно имел очень много общего — с лисицей; он и являлся лисицей, самой маленькой южноафриканской лисичкой, и назывался он «каама». А в сущности, зверек не был даже и лисицей — это был фенек.
Что же такое фенек?
Это вопрос интересный, над его разрешением натуралисты немало поломали голову.
Несколько видов этого зверька распространены по всей Африке. Знаменитый путешественник Брюс, которого все считали большим выдумщиком, но о котором со временем пришлось переменить мнение, первый описал фенека.
Фенек во многом отличается от лисиц, но самое важное отличие заключается в устройстве его глаз. У настоящих лисиц зрачок узкий или продолговатый, тогда как у фенека он круглый. Лисица — животное ночное, а фенек — дневное. Правда, есть лисицы, любящие охотиться не ночью, и в сумерки; есть также и два-три вида фенеков, которые предпочитают вечернее освещение.
Мы будем называть его фенеком, или дневной лисицей, и скажем далее, что если в Африке водятся разные виды настоящих лисиц и лисиц-шакалов, то есть и несколько видов фенеков. Из них хорошо известны три. Первого — зерда — описал Брюс. Этого фенека он видел в Абиссинии, но встречается он также и в Южной Африке. Второй фенек — забора — уроженец Нубии и Кордофана, и его изваяниями (раньше считалось, что это изваяния шакала) египтяне украшали свои храмы. Третий вид фенека называется «каама фенек».
Четвертый вид — зерда Лаланда — был выделен из семейства фенеков и составил самостоятельный разряд, но не потому, что его образ жизни чем-либо отличается от образа жизни прочих длинноухих, а потому, что его скелет по форме некоторых костей был несколько иным, чем их скелет.
Появившийся перед Гансом фенек был каама — самый маленький из всего семейства фенеков, или лисиц.
Он, видимо, очень спешил по каким-то своим делам: то он крался, совершенно как лиса, то перебегал небольшое пространство проворной рысью, то останавливался и припадал к земле, словно боясь быть замеченным.
Куда же он торопился? Какую добычу преследовал?
Понаблюдав за ним некоторое время, Ганс, к своему величайшему изумлению, обнаружил, что фенек гонится за страусами.
Вытянув остренькую мордочку и блестя глазками, он бежал по тому же пути, по которому только что прошли страусы. Стоило страусам остановиться, как он тоже останавливался и низко приседал, чтобы они его не увидели; страусы двигались дальше, и он тотчас пускался вслед, время от времени прячась за камнями и кустиками и деловито высматривая уходивших вперед птиц. Несомненно, он бежал по их следу! Только что за дело было до страусов такому маленькому зверьку? Уж конечно, он не думал напасть на них, хотя и крался за ними точь-в-точь, как лисица крадется за выводком куропаток.
Тут было что-то другое. Ведь достаточно одного удара могучей ноги страуса, чтобы фенек отлетел на пятьдесят шагов, как мяч, отброшенный ракеткой теннисиста. Нет, он не мог преследовать их с враждебными намерениями — он казался так ничтожно мал по сравнению с огромными птицами-верблюдами!
Но зачем же бежал он за ними? Целью его были именно страусы, это ясно. Но зачем они ему понадобились?
Эту-то загадку и старался разрешить натуралист Ганс, внимательно наблюдая за действиями крошечной, «микроскопической» лисички.
Слово «микроскопический» тотчас напомнило мне один прибор — небольшую зрительную трубку, которую Ганс всегда носил с собой и в эту минуту вынул из кармана. Вооружиться трубкой ему пришлось потому, что страусы очень далеко отошли в пустыню, а их преследователя, фенека, уж и вовсе нельзя было рассмотреть простым глазом. С помощью стекол Ганс, однако, разглядел, что фенек, все также ловчась и хитря, продолжает бежать за страусами. Вдруг птицы остановились. Самец, как бы посовещавшись со своими спутницами, сел на землю, подогнув под себя свои длинные ноги, и всей грудью прилег к земле. Даже в свою слабую трубку Ганс увидел, что все тело страуса как бы раздалось вширь. Неужели он высиживал яйца? Значит, у них там гнездо? Вид земли около сидевшего страуса подтвердил это предположение. Вокруг тела птицы виднелось небольшое возвышение, похожее на край птичьего гнезда. Гансу было известно, что гнездо страусов очень просто устроено — это всего только углубление, вырытое в земле и со значительного расстояния совсем незаметное. Несколько каких-то белых предметов, разбросанных по соседству, убедили Ганса, что здесь и правда гнездо. Издали они казались маленькими камешками, но Ганс, учтя расстояние, заключил, что они должны быть размером с булыжник. Значит, это страусовые яйца. Ганс знал, что около гнезд страусов часто находят разбросанные яйца и некоторые думают, что страусы откладывают их нарочно, чтобы кормить ими только что вылупившихся птенцов. Обе самки, побродив немного вокруг, уселись около самца; но они только согнули в коленях свои длинные ноги, тогда как самец лежал грудью на земле и, казалось, весь расплющился.
Это окончательно убедило Ганса в том, что здесь у них было гнездо и теперь, к ночи, наступил черед самца высиживать яйца, а самки пока что просто устроились на ночлег. Самец высиживает яйца? Для юного натуралиста в этом не было ничего неожиданного: ему было известно, что самцы страусов всегда исполняют эту обязанность, и притом чаще всего именно ночью, потому что ночью холодно; большое тело самца лучше согревает яйца; а его сила может пригодиться в случае нападения на гнездо какого-нибудь хищника. Одна из самок, вероятно, сменит самца на рассвете.
Конечно, обе самки — матери будущего выводка; ведь страус, как известно, многоженец — «мормон» — и широко пользуется этой привилегией, обзаводясь иногда целой дюжиной супруг. Наш же приятель был «мормон» умеренный — он ограничился только двумя; впрочем, двоеженство, на наш взгляд, так же преступно, как и многоженство.
Итак, Ганс решил, что гнездо полно яиц и из них скоро должны вылупиться маленькие страусы. То, что птицы все вместе надолго уходили из гнезда, вовсе не противоречило его предположению. Погода стояла очень теплая, а в дневные часы, в самую жару, страусы часто покидают свои гнезда, предоставляя солнцу прогревать яйца вместо себя. Чем страна жарче, тем меньше приходится страусу высиживать яйца; в тропическом поясе Африки страус почти совсем не высиживает яиц, а просто закапывает их в раскаленный солнцем песок, используя его как инкубатор.
Но что же сталось с бедным малюткой фенеком?
Так спросил себя Ганс, оглядывая равнину в зрительную трубку. Увлекшись страусами, он совершенно забыл про маленького зверька.
Наконец ему удалось разглядеть желтоватое тельце, растянувшееся на земле, под защитой куста. По-видимому, фенек решил провести ночь здесь. Если б поблизости была хоть какая-нибудь ямка, он предпочел бы улечься в ней, потому что фенеки устраивают свои жилища в норах.
Ночь спустилась внезапно, и в темноте Ганс больше уже не мог следить за действиями птиц и фенека. Он спрятал зрительную трубку и вернулся в лагерь к своим товарищам.
Глава 12
БЕСКРЫЛЫЕ ПТИЦЫ
В лагере Ганс рассказал, как много любопытного ему удалось подсмотреть. Все очень заинтересовались и в особенности мальчуганы Клаас и Ян; но Клаас и Ян не очень-то были довольны, что им не пришлось увидеть все своими глазами. Почему Ганс их не позвал? Они бы только обрадовались, если б их разбудили поглядеть на страусов, тем более что страусы проходили так близко! Не всякий день увидишь таких великолепных птиц; страус пуглив, он никого к себе не подпускает, и Ганс отлично мог сбегать за ними в лагерь или же просто крикнуть им. Но ведь Гансу безразлично, видели они — Клаас и Ян — что-нибудь интересное или нет, они давно это знают!
Так ворчали на Ганса Клаас и Ян за то, что тот не прервал их сладкий сон ради трех страусов, которые шли себе по пустыне и ничего замечательного при этом не делали.
Но мальчики есть мальчики, и, пока они находятся в этом возрасте, их больше всего на свете будут привлекать птицы, особенно такие, как страусы — весом в триста фунтов и ростом в десять футов!
Если б это были буйволы, или жирафы, или даже слоны, Клаас и Ян не так бы огорчились. Сами по себе эти звери, нет слов, хороши, а для взрослых охотников, вроде Гендрика или Толстого Виллема, они самая подходящая добыча, но мальчики-охотники с их маленькими ружьецами и дробью пятый номер могут стрелять только птиц, хотя, по правде сказать, эта дробь пятый номер едва ли бы даже пощекотала страуса!
Но не в этом дело. Им так давно хотелось посмотреть гигантских птиц-верблюдов! Ганс должен был их позвать, и то, что он этого не сделал, с eго стороны «просто низость», как заявил Ян, а вслед за ним и Клаас.
Неизвестно, долго ли они еще препирались бы с Гансом, осыпая его упреками, если б разговор, сосредоточившись на страусах, не показался им очень любопытным; Клаас и Ян живо заинтересовались и скоро забыли про свою маленькую размолвку с Гансом, тем более что сам Ганс и был рассказчиком. Ганс очень много читал о страусах и хорошо знал характер и привычки этих интереснейших птиц.
Вторым после Ганса знатоком страусов был Черныш. В молодости он долго жил в пустыне, а пустыня — это родной дом и бушмена и птицы-верблюда. Черныш очень обрадовался случаю похвалиться своими познаниями, потому что недавние удивительные подвиги его соперника-кафра совершенно отодвинули его на задний план. Большая начитанность Ганса и жизненный опыт Черныша доставили юным охотникам случай хорошо познакомиться с жизнью и особенностями этой птицы.
— Страус, — начал Ганс, — африканская птица, хотя встречается и в близлежащих странах Азии. В Южной Америке и в Австралии есть несколько видов птиц, немного похожих на страуса, и некоторые путешественники тоже называют их страусами. Я еще расскажу о них.
Страус живет на всем Африканском континенте, а также в степях юго-западной Азии — словом, везде, где есть пустыни; по своим свойствам он обитатель пустынь и никогда не селится в лесистых или болотистых местностях и даже на плодородных равнинах.
Страус известен с древнейших времен, и в дни Гелиогабала[227] их было гораздо больше, чем теперь. Рассказывают, что на пиршествах этого императора подавали блюда, приготовленные из мозгов шестисот страусов!
— Вот был обжора! — вскричал Ян.
— Вот лакомка! — откликнулся Клаас.
— Я уверен, что после таких пиршеств у него в животе было больше мозгов, чем в голове, — спокойно заметил Аренд.
— Наверняка! — подтвердил Гендрик.
Ганс продолжал:
— Древние называли страуса «птица-верблюд». Это имя было дано ему вследствие его воображаемого сходства с верблюдом. Два толстых пальца ступни страуса похожи на раздвоенное копыто верблюда. У того и другого длинные голые ноги и шея. На груди у страуса как бы мозоль или подушка, наподобие нароста на груди верблюда. Все это, казалось, сближало страуса с верблюдом, который, как и страус, приспособлен только к жизни в пустыне. Аристотель и Плиний в своих сочинениях описали страуса, как полуптицу, получетвероногое.
Когда Ганс кончил свое научное описание страуса, Черныш, в свою очередь, рассказал все, что знал о его привычках и жизни.
Соберем вместе рассказы обоих и попробуем их изложить.
Страусы живут обществами. Стада их, штук по пятьдесят, мирно пасутся вместе с зебрами, кваггами, гну, полосатыми гну и множеством других заходящих в пустыни антилоп.
С одним самцом ходит по нескольку самок — обычно от двух до шести. Каждая самка кладет по двенадцати — шестнадцати яиц в гнезде, которое представляет собой вырытую в песке яму около шести футов в диаметре. В гнездо кладется не больше половины яиц. Остальные разбросаны вокруг, и птенцы никогда из них не вылупляются.
Черныш уверял, будто эти яйца предназначаются в пищу маленьким, когда они только появятся на свет, но Ганс с ним не согласился. Натуралист был того мнения, что страусы не кладут эти яйца в гнездо потому, что одна птица все равно не может столько их высидеть. Поэтому, как только в гнезде накапливается достаточно яиц, страусы разбрасывают остальные где попало.
Предположение юного натуралиста было очень правдоподобно.
Ганс считал, что страусы действительно продолжают нестись после того, как уже началось высиживание, и разбрасывают последние яйца; но Гансу казалось сомнительным, что эти яйца служат пищей для птенцов. Страус может покрыть своим телом от тридцати до сорока уложенных стоймя яиц, но обычно в гнезде бывает не более пятнадцати.
Самец тоже сидит на яйцах, и притом по ночам, потому что его большое, сильное тело лучше может защитить яйца от холода. Самки сменяют друг друга днем, а когда становится жарко, вся семья покидает гнездо на много часов. По словам Ганса, в тропических странах страусы подолгу не проявляют интереса к яйцам, а горячий песок и солнце исполняют обязанности родителей; поэтому в тропиках инкубационный период не имеет определенного срока и длится от тридцати до сорока дней.
Вылупившиеся птенцы хорошо развиты и дня через два бывают уже величиной с цесарку; они выходят из гнезда и бегают по пустыне под присмотром старших.
Старые страусы в это время очень заботятся о своем потомстве. При виде врага самка, охраняющая выводок, старается привлечь к себе внимание незваного гостя; она притворяется, будто ранена, — то распускает, то складывает крылья и шатается из стороны в сторону, — а тем временем самец уводит птенцов куда-нибудь подальше. Куропатки, дикие утки и многие другие птицы поступают точно так же.
Яйца страуса матово-белого цвета. Размер их разный, как различна величина и самих птиц. Средних размеров страусовое яйцо имеет шестнадцать дюймов в длину и весит около трех фунтов. Испеченное в горячей золе, оно очень вкусно и вполне может насытить одного человека; некоторые, впрочем, считают, что яйца хватает на двоих-троих, а другие, — что его мало и на одного. Но «кушанье на одного» — очень неточное определение. Тут все зависит от вместимости желудка и от аппетита. Скажем лучше, что по весу одно яйцо страуса равняется двадцати четырем куриным.
Скорлупа страусовых яиц очень твердая; бушмены и другие обитатели пустыни держат в ней воду, и многим из них она заменяет всю посуду.
Взрослый страус-самец имеет больше девяти футов роста и весит триста фунтов. Ноги такой птицы очень толсты, мускулисты и не уступают в этом отношении ноге самого большого барана.
Считается, что страус бегает быстрее всех животных на свете. Вряд ли это так. Но, во всяком случае, лошади его не догнать. Правда, страус иногда делает на бегу петли, и всадник, заметив это, бросается ему наперерез; расстояние между ними сокращается, и в этот момент страуса можно пристрелить из ружья. Но по прямой за ним не угнаться даже арабу на его резвом скакуне. Неутомимость страуса равняется быстроте его бега. Он бежит одинаково ровным шагом целые часы подряд — его толстые, длинные ноги с могучими мускулами прекрасно для этого приспособлены. На бегу он стучит ногами, как лошадь, и отбрасывает назад большие камни. Развив максимальную скорость, страус распускает свои крылья и поднимает их над спиной. Впрочем, делается это только для сохранения равновесия, потому что пролететь он не может и ярда.
Основным орудием защиты страусу служит нога с ее копытообразной ступней. Он брыкается, как мул, и одним ударом может сломать ногу человеку, а то и вовсе вышибить из него дух — не хуже лошади!
Но главный залог безопасности страуса — это его замечательная зоркость, совершенно необходимая при его своеобразном образе жизни.
Он всегда на открытой равнине, где ничто не заслоняет ему зрения, и его острый глаз замечает врага задолго до того, как тот успел приблизиться и сделаться опасным. Страус видит противника на таком расстоянии, когда его самого еще не видно, а ведь он так велик ростом!
Подобраться на расстояние выстрела к этой недоверчивой птице очень трудно. Иногда ее удается застрелить, спрятавшись около родника или ручья, куда они приходят пить. Многие считают, что страусы вообще не пьют, потому что их можно встретить на большом расстоянии от воды; но нельзя забывать, что расстояние, кажущееся большим усталому путнику, сущий пустяк для быстроногого страуса, который пожирает мили, как беговая лошадь.
Некоторые охотники проследили, что страусы приходят пить каждый день и всегда в одно и то же место. Известно также, что в неволе страус выпивает много воды. Утолив жажду, он бежит гораздо медленнее, и охотники, пользуясь этим, преследуют его после водопоя.
На высоком южноафриканском плато живут племена, занимающиеся охотой на страуса, как промыслом. Его перья ценятся довольно высоко, так же как и шкура, упругая и прочная; после сушки на солнце из нее вырабатывают хорошие сорта кожи, которая идет на шитье курток и другой одежды. Кожа без перьев стоит около фунта стерлингов, а длинные белые перья из крыльев и хвоста, которых бывает обычно сорок пять штук (лучшими считаются перья из крыла), нередко идут на месте по шиллингу за штуку.
Толстый Виллем сказал, что страуса можно легко приручить — он не раз видел ручных страусов в пограничных краалях буров, но там они превращаются в бесполезных баловней.
Для человека они вполне безопасны, но на птичнике от них одна беда. Они насмерть затаптывают домашнюю птицу и иногда глотают живьем цыплят и молодых утят — не из кровожадности, а просто потому, что они необыкновенно прожорливы: с таким же аппетитом они проглотят и старую тряпку.
Настоящая пища страусов — это разные зерна, семена и нежные листья с верхушек кустарников, но они проглатывают также и самые несъедобные предметы. Как и большинство диких животных, страусы очень любят соль, и часто можно видеть, как они собираются большими стадами около соленых озерков, которых так много на пустынных равнинах Африки.
Мясо молодых страусов очень вкусно, но у старых птиц оно жесткое и немного горьковатое. Их яйца признаются деликатесом, хотя некоторые считают, что они тяжелы для желудка.
Когда страус спокоен, его голос похож на низкое и звучное квохтанье, но временами он издает громкий рев, напоминающий рыкание льва. Раненый или загнанный, он шипит, как разъяренный гусак.
Закончив рассказ о страусах, Ганс перешел к описанию родственных ему пород, о которых он обещал сказать несколько слов. Южноамериканский представитель страусов называется «pea»; не так давно было обнаружено, что в Южной Америке есть три различных вида pea: нанду обыкновенный, нанду Дарвина и нанду длинноклювый. Они похожи друг на друга очертанием, цветом и привычками, но различны по величине и живут в разных географических поясах. Обыкновенный нанду больше ростом и обитает на просторных равнинах Ла-Платы, нанду Дарвина придерживается Чилийских Анд, а длииноклювый нанду живет в северо-восточной Бразилии.
Нанду близок к африканскому страусу по форме тела и своей невзрачной бурой окраской напоминает самку страуса. Размером он, однако, гораздо меньше
— всего пять футов в вышину. Перья на его крыльях не так красивы и ценятся дешевле перьев его африканского собрата, хотя тоже идут на продажу — из них делают метелки от мух и другие хозяйственные принадлежности.
Нанду живут обществами; у каждого самца по нескольку самок; гнездо представляет собой небрежно вырытую яму. Он высиживает от двадцати до тридцати яиц. Спасаясь от врага, бежит очень быстро; если на него напасть, шипит и яростно брыкается; нравом опаслив и недоверчив. Все это характерные черты страуса. Нанду без принуждения входит в воду и может переплыть быструю реку. Гаучосы ловят его с помощью лассо и бола.
Нанду Дарвина меньше размером, чем нанду длинноклювый, но цвет оперения, форма тела и привычки у них почти одинаковы. Он тоже хорошо плавает и часто посещает прибрежные равнины.
В Северной Америке нет нанду и вообще никаких птиц, родственных страусу. В этом отношении природа обделила пустынные просторы прерий.
Даже в Южной Америке район распространения нанду ограничен и не доходит до экватора, хотя простирается гораздо дальше, чем принято думать. Недавно pea были замечены в саваннах близ реки Мадейра, много севернее пустынных равнин Ла-Платы.
Яйца нанду имеют голубоватый оттенок.
Другой родич страуса — это эму.
По форме тела и образу жизни эму похож на обоих, а по окраске почти совершенно такой же, как нанду. Однако ростом он выше его — семи футов, — и взрослый самец приближается по величине к самке страуса.
Он имеет все характерные черты страуса — живет обществами, делает гнезда в земле, опаслив, осторожен, быстро бегает, плавает хорошо, может ударом ноги убить собаку или сломать ногу человеку, издает особенный гудящий крик и кладет яйца почти такие же большие, как яйца страуса, но темно-зеленого цвета.
Эму водятся в Австралии. Известны три вида этих птиц.
На островах архипелага — от Новой Гвинеи до Церама — распространены страусовые птицы, отличающиеся от страуса гораздо больше, чем нанду или эму. Это казуары. Их тело покрыто черными, как смоль, волосовидными перьями; голова и шея у него голые, а кожа на них очень красивого голубовато-фиолетового цвета, переливающегося в алый.
Казуары во многих отношениях отличаются от страусов. Они живут не в пустыне, а в плодородных местностях и питаются сочными травами. Но повадки их почти те же. Как и страусы, они защищаются ударом ноги, яйца кладут на землю и высиживают их небрежно, половину работы предоставляя теплу солнечных лучей; в защите они отважны, быстроноги и сильны и могут считаться одними из наиболее интересных пород не только страусов, но и птиц вообще.
Ганс упомянул еще бескрыла, или киви-киви, несколько видов которого живут в Новой Зеландии.
Это птицы ночные, высиживающие яйца в норе. Oни не принадлежат к страусам и образуют особый подотряд.
Глава 13
ФЕНЕК И СТРАУСОВЫЕ ЯЙЦА
Прежде чем разойтись на покой, молодые люди решили на следующий же день окружить страусов, заранее предвкушая все удовольствия этой охоты. Положено было, что Гендрик и Толстый Виллем отправятся первыми и сделают большой объезд, чтобы стать далеко позади гнезда. Вскоре после них выедут Аренд и Ганс и обойдут гнездо справа и слева, а Ян и Клаас отрежут страусам отступление в сторону лагеря. Таким образом, шестеро охотников, находясь на большом расстоянии друг от друга, замкнут стpaycoв в круг, и, когда те в страхе бросятся бежать, ближайший охотник преградит им путь и погонит их в обратную сторону. Так охотятся на страуса в Южной Африке, и это единственный способ утомить его и загнать; если «окружение» сделано толково, то напуганная птица начинает метаться из стороны в сторону и в конце концов дает взять себя живьем или пристрелить. Однако подходить слишком близко к загнанному или раненому страусу очень опасно. Раненый страус иной раз так ударит охотника, что тот летит кубарем со сломанной ногой или рукой, а то и остается без двух ребер. Осторожный Ганс, как всегда, предупредил об этом своих товарищей и велел им беречься.
Молодые охотники заснули в приятном ожидании завтрашнего утра. Все тешились надеждой убить или поймать старого самца, выщипать его белоснежные перья и присоединить их к своим трофеям.
Единственно, что могло помешать задуманной охоте, была малочисленность охотников. Юноши сомневались, сумеют ли они вшестером окружить трех страусов, задержать их и погнать обратно, тем более что двое из шестерых охотников были маленькие мальчики верхом на пони.
Поэтому охотники решили принять в круг также Черныша и Конго. Хоть у них и не было лошадей, но оба они отличались большой ловкостью и бегали ничуть не хуже любого пони. Вооруженные — один ассегаи, другой маленьким луком с отравленными стрелами, — они стоили того, чтобы занять место в кругу, который замкнет страусов. Тогда против троих птиц соберется не шесть, а восемь охотников, и в помощь им будет еще шесть гончих, так что шансы поймать страусов окажутся не так уж малы.
Но, как это ни грустно, размечтавшихся мальчиков постигло полнейшее разочарование. Тщательно обдуманный план сорвался из-за одного смешного случая.
Ночью в лагерь пробралась гиена и съела подпругу и крыло седла Гендрика; и, прежде чем повреждение было исправлено, страусы ушли от гнезда.
Когда охотники вернулись, страусы были еще на месте, но задержка из-за починки седла оказалась роковой для плана окружения. Утро было знойное и душное, и птицы, предоставив солнцу греть яйца, ушли рано. Юноши, садясь на лошадей, видели, как они, широко шагая, направились в противоположный конец равнины.
Скоро их уже нельзя было рассмотреть невооруженным глазом; Ганс следил за ними в зрительную трубку, но скоро и он потерял их из виду.
Все были очень разочарованы; так же бывают разочарованы охотники на лисиц, когда неожиданный мороз и снег загонят их обратно по домам. Особенно негодовал Гендрик: ведь все произошло из-за беды, постигшей его седло. Если б гиена теперь попалась ему на глаза, он наверняка угостил бы ее пулей. Остальные хоть и в меньшей степени, но тоже разделяли его раздражение.
Все шестеро нетерпеливо вертелись в седлах, не зная, что им предпринять.
— Давайте поедем к гнезду, — предложил Аренд. — Уж яйца-то, во всяком случае, никуда не удрали, и я лично ничего не имею против яичницы на завтрак. (Перед отъездом юноши не успели позавтракать.) Мне уж надоело все одно мясо да бильтонг. Что вы на это скажете?
— Согласны! — откликнулся Виллем. — Раздобудем яйца и позавтракаем, если только они еще свежие. Я вовсе не прочь полакомиться яичком! Едем!
— Постойте! — крикнул Ганс, пристально глядя в зрительную трубку. — Стойте, друзья! Кажется, еще не все пропало — мы еще поохотимся!
— Что случилось? — спросили остальные. — Неужели страусы возвращаются?
Ганс ответил не сразу. Он смотрел не в ту сторону, куда ушли страусы. Его трубка была направлена на гнездо, хотя птиц там не было.
— Так и есть! Так и есть! Это она! — воскликнул Ганс.
— Кто? Кто — она? — спросили юноши.
— Лисица! — ответил Ганс.
— Какая лисица?
— Да фенек же, тот самый, которого я видел вечером. Вот он! Простым глазом вы его не увидите — и я в трубку-то едва его различаю. Он у самого гнезда и что-то там возится.
— Держу пари — он ест яйца! — сказал Толстый Виллем.
— Охота на лисицу! Охота на лисицу! — вскричал Гендрик, сразу повеселев.
— Охота на лисицу! — отозвались Клаас и Ян.
— На лисицу так на лисицу, — согласился Ганс.
И все шестеро, свистнув собак, пустились вскачь. Они направились прямо к гнезду. Делать объезд из-за такого ничтожного существа, как маленький фенек, не стоило. Собаки догнали бы и затравили его, куда бы он ни побежал. Спастись от них он мог только в какую-нибудь норку. Но вряд ли его нора была близко: он, должно быть, вчера еще покинул свое жилище и так и шел вслед за страусами к их гнезду в надежде добраться до яиц. Черныш подтвердил, что такая привычка за фенеками водится: яйца они любят больше всего, яйцам же страусов оказывают особое предпочтение. Они вечно скитаются в поисках страусовых гнезд, однако найти их очень трудно даже лисице; поэтому, заподозрив, что такие-то страусы снесли яйца, фенек готов следовать за ними куда угодно, лишь бы проведать, где находится их гнездо. Этим-то, видно, и был занят тот фенек, которого вчера вечером видел Ганс.
Все эти сведения Черныш сообщил накануне, и таким образом объяснилась тайна маленького существа, бегущего по следу громадных страусов. Не страусы были ему нужны, а их яйца.
Только одного Черныш не мог объяснить: как доберется фенек до содержимого яиц, когда он их найдет? Скорлупа у них толстая и крепкая. Чтобы разбить яйцо, надо сильно ударить его каким-нибудь твердым предметом; как же умудрится фенек, такой слабый и маленький, пробить в яйце дырку? Это было загадкой для всех, особенно для натуралиста Ганса. Ганс был хорошо знаком с фенеками. Он часто видел их в неволе. Знал немного и их анатомию. Ему было известно, что в их черепе отсутствует бороздка, к которой прикреплены височные мышцы) и что, следовательно, у них слабые челюсти — гораздо слабее, чем у обыкновенной лисицы. Значит, разгрызть страусовое яйцо фенеку не под силу. Не может он и разбить яйцо когтями, так как, хотя он обитает в жарком поясе, подошвы его лапок покрыты мягкой шерстью, как у песца. Эта его удивительная особенность до сих пор никак не объяснялась натуралистами.
При такой структуре тела и слабосилии, доказывал Ганс, фенеку так же трудно достать содержимое страусового яйца, как проникнуть в середину пушечного ядра. Черныш говорил понаслышке, будто бы фенек питается белком и желтком страусовых яиц, но как он это делает, бушмен никогда не видел и объяснить не мог. Однако молодые люди недолго оставались в неизвестности. Через несколько минут сам фенек открыл перед изумленными охотниками свою тайну.
Подъехав к гнезду на довольно близкое расстояние, все увидели маленького фенека и быстро сдержали лошадей, чтобы как-нибудь не спугнуть его. Но он был так занят собственными делами, что не заметил их приближения. Толстый слой мягкого песка, который покрывал землю, настолько заглушал стук копыт, что фенек, несмотря на свой отличный слух — пропорциональный величине его ушей, — не уловил ни звука. Он весь ушел в работу и ни разу не взглянул в сторону охотников. Временами он поднимал голову, но только для того, чтобы посмотреть, не возвращаются ли страусы. Таким образом, молодые люди, сами оставаясь незамеченными, могли без помехи следить за всеми его действиями. А это было очень интересно.
Черныш и кафр крепко держали собак на сворках, и все, затаив дыхание, замерли как статуи.
Что же делал маленький фенек?
Сначала зрители оставались в недоумении, но скоро все объяснилось.
В тот момент, когда они его увидели, фенек был на расстоянии нескольких ярдов от гнезда, с противоположной от охотников стороны. Он стоял к ним спиной, и передняя часть его туловища казалась приподнятой, как если бы лапы его на что-то опирались. Это «что-то» было страусовое яйцо. Фенек катил его перед собой по песку, толкая попеременно то одной, то другой лапкой. Эти его равномерные движения напоминали движения несчастных рабов на сукновальнях, с той только разницей, что труд фенека не был подневольный.
Но зачем фенек катил яйцо? Уж не подумал ли он докатить его до своей норки? Это была бы нелегкая работа, так как его подземное жилище, без сомнения, находилось совсем не по соседству.
Однако катить яйцо к себе в дом вовсе не входило в намерение фенека. Он собирался пообедать тут же, на месте, или, по крайней мере, поблизости. Зрители скоро увидели, где накрыт его стол. Им пришел на память один любопытный рассказ про кааму, который они когда-то слышали и теперь, глядя на хлопоты фенека, тотчас догадались, зачем он все это делает.
В трех-четырех ярдах от мордочки фенека лежал небольшой камень, всего дюймов двенадцати в вышину, но фенеку было, видимо, достаточно и такого, потому что он катил яйцо прямо на него.
Немного погодя охотники убедились, что их догадка была верна. Когда между мордочкой фенека и камнем оставалось фута три, он внезапно сделал быстрый скачок вперед, увлекая лапками яйцо. Твердая скорлупа ударилась о еще более твердый камень, послышался явственный звук «крак!», и, вглядевшись пристальней, молодые люди увидели, что яйцо разбито вдребезги.
Завтрак фенека был перед ним, и он сразу принялся за еду; но охотники тоже были голодны, терпение их иссякло, и, пришпорив лошадей и спустив собак, они поскакали вперед.
Недалеко убежала лисичка, спасая свою жизнь, — она промчалась всего каких-нибудь двести ярдов. Собаки настигли ее, и Черныш, осыпая собак ударами плетки из гиппопотамовой кожи, едва успел спасти от их клыков прекрасную шкуру лисички.
Яйца были быстро собраны. Те, что лежали в гнезде, как и предвидел Виллем, уже порядком «перезрели». Часть была с птенцами, другие протухли. Но среди разбросанных по сторонам нашлось несколько совершенно свежих, и охотники получили на завтрак желанную яичницу.
Черныш показал им, как лучше всего варить яйца страусов. Одним концом их ставят в горячую золу, на другом делают дырку и палочкой помешивают содержимое до тех пор, пока оно как следует не проварится. Так приготовляется омлет из страусовых яиц.
Глава 14
ГОЛУБЫЕ АНТИЛОПЫ
Несмотря на то, что охота на фенека оказалась не очень интересной, юношам все же не пришлось особенно сетовать на свои охотничьи неудачи. В Южной Африке, кроме слабых и беспомощных лисичек, есть множество сильных и неутомимых животных, и с одним из них посчастливилось встретиться в тот же день и даже чуть ли не в тот же самый час.
По другую сторону рощи, около которой были замечены страусы, лежала широкая, открытая равнина. Только узкая лесная полоса отделяла ее от пустыни. Это была прерия или обширный луг, и трава на нем, особенно по сравнению с ровным темным пространством по другую сторону леса, казалась удивительно яркой и свежей.
Луг был очень большой, но вполне обозримый. В отдалении виднелся закрывавший горизонт лес из жирафьей, или верблюжьей, акаций, и по лугу тоже были кое-где разбросаны группы этих деревьев; их зонтичные кроны и бледно-зеленая листва придавали пейзажу живописность и разнообразие.
Этот луг казался настоящим парком. Рощицы и перелески расположились на нем так правильно, как будто их нарочно, для красоты, посадили среди широких площадок с сочной травой.
Такой великолепный парк, такие роскошные пастбища не могли не иметь хозяев; и точно, хозяева здесь были. Но ни построек, ни домов и вообще никаких следов человека нигде не было видно. Парк имел совсем других обитателей. На лужайках и в рощицах можно было разглядеть много разных крылатых и бескрылых существ. Всевозможные редкие и красивые птицы и четвероногие сделали этот прекрасный уголок своим приютом.
По зеленому газону шагал секретарь — глотатель змей, выискивая в траве свою сверкающую добычу. Ему нечего было опасаться внезапно подкравшегося кровожадного зверя — даже не распуская крыльев, только с помощью своих длинных ног, он мигом оказался бы за пределами досягаемости гиены, шакала или леопарда. Секретарь — птица быстроногая, почти такая же быстроногая, как сам великан-страус, и недаром арабы дали ему смешное прозвище — «лошадь дьявола».
Невдалеке от него, на лужке, стояла выпрямившись еще одна высокая птица, но совсем иных привычек и характера. Это была пава, или дикий павлин, как называют ее буры, а на самом деле дрофа, и притом самая большая из всего семейства.
От рощицы к рощице, поклевывая на пути, перебегали стайки серебристых цесарок, и их непрерывная болтовня, напоминающая лязг металла или визг сотни натачиваемых пил, неприятно резала слух.
С дерева на дерево перелетали яркие попугаи, зеленые голуби и нежно воркующие голубки; над усеянными цветами кустарниками порхали всех видов крошечные пташки — нектарницы, заменяющие в Африке колибри. Птицы-ткачи устроили на ветвях деревьев свои висячие гнезда, которые качались, точно какие-то большие плоды; а верблюжья акация вся была увешана обширными тростниковыми жилищами общественных воробьев дружной республиканской братии.
Но не одни только птицы населяли это очаровательное местечко. Четвероногие, такие же пестрые и нарядные, как и птицы, паслись на его зеленых прогалинах или отдыхали в прохладной тени акациевых рощиц.
За несколько часов прогулки здесь можно было встретить грациозных антилоп самых различных пород. Стада резвых южноафриканских антилоп-скакунов пробегали по лужайкам, шаловливо или в испуге делая высокие прыжки в воздух; иногда попадались бурые антилопы каамы и красноватые сассиби; кругами носился по лугу чудаковатый, с косматой гривой гну и бродили стада квагг и еще более красивых бурчеллиевых зебр. Можно было также увидеть тут и крадущегося вдоль опушки рощи великолепного, но внушающего ужас леопарда или даже самого грозного властелина этих мест — красавца льва.
И еще многие и многие другие, не менее интересные существа могут попасться на глаза путешественнику или охотнику за один только день езды по этим диким звериным владениям.
Какой контраст составлял этот прекрасный оазис по сравнению с однообразной бескрайней пустыней, простиравшейся по ту сторону леса до самого горизонта!
Молодые люди, огорченные неудачей с окружением страусов, недовольные слишком легкой охотой на фенека, твердо решили не упускать своего охотничьего счастья. Наконец-то можно будет вволю поохотиться хотя бы за антилопами-скакунами — уж их-то они непременно здесь встретят!
Юноши знали о существовании этой прекрасной равнины — она подходила почти к самому их лагерю. Накануне вечером они пасли там своих быков, и охотничье чутье тотчас им подсказало, что тут должно быть необыкновенное изобилие всяких животных. Теперь они решили непременно посетить эти места и не возвращаться домой без добычи.
Поэтому после приключения со страусовым гнездом они, не расседлывая лошадей, наскоро позавтракали и, захватив собак, снова пустились в путь. Конго и Черныш остались в лагере.
Ехать пришлось недолго — очень скоро они увидели дичь, и дичь редкостную.
Молодые охотники еще не выбрались из рощи, как их передовой, Гендрик, вдруг сдержал лошадь и знаком приказал остальным последовать его примеру. Все повиновались и, сидя в седлах под тенью деревьев, стали глядеть сквозь листву на развернувшуюся перед ними равнину. Зрелище, которое они увидели, заставило бы учащенно забиться сердца и более искушенных охотников. Прямо против них на равнине паслось стадо благородных антилоп.
Антилопы эти не принадлежали к обычным породам. Это были не гну, и не скакуны, и не каамы, которых молодые люди очень хорошо знали. Подобных красавцев ни один из всей шестерки еще не видел никогда, и только по очертаниям их тела, изгибу рогов и другим характерным признакам охотники могли признать в них антилоп.
Это были крупные животные, ростом фута в четыре, с саблевидными, покато загнутыми назад рогами, валики на которых доходили почти до самых кончиков. Цветом антилопы были пепельно-серые с синим отливом; этот оттенок придавала их шкурке просвечивавшая сквозь шерсть иссиня-черная кожа.
Хотя никто из юношей никогда не встречал таких антилоп, но Ганс, Гендрик и Виллем легко определили, к какой породе они принадлежат. Антилопы этой породы в давние времена населяли Грааф-Рейнет, но изредка попадались и гораздо южнее, у самого мыса Доброй Надежды. Это было задолго до того, как молодые охотники научились стрелять или ездить верхом, но от своих отцов они слышали рассказы про этих животных — об их голубой окраске, о длинных загнутых рогах, изящной форме тела и об их смелом, горячем нраве. Вспомнив это описание, юноши сразу признали в гулявших перед ними на лугу неведомых животных тех самых антилоп, о которых говорили им старики. Это были голубые, или, как их называют буры, синие, антилопы.
Ганс, оглядев их внимательно, подтвердил, что это точно голубые антилопы.
Семейство антилоп очень богато видами. Все это крупные, красивые животные; многие из них водятся в Южной Африке и преимущественно вблизи великой Оранжевой реки.
К числу болотных антилоп принадлежит водяной козел. Он очень силен, ростом около четырех футов и голубовато-серого цвета. Живет он на берегах рек, свободно входит в воду, отчего и называется болотным, отлично плавает, нравом отважен и свиреп. Затравленный или раненый, бывает очень опасен.
Антилопа бородатая почти такая же большая, как водяной козел, но отличается от него длинной бородой и гривой. По смелости и свирепости она не уступает водяному козлу, а в беге оба одинаково быстры. Бородатая антилопа, однако, не нуждается в близости воды и предпочитает холмистую местность; питается она, как козел, листьями акации.
К лошадиным антилопам принадлежит чалая антилопа — сильное и злое животное; ее толстые рога тоже загибаются назад, но более круто, чем у голубой антилопы. Живет чалая антилопа в горах и редко спускается в равнины.
Черная антилопа — самая красивая из антилоп. Недавно открытая в Южной Африке одним страстным английским охотником, она лишь теперь стала известна ученому миру. Ростом она не выше всех прочих — четырех футов и шести дюймов. Ее рога, более трех футов длины, имеют форму кривого восточного кинжала. Спина у нее черная, как смоль, и блестящая. Отсюда и ее название; брюхо у нее белое, на голове и на шее тоже белые метины.
Все перечисленные антилопы являются редкостью даже в излюбленных ими местах. Они не ходят большими стадами, как газели, гну, дикие козы и пятнистые антилопы. Иногда черные антилопы появляются группами, верней — семействами в десять — двенадцать голов. Чаще же всего их можно встретить парами или в одиночку, и по сравнению с другими более общительными и многочисленными видами они редки даже на своей родине.
Голубая антилопа — самая редкая из всех, и некоторые натуралисты даже считают ее вымершей. Вряд ли это так. Африка велика, и в ней еще много неисследованных уголков. Все эти сведения сообщил ученый Ганс, но, понятно, не в тот момент, когда они только что заметили бродивших по лугу антилоп. Наверно, если б товарищи были расположены его слушать, он тут же пустился бы в объяснения, но им было не до того. Гендрик и Толстый Виллем, широко раскрыв глаза, любовались красивыми животными, сильные и порывистые движения которых сулили им славную охоту.
Глава 15
ПОГОНЯ ЗА ГОЛУБЫМИ АНТИЛОПАМИ
Итак, на лугу паслось семь антилоп. Впереди выступал вожак, старый самец. Он был больше всех ростом, с длинными загнутыми рогами. Антилопы направлялись к рощице, за которой журчал родник — вероятно, они шли на водопой. Увидев это, молодые охотники решили наскоро составить план действий, но совещание их внезапно было прервано по вине молодой, плохо выдрессированной гончей, которая, прежде чем они успели о чем-либо условиться, вдруг выскочила из кустов и, заливаясь лаем, помчалась прямо на антилоп.
Вожак предостерегающе фыркнул, и все семь антилоп, как по сигналу, круто повернулись и бросились бежать.
Неожиданная выходка собаки спутала все карты, и ни о какой тактике думать уже не приходилось. Единственное, что оставалось охотникам, — это пуститься в отчаянную погоню.
Пришпорив лошадей, все шестеро выскочили из-под прикрытия и полетели по равнине.
Несколько минут длилась стремительная скачка — впереди семь голубых антилоп, за ними собаки, за собаками — охотники. Какое это было великолепное зрелище!
Но очень скоро первоначальное расстояние между собаками, людьми и дичью нарушились, и вся картина совершенно изменилась. Первым рассыпался строй всадников. Пони Клааса и Яна начали отставать и наконец остались далеко позади. Потом сбавил скорость философ Ганс. Его конь, который не имел соперников в дальних переходах и был незаменим при стрельбе с седла, решительно не годился для такой гонки. Затем выбыл красавец Аренд; он, конечно, мог бы занять лучшее место, потому что под ним была хорошая лошадь, но Аренда мало привлекала охота, а еще меньше скачка под палящим солнцем; он ослабил поводья, а охотники тем временем ускакали далеко вперед, так что даже уследить за ними было невозможно. Тогда Аренд въехал в тень верблюжьей акации и лениво стал обмахиваться крагой своей военной перчатки.
Однако двое юношей со всем охоничьим пылом продолжали мчаться почти вровень с собаками. Это были Гендрик и Виллем; из чувства соревнования, о котором говорилось раньше, каждый поставил себе целью не отступать до тех пор, пока не убьет зверя.
Оба были на прекрасных лошадях, хотя и совершенно разных.
У Гендрика был красивый небольшой вороной конь с арабской кровинкой; этой примеси было достаточно, чтоб из него получилась в полном смысле охотничья лошадь — прекраснейшая порода в мире, лучшая даже, чем чистокровные арабские. Такие лошади хороши везде, за исключением бегов на призы.
Лошадь Толстого Виллема была совсем иная, и можно сказать, что многие черты, свойственные хозяину, отличали и коня.
Рост обеих лошадей был пропорционален росту наездников: если Виллем был вдвое больше Гендрика, то и лошадь его была вдвое больше лошади его троюродного брата; ноги же ее были вне всяких пропорций.
Вот как она выглядела. Спина у нее была плоская и тощая, ноги высокие и костистые, шея необычайной длины, без малейшего намека на изгиб, голова худая и шишковатая, как у жирафа. И вообще в ней так много было сходства с этим смешным четвероногим — неровный и неуклюжий аллюр, жидкий хвост с длинной репицей, — что молодые охотники так и окрестили ее: «Большой Жираф». Казалось, уродливее лошади нельзя было найти в стране буров, но ее хозяин, Толстый Виллем, не променял бы ее на красивейшую лошадь по всей Африке.
Однако, несмотря на свое безобразие, это был прекрасный конь. Про таких коней жокеи говорят: «На вид дурен, да под седлом хорош». А Виллем не глядел на внешность. Внутренние качества он всегда предпочитал многообещающей наружности. Большой Жираф был как бы олицетворением его вкуса: по виду не обещал ничего, а на деле был удивительно хорош. Много квагг, зебр и сассиби загнал он, много неутомимых гончих оставил позади себя и множество охотников опередил, неся на себе тяжелый груз — Толстого Виллема. Понятно, что тот высоко ценил своего прекрасного тренированного коня.
Гендрик тоже очень любил своего красавца вороного. Разговоров о том, чья лошадь быстрее и выносливее, было множество, но проверить по-настоящему их качества до сих пор не представлялось случая. В отношении красоты все преимущества были на стороне скакуна Гендрика — сам Толстый Виллем признавал это и только посмеивался, удивляясь, что красоту считают каким-то достоинством лошади.
Охота на голубых антилоп как раз могла послужить хорошим испытанием для обеих лошадей. Антилопы выбежали на открытую равнину, увлекая за собой охотников; скакать за ними предстояло много миль подряд, так как это животное не из тех, что скоро выдыхаются. Сейчас будет ясно, у кого из всадников лошадь лучше.
Оба решили выжать из своих лошадей все возможное. Как опытные наездники, они не ринулись вперед сломя голову, а намеренно придерживали коней, чтобы сберечь их силы для последнего, решительного рывка. Гендрик чувствовал, что первые две-три мили ему не составит труда обойти Большого Жирафа. Но антилопы сразу развили очень большую скорость, и ему не верилось, что удастся перехватить их на такой короткой дистанции. Поэтому он пустил своего коня вольной рысью, чтобы в конце охоты большая лошадь соперника не взяла над ним верх.
Некоторое время оба всадника скакали бок о бок следом за вырвавшимися далеко вперед собаками, тогда как кучка антилоп продолжала мчаться все дальше и дальше. Антилопы не искали спасения в кустах и перелесках, хотя несколько больших рощ уже попалось на их пути. Они держались открытой равнины и, как это всегда делают олени и голубые антилопы, бежали напрямик к воде.
Но собаки не экономили своих сил — среди них были молодые и глупые, хотя и быстрые как ветер; и не успели антилопы пробежать и одной мили, как два или три пса так стали на них наседать, что стадо раскололось и смертельно напуганные антилопы бросились врассыпную.
Охота тотчас приняла совершенно другой характер. Свора собак тоже разделилась, каждая собака помчалась за той антилопой, которая казалась ей ближе остальных, и через несколько мгновений дичь и гончие рассыпались по всей равнине.
Теперь охотникам предоставлен был выбор: или преследовать разных антилоп, или же обоим гнаться за одной. Ни у того, ни у другого не было ни секунды сомнения: разойдутся они только в том случае, если один опередит другого. Тайное чувство соперничества крепко в них укоренилось. Даже сами лошади, казалось, прониклись этим чувством и, галопируя бок о бок, поглядывали искоса друг на друга.
Антилопу, которую они выбрали, легко было отличить от всех остальных. Старый самец, только что предводительствовавший стадом, бежал теперь один, а за ним неслись две самые сильные собаки. Его рога, как метеоры, сверкали впереди всадников и манили их за собой.
Не обменявшись ни словом, оба поскакали вслед за ним.
Глава 16
ПАДЕНИЕ ТОЛСТОГО ВИЛЛЕМА
Охота приобрела теперь особенную остроту: для лошадей, собак и антилопы она сделалась состязанием на скорость. Старый самец бежал в том же направлении, что принял вначале. Остальные давно покинули его, но ему незачем было сворачивать в сторону. Он знал, где искать спасения. Его перепуганные товарищи обратились в бессмысленное бегство, он же, не теряя присутствия духа, мчался прямо к воде.
Впереди виднелась темная полоса — это был лес, окаймлявший какую-то реку. К ней он и стремился; но для того, чтобы погрузить свои копыта в спасительную воду, ему надо было пересечь громадную равнину. По этой равнине, как вихрь, и неслась теперь вся охота.
Смешно сказать, но собаки, избравшие самца своей жертвой, тоже были соперницы: одна принадлежала Гендрику, другая — Виллему, и обе были любимицами своих хозяев. Каждый всадник, его собака и лошадь, казалось, горели одним желанием и изо всех сил стремились к победе.
Не подумайте, чтобы между Толстым Виллемом и Гендриком была какая-то вражда. Вовсе нет. Просто и тот и другой любили свою лошадь и свою собаку и желали им победы; их охотничья репутация была поставлена на карту, и оба решили во что бы то ни стало торжественно привезти в лагерь голову и рога голубой антилопы.
Несмотря на это, никакой неприязни между юношами не было. Ничего подобного.
Как красиво бежала антилопа! Как легко перепрыгивала она через кочки, почти горизонтально вытягивая ноги в прыжке, высоко держа голову и пригибая рога к спине! Как хорошо и красиво она бежала!
Временами под ее копытами оказывался твердый грунт, и тогда она выигрывала расстояние; но потом собаки с яростным лаем снова ее настигали, а следом за ними, в какой-нибудь сотне ярдов, неслись всадники. Голубая шерсть на спине самца потемнела от проступавшего сквозь черную кожу пота, а пена большими клочьями покрыла его шею и плечи. Красный влажный язык высунулся изо рта, и охотники могли бы расслышать тяжелое дыхание зверя, если б его не заглушал храп их собственных лошадей.
Пять миль скакали они этим бешеным галопом — пять миль, не ослабляя поводьев и не меняя аллюра!
Уже лес был близко, а за лесом, наверно, вода! Зверь уйдет, если не нагнать его сейчас же; быть может, там проходит глубокий рукав какой-нибудь реки, а голубые антилопы плавают, как утки. Самец нырнет, они останутся на берегу — и прощай добыча!
Страх упустить антилопу заставил охотников пришпорить лошадей для последнего, решительного броска. Их скорость была почти одинакова. Теперь началось испытание на выносливость.
Почувствовав шпоры, обе лошади разом рванулись вперед, но почти тотчас Большой Жираф потерял вдруг равновесие и вместе со своим громадным всадником тяжело рухнул на землю.
Могучая лошадь провалилась ногой в нору земляного волка.
Гендрик, лошадь которого вырвалась вперед, услышал за собой глухой шум падения, оглянулся через плечо и увидал барахтавшихся на траве Толстого Виллема и Большого Жирафа. Но впереди было нечто гораздо более привлекательное — изнемогавшая на бегу антилопа, и Гендрик (что извинительно для охотника) даже не остановился узнать, не ранен ли его товарищ; вместо этого он пришпорил свою усталую лошадь.
Через пять минут загнанная антилопа добежала до опушки леса, повернулась и грудью стала против своих врагов; собаки прыгнули на нее. Для одной из них
— любимицы Виллема — этот прыжок оказался роковым. Счастье отвернулось от нее, как и от ее хозяина. Антилопа подняла ее на свои острые рога и с силой отшвырнула на землю. Раздался жалобный вой, и больше собака не издала ни звука; лапы ее судорожно дернулись, и через минуту на земле лежало бездыханное тело.
Любимицу Гендрика постигла бы та же участь, если б ее хозяин в этот самый момент не подоспел к месту боя. Новый испуг придал антилопе свежих сил; она отскочила и бросилась в кусты, преследуемая псом.
Гендрик сразу потерял их из виду. Только треск веток, которые ломала сильная антилопа, продираясь сквозь чащу, да лай собаки указывали ему направление, куда уходила добыча.
Пустив лошадь умеренной рысью, с трудом продираясь через кусты, он поехал по следу антилопы. Каждую минуту он надеялся услышать отрывистое, яростное тявканье — это было бы знаком, что антилопа снова остановилась. Но его ждало разочарование: он больше не слышал голоса собаки.
Он уж начал думать, что самец от него ушел и что после всех удач, которые сопутствовали ему в начале охоты, ему придется вернуться в лагерь ни с чем. Гендрик не на шутку огорчился оборотом, который приняли его дела, а тут, к еще большему своему огорчению, услышал вдруг сильный всплеск, как если б какое-то тяжелое тело упало в глубокую воду. Он понял, что это прыгнула антилопа. Другой всплеск — это прыгнула собака.
Антилопа добралась до реки и теперь наверняка уйдет. Река, казалось, была совсем близко — перед Гендриком уже открылся широкий просвет. Может быть, он еще поспеет вовремя? Может быть, он спустится к воде раньше, чем антилопа выплывет на другой берег? Тогда он пулей прикончит свою добычу.
Не теряя ни минуты, Гендрик дал шпоры и помчался галопом с холма.
Через несколько секунд Гендрик уже был на берегу. Он очутился у глубокого места, где было тихое течение, но расходящаяся по воде рябь указала ему, куда поплыла антилопа. И правда, он увидел две точки, быстро двигавшиеся по поверхности. Это были рога антилопы и голова гончей.
Гендрик не имел времени спешиться. Прежде чем он остановил лошадь, антилопа уже выскочила из воды и стала взбираться на высокий противоположный берег. Он поспешно выстрелил — широкая спина антилопы представляла собой хорошую цель. В следующий момент в воздухе мелькнул клок шерсти, вырванный пулей у самого хребта, и из раны хлынула волна алой крови. Еще не замерло эхо выстрела, как антилопа упала, покатилась вниз с крутого берега и осталась лежать без движения у самой воды.
Глава 17
УПОРНАЯ БОРЬБА
Рога достались Гендрику!
Так думал Гендрик, когда раненая антилопа скатилась с берега, чуть ли не прямо в пасть его гончей.
Однако минуту спустя он увидел, что ошибся. Антилопа, только что лежавшая бездыханным трупом, вдруг вскочила, рогами сбросила с себя собаку и, перепрыгнув через нее, снова нырнула в воду. Собака ринулась следом; она плавала быстрее и, нагнав антилопу на середине реки, схватила ее зубами за ляжку. Сильный самец тотчас стряхнул с себя собаку и, круто повернувшись в воде, двинулся прямо на нее. Не раз любимица Гендрика оказывалась на волосок от смерти, и только набегающая волна спасла ее от гибели.
Несколько минут шла ожесточенная борьба. Вода кругом вся покраснела от крови, лившейся из пулевой раны и из ляжки антилопы, разорванной собачьими клыками. Да и собачьей крови было тут немало — самец не впустую бил своими острыми рогами: шкура пса основательно пострадала, и обильные струи крови текли сразу из многих ран.
Выстрелив, Гендрик спешился, но не для того, чтобы снова зарядить ружье. Он был уверен, что антилопа убита наповал и ему остается только переправить добычу на свой берег. Он уже закинул повод на ветку, но только начал завязывать узел, как возобновившаяся на том берегу возня и затем прыжок собаки и антилопы в воду заставили его бросить повод и снова схватиться за ружье.
Он поспешно забил пулю и побежал к реке.
Вдоль всего берега густо разросся молодой ивняк. Сидя в седле, Гендрик смотрел поверх кустов и с высоты лошади видел перед собой все пространство воды. Теперь же он только смутно различал реку сквозь верхушки веток. Перед ним крутились какие-то водовороты, покрытые пузырями и пеной. Он слышал, что борьба между антилопой и собакой продолжается, но они так близко подплыли к заросли, что Гендрик за листьями ничего не мог рассмотреть.
В одном месте, где берег полого спускается к реке, в ивняке оказался пролом. Это была тропа, по которой дикие звери ходили на водопой. По обеим ее сторонам сплошной стеной росли кусты, образуя как бы узкую аллею или коридор.
Взгляд Гендрика упал на эту тропу, и он, не медля ни секунды, кинулся туда.
Антилопа тоже заметила эту тропу. Здесь ей всего легче было выбраться из воды, потому что берег тут был низкий. И вот в тот самый момент, когда охотник бросился вниз по тропе, на другом ее конце появилась антилопа.
Оба неслись так стремительно, что через какие-нибудь пять секунд столкнулись лицом к лицу.
Уступить друг другу дорогу было невозможно — мешала стоявшая по сторонам густая чаща. Назад повернуть тоже было нельзя — они так разбежались, что даже не могли остановиться. Страшное столкновение было неизбежно. Такая встреча представляла все выгоды антилопе, охотнику же грозила гибелью. Гендрик это понял: спасти его мог только своевременный выстрел. Но все случилось так внезапно, что Гендрик не успел даже вскинуть ружье к плечу — животное было уже в каких-нибудь двух шагах от него, и не приходилось терять ни секунды.
В отчаянии он выстрелил наудачу. Пуля едва оцарапала антилопе спину и только еще больше разъярила ее. Опустив голову и наставив свои похожие на ятаганы рога, она ринулась на охотника.
Для Гендрика это был момент величайшей опасности. Еще минута — и антилопа пронзила бы его своими страшными остриями, но инстинкт охотника подсказал ему путь к спасению: он отшвырнул ружье и побежал навстречу антилопе, точно сам хотел броситься ей на рога.
Но не в этом, конечно, заключалось его намерение. За два-три шага от зверя он вдруг, словно газель, взвился в воздух.
Этот прыжок его спас. Рога проскочили под ним, и он с размаху упал на круп антилопы.
Задние ноги животного согнулись под неожиданным грузом, и Гендрик соскользнул на землю. Он не успел еще подняться, как старый самец уже повернулся и снова ринулся на него.
Гендрику пришел бы конец, останься он с антилопой один на один. Но помощь была близка. На место схватки примчалась гончая, и в тот момент, когда антилопа бросилась на Гендрика, собака прыгнула и вцепилась ей в горло.
Гендрик почувствовал толчок, который был бы несравненно сильнее, если б собака, тяжело повисшая на горле антилопы, не помешала ей ударить со всего размаха. Благодаря своей гончей Гендрик был только слегка ранен.
Однако антилопа копытами оторвала от себя собаку и бросила ее на землю, готовясь уже поднять на рога.
После полученного им удара Гендрик был в такой же ярости, как сама антилопа, и не мог потерпеть, чтобы у него на глазах убили его любимого пса,
— он решил во что бы то ни стало спасти его. Разгоряченный борьбой, уже не думая об отступлении, он выхватил охотничий нож и бросился к антилопе, которая, занявшись собакой, повернулась к нему боком. Левой рукой Гендрик для опоры схватился за ее рога, извернулся и другой рукой всадил ей длинное лезвие между ребер по самую рукоятку.
Удар был верный — он пришелся в самое сердце. Гендрик еще не выпустил рога, как животное свалилось мертвым к его ногам.
Немного успокоившись, Гендрик вспомнил про Толстого Виллема. Почему его нет до сих пор? Уж не разбился ли он? Гендрика охватила тревога, и, оставив самца, он решил сейчас же поехать к месту падения своего друга. За антилопой можно будет вернуться после. К счастью, его умная лошадь никуда не ушла, хотя он и оставил ее непривязанной. Гендрик вскочил в седло и поскакал по прежней дороге.
Одно обстоятельство особенно его заботило. Когда он бился с антилопой, до него донесся громкий выстрел Виллемова громобоя. По кому он стрелял? Или еще одна антилопа побежала в его сторону? А вдруг это был сигнал бедствия? Гендрик не знал, что думать, и сильно беспокоился.
Но все его опасения рассеялись очень скоро. Выбравшись на опушку, он увидел Виллема верхом на коне, уже готового пуститься ему навстречу. Для Гендрика это была большая радость: самый факт, что Виллем преспокойно сидит в седле, а Большой Жираф прочно стоит на ногах, показывал, что ни один из них не получил серьезного ранения.
Так оно и было, в чем Гендрик скоро удостоверился. Оказалось, что сам он пострадал куда больше, чем Виллем, — как-никак, а на руке у него была глубокая царапина от рога антилопы. Зато досаде Виллема не было предела; и хоть Гендрику очень хотелось обратить в шутку все это несчастное приключение, но он сдержался, щадя самолюбие своего товарища.
Он спросил, что обозначает слышанный им выстрел. Это стрелял Виллем? Утвердительно кивнув головой, тот указал на лежавший на земле труп какого-то странного животного.
Гендрик подъехал ближе и, наклонившись с седла, стал его рассматривать.
Это был редкий и удивительный зверь. Ростом он был с большого терьера, но совсем другой наружности. Задние лапы у него были короткие, как у гиены, и вообще он сильно бы его напоминал, если бы не длинная и острая морда, широкая спина и гораздо более стройные, чем у гиены, ноги. Это было очень привлекательное существо с длинной шерсткой, мягкой и шелковистой на вид. Цветом зверь был рыжевато-серый с черными поперечными полосами, что придавало ему особенное сходство с той породой гиен, которых так и называют полосатыми.
Но это была не гиена, а одно из тех странных животных, которые не принадлежат ни к какому определенному классу, а составляют между ними особое, промежуточное звено. Южная Африка изобилует подобными удивительными творениями как среди птиц, так и среди четвероногих. Примером могут служить хотя бы дикая собака, хиракс, зерда, фенек, гну и земляной волк; а среди птиц — змееед, орлан и многие другие. Известен только один вид каждого из этих странных существ, и родиной большинства из них является Южная Африка.
Животное, распростертое на земле перед Гендриком, было как раз такой зоологической загадкой и долгое время привлекало внимание классификаторов. Одни относили его к собачьей породе, другие — к гиенам, третьи считали виверрой, четвертые — лисицей. Правда, со всеми этими животными у него было много общего как в образе жизни, так и в анатомическом строении, но ни к одному из них оно не приближалось настолько, чтобы его решительно можно было счесть собакой, лисицей, виверрой или гиеной. Пришлось создать отдельный род, и род этот получил имя «протелес». На земле перед Гендриком лежал протелес де Лаланда, названный так в честь путешественника де Лаланда, который первым описал его.
Но для Гендрика и Толстого Виллема это был попросту земляной волк, то есть волк, живущий в глубоких норах. Юношам этот волк был хорошо знаком: в Южной Африке он не редкость и встречается даже в населенных местах, только увидеть его нелегко — это зверь ночной. Днем он сидит в своем подземном жилище. Однако дурные наклонности всегда выдают его присутствие, и хотя на глаза он почти не попадается, зато бурам часто приходится видеть плачевные последствия его ночных похождений.
В Южной Африке держат овец особой породы, отличающихся большими, толстыми курдюками, содержащими несколько фунтов чистого сала, которое жены колонистов употребляют на разные хозяйственные надобности. Эти-то курдюки, свисающие до самой земли, и составляют любимое лакомство земляного волка, так как челюсти у него гораздо слабее, чем у гиены, и он вынужден промышлять себе мягкую пищу. Бур-скотовод, встав поутру, то и дело обнаруживает, что его овцы лишились своих драгоценных курдюков и виновником этого несчастья всегда оказывается прожорливый земляной волк.
Поэтому неудивительно, что молодые охотники представляли его себе достаточно хорошо, и теперь Гендрик рассматривал мертвое животное совсем не из любопытства. Он и раньше видел этих волков, да и убил их немало. Просто ему интересно было знать, куда именно попала пуля Виллема.
— Откуда он взялся? — спросил Гендрик.
Толстый Виллем отвечал, что волк выскочил из норы, в которую провалился Большой Жираф.
— Я только что встал на ноги, а тут он и бежит, — рассказывал Виллем. — Меня зло взяло — я ведь из-за него чуть себе шею не свернул, — вот я и пустил в него пулю, хоть он не стоит ни свинца, ни пороха.
Так объяснилась причина услышанного Гендриком выстрела.
Молодые люди собрались ехать за антилопой, чтобы перевезти в лагерь как можно больше мяса. Тут подоспели Ганс и Аренд, и все четверо двинулись к реке.
Антилопу разрубили на четыре части, каждый взвалил свою долю на круп лошади, и юноши пустились в обратный путь.
Настроение у всех было прекрасное, за исключением, пожалуй, только Виллема, который по двум причинам был сильно не в духе. Во-первых, он был огорчен потерей собаки; во-вторых, никак не мог примириться с тем, что его охотничья репутация потерпела урон. Забыть это было трудно; правда, Гендрик старался не растравлять его рану, но Ганс и Аренд вовсе не были так великодушны и всю дорогу от души смеялись над его несчастным падением.
Глава 18
ОТРАВЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ
Клаас и Ян давно вернулись в лагерь и, расседлав своих пони, расположились в тени фургонов. Они не умели быть праздными и скоро нашли себе занятие, интересовавшее и забавлявшее их. Черныш был божеством обоих мальчиков, — Клаас и Ян поклонялись ему, потому что во всей Африке не было птицы, которую он не сумел бы поймать в силок или ловушку; и в часы досуга, загнав буйволов в крааль и покончив со всеми своими заботами, он охотно показывал двум молодым минхерам, как устраивать всевозможные привады и тенета для летающих птиц.
Сегодня мальчики с особенным интересом следили за приготовлениями бушмена: на этот раз он задумал поймать не летающую птицу, а бегающую, — и какую же? Страуса.
Черныш поставил себе целью вырвать перья у того самца, чье гнездо подверглось сегодня утром такому грубому нападению и разорению.
Только как он поймает страуса?
Взять его живым он не надеялся. Это не так-то просто. Погоня за страусом, всегда долгая и утомительная, может увенчаться успехом лишь в том случае, если в ней участвуют несколько всадников на быстрых лошадях.
Но Чернышу и не нужен был живой страус. Его интересовали только кожа и перья, или, вернее, те несколько золотых, которые он получит за них по возвращении в Грааф-Рейнет. Ловить для этого страуса не к чему — достаточно убить его. Впрочем, и это дело нелегкое.
Как же думал Черныш привести в исполнение свой замысел? Конечно, он мог бы попросить карабин у Гендрика или громобой у Виллема, но с огнестрельным оружием Черныш был не в ладах, и дай ему хоть карабин, хоть громобой, он не убил бы из них даже слона, не то что страуса.
Да, метко всадить пулю Черныш не умел, но зато у него было свое собственное оружие, и им он владел в совершенстве. Это был его лук. С помощью небольшого лука (едва в ярд длиной) бушмен пускал маленькие, тонкие стрелы, такие же смертоносные, как свинцовая пуля, летящая из карабина или ружья.
Глядя на эту легкую оперенную стрелу с маленьким железным наконечником, очень трудно было поверить, чтобы она могла убить большого, сильного страуса. И, однако, такими вот стрелами Черныш убивал даже громадных жирафов. Смертельным и опасным оружием была стрела бушмена.
В чем же крылась причина ее смертоносности? Вряд ли в ее размере и, уж конечно, не в стремительности ее полета. Нет. Что-то другое — не упругость лука и не вес стрелы — делало оружие бушмена таким опасным. Опасным делал его яд.
Стрелы у Черныша, как и у всякого бушмена, были отравлены, поэтому не мудрено, что они несли с собою смерть.
Дикарские племена всего земного шара употребляют лук и стрелы, причем форма и устройство этого оружия везде совершенно одинаковы. Это очень любопытный факт. Посудите сами. Абсолютно чуждые друг другу племена и национальности, живущие, казалось бы, совсем обособленно от остального мира и никак не связанные между собой, вдруг оказываются обладателями одного и того же оружия, построенного на одном и том же принципе и отличающегося только в деталях, объясняемых большей частью лишь особенностями окружающей обстановки. Как бы ни были различны обычаи и нравы каких-нибудь двух дикарских племен, вооружение у них всегда одно и то же — лук и стрелы.
Что это, просто совпадение, которое объясняется тем, что одинаковые потребности вызывают повсюду одинаковый результат? А может быть, обладание одним и тем же оружием доказывает, что эти различные и отдаленные друг от друга племена когда-то, на заре своего существования, составляли одно целое или общались между собой?
Для истории человечества это очень интересный вопрос, но соображения, которые он влечет за собой, здесь не к месту и завели бы нас слишком далеко.
Не менее, а может быть, еще более любопытен факт употребления отравленных стрел. Почти во всех частях света мы видим дикарей, которые смазывают свои стрелы ядом; способ приготовления этого яда везде один, а если и есть какая-нибудь разница, то она тоже вызвана природными особенностями того края, где живет данное племя.
Итак, все дикари знакомы с ядом для стрел и приготовляют и употребляют его везде одинаково. И опять же, географически они так отдалены друг от друга, что очень трудно, даже невозможно предположить, будто между ними или хотя бы их отдаленнейшими предками существовала какая-либо связь. Например, нельзя себе представить, чтобы африканские бушмены когда-то сносились с чанчосами с реки Амазонки или, что уже совсем невероятно, с индейцами Северной Америки; однако все они употребляют отравленные стрелы и приготовляют яд одним способом. И у тех и у других это всегда смесь растительного яда со змеиным, извлекаемым из желез ядовитых змей. В Северной Америке материал для этой смеси поставляют гремучая и мокасиновая змеи, а также разные коренья; южноамериканский яд, знаменитый вурали, или кураре, как его неправильно называют, получается от смешения растительных соков с ядом целого ряда змей: коралловой бойквиры или алмазной гремучей змеи, рогатой гадюки, страшного «властелина лесов», которая тоже является разновидностью гремучей змеи, и многих других. В Южной Африке яд для стрел добывается из яда пуф-змеи, или найи (местной кобры), и сока корня амариллиса — ядовитой луковицы, как называют его колонисты. Из этих-то элементов и составлял наш бушмен свою опасную смесь.
Черныш, как и все бушмены, был большой искусник в деле приготовления ядов, и Клаас с Яном все утро не отходили от него, наблюдая, как он смешивает составные части. Эти яды всегда были у Черныша под рукой, и всякий раз (а это случалось часто), когда кто-нибудь из молодых охотников убивал по дороге змею — какую-нибудь найю, или пуф-змею, или рогатую гадюку, — Черныш не упускал случая вскрыть ядовитую железу, расположенную позади ядовитых зубов, и извлечь из нее каплю яда; накопленный яд он держал в особом пузырьке. Была у него также в запасе и горная смола, которую он собирал в известных ему пещерах, где она сочится из трещин в скале. Эта смола прибавляется к яду не для того, чтобы усилить его действие, как думают некоторые путешественники, а лишь затем, чтобы яд получился клейким, как можно крепче пристал к наконечнику и остался при нем во время полета стрелы. Южноамериканские индейцы для этой же цели употребляют растительные смолы.
Ядовитые луковицы Черныш мог бы добыть в любой момент, так как амариллис повсюду растет в изобилии. Но Черныш не любил полагаться на случай и потому постоянно собирал корни амариллиса и складывал их в один из выдвижных ящиков фургона ван Блоомов, где у него были припрятаны всякие принадлежащие ему мелочи.
Итак, Клаасу и Яну представился редкий случай своими глазами увидеть приготовление знаменитого яда для стрел.
Прежде всего Черныш выдавил сок из луковицы амариллиса и прокипятил его на огне в небольшой жестяной кастрюльке, потом прибавил туда несколько капель драгоценного змеиного яда и стал перемешивать полученную смесь до тех пор, пока она не сделалась совершенно темной. Когда смесь была готова, Черныш, к великому изумлению мальчиков, попробовал ее на вкус!
Очень им показалось странно (как, наверно, кажется и тебе, мой юный читатель), что яд, самая ничтожная доза которого должна была наверняка убить Черныша, был им проглочен совершенно безнаказанно!
Но нужно помнить, что яды, как растительные, так и минеральные, очень различны по своим свойствам. Минимальное количество мышьяка, попав в желудок, приводит к смерти, и в то же время можно без малейшего вреда проглотить голову гремучей змеи вместе с зубами и ядовитыми железами.
И наоборот, крошечная капля змеиного яда, введенная в кровь хотя бы уколом иголки, производит роковое действие, тогда как другие яды, попав в кровь, оказываются абсолютно безвредными.
Черныш знал, что в его смеси не содержится мышьяка или какого-нибудь другого «желудочного», если можно так выразиться, яда. У него был только «кровяной» яд, который он мог безнаказанно пробовать.
Последней в жестянку была влита смола; Черныш еще немного помешал смесь, и, когда она сделалась достаточно густой, чтобы прочно прилипнуть к наконечникам, он взял пучок стрел и каждую в отдельности окунул в яд. Скоро наконечники остыли, яд на них высох, и Черныш объявил, что стрелы готовы к употреблению. Он намерен был еще до заката солнца пустить их в ход: отравленные стрелы предназначались им для старого страуса.
Глава 19
КАК ЧЕРНЫШ ПРИМАНИВАЛ СТАРОГО СТРАУСА
Клаас и Ян не очень заинтересовались приготовлением яда; гораздо любопытнее была для них самая охота — ведь бушмен собирался сегодня же вечером испробовать этот яд на страусе. Более того: он обещал показать им какой-то свой особенный способ охоты и ручался, что непременно убьет старого страуса. Мальчики заранее предвкушали увлекательное зрелище и весь этот день провели в самом приподнятом настроении.
Охота должна была начаться перед заходом солнца: страусы вернутся к своему гнезду, и тут-то и разыграется трагедия. Местом действия будет гнездо и близлежащая равнина, временем действия — предвечерний час. Такова была «программа» Черныша.
Старшие юноши почти всегда разрешали Чернышу охотиться за кем угодно; на этот же раз они с особой готовностью дали ему свое согласие, так как Клаас и Ян давно мечтали посмотреть охоту на страуса. В сущности, юноши и сами были не прочь принять в ней участие, но по некоторым причинам это было невозможно.
Не все они верили в успех задуманного дела. Правда, никто не сомневался в том, что отравленная стрела убьет птицу, но для этого требовалось, чтоб стрела в нее попала, а значит, стрелять надо было с близкого расстояния. Сумеет ли Черныш подкрасться к птицам? Этот вопрос занимал всех. Черныш должен был выйти на охоту при дневном свете, Выбирать время ему не приходилось. Ведь страусы вернутся к гнезду до наступления ночи — как только солнце спустится к горизонту и воздух станет холоднее, — а увидав, что в их отсутствие кто-то разорил гнездо, они тотчас убегут в панике и навсегда его покинут.
Таким образом, дожидаться темноты Черныш не мог; а между тем подойти к гнезду надо было как можно ближе — ведь его маленький лук стрелял всегда на пять — десять ярдов. Может быть, Черныш спрячется где-нибудь в засаде и будет ждать там возвращения птиц? Но если прятаться, так около гнезда, иначе это вообще не имеет смысла, потому что птицы могут прийти откуда угодно и убежать в любом направлении.
Поблизости от гнезда Черныш нигде не мог укрыться, это было очевидно. На пятьсот ярдов в окружности не было ни камня, ни кустика, за которым мог бы притаиться человек, а ведь страусы так зорки и осторожны, что от них даже на вдвое большем расстоянии не спрячется и кошка. Может быть, вырыть яму и в ней залечь? Нет, это не поможет. Яма, окруженная кустами, обманет, пожалуй, льва, или носорога, или слона, но страуса так легко не проведешь: это очень умная птица, хотя некоторые судят по наружности и считают ее глупой. Вблизи гнезда страус заметит малейшее изменение в поверхности почвы и поостережется приблизиться, пока не произведет такое подробное обследование, что все ухищрения пойдут насмарку. Но Черныш и не собирался рыть никакой ямы, у него этого и в мыслях не было.
Как же, в таком случае, думал он поступить? Мальчики напрасно ломали себе голову. Черныш, как и все охотники, был себе на уме и вовсе не собирался сообщать им свои планы. Пусть смотрят и сами догадываются. Но мальчики тоже были охотники и, кроме того, хорошо воспитаны; поэтому они не приставали к нему с расспросами, а молча следили за его приготовлениями.
Последнее, что сделал Черныш, перед тем как отправиться к страусовому гнезду, было вот что: он взял убитого утром фенека и воткнул ему в живот несколько лучинок; когда его поставили на землю, получилось, будто фенек сам стоит на ногах, и даже на близком расстоянии он казался живым.
Солнце уже клонилось к западу. Черныш подхватил под мышку фенека, забрал лук и стрелы и двинулся в путь. Он обещал Клаасу и Яну, что они будут свидетелями охоты, но оказалось, что это он только так выразился. На самом же деле им предстояло смотреть в зрительные трубки — в лагере их как раз было две. Взять мальчиков с собой Чернышу было нельзя. Если б он подвел их к гнезду на расстояние, с которого все можно разглядеть простым глазом, осторожные и зоркие птицы сразу бы их заметили и тотчас бросились бы наутек; ведь страусы, как говорилось выше, видят врага тогда, когда он их самих еще не видит.
И вот Клаас с Яном скорее побежали просить зрительные трубки. Старшие решили, что мальчики влезут на дерево и оттуда будут сообщать остальным обо всем, что произойдет на равнине. Таким образом, стоящие внизу увидят спектакль «вторым зрением», как шутливо выразился Аренд.
Клаас и Ян взобрались на колючую верблюжью акацию и, усевшись на ее ветвях, приготовили свои подзорные трубы.
С этого возвышенного места открывался вид не только на гнездо — его можно было рассмотреть и с земли, — но и на значительное пространство вокруг, так что мальчики легко могли уследить за малейшими движениями как Черныша, так и птиц.
Мы уже говорили, что около гнезда в окружности радиусом ярдов на пятьсот не было ни одного укрытия, за которым могла бы притаиться хотя бы кошка. Если не считать нескольких разбросанных там и сям камней величиной с четырехфунтовый хлеб, вся песчаная поверхность была ровная и гладкая, как стол.
Мальчики заметили это еще утром, а Гендрик и Виллем даже обратили на это особое внимание: им, так же как и Чернышу, хотелось убить страусов, но они отказались от этой мысли, потому что совершенно не могли придумать, где им спрятаться от острых глаз птицы.
Однако сразу позади этой окружности рос какой-то куст, за которым, если поплотней сдвинуть его ветки, кое-как мог укрыться человек. Гендрик и Виллем оба видели этот куст, но им показалось, что он находится слишком далеко от гнезда. Добро б еще он стоял на пути, по которому страусы ушли утром и, как предполагали охотники, вернутся вечером. Тогда, притаившись за ним, можно было бы подстрелить их из ружья. Но куст рос не с той стороны, а как раз с противоположной — со стороны лагеря. Так что Гендрику и Толстому Виллему даже в голову не пришло воспользоваться им как укрытием.
Между тем на него-то Черныш и возлагал все свои надежды и теперь направился прямиком к нему. Зачем? На расстоянии пятисот ярдов что толку будет Чернышу от его стрел, хоть они и отравлены? О! Черныш знал, что делает. Расскажем о его действиях словами Клааса и Яна, которые пристально за ним следили.
— Черныш дошел до куста, — сообщал Ян. — Вот он сложил под ним лук и стрелы. Отошел от него, идет прямо к гнезду. В руках у него фенек. Ага, снова остановился, между кустом и гнездом, но поближе к кусту.
— Очень близко от куста, — сказал Клаас. — Не будет и двадцати ярдов. — Все равно сколько ярдов. Но что он там делает? — спросил Гендрик. — Он, кажется, нагнулся?
— Нагнулся, — ответил Ян. — Постой-ка! Он ставит лисицу на землю! Уже поставил. Честное слово, лисица стоит, как живая!
— Ну, теперь мне ясно, как он думает подманить страусов, — заметил Ганс.
— Понимаю!
— И я! — воскликнул Гендрик.
— И я! — отозвался Виллем.
— А теперь, — продолжал Ян, — он пошел дальше. Вот уж он у гнезда. Что это он там делает, Клаас? Не могу понять. Ходит кругом и как будто что-то ногой закапывает…
— По-моему, — ответил Клаас, — он зарывает разбитые скорлупы, которые мы там оставили.
— Да, да! Так и есть! — крикнул Ян. — Смотри, он наклонился над гнездом и поднял яйцо!
Читатели, наверное, не забыли, что утром молодые охотники увезли с собой только свежие яйца. Те, что казались им насиженными, они не трогали, за исключением двух-трех, которые разбили для проверки.
— Черныш возвращается, и в руках у него яйцо, — сказал Ян. — Он положил его прямо под нос фенеку!
— Каково! — воскликнули Ганс, Толстый Виллем и Гендрик. — Ну и хитрец же наш Черныш!
— А теперь, — продолжал Ян, — он возвращается назад. Вот он уже спрятался за кустом.
Через некоторое время Клаас и Ян сообщили, что Черныш продолжает неподвижно сидеть позади куста.
Все эти манипуляции Черныш производил неспроста. Он давно подметил ненависть страусов к фенекам — пожирателям их яиц, и сейчас собирался этим воспользоваться. Ненависть страусов к фенекам так сильна, что, где бы ни увидел страус фенека, он тотчас пускается за ним в погоню с целью уничтожить его. И тут уж фенека не спасут его быстрые ноги. Если он не успеет юркнуть в свою норку, или скрыться в густом кустарнике, или же в расселине скалы, могучая птица одним ударом ноги убивает хищника.
Черныш прекрасно знал это и захватил мертвого фенека на приманку. Он поставил его так, чтобы страусы непременно его заметили, а птицы, найдя свое гнездо разоренным и увидев фенека, да еще с яйцом у самого носа, конечно не преминут броситься на хорошо им известного вора и грабителя.
— Страусы идут! — крикнул наконец Ян, который отличался очень острым зрением.
— Где, где? Я не вижу. Где они, Ян? — спросил Клаас.
— Вон там, прямо, — ответил Ян. — Еще очень далеко.
— Ах, теперь вижу! — воскликнул Клаас. — С той стороны, куда они ушли утром. Их трое — самец и две самки. Наверно, это те же самые?
— Они идут к гнезду, — сообщил Ян. — Вот уже подошли. Гляди-ка! Чего только не вытворяют! Носятся кругом как бешеные, мотают головами, бьют ногами. Что бы это значило?
— Мне кажется… — откликнулся Клаас. — Нет, честное слово, они разбивают свои яйца!
— Конечно, так оно и должно быть, — заметил Ганс. — Страусы всегда разбивают яйца, если, вернувшись, обнаруживают, что их касался человек или животное. Вот этим они сейчас и занялись.
Гендрик и Толстый Виллем подтвердили слова Ганса.
— О! — воскликнул Ян. — Они отбежали от гнезда и мчатся сюда — прямо на Черныша! Как они бегут!
Вот наскочили на фенека, опрокинули, бьют его клювами и подкидывают, как футбольный мяч. Урра! Ну и потеха!
— А Черныш-то что зевает? Как раз пора выстрелить!
— Он что-то там делает, — ответил Клаас. — Вот пошевелился… Кажется, он натягивает лук…
— Верно, верно! — ответил Ян. — Вот рукой дернул — это он выстрелил. Смотри, смотри, страусы опять побежали! Ах, они убегут совсем!
Мальчики ошибались. Правда, услыхав звук отпущенной тетивы, все три страуса кинулись прочь, но далеко они не убежали. Через четверть мили самец вдруг опустил крылья и начал кружиться на месте. Движения его делались все более странными и судорожными — наверно, стрела Черныша настигла его и яд уже начал действовать. Страус шатался, как пьяный, падал на колени, вставал, чтобы пробежать еще несколько шагов, хлопал крыльями и мотал головой; наконец он рванулся вперед и рухнул на землю.
Некоторое время он продолжал еще биться, колотя по земле своими сильными ногами и поднимая кругом себя такие клубы пыли, точно это был буйвол. Но недолго длилась борьба. Страус дрогнул последний раз и неподвижно растянулся на песке.
Самки не отходили от него, и заметно было, что они поражены и встревожены. Они не пытались никуда бежать, пока Черныш, зная, что с такого далекого расстояния стрела до них не долетит, не вышел из засады и не направился к ним. Тогда только самки подумали о бегстве. Со всех ног пустились они по равнине и скоро скрылись из виду.
Немного спустя Клаас и Ян сообщили, что Черныш наклонился над мертвым страусом и, как им кажется, сдирает с него кожу. Так оно и было. Через час Черныш появился в лагере с кожей страуса на плечах. Как победитель, прошел мимо зулуса и всем своим видом, казалось, говорил:
«Ну что, Конго? Небось тебе этого не сделать?»
Глава 20
СТЫЧКА С ПОЛОСАТЫМ ГНУ
Молодым охотникам пришлось еще на два дня остаться в акациевой роще у источника. Необходимо было как следует провялить вкусное и питательное мясо голубой антилопы, чтобы оно дольше сохранилось. Ведь неизвестно еще, попадется ли им какая-нибудь дичь за ближайшие пять-шесть дней пути. Дорога для всех была новая и незнакомая, даже для проводника Конго, который знал ее только в общих чертах. Они направлялись к реке Молопо. Конго был уверен, что не собьется с пути, но что представляет собой отделявшая их от реки местность, он не имел понятия. Кто знает: может быть, дичи там в изобилии, а может быть, ее и вовсе нет?
Еще менее был осведомлен Черныш. Охотники давно покинули область, населенную бушменами, и двигались теперь по территории, где жили бедные бечуанские племена. Родина Черныша была на юго-западе, в направлении Намакуаленда. Так далеко на востоке он не бывал еще ни разу в жизни, и дорога, по которой они теперь шли, была ему совершенно неизвестна.
Ганс, которого все слушались как старшего и самого опытного, счел неблагоразумным пускаться в дальнейший путь, пока не будет заготовлено впрок мясо голубой антилопы и остатки мяса ориксов. Но для этого необходимо суток на двое здесь задержаться, чтобы провялить на солнце мясо. Складывать в фургон его можно только как следует провяленным, иначе оно испортится на такой жаре и во время странствия они окажутся без куска мяса.
Итак, привал молодых охотников в акациевой роще затянулся еще на два дня. За этот срок мясо голубой антилопы и остатки ориксов, развешанные красными фестонами на ветвях акации, сначала потемнели, потом ссохлись и наконец затвердели совсем. В таком состоянии их можно было хранить несколько недель.
Конечно, юноши не находились все эти дни безотлучно в лагере. Следить за мясом не было нужды. Оно так высоко висело на ветвях, что рыскавшие по ночам шакалы и гиены не могли его достать, а днем кто-нибудь всегда оставался на месте, чтобы отгонять хищных птиц.
В первый же день молодые люди сели на лошадей и в надежде на новую добычу отправились все шестеро к тем заросшим сочной травой лугам, где они вчера охотились на голубых антилоп. Юноши не обманулись в своих ожиданиях. Выехав из рощи, они сразу увидели, что луга не пустуют — на них пасутся животные трех разных видов. Вдали виднелось стадо небольших антилоп с лировидными рогами и светлой серовато-коричневой спинкой. По резвости и веселости в них тотчас можно было узнать газелей-прыгунов: то и дело какая-нибудь из них высоко подскакивала в воздух, распахивая в прыжке широкую складку кожи на крупе — своего рода сумку, подбитую длинной снежно-белой шерстью.
Неподалеку, иногда забегая в их стайку, расположилась группа животных покрупнее. Удивительная окраска и полосы на боках позволяли безошибочно заключить, что это так называемые дау, или тигровые лошади, которых ученые называют бурчеллиевой зеброй. Мы уже говорили, что этот вид многим отличается от подлинной зебры. Основной цвет дау грязно-желтый, тогда как зебра почти белая. Полосы у дау темно-коричневые, а у зебры — черные. Но самое главное их различие состоит в том, что у зебры эти полосы кольцами спускаются по ногам до самых копыт, тогда как у дау ноги совершенно белые. Уши и хвост зебры напоминают ослиные; у дау и хвост и все тело гораздо длиннее, чем у осла.
Обе эти породы — и дау и зебры — очень красивы, пожалуй, красивее всех на свете четвероногих, за исключением, конечно, благородной лошади. Впрочем, красотой зебра все же превосходит дау. По своему образу жизни они очень различны. Зебра — животное горное, а дау селится только на открытых равнинах и выбирает те же места, которые посещаются кваггами. И хотя дау и квагги никогда не собираются в одно стадо, но по своим привычкам дау все же гораздо ближе к кваггам, чем к зебрам. Наблюдая образ жизни дау, буры так и прозвали его: «полосатая квагга».
Но всего замечательнее была третья группа животных. Фигуры их были так странны, а повадки так забавны, что всякий, кто хоть раз взглянул на них или на их изображение, потом всегда отличит их из тысячи. Молодые охотники никогда раньше таких животных не видели, но зато встречали одну родственную им породу, очень на них похожую. Все хорошо помнили, как выглядят обыкновенные гну, и с первого взгляда догадались, что невиданные звери не что иное, как голубые, или полосатые, гну.
Голубые гну крупнее и грузнее простых; голова у них не так красиво очерчена, а шея почти лишена грациозного изгиба, свойственного гну обыкновенным. У них более косматая грива, пучок волос на носу, волосы под горлом и на груди. Цветом они тоже совсем другие — грязно-голубоватые, с неправильно расположенными полосами, отчего их и называют голубыми, или полосатыми.
Гну обыкновенных и гну полосатых никогда не встретишь на одной и той же равнине. Они не оспаривают пастбищ друг у друга, причем полосатые заходят значительно дальше на север, чем обыкновенные. Полосатые гну редко пасутся отдельно от других животных: большей частью они ходят в сопровождении стад дау (бурчеллиевой зебры), тогда как обыкновенные почти всегда появляются в обществе квагг. Замечательно, что оба вида гну избегают своих сородичей и в то же время часто составляют одно стадо с антилопами и страусами. Интересное и увлекательное зрелище представляют собой гну, антилопы и дау, когда они резвятся, кувыркаются и скачут вместе по равнине. То они собираются в круг, то растягиваются в прямую линию, точно отряд кавалерии на смотру, и внезапно, как будто бросаясь в атаку, несутся вскачь, а потом вдруг разом останавливаются. Тут же среди них важно расхаживают или стоят неподвижно страусы, возвышаясь над всеми, как командующие парадом офицеры или генерал-аншефы. Эту любопытную картину нередко можно наблюдать на равнинах Южной Африки.
Выехав из рощи, молодые охотники сдержали лошадей, невольно залюбовавшись царившим на лугу оживлением. Одни антилопы-скакуны мирно щипали травку, другие, резвясь, высоко подпрыгивали в воздух. Тут же паслось стадо дау. Эти вели себя степенно, хотя время от времени все вдруг бросались в сторону, как бы играя или чего-то испугавшись. Самки полосатых гну соединились в большое стадо, а самцы окружили их кольцом, собравшись по трое и по четверо вместе. Самцы стояли величественно и неподвижно, но заметно было, что они внимательно следят за своими подопечными: иногда они громко фыркали или испускали особенный резкий крик в знак предостережения или гнева. Стоять так они могут часами, отдельно от всех прочих, маленькими группами, ведя между собой какой-то разговор и в то же время исправляя должность часовых при общем стаде дау, антилоп и своих собственных супруг. Охотники посовещались и решили атаковать стадо гну. Внезапно нападать из засады не стоило — юноши были уверены, что они без труда догонят любое животное и пристрелят его на скаку. Так и было условлено. Прекрасные создания — дау, несмотря на свою красоту, как дичь не годились, а молодым охотникам нужна была только дичь. Антилопы-скакуны их тоже не интересовали, но мясо гну было приманкой для всех — оно очень сочное и вкусом напоминает не оленину, а говядину, потому что гну, в сущности, скорее бык, чем антилопа.
Подхватив брошенный Гендриком лозунг: «Ростбиф к обеду!» — юноши понеслись в атаку на стадо гну.
Они не старались скрыть свое приближение; впереди мчались собаки — теперь их было только пять, — и любимица Гендрика скакала первая.
В одну секунду все на лугу пришло в движение. Каждая порода животных на свой лад бросилась искать спасения. Красавцы дау сбились в кучку и побежали куда глаза глядят; скакуны, по своему обыкновению, рассыпались по сторонам; а гну, соединившись в беспорядочное стадо, сначала ринулись прочь от охотников, затем разделились надвое, повернулись — одни направо, другие налево — и помчались обратно, охотникам в тыл.
Вид луга совершенно изменился. Зебры исчезли так же, как и скакуны. Перед охотниками остались одни гну, но эти не сбились все в одно место: они были повсюду, кругом. Часть спасалась от собак, другие разбегались по сторонам, третьи, проскакав назад ярдов двести — триста, вдруг снова бросались вперед и проносились так близко от лошадей, что охотникам казалось, будто они вот-вот нападут на них. Свирепые маленькие глазки, острые, круто загнутые рога, черная взъерошенная грива — все придавало им вид грозного врага, каким они и становятся, когда решатся перейти в нападение. Раненый гну очень опасен даже для всадника, а пешему и вовсе не устоять против стремительной атаки рассвирепевшего зверя.
Очень странным показалось молодым охотникам, что самцы, вместо того чтобы бежать вместе со всеми, отчего-то медлили в тылу убегающего стада. Иные даже совсем останавливались, оборачивались и, громко фыркая, глядели на охотников; потом вдруг пускались вскачь, и случалось, что, столкнувшись нечаянно друг с другом, тут же затевали драку. И дрались они не для отвода глаз. Напротив, старые самцы, казалось, всерьез старались забодать один другого: сбежавшись, они падали на колени и стукались головами так, что громко трещали рога и крепкие шлемообразные лбы. Но, несмотря на это, они тотчас разбегались при приближении охотников, и попасть в них было очень трудно. Если б не гончие, то молодые люди вернулись бы, чего доброго, в лагерь с пустыми руками. Собакам, однако, удалось собраться в стаю и, выбрав одного старого самца, отрезать его от остальных. Во всю мочь погнали они его по полю: Гендрик и Толстый Виллем пришпорили коней и помчались следом; поскакали и их братья, но травля затянулась, и они один за другим стали отставать.
Самец не пробежал и двух миль, как собаки насели на него. Он почувствовал, что от них не уйти, круто повернул, ринулся навстречу своим преследовательницам и раскидал их рогами по сторонам.
По всей вероятности, старый гну успешно отбился бы от всех пятерых, если б в это время не приблизились охотники; новый испуг придал ему сил, и, бросив собак, он со всех ног пустился бежать по равнине. Еще миля — и гну скрылся бы в перелеске; там, видимо, он и искал спасения, но у него не хватило дыхания. Он не добежал еще до леса, а собаки уже то и дело хватали его за бока. Тогда он еще раз принял оборонительное положение и стал бить рогами направо и налево. Это была храбрость отчаяния. Пять собак одновременно набросились на старого гну — одна вцепилась ему в горло, другие повисли на крупе и на задних ногах. Скоро они свалили бы его на землю и битва бы кончилась, но тут подъехали Гендрик с Виллемом, и две пули, пробив ему ребра, прекратили его мучения.
Глава 21
НОСОРОГ
На этот раз Ганс и Аренд тоже увлеклись охотой и прискакали почти тотчас после того, как пал мертвым старый гну. Клаас и Ян, от которых благодаря открытой местности не ускользнула ни одна подробность травли, что было сил погоняли своих запыхавшихся пони и явились минутой позже старших братьев. Все шестеро спешились. После быстрой скачки надо было отдохнуть самим, дать отдых лошадям, а также содрать шкуру с самца. По заведенному у них порядку, Аренд исполнял обязанности шеф-повара, Гендрик и Толстый Виллем были мясниками, а Ганс, как ботаник экспедиции, — зеленщиком: знакомство с растениями помогало ему поставлять на походную кухню различные съедобные коренья и овощи, растущие в диком состоянии на равнинах Южной Африки.
Пока Гендрик и Виллем снимали шкуру, Ганс и Аренд препарировали голову и рога. Они и охотились-то почти столько же ради рогов, сколько ради мяса. Это был новый трофей для украшения холлов в Грааф-Рейнете. Рога обыкновенного гну достать нетрудно, но рога полосатого считаются ценностью, так как эти животные водятся только в отдаленной части страны.
Клаас и Ян помогали старшим — подавали ножи, поддерживали во время рубки части туши и обрезки кожи и вообще всячески старались быть полезными. Таким образом, никто не оставался без дела.
Все трудились, склонившись над мертвым гну, не поднимая головы и забыв осторожность, как вдруг неожиданный шум, достигнув их слуха, заставил всех вскочить на ноги. Они услышали громкое фырканье, сопровождавшееся каким-то трубным звуком, похожим на визг перепуганной свиньи, но только еще оглушительнее. Звук этот смешивался с хлопаньем ветвей и треском сучьев. Все шестеро вздрогнули, а некоторые и задрожали от страха; но то, что они увидели, еще увеличило их ужас. Да что там говорить, представшее перед ними зрелище заставило бы забиться сердца и более закаленных в опасностях людей, чем эти мальчики.
Пригибая и топча ветви, сквозь кустарник ломилось громадное животное. На морде у него был высокий прямой рог, тело было огромное и грузное, ноги толстые и могучие. Сомнений не оставалось: перед юношами был носорог!
В Южной Африке их четыре породы. Тот, которого увидели охотники, был черный, с двойным рогом, так называемый «бореле» — самый опасный и свирепый из всех.
Когда юноши услышали треск, он еще был в кустах, у самой опушки; оглянувшись в направлении шума, они увидели, что он уже вырвался из чащи; задрав голову, мотая ушами и вызывающе потряхивая коротким хвостом, носорог тяжело бежал прямо на них. Его черные глазки горели злобой, и весь вид не предвещал ничего доброго. Он был ужасен, а громкое фырканье и шумное дыхание, вырывавшееся из его горячих ноздрей, еще усиливали внушаемый им трепет.
К величайшему своему огорчению, молодые люди убедились, что опасности не миновать. Ошибки быть не могло — носорог направлялся в их сторону и, очевидно, замыслил нападение. Ничего удивительного в этом не было — черный носорог без всякого повода бросается на что попало: на человека, на зверя, на птицу, даже на куст!
Положение юношей было очень затруднительно: на открытой равнине, пешие, и в ста ярдах от них — разъяренный бореле!
К счастью, лошади стояли спокойно, и, к счастью же, охотники привязали их так, что отвязать уздечки ничего не стоило. Если б не эти два обстоятельства, кто-нибудь из шестерых непременно был бы поднят на рог, а это означало верную смерть.
Все лошади стояли неподалеку у дерева, а уздечки были закинуты на короткие сучья. Сучья эти мгновенно можно было отломать, и в то же время они удерживали смирную лошадь на месте. Привязывать лошадей таким способом предусмотрительно научили юношей их отцы, и теперь он сослужил им большую службу.
Конечно, увидав громадного, как гора, бореле, молодые люди тотчас бросили тушу гну. Раздался общий крик ужаса. Все шестеро, побросав ножи, кинулись к лошадям, сорвали с сучьев уздечки и мигом вскочили в седла. Это было проделано в десять секунд, но и десятая секунда едва не оказалась роковой. Лошади уже заметили отвратительную морду бореле. Они в страхе шарахнулись в сторону и чуть не сбросили некоторых всадников. Очутиться в этот момент на земле было равносильно гибели.
Однако все кое-как удержались в седлах и секунду спустя тесной кучкой мчались во весь опор по равнине, преследуемые пыхтящим бореле.
Теперь, сидя в седлах и быстро приближаясь к лагерю, юноши, в том числе Гендрик и Толстый Виллем, уже готовы были смеяться над своим приключением. Они вполне были уверены, что никакой носорог не может в быстроте бега соперничать с лошадью, что скоро они потеряют его из виду и все кончится одним смехом. Но вдруг одна и та же мысль мелькнула у обоих, и веселое настроение мгновенно сменилось тяжелым чувством тревоги.
Молодые охотники скакали по двое. Гендрик и Толстый Виллем на своих быстрых лошадях, как всегда, опередили остальных. Оглянувшись, они увидели, что мальчуганы Клаас и Ян сильно отстали и бореле заметно их нагоняет. Он был уже ярдах в двадцати от скакавших рядышком что есть духу мальчиков. Впереди них ехали Ганс и Аренд; они обернулись одновременно с Гендриком и Виллемом и тоже увидели, в каком бедственном положении находятся их младшие братья. Все четверо невольно вскрикнули.
Да, лошадь легко уйдет от носорога, но ведь пони от него не уйти! Клаас и Ян в несомненной опасности. Если бореле их настигнет, то пони их не спасут. Громадный зверь одним ударом острого рога распорет брюхо маленьких лошадок. Мальчики в несомненной и страшной опасности!
Все подтверждало ужасную истину. Расстояние между Клаасом и Яном и носорогом, вместо того чтобы увеличиваться, все уменьшалось и уменьшалось — бореле их нагонял.
Это была тяжелая минута для всех четверых. И тут Гендрик проделал маневр, искуснее и лучше которого не видел никто в течение всей экспедиции. Дернув повод, он вдруг повернул лошадь влево и дал знак Виллему заворачивать вправо. Виллем инстинктивно повиновался, и оба одновременно помчались назад
— Виллем с одной, Гендрик с другой стороны дороги. Проскакав немного, юноши остановились и взяли ружья на изготовку.
Сначала между ними пронеслись Ганс и Аренд, потом на перепуганных пони Клаас и Ян, и наконец явился бореле.
Не дав ему поравняться с собой, охотники прицелились, выстрелили и, помчавшись галопом ему в тыл, вновь зарядили ружья.
Обе пули попали в цель и хотя не свалили чудовища, но сильно замедлили его бег. Кровь обильно текла из его ран. Однако он продолжал преследовать пони и, может быть, долго еще бежал бы за ними, если б Ганс и Аренд, в точности повторив маневр Гендрика и Толстого Виллема, не всадили ему две пули в морду.
Пули снова попали в цель, но и эти раны не оказались смертельными. Однако для Клааса и Яна опасность миновала — бореле уже не гнался за пони; вместо этого, собрав остатки сил, он в бешенстве устремился на ближайших противников — сначала на одного, потом на другого.
Несколько раз бросался он в атаку, но безрезультатно: теперь всадники видели его перед собой и, увернувшись, успевали от него ускакать.
Четверть часа длился поединок. Молодые люди вновь и вновь заряжали ружья и стреляли со всей возможной в данных обстоятельствах поспешностью.
Дело решила пуля Толстого Виллема. Не напрасно захватил он свое «слоновое» ружье! Свинец пробил череп гигантского бореле, и чудовище покатилось на землю.
Громкое «ура» возвестило победу, и шестеро охотников спешились около громадного тела бореле — бездыханный, он был им уже не страшен.
Кто-то съездил в лагерь за топором, чтобы отрубить его длинный передний рог. Это был редкостный и великолепный трофей! Немного погодя юноши отправились за мясом и рогами полосатого гну, взвалили свою добычу на крупы лошадей и благополучно возвратились в лагерь.
Глава 22
ПРЕРВАННЫЙ ЗАВТРАК
На следующее утро молодые охотники встали поздно — никаких особенных дел у них не предвиделось. Отъезд был назначен на завтра, и сегодняшний день они решили провести в лагере, чтобы дать лошадям хороший отдых перед долгой и трудной дорогой.
Итак, они поднялись несколько позднее обычного и приступили к завтраку, состоявшему из языка полосатого гну, горячего кофе и сухарей, большой запас которых, взятый из дому, до сих пор еще не истощился.
Молодые охотники легко обошлись бы без хлеба. Для них это не было бы таким лишением, как, вероятно, для тебя, мой юный читатель. В Южной Африке очень и очень многие совсем не знают хлеба — для них он неизвестная роскошь. Большинство туземцев никогда его не едят, да тысячи живущих на границе колонистов тоже прекрасно без него обходятся. Население Южной Африки — как туземцы, так и колонисты — не занимается землепашеством; в основном это скотоводы, и потому возделыванию полей здесь уделяют мало внимания. Стада крупного рогатого скота, лошади, отары курдючных овец и козы отнимают все их время, и земледельческие работы им не по душе.
Правда, самые состоятельные буры отводят несколько акров под кафрское зерно — разновидность индийского зерна или кукурузы — и иногда засевают два-три акра гречихой, но все это только для собственного потребления. На огородах они выращивают всевозможные овощи, а в обширных фруктовых садах растут яблоки, персики, гранаты, груши и айва; есть и виноградники, дающие неплохое вино, и огороженные бахчи с дынями, огурцами и тыквами.
Но бедному люду, особенно в отдаленных районах, о таких вещах думать не приходится. Единственная загородка около жилища бура-фермера — это крааль для скота. Хлеб для такого бедняка — большая редкость; основная его пища — это вяленое или свежее мясо, в особенности же баранина, которая приготовляется самыми различными способами и притом очень вкусно; и вообще кухня буров ни в коем случае не заслуживает пренебрежительного отношения.
Во многих прилегающих к границе районах, там, где еще не совсем истреблены дикие животные, ежедневную пищу буров составляет разная дичина. Здесь еще в изобилии водятся антилопы-скакуны, а также обыкновенные гну, и целые кучи их рогов бывают навалены около краалей любого бура-скотовода. Мясо гну, как уже говорилось, больше похоже на говядину, чем на дичину: когда оно жирно само по себе или же зажарено на прекрасном сале курдючных овец, из него получается роскошное блюдо.
Квагг, которых много в этих местах, тоже убивают ради мяса, но оно горьковато на вкус и идет в пищу только слугам-готтентотам.
Наши молодые охотники были дети богатых родителей и потому привыкли есть хлеб, но в случае нужды им не стоило труда от него отказаться. Однако сухарей они захватили с собой очень много — несколько мешков — и теперь с удовольствием завтракали, обмакивая сухари в кофе и закусывая их языком гну.
Юноши оживленно болтали, вспоминая приключение с бореле, которое, когда опасность уже миновала, казалось им очень забавным.
Итак, они ели не спеша и со вкусом, и время шло незаметно. Этот день решено было провести в приятном ничегонеделании, то есть просто бродить по лагерю да еще осмотреть амуницию и, может быть, наложить заплатки на протершиеся места в седлах и уздечках. Предстоящий длительный переход через пустыню требовал исправности во всех мелочах, и тут никакая предосторожность не была лишней.
Завтрак проходил под смех и шутки и еще не был съеден и наполовину, как вдруг в лагерь прибежал запыхавшийся Конго и принес известие, которое сразу опрокинуло все их планы. Оказалось, что, бродя по акациевой роще, он незаметно вышел на опушку и оттуда увидал в пустыне не больше не меньше, как целое стадо страусов!
Это известие взбудоражило всех, а Клаас и Ян встретили его криками восторга. Лени и усталости как не бывало! Челюсти заработали быстрее, один за другим исчезли куски мяса, кофе был проглочен залпом, и на вторую часть завтрака ушло в десять раз меньше времени, чем на первую.
С едой покончили в две минуты, а пять минут спустя лошади уже были взнузданы и юноши сидели в седлах. Никто и не вспомнил о том, что лошадям нужен отдых. В голове всадников гнездилась одна мысль: как бы окружить страусов?
Но где же был Черныш? Его участие и совет сейчас были бы очень кстати. По общему признанию, в охоте на страусов Черныш знал больше толку, чем любой из них, не исключая и Конго. И вообще с животными пустыни, мелкими четвероногими и птицами, бушмен был знаком лучше, чем кафр. Оно и понятно. Конго всю жизнь прожил среди пастушеских племен — ведь кафры не только охотники, но и скотоводы. Конго знал, как убить льва, леопарда, гиену или какого-нибудь другого хищного зверя, потому что главным его делом были стада и забота об их сохранности; охотиться же на мелких животных или брать их живьем у него не было навыка. Совсем иначе обстояло дело с Чернышом. Бушмены скота не держат. Правда, им случается стащить корову или козу у грикасов или у другого соседнего мулатского племени, а то и у кочующего бура; но, пригнав скотину к своему жилищу, бушмен не старается ее сберечь, а тотчас убивает и съедает. Отсутствие домашних животных и вместе с тем необходимость чем-то питаться заставляют его направлять всю свою изобретательность на охотничий промысел и ловлю разной «дичи», под которой бушмен разумеет все живое — от слона и жирафа до саранчи и ящерицы включительно!
Естественно, что при таком образе жизни бушмены в совершенстве знают всех населяющих страну диких животных, их привычки и излюбленные пастбища, а также и все способы охоты на них. Этими познаниями Черныш выделялся среди своих соплеменников и даже прославился у себя на родине как искусный охотник.
Но куда же он теперь девался? Уже больше часа его нигде не было видно. По словам Конго, Черныш погнал буйволов пастись на зеленый луг позади лагеря и, наверное, сейчас там находится. Кто-то предложил скорей за ним сбегать, но остальные воспротивились, находя, что это потребует слишком много времени. Конго сказал, что Черныш забрел с буйволами довольно далеко и, пока он вернется, пройдет не меньше получаса, а страусы тем временем уйдут Бог весть куда.
Нет, ждать Черныша невозможно. Как-нибудь надо обойтись без него. И юноши, вскочив на лошадей, помчались в пустыню.
Глава 23
ОКРУЖЕНИЕ СТРАУСОВ
Подъехав к опушке, юные охотники остановили лошадей, чтобы под прикрытием деревьев произвести разведку. Конго сказал правду. Действительно, на равнине гуляло небольшое стадо страусов. Семеро шли кучкой, а восьмой шагал несколько поодаль. Это был самец. Из остальных двое, по всей вероятности, тоже были самцы, а еще пять — самки. Я сказал «по всей вероятности». Вы, пожалуй, думаете: какое может быть тут сомнение, когда у самцов и самок страусов оперенье совсем разного цвета? Но это справедливо только в отношении птиц, достигших определенного возраста. Дело в том, что, хотя молодые самцы ростом бывают со взрослого страуса, свои красивые белые перья они приобретают не сразу, и на расстоянии их почти невозможно отличить от самок.
Кучка в семь страусов стояла почти неподвижно. Иногда какой-нибудь из них делал несколько шагов и что-то подбирал с земли — вероятно, мелкие камешки, потому что ничего похожего на растительность около страусов не было видно. Другие сидели «на корточках», сложив под себя свои длинные ноги. Третьи «купались» в песке, трепеща крыльями, точь-в-точь как это делают индейки и куры в жаркую погоду. Из-за облака пыли, которое они при этом поднимали, еще труднее было разглядеть их как следует и проследить за их движениями. Семеро страусов были недалеко от опушки акациевой рощи, а тот, что ходил один, — еще ближе. Он направлялся к своим, то и дело нагибаясь и пощипывая травку. Юноши заключили из этого, что недавно он находился у самой опушки. Конго тоже сказал, что, когда он впервые заметил страусов, старый самец кормился ярдах в двухстах от него, причем и тогда уже он шел прочь от рощи. Наверно, его можно было застрелить, не выходя из леса. Какая жалость, думали Клаас и Ян, что они не вышли на разведку пораньше!
Охотники не стали тратить время на наблюдение за птицами. Их целью было окружить страусов, и следовало как можно быстрее обсудить план действий.
Птицы находились очень далеко от разоренного и покинутого гнезда. В числе пяти самок, надо думать, не было ни одной из тех, что два дня назад присутствовали при гибели своего пернатого господина, павшего жертвой отравленной стрелы. Те вряд ли возвратились бы на старое место.
Стадо, которое сейчас видели охотники, не имело никакого отношения ни к тому гнезду, ни к недавно происшедшей трагедии.
Молодые люди были очень довольны, что страусы встретились им не у гнезда: местность здесь была гораздо удобнее для окружения. Пустыня клином вдавалась в рощу. Одна сторона этого клина, обращенная на север, соединялась с необозримой равниной, а две остальные были образованы низкими деревьями и зарослями акации. Они представляли собой отличное укрытие для охотников. Поэтому составить план было нетрудно, и в пять минут все роли были распределены.
Гендрик и Толстый Виллем, у которых были лучшие лошади, условились ехать под прикрытием леса, один по правой, другой по левой стороне клина, до выхода в пустыню. Здесь каждый должен был остановиться и не двигаться, пока его товарищ не появится на противоположной стороне. Затем они должны были выехать друг другу навстречу, но не съезжаться, а встать так, чтобы наверняка отрезать страусам дорогу.
Гансу и Аренду предстояло отправиться по следам Гендрика и Толстого Виллема, но остановиться на полдороге и ждать, пока те не покажутся в конце клина. Тогда они должны были выехать из леса и, если страусы побегут на них, гнать их обратно.
Не остались без дела и Клаас с Яном: им тоже было велено разделиться и встать там, где укажут старшие. Все двинулись одновременно — трое цепочкой направо и трое таким же порядком налево. Конго получил приказ оставаться в чаще до тех пор, пока Гендрик и Толстый Виллем не выедут друг другу навстречу, а дальше действовать, как остальные, с той только разницей, что ему придется полагаться лишь на быстроту своих собственных ног. Если Гендрик и Виллем доберутся, пока птицы не ушли, до назначенного места, то страусы очутятся в замкнутом кольце. Охота обещала быть очень интересной. Возможно, юношам удастся убить или захватить живьем несколько гигантских птиц. Окруженный со всех сторон, страус теряет голову, мечется как угорелый, и тогда его легко можно загнать.
Вся трудность заключалась в том, чтобы поспеть к условленным местам. На окружение требовалось много времени, так как клин пустыни, на котором находились страусы, был в три мили шириной. Гендрику же и Толстому Виллему предстоял конец еще в два раза больший и, кроме того, сквозь чащу. Ехать они могли только шагом.
Итак, на страже остался один кафр. Остальные пробирались по лесу и только урывками, когда попадались просветы между листьями, видели страусов. Молодые люди очень торопились скорей занять свои посты и старались не задерживаться по дороге. Все понимали, как драгоценна каждая минута: если птицы почуют опасность и выбегут в пустыню, то все их труды пропадут даром. Поэтому, бросив взгляд сквозь листья и убедившись, что страусы не ушли, охотники спешили дальше, к назначенным местам.
Глава 24
ТАИНСТВЕННЫЙ СТРАУС
Конго внимательно, насколько позволяло светившее в глаза солнце, следил за движениями птиц.
Он увидал, что кормившийся отдельно самец теперь близко подошел к кучке страусов; когда он оказался от них в нескольких ярдах, все птицы вдруг поднялись и, вытянув шеи, уставились на него, как на постороннего. Через секунду все семеро, точно чего-то испугавшись, отбежали подальше; одинокий самец пустился за ними, но на некотором расстоянии.
Шагов через двадцать стадо, успокоившись, остановилось. Самец снова медленно зашагал вперед, подбирая на ходу что-то съедобное.
Когда он приблизился второй раз, страусы опять переполошились, отбежали еще на несколько ярдов и снова стали. По-видимому, этот самец был чужак и его присутствие страусы рассматривали как вторжение.
Опять он стал подходить, опять они бросились прочь, но на этот раз уже не вперед: они обежали кругом него и очутились почти на прежнем месте. Однако в этом маневре участвовали одни самки. Оба самца остались стоять где были, и их поведение немало удивило Конго.
Один из них присел на землю, другой начал бегать вокруг, время от времени хлопая своими белыми крыльями и шатаясь, как пьяный. Через несколько минут картина изменилась. Тот, что сидел, теперь улегся на песке, а тот, что кружился, присел недалеко от него. Тотчас к нему подбежала одна из самок и тоже села рядом. На ногах остался один самец и четыре самки.
Конго, который у себя на родине редко наблюдал страусов и не знал их повадок, никак не мог уразуметь, что все это значит. «Я видел, — думал он, — как играют журавли и куропатки; наверно, эти тоже играют в какую-то свою птичью игру».
Но не один Конго удивлялся проделкам страусов. Клаас и Ян, добравшись до своих мест раньше остальных, во все глаза смотрели на птиц и не могли надивиться на их непонятное поведение. Немного погодя из своей засады выглянули Ганс и Аренд и, увидев эту странную игру «в соседей», изумились не меньше братьев. Но Гансу и Аренду было не до наблюдений за страусами. Они смотрели туда, где должны были показаться Гендрик и Толстый Виллем, и нетерпеливо ждали их появления.
Долго ждать им не пришлось. Через несколько минут из леса выскочили два всадника и галопом понеслись по направлению к страусам и друг другу навстречу. Увидав их, все пятеро, считая Конго, выступили на открытое поле и двинулись к месту, где находились страусы.
Теперь охотники были уже в полном недоумении. Когда они подъехали ближе, оказалось, что большинство птиц сидят или лежат на земле, как будто греясь на солнце. Почему же при своей крайней пугливости страусы не обращаются в бегство? Или они до сих пор не заметили приближения лошадей и не услышали топота копыт? Только две самки, казалось, почуяли неладное и бросились в сторону открытой пустыни, но, увидав Гендрика и Толстого Виллема, тотчас повернули назад. Кроме них, на ногах был только один самец, тот, что держался в одиночку. Но он стоял неподвижно и тоже не думал о спасении. Как все это было странно!
Ближе всех к страусу находились Гендрик и Толстый Виллем. Они скакали во весь опор и через минуту были бы около него. Когда между ними и страусом оставалось меньше пятисот ярдов, они решили выстрелить в него на скаку и уже вскинули ружья, как вдруг, к величайшему их изумлению, птица испустила громкий крик ужаса! Через секунду пернатый покров свалился с ее плеч, и перед охотниками предстал не голый страус, а голый бушмен с вымазанными мелом до самых бедер ногами. Этот бушмен был Черныш.
Да, друг Черныш напялил на себя кожу страуса, два дня назад убитого отравленной стрелой, и та же стрела — верней, полдюжины ей подобных заставили страусов проделывать все эти непонятные штуки. Пять из них уже лежали мертвые или умирающие и только две самки, еще не получившие своей доли яда, воспользовались замешательством охотников при внезапном появлении Черныша и обратились в бегство.
Счастье Черныша, что он успел крикнуть. Еще мгновенье — и ему пришлось бы разделить участь своих жертв — страусов. Он не скрывал, что страшно перепуган. Поглощенный охотой на страусов, Черныш забыл обо всем на свете; перья, нависая ему на глаза, мешали смотреть по сторонам, а прилегавшая к ушам кожа старого страуса заглушала звуки. Только благодаря чистой случайности он увидел скачущих на него всадников. А ведь ему надо было еще мигом скинуть с себя маскарадный костюм — что не так-то легко! — и успеть предстать собственной персоной… Молодые охотники, сидя в седлах, глядели на голого Черныша, от пят и до бедер вымазанного мелом, и покатывались со смеху.
Черныш, гордый удачей, глядел победителем. Он отыскал глазами своего соперника и ехидно спросил:
— Ну что, Конго, каково?
Щит кафра померк перед страусовой кожей бушмена!
Глава 25
БЕЛОЛОБЫЕ И ПЯТНИСТЫЕ АНТИЛОПЫ
На следующее утро наши юноши запрягли буйволов и через пустыню отправились в путь на северо-восток. Два дня они шли по безводному пространству, и буйволы очень страдали от жажды, за все время ни разу не глотнув воды. Сами охотники были водой обеспечены. В каждом фургоне стояло по бочонку на добрых восемнадцать галлонов. Перед отъездом охотники наполнили их доверху водой из ручья. Один бочонок весь споили лошадям; каждой досталось немногим больше двух галлонов, и на два дня пути по спаленной солнцем пустыне это было, конечно, все равно что ничто. Люди и те выпили столько же. Если вам случалось путешествовать под палящим тропическим солнцем по безводным просторам, вас это не удивит. Жажда возвращается беспрестанно, и глоток воды утоляет ее лишь ненадолго. Пить хочется все больше и больше, и, случается, путник за день выпивает несколько галлонов воды — не стаканов, а именно галлонов!
Наконец молодые охотники миновали пустыню и вступили в местность, совершенно не похожую на все, что они до сих пор видели.
Это была обширная страна, покрытая холмами самых разнообразных и причудливых очертаний. У одних были округленные, полусферические вершины, у других конусообразные, третьи были плоские, как стол, четвертые уходили в небо остроконечными пиками. Да и величиной они различались. Некоторые достигали размеров настоящей горы, но больше было невысоких, зато с крутыми или почти отвесными склонами, поднимавшимися прямо с ровного места, без каких-либо отрогов или подошвы. Оригинальностью пейзажа эта страна очень напоминала горные плато в Кордильерах, и действительно, эта часть Африки и плоскогорья Мексики по своему геологическому строению почти одинаковы.
Множество конических и пирамидальных холмов одиноко возвышались на равнине, и часть их была совершенно лишена растительности. Но тут же можно было видеть горы, до половины одетые густым лесом, над которым вздымались голые, острые вершины из белого, как снег, кварца, сверкавшего на солнце.
Между горами лежали обширные равнины, и иногда они были так велики, что окружавшие их холмы лишь смутно виднелись на горизонте. Эти равнины, очень разнообразные по величине и очертаниям, густо заросли травой, вид которой удивил охотников. Такая трава еще не попадалась им в пройденных местах. Она была низкая, как на только что скошенном лугу или как на пастбище, где скот выщипал ее чуть ли не под самый корень. И точно, эти равнины были излюбленными пастбищами бесчисленных стад диких жвачных животных, которые вытоптали их так, что остался один только сухой дерн. Как не похожа была эта ломкая курчавая растительность с привкусом соли на высокую, сочную и сладкую траву, устилающую равнину к югу от Оранжевой реки! Во многих местах соль даже проступала на поверхность земли и ложилась белым, как иней, налетом на былинки и листья. Кое-где виднелись и настоящие солончаки, простиравшиеся иногда на многие мили.
Охотники попали в удивительную страну. Буры называют ее «Зуур-Вельд», что означает «соленое поле». Это родина и любимое местопребывание белолобых и пятнистых антилоп.
Что же это за антилопы?
И та и другая прославились красотой форм и быстрым бегом, а больше всего
— удивительно яркой окраской.
Обе они принадлежат к роду бубалов, близки к газелям, но привычками существенно от них отличаются; в то же время между собой они так схожи, что и путешественники и натуралисты постоянно принимают их за один и тот же вид.
Между тем это совершенно разные породы, хотя живут они в одной и той же местности и ведут одинаковый образ жизни. Белолобая антилопа и размерами и нарядностью окраски уступает пятнистой. У белолобой рога светлые, почти белые, а у пятнистой — черные. В окраске ног тоже есть заметная разница. У пятнистой антилопы ноги до колен в белых чулках, а у белолобой они снаружи темные снизу доверху, а с обратной стороны — белые.
Пятнистая антилопа, которую называют также пигаргой, не только красивейшая, но и одна из самых быстроногих во всей Африке. Некоторые путешественники считают ее даже самой быстрой.
Ростом она с европейского оленя, но легка и грациозна. У нее довольно длинные, расходящиеся в стороны черные рога, широкие у основания и до половины покрытые валиками. Сначала они прямо поднимаются над лбом, потом слегка загибаются назад, а кончики снова смотрят вперед.
Но больше всего бросается в глаза необыкновенная расцветка ее шерсти. В этом отношении и пятнистая и белолобая антилопы несколько похожи на диких коз и сассиби.
Основные тона пятнистой антилопы — это пурпурно-фиолетовый и все оттенки коричневого, причем они не перемешаны в беспорядке, а как будто наложены кистью искусного художника. Голландские поселенцы так и назвали ее: «пятнистая» или «раскрашенная» антилопа. Шея и голова у нее темно-коричневые с красным, как кровь, отливом. Между рогами проходит белая полоска, которая, постепенно расширяясь, спускается к глазам и белым пятном расплывается по всему лбу, до самой мордочки. Этой «лысиной» или пятном отличаются оба вида антилоп, но у одной из них лысина больше и заметнее, и потому этой антилопе присвоено имя «белолобая».
На спине у пятнистой антилопы большое синевато-лиловое пятно, окаймленное широкой красно-коричневой полосой; оно блестит, как лакированное, и, распространяясь на бока, очертаниями напоминает седло. Брюшко и бедра у нее чистейшего белого цвета; ноги в белых чулках и на крупе такое же ослепительно белое пятно. Хвост достигает колен и на конце украшен черной кисточкой. Такова окраска пятнистой антилопы; белолобая, как мы уже говорили, отличается от нее очень немногим, только цвета ее не так ярки и не так резко разграничены. И та и другая — очень красивые создания, и их шкуры высоко ценятся туземцами: из них они шьют себе кароссы — особенную одежду, которая днем служит плащом, а ночью заменяет постель и одеяло.
Образ жизни обоих видов совершенно одинаков. Они живут на «соленых лугах», собираясь огромными, в несколько тысяч голов, стадами, которые, как гигантским лиловым ковром, покрывают обширные пастбища.
Такими же громадными обществами живут антилопы-скакуны; но в повадках антилоп-скакунов и пятнистых антилоп есть разница. Вспугнутые скакуны бросаются куда глаза глядят, рассыпаясь во все стороны, а пятнистые и белолобые антилопы неизменно бегут против ветра, уткнув носы в землю, совершенно как охотничьи собаки по следу.
Антилопы гораздо живее скакунов и так пугливы и осторожны, будто знают, что их шкура ценится охотниками больше, и потому, чтобы сохранить ее, им требуются особая ловкость и проворство.
В прежние времена, когда эти места еще не были населены, оба вида антилоп водились по всей Южной Африке вплоть до мыса Доброй Надежды. Теперь же их можно встретить только на «соленых лугах», к северу от Оранжевой реки.
Пятнистые антилопы еще изредка попадаются в пределах Капской колонии, например в округе Свеллендам, но сохранились они здесь только благодаря специальному правительственному закону, по которому со всякого, кто убьет без разрешения пятнистую антилопу, взыскивается штраф в размере шестисот туземных долларов. Итак, юные охотники вступили во владения белолобых и пятнистых антилоп.
Глава 26
ОХОТА НА БЕЛОЛОБЫХ АНТИЛОП
Углубившись в страну белолобых антилоп, молодые люди решили сделать небольшой привал и поохотиться на этих прекрасных животных. В мясе они не нуждались, но снять с двух-трех красавиц их нарядную разноцветную одежду и повесить ее вместе с рогами на стенах холлов в Грааф-Рейнете им очень хотелось.
Пройдя несколько миль по равнине, юноши отпрягли буйволов и неподалеку от широкого ручья раскинули лагерь.
На следующее утро они отправились верхом на поиски красных антилоп.
Они их очень скоро увидели. Мудрено не отыскать, и особенно на его родине, животное, которое ходит стадами в несколько тысяч голов. Чему же удивляться, если охотники набрели на целое стадо, чуть только отъехали от лагеря.
Однако ни один из всей компании понятия не имел, как охотятся за этими антилопами. Спустить ли на них собак и ворваться в самую гущу стада или же незаметно подкрасться к ним на расстояние выстрела? Какой из двух способов надежней, не знали ни молодые охотники, ни их проводники. В родных местах Черныша ни белолобые, ни пятнистые антилопы вообще не водятся. Юные охотники тоже знали о них только понаслышке, потому что западная половина Южной Африки, откуда они были родом, не соприкасается с областью распространения белолобых антилоп. Когда-то, в молодости, отцы наших мальчиков охотились на белолобых и пятнистых антилоп, но с тех пор к югу от Оранжевой реки оба вида были совершенно истреблены.
Что же касается Конго, то хотя антилопы и водятся на части земель, где живут кафры, но в тех именно местах ему никогда не случалось бывать.
Ни бушмен, ни кафр не вышли на охоту с молодыми людьми. Они остались стеречь лагерь; правда, отъезжая, юноши попросили у них совета, но оказалось, что те ничего путного посоветовать не могут.
Охотники в растерянности стали обсуждать, как им быть. Толстый Виллем считал, что надо разделиться на две партии: одни, сделав круг, погонят стадо, а другие, спрятавшись в засаде, будут подстерегать его и начнут стрелять, когда дичь к ним приблизится. В лесах Северной Америки так охотятся на оленей, и этот способ называется гоном. Гендрик находил, что лучше на всем скаку врезаться в стадо и затем травить антилоп собаками. Ганс предложил подкрасться к стаду на ружейный выстрел; того же мнения был и Аренд. Что думают Клаас и Ян, об этом никто не спрашивал, да они и сами не вмешивались. Если б антилопы были птицами, тогда другое дело: мальчуганы непременно вставили бы свое словечко наравне со старшими братьями.
Но белолобая антилопа не птица, хотя менее чем через час охотники убедились, что в быстроте она ей не уступит.
Всего вернее было подкрасться к стаду — тут охотники не рисковали вспугнуть антилоп и обратить их в бегство; поэтому решено было сначала испробовать способ Ганса. Не выйдет дело — они устроят облаву, как предлагает Виллем, а если и облава ничего не даст, последуют совету Гендрика настигнуть антилоп верхами.
Итак, сначала решили подкрасться к антилопам.
Лошади тут не нужны; к некоторым животным легче приблизиться конному, чем пешему, но антилопы не из их числа.
Юноши спешились и направились к стаду; Клааса и Яна не взяли на охоту — им было поручено стеречь на привале лошадей и собак.
Стадо паслось посреди просторной открытой равнины, такой обширной, что горы, окаймлявшие ее на горизонте, казались невысокими холмами. Вокруг, куда ни кинь взгляд, ни кустика, ни утеса. Траву здесь, как уже говорилось, сильно выщипали животные, и весь луг был совершенно ровный, без единой ложбинки, где могли бы схорониться охотники. Поди тут подкрадись по такой местности! Юноши, разумеется, знали, что ни одно дикое животное, даже из самых беспечных и несметливых, не подпустит их на расстояние выстрела, а тем более белолобая антилопа — животное, как они слышали, отнюдь не глупое, чрезвычайно чуткое и пугливое. На что же они надеялись? Это следует специально разъяснить.
Хотя поблизости не было ни утесов, ни деревьев, ни кустарников, ни высокой травы, ни каких-либо неровностей почвы, здесь все же удавалось найти укрытия, правда не очень удобные, но умелому охотнику и они могли сослужить службу. С ними-то и связывали наши юноши свои надежды на успех в таком трудном деле, как попытка подкрасться к белолобым антилопам. На равнине, на расстоянии в сто — триста ярдов друг от друга, было разбросано множество диковинных желтовато-серых сооружений. Цветом они напоминали жженую глину, а формой — одни усеченный конус, другие — полушарие. У подножия большинства из них видны были неровные лазейки, прорытые, надо думать, не самими искусными тружениками — строителями этих холмиков. Они пользовались подземными ходами, а наружные провели их лютые враги, чтобы разорять их жилища. Вы, разумеется, уже и сами догадались, что речь идет о термитниках и что боковые лазы прорыли длинноязыкие трубкозубы.
Эти куполообразные холмики были средних размеров — от одного до трех футов высотой. В Южной Африке попадаются термитники в четыре — пять раз выше. Мне уже случалось рассказывать вам об этих высоких термитниках и о термитах, сооружающих такие любопытные жилища. Каждый из видов термитов придерживается определенного архитектурного стиля. Одни предпочитают коническую или пирамидальную форму, другие — нагромождение конусов, постройки третьих имеют вид цилиндра, четвертые облюбовали форму опрокинутой чаши, приближающуюся к полусфере.
Именно такие куполообразные термитники и увидели наши охотники: то были гнездовья кусающих термитов, распространенных на равнинах страны Зуур-Вельд.
Охотники двинулись вперед, не спуская глаз с антилоп; вся надежда была на эти термитники.
Прежде чем начать охоту, решено было выяснить, как близко подпустят их к себе антилопы в открытую; оказалось — ярдов на четыреста, никак не ближе. Пока сохранялось такое расстояние, антилопы как будто и не догадывались о появлении пришельцев и продолжали спокойно щипать траву, но стоило хоть одному из четверых продвинуться еще немного, и все стадо, как бы невзначай, снималось с места, и расстояние в четыреста ярдов оставалось неизменным.
Соблюдая осторожность, юноши начали переползать от одного термитника к другому; но это не принесло успеха, и ни один из них не смог приблизиться к животным на расстояние выстрела. Тогда они разделились и двинулись с разных сторон. Но и тут их ждала неудача: хотя стадо держалось одного направления, антилопы, словно чутьем, угадывали, за каким холмом таится охотник, и делали такой большой крюк, что попасть в них даже из дальнобойного ружья Толстого Виллема было невозможно. В конце концов, потратив два часа на эту безуспешную охоту, юноши признали свою неудачу. Подкрасться к белолобым антилопам не удалось.
Гендрик и Толстый Виллем не упустили случая посмеяться над Гансом и Арендом:
— Много вы после этого понимаете в охоте!
Глава 27
ОБЛАВА НА АНТИЛОП
Охотники вернулись к лошадям. Теперь предстояло испробовать план Толстого Виллема.
На этот раз позволили участвовать в охоте и Клаасу с Яном. Им поручалось гнать антилоп на четверых стрелков. Юноши вскочили на лошадей и поскакали к антилопам, которые за время неудачной охоты успели уйти далеко в глубь равнины. Остановившись на таком расстоянии от антилоп, чтобы не всполошить их, старшие послали Клааса и Яна вперед, к головной части стада, а сами разместились широким полукругом в местах, которые себе облюбовали, поодаль от животных. Лошади быстро примчали охотников к их позициям. Теперь им оставалось схорониться за холмиками и ждать, пока Клаас и Ян погонят на них антилоп. Мальчикам велели действовать с величайшей осторожностью, чтобы не спугнуть антилоп; у Яна с Клаасом имелось на это достаточно охотничьей сноровки.
Четверо стрелков, обогнув стадо и очутившись на противоположной стороне от мальчиков-загонщиков, спешились и связали в общий узел поводья своих лошадей, а затем направились к стаду, растягиваясь широким полукругом, чтобы охватить как можно большее пространство; потом, стоя на коленях, они притаились каждый за своим термитником.
Теперь уж охота не сорвется: антилопы, спугнутые Клаасом и Яном, наверняка побегут прямо на них, как побежали бы, разумеется, антилопы-скакуны; и тут «трах-тах-тах» — весело затрещат выстрелы и бабахнет громобой Толстого Виллема.
Последний прямо-таки ликовал. Его способ охоты был противоположен способу Ганса и Аренда. Но к способностям таких, с позволения сказать, охотников он относился несколько свысока. Другое дело Гендрик. Тот ведь тоже не соглашался с ним, и, следовательно, если, вопреки всем сомнениям, именно его план окажется удачным, он возьмет верх над Гендриком.
В успехе он почти не сомневался: все они нашли удачные позиции, и, лишь только мальчики, сделав круг, приблизятся к антилопам, те круто повернут и будут двигаться уже на стрелков; так, во всяком случае, поступают скакуны, повторял сам себе Виллем.
Однако скакуны и белолобые антилопы — далеко не одно и то же: они отличаются друг от друга не только размерами и окраской, но и повадками. Вот это-то, на свою беду, и упустил из виду Виллем.
Есть у белолобых антилоп одна любопытная черта, присущая и другим антилопам и даже оленям. Из-за нее и расстроились все тонкие расчеты Виллема.
Вопреки предположениям, животные и не подумали повернуть назад, завидев Клааса и Яна. Упрямые существа только обходили мальчиков и, миновав опасное место, снова двигались в прежнем направлении.
Клаас и Ян стояли на некотором расстоянии друг от друга — загонщикам всегда выгоднее расположиться широким фронтом, — но антилопы сделали такую петлю, что даже Толстому Виллему трудно было застрелить их из своего огромного громобоя. А мальчики, помня наказ старших, и не пытались стрелять; они стояли, не шелохнувшись, и антилопы спустя некоторое время замедлили бег и снова принялись мирно щипать траву.
Толстый Виллем был сильно опечален своей неудачей; Ганс и Аренд не поскупились на насмешки; но куда сильнее задели его два-три слова, оброненные охотником-соперником.
— Я наперед знал, — многозначительно произнес Гендрик, — что ничего из этого не выйдет. Ты думаешь, антилоп могут загнать два мальчугана верхом на пони? Это ведь все-таки не овцы… Виллем понял, как его обрезали. Но он не сдавался и принялся доказывать, что его план все равно хороший, надо было только правильно его выполнить. Антилопы — теперь это ясно для всех — пасутся всегда мордой по ветру; значит, стрелкам, а не загонщикам следовало поместиться в головах стада. Попробуем так, и успех обеспечен. Ну, а если не выйдет, — поступим по совету всезнайки Гендрика; проверим, чего стоит его, с позволения сказать, план.
При упоминании о Гендрике в тоне Виллема прозвучал оттенок сарказма, а слово «всезнайка» было сильным ответным ударом Гендрику за его насмешку.
Слова Виллема казались вполне разумными, и все согласились с его новым предложением. Да, теперь ясно, что антилопы пасутся только «мордой по ветру», иначе они не отважились бы проскочить между Клаасом и Яном. Значит, стрелкам выгоднее всего расположиться с наветренной стороны, и, удачно выбрав места, они наверняка подстрелят несколько голов идущего прямо на них стада. А сорвется охота — тогда уж останется последовать совету Гендрика и погнаться за антилопами по пятам. Порешив на этом, четверо стрелков пустили лошадей вскачь и, описав большой круг, перерезали путь стаду; Клаас и Ян, оставленные в тылу, должны были осторожно теснить добычу сзади.
Охотники, притаившиеся на своих позициях, не сводили глаз с приближавшихся антилоп: с каждой минутой все отчетливей и отчетливей выступает «лысина» на их лбах, их широкие белобрысые головы уже явственно видны охотникам, вот-вот они окажутся на расстоянии выстрела! Как вдруг животные, подняв головы, испустили какой-то странный фыркающий крик и ринулись прямо на охотников. «Тут-то мы их и подстрелим», — мелькнуло в голове у каждого, и каждый за своим прикрытием поспешил опуститься на колено и взвести курок.
— Теперь-то уж я возьму над вами верх! — бормотал себе под нос Виллем. — Не пройдут вам даром ваши насмешки!
Но — увы! — ему и на этот раз суждено было изведать горькое разочарование: стоило лишь антилопам почуять ветер, дувший от термитников, за которыми скрывались охотники, как они тут же свернули в сторону и вдалеке обошли засаду; стрелять было бесполезно. Толстый Виллем поднял было громовой, чтобы выстрелить наугад, но мысль о том, что, промазав, он погубит всю охоту, остановила его. Скрепя сердце он опустил ружье и дал антилопам убежать прочь.
Несколько секунд — и стадо было далеко-далеко от того места, где оно чуть не попало под обстрел. Но так как никто на них не покушался и ни один выстрел их не напугал, животные спустя некоторое время успокоились и снова как и в чем не бывало принялись щипать траву.
Теперь Гендрик почувствовал себя героем дня. Сейчас он покажет всем, как легко настигнуть этих пугливых животных. Он загонит по крайней мере полдюжины, прежде чем они успеют удрать с равнины.
— Вперед!
Вскочив на лошадей, охотники поскакали к антилопам. Но едва лишь расстояние между ними и стадом сократилось до четырехсот ярдов, животные обратились в бегство.
Началась погоня. Спустили собак, пришпорили лошадей, и охотники с быстротой ветра понеслись по равнине.
Они не проскакали еще и мили, когда Гендрик понял, что тоже просчитался: легконогие антилопы оставили далеко позади себя и всадников и гончих. Охотники один за другим стали осаживать своих взмыленных лошадей и отставать; двадцать минут спустя один лишь Гендрик да несколько его самых быстрых гончих продолжали погоню; Ганс и Аренд, рассудив, что их лошади не выдержат такой скачки, сочли за лучшее отступиться; ну, а что касается Виллема, так тот и не желал удачи. Клаас и Ян, само собой разумеется, замыкали шествие, и все они, сидя в седлах, не спускали глаз с красно-бурого потока антилоп и со спины Гендрика, уже едва заметной среди дальних термитников. Скоро он и совсем скрылся из виду.
Глава 28
БЕШЕНАЯ ПОГОНЯ ГЕНДРИКА
Антилопы мчались напрямик по плоской равнине, по пятам за ними гнался Гендрик, а за Гендриком что есть силы поспевали его собаки. Все же ни всаднику, ни гончим ни на шаг не удавалось уменьшить расстояние, отделявшее их от проворных животных. Ни всаднику, ни гончим не удавалось прибегнуть ни к одной охотничьей хитрости.
Антилопы не петляли, они неслись по прямой, «мордой по ветру», ни на шаг не отклоняясь в сторону, и перерезать им путь было невозможно. Охота превращалась попросту в состязание на быстроту бега.
Первыми сдали собаки — они отставали одна за другой; дольше всех держалась около Гендрика его любимая гончая; но через милю она тоже выдохлась и отстала; теперь Гендрик мчался в одиночку по простору равнины.
Еще миль десять продолжалась погоня; бока лошади стали мокрыми от пота, вся она покрылась пеной, а антилопы по-прежнему оставались вне выстрела. Правда, бежали они уже медленнее, и на свежей лошади Гендрик сейчас с легкостью нагнал бы их, а может быть, даже и на этой лошади, но ему поневоле приходилось соблюдать осторожность: на пути лежали норы трубкозубов, и уже раз-другой, когда он, казалось, вот-вот настигнет стадо, лошадь спотыкалась и теряла наверстанное расстояние, а быстроногие антилопы, с легкостью бравшие препятствия, оказывались в выигрыше.
И все же Гендрику не хотелось остановить лошадь; он вспомнил, как горячился, настаивая на своем, и знал, что в лагере его встретят насмешками. Чего стоил хотя бы Толстый Виллем! А вернись он с добычей, ну хотя бы с одной шкурой или парой рогов, и торжествовать будет он сам. Эти мысли подгоняли его в долгой безрассудной скачке.
Однако он начинал отчаиваться в успехе: лошадь бежала все тяжелее, уже через силу.
Гендрику наконец стало жаль ее; скрепя сердце он уже натянул было поводья, как вдруг прямо перед собой увидел горную цепь; она пересекала ему путь, возвышаясь одной сплошной грядой — нет, двумя крыльями, сходившимися под прямым углом и наглухо замыкавшими равнину. И к этой-то ловушке направлялись антилопы!
«Неужели они и вправду несутся туда?» — невольно спрашивал себя Гендрик. Ну что ж, ему это было на руку. Им хочешь не хочешь придется остановиться, и тут-то он незаметно подкрадется к ним, прячась за выступами скал и кустарниками, покрывавшими горный склон.
Гендрик обвел взглядом подножия обеих цепей и с радостью обнаружил, что они поднимаются с земли отвесно и наверх нет тропинки. Он находился уже достаточно близко, чтобы подробно разглядеть горные склоны; на их поверхности не заметно было ни одной расселины.
Это очень порадовало Гендрика. Выходит, он гнал добычу прямехонько в этот угол, в настоящую западню; здесь им будет отрезан путь, и ему, разумеется, удастся выстрелом в упор уложить хотя бы одну антилопу, а больше ему и не надо.
Окрыленный ожившими надеждами, он подбодрил коня ласковым словом и пришпорил его.
Скачка продолжалась недолго: еще одна миля — и конец. От горы его отделяло теперь каких-нибудь пятьсот ярдов и в два раза меньшее расстояние — от стада, продолжавшего бежать в самый угол горной цепи. Гендрик больше не сомневался в удаче: не пройдет и минуты, как стадо остановится или повернет обратно и натолкнется на охотника.
Пора зарядить ружье; думая стрелять в гущу стада, он достал из подсумка несколько маленьких пуль и поспешно опустил их в ствол; проверил надежность капсюля; да, все в порядке: капсюль хорошо закреплен на затравочном стержне.
Гендрик взвел курок и поднял глаза. Антилопы исчезли.
Куда они делись? Махнули через горный хребет? Невероятно. Взобрались по отвесной круче? Невозможно. Даже если бы им это удалось, они были бы еще видны на горе. А они совершенно исчезли из виду, все до единой. Охотник натянул поводья, уронил ружье на холку лошади и несколько минут сидел, словно в столбняке, разинув рот и вытаращив глаза.
Будь он суеверен, ему, наверное, стало бы не по себе в эту минуту; но суеверия были ему чужды. Правда, в первые две-три минуты он почувствовал себя сбитым с толку, однако все-таки не сомневался, что непременно найдется простое объяснение неожиданному и загадочному исчезновению антилоп.
Он решил тотчас же внимательно обследовать местность. Проехав еще ярдов триста по следам антилоп, он, к своему полному удовлетворению, все понял. Тупик оказался вовсе не тупиком. Здесь был совершенно свободный проход, и, хотя оба отрога цепи даже вблизи казались сомкнутыми, на самом деле между ними находился узкий коридор, соединявший равнину, только что пересеченную Гендриком, с другой, столь же однообразной равниной, расстилавшейся по ту сторону горной гряды. Антилопы, разумеется, это знали, оттого-то и бежали прямиком сюда. Гендрик углубился в эту теснину, желая удостовериться, что она имеет выход. Через несколько сот ярдов коридор расширился, и Гендрик с замиранием сердца увидел лиловатые спины антилоп далеко-далеко на открывшейся перед ним равнине.
Досада и огорчение сразили Гендрика. Он соскочил с седла, прошел, пошатываясь, несколько шагов и в изнеможении сел на камень; он даже не привязал лошадь, а только закинул поводья ей на шею и предоставил взмыленное и запаленное животное самому себе.
Глава 29
СХВАТКА ГЕНДРИКА С НОСОРОГОМ
Переживания Гендрика в эту минуту были не из приятных; мысли его были полны горечи; он чувствовал себя униженным, посрамленным. Уж лучше бы и на глаза ему не попадались эти белолобые антилопы! Хорош он будет, когда вернется в лагерь. Он поднял на смех Ганса и Аренда — они перед ним не останутся в долгу. Он высмеял предложение Толстого Виллема — Виллем отплатит ему той же монетой!
К тому же он не щадил своего коня и, возможно, загнал его. Конь совсем замучен, из ноздрей его идет пар, бока тяжело вздымаются. А отсюда до лагеря миль двенадцать; Гендрика начало мучить сомнение, хватит ли у лошади сил доставить его обратно.
В голову Гендрика уже закралась черная мысль о том, что он пропал, когда внезапно какой-то странный звук прервал его размышления и заставил вскочить на ноги так поспешно, как ему никогда еще не приходилось. Конь, услыхав этот звук, встрепенулся, вскинул поникшую голову, навострил уши, громко фыркнул и, поплясав минуту-другую на месте, махнул галопом из теснины.
Но Гендрик даже не обратил внимания на лошадь: его глаза были прикованы к двигавшемуся с другого конца прохода животному, голос которого и вызвал этот переполох.
Это глухое басистое хрюканье, сопровождаемое фырканьем и пыхтением, подобным звуку кузнечных мехов, было знакомо уху молодого охотника. Он знал, что перед ним сейчас предстанет черный носорог. Да, он не ошибся: свирепое создание шло по проходу!
Сначала Гендрик не особенно испугался: ему не раз уже доводилось охотиться на носорогов и он не считал такую охоту очень опасной. Ему всегда удавалось увернуться от этого неуклюжего зверя.
Но Гендрик упустил из виду, что он сидел в седле, а не на камне и что избавлением от опасности он бывал всецело обязан своей лошади. Теперь же, когда лошадь у него удрала, а их с носорогом разделяло только двадцать ярдов совершенно ровной земли, Гендрик порядком перетрусил. Это и неудивительно: жизнь его подвергалась серьезной опасности.
Первым его побуждением было вскарабкаться на горный склон — туда носорогу не добраться. Но, оглядевшись, он обнаружил, что по обеим сторонам теснины поднимались отвесные каменные стены; влезть на них было впору только кошке.
В самом проходе тоже негде было спрятаться: под ногами гладкая, с очень небольшим уклоном земля — продолжение двух равнин, расположенных приблизительно на одном уровне. Тут и там попадались, правда, деревца, но совсем невысокие, более похожие на кусты, и животному не составило бы труда повалить любое из них; они не могли служить защитой и за ними нельзя было спрятаться.
Да, надежды на спасение не представлялось. Бежать было бы бесполезно: Гендрик, как и любой южноафриканский охотник, знал, что носорог настигнет самого быстрого бегуна, и даже не помышлял о бегстве. В довершение всего, он оставил ружье на седле, и лошадь унесла его, лишив Гендрика возможности стрелять в носорога. Его единственным оружием был охотничий нож.
Но что такое нож против толстокожего носорога? Все равно что булавка.
Оставалось только надеяться, что носорог его не увидит. Поле зрения у носорога очень невелико: своими крохотными глазками он хорошо различает предметы, находящиеся прямо перед ним, но оглянуться назад или хотя бы кинуть взгляд в сторону он не может: глазки посажены близко к носу, шея неповоротлива, туловище грузно.
Гендрик молил судьбу, чтобы свирепый зверь прошел мимо, не заметив его. Тот, безусловно, еще не догадывался о присутствии Гендрика, иначе он не замедлил бы ринуться в атаку: черный носорог нападает первым, без всякой видимой причины. Он свиреп по самой своей натуре, и ярость его изливается обычно на самых безобидных и беззащитных.
Благоразумнее всего было уйти с его дороги. Гендрик бесшумно скользнул к скале и замер, прижавшись к каменной стенке. Но если носорог лишен острого зрения, зато обоняние у него тоньше, чем у всякого другого зверя. Когда ветер дует в его сторону, он способен учуять на большом расстоянии даже полевую мышь. Он наделен также изощренным слухом: еле уловимый звук — шелест листьев или шорох шагов — позволяет ему безошибочно обнаружить врага или жертву. Если бы только носорог обладал зрением не менее острым, чем его обоняние и слух, свет не знал бы зверя страшнее его. Да и так он далеко не безопасный сосед, и несчастные туземцы нередко становятся жертвами неукротимого буйства этого могучего животного. К счастью, он не глазаст.
Однако глаза его оказались достаточно зоркими, чтобы различить на фоне скалы темную фигуру Гендрика; к тому же ветер, дувший в раздутые ноздри носорога, предупредил его о пришельце. Громко захрюкав, зверь остановился, затрепыхал ушами, замахал задорным хвостиком, затем, приняв угрожающую позу, он с сердитым храпом ринулся на Гендрика. Можно было подумать, что он увидел перед собой заклятого врага.
Но Гендрик не потерял присутствия духа, и это его спасло. Он мгновенно отпрянул от скалы, где минутой позже был бы раздавлен в лепешку или поднят на могучий рог толстокожего.
Зная, к счастью для себя, что бегство не поможет, он вышел на открытое место посередине прохода и остановился лицом к лицу к противнику; зверь тотчас изменил направление и с прежней стремительностью ринулся на свою жертву.
Гендрик стоял неподвижно, пока черный острый рог не оказался на вершок от его груди; тогда он разом отскочил в сторону и за спиной носорога пустился в бегство. Оглянувшись на бегу, он увидел, что животное, пришедшее в бешенство от неудачи своей атаки, уже догоняет его. Гендрик опять остановился и повторил свой прием: ему приходилось слышать, что единственный способ спастись от носорога на открытом месте — это внезапно отскочить в сторону перед самым его носом; отскочив немного раньше, человек остается в поле зрения животного, которое может последовать за ним и настичь его. Неуклюжий с виду носорог проворнее, чем кажется, и даже лошадь порой едва-едва уносит ноги от этого стремительно нападающего зверя.
Гендрик одним духом пробежал шагов двести вниз по проходу, прежде чем носорог успел повернуться, но и это не помогло. В третий раз пришлось ему остановиться, ожидая яростной атаки могучего противника.
Как и прежде, Гендрику удалось убежать от него, однако носорог, как видно, понял, в чем секрет его неудач, и стал раньше поворачивать назад, так что шансы Гендрика на спасение становились все слабее после каждой повторной атаки. Гендрик только и делал, что бросался из стороны в сторону. А стоило бы ему оступиться или на миг ослабить внимание, как носорог тут же прикончил бы его.
Отчаяние овладело юношей. Ему не хватало дыхания, пот лил с него градом, тело ломило от усталости, ноги отказывались служить. Скоро он совсем выбьется из сил; рассчитывать же на то, что сдаст и его могучий противник, не приходилось: для носорога это была детская забава; да он еще был разъярен до предела тем, что намеченная жертва, вопреки всем усилиям, ускользает от него.
Гендрик понял — ему несдобровать. В голове у него проносились мысли о доме, об отце, о сестре и братьях, о Вильгельмине. Ему больше не суждено видеть их: он будет растерзан в этой теснине свирепым черным чудовищем. Они даже не узнают, что сталось с ним. Эти горестные мысли роились в его голове, когда вдруг крик радости сорвался с его губ. Те четверть часа, что продолжалась схватка Гендрика с лютым животным, они носились взад и вперед по проходу, пока наконец не очутились на самой его середине. На скале, футах в шести над землей, Гендрик вдруг с радостью заметил род выступа или площадочки. В ширину она не была и шести футов, но тянулась вдоль скалы на несколько ярдов. Гендрику показалось, что на одном ее конце виднеется не то пещера, не то расселина; но ему некогда было себя проверить. Площадка — вот его спасение! Не раздумывая, он ухватился за край выступа и взобрался наверх.
Вот он уже в безопасности — стоит на площадке и поглядывает сверху вниз на свирепого зверя, а тот в тщетной ярости хрюкает под скалой.
Глава 30
ГЕНДРИК В ОСАДЕ
Гендрик вздохнул с облегчением. Разумеется, он долго еще пыхтел и отдувался на своем карнизе, но от сердца у него отлегло. Он видел, что носорогу сюда не добраться; все, что тому удалось бы сделать, даже привстав на задние лапы, — это положить свое уродливое рыло на край площадки. Так носорог и поступил, и вот уже он, яростно храпя, вытягивает свою широкую морду, стараясь достать до ног охотника своими длинными и цепкими губами.
Но Гендрик живо положил этому конец. Он был разгневан не меньше самого носорога, и гнев его был справедлив. Чувствуя себя в безопасности, он отважился шагнуть вперед и изо всей силы ударить несколько раз каблуком своего тяжелого сапога по толстым губам носорога.
Носорог завертелся на месте, завыл от бешенства и боли; но как ни был он буен и своеволен, он не решался больше лезть на площадку и только метался в гневе взад и вперед у скалы с явным намерением держать охотника в осаде.
Гендрику теперь представился случай как следует разглядеть это любопытное животное. К своему удивлению, он обнаружил, что это вид носорога, о котором он знал только понаслышке.
Со слов Ганса ему было известно, что в землях Южной Африки от тропика Козерога до мыса Доброй Надежды водятся четыре вида носорога: два белого, а два черного цвета. Белые носороги называются «кобаоба» и «мучочо», а черные
— «бореле» и «кейтлоа». Оба белых вида крупнее черных, но более смирного нрава; кормятся они преимущественно травой, а черные носороги щиплют молодые древесные побеги и листву кустарников. Кобаоба и мучочо единороги; вернее, их передний рог сильнее развит. У мучочо он достигает иногда трех футов, а у кобаоба — и того больше; задний же рог обоих — всего лишь шишечка или костяной отросток. Черные носороги отличаются от белых не только окраской и размерами, но и образом жизни.
Носорог, осаждавший Гендрика, был черным, но это был не бореле — с тем Гендрику уже довелось столкнуться во время охоты на гну. Следовательно, это мог быть только кейтлоа. Что это не бореле, Гендрик сразу определил по рогам: у бореле развит только передний рог, хотя он у него и короче, чем у белых носорогов, а задний, так же как и у белых, похож на шишечку — у одних он побольше, у других поменьше. Между тем на морде носорога, красовавшегося перед Гендриком, торчали два почти одинаковых толстых, могучих рога дюймов по пятнадцати длиной. Да и шея у него была длиннее, чем у бореле, губы более вытянуты и подвижны. Противник Гендрика был кейтлоа. Хотя этот вид менее изучен, чем мучочо и бореле, — область его распространения лежит дальше к северу, — Гендрик все же кое-что знал о нем по рассказам Ганса и бывалых охотников. Знал, например, что кейтлоа слывет грозою туземцев; это самый свирепый и опасный из носорогов. В областях, где он водится, жители боятся его чуть ли не больше льва или дикого буйвола.
Гендрик не удивился поэтому, что свирепый носорог напал на него без всякой причины. Он только порадовался своей счастливой звезде, приведшей его к этому каменному карнизу. Теперь он мог невозмутимо разглядывать грозные рога, от которых пять минут назад ему не поздоровилось бы. Он даже готов был посмеяться над нелепостью своего положения.
«Вот бы Ганса сюда! — думал он. — Бесподобный случай для натуралиста изучить внешность и повадки этого нескладного зверюги».
И, как бы угадав его мысли, кейтлоа в ту же минуту показал себя во всей своей красе.
Прямо против них рос большой, раскидистый куст со множеством стволов, ответвлявшихся от одного корня; с этим-то кустом носорог вступил в единоборство, наскакивая на него то с одной, то с другой стороны, обламывая его ветви своими рогами и топча их затем грузными ногами. По его разъяренному виду, по всем его движениям можно было подумать, что он вправду сражается с лютым врагом! Схватка с кустом продолжалась свыше получаса, до тех пор, пока носорог не переломал и не растоптал в крошево все стволы и ветки.
Это уморительное зрелище привело Гендрику на память Дон-Кихота с его ветряными мельницами и рассмешило его, правда ненадолго: скоро Гендрик понял, что ярость кейтлоа столь же живуча, сколь сильна. Взгляды, которые животное время от времени метало на охотника, говорили тому, что враг неумолим.
Расправившись с кустом, зверь вернулся к скале и замер здесь, подняв голову и устремив на охотника свои крохотные глазки, горевшие злобой; казалось, он понимал, что Гендрик — его пленник, и твердо решил стеречь свою добычу. Все его поведение говорило об этом, и у Гендрика снова стало неспокойно на душе.
Прошел час, потом второй, а кейтлоа стоял на том же месте и по-прежнему сторожил Гендрика. Теперь на душе у юноши стало не только неспокойно, но прямо-таки скверно.
Еще в начале охоты за антилопами ему хотелось пить, а теперь он просто изнывал от жажды: за стакан воды он отдал бы все на свете.
Он стоял на голом раскаленном камне, под жгучими лучами полуденного солнца, страдая от жары не меньше, чем от жажды.
Неопределенность положения тоже его мучила: как долго будет сторожить его этот неумолимый часовой? Пока кейтлоа не уйдет, спастись нет никакой возможности. Сойти вниз — значит поплатиться жизнью; ему бы и раньше несдобровать, не заметь он вовремя этой спасительной площадки.
Да, покамест чудовище сторожит его, не приходится думать о том, чтобы оставить раскаленную поверхность выступа.
Догадаются ли Ганс и другие товарищи, что он попал в беду, и пойдут ли по его следам? Возможно, да только не раньше завтрашнего утра. До наступления ночи им это и в голову не придет. Нередко тому или другому из молодых охотников случалось пропадать до позднего вечера. А разве сможет он долго выносить эту мучительную жажду? Как дотерпеть до их прихода?
А если ночью пойдет дождь и начисто размоет его следы? Друзьям не удастся найти его. Что с ним тогда станется?
Мысли одна другой чернее сменялись в голове Гендрика, пока он, стоя на площадке, с нетерпением и злобой поглядывал на своего тюремщика.
Но кейтлоа тревога его пленника ничуть не трогала; он по-прежнему оставался под скалой и все расхаживал взад и вперед, изредка останавливаясь и устремляя на Гендрика свои крохотные темные глазки, поблескивавшие ненасытной жаждой мщения.
Глава 31
НЕЖДАННОЕ СПАСЕНИЕ
Время шло, и с каждой минутой мучительней становились жажда и тревога Гендрика. В надежде отыскать какой-нибудь путь спасения он оглядел отвесную стену за своей спиной. Напрасно! Были, правда, и другие выступы, но на недосягаемой высоте, а его площадка тянулась вдоль скалы всего на несколько ярдов и на обоих концах постепенно сужалась — здесь не пройдешь. Гендрик ни на шаг не отошел от того места, куда вскочил, — оно все-таки было самым широким и здесь ему не угрожали ни рога кейтлоа, ни его длинные и подвижные губы.
Внезапно Гендрику вспомнилось, что в схватке с кейтлоа он мельком заметил темневшее над выступом отверстие — то ли вход в пещеру, то ли расселину. Сначала он было подумал, что пещера не даст ему никаких преимуществ, и остался снаружи. Но теперь он решил, что забраться в пещеру будет вовсе неплохо, окажись она только достаточно просторной. Там, как-никак, будет прохладнее, там он будет укрыт от палящих лучей солнца, а этого ему сейчас очень хотелось.
Было у него и еще одно, более существенное соображение: носорог может просто забыть о нем, если он исчезнет из виду. Он знал, что старая поговорка «С глаз долой — из сердца вон» сложена как будто специально про бореле, льва и многих других хищников; может статься, она оправдается и в отношении кейтлоа, хотя то, что Гендрик знал о его повадках, не позволяло слишком на это рассчитывать. Но почему не сделать попытку? Времени это много не отнимет, а если даже память у носорога не такая короткая, Гендрик все же ничего не потеряет, сменив горячий каменный выступ на тенистую пещеру. Вперед к пещере!
Не спуская глаз с кейтлоа и держась вплотную к скале, он стал подвигаться к темной расселине.
Носорог следовал за ним шаг за шагом; он весь насторожился, как бы подозревая, что добыча собирается ускользнуть. В том месте, где площадка сузилась, Гендрику пришлось ступать с большой осторожностью; он не боялся упасть, сорваться — он боялся, как бы носорог не стащил его с выступа, — теперь носорог, встав на задние ноги, положив рыло на край выступа и выпятив губы, всего лишь на несколько дюймов не достал бы до стены, к которой прижался Гендрик. Поэтому приходилось быть все время начеку. Но вот, вопреки всем грозным усилиям противника, Гендрик благополучно дошел до расселины.
Здесь оказалась глубокая и темная пещера со входом, достаточно широким, чтобы человек, согнувшись, мог проникнуть внутрь.
Гендрик уже нагнулся было, собираясь залезть в пещеру, как вдруг слух молодого охотника уловил громкое «пурр», заставившее его выпрямиться с такой поспешностью, точно ему в спину вонзили иголку. За этим рыканием последовал рев, столь глухой и грозный, что перепуганный Гендрик готов был спрыгнуть со скалы и столкнуться с рогами кейтлоа, поднимавшимися в эту минуту над выступом в каких-нибудь двадцати дюймах от его ног. Испуг Гендрика нетрудно понять: этот рев нельзя было спутать ни с чем на свете — в пещере находился лев!
Хозяин пещеры не заставил себя долго ждать. Рыкание не умолкало и с каждой минутой звучало все отчетливей; под могучими когтистыми лапами перекатывались камешки, устилавшие дно пещеры. Лев приближался!
С проворством горной серны Гендрик отпрянул в сторону и побежал обратно вдоль площадки, с ужасом озираясь через плечо.
На этот раз носорог не последовал за ним; то ли испуганный ревом льва, то ли живо заинтересованный, зверь так и застыл на месте, выставив морду над краем площадки и как бы нацелившись на пещеру.
В следующую минуту косматая голова льва выглянула из входа в логово, и царь зверей столкнулся носом к носу с «царем скотов»!
Несколько мгновений оба не двигались, взирая друг на друга. Львиный взгляд, по-видимому, смутил носорога. Он убрал с края площадки свою морду, опустился на все четыре ноги и, казалось, готов был уйти, чтоб не ввязываться в драку, но гнев грозного владыки был разбужен этим покушением на его покой. С минуту он стоял неподвижно, хлеща хвостом по своим рыжевато-бурым бокам. Затем, припав грудью к скале, лев махнул вниз и всей своей тяжестью навалился на широкую спину кейтлоа.
Увы, повелитель зверей обманулся в своем «верноподданном». Он, верно, рассчитывал здорово намять ему бока и обратить его в бегство. Но, как ни остры были когти льва, как ни испытаны в кровавой борьбе его лапы, они всего лишь оцарапали плотную, жесткую шкуру толстокожего; сколько ни старался лев прочно усесться на спине кейтлоа, ему никак не удавалось вонзить в нее свои когти. Будь то антилопа, буйвол или даже долговязый жираф, лев загнал бы их насмерть, но с носорогом дело обстояло сложнее. Вскоре лев в этом убедился. Хотя он пускал в ход и зубы и когти, чтобы удержаться, ничто не помогало: спустя мгновение он полетел вниз. Почувствовав на спине грозного всадника, кейтлоа рывком отпрянул от скалы и так затряс своим могучим телом, что наезднику несомненно показалось, будто происходит землетрясение.
Лев припал к земле, готовясь повторить прыжок, но, прежде чем он успел осуществить свое намерение, носорог круто повернулся и без промедления двинулся на противника. выставив рога вперед наподобие двух взятых наперевес копий. При его сокрушительной силе и стремительности натиска эти крепкие острия способны были распороть самую толстую львиную шкуру и пройти между ребер. Видно, атака носорога привела льва в невольное замешательство, и, вместо того чтобы достойно встретить противника, он повернул к нему спину и
— о трусливая тварь! — махнул прочь из прохода, удирая, точно кошка, от погнавшегося за ним носорога.
Гендрик с волнением следил со своего уступа за ходом сражения, но ему так и не суждено было узнать, кто остался победителем. Едва лишь оба могучих противника помчались вверх по проходу, он соскочил со скалы и пустился бежать в обратную сторону так быстро, как только несли его ноги.
Выбежав из теснины, Гендрик с минуту поколебался, какой ему выбрать путь
— последовать ли по следам охоты или по более свежим следам своей убежавшей лошади, — и решил пуститься в обратный путь по собственным следам. Он мчался по открытой равнине, не чуя под собой ног, ежеминутно со страхом поглядывая через плечо, не гонится ли за ним черное чудовище. Но он был приятно разочарован: кейтлоа его не преследовал. Вдобавок, к великому удовольствию Гендрика, лошадь его тоже вышла на старый след; обогнув заросли кустарника, Гендрик увидел ее совсем неподалеку щиплющей траву на равнине.
Лошадь легко подпустила его к себе. Гендрик сел в седло и, успокаиваясь понемногу, пустился к лагерю; следы охоты вели его туда кратчайшим путем; как уже говорилось, антилопы всегда бегут навстречу ветру и, следовательно, по прямой линии. Гендрик без труда различал их следы и через два часа вернулся к своим вместе с собаками, которые пристали к нему по дороге.
Ганс и Аренд подняли его на смех, но Виллем не присоединился к ним: он помнил, как великодушно держал себя Гендрик в тот раз, когда он свалился с лошади у норы земляного волка, и теперь он отплатил ему добром за добро. Похоже было, что Виллем и Гендрик скоро станут закадычными друзьями.
Глава 32
ОГРОМНОЕ СТАДО АНТИЛОП
На следующий день нашим молодым охотникам представился случай полюбоваться необычайным зрелищем — огромным стадом антилоп, таким огромным, что вся равнина, насколько хватал глаз, казалась покрытой багровым ковром. Антилопы не паслись и не отдыхали. Стадо бежало, подобно вчерашнему стаду, против ветра, как будто спасаясь от какого-то грозного врага, вспугнувшего его и гнавшегося за ним по пятам.
В ширину стадо занимало пространство около полумили. Определить, насколько оно растянулось в длину, было труднее, так как мимо охотников оно бежало более часа. Животные стремительно неслись вперед, соблюдая равнение в рядах, но иногда задние вдруг перепрыгивали через передних, и тогда эта движущаяся лавина становилась похожей на бурлящий поток. Антилопы бежали, вытянув шеи, чуть ли не касаясь носом земли, как гончие по следу.
Местами они сбивались в плотную массу, и в промежутках между такими группами бежали только самцы; местами в этом потоке появлялись разрывы, и он приобретал вид движущихся армейских колонн.
Эти разрывы возникали оттого, что огромное стадо образовалось из множества самостоятельных стад, подгоняемых страхом. У белолобых и пятнистых антилоп есть своеобразная особенность — к стаду, обратившемуся в бегство, примыкают все новые и новые табуны, пасущиеся поблизости. И так как все они бегут обязательно против ветра, из них составляется одно огромное стадо. Это живописное зрелище привело на память молодым охотникам рассказы о перекочевке бизонов в американских прериях и о перелетах странствующих голубей. Напомнило им это зрелище и «переселение» скакунов, которое им довелось видеть своими глазами.
В этот день им повезло. Вчерашний опыт не пропал даром — они приобрели сноровку в охоте на белолобых антилоп. Вместо того чтобы подкрадываться к ним или устраивать на них облаву, они решили скакать сбоку от стада, временами приближаясь к нему на расстояние выстрела. Антилопы, бегущие против ветра, подпустят к себе охотника ярдов на триста — четыреста, и всадник на свежей лошади несомненно успеет выстрелить в стадо, прежде чем вся эта движущаяся масса будет в состоянии сменить направление. При такой стрельбе прицелиться, разумеется, невозможно и много пуль пропадет зря, но все же одну-другую антилопу, наверно, удастся уложить.
Как и было задумано, молодые охотники держались рядом со стадом все время, пока оно неслось против ветра, но, хоть и часто слышны были звуки их ружей, хоть и вторил им время от времени более гулкий выстрел громобоя Виллема, добыча оказалась невелика: только шесть антилоп, поровну самцов и самок. Но юноши все равно были рады: они ведь охотились не ради мяса, а из-за рогов и шкур красивой окраски, которых хватило на всех.
Едва только лошади притомились, охотники оставили стадо в покое.
В лагерь они вернулись довольно рано, захватив с собой головы, рога и шкуры своей добычи, да и мяса они запасли себе на день-другой.
Шкуры антилоп, как обнаружилось, издавали приятный запах, присущий, очевидно, тем пахучим растениям и травам, которыми кормятся эти изящные животные.
Все время после полудня охотники очищали шкуры от мездры, а затем развесили их для просушки. Знойное солнце за несколько часов подсушит их настолько, что можно будет свернуть их до следующего привала, а там уж просушить до конца, чтобы окончательно уложить в фургоны.
Обработкой шкур занялись Гендрик и Виллем, но чучело головы, требующее подлинного мастерства, взялся набить Ганс, пригласив Аренда в помощники. Для этой цели у Ганса имелся набор необходимых химикалий: мышьяковое мыло и некоторые другие средства консервации. К вечеру были отпрепарированы две пары голов. С рогами и шерстью они выглядели как живые и, казалось, только ждали, чтобы их повесили на стену.
В каждой паре — голова самца и голова самки: одна пара предназначалась семье ван Блоома, другая — ван Вейку. У белолобых антилоп единственное различие между рогами самцов и самок состоит в том, что рога самки короче и тоньше. Шкура самки меньше по размеру и бледнее по тону. Так же и у их сородичей — пятнистых антилоп, чьи нарядные шкуры и рога достались охотникам днем позже. В охоте на пятнистых антилоп, на этот раз вполне успешной, была повторена облава, предложенная Виллемом. Каждый из четверых — Ганс, Гендрик, Аренд и Виллем — подстрелили по самцу, едва лишь стадо двинулось к их укрытиям. Но пальма первенства досталась на этот раз Гансу: стреляя дуплетом из двустволки, заряженной пулями, он уложил одновременно двух «раскрашенных козлов», как иногда называют пятнистых антилоп.
Не следует думать, однако, что сегодняшний успех и вчерашняя неудача при охоте одним и тем же способом объясняются коренным различием в повадках этих двух видов антилоп; нет, повадки их очень схожи.
Охота на пятнистых антилоп была удачной только потому, что погода стояла тихая, в воздухе — ни дуновения; в этом затишье антилопы не могли ни бежать против ветра, ни даже при всем своем остром нюхе определить, за каким термитником таится охотник.
Оттого-то Клаасу и Яну удалось на этот раз прогнать их прямо на стрелков в засаде, а тем — без особого труда подстрелить их.
Подкрадываться к антилопам в такой день не имело смысла, так как стрелять пришлось бы с большего расстояния, а на равнинах Зуур-Вельда очень трудно добиться меткого выстрела — над ними постоянно нависает дымка, мешающая прицелу; подчас в этих местах возникают миражи, совершенно искажающие вид и размеры предметов: важно выступающая птица-секретарь начинает напоминать человека, а страус вырастает до высоты церковного шпиля. Меняется самая окраска предметов. Известен случай, когда путешественники приняли чету рыжевато-бурых львов за свои повозки, крытые белым полотном, и направились прямехонько к хищникам, полагая, что едут к своему лагерю. Досадная оплошность, можно сказать!
Закончив обработку шкур пестрых антилоп, охотники снялись со стоянки и двинулись дальше по равнинам Зуур-Вельда.
Глава 33
ОДИНОКАЯ ГОРА
Уже говорилось, что на равнинах Зуур-Вельда нашим путникам время от времени попадались горы самых разнообразных очертаний: нагроможденные друг на друга, словно ящики, с вершинами, плоскими, как стол, конусовидными или куполообразными, зубчатые кряжи, напоминавшие крыши гигантских островерхих домов и вонзавшие в небо свои пики, отточенные, как церковные шпили; а дальше горные хребты опять тянулись сплошной ровной линией, точно крепостной вал, то тут, то там увенчанный башенками, дополнявшими его сходство с грандиозным военным сооружением.
Наши охотники с интересом рассматривали эти возвышенности, причудливые и разнообразные. Их путь проходил то мимо отвесной стены, в тысячу футов высоты, которая тянулась без единой расселины на многие мили и отрезала таким образом доступ к горам, вздымавшимся еще выше, то вдоль узких гребней, где между двумя крутыми склонами едва хватало места проехать фургонам. Время от времени им приходилось огибать какой-нибудь отрог, выдвинувшийся на несколько миль в глубь равнины.
Среди одной из самых обширных равнин, лежавших на пути молодых охотников, внимание их привлекла гора совершенно своеобразной формы. Строго говоря, назвать ее горой можно было бы лишь с натяжкой: она возвышалась над землей не более чем на семьсот-восемьсот футов, однако ее коричневая скалистая поверхность придавала ей облик настоящей горы, да и назвать такую громаду холмом тоже было бы неправильно. Вдаль и вширь вокруг этой странной горы, не имевшей предгорья, зеленым ковром расстилалась ровная низменность, оттеняя своим изумрудным фоном ее темный гранит.
Склоны этой необычной горы от подножия до верха шли покато, как у египетской пирамиды; издали она и выглядела пирамидальной, но, подъехав ближе, можно было заметить, что очертания у нее округлые. Своеобразие горе придавала ее вершина: тридцатифутовый утес, снизу похожий на шпиль с тонким, как игла, острием. Гора эта, напоминавшая опрокинутую воронку, бросалась в глаза еще издали. Одиноко возвышаясь посреди открытого пространства, она резко выделялась своим цветом на фоне изумрудной зелени равнины, посреди которой как бы остановилась отдохнуть.
— Давайте подъедем и обследуем ее, — предложил Аренд. — Мы не так уж отклонимся от своего маршрута, а наших медлительных буйволов мы всегда догоним… Что вы на это скажете?
— Сколько бы ни заняло времени, а подъехать надо, — поддержал Ганс.
Ему подумалось, что на этой примечательной горе, уж наверно, попадется какое-нибудь редкостное растение.
— Давайте подъедем! — хором подхватили остальные.
Предложения Ганса принимались его более юными спутниками обычно без возражений. И они погнали лошадей к горе, предоставив фургонам следовать в прежнем направлении, к тому месту, где был намечен привал.
С первого взгляда всадникам показалось, что гора отстояла от них никак не дальше чем на милю, и все горячо возражали Гансу, по мнению которого гора находилась в пяти милях. Завязался спор. Ганс выступал один против пятерых; над Гансом подтрунивали, издевались, называли его подслеповатым. Пять миль! Какая чепуха!
Ни один из пяти не отличался склонностью к размышлениям, все они всецело полагались на свое непосредственное восприятие. Если бы им впервые довелось встретиться с таким оптическим явлением, как преломление прямой палки, погруженной в прозрачную воду, они, по всей вероятности, решили бы, что перед ними просто-напросто кривая палка, и вздумай кто-нибудь утверждать обратное, они подняли бы его на смех, как поднимали сейчас на смех Ганса, утверждавшего, что гора находится в пяти милях от них, в то время как все они ясно видели, что до нее не более одной. Так оно и казалось наблюдателю, привыкшему определять расстояние в обычных условиях, в низменной местности. Но Ганс понимал, что теперь они находились на равнине, возвышавшейся над уровнем моря на тысячи футов. Отчасти из книг, отчасти из опыта он знал, какие там возникают оптические обманы. Он согласился, что гора кажется на взгляд очень близкой, но продолжал настаивать на том, что это только кажется.
Как ни добродушен был наш юный философ, но насмешки приятелей вывели его в конце концов из терпения. Осадив лошадь, он предложил измерить спорное расстояние. Возражений не последовало. У них не было даже карманного ярда, не говоря уж о межевой цепи, но они знали, что никаких измерительных инструментов Гансу не потребуется. Все повернули обратно, чтобы начать измерение с того места, где завязался спор.
Как же будет Ганс измерять расстояние? Быть может, угломером? Ничуть не бывало. Он, правда, умел им пользоваться, но обходился и без него. Рослый жеребец Ганса бежал рысью настолько ровно, что способен был заменить самый точный прибор. Ганс, задав коню желательный аллюр, мог затем определить пройденное расстояние с точностью спидометра. Жеребец, пущенный свободной рысью, всегда шел в неизменном темпе и делал равное число шагов в минуту. Поэтому заметить время в начале и в конце пути было все равно, что подсчитать число шагов лошади.
Ганс, нередко прибегавший к этому способу, мог определять любые расстояния, пройденные его конем. Заметив время по минутной стрелке часов, он двинулся напрямик к горе. Юноши последовали за ним. Ехали в молчании: нельзя было мешать Гансу, а то бы они не отказали себе в удовольствии еще немного подразнить его. Скоро, впрочем, настроение у них переменилось и на их лицах отразилась растерянность: сколько они ни ехали, гора к ним не приближалась. Прошло добрых полчаса, а до нее на глаз все оставалась миля. Пять юношей, ехавших следом за Гансом, совсем приуныли.
Прежде чем они достигли подножия горы, прошло еще полчаса. Никто не спорил, не высказал ни удивления, ни даже сомнения, когда Ганс громко и твердо провозгласил:
— Пять миль с четвертью!
Ганс не воспользовался случаем отплатить за насмешки. Он только повернулся в седле и сказал:
— Затемнить истину надолго ложная мудрость не в состоянии, хотя она и представляется иногда более правдоподобной, чем сама истина.
Глава 34
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ
Гора, очертания которой казались издали ровными и мягкими, представляла вблизи совсем другое зрелище. Склоны горы от подножия до самой вершины были густо усыпаны огромными камнями, придававшими ей сходство с гигантским керном[228], какие иногда можно видеть и на вершинах наших гор. Но те холмики созданы руками человека, а громада, на которую смотрели наши спутники, представлялась им творением каких-то титанов. Кое-где среди этой скалистой россыпи зеленели клочки растительности; в извилинах трещин распускались причудливые кактусы и редкие молочаи; тут и там невысокое деревце с развесистой кроной, с листвой, похожей на листву мирта, осеняло своей тенью горный склон; над острым изломом какой-нибудь глыбы вздымались древовидные алоэ, оживляя своими кораллово-красными гроздьями серый, мрачный фон скалы.
Налюбовавшись живописной картиной, охотники решили все вместе подняться на вершину; путь казался совсем недолгим, тропа не очень крутой; минут через десять они будут наверху. А какой великолепный вид откроется им оттуда! Гора возвышалась над местностью, по которой им предстояло совершать путь еще дня три. Озирая окрестность, они выберут самую удобную дорогу, без зигзагов и препятствий, и заранее нанесут свой маршрут на карту. Итак, на гору! Это восхождение манило всех. Одних — ради прекрасной панорамы, других — ради удовольствия одолевать крутизну, Клааса и Яна — потому, что они заметили большую птицу, парившую над вершиной, — это мог быть орел, повелитель птиц. Им так хотелось поближе познакомиться с владыкой пернатых!
У Ганса была своя цель: его интересовала растительность горы, совсем не похожая на растительность соседней равнины, а особенно деревце с листвой, как у мирта. За восхождение единогласно высказались все. Охотники быстро спешились: лошадям эти склоны, покрытые каменной россыпью, были недоступны. Поводья связали в один узел, как всегда поступали, когда поблизости не оказывалось деревьев, к которым можно было бы привязать животных. Этот способ себя оправдывал полностью. Их лошади хорошо знали друг друга и ладили между собой. Не приходилось опасаться, что одна обидит другую. Стояли они мордами в круг, и ни одной не удалось бы уйти без остальных, а такое единодушие вряд ли было возможно. Кроме того, если бы даже пятеро из них решили немного прогуляться, шестой все равно не пошел бы на этот сговор и упирался бы изо всех сил — тот, кто непременно остался бы верен своему хозяину: степенный, надежный жеребец Ганса, приученный ждать своего хозяина, где бы тот ни оставил его. На многие ботанические экскурсии ездил он с Гансом и всегда смирно стоял на месте, часто нестреноженный и непривязанный, с поводьями, закинутыми за холку, пока молодой ботаник лазил по обрывам или нырял в чаще кустарников, выискивая редкостные растения.
Словом, оставив лошадей, отряд двинулся в путь. Тропа то вела их среди нагромождения гранитных глыб, то шла по ребрам скал; приходилось пускать в ход всю свою силу и сноровку. Путникам сперва показалось, что за какие-нибудь пять минут они достигнут вершины. Теперь их ждало досадное разочарование.
Возможно, ничто на свете так не обманчиво, как восхождение на гору: на поверку оно всегда оказывается куда труднее, чем кажется сначала. Потому-то, прикидывая затрату времени и сил, следует принимать в расчет разные непредвиденные трудности и осложнения. Рассудительному Гансу это было отлично известно, и он предупредил товарищей, что подъем на гору отнимет добрых полчаса. Наших юношей так и подмывало посмеяться над его словами, но они еще не забыли, как опозорились недавно, и сочли за лучшее смолчать, втайне уверенные, что через каких-нибудь пять минут окажутся на самой вершине.
Но пять минут прошло, и их уверенность поколебалась; затем еще трижды пять, а они находились всего лишь на полпути к вершине!
Здесь они устроили привал, чтобы отдышаться. Теперь Гансу представился случай разглядеть вблизи любопытное деревце, в тени которого они как раз и остановились.
Оно было невысокое, красивым его тоже не назовешь, однако это было весьма примечательное дерево. Ветви его густо покрывала мелкая бледно-зеленая листва, похожая на листву мирта. Цветы его тоже были мелкими и малоприметными, но по цветам юный ботаник распознал в нем представителя семейства сандаловых деревьев, древесина которого широко применяется в разных поделках.
Юношам встречалось множество безделушек, изготовленных из этого прославленного дерева, но как оно выглядит и где растет, они не знали. Воспользовавшись минутой отдыха, Ганс рассказал им следующее:
— Сандаловое дерево растет в предгорьях малабарского берега и на островах Индийского архипелага. По размерам оно невелико, в поперечнике редко достигает фута. Оно не коробится от сырости, не гниет в воде. Его ароматная смола предохраняет от порчи одежду, ткани, шелка и любые предметы, помещенные с ним рядом, и отпугивает насекомых. Этими ценными свойствами объясняется спрос на него для изготовления комодов, шкафчиков, разных предметов домашнего обихода. Из этого ароматного дерева делают дорогие веера и бусы. Брамины примешивают его смолу к курениям при жертвоприношениях Вишну.
— Существует, кажется, два рода сандала? — осведомился Клаас. — У сестры Вильгельмины есть сандаловые шкатулка и бусы, привезенные из Индии нашим дядей. Они совсем разные: шкатулка — белая, а бусы — великолепного желтого цвета. Может, их покрасили?
— Нет, — ответил Ганс, — бусы не крашеные. Вещи из сандала бывают двух цветов: белые и желтые. В былые времена считалось, что их делают из разных деревьев. Однако это не так. Белое и желтое дерево берут с одного и того же ствола. Различие в цвете объясняется тем, что слои древесины, которые ближе к сердцевине, имеют густо-желтую окраску, молодые же слои, расположенные ближе к наружной коре, почти белого цвета. Желтая древесина тверже, ароматнее и, разумеется, стоит дороже. Срубленные деревья тут же подвергают окорке, а очищенные стволы сушат еще месяца два, что придает особую устойчивость и тонкость их запаху.
С интересом слушая Ганса, юноши вынули ножи, срезали по сандаловой ветке, понюхали их и даже попробовали на вкус. Ветки были душистые, но без всякого вкуса. Ганс заметил, что и настоящее индийское сандаловое дерево, обладая приятным запахом, совершенно лишено вкуса. В заключение Ганс разъяснил, что слово «сандал» происходит не от сандалий — античной обуви, на которую его употребляли, а наоборот, сандалии заимствовали свое название от дерева. Корень же этого слова персидского происхождения и значит «полезный». Выходит, что название вполне соответствует ценным свойствам дерева.
Отдохнувшие охотники со свежими силами продолжали подъем и через пятнадцать минут достигли вершины.
Глава 35
ДАМАН
Впрочем, последнее не совсем верно. Они, правда, достигли вершины горы, но над ними все еще возвышался шпилеобразный утес, который своим причудливым видом привлек их внимание и заманил сюда. Шпиль был недоступен для живых существ, кроме кошки, обезьяны и птицы; никому из отряда, разумеется, и в голову не пришло отважиться на такое опасное восхождение.
Насытив свои глаза зрелищем этого геологического феномена, они решили двинуться в обход, к другой стороне. Но это было не так-то просто: у подножия шпиля громоздились огромные ребристые глыбы, и им пришлось бы или перелезать через них, или протискиваться между ними.
Не успели они двинуться в путь, как внимание их привлек один предмет, и они задержались, чтобы хорошенько его рассмотреть.
На полпути вниз, на склоне горы, стоял утес, с вершины которого, должно быть, открывался вид на большой кусок горного склона; на этой вершине восседала очень крупная птица, величиной с индюка. Оперение ее было густо-черным, и только на затылке, спускаясь к плечам, ярко белело пятно; каштановые перья покрывали лапы до самых пальцев, а сами пальцы были светло-желтые.
Ее внешний облик — круто загнутый клюв, широкие, могучие крылья, лапы, покрытые перьями, точно в штанишках, — сразу говорил о ее породе.
— Орел! — хором вскричали охотники.
Да, это был орел, притом один из крупнейших — орел-ягнятник. Клаас и Ян заметили его еще снизу.
Он был не более как ярдах в двухстах от них, и, хотя они порядком-таки шумели, поднимаясь на гору, он, как видно, ничего не слышал и по-прежнему не замечал пришельцев. Это было очень странно для такой чуткой птицы. Что-то, очевидно, всецело завладело его вниманием: орел сидел, вернее — стоял, крепко ухватившись когтями за гребень утеса, и, напряженно изогнув шею, с живейшим интересом рассматривал внизу какой-то предмет.
Затылок его, обращенный к охотникам, представлял бы собой заманчивую мишень, расположись орел поближе, но сейчас разве что из громобоя Виллема можно было бы попасть в него, да и то не наверняка. Виллем хотел было попытать счастья, но Ганс удержал его. Любопытно было понаблюдать за орлом — его настороженная поза указывала, что он подстерегает жертву, находящуюся где-то на склоне.
Немного погодя показалась и сама жертва. На небольшую площадку, расположенную ярдов на двадцать — тридцать ниже, выбежал маленький серовато-коричневый зверек; шкурка его была на спине темнее, на брюхе — светлее. По виду — кролик, но значительно крупнее и плотнее, не длинноухий и с более короткими ножками, казавшимися при ходьбе очень кривыми, и совсем бесхвостый. Шерсть у него была густая и мягкая, как у кролика, но с разбросанными по меховому одеянию шелковистыми волосками, несколько более длинными; на передних лапках — по четыре роговидных нароста, похожих на копытца; задние лапы трехпалы, средний палец заканчивался настоящим когтем.
Разумеется, с такого расстояния нельзя было тщательно разглядеть зверька, и в первую минуту все эти особенности ускользнули от наблюдателей. Их позднее сообщил Ганс, хорошо знавший этого зверька.
Животное это, с виду ничем не примечательное, было по своему строению одним из любопытнейших на земном шаре.
Это маленькое круглое пушистое создание, робкое, как мышь, которое резво скакало по площадке, временами круто останавливаясь, чтобы пощипать листик или бросить по сторонам пугливый взгляд, это незаметное четвероногое было троюродным братом огромного, грубого носорога. Именно так! Правда, у него на мордочке не было рогов и он был покрыт шерстью, но его зубы, череп, ребра, копытообразные пальцы, его внутреннее строение — все доказывало, что это копытное животное.
Повадки дамана просты, и о них можно рассказать в двух словах. Даман — стадное животное. Он обитает в горах и во многих гористых местностях; скрывается в пещерах и расселинах скал и выходит наружу только покормиться и погреться на солнце; он бегает, опасливо озираясь по сторонам, питается травой и листвой кустарников, выискивая самые пахучие; от большинства четвероногих хищников ему удается спастись, но пернатые хищники, в особенности орел-стервятник, охотятся за ним с постоянным успехом. Вот вам коротенький рассказ о дамане, или гираксе, десси, жиряке, как по-разному называется в книгах этот зверек.
Я уже говорил, что все эти подробности были рассказаны Гансом несколько позже.
В ту минуту им было не до ученых справок. Едва лишь даман в сопровождении нескольких своих сородичей показался на площадке, как орел сорвался с утеса и камнем метнулся на них.
Послышался пронзительный крик. Темные крылья распластались над зверьком, и, казалось, орел вот-вот взмоет ввысь с добычей в когтях.
Но не тут-то было. Юноши обманулись в своих ожиданиях, как обманулся и сам орел: даманы оказались куда проворнее своего давнего и грозного врага, и, прежде чем когти орла коснулись их шерстки, они бросились врассыпную и скрылись в своих темных надежных убежищах. Сегодня они, разумеется, уже не отважатся выглянуть наружу. Орел, очевидно, тоже так думал. С разочарованным клекотом взвился он к небу и полетел в сторону.
Глава 36
ГОРНЫЕ СКАКУНЫ
В надежде подстрелить орла влёт, пока он кружит над горой, охотники притаились за камнями, держа свои ружья наготове, но — увы! — орел парил на такой высоте, что пулям было его не достать.
Сейчас он скроется из глаз, думали они, полетит на какую-нибудь соседнюю гору… Здесь, на этой горе, он мог быть только случайным гостем, — старый голодный орел на охоте.
К этому и шло. Но орел, уже направившись на большой высоте в сторону от горы, вдруг замер и повис в небе, опустив голову вниз, как бы живо заинтересованный чем-то внезапно попавшимся ему на глаза.
Неужели даманы снова отважились показаться? Нет, орел парил над другим местом — по ту сторону горы. Возможно, что он и заметил даманов, но каких-то других. Это было бы неудивительно: здесь, на горе, их, должно быть, множество. Только не в обычае орла-ягнятника устремляться на этих зверьков с высоты. Хищник подстерегает их, засев поблизости на какой-нибудь скале, и, едва лишь они выйдут полакомиться листиками или погреться на солнышке, разом бросается на них, — такую охоту как раз и наблюдали юноши.
Даманы настолько проворны, что орел, падая с высоты, не успевает схватить их — они с молниеносной быстротой спасаются в свои убежища. Они и в этот раз давно уже успели бы скрыться, заметив над собой большую черную птицу. Нет, это были не даманы.
Ганс, отделившись от своих спутников, обошел гору кругом и убедился, что отнюдь не даманы, а совсем другие существа заставили орла прервать свой полет.
На середине горного склона стояло сандаловое дерево с пышной, развесистой кроной — одно из самых высоких на этой горе. Гладкая каменная глыба под ним образовала ровную площадку в несколько квадратных ярдов. Ветви дерева почти полностью укрывали ее, даря ей тень и прохладу в часы, когда жгло немилосердное солнце. Казалось, этот уголок создан прямо-таки нарочно для отдыха путников, которые смогут, укрывшись от жгучих полуденных лучей, любоваться широким видом на равнину и живописные дальние горы. Такой уголок пришелся бы по сердцу мечтателю; здесь он, забыв о повседневных заботах, свободно предавался бы приятным раздумьям.
Иной раз невольно приходит па ум, что многие птицы и дикие звери стараются найти себе гнездовье или логово в местах поживописнее. Для меня не составляет труда сразу сказать, на каком утесе орел совьет себе гнездо, на какой прогалине в лесной чаще поселятся олень или лань, под каким деревом они будут отдыхать.
Мне кажется, что птицы и звери часто облюбовывают тот или другой уголок не только потому, что они здесь могут лучше укрыться от чужих глаз, но и просто пленившись красотой окрестности.
Как-то не верилось, что на этой одинокой дикой горе, на этой гладкой плите, под этим благоухающим сандаловым деревом природа не поместила живого существа, чтобы ласкать взгляд и придать всей картине завершающий штрих. И в самом деле, эта великолепная картина была совершенна. Сандаловое дерево не зря дарило свою тень: на каменной плите находились существа, оживлявшие прелестный уголок и дополнявшие общее впечатление.
Их было там трое — трое животных, какие еще не встречались нашим охотникам за все время экспедиции. Мех у всех троих был одинакового оливково-бурого цвета и одинаково густой. Зато по росту они различались сильно. Самый крупный достигал размеров обычной охотничьей собаки, а самый маленький был меньше самого крохотного козленка. Средний был только чуть поменьше самого крупного, но, в отличие от него, не имел рогов, как, впрочем, и их крошечный спутник. Тем не менее все трое принадлежали к одному роду и виду, вернее сказать — к одной семье. Это была семья горных скакунов, или антилоп-серн, как их называют буры.
Ганс, да и все остальные сразу поняли, что перед ними — горные скакуны, так как эта любопытная разновидность антилопы все еще попадается в населенных областях Капской колонии, там, где высокие утесы и отвесные скалы спасают ее от собак, охотников и гиен.
В отличие от сернобыка, гну, белолобой антилопы канны, горный скакун никогда не спускается в долину: это животное — настоящее дитя гор. Утесы и скалы — его излюбленное жилье. Там ему не страшны ни лев, ни гиена, ни дикая собака, ни шакал — никто из них не в состоянии добраться до его неприступного жилища на краю бездонных пропастей; даже леопард, благодаря своим цепким когтям лазающий по скалам, как кошка, и тот не в силах его преследовать; на отвесах скал и головокружительных высотах горный скакун не имеет равного себе по ловкости среди четвероногих; да он и не боится ни одного из них, у него только три грозных врага среди крылатых хищников — это орлы: орел Верро, орел Каффир и орел-ягнятник.
Ростом горный скакун около двадцати дюймов, он строен и плотно сложен, ноги его сильнее, чем у низкорослых равнинных антилоп; его четырехдюймовые рога поднимаются почти вертикально, потом слегка загибаются вперед; мех у горного скакуна длинный, густой и жесткий. Своеобразная расцветка его волос — пепельно-серых у корней, коричневых посередине, желтых на концах — в целом создает впечатление оливково-бурого тона.
Самая примечательная особенность горного скакуна — это строение его копыт: они не удлинены и не поставлены косо, как у других антилоп, а строго цилиндрической формы и почти вертикальные. Края их зазубрены, что позволяет животному цепко держаться на самых гладких скалах, не боясь соскользнуть: как все, что вышло из рук природы, эти копытца прекрасно отвечают своему назначению.
Горный скакун — не стадное животное; он живет парами, семьями. Такая семья и предстала глазам наших охотников. Самец стоял на самом краю скалы, глядя на расстилавшуюся внизу равнину. Он еще не замечал орла, скрытого от него пышной густолиственной макушкой сандалового дерева. Самка лежала, а детеныш, опустившись возле, сосал ее.
Но вот зловещая тень птицы легла на зеленую равнину, и самец, заметив ее, встрепенулся, пронзительно свистнул и стукнул копытом о камень. Это было сигналом.
Мать с детенышем мгновенно вскочили на ноги, и все трое застыли насторожась, то поглядывая вниз на скользившую тень, то подозрительно озирая высь. Но вот они запрыгали взад и вперед по площадке: они увидели летящего орла, теперь уже не скрытого от них макушкой дерева.
Как раз в эту минуту орел, прервав свой полет, повис в воздухе: горные скакуны попались ему на глаза. Пернатый хищник мигом заметил детеныша, в страхе спрятавшегося за мать, и в тот же миг ринулся вниз, прямо к маленькой группе. Но как ни быстр был орел, ему не удалось схватить свою жертву с налета, и, оставшись ни с чем, он снова взмыл ввысь.
Охотники взглянули на площадку, но там уже никого не было. С той же стремительностью, что и орел, все трое метнулись прочь с площадки и спаслись от страшных когтей.
Может быть, горные скакуны скрылись, подобно даманам, в какой-нибудь расселине? Вовсе нет. Они стояли на вершине утеса, на самом виду, настороженные, задрав головы, не спуская глаз с орла и, по-видимому, опасаясь повторного нападения. А орел, описав круг и как бы рассчитав расстояние, снова ринулся вниз.
Теперь властелин воздуха целился только на маленького. Взрослые, разумеется, сумели бы спастись от него; в течение некоторого времени это удавалось и малышу, прыгавшему с утеса на утес с легкостью резинового мяча. Но коварная птица при каждом новом налете суживала круги, а ножки детеныша, ослабев, начинали подкашиваться. Тем временем родители скакали по скалам, подпрыгивая так высоко, словно взлетали на крыльях, и опускались на самые острые гребни, всячески стараясь привлечь внимание орла к себе и выручить своего детеныша.
Но все их усилия были напрасны. Хитрый разбойник решительно остановил свой выбор на малыше и не обращал внимания на любые ухищрения его родителей. Быть может, в гнезде его поджидали орлята и на обед им требовалось мясо понежнее.
Словом, орел преследовал несчастного малыша до тех пор, пока тот не изнемог и не опустился на утес, уже не в силах сделать новый прыжок.
Орел ринулся в последнем победном броске; обхватив своими когтями, подобно клещам, спину малыша, он через мгновение поднял его в воздух.
Внизу раздалось горестное блеяние, тут же утонувшее в нескольких одновременных выстрелах, чье эхо громовым раскатом пронеслось в горах.
Крылатый разбойник, все еще сжимая в когтях свою жертву и яростно хлопая крыльями, камнем упал на землю.
Глава 37
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГОРНЫХ СКАКУНОВ
Орел упал неподалеку от вершины. Юноши, спустившись по склону, нашли его мертвым. В когтях у него был козленок — тоже, разумеется, мертвый.
Орлиные когти вонзились в его тело у самого позвоночника — даже в смерти жестокая птица не выпускала своей жертвы.
Бесцельное убийство животных преступно; казалось бы, наших охотников можно обвинить в том, что они подстрелили орла без всякой надобности. Однако это не так. Орел был представителем малоизученного вида, и шкурка его нужна была для научной коллекции.
Юноши были очень далеки от мысли мстить за козленка. Напротив, минут пять спустя все шестеро вместе со своими собаками охотились на горных скакунов с таким же азартом и жаждали лишить их жизни не меньше, чем перед этим их крылатого врага.
Но они — по крайней мере, большинство из них — не просто желали потешить себя веселой охотой. Здесь была любознательность, стремление понаблюдать вблизи за этими животными и приобрести их рога — ценный трофей.
Вас, разумеется, удивляет, зачем понадобились им рога горных скакунов, раз эта антилопа не такая уж диковинка в Капской колонии. Действительно, это животное там не редкость, но в руки охотнику оно достается лишь в редких случаях: горный скакун пуглив и осторожен, как серна, и вдобавок обитает на самых неприступных высотах; подстрелить его — настоящий охотничий подвиг, а его маленькие рога — славный охотничий трофей.
Вот почему нашим охотникам захотелось добыть рога горного скакуна, стремительно скакавшего вниз по склону.
Гендрик предложил напасть на антилоп всем отрядом вместе со сворой гончих и выгнать их на равнину, а там уж собаки с легкостью настигнут их. Антилопы, как известно, бегуны неважные.
Предложение показалось разумным: антилопы стояли уже у самого подножия горы. Теснимые отрядом, который двинется на них сверху, они, конечно, выбегут на равнину, а там собаки погонят их, и охотникам представится случай полюбоваться увлекательным зрелищем.
Сказано — сделано.
Охотники двигались так быстро, как только позволял трудный путь; спущенные собаки бежали впереди. Подойти к животным на расстояние выстрела рассчитывали минут через десять, но те не соблаговолили дожидаться их. Не успели охотники спуститься и до половины горы, как проворные антилопы, прекрасно видевшие их снизу, двинулись в обход, перелетая с утеса на утес, словно пара крылатых птиц. Они выбирали на своем пути не проходы между скалами, а самые острые гребни, перескакивая с одного на другой огромными прыжками. Охотники только диву давались! Так узки были многие из этих гребней, что на них едва помещались касавшиеся их на секунду копыта животных, и все же они с такой легкостью отталкивались от камня своими составленными вместе ногами, точно не простая сила мышц, а стальная пружина подбрасывала их.
Вначале все казалось так просто: на этом небольшом пространстве разве трудно окружить дичь и выгнать ее на равнину?
Но не тут-то было! Горные скакуны благополучно перебрались на противоположный склон и находились теперь дальше, чем прежде.
Охотники подозвали собак, снова поднялись на вершину и, заметив место, где стояли антилопы, вторично двинулись на них врассыпную с ружьями наперевес; но и па этот раз антилопы, не дав им подойти на выстрел, пустились наутек и скрылись за горой. Приходилось признать, что собаки, медленно пробиравшиеся меж скал, не показали себя достойными противниками горных скакунов. Хорошо прицелиться в такую быстроногую дичь даже на близком расстоянии не удалось бы самому искусному стрелку. Не следует забывать, что подстрелить горного скакуна так же трудно, как бекаса.
Юноши в третий раз попытались тем же способом выгнать антилоп на открытую равнину, но — увы! — дичь, как и прежде, ускользнула… Виллем предложил изменить тактику: спуститься, встать цепью у подножия горы и затем подниматься, равномерно суживая круг и гоня дичь к вершине.
— Так мы их не упустим; если даже они попытаются прорваться сквозь цепь, то все равно наткнутся на кого-нибудь из нас… Предложение было принято; у подножия горы юноши разошлись на равные расстояния друг от друга, взяв с собой по собаке. Клаасу собака не досталась — после приключения с голубой антилопой в отряде их оставалось всего пять.
Юноши снова начали подниматься на гору. Они шли осторожно, не теряя друг друга из виду и обмениваясь на ходу сведениями о местонахождении антилоп. А те скакали перед ними зигзагами вдоль склона, потом перебегали, ища спасения, с одного склона на другой, и наконец огромными скачками отступали к вершине.
Когда охотники достигли половины горы, антилопы, видя, что они окружены, сделали попытку прорваться сквозь строй и метнулись было мимо Ганса, но этот серьезный юноша, никогда не хваставшийся своими охотничьими способностями, был тем не менее искусным стрелком; подняв свою двустволку, он спустил курок.
Самка упала, убитая наповал; самец круто повернулся и понесся вверх по склону; резвые собаки вырвались вперед и со всех сторон приближались к козлу; казалось, для него все потеряно.
Он вскочил на глыбу около утеса, напоминавшего башню. Свора, оскалив зубы, уже настигала его, но он перед носом собак взметнулся вверх, словно подброшенный пружиной, и очутился на узеньком выступе утеса-шпиля, где они не могли его достать. Здесь едва хватило бы места и для ласки, но самец, казалось, чувствовал себя как дома, а когда его спугнули крики охотников, поспешно взбиравшихся вверх, он махнул на площадку, расположенную выше, потом еще выше и наконец очутился на самом острие шпиля.
Возгласом изумления приветствовали охотники этот рекордный прыжок.
И точно, зрелище было необычайным. Верхний утес заканчивался острием дюйма в четыре по диаметру — на этом-то острие и стоял горный скакун, тесно приставив одно к другому свои копытца, вобрав голову в плечи и сжавшись в комочек, а его жесткие, щетинистые волосы торчали дыбом наподобие игл дикообраза.
У охотников, подошедших теперь на расстояние выстрела, не поднималась рука спустить курок — очень уж живописно выглядело животное на острие шпиля. Они не сомневались, что теперь оно у них в руках: на высоте тридцати футов над поверхностью земли, окруженный сворой собак, — тут уж ему крышка! Юноши медлили стрелять и подбежали к самому подножию утеса.
Однако они недооценивали силы горного скакуна и поэтому здорово оплошали. В то время как они уже поздравляли себя с успехом в такой трудной охоте, скакун на глазах у них сорвался с утеса, пролетел мимо них близко-близко, рассекая воздух со свистом, словно большая птица, на какую-то долю секунды коснулся копытами глыбы у подножия утеса, перемахнул с нее на другую, на третью и несколько секунд спустя был уже далеко от них, на горном склоне… Все это произошло с такой молниеносной быстротой, что и собаки, и сами охотники застыли от изумления, глядя ему вслед, и никто не выстрелил. Скакун, казалось, уже улизнул от них… Но вдруг на склоне выросло облачко дыма, послышался звук выстрела, и горный скакун рухнул с утеса.
Юноши обернулись друг к другу в полном недоумении.
— Кто же это? — вскричали они в один голос.
Ба! Да их же здесь всего пять! Одного не хватает…
— Это Клаас!
Разумеется, это был Клаас, — не кто иной, как Клаас, подстрелил горного скакуна!
Клаас оправдал поговорку: «Тише едешь — дальше будешь». Мальчуган был несколько тяжеловат на подъем. Устав от лазанья по горам, он присел на камень передохнуть немного и вдруг увидел скакуна, стоявшего прямо против него на утесе; легкое охотничье ружье мальчика было заряжено крупной дробью, и Клаас, выстрелив, сбил козла с его вышки.
Ян из зависти доказывал, что Клаасу просто посчастливилось.
Но как бы там ни было, а антилопу подстрелил именно он, Клаас, этого у него никак нельзя было отнять, и гордость переполняла сердце мальчика.
Юноши, забрав добычу, спустились к лошадям, вскочили на них и помчались вдогонку фургонам, медленно тащившимся вдали по равнине.
Глава 38
НАХАЛЬНЫЕ ПТИЦЫ
На третий день странствия по равнинам страны Зуур-Вельд путники выехали на берег полноводной реки и направились вверх по течению. Новый речной пейзаж, открывшийся им, был совсем не похож на степной: ивы и камыши окаймляли берега, а дальше расстилалась обширная луговая низменность с разбросанными по ней зеленеющими рощами и отдельными древесными купами. Их свежая зелень ласкала глаз после однообразия степи. Мираж не мучил их больше призрачными картинами тенистых перелесков и прозрачной озерной глади — здесь все это было наяву. Одна за другой сменялись прелестные картины.
Охотники рано устроили привал, чтобы дать животным попастись вволю на густой и сочной траве. Они распрягли буйволов на небольшом лужке, у самой воды, и, наломав ветви ив, раскинувшихся неподалеку, развели костер.
Ян и Клаас заметили стаю птиц, носившихся над водой, чертя крылом, точь-в-точь как ласточки в летний вечер над озерами Англии.
Расцветка птиц ничем не привлекала внимания: темно-ржавая, в белых и серых крапинках, довольно скромная для африканских птиц; однако вблизи мальчики увидели бы, что лапки пернатых, так же как и восковица над клювом, великолепного светло-оранжевого тона.
Одна особенность птиц сразу бросалась в глаза даже на расстоянии — их глубоко вырезанные хвосты. Этим они также напоминали ласточек; «вилочка» была не так резко выражена, как у последних, но все равно можно было сразу сказать, принимая во внимание общий облик, размеры и окраску птиц, что они принадлежат к семейству соколиных и к роду коршунов. Существует множество видов коршуна. Те, что летали здесь, были коршунами-паразитами; эти птицы несколько уступают по размерам европейскому красному коршуну и обитают во всех частях Африканского континента.
Оба птицелова определили, что птицы — соколиной породы, однако не могли сказать, к какому виду они принадлежат. Узнав от Ганса, что это коршуны, они еще больше заинтересовались птицами. Встав с ружьями наготове у самой воды, они принялись с любопытством следить за этими длиннокрылыми птицами с вырезанным хвостом.
Поверхностному наблюдателю могло бы показаться, что птицы просто резвятся: то они повисали в воздухе, то плавно скользили над водой, а временами, метнувшись вниз, как стрела, словно присаживались с размаху на речные струи; но скоро вы замечали, что всякий раз после такого броска птица поднималась в воздух, держа в когтях маленькую блестящую рыбку; коршуны-паразиты занимались рыболовством, и не ради развлечения, как многие рыболовы, а для прокорма.
Коршуны эти питаются не одной только рыбой: они едят все, что попадется,
— и небольших четвероногих, и птиц, и гадов, а на худой конец и падаль; но рыба — их любимая еда; и когда они селятся в местностях, богатых водой, где рыбы вдоволь и ловить ее легко, то занимаются рыболовством.
Клаас и Ян постояли некоторое время у воды, рассчитывая на удачный выстрел, но птицы не подлетали близко, и мальчики, потеряв надежду, отложили свои ружья.
Тут кстати подоспел обед, и юноши, усевшись на фургонных ящиках, принялись за еду. Сегодня у них было изысканное блюдо — мясо южноафриканской дрофы, или дикого павлина, как они сами прозвали птицу. С утра Толстому Виллему удалось подстрелить эту лакомую дичь на очень большом расстоянии благодаря своему дальнобойному ружью, а то не досталась бы им на обед эта птица, одна из самых сторожких и пугливых. Она никогда не подходит на расстояние выстрела к любому укрытию, за которым мог бы притаиться охотник. Мясо этой довольно крупной птицы считается в Южной Африке самым изысканным кушаньем, не уступающим мясу американской дикой индейки.
Теперь, когда это вкусное мясо было нарезано и обжарено, охотники в отличном расположении духа лакомились кто крылышком, кто ножкой, кто ребрышками, кто огузком.
Но вдруг во время такого приятного времяпрепровождения они с изумлением заметили, что коршуны слетелись к лагерю и вьются вокруг них. Больше всех, разумеется, удивились Клаас и Ян: ведь они добрых полчаса пытались подстрелить хоть одного из коршунов, а сейчас птицы сами прилетели к ним и находились не то что на расстоянии выстрела, а буквально перед самым их носом. Подлетев поближе к обедавшим, птицы повисали, распластав крылья и распустив хвост, затем принимались кувыркаться в воздухе и выкидывать такие забавные фокусы, что охотники и Черныш дружно засмеялись; даже строгий кафр не мог удержаться от улыбки при виде такого уморительного зрелища.
Но этим дело не кончилось. Мало-помалу птицы становились все нахальнее и нахальнее, подлетали все ближе и ближе, и наконец некоторые из них дошли до того, что принялись вырывать куски мяса прямо из рук обедавших! Охотники начали уже опасаться, что про их пир можно будет сказать, как в поговорке: «По усам текло, да в рот не попало». Маленькие бесстрашные разбойники не оставили в покое даже собак: они чуть ли не изо рта у них вырывали косточки, которые те глодали.
Разумеется, этому любопытному зрелищу был бы вскоре положен конец, если бы только дать волю Клаасу и Яну. Едва лишь показались летуны, оба мальчика вскочили на ноги и бросились за своими ружьями, но старшие и в особенности Ганс, которому хотелось понаблюдать за коршунами, удержали их.
Спустя некоторое время мальчикам все же разрешили «открыть огонь». Однако гремевшие один за другим выстрелы не особенно напугали летунов, хотя многие из них упали замертво; даже те, которые, судя по оперению, были ранены, вновь и вновь возвращались к лагерю и кружили над ним, высматривая с жадностью, как бы поживиться объедками, оставшимися на ящиках.
Тут случилось небольшое, но весьма забавное происшествие.
Гансу в этот день удалось подстрелить голубя с великолепным темно-зеленым оперением, типичным для этой птицы в глубинных областях Южной Африки. Такие голуби попадаются не очень часто, и Гансу захотелось набить его чучело. Вскоре после обеда он занялся этим по всем правилам: снял шкурку, бросил мясо собакам и принялся выскабливать череп голубя.
Вволю потешив себя стрельбой, Клаас и Ян отложили ружья, после чего, разумеется, коршунов налетело еще больше, и повели они себя со всей присущей им наглостью.
Один из них, увидав голубя в руках Ганса и, вероятно, думая, что это настоящий голубь, метнулся к нему стрелой, всадил когти в самую гущу перьев и победоносно взмыл со шкуркой в лапах. Ганс, не отрывавший глаз от работы, и не заметил, как подобрался к нему крылатый разбойник. В первую минуту он решил, что кто-нибудь из мальчуганов шутки ради утащил у него голубя. Он посмотрел по сторонам, затем кверху и только тогда обнаружил подлинного виновника. Все немедленно схватились за ружья, — но прощай шкурка! Коршун с добычей в лапках взмыл на большую высоту и теперь уже летел над противоположным берегом.
Но на шкурке уже не оставалось ни клочка мяса, и коршун, конечно, вскоре с досадой обнаружил свой промах.
Глава 39
ВОДЯНАЯ АНТИЛОПА
Берега реки, у которой расположились охотники, возвышались над водой футов на пять-шесть. На обоих берегах, друг против друга, виднелись пологие спуски к воде, протоптанные, очевидно, носорогами и другими крупными животными, часто приходившими сюда на водопой и здесь же переправлявшимися вброд через реку. И в самом деле, тут можно было различить следы любых копыт, шедшие то вниз, к воде, то вверх, к лугам.
Наверно, и сегодня многие придут сюда. И Гендрик с Толстым Виллемом решили залечь в засаде и знатно поохотиться при луне; ожидалась лунная ночь, да еще какая! Луна в эту пору была почти полная, а небо весь день совершенно безоблачное.
Но им посчастливилось потешиться охотой еще до восхода луны и даже до захода солнца.
Занимаясь каждый своим делом, юноши вдруг заметили, что на том берегу заколыхались камышовые заросли, из них вышел крупный зверь, смело ступил на открытый луг, поросший невысокой травой, и показал себя охотникам весь как есть, от копыт до кончиков рогов. Как тут было не узнать антилопу!
Однако никто из наших охотников никогда еще не видел такой антилопы. Она поразила их своим величавым и вместе с тем изящным видом.
Ростом антилопа была около пяти футов, а в длину целых девять. Шкура темно-каштановая, с сероватым отливом. У рогов мех был немного темнее, а на самой макушке тронут краснинкой; оконечность морды и губы белые; на горле — белая манишка, вокруг глаз — белые обводы; причудливая белая лента шла от крестца вниз, как бы обрамляя хвост; мех на туловище был жесткий и напоминал расщепленный китовый ус; на затылке шерсть удлинялась, поднимаясь стоячей гривой; рога бледно-оливкового цвета, длиною около трех футов, были почти прямые, с легким лировидным изгибом; валики на них доходили чуть ли не до самого верха и только кончики — дюймов на шесть — были гладкие; хвост, длиной около восемнадцати дюймов, был украшен кисточкой.
Очертания и размеры рогов, жесткие волосы вокруг шеи и величавая осанка антилопы позволили Гансу определить, к какому виду она принадлежит. Он сказал товарищам, что это знаменитая водяная антилопа, которую называют также водяным козлом.
Я не случайно сказал «знаменитая»: водяная антилопа действительно — одна из самых красивых и прославленных во всем племени антилоп.
Название ее наводит на мысль, что она — водяное животное, но это не так: свое имя она получила только за то, что всегда держится неподалеку от реки или озера, где плескается в воде и нежится в прохладе в самые жаркие часы дня. Она прекрасно плавает и настолько уверенно чувствует себя в водной стихии, что, когда ее травят охотники или преследует враг, напрямик бежит к берегу и бросается с разбегу даже в самую глубокую реку. Так поступают многие олени, однако их цель — только сбить собак со следа. Переплыв реку, они тут же спешат укрыться в каком-нибудь перелеске. Но водяная антилопа подолгу не покидает реки: она плывет по течению или же, выйдя из воды на другой берег и ненадолго углубившись в какую-нибудь рощу, снова пускается вплавь. По-видимому, она считает воду самым надежным своим пристанищем. Если врагам удается ее настигнуть, она уплывает на середину реки и там отбивается как может.
Эта антилопа любит селиться на болотистых речных отмелях, густо заросших высокими стеблями осоки и камыша. В половодье, когда берега местами затоплены, антилопу не сыщешь — она выбирает жилье на самом болоте, куда не ступает нога охотника; длинные и широкие копыта позволяют ей бесстрашно ходить по таким трясинам, где любую другую антилопу неминуемо затянула бы топь.
Нашим охотникам еще не приходилось сталкиваться с водяной антилопой. Она не встречается ни в одной из областей, которые они успели пройти. Может статься, что у нее есть и другие родичи на берегах рек, бегущих по неисследованным землям в сердце Африки. Там простираются многие неизведанные страны со множеством невиданных зверей, о которых наши географы и натуралисты еще ничего не знают.
Так что, мои юные читатели, если у вас когда-нибудь возникнет желание посоперничать в славе с Брюсом, Парком, Денгамом, Клаппертоном или Ландером, вам нечего опасаться, что все уже сделано до вас. Для отважных искателей приключений, открывателей новых девственных земель и для рьяных натуралистов неисследованных территорий Африки хватит еще лет на сто — вплоть до двадцать первого века. За это я вам ручаюсь.
Глава 40
КРОВОЖАДНЫЙ ГАД
Охотники не сводили глаз со стройной антилопы, приближавшейся к реке. Она шла легкой и величавой поступью по берегу, не задерживаясь сошла под уклон и так же без колебаний и страха ступила в воду. Мальчики надеялись, что она перейдет через реку. Их ружья, в том числе и ружье Виллема, были недостаточно дальнобойными, чтобы застрелить антилопу на том берегу. Вот если б она перешла брод… На всякий случай Гендрик и Толстый Виллем пробрались сквозь чащу камышей поближе к переходу.
Надежды их не сбылись: антилопа не собиралась отправиться на их берег, она хотела только напиться; войдя в реку, она погрузила морду в прохладную влагу.
Юноши из своей засады следили за ней унылым взглядом.
Между тем неподалеку от того места, где пила антилопа, чуть колыхалась на волнах, высунувшись одним концом на поверхность, какая-то темная коряга. Очевидно, она пропиталась водой, отяжелела и оттого не всплывала полностью. Юноши не обратили на нее ни малейшего внимания: какой-то трухлявый древесный ствол, судя по цвету — черной акации. Он, наверно, был унесен течением в пору разлива и застрял на мели в этом затоне. Ничего любопытного. Антилопа тоже не уделила ему внимания. Как бывает наказана такая беспечность! Лучше было бы для антилопы как следует приглядеться к этой черной коряге, прежде чем ступить в реку! Бревно оказалось живым!
К удивлению охотников и к еще большему, вероятно, удивлению самой антилопы, темная коряга оказалась наделенной способностью двигаться с быстротой пущенной стрелы, и она метнулась прямо к пьющей антилопе. Это была не коряга, а мерзкая гадина — большущий крокодил!
Юноши надеялись, что антилопа отпрянет назад и успеет спастись. Это ей удалось бы, не нацелься крокодил так метко. Он сразу схватил морду антилопы в свою громадную алчную пасть и пытался теперь увлечь свою жертву под воду.
Завязалась борьба, короткая, но страшная. Антилопа подпрыгивала, приседала, упиралась ногами, силясь вырваться от пресмыкающегося. Временами она падала на колени, но находила в себе силу снова подняться на ноги; была минута, когда она чуть не вытащила крокодила на берег. Она безостановочно со всей силой отчаяния била крокодила передними острыми копытами, но пресмыкающееся было слишком хорошо защищено своей крепкой чешуйчатой броней. Если бы крокодил схватил антилопу за какое-нибудь другое место, у той еще оставалась бы надежда на спасение, но крокодил пригнул ее мордой к самой воде, и из-за неловкого положения антилопа не могла пустить в ход рога — свое могучее оружие.
Крокодил этот был не из самых крупных, поэтому развязка и затягивалась. Очень большой крокодил, от шестнадцати до двадцати футов в длину, утаскивает за собой в воду даже буйвола, а буйвол в четыре раза сильнее антилопы. Этот же крокодил имел в длину не более десяти футов. Крупная антилопа могла бы успешно помериться с ним силами, если бы не ее неудобное положение. И гад, как видно, понимал, в чем его козырь, — он крепко держал в своей страшной пасти, как в тисках, морду животного, не разжимая ни на секунду своей сильной челюсти.
Крокодил уже не лежал целиком в воде, и юноши временами отчетливо видели его грудь и когтистые лапы, вытянутые наподобие человеческих рук. Время от времени крокодилу удавалось, зашлепав для упора могучим хвостом по воде, погрузить голову антилопы в воду и продержать ее там несколько минут. Кругом по реке шли волны. От предсмертных усилий четвероногого, от ударов крокодильего хвоста над местом сражения фонтаном взлетали брызги, пена и пузыри… Победителем в страшной схватке вышел в конце концов речной тиран. Ему удалось оттащить антилопу с отмели, и, как только ноги ее перестали доставать дно, антилопа — самый сильный пловец среди четвероногих — все же оказалась не в силах бороться с пресмыкающимся; голова ее и рога скрылись в струях потока, только нет-нет, да взмахивал кончик крокодильего хвоста от усилий чудовища удержать свою жертву под водой; затем и он исчез из глаз. Оба, повидимому, опустились на дно.
Юноши еще некоторое время стояли на месте, глядя на поверхность реки.
Вот поплыли пенистые пузыри, некоторые из них красноватые от крови, но их быстро унесло течением, и река продолжала тихо и мирно катить свои воды, как если бы и не разыгралось никакого сражения в ее темном лоне.
Охотники вернулись на стоянку, и здесь у них завязалась беседа о крокодилах, в которой самое живое участие принял Конго.
Кафру доводилось охотиться за пресмыкающимися на полноводной реке Лимпопо, протекавшей к северу от их лагеря. Он утверждал, что там великое множество крокодилов, что он своими глазами видел гигантов тридцати футов в длину, а толщиной с носорога. Зрелища, подобные тому, что разыгралось перед ними, там не редкость: гигантские крокодилы набрасываются даже на буйволов, приканчивая их, как этот крокодил прикончил антилопу; они также залегают у водопоя, хватают за морду пьющее животное и топят его.
Я сказал, что пресмыкающееся и его жертва скрылись под водой и больше не показывались. Это, однако, не совсем так. Охотники скоро увидели их снова; мало сказать — «увидели»: крокодил был сражен насмерть выстрелом Виллема, а мясом антилопы сытно поужинали Черныш и Конго.
Дело обстояло так. Ганс пустился в пространное научное объяснение. Он рассказал своим спутникам о том, какие новые виды пресмыкающихся были недавно открыты, и подчеркнул, что за последние полвека естественные науки сильно шагнули вперед. Рассказал и о том, что современные натуралисты делят крокодилов на ряд родов и что этих родов, включая американских кайманов и аллигаторов и азиатских гавиалов, насчитывается не менее полудюжины, между тем как совсем еще недавно их знали не более трех; видов же известно около двадцати. В Америке, сказал он, водятся как настоящие крокодилы, так и аллигаторы, и видов крокодила там больше, чем в Африке и Азии вместе взятых. Зато в Европе совсем нет этих пресмыкающихся.
Пока охотники слушали Ганса, кафр, присев на четвереньки, не сводил глаз с реки. Внезапно он выпрямился и указал рукой на отмель, поросшую невысокими камышами. Все взгляды устремились в том направлении, и охотники заметили движение в камышах. Их стебли покачивались, ложились целыми пучками, ломаясь с легким треском, как бы под чьей-то тяжелой пятой. Отчего бы это? Вряд ли там пробирался какой-нибудь зверь — он даже в укромном уголке скользит легкой, крадущейся походкой.
Юные охотники решили выяснить, что там происходит. В полном молчании они двинулись к стене тростников, прячась в высокой траве и за кустами, чтобы не всполошить существо, находившееся там.
Приблизившись, они увидели в просветы редкой заросли пробиравшееся камышами крупное животное и в этом крупном темном животном узнали знакомого крокодила.
Но, может быть, это был другой крокодил, не тот, что утопил антилопу? Над этим вопросом им не пришлось ломать себе голову: приглядевшись, они различили и тушу антилопы, которую пресмыкающееся старалось вытащить из воды. Крокодил то подталкивал тушу рылом, то волок, вцепившись в нее зубами, то перекатывал ее по направлению к берегу могучими лапами.
Наши охотники в молчании наблюдали это мерзкое зрелище. Но у Толстого Виллема был в руках громобой, и, выждав момент, когда пресмыкающееся остановилось передохнуть, он нацелился ему в глазную впадину и угостил крокодила большой пулей.
Чудовище нырнуло в реку и ушло на дно, оставляя на волнах кровавый след. Но вот оно снова вынырнуло на поверхность, извиваясь в предсмертных судорогах; то верхняя половина его туловища показывалась над водой, то длинный хвост. Так некоторое время бился он в агонии, но мало-помалу затих и камнем пошел ко дну.
Черныш и Конго устремились в камыши и, забрав тушу антилопы, несколько изуродованную зубами убийцы, с торжествующим видом принесли ее в лагерь.
Глава 41
ЦЕСАРКА
Черныш и Конго поужинали жарким из водяной антилопы, блюдом отнюдь не лакомым, но юношам досталось кое-что получше: жареная дичь, да еще самая изысканная, ничуть не уступающая куропатке или тетереву, — цесарка.
Цесарка — птица, известная с незапамятных времен и нередко упоминаемая в произведениях древних авторов. Описывать ее незачем. Всем знакомо красивое жемчужное оперение этой птицы, за которое ее и стали называть жемчужной курицей. Цесарка — уроженка Африки, хотя теперь она приручена и во всех странах мира стала самой обычной обитательницей птичников. В Соединенных Штатах Америки, главным образом на юге, где климат особенно ей подходит, цесарка — или гвинейский цыпленок, как ее там называют, — очень ценится, и ее разводят не только на убой, но и на племя; мясо ее цыплят куда нежнее и тоньше на вкус, чем у обыкновенного цыпленка.
На большей части Вест-Индских островов цесарка, тоже завезенная туда из Африки, одичала, и в лесах Ямайки на нее охотятся, как на всякую другую дичь. На этих островах она размножается так быстро, что превратилась в настоящий бич плантаторов, и там за ней чаще всего охотятся не для того, чтобы подать ее на стол, а просто для истребления.
Цесарка водится во всех уголках Африки, своей родины, и притом в нескольких разновидностях, хотя чаще всего встречается обычная цесарка, которая и в диком виде мало чем отлична от своих ручных сородичей; у последних только меняется окраска — перышки их становятся куда беднее синими крапинками, а то и совсем их теряют. Впрочем, так случилось со всеми прирученными птицами — с индюками, утками, гусями и другими обитателями наших ферм; даже и предоставленная сама себе природа нередко шутит подобным образом, и мы не знаем ни одного зверя или птицы, у которых не появлялись бы иногда альбиносы.
Нам известно, что, кроме обычной гвинейской курицы, в южных областях Африканского континента распространена другая разновидность — хохлатая цесарка. Она меньше обычной цесарки, отличаясь от нее и в других отношениях. Оперение ее более густого синего цвета, хотя, так же как у ее сородича, украшено крапинками: на каждом перышке от четырех до шести крапинок. Светло-коричневый ствол пера и белоснежные каемки перьев красиво оттеняют общую окраску птицы.
Самое большое различие между этими двумя разновидностями — в строении темени и щек. Как известно, над клювом обыкновенной цесарки поднимается своеобразный мозолистый нарост, напоминающий шлем, а под клювом висят две мясистые серьги; подобных особенностей нет у хохлатой цесарки; вместо твердого гребня темя этой птицы украшено хохолком из легких развевающихся синевато-черных перьев, очень идущих этой нарядной птице.
Цесарки — птицы общественные, нередко летающие крупными стаями. Чаще всего они держатся на земле, но, если их вспугнуть, вспархивают на дерево и усаживаются на ветвях. Кормятся они семенами, ягодами и слизняками.
Как раз когда юноши обсуждали, чем бы им поужинать, стайка этих великолепных хохлатых созданий с громким щебетом слетелась на открытый луг, где находился их лагерь. Конечно, юные охотники сразу схватились за ружья.
Подстрелить диких цесарок — дело нелегкое. Летуны они неважные и, даже преследуемые, не поднимаются в воздух, разве что гончая или другое быстроногое животное уже настигает их. Но пешему охотнику их не нагнать — по ровному месту они бегают очень быстро. Вдобавок они очень пугливы. Все это делает охоту на них довольно трудной. Однако существует один способ охоты, который всегда себя оправдывает: их травят собакой, как зайцев, кроликов и вообще всех небольших зверьков; быстроногая гончая, конечно, с легкостью настигает дичь, и той приходится встать на крыло. Но долго летать ей не по вкусу, и вскоре она снова опускается вниз или вспархивает на дерево; хорошо натасканная гончая бросается к дереву и лает до тех пор, пока не подойдет охотник. Птица, сидя на дереве, ничуть не боится собаки — она знает, что сколько собака не гавкай, а на дерево ей не влезть, — но лай отвлекает ее внимание от приближающегося охотника, и тот может спокойно подойти и не спеша прицелиться.
Этот способ был известен нашим охотникам. Они взяли с собой хорошо натасканную гончую и начали травлю, предвкушая вкусную дичь на ужин.
Они охотились не напрасно. Птицу вскоре удалось вспугнуть и загнать на дерево. Лай гончей привел охотников к самому берегу реки, где на макушке жирафьей акации засела дичь. Их выстрелы не пропали зря, и охотники принесли в лагерь семь цесарок, обеспечив себе знатный ужин, да еще и завтрак на следующий день.
Этот уголок, казалось, был облюбован крылатым племенем. Находясь здесь, охотники наблюдали множество занимательных разновидностей птиц. Окрестности были богаты диковинными растениями, семена которых шли птицам в корм, а у реки вились тучи мошек и насекомых — добыча для бесчисленных сорокопутов и прочих птиц этого семейства.
Ганс указал своим спутникам на своеобразную птичку, порхавшую над лугом и временами выводившую трель, похожую на слово «эдолио». Отсюда и пошло название птицы, точно так же как кукушка приобрела свое имя от кукования.
Южноафриканская птица эдолио — тоже кукушка; кое-чем она отличается от нашей кукушки, но во многом ей родственна: ей, в частности, присуща та же тунеядная повадка подкидывать свои яйца в чужие гнезда.
Однако в истории эдолио больше занимательного, чем у его европейских родичей.
Южноафриканские буры, люди простые, считают, что есть такая птица новогодка, которой они приписывают всякие необыкновенные качества. Они утверждают, что новогодка появляется только в самом начале года и, когда она голодная, принимается пищать: на писк ее слетаются птички со всей окрестности, неся ей корм в клюве.
Это поверье было известно юношам, Конго и Чернышу, и никто из них не сомневался в его правдивости; только Ганс знал, как сложилась легенда, и рассказал товарищам.
Птица, известная фермерам как новогодка, не что иное, как птенец эдолио, хотя фермеры ни за что не поверили бы этому, — птенец, даже вполне оперившийся, мало похож по величине и окраске на своих родителей, и поэтому его обычно принимают за другую разновидность. Его загадочное появление всегда в первые дни года — не совсем выдумка: дело в том, что к этому времени птенец, оперившись, начинает вылетать из гнезда; верно, что он пищит, когда голоден, но далеко не все мелкие птички, находящиеся поблизости, слетаются на его крик, а только его приемные мать и отец. Фермеры часто наблюдали, как они кормили птенца, и отсюда сложилась легенда. Ну что ж, все это было очень интересно.
Ганс добавил, что в Индии среди местных жителей сложилось подобное же поверье относительно большеклювой кукушки и по тем же причинам.
— Эдолио, подобно кукушке, — сказал Ганс в заключение, — кладет свои яйца в гнезда мелких птиц различных видов. По наблюдениям многих зоологов, она не садится для этого на чужое гнездо, а приносит уже снесенное яйцо в клюве.
Глава 42
КРАСНЫЕ АНТИЛОПЫ
Чем дальше продвигались наши путники вверх по течению реки, тем более менялся облик равнины. Теперь от нее оставались лишь две полосы луга, тянувшиеся вдоль берега и окаймленные с обеих сторон горными цепями, одетыми лесом. Отроги гор кое-где подступали почти к самому берегу, разделяя низменность на ряд долин, лежавших террасами, одна чуть выше другой, между берегом реки и каменистой подошвой гор.
Почти в каждой долине водилась какая-нибудь дичь, но, к сожалению, уже знакомая. Отряд стрелял ее только для пополнения запасов. Стоянки для охоты не устроили ни разу. По словам Конго, за горой, где река брала исток, простиралась область слонов, буйволов и жирафов, и охотники горели желанием поскорее добраться до этой «обетованной земли». Попадавшиеся им на пути стада скакунов, гну, голубых антилоп и даже канн интересовали их не больше, чем стадо домашнего скота.
Впрочем, на одной из верхних долин они решили остановиться и поохотиться. Их внимание неожиданно привлек к себе табун антилоп необычного вида и окраски.
В том, что перед ними антилопы, сомневаться не приходилось: об этом говорил весь их облик — стройное и изящное телосложение, характерные рога.
Хотя охотники ни разу не встречали подобных антилоп, однако, завидев их, Гендрик и Виллем в один голос воскликнули:
— Красные антилопы!
— Почему вы так думаете? — осведомился Ганс.
— Всякий сразу по цвету скажет, — ответили юноши.
Шкура антилоп действительно была красно-бурой на голове, шее и спине, на бедрах несколько бледнее, а брюхо было совершенно белым; под крупом и у корня хвоста виднелись еще и черные метины, но преобладающий цвет животных был красновато-бурый. Вполне понятно, почему Виллем и Гендрик сразу сказали, что это красные антилопы.
— Цвет еще ничего не значит, — заметил Ганс. — Это могла бы быть и бурая и каменная антилопа, но, судя по рогам, вы угадали правильно: это и в самом деле красные антилопы, или палы, как их называют бечуаны.
При этих словах все, разумеется, воззрились на рога. В длину они достигали двадцати дюймов, а очертаниями напоминали рога антилоп-скакунов, хотя были и не такой правильной лирообразной формы. Почти соприкасаясь кончиками, рога посередине расходились на целых двенадцать дюймов; этот легко запоминающийся признак и позволил Гансу сразу определить, к какому виду принадлежали встреченные ими антилопы.
Как ни странно, но во всем табуне только одно животное имело вполне развитые рога. Это означало, что здесь был только один взрослый самец, ибо самки красных антилоп безроги. Впрочем, «табун» не то слово — красные антилопы не стадные животные. Перед охотниками находилась одна семья в одиннадцать голов, состоявшая из самца, его подруг и нескольких молодых самцов и самок.
Юным охотникам приходилось слышать, что красная антилопа — животное пугливое и быстроногое. Подкрасться к ним или нагнать их на скаку одинаково трудно. Следовательно, прежде всего надо было решить, как на них напасть, иначе из охоты могло ничего не выйти, а они уже с вожделением поглядывали на крепкие узловатые рога самца. Фургоны остановились, но буйволов распрягать не стали; если охота окажется удачной, тогда уж придется и заночевать, чтобы очистить шкуры, обеспечить сохранность голов и рогов. Начались приготовления к охоте.
Охотники находились на гребне высокого хребта — одного из горных отрогов, отделяющих долину, только что ими пересеченную, от той, где паслись антилопы. Отсюда открывался вид до самых дальних концов долины. От их взора оставалась скрытой лишь небольшая полоса земли под скалистым выступом, на котором они стояли.
Деревья и кусты окаймляли долину островками зелени. На самой же середине, где паслись антилопы, не было ни единого кустика или хотя бы бугорка. Но у края долины трава была довольно густой и высокой, и там умелый охотник смог бы проползти не замеченным антилопами от одной купы деревьев до другой.
Гендрику и Виллему было поручено обойти долину по краю, прячась в траве и зарослях; после этого антилопам некуда будет деться: спереди и сзади — охотники, направо — отвесная круча, налево — глубокая, быстрая река. Трудно предположить, чтобы они туда побежали. Что ж, план неплохой!
Охотники привязали лошадей к деревьям подальше от склона и двинулись вдоль выступа, нависавшего над долиной. Они отошли совсем недалеко, когда кусок долины, до сих пор скрытый от них, внезапно открылся их взору, и там они, к своему изумлению, увидели другую группу животных.
Но это были отнюдь не антилопы, хотя цветом и походили на них. Нет, вид этих животных — короткие головы, удлиненные туловища, плотные, мощные лапы и длинные хвосты с кисточкой — сразу дал охотникам понять, что перед ними не стадо мирных жвачных, а кучка страшных хищников — львов!
Глава 43
ЧЕТВЕРОНОГИЕ ОХОТНИКИ
Здесь была целая дюжина львов — взрослые самцы, самки и львята самого различного возраста. Страшное зрелище, когда видишь его не сквозь прутья клетки и не из окон третьего этажа! Они свободно бродили по открытой равнине, на далеко не безопасном для охотников расстоянии в триста ярдов. Стоит ли говорить, что юноши, порядком-таки напуганные, не двинулись ни шагу дальше. Они знали, правда, что львы, как правило, не бросаются первыми на человека, однако было еще неизвестно, как поведут они себя, когда их столько собралось вместе. Двенадцать львов сразу расправились бы с ними со всеми и с каждым в отдельности. Что ж удивляться испугу молодых охотников при виде такого множества львов, да еще в таком близком соседстве! Лишь крутизна горного склона, на котором они стояли, могла бы послужить им защитой. А впрочем, нет: достаточно нескольких прыжков — и львы очутятся рядом с ними.
Опомнившись от испуга и первого изумления, юноши могли думать только о том, что делать дальше. Антилопы, разумеется, совершенно вылетели у них из головы. Куда там думать об охоте! Спуститься в долину — значило самим лезть в пасть львам, которых было в два раза больше, чем охотников. Даже бывалые охотники постарались бы избежать такой встречи; одна только мысль владела ими: как бы поскорее унести отсюда ноги. Это даже не успело оформиться в мысль, это было просто безотчетное побуждение.
— Скорее к лошадям! — шепнули они друг другу.
И, не задержавшись ни на секунду, не проявив ко львам ни малейшего интереса, все шестеро дали тягу. Минуты две спустя они уже сидели в седлах.
Львы их не заметили. Выступ, вдоль которого двигались юноши, был покрыт подлеском высотой с человека, скрывавшим их от львов, а ветер дул с долины к ним, и львы не могли их учуять. К тому же юноши, опасаясь спугнуть антилоп, старались не шуметь. Вот почему львы так и не узнали об их присутствии. Сев на лошадей, охотники почувствовали себя в безопасности, и их минутное смятение вскоре улеглось. Даже пони, не говоря уже о лошадях, способны обогнать самого быстрого африканского льва. Теперь опасность миновала.
Однако двум заядлым охотникам, Гендрику и Виллему, было не по душе такое отступление. Им хотелось хотя бы одним глазком взглянуть еще раз на грозных хищников. Их так и тянуло вернуться на прежний наблюдательный пункт, правда теперь уже на лошадях. К этому склонялся и Ганс — ему было любопытно изучить живую страничку естественной истории, и Аренд, которого просто разбирало любопытство. Решив, что Яна и Клааса брать с собой рискованно, обоих подростков без особых церемоний спровадили к фургонам, оставленным в нижней долине у подошвы горы.
Медленно и молча двигались вперед четверо охотников, пока снова не открылся вид на долину.
Антилопы по-прежнему мирно паслись, и львы находились на том же месте, где охотники их впервые увидели. По спокойным движениям антилоп можно было с уверенностью сказать, что они не догадываются о присутствии грозных соседей. Львы находились в нижней половине долины, с подветренной стороны от антилоп, а густой кустарник скрывал львов от их взора.
И с такой же уверенностью можно было сказать, что хищники отлично знали, кто у них находится по соседству, — об этом свидетельствовало все их поведение: время от времени один из них подбегал, низко пригнувшись, к гряде кустарников и выглядывал сквозь ее просветы, стараясь разглядеть, что делается на открытой равнине; минуту спустя он возвращался к товарищам с «донесением», точно из разведки. Львы держались тесной кучкой и, казалось, совещались друг с другом. Юноши не сомневались, что так оно и было и что предметом их обсуждения являлись именно красные антилопы.
Но вот «совещание» пришло, как видно, к концу. Часть львов осталась на прежнем месте, другие направились к горному отрогу. Подойдя к зарослям, окаймлявшим долину, они поползли на брюхе в высокой траве, пробираясь украдкой от одного островка зелени к другому.
Все ясно: они направлялись к самому верхнему концу долины, чтобы выгнать оттуда антилоп навстречу своим товарищам, оставшимся внизу, — одним словом, львы в точности следовали стратегическому плану, который лишь несколько минут назад разработали охотники.
Юноши немало подивились этому совпадению и, сидя в седлах, не могли не восхищаться искусством, с каким новоявленные соперники выполняли их план.
Трое львов, что пробирались вдоль подножия горы, вскоре исчезли из виду. Их теперь скрывал от глаз кустарник, росший на дальнем конце долины. Тем временем остальные девять растянулись в цепь и залегли в густой траве, а некоторые — за кустами.
Антилопам готовилась неплохая ловушка. Но еще несколько минут ничто не выдавало этого. Львы, распластавшись в траве, украдкой следили за стадом; антилопы беспечно паслись, не подозревая о заговоре, замышляемом против них.
Но вот что-то, видимо, внушило им подозрение, они словно ощутили нависшую над ними угрозу: самец, подняв голову, огляделся кругом, издал свист, похожий на свист оленя, и раз, другой с силой топнул копытом о землю. Антилопы перестали щипать траву, некоторые из них высоко подпрыгнули.
Они, вероятно, учуяли львов, притаившихся на дальнем конце долины, — ветер дул к ним с той стороны.
Так оно и было. Старый самец снова предостерегающе свистнул, подпрыгнул на несколько футов и понесся, весь вытянувшись в струнку, словно летел в воздухе; остальные помчались следом, время от времени подскакивая высоко над землей.
Львы рассчитали правильно: антилопы бросились по долине грудью вперед, прямо на их цепь; ничто не предупредило их о засаде, даже ветер; они подбежали к гряде кустарника; девять огромных кошек разом выпрыгнули оттуда, и в одном стремительном броске почти каждая из них уложила на месте свою жертву. Удар могучей лапы — и несчастные антилопы распростерлись на земле, пришел конец их веселой беготне. Нападение было таким молниеносным, борьба такой короткой, что какие-нибудь две секунды спустя выскочившие из засады львы уже терзали своими когтями и зубами бездыханных антилоп.
Трем антилопам удалось спастись, и они побежали обратно, но там их ждала другая засада, и едва лишь они приблизились к зарослям, как тоже пали жертвами хищников. Ни одному из великолепных животных, которые с минуту назад неслись по долине, горделиво уверенные в быстроте своих ног, не удалось прорваться сквозь хитро расставленную цепь.
Охотники, не двигаясь, глядели на страшное зрелище. Гендрику и Толстому Виллему не терпелось пробраться вперед и угостить одного — двух львов несколькими выстрелами. Но Ганс и слышать об этом не хотел. Он напомнил, что в часы, когда львы упиваются кровью только что растерзанной добычи, охотиться на них особенно опасно — они готовы беспощадно разделаться со всяким, кто отважится потревожить их; благоразумнее не дразнить этих грозных хищников и поскорее убраться восвояси.
Обоим охотникам ничего не оставалось, как скрепя сердце послушаться Ганса, к которому присоединился и Аренд. Все четверо повернули обратно к фургонам.
Там они обсудили, что им делать дальше. Заведомым риском было бы продолжать путь по этой небольшой долине, охраняемой такой стражей; оставалось только где-то поблизости найти брод и переправиться с фургонами через реку. Так они и поступили. На противоположном берегу они расположились на ночевку — продолжать путь было уже поздно.
Да, они хорошо сделали, переправившись через реку. Всю ночь напролет грозный рев свирепых хищников доносился с того берега; очевидно, маленькая долина была настоящим львиным логовом.
Глава 44
ПТИЦА-ВДОВА
Охотники рады были уйти подальше от таких соседей. Рано утром они запрягли буйволов и пустились дальше по берегу реки.
И на этом берегу их путь шел через ряд долин с разбросанными по ним перелесками. Чем дальше, тем чаще горные отроги подступали к самой реке, и в двух-трех местах охотникам стоило большого труда перевалить с фургонами через гребни гор. На одном особенно крутом подъеме буйволы вдруг заупрямились, отказались идти дальше, и ни ласками, ни угрозами нельзя было заставить их сдвинуться с места. Продолжать путь вдоль реки казалось уже невозможным… Однако Конго знал способ заставить буйволов двигаться, и оба фургона в целости и сохранности перевалились через гребень. Правда, Черныш и Конго здорово натрудили себе при этом глотку, понукая буйволов, а длинные их кнуты из газельих шкурок основательно пообтерлись.
Способ Конго был очень нехитрым: он шел впереди буйволов и обмазывал скалу вдоль пути их собственным пометом, внушая, таким образом, животным, что другие буйволы ходят здесь и что, следовательно, раз их сородичи только что одолели подъем, они тоже могут это сделать. Такой способ нередко применяют в Южной Африке трек-буры, когда крутой подъем пугает животных.
Долина, в которую они опустились после этого трудного перевала, была совсем небольшая — площадью около двух акров. Река здесь суживалась настолько, что ее можно было перейти вброд в любом месте. На одном конце долины горный отрог протянулся почти наперерез реке, но струи воды промыли в нем широкие протоки. Единственный путь отсюда лежал по руслу самой реки. К счастью, оно было почти сухим, иначе путь в этом направлении был бы отрезан. Но по такому неглубокому каменистому дну фургоны смогут проехать без труда, и юношам удастся достичь более широких равнин, простирающихся дальше. Охотникам показалось соблазнительным расположиться в этой долине на ночь. Здесь была густая, сочная трава для скота, и горы были одеты лесом, и вода в потоке была чистой и свежей, — словом, имелись налицо все три необходимых условия, для того чтобы путешественники могли расположиться лагерем.
Уголок этот казался очень живописным. Как уже говорилось, долина была совсем небольшая, площадью около двух акров, но очень правильной круглой формы. Ее пересекал неглубокий поток, а кругом возвышались на сотни футов отвесные горные склоны и, подобно каменным стенам, замыкали ее в своем объятии.
На лугу не видно было деревьев, зато на склонах гор они пышно раскинулись: одни стояли, склонив ветви, другие гордо вздымали свои кроны ввысь. Берега речки поросли редким и невысоким — ниже человеческого роста — кустарником вперемежку с тростником.
Фургоны остановили посередине этого природного амфитеатра. Лошадей и буйволов пустили пастись на воле. Опасаться, что они уйдут из долины, не приходилось хотя бы потому, что это было не так-то просто, особенно для животных, измученных таким длинным и тяжелым переходом. Но, главное, они и сами отсюда не пойдут: вода и трава здесь вкусные, лучше и желать нечего.
По обыкновению, Клаас и Ян, едва сойдя с лошадей, отправились на поиски гнезд. В этой уединенной долине они успели уже заметить немало занятных птиц и надеялись, что гнезда некоторых из них окажутся где-нибудь поблизости.
И действительно, среди камышей и кустарника обосновалась целая пернатая колония. Небольшие пташки походили на воробышков, а гнезда у них были овальные, с маленьким круглым входом, внутри устланные пушистыми, похожими на шерсть волокнами каких-то растений, росших поблизости.
Подобные птицы часто попадались на глаза нашим охотникам, и они сразу признали их: это были птички из семейства птиц-ткачей. Видов этих птиц существует множество, и они заметно отличаются друг от друга размерами, окраской и повадками, но их роднит врожденное умение искусно вить гнезда, буквально-таки сплетая их. Отсюда и пошло меткое прозвище птиц. Гнезда у разных видов отличаются друг от друга: одни похожи на шары, другие — на химическую реторту, третьи имеют овальную форму. Совсем особое гнездо у общественной птицы-ткача. Последние, собравшись стаей, строят одно большое гнездо, или «базар», обычно на макушке высокой акации, и оно напоминает стог сена, сложенный на ветвях дерева.
Маленькие ткачи, которых обнаружили Клаас и Ян, принадлежали к роду амадин; оба мальчугана очень обрадовались, наткнувшись на эти гнезда, потому что из их подстилки выходят отличные пыжи, не хуже, чем из пакли, и даже лучше, чем из мягкой бумаги. У обоих мальчиков пыжи были уже на исходе, и они решили пополнить запас, разорив хорошенькие гнездышки ткачей. Делать это из одного озорства Ганс не позволял, но пыжи были очень нужны для охоты, и мальчуганы не испытывали сейчас никаких угрызений совести.
Однако, для того чтобы вынуть мягкую подстилку, им пришлось буквально распутывать каждое гнездо, а это потребовало некоторого времени — вся наружная оплетка представляла собой замысловатое изделие, изящную корзиночку. Отверстие же было так мало, что мальчики не смогли просунуть туда руки. Да и найти его было не так-то просто. Ткачи, покидая гнездо, всегда тщательно маскируют отверстие. Нужное количество хлопка мальчики набрали в двух гнездах. Остальные они не тронули и, оставив их спокойно висеть на своих местах, вернулись на стоянку.
Но тут их внимание привлекла другая птица, куда более редкая и занимательная, чем амадина. Почти такого же размера, она резко отличалась от нее цветом и оперением — кстати сказать, очень любопытным. Птица эта, завладевшая вниманием не одних только Клааса и Яна, но и всех остальных охотников, была величиной с канарейку, но казалась куда больше благодаря длинному — в несколько раз длиннее ее тельца — черному хвосту.
Головка, спинка и крылышки ее были темно-каштанового, почти черного цвета с отливом; шейку охватывало трехцветное оранжево-коричнево-красное ожерелье, которое на грудке было чуть побледнее, а брюшко, лапки и бедра птицы были ржаво-золотистого цвета.
Одна такая птица с оранжевым воротничком и длинными хвостовыми перьями летала совсем недалеко от стоянки.
Мальчики заметили, что ее сопровождает другая птица, но окраска у той была тусклой ржаво-коричневой, а хвост самый обыкновенный; эта невзрачная птица была самкой своего нарядного спутника.
Юные охотники, впервые увидевшие эту занимательную птицу и не знавшие, к какой разновидности она принадлежит, засыпали Ганса вопросами. Ганс объяснил им, что это разновидность птиц-ткачей, известная натуралистам под названием «птица-вдова». Мальчиков удивило такое странное название, и они попросили Ганса рассказать о его происхождении. Гансу не составило труда удовлетворить их любопытство, — его объяснению позавидовал бы сам ученый Бриссон, окрестивший эту птицу.
— Бриссон назвал эту маленькую птичку вдовой, услыхав, как называют ее португальцы, первыми обратившие на нее внимание, а французские натуралисты пытались разъяснять, что ее назвали так из-за ее черного цвета и длинного хвоста. А на самом деле ни окраска, ни длинные перья не сыграли никакой роли в прозвище птицы, которое образовалось просто из-за смешения разных, но одинаково звучащих слов. Португальцы окрестили ее «вида», потому что она была получена ими из западноафриканского королевства Вида, а это слово напоминает по-португальски слово «вдова».
Эта птица с веселым нравом и таким великолепным оперением — одна из самых любимых комнатных птиц; часто ее видишь в клетке, где она с большой живостью перепархивает с жердочки на жердочку, словно ничуть не тяготясь неволей. Кормом ей служат семена и некоторые травы; она очень любит плескаться в воде; линяет дважды в год; в известную пору самец теряет длинные хвостовые перья — свое основное отличие от самки, — его окраска бледнеет, и разница между супругами сглаживается; лишь в брачную пору самец переодевается в оранжево-черный наряд и украшает себя элегантным хвостом.
Натуралистам известны два вида птицы-вдовы: райская птица-вдова, только что нами описанная, и другая, прозванная красноклювой птицей-вдовой. Последняя меньше райской птицы-вдовы и отличается от нее расположением хвостовых перьев, клюв у нее темно-красный, что и дало повод так ее назвать; оперение птицы иссиня-черное сверху, вокруг шеи белый воротничок, покровные перья белые, нижняя часть оперения белесоватая.
Образ жизни обоих видов очень похож на образ жизни всех птиц-ткачей. Обитают они все в Западной Африке и на юг далеко не залетают.
Молодые охотники не меньше самого Ганса загорелись желанием приобрести шкурки столь редкостных птиц.
Загремели выстрелы, и обе «вдовушки» были безжалостно сбиты с дерева.
Глава 45
ВОЛОКЛЮЙ
Ганс с помощью своих спутников принялся осторожно снимать шкурку красивой птицы. Больше других ему помогал Аренд. У Аренда были очень искусные руки, и в мастерстве чучельника он не уступал самому Гансу. Правда, ему было совершенно безразлично, к какому семейству или виду относится птица, но дайте ему птицу в руки, и он снимет с нее шкурку и набьет ее ватой, не смяв ни единого перышка.
Занятые своей работой, юноши вдруг услыхали звук, заставивший их вскочить на ноги. Ганс и Аренд от неожиданности даже выронили из рук шкурки райской вдовы.
Между тем звук, который произвел на них такое сильное впечатление, был всего лишь криком маленькой птички, величиною не больше всем известного певчего дрозда, да и кричала она похоже и ничуть не громче. И все же ее голос прозвучал над лагерем, как удар грома. Охотники и проводники хорошо знали, что означал этот крик. Гончие и те с воем вскочили на ноги, едва лишь он донесся до их слуха. В лагере поднялся переполох.
Ну, а вы, мои молодые читатели, наверно, удивляетесь, почему крик птицы, да еще такой безобидной, привел в ужас наших отважных охотников. Вам, конечно, любопытно узнать, что это была за птица?
Я сказал, что охотники, проводники и гончие были напуганы криком птицы, но это еще не все. Даже лошади и буйволы узнали этот крик, и на них он произвел столь же ошеломляющее впечатление: лошади вскинули морды, испуганно зафыркали и забили копытами; буйволы выказали такие же признаки тревоги. Словом, лошадям, буйволам, проводникам, охотникам — всем стало не по себе, когда этот крик прозвенел в горах и эхо его отдалось в долине. Все узнали предостерегающий крик волоклюя.
Следует коротко рассказать об этой птичке, чтобы, стало ясно, почему ее крик произвел такой переполох.
Размером волоклюй приблизительно со скворца. Окраска его сероватая, на хвосте чуть темнее, крылья короткие. Лапы его со скрюченными, тесно прижатыми друг к другу когтями как бы созданы для хватания. Но самое любопытное в птице — это ее клюв; он прямоугольный, нижняя его половина развита гораздо сильнее верхней, но обе утолщаются к концам, делая клюв похожим на щипцы или клещи. Назначение такого устройства выяснится, когда будет рассказано о повадках птицы. А они действительно любопытны, и орнитология справедливо относит эту птицу к особому роду.
Знаменитый французский орнитолог, притом настоящий исследователь-практик, Ле Вайян так описывает повадки птицы.
Клюв волоклюя устроен наподобие крепких щипцов, что помогает ему вытаскивать из кожи животных личинки, которые туда откладывает овод. Эта птица неутомимо ищет стада волов, буйволов, антилоп — словом, всех четвероногих, на кожу которых овод кладет яйца. Сжав когтями плотную волосатую шкуру животного в том месте, где на ней виден бугорок, указывающий на личинку, волоклюй сдавливает ее что есть силы, ударяет по этому месту клювом и успешно добывает личинку. Животные, привыкшие к такому бесцеремонному обращению, терпеливо все это сносят, должно быть понимая, какую услугу оказывает им птица, избавляя их от подобных тунеядцев. Существует множество других насекомоядных птиц, которые, как и волоклюй, кормятся преимущественно насекомыми, кишащими на телах крупных животных, как диких, так и домашних. В Америке это желтушник, или коровья овсянка, прозванная так за ее привычку кормиться паразитами домашнего скота; кроме того, она неотступно следует за огромными стадами бизонов, бродящих по бескрайним американским прериям. За стадами рогатого скота на южноамериканских равнинах следуют и другие виды желтушника.
Красноклювый ткач — спутник африканских буйволов. А всякий, кто наблюдал большой овечий гурт на пастбище, не мог не заметить обыкновенного скворца, восседающего на пушистых овечьих спинах. Таков же обычай белогорлой вороны и других видов вороньих и скворцовых птиц; однако, в отличие от белогорлой вороны, последние довольствуются теми насекомыми, которые находятся на поверхности шкуры животного или ютятся в его шерсти, — ни одна из этих птиц не наделена достаточно сильным клювом, чтобы вытащить личинки, угнездившиеся в складках кожи. А для волоклюя это не представляет ни малейшего труда. Он, правда, может кормиться клещами и другими насекомыми, находящимися наверху, но предпочитает им личинок, расположенных под кожей.
Волоклюев можно часто видеть штук по шести — восьми сразу, но они никогда не собираются крупными стаями. Это дикие, очень пугливые птицы, и к ним трудно подойти на выстрел.
Только пустившись на хитрость, а именно — подкрадываясь позади быка или буйвола и осторожно направляя его к тем животным, на чьих спинах сидят эти птицы, охотнику удается приблизиться к ним и, наскоро прицелившись, подстрелить их на лету.
Таковы повадки волоклюя. Однако все это еще не объясняет, почему крик одной из этих птиц привел лагерь в смятение и ужас. Остается рассказать, в чем тут дело.
Среди животных, сопровождаемых волоклюями, есть одно, при котором они состоят как бы постоянными провожатыми. Это носорог. Носорог — жертва многих насекомых-паразитов. На его огромном теле в глубоких многочисленных складках кожи им очень удобно откладывать яйца, и волоклюй находят здесь неистощимый запас пищи. Потому-то они и являются постоянными спутниками всех видов южноафриканских носорогов и известны среди охотников под наименованием «носорожьи птицы». Куда бы ни пошел носорог, волоклюй не покидает его, восседая на его голове, спине или другой части тела так уверенно, точно это ствол дерева или родное гнездо. Да носорог и не пытается отогнать прочь этих птиц, полезных ему во многих отношениях. Мало того, что они избавляют его от докучных насекомых, охраняя тем самым его покой, — они оказывают ему и другую важную услугу: оповещают его о приближении охотника и вообще о близкой опасности. Стоит лишь птице учуять что-нибудь неладное, как носорог, который в эту минуту, может быть, даже спал, уже поднят на ноги ее резким криком. А не подействует крик — бдительный страж примется махать крыльями над его головой и клевать его в уши и не отвяжется, пока ему не удастся предупредить животное об опасности. Подобным же образом ведут себя волоклюи, сопровождая слонов и гиппопотамов. Обмануть бдительность маленьких крылатых часовых нелегко, и поэтому охотник сталкивается с дополнительными трудностями.
Теперь, когда вы узнали об этой давно известной всем в лагере любопытной особенности волоклюя, вам должно стать ясно, почему его крик вызвал такой переполох: присутствие птицы оповещало о том, что неподалеку находится грозный носорог.
Глава 46
НАПАДЕНИЕ НОСОРОГОВ
Охотники, все как один, разом повернулись в ту сторону, откуда донесся птичий крик. Как и следовало ожидать, они увидели двух носорогов — самых больших, какие только существуют на свете. Это были носороги одного из двух белых видов — мучочо, как его называют местные жители. Они шли прямо вдоль русла реки, ступая по мелкой воде.
Белые носороги гораздо медлительнее своих черных родичей и не столь воинственного нрава. Впрочем, когда при них находится детеныш или когда они ранены, нрав их резко меняется. Тут уж лютость их породы дает о себе знать! И не один местный охотник пал жертвой как мучочо, так и кобаоба.
Белые носороги славятся своим мясом, напоминающим по вкусу свежую свинину, тогда как мясо их черных родичей неприятно — оно жестко и горьковато.
Вот почему охотники при виде мучочо сразу забыли о своих страхах; они думали только о том, что у этого сравнительно мирного животного очень нежное мясо, и, схватившись за ружья, начали спешно готовиться к тому, чтобы достойно встретить пожаловавших к ним толстокожих. Будь перед ними один из черных видов — кейтлоа или бореле, — они, разумеется, думали бы не об охоте, а только о том, как бы поскорее вскочить на лошадей или спрятаться в фургонах.
Тем временем мучочо, выйдя из реки, ступили на изумрудную мураву долины. Теперь, когда их можно было видеть целиком, они казались какими-то громадами. Самый большой из них был не меньше самки слона — от края тупой морды до кисточки на конце короткого хвоста в нем было верных шестнадцать футов. Приближаясь к ним, охотники вдруг обнаружили с изумлением третьего носорога. Этот третий, ростом не больше свиньи, был, однако, точной копией двух первых, только у него на носу не было рога. Как ни был он мал, в нем сразу можно было признать детеныша, или теленка, двух первых — его папы и мамы.
Его присутствие привело охотников в полный восторг: мясо детеныша белых носорогов еще нежнее мяса взрослых. Все, в особенности же Черныш и Конго, уже заранее смаковали лакомое блюдо.
Но они упустили из виду, насколько опасно схватываться с белыми носорогами в присутствии их детеныша. У наших охотников так разгорелись страсти, что это как-то вылетело у них из головы. У одного лишь благоразумного Ганса возникли кое-какие опасения, но, зараженный азартом товарищей, он решил промолчать. Через несколько секунд гром выстрелов раскатился над маленькой долиной; и одновременно град пуль — пуль всех размеров, начиная с большой, в унцию весом, пули из громобоя и кончая маленькой горошинкой из ружей Клааса и Яна, — ударил по носорогам.
Это оказало совершенно неожиданное действие: носороги, шедшие до этого медленной, размеренной поступью, бросились быстрым галопом прямо на охотников. Все в них выдавало предельную ярость. Они хрюкали и пыхтели на бегу подобно морским свинкам; глазки их злобно поблескивали, короткие хвостики хлестали по бокам, рога были выставлены вперед. Следом в атаку бежал и теленок, подражая хрюканью и движениям своих грузных родителей.
Ничего подобного охотники не ожидали; бореле или кейтлоа, разумеется, так бы и поступили, но для мучочо, настолько безобидного, что его даже считают трусливым и глупым, такое поведение было необычным: мучочо удирает, услышав выстрел или даже собачий лай. Охотники ошиблись, полагая, что, если им не удастся сразу свалить носорогов, те обратятся в бегство. Они не учли присутствия детеныша. Именно это и определило поведение носорогов. Вдобавок пули, не причинившие большого вреда, но болезненно ранившие животных, еще больше разгорячили их. Дело принимало дурной оборот.
Охотники не остались стоять на месте, дожидаясь грозных противников. Их разряженные ружья уже не могли им служить защитой, и они сочли за лучшее дать тягу. Ни один набедокуривший мальчишка не улепетывал проворнее от школьного надзирателя, чем эти шестеро охотников, устремившихся к лагерю. Даже полы их курток поднимались над спиной, пока они, низко пригнувшись, стремглав мчались по лугу.
Коротенький, плотный Черныш и длинный сухопарый Конго, первыми пошедшие в атаку, оказались первыми и при отступлении.
Все восемь охотников бежали наперегонки так, что только пятки сверкали. Такого беспорядочного бегства никогда еще не видела эта мирная, уединенная долина.
Глава 47
ВЕРХОМ НА НОСОРОГЕ
К счастью, перед тем как открыть огонь, охотники успели отойти лишь на несколько шагов от фургонов и теперь, пробежав это небольшое расстояние, поспешили укрыться в своих вместительных повозках. Но если бы им пришлось пробежать еще хоть двадцать ярдов, то, несомненно, не одного, а многих из них носороги подняли бы на рога или растоптали тяжелыми копытами.
Охотникам только чудом удалось спастись; и едва лишь последний из беглецов успел скрыться в фургоне, как рога носорога забарабанили по доскам.
Охотники спрятались в фургоны — единственное доступное для них убежище, — но отнюдь не чувствовали себя там в безопасности: они знали, что, как ни крепки фургоны, могучие звери, если только им взбредет это в голову, смогут разнести их в щепки. К своему ужасу, они увидели, что старый самец, низко наклонив голову, ринулся на один из фургонов, в котором кое-кто из них прятался.
Удар потряс фургон до самого основания; рог животного расколол обшивку сверху донизу, деревянный борт фургона рассыпался. Огромная повозка была приподнята с земли и отброшена на несколько футов в сторону. У находившихся в фургоне вырвался крик ужаса, перешедший в вопль, когда они увидели, что толстокожие вторично двинулись в атаку.
Но верные гончие отвлекли в эту критическую минуту носорогов от фургонов и спасли жизнь своим хозяевам. Едва лишь старый самец вторично нацелился рогом на повозку, как сзади на него наскочила свора собак. Две гончие вцепились ему в задние ноги, а третья, высоко подпрыгнув, ухватилась зубами за его хвост. А ведь хвост — самая чувствительная часть тела у носорога.
Неожиданное и ловкое нападение привело носорога в замешательство. Взвыв от бешенства и боли, грузный зверь завертелся на месте с такой быстротой, на какую только был способен. Преданная собака не разжимала зубов, а две другие продолжали кусать носорога за бока. Тщетно пытаясь схватить собак, зверь кружил и кружил на месте. Он напоминал теперь котенка, ловящего свой хвост, если, конечно, можно сравнить такое крохотное животное с таким громадным.
Так продолжалось несколько минут, пока носорогу не удалось наконец сбросить с себя собак. Одну из них он тут же растоптал своими тяжелыми копытами, другую подняла на рог самка. Но благородные друзья человека сделали свое дело: они увели за это время носорогов на другой конец долины, далеко от фургонов. Теперь можно было надеяться, что животные не возобновят нападения, разве что собаки погонят их в обратную сторону.
Сами по себе белые носороги, то ли по забывчивости, то ли из-за плохого зрения, редко снова нападают на противника, от которого успели отойти.
Однако нашим охотникам пришлось еще поволноваться, правда, уже не за себя, а за лошадей.
Выше уже говорилось, что их не стреножили и пустили пастись вместе с буйволами; как только показались мучочо, буйволы сразу двинулись назад по отлогому скату долины и под предводительством опытного, сметливого вожака старой тропой ушли в горы. Лошади повели себя совсем иначе: сначала они заплясали у фургонов, но, как только мучочо ступили на луг, кинулись прочь, перепрыгнули через узкую речку и, прижавшись к скалам на противоположном берегу, замерли в страхе, следя за разыгравшимся сражением. Носороги и собаки, перемещаясь с места на место во время схватки, вскоре подошли совсем близко к скалам, где стояли лошади. Те снова заметались.
Носороги заметили лошадей и, очевидно, сочтя их противниками более достойными, чем собаки, немедленно кинулись на них. В течение нескольких минут маленькая долина буквально кипела. Лошади метались во все стороны, носороги наскакивали на них. По всей долине слышалось яростное пыхтение и испуганное фырканье.
К счастью, долина была невелика, что облегчало стрельбу. Стоило носорогам хоть на миг остановиться — тотчас гремел выстрел, сопровождаемый глухим звуком от вонзавшейся в тучное тело пули. Неверно думать, будто свинцовая пуля не может пробить шкуру носорога. При всей своей толщине шкура носорога сравнительно мягка. Ее может пробить не только пуля, но и дротик, нужна только сноровка. Настоящие охотники, Гендрик и Виллем метили меж лопаток — в сердце и легкие, — чтобы убить носорога наповал. Так же губительно и попадание в мозг, но это требует исключительной верности прицела: мозг носорога необычайно мал для такого огромного зверя. Поэтому лучше всего целиться меж лопаток.
Так и поступали Гендрик и Виллем; в конце концов и крупные пули громобоя, и маленькие, но лучше нацеленные пули карабина Гендрика сделали свое дело, и оба мучочо свалились замертво. Подстрелили и теленка — он даже не пытался убежать после того, как его родители рухнули наземь. Он стоял у тела матери и помахивал хвостиком, недоумевая, что, собственно, означает вся эта суматоха.
И тут в заключение разыгралась такая уморительная сценка, что наши охотники буквально корчились от смеха. Правда, в ту минуту, когда все это произошло, они испытывали скорее ужас, но зато что было потом!
А случилось вот что.
Подстреленный носорог не падает на бок, как большинство животных, а, подобно американскому бизону, медленно опускается на грудь, сохраняя это положение и после смерти.
Мучочо, подстреленные Гендриком и Виллемом, не составили исключения: они лежали вниз животом, массивными, широкими спинами кверху, неподалеку от лагеря.
Между тем среди бушменов распространен обычай: вскочив на спину только что подстреленного носорога, вонзить дротик в его тело, чтобы определить толщину жирового слоя — иначе говоря, ценность животного.
И вот, едва лишь убитый самец осел наземь, как Черныш, не сомневаясь, что опасность уже миновала, выпрыгнул из фургона, подбежал к животному и взобрался ему на спину. Испустив громкий, торжествующий крик, он всадил ассегаи в тушу мучочо на добрый фут, а то и глубже.
И вдруг носорог, в котором еще теплилась жизнь, поднялся на ноги и с Чернышем на спине зашагал по лугу!
Победный крик Черныша мгновенно замер, и вопли совсем другого рода огласили долину. А носорог, в котором жестокая боль от вонзенного в тело дротика, очевидно, пробудила остатки жизненных сил, кружил и кружил по долине, словно оправившись от ран.
Черныш, чтобы иметь точку опоры, изо всех сил ухватился за дротик, глубоко сидевший в теле носорога. Он не спрыгнул наземь из боязни, что носорог способен еще нанести ему страшный удар своим рогом.
Трудно сказать, как удалось бы спастись Чернышу, если бы силы не оставили мучочо. Могучее животное наконец сдало и рухнуло наземь, а Черныш кувырком полетел через его голову и растянулся на земле в нескольких ярдах от животного. Тут он живо вскочил и, не чуя под собой ног, помчался к фургонам, где его встретили взрывом смеха.
Буйволов вскоре разыскали и привели обратно. Мясо теленка было вкусно приготовлено, и охотники в этот вечер наслаждались ужином из носорожины.
Глава 48
ВЕРХОМ НА НОСОРОГЕ
Для следующего привала охотники выбрали живописную долину, похожую на ту, в которой они увидели кучку львов, но более обширную и покрытую ковром ярких цветов. Этот прелестный уголок обступили горы, как бы ограждая его от знойных суховеев пустыни. По самой его середине серебристой змеей извивалась речка; тут и там по затонам, где течение было не быстрым, покоились восковидные листья и цветы голубой южноафриканской лилии. Множество обычных для здешней страны деревьев и растений ласкало взгляд своими линиями и красками. На берегах реки охотники увидели поникшие ветви халдейской ивы, а у подножия горы — великолепную акацию с зонтиковидной макушкой и гроздьями золотых цветов, наполнявших воздух ароматом; они увидели восковник, кусты которого были покрыты гроздьями белых, словно восковых, плодов, и благоухающий бусовый куст, из чьих пахучих корней вырезают бусы, которые так нравятся местным красоткам; залюбовались они и медовым кустом, одним из самых красивых растений, усыпанным чашами белых и ярко-розовых цветов; росли здесь и огненно-красные пеларгонии, и ноготки, и звездообразные капские жасмины, — словом, роскошный сад раскинулся в девственной глуши, радуя взгляд и благоухая. Лилось пение многочисленных птиц, и яркие их крылья сверкали среди ветвей; кругом гудели мириады хлопотливых пчел, перелетавших с цветка на цветок.
Был еще не поздний час, когда наш отряд попал в этот прелестный уголок, но он так всем понравился, что было решено остановиться здесь на ночлег раньше обычного.
Облюбовав тенистую олеандровую рощу, раскинувшуюся у берега наподобие наших ив, они вошли в ее сень и разбили лагерь.
Утомленные трудным переходом — им пришлось помогать буйволам одолеть скалистые кручи, — юноши прилегли отдохнуть в прохладе; они вскоре задремали, убаюканные нежным щебетом птиц, жужжанием диких пчел и шумом воды, бурлившей где-то ниже на порогах.
Остались бодрствовать только Клаас и Ян: они не подталкивали своими плечами колеса фургонов и устали не больше обычного, да к тому же они все равно не сомкнули бы здесь глаз: на лугу, неподалеку от привала, видна была пара очень занимательных птиц, которые то и дело высовывали из травы свои черные хохолки и издавали крик, напоминавший карканье вороны.
Размером птицы были невелики — с обычную курицу, — но мальчики знали, что они славятся своим мясом, а это делало их заманчивой дичью, особенно сейчас. Во внешности этих красивых птиц было нечто напоминавшее величавых дроф, да они, собственно говоря, и принадлежали к виду, составляющему связующее звено между дрофами и тетеревами. В Южной Африке их называют «корханы», а в Индии «флориканы».
Но Яна и Клааса сейчас интересовало не это. Особенно Яна. Ему был известен своеобразный способ ловли этих птиц, и ему захотелось во что бы то ни стало показать его сопернику-птицелову. С того самого дня, как Клаас покрыл себя славой, подстрелив антилопу-серну, Ян только и ждал благоприятного случая совершить равный подвиг, но ему долго ничего не попадалось. Теперь эти птички — а они были давними знакомыми Яна — давали ему долгожданную возможность отличиться. Теперь-то он покажет Клаасу, как ловить этих птиц, покажет, будьте покойны, рассуждал Ян сам с собой.
Действительно, вскоре он торжествовал победу, и вот как она ему досталась.
Он начал с того, что выдернул из хвоста своего пони несколько длинных волос и сплел из них силок внушительных размеров. Затем взял у Черныша кнут
— вернее, рукоять кнута. Здесь следует напомнить, что Яна и Черныша связывала многолетняя крепкая дружба, и, разумеется, не кто иной, как Черныш, и научил Яна ловить корханов; следует напомнить и о том, что рукоять кнута у Черныша была не совсем обычной — это была бамбуковая палка восемнадцати футов в длину, более походившая на рыболовную удочку.
На место ремня, который Черныш снял по просьбе мальчика, Ян прикрепил свой силок и, сев на пони, поехал по направлению к долине.
На лице Клааса, наблюдавшего за всеми приготовлениями соперника, было написано полное недоумение, что не ускользнуло от Яна и доставило ему большое удовольствие.
Да, хотя Клаас и не проронил ни слова, но видно было: ему невдомек, что собирается делать Ян.
Подъедет ли Ян прямо к птицам и постарается накрыть их силком? Но они не подпустят его так близко: они, по-видимому, довольно пугливы. Клаас и сам уже пытался подойти к ним на выстрел, но из этого ничего не получилось. Нет, тут кроется что-то другое, корханы так легко в руки не даются.
А Ян помалкивал и ехал вперед. Только покидая привал, он мельком бросил на Клааса задорный взгляд.
Когда между Яном и птицами осталось около сотни ярдов и Клаас уже ждал, что вот-вот сторожкие птицы, как обычно, взлетят в воздух, Ян изменил направление и начал объезжать птиц по спирали, каждый поворот которой приближал его к дичи.
— Эге! — пробормотал Клаас. — Теперь-то мне ясно, куда он клонит.
Больше он ничего не добавил, но с удвоенным любопытством продолжал наблюдать за пони Яна. А тот все кружил и кружил, словно лошадь с завязанными глазами на мельнице с конным приводом.
Однако Ян делал все это очень осмысленно и зорким глазом птицелова следил за каждым движением корханов. Они тоже следили за ним, поворачивая головки то вправо, то влево; и глупые птицы словно забыли, что крылья и ноги могут их выручить.
Дело кончилось тем, что они подпустили к себе Яна так близко, что он смог достать одну из птиц концом своей палки и накрыть ее силком.
Мгновение — и птица затрепыхала крыльями на конце бамбуковой палки; Ян, не сходя с лошади, протащил птицу до лагеря и там показал ее сопернику с таким торжествующим видом, что Клаас почувствовал себя побежденным.
Глава 49
ТОЛСТЫЙ ВИЛЛЕМ И ПИТОН
Толстый Виллем первым очнулся от дремоты. Солнце заходило, до темноты оставалось часа два. Вдалеке на равнине маячила красноватая точка, — по всей вероятности, какое-нибудь животное. Наш охотник вскинул на плечо свой громобой и направился к этой точке. С ним шла его любимая собака — хорошо натасканная гончая, сопровождавшая его даже тогда, когда ему приходилось подползать к дичи.
Замеченное Виллемом красноватое пятнышко находилось у подножия горной гряды, замыкавшей долину. Неподалеку оттуда виднелись купы деревьев, и охотник прикинул на глаз, сподручно ли будет стрелять из этого укрытия по животному, кем бы оно ни оказалось. Подойдя достаточно близко, Виллем смог наконец толком разглядеть, что это такое.
Это было небольшое животное, размером с антилопу-скакуна, но совсем другого цвета: шерсть на спине была темно-красная, а на животе белая; мордочка животного до самого темени была черная. Это маленькое создание было выше в крупе, чем в загривке, и почти бесхвостое. Хвостик длиной в дюйм напоминал какой-то обрубок.
Виллем понял, что перед ним оленек. С этими животными он был уже знаком — они встречались и в Капской колонии. Там они обитают на возвышенностях, поросших кустарником. Приблизиться к оленьку, стоявшему невдалеке от олеандровой поросли, оказалось совсем не трудно. Он был не из пугливых.
Этот маленький самец находился в одиночестве; чаще всего оленьков встречают поодиночке, реже парой.
Очутившись на расстоянии выстрела, Виллем поднял было ружье, да так и замер, заинтригованный странным поведением маленького животного: оно не щипало травы и беспокойно топталось все на одном и том же месте у самого края олеандровой кущи.
Оленек непонятно почему то отбегал направо, то налево, то подвигался зигзагами, пятился и опять устремлялся вперед, не отводя ярко сверкавших глаз от одной точки; заметно было, что животное находится в состоянии крайнего возбуждения.
Виллем с любопытством огляделся вокруг. Чем могло объясняться такое странное поведение животного? Казалось, что-то, скрывавшееся среди олеандров, привлекло его внимание. Проследив за направлением взгляда оленька, охотник и сам увидел какой-то предмет, но в течение нескольких минут не мог понять, что это такое. У самых корней олеандра лежал глянцевитый, мясистый, бесформенный и совершенно неподвижный клубок. Только постепенно разглядел в нем Виллем плотные, мягкие и волнистые очертания тела, покоившегося как неживое. Это была змея!
Да, это была змея, гигантская змея, свернувшаяся спиралью и занимавшая пространство в несколько квадратных футов; в обхват тело этой змеи было толще бедра взрослого человека; голова ее покоилась на верху свившегося клубка. Скользя взглядом вдоль ее глянцевитого, пятнистого тела, Виллем заметил, что хвост змеи двумя тугими кольцами обвился вокруг ствола олеандрового дерева. Змея принадлежала к семейству удавов; это был один из видов питона — питон южноафриканский.
Этих змей Виллем знал под их ходячим прозвищем «каменные змеи». Так называют питонов потому, что водятся они преимущественно среди скал и каменистых россыпей. Их следовало бы называть «каменные питоны», определяя их место в ряду американских родичей — анаконды и «водяного удава», и настоящего удава — обитателя лесов. Последнему подошло бы название «древесный удав».
Хотя удавы и питоны облюбовали для себя разные жилища, повадки их очень схожи: подстерегая добычу, и те и другие терпеливо лежат в каком-нибудь укромном месте, дожидаясь случая схватить ее своими цепкими зубами, задушить в кольцах и проглотить. Случается, что жертва бывает крупнее самой змеи, но проглотить ее змее помогают эластичные мышцы пасти и обильная вязкая слюна ее желез.
Когда Виллем только заметил гигантского питона, голова змеи неподвижно покоилась на свернутых кольцах. Но вот гадина приподняла голову и вся вытянулась на несколько футов кверху; голова ее и верхняя часть тела стали плавно, пружинисто раскачиваться в воздухе. В широко разинутой пасти были отчетливо видны острые, подвижные зубы. Раздвоенный язычок временами высовывался изо рта и влажно блестел на солнце. Глаза гадины горели ярким огнем. Это было жуткое зрелище! Но оленек совсем не казался испуганным; напротив, он подходил все ближе и ближе — то ли из любопытства, то ли зачарованный взглядом змеи. Многие смеются над утверждением, будто змеи способны зачаровывать. Верим мы этому или нет, отрицать факт не приходится. Что бы там ни было — любопытство ли, страх ли, или зачарованность, — но что-то бесспорно заставляет птиц и животных подходить чуть ли не вплотную к разинутой и готовой их поглотить пасти змеи или крокодила. Это совершенно бесспорно и подкреплено словами многих заслуживающих доверия наблюдателей.
Виллему довелось стать свидетелем этого необычайного явления. Когда между приближавшимся оленьком и питоном осталось каких-нибудь шесть — восемь футов, змея с молниеносной быстротой выбросила вперед голову, и не успел оленек, который вдруг словно опомнился, отскочить, как гадина схватила его в пасть и потащила к дереву.
Судорожно и быстро обвились ее кольца вокруг жертвы, и, когда Виллем снова взглянул туда, красноватое тельце оленька почти совсем исчезло под плотными кольцами пятнистого питона, душившего его насмерть в своем страшном объятии.
Глава 50
ВЕЛИКАЯ БИТВА ВИЛЛЕМА СО ЗМЕЕЙ
Как ни странно, теперь Виллем глядел на гигантскую змею почти с удовольствием, пожалуй даже с большим, чем на самую красивую антилопу. Объяснялось это тем, что один из его друзей, молодой врач в Грааф-Рейнете, увлекавшийся герпетологией[229], просил его добыть и привезти из экспедиции шкурки всяких редкостных змей, в особенности же интересовала его гигантская каменная змея, совсем не встречающаяся в колонии, даже на самом ее юге — у Оранжевой реки.
И вот теперь Виллему представился долгожданный случай добыть шкуру.
Убить двадцатифутовую змею толщиной в половину человеческого туловища — это не пустяк. Тут-то он превзойдет Гендрика!
Оленек вмиг был забыт, и змея завладела всеми помыслами охотника. Однако в охоте на змей Виллему не хватало сноровки. Не зная, как подступить к непривычному противнику, Виллем решил попросту всадить в него пулю. Он поднял громобой, нацелился в самую толстую часть змеиного тела и выстрелил.
Пуля попала в цель. Змея тотчас развила кольца и, бросив свою бездыханную жертву — теперь всего лишь мешок с изломанными костями, — быстро поползла прочь: пуля, как видно, не причинила ей особого вреда.
Охотник собрался было перезарядить ружье, но заметил, что питон скользит по направлению к каменной россыпи, нагроможденной у подножия горы; там, разумеется, находилось его убежище. Если только питон доползет туда, он для Виллема пропал. Терять время не приходилось, и Виллем, так и не перезарядив ружья, пустился вслед за уползающей змеей.
Как ни быстро скользят змеи, соперничать с человеком они не могут. Через несколько секунд Виллем догнал питона.
Теперь добыча была под рукой, но как взять ее? Прикладом ружья охотник стал наносить питону удар за ударом; но, хотя он и колотил что было силы, окованный металлом приклад скользил по гладкой коже питона, не причиняя тому ни боли, ни вреда и не замедляя его движения.
Питон не пытался отплатить противнику той же монетой; он, по-видимому, хотел только одного — поскорее добраться до своего жилища.
В этом он почти преуспел: невзирая на удары, один за другим сыпавшиеся на его тело, он достиг камней и наполовину залез в трещину, служившую, очевидно, входом в его убежище, раньше, чем охотник сообразил, как этому помешать.
Это был критический момент: еще секунда — и длинное тело все целиком уползет внутрь. Тогда прощай добыча! Что скажет он своему другу врачу, и Гендрику, и всем остальным спутникам?
Эти мысли ободрили Виллема. Им овладела твердая решимость добиться своего. Питон — не ядовитая змея, следовательно, столкновение с ним не так уж опасно; он, может статься, искусает его, но молодому охотнику приходилось иметь дело с кусающимися животными и выходить победителем. Теперь он попробует свои силы на змее.
Такие размышления вихрем пронеслись в его голове. Затем он отложил ружье, нагнулся, схватил змею за хвост обеими руками и принялся тянуть ее к себе.
Энергичным рывком Виллему удалось извлечь питона на несколько футов обратно из трещины, но затем, к его изумлению, змея стала сопротивляться, и, как ни был силен охотник, он ничего не мог с ней поделать. Питону, должно быть, удалось обвиться вокруг какого-нибудь выступа и благодаря своей чешуе крепко держаться за него.
Виллем напрягал все свои мускулы.
Матрос в штормовую погоду не мог бы тянуть с большей натугой главный брас. Но все было безуспешно — вытащить дальше змею ему не удавалось ни на фут, и другая ее половина так и оставалась скрытой в темном тайнике скалы.
А всякий раз, как Виллем хоть немного ослаблял хватку, питону удавалось залезть еще глубже в трещину, и отвоеванное он уже не отдавал назад. Если Виллем уступал дюйм, ему приходилось затем бороться за целых сорок пять. Все преимущества были на стороне питона — он двигался по чешуе, а Виллем тянул против чешуи.
Виллем был уверен, что питону не вырваться у него из рук. Но какой в этом прок? С питоном от этого ничего не станется, а разожми он руки хоть на миг, и тотчас на его глазах кончик хвоста скроется в трещине. Нет, разжимать руки было нельзя, и охотник решил, за неимением лучшей возможности, хотя бы испытать терпение противника. Может быть, питон не выдержит в конце концов такого «растягивания» и сдастся?
Если бы в эту минуту возле него находился кто-нибудь из друзей и обрушил на питона несколько сильных ударов, все было бы в порядке; но лагерь находился отсюда довольно далеко и к тому же был скрыт за деревьями. Товарищи не могли ни видеть, ни слышать Виллема.
Довольно долго простоял охотник в таком положении, ни на что не решаясь, но затем его осенила блестящая мысль.
Почти за самой его спиной росло небольшое дерево. Виллем сообразил, что, прикрепи он хвост питона к стволу, он освободит себе руки и, сломав молодое деревце, сможет колотить им змею в свое полное удовольствие.
Виллем был находчив, и у него мгновенно созрел план действий. Ему посчастливилось обнаружить крепкую веревку во вместительном кармане своей куртки. Только бы удалось обвязать ею хвост змеи! На это он не пожалел сил: оседлав змею и зажав ее меж колен, он сделал петлю, накинул ее змее на хвост, а другой конец веревки быстро привязал к стволу. Половина дела была сделана!
Юноша сломал молодое деревце, с помощью которого ему не составило бы труда сделать из питона отбивную котлету, если тот не предпочтет высунуть голову.
Он не нанес еще третьего удара, когда змея предпочла последнее. Неожиданно для Виллема длинный жгут заскользил в обратную сторону, и не успел юноша опомниться, как его уже обвили кольца взбешенного пресмыкающегося. Нападение было столь стремительным, что Виллем почти не отдавал себе отчета, как все это произошло: голова змеи с разинутой пастью мотнулась к его лицу; он шарахнулся в сторону, но тут же ощутил на ногах прикосновение холодного чешуйчатого тела, толкнувшего его к дереву; в следующую секунду он оказался вплотную притянутым к стволу. Едва лишь юноша успел заметить, что кольца питона обвились вокруг его тела и вокруг ствола, едва лишь сообразил, что они сжимаются все туже и туже, как голова змеи с оскаленной пастью, из которой торчали страшные зубы, поднялась к его лицу, и глаза чудовища сверкнули ему в самые глаза.
Зрелище было страшное, и положение Виллема было почти безнадежным. Однако он был юношей не робкого десятка. Он не струсил, не потерял голову, да и руки его оставались свободными, и он схватил гада за горло. Все, что он мог сделать, — это сжимать шею питона со всей силой отчаяния; хорошо еще, что хвост змеи был привязан к дереву, и, таким образом, она оказалась схваченной с обоих концов. Будь голова или хвост у нее свободны, она могла бы сворачивать свои кольца, и спустя несколько секунд от Виллема осталась бы расплющенная лепешка, как от несчастного оленька. Но теперь, когда ее шею крепко стискивали руки охотника, а хвост был привязан, она не могла сжать тело юноши с достаточной силой. Она крутила головой, извивалась всем телом, передвигала кольца, но все напрасно: прикончить свою жертву ей не удавалось.
Исход страшной схватки зависел от выносливости противников. Ноги Виллема были прижаты к дереву жгутом змеи, руками он тоже не мог действовать — отпустить голову питона хоть на мгновение было бы подобно смерти. Но и питону освободиться было не легче. Кто же выйдет победителем?
Очевидно, питон; правда, высвободиться ему не удастся, но ведь и Виллему, как бы ни стискивал он горло питона, не задушить его, да к тому же и руки его скоро ослабеют. Он поплатился бы жизнью, если бы не решился на отчаянное средство.
За все это время он еще ни разу не пустил в ход свой нож. В разгаре рукопашной схватки он просто забыл о нем, а потом ему показалось, что с таким страшным противником от ножа мало будет пользы, но, к счастью для него, нож находился за поясом; хотя змеиные кольца в два — три обхвата обвивали его грудь. Виллем видел ножны и рукоятку; быстрым движением он выхватил нож.
В то же мгновение змее удалось выдернуть голову; но еще не успела она сжать кольца, как юноша предупредил ее и лезвием ножа, по счастью острым как бритва, перерезал ее тело чуть не надвое. Он наносил питону рану за раной и наконец с невыразимым облегчением увидел, как спиральные кольца, грозившие задушить его, разжались и грузно упали к его ногам.
Еще несколько секунд — и питон был мертв; поле битвы осталось за отважным охотником, но торжество победителя омрачалось сожалением об испорченной шкуре каменного питона.
Глава 51
МЕДОУКАЗЧИК И МЕДОЕД
Столкновение Виллема со змеей было признано молодыми охотниками самым замечательным приключением, случившимся за все время экспедиции, — более замечательным даже, чем встреча Гендрика с носорогом, и воспоминания о нем долго еще давали пищу их лагерным беседам.
Всем участникам экспедиции посчастливилось совершить какой-нибудь выдающийся охотничий подвиг или хотя бы пережить необычайное приключение, — всем, кроме Аренда. Нельзя сказать, чтобы Аренд уступал другим в отваге или ловкости; однако особого желания искать охотничьих приключений у него не было, да и случая не подвертывалось. Правда, в одно приключение он все-таки угодил — именно «угодил»: вместе с лошадью он попал в капкан, установленный туземцами для ловли слонов; к счастью, острый клин, находящийся обычно на верху таких капканов, был снят, иначе Аренд и лошадь не отделались бы так легко. Все охотники немало посмеялись над этим единственным приключением Аренда. Я говорю «все», потому что и сам добродушный Аренд смеялся не меньше других. Но приключения в девственной глуши были не по его части; вот в большом городе — там у Аренда с его тонким лицом и стройной фигурой не было бы недостатка в романтических приключениях, стоило бы ему только пожелать. Но и к подобного рода приключениям Аренд не питал склонности; им всецело владела одна мысль — поскорее вернуться в Грааф-Рейнет. Так, по крайней мере, обстояло дело по словам Виллема, который, красноречиво подмигивая, присовокуплял при этом что-то относительно «румяных щечек и голубых глазок».
И все же Аренду суждено было до возвращения домой пережить вместе со своими товарищами еще одно приключение, не только последнее в этой экспедиции, но едва не ставшее последним в их жизни.
Из цветущей долины охотники перенесли лагерь в другую долину, тоже похожую на цветник, но совсем иного рода: и здесь цвели ноготки и пеларгонии, но преобладали разные виды молочая вперемежку с кактусами и другими мясистыми растениями.
Над их головой высилось дерево молочай, а у ног пробивались из земли разновидности молочая, напоминавшие дыню. Было здесь и множество ядовитых растений. Ядовитый молочай рос бок о бок со смертоносным цветком белладонны. Охотники, как видно, попали в уголок земли, где царили растения, источающие яд.
И все же картина, представившаяся их глазам, была прелестна: цветы, свежие и яркие, как и всякие другие цветы, разливали благоухание в воздухе; среди ветвей резвились птицы; пчелы жужжали и гудели над цветами, оживляя дикий уголок и навевая усталым путникам приятные воспоминания о родных местах.
Разбив лагерь, охотники расположились отдохнуть, как вдруг вниманием их завладела птичка, усевшаяся на ближний куст. Она заинтересовала их отнюдь не своей внешностью: скромно окрашенная — коричневато-пепельная на спинке и сероватая внизу, — величиной с зяблика, она щебетала какое-то бесхитростное «кви-кви-кви». Словом, наружностью птичка не привлекала к себе внимания. Но юноши знали об одной ее любопытной особенности: маленький летун, перепархивавший с веточки на веточку, вскидывавший хвостик и выводивший свое «кви-кви-кви», был знаменитый медоуказчик.
Во время экспедиции эта птичка не раз уже попадалась им на глаза, и Ганс сообщил им много интересного о ее привычках. Перепархивая с куста на куст и с камня на камень, она ведет человека к гнезду диких пчел; здесь она терпеливо дожидается, пока человек не похитит медовые сокровища, и только тогда, опустившись у разграбленного жилья, лакомится личинками и остатками медовых сот. Юноши знали все это и по личным наблюдениям. Однажды они последовали за медоуказчиком и удостоверились, что птица и в самом деле одарена этим удивительным инстинктом, в котором сомневались многие путешественники и натуралисты.
Ганс уже давно сообщил своим друзьям кое-какие сведения об этой птичке. Он рассказал, что медоуказчик, подобно кукушкам, подкидывает яйца в чужие гнезда, что известно несколько видов этих птиц. Основной их корм — мед и личинки пчел. Природа снабдила медоуказчиков очень плотной кожей, защищающей их от пчелиного жала. Правда, Черныш говорил, что плотная кожа не всегда спасает их: ему нередко случалось находить медоуказчиков мертвыми у пчелиных гнезд — они, как видно, были убиты жалом насекомых.
Да, все это было известно нашим охотникам, и маленький щебетун, усевшийся на соседний куст, не был для них незнакомцем.
Он появился очень кстати. Молодым охотникам хотелось раздобыть немного меду, потому что сахар у них весь вышел и нечем было подсластить кофе, а многим из них это представлялось настоящим лишением.
Все они, конечно, сразу вскочили на ноги, решив последовать за медоуказчиком, куда бы тому ни заблагорассудилось их повести. Они взяли с собой ружья и, что может показаться совсем уж странным, оседлали лошадей, чтобы следовать за медоуказчиком верхом.
Вас это, разумеется, удивляет, но, узнав, что медоуказчик нередко заманивает охотника миль на шесть — семь в глубь лесной чащи и приводит его иной раз к львиному логову или к жилищу носорога, а не к пчелиному гнезду, вы согласитесь, что подобные предосторожности были не лишними.
В ту минуту, когда они уже трогались в путь, очень своеобразный зверек внезапно «выплыл на горизонте». Зверек этот смахивал на барсука. У него были короткие лапы, задние его ноги ступали по земле всей подошвой, морда и хвост у него были совсем барсучьи, и мех его также напоминал мех обыкновенного барсука: на спинке пепельно-серый, на брюшке черный, а вдоль боков — от ушей до хвоста — светлая полоска. Однако он был крупнее барсука, почти достигая размеров американской росомахи, или вольверена, на которую тоже отчасти походил. В нем можно было обнаружить все особенности семейства барсуков, не богатого родами и видами, но имеющего по одному — два представителя в любом уголке земного шара. Зверек, появившийся перед охотниками, принадлежал к южноафриканскому виду этого семейства. Это был ратель, или медоед.
И этот зверек с весьма своеобразными повадками был тоже хорошо знаком нашим путешественникам: они знали, что он, подобно медоуказчику, охотник до сладкого и что это пристрастие заставляет его постоянно рыскать в поисках пчелиных гнезд и разорять их, если гнезда расположены в норках, откуда он выкапывает их своими приспособленными для рытья, как у таксы, когтями; если же гнездо расположено на дереве, то рателю не удается достать его: на деревья он не лазает. Однако следы его когтей на коре у подножия дерева указывают охотникам-готтентотам, что в дупле — медовые соты. В дополнение к тому, что юноши успели узнать от Черныша и Конго, Ганс рассказал, что ратель водится по всей Африке и что натуралисты выделяют его, как и многие другие диковинные создания Африканского континента, в самостоятельный род. Кожа рателя, рассказал Ганс, настолько плотна, что пчелиное жало не прокалывает ее, и он, не страшась жужжащего кругом него роя насекомых, лакомится их сотами. Из-за неприятного запаха его прозвали «барсук-вонючка».
Ратель является постоянным спутником медоуказчика, который ведет его к сотам, подобно тому как он ведет человека. Утверждают, что в таких случаях медоуказчик, заботясь о том, чтобы барсук не потерял его из виду, летит совсем низко над землей и делает более короткие перелеты.
Было ясно, что ратель в данный момент как раз и следовал за медоуказчиком. Однако, набредя на отряд охотников, он сразу юркнул в чащу и пустился наутек. А ревностный проводник между тем снова двинулся в путь, на этот раз в сопровождении длинного «хвоста».
Птичка перепархивала с дерева на дерево, щебеча свое «кви-кви-кви», и, как видно, очень довольная своей новой «свитой»; охотники неотступно следовали за проводником. Ехали они совсем недолго: вскоре птица защебетала чаще, беспокойно закружила на месте, как бы указывая, что гнездо поблизости, затем уселась на ветку дерева и уже не двигалась с места; следовательно, соты находились здесь, в дупле.
Об этом можно было сразу догадаться: кора у корней дерева была вся кругом исцарапана и изодрана когтями рателя — как видно, многие из этих падких до меда зверьков были приведены в этот уголок, чтобы вкусить здесь одно лишь горькое разочарование.
Из лагеря были немедленно вызваны Черныш и Конго, явившиеся с двумя топорами, дерево повалено, пчелы выкурены, а медовые соты, кроме двух — трех кусков, оставленных проводнику в награду за труды, отнесены в лагерь.
Пчелиная кладовая оказалась богатой. Шестеро охотников вместе со своими темнокожими проводниками устроили в этот вечер настоящее «медовое пиршество».
Глава 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пир этот кончился печально. Лучше бы им никогда не находить этих сот или же оставить их на съедение птице и барсуку!
Не прошло и часа после роскошного ужина, как в отряде уже царила тревога. У всех у них пересохло в горле, жгло в груди, всех тошнило: пчелы собирали нектар с цветов ядовитого молочая и белладонны, и мед их был отравой!
Трудно описать ужас, охвативший отряд: ведь все до отвала наелись отравленного меда; его, на беду, было вволю. Они набросились на лакомство с тем большей жадностью, что вот уже несколько дней не видели растительной пищи. И теперь все до одного заболели, да еще так серьезно, что не могли помочь друг другу.
Каждый в уверенности, что он отравился насмерть, предавался отчаянию. Один только Ганс сохранил присутствие духа. Он призвал на помощь все свои знания, вспоминая всевозможные противоядия. И, конечно, юноши были обязаны спасением своей жизни тем слабительным и рвотным порошкам, которые оказались под рукой и были щедро розданы Гансом.
Да, жизнь их была спасена, отравление ни для одного из них не кончилось смертью, но болезнь долго не оставляла их, и еще много дней юноши, изменившиеся до неузнаваемости, уныло бродили, как тени, по окрестностям лагеря или в молчании понуро сидели вокруг походного костра.
Встряска была так сильна, что о продолжении экспедиции нечего было и думать. Они только ждали дня, когда окрепнут настолько, чтобы пуститься в обратный путь. Итак, скоро уже осуществится тайное желание Аренда — скоро он опять увидит прелестную Трейи, услышит ее мелодичный голос; Гендрик при всей своей любви к охоте не меньше его стремился вернуться домой и сложить охотничьи трофеи к ногам зардевшейся Вильгельмины; Клаас и Ян тосковали по домашним пудингам и сладостям; да и Ганс, уже собравший богатую коллекцию образчиков местной флоры, стремился к родному очагу.
И только один неутомимый бродяга и великий храбрец Виллем рвался продолжать путь и перевалить через горный хребет, отделявший их от страны слонов, буйволов и жирафов. Да, Виллем во что бы то ни стало двинулся бы дальше, будь его спутникам под силу сопровождать его; но это было им не по силам, и знаменитому охотнику скрепя сердце пришлось уступить, хотя он столько лет лелеял заветную мечту испробовать свой громобой на могучих толстокожих, бродивших далеко от границ их колонии. Правда, его огорчение несколько смягчала надежда предпринять в недалеком будущем новую экспедицию, к берегам живописной реки Лимпопо и к обиталищам гигантских слонов. Эта надежда утешала его в ту минуту, когда он, сев на доброго коня, вслед за фургонами тронулся в обратный путь.
По дороге домой к юношам понемногу возвращались силы; когда же они достигли рубежей Грааф-Рейнета, исчезли все следы заболевания, и они вернулись домой здравыми и невредимыми.
Что рассказывать вам о сердечной встрече, ожидавшей молодых охотников под родимым кровом ван Вейка и ван Блоома! А как очаровательна была Трейи, и как нежно зарделась Вильгельмина! И что говорить о роскошном пире, на который собралось столько званых гостей, именитых соседей-буров, чтобы отпраздновать возвращение молодых охотников!
Охотники за жирафами (роман)
В третьей части трилогии герои уже подросли. Ганс ван Блоом стал учёным, Гендрик и Аренд — офицерами. Но их ждёт еще множество приключений на просторах Южной Африки.
Глава 1
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Мой юный читатель, пойдем снова странствовать по населенной самыми удивительными творениями земле, о которой мы знаем так много и так мало, по земле, растительный и животный мир которой так богат. Вернемся в Африку и вместе со старыми нашими друзьями юными охотниками двинемся навстречу новым приключениям.
На берегу Лимпопо весело пылает охотничий костер, а вокруг него вы увидите три живых кольца. Самое большое, внешнее, — это лошади, второе — собаки, а самое маленькое, внутреннее, — люди. Это твои старые знакомые, читатель.
Стоит мне назвать их имена — Ганс и Гендрик ван Блоом, Виллем и Аренд ван Вейк, — и ты сразу поймешь, что молодые охотники снова вышли на промысел. Но на этот раз у каждого участника экспедиции свои надежды и свои желания.
Спокойный и серьезный Ганс ван Блоом, как и многие молодые уроженцы колоний, мечтает побывать в краю своих предков. Ему хочется поехать в Европу и найти применение своему гербарию и знаниям, которые он приобрел, путешествуя сперва с отцом, а потом с друзьями.
Но прежде чем отправиться в Европу, он решил посетить ту часть Южной Африки, где никогда не бывал, чтобы пополнить свои познания в естественной истории.
На обширных пространствах его родины, между огромными реками Лимпопо и Замбези, раскинулись необъятные леса, и каких только растений там нет! В этих-то краях и задумал Ганс продолжить свои ботанические изыскания. О новом путешествии в дебри Африки уже полгода мечтает и Виллем. С тех самых пор, как он вернулся из последней экспедиции, ему не терпелось отправиться в новые края, где водится дичь, за которой ему еще не приходилось охотиться.
Читатель напрасно станет искать у костра маленьких Яна и Клааса. Родители не пустили их в это далекое путешествие — слишком много трудностей и опасностей сулило оно. Кроме того, родителям не хотелось бы видеть мальчиков, когда они вырастут, простыми охотниками, а чтобы этого не случилось, Яну и Клаасу надо еще несколько лет проучиться в школе.
Зато здесь молодые корнеты Гендрик ван Блоом и Аренд ван Вейк. Они изо всех сил стараются походить на бывалых воинов и оба — страстные охотники, но на сей раз они не стремились отправиться в путешествие, и на это у каждого были особые причины.
Они рады были бы остаться дома и довольствоваться жалкой дичью, которая водится в окрестностях Грааф-Рейнета, и все же «липовыми охотниками» их не назовешь — их не страшат опасности. Просто дома теперь есть магнит, который оказался сильнее их страсти к приключениям.
Волнения охоты, которые прежде доставляли Гендрику ван Блоому столько удовольствия, влекут его теперь куда меньше, чем улыбка Вильгельмины ван Вейк, единственной сестры его друзей Виллема и Аренда.
Да и Аренд, будь он предоставлен сам себе, ни за что не уехал бы из дому и не отказался бы от возможности каждый день видеть маленькую Трейи ван Блоом. Но Виллем и Ганс твердо решили пуститься на север, в края, где они еще никогда не бывали; они-то и уговорили друзей отправиться в эту экспедицию.
Новое путешествие сулило удивительные приключения, охоту, да к тому же Гендрик и Аренд боялись показаться смешными, оставшись дома, и в конце концов они согласились сопровождать знаменитого охотника и знаменитого натуралиста к берегам Лимпопо.
У костра сидят еще двое — это старые знакомые тех, кто читал «Юных охотников». Один, невысокий, крепко сбитый, большеголовый бушмен, — это Черныш; его не уговоришь остаться дома, когда молодые хозяева, Ганс и Гендрик, отправляются на поиски приключений.
Другой, кого мы не успели еще упомянуть, — это кафр Конго.
Путь от Грааф-Рейнета до берегов Лимпопо оказался бы слишком долог, если б они решили добираться туда в повозках, запряженных быками, а им не терпелось поскорей попасть в места, которые Виллем когда-то назвал землей обетованной.
И вот верхом на добрых лошадях они кратчайшим путем двинулись к берегам Лимпопо. Приключений в пути они не искали, — скорее избегали их. Помимо верховых лошадей, у них было еще шесть вьючных, нагруженных не слишком тяжело одеждой, патронами и всем, что могло понадобиться охотникам.
Мы встретились с ними уже на берегу Лимпопо, после того как они переправились через реку. Наконец-то они достигли мест, о которых давно наслышались как о сущем рае для охотников! Утомительный путь позади, а впереди охота, ради которой они преодолели сотни миль.
Мы уже говорили, что, когда юноши отправлялись в путешествие, у каждого были свои побуждения. Но была у них и общая цель. Голландское правительство поручило своему консулу добыть пару молодых жирафов и отправить их в Европу. За двух детенышей, благополучно доставленных в Кейптаун или в Капскую колонию, было обещано пятьсот фунтов. Некоторые охотники уже попытали счастья в этом деле, но им не повезло. Они застрелили и разными другими способами убили десятки жирафов, но ни одного детеныша поймать живым не удалось.
Наши молодые охотники отправились в путь с твердым намерением поймать двух жирафов и деньгами, вырученными за них и за клыки гиппопотама, покрыть все расходы экспедиции. Они знали, что на слоновых клыках люди богатеют, а с зубами гиппопотама не сравнится и слоновая кость: за них можно взять вчетверо дороже, чем эа любую другую кость, отправляемую в Европу.
Впрочем, у всех у них желание прославиться было сильнее корысти, особенно у Виллема — он жаждал показать свое искусство охотника там, где многие потерпели поражение. Слава человека, поймавшего двух молодых жирафов, привлекала его куда больше, чем награда за поимку. Конечно, от пятисот фунтов он тоже не отказался бы — для него, как и для остальных, обещанные деньги были лишним доводом в пользу этого путешествия.
Глава 2
НА БЕРЕГАХ ЛИМПОПО
В первую же ночь, проведенную у Лимпопо, путешественники убедились, что поблизости водится разная дичь, на которую они давно мечтали поохотиться. В нестройном хоре звуков, что тревожили их сон, они различали рыкание льва, трубные клики слона и голос какого-то неведомого им зверя.
В тот день у них ушло несколько часов на поиски переправы — нужно было найти место, где оба берега пологи и река не слишком глубока. Пока охотники искали брода, солнце уже начало садиться, и, когда они наконец переправились через реку, сумерки успели смениться густой тьмой, так что никому, кроме Конго, не хотелось продолжать путь. Кафр советовал пройти еще хотя бы полмили вверх или вниз по реке, и Виллем поддержал его, хотя у него не было для этого никаких оснований, кроме слепой веры то ли в ум, то ли в инстинкт своего слуги.
В конце концов все согласились с Конго, и теперь звуки, тревожившие путешественников, слышались поодаль: они доносились с переправы.
— Ну, теперь вы понимаете, почему Конго советовал уйти оттуда? — спросил Виллем, когда они прислушивались к диким воплям, которые не давали им уснуть.
— Нет, — ответили его спутники.
— Да потому, что мы переправились у самого водопоя. Туда сходятся звери со всей округи.
— Верно, баас Виллем, — подтвердил Конго.
— Но ведь не для того мы проехали тысячу миль, чтобы прятаться от зверей! сказал Гендрик.
— Нет, конечно, — ответил Виллем. — Но мы пришли сюда, чтобы стрелять их, а не для того, чтобы попасть им в лапы. Как по-вашему, надо нам отдохнуть или нет? А уж лошадям непременно нужен отдых.
На этом ночной разговор и кончился.
Охотники постепенно привыкли к голосам диких зверей, перестали обращать на них внимание и один за другим уснули.
Когда рассвело, стало видно, как необыкновенно хорошо вокруг.
Широкая долина вся заросла великолепными деревьями. Тут были и гигантские баобабы, и небольшие купы диких финиковых пальм. А цветочный ковер, покрывавший долину и сверкавший самыми яркими красками, доставил Гансу особое удовольствие.
Тут ему было что изучать, и чудесная мечта проснулась в его душе: он найдет новые, еще никому не известные растения, и эти открытия прославят его имя в ученом мире Европы.
Все еще спали, когда Виллем поднялся и в сопровождении Конго тихо выбрался из лагеря — он хотел оглядеть окрестности.
Они направились вниз по реке. Когда они дошли до вчерашней переправы, глазам их представилась тягостная картина — она не могла прийтись по вкусу даже охотнику, человеку, которому доставляет удовольствие убивать животных.
На протяжении каких-нибудь ста метров валялись пять огромных мертвых антилоп. Их останки пожирали гиены. При виде охотников гиены захохотали, как безумец, который только что совершил какое-то ужасное злодеяние, и нехотя отошли в сторону.
Судя по следам у реки, ночью здесь побывали и слоны и львы. Пока Виллем осматривал берег, к нему присоединился Ганс. Он уже весь отдался своему любимому занятию: исследовал богатую растительность вблизи лагеря.
Подойдя к Виллему, он сразу обратил внимание на антилоп. По его словам, это олени, но особой, нигде не описанной разновидности. Вся шкура у них в узких белых поперечных полосах, и это придает им сходство с винторогой антилопой куду.
Взглянув на следы, Конго объяснил, что первыми к водопою пришли антилопы; вслед за ними в поисках воды сюда забрели четыре слона и тут же напали на антилоп. В побоище приняли участие и три или четыре льва, но единственными жертвами оказались злополучные антилопы.
— По-моему, нам стоит обнести лагерь хорошей оградой и задержаться здесь на несколько дней, — предложил Виллем, когда они вернулись к остальным. Здесь сколько угодно корма для лошадей, и мы уже убедились, что у водопоя много всякой дичи.
— Согласен, — поддержал. его Гендрик. — Но мне бы не хотелось раскидывать лагерь так близко к броду. Лучше отойти подальше. Тогда мы не отпугнем дичь от водопоя, да и спать будем спокойнее. Как по-вашему, может, нам лучше пройти еще немного вверх по течению?
— Конечно, конечно, — отозвались остальные.
Решили найти более подходящее место для лагеря и построить настоящий крааль. Позавтракав — это был их первый завтрак на берегах Лимпопо, Виллем, Ганс и Гендрик оседлали своих лошадей и в сопровождении всех собак направились вверх по реке; Аренд, Черныш и Конго остались охранять лагерь.
Всадники проехали вдоль берега уже около трех миль, но нигде не было доступа к воде. Берега тянулись высокие, крутые. Но вот ландшафт стал меняться, он уже больше походил на то, чего они искали. Тонкоствольная роща — здесь можно было срубить деревья для частокола — раскинулась близ реки, и, хоть берега уже не были неприступны, звери, как видно, редко наведывались сюда.
— По-моему, лучшего и желать нельзя, — сказал Виллем. — До водопоя верхом на лошади всего полчаса, да и выше по течению может найтись хорошее место для охоты.
— Очень возможно, — сказал Гендрик. — Но ведь построить большой крааль не так-то просто, поэтому давайте сперва проверим, что за дичь тут водится.
— Правильно, — согласился Виллем. — Надо точно узнать, есть ли тут гиппопотамы и жирафы. Без жирафов нам никак нельзя возвращаться. Мы огорчим друзей, а кое-кто из наших общих знакомых, я уверен, непременно поднимет нас на смех.
— И поделом тебе, — сказал Ганс, — вспомни, как ты насмехался над охотниками, которые возвращались ни с чем.
Присмотрев место для крааля, молодые охотники отправились вверх по течению, чтобы, прежде чем строить ограду, получше разведать эти охотничьи угодья.
Глава 3
ДВОЙНАЯ ЛОВУШКА
Вскоре после того, как Виллем и его спутники уехали, Аренд поглядел в сторону зарослей, раскинувшихся в полумиле от реки, и заметил небольшое стадо антилоп, которые мирно паслись на лугу. Он решил подстрелить одну или двух к обеду и вскочил на коня.
Он приближался к стаду с подветренной стороны и, подъехав ближе, увидел, что это антилопы дукеры, или так называемые ныряющие антилопы.
Тут росло несколько высоких — каждый куст чуть ли не двенадцати футов олеандров, осыпанных пышными розовыми цветами. Под прикрытием этих кустов Аренд приблизился к стаду и, выбрав животное покрупнее, прицелился и выстрелил.
Все антилопы, кроме одной, которая осталась распростертой на лугу, огромными прыжками кинулись к опушке, перемахнули через ближайшие кусты и, нырнув в заросли, скрылись из глаз. Не зря их назвали ныряющими! Аренд подскакал к антилопе, в которую он стрелял, и убедился, что она мертва. Вернувшись в лагерь, он послал Конго с Чернышем за убитой антилопой. Скоро они принесли тушу; теперь нужно было освежевать и разделать ее, чтобы потом поджарить мясо на вертеле.
Они вдвоем принялись за дело, и вдруг Чернышу показалось, будто по лугу что-то движется.
— Глядите-ка, баас Аренд.
— Что там?
— Вон вьючная лошадь, видите? Очень далеко отошла от лагеря.
Аренд обернулся и поглядел туда, куда показывал Черныш. В полумиле от лагеря бродила лошадь. Она отбилась от остальных и уходила все дальше.
— Ладно, Черныш. Вы тут готовьте обед, а я поеду пригоню ее.
Аренд снова вскочил на коня и поскакал к отбившейся лошади.
Для стряпни Конго и Чернышу понадобилась вода; захватив бачок, они отправились к вчерашнему броду — ближе нигде нельзя было спуститься к реке.
Они шли берегом и были уже почти у самого брода, как вдруг Конго, шедший впереди, исчез. Он провалился в хорошо замаскированную ловушку, приготовленную для слона или бегемота.
Яма была глубиной около девяти футов; и, еще не успев понять, куда это он попал, Конго едва не ослеп — глаза ему засыпало песком, пылью и всяким мусором, скрывавшим сверху ловушку.
Это южноафриканское изобретение для ловли крупной дичи было не в диковинку Конго, поэтому случившееся не слишком огорчило его. Убедившись, что при падении он не расшибся, Конго поглядел вверх, ожидая, что Черныш поможет ему выбраться из ямы.
Но Черныш не спешил ему на помощь. Он очень обрадовался смешному случаю, приключившемуся с соперником, и решил немного потешиться над ним.
Он просто не помнил себя от восторга. Он разразился диким хохотом, напоминавшим хохот разъяренной гиены, и принялся так прыгать и плясать вокруг ямы, что казалось, земля его не выдержит. Никогда еще глупый маленький бушмен не был так счастлив; но эта восторженная вспышка оборвалась еще внезапнее, чем началась: среди буйных прыжков он тоже вдруг исчез, словно земля разверзлась и поглотила его! Его постигла та же участь, что и Конго: возле первой ловушки оказалась вторая, и Черныш угодил прямо в нее.
С помощью таких двойных ловушек обитатели Южной Африки обычно ловят слонов: если животное, заметив вдруг перед собой яму, метнется в сторону, оно провалится в соседнюю ловушку.
Черныш и Конго неожиданно попались как раз в такую ловушку — на свою беду и вовсе не на радость тем, кто с помощью этого хитроумного устройства надеялся поймать совсем другую дичь. На дне ямы, в которую провалился Конго, было на два фута жидкой грязи. Стены — отвесные, глинистые, скользкие, поэтому все его попытки вскарабкаться наверх оказались тщетными, и это сильно огорчило беднягу, ибо он не отличался философским складом ума. Конго слышал, как потешался над ним Черныш, и бурный восторг соперника был плохим утешением в беде. Но прошло несколько минут, и он перестал слышать Черныша.
То, что Черныш смеялся и радовался его несчастью, не удивило Конго, но он все же надеялся, что немного погодя Черныш поможет ему выбраться из ямы. Однако Черныш не шел на помощь. Ему, видно, мало было посмеяться над его бедой. Он просто ушел, бросил его на произвол судьбы! И Конго был вне себя от ярости.
Прошло еще несколько минут — они показались Конго часами, — а о Черныше все не было ни слуху ни духу. Может, он вернулся в лагерь? Значит, Аренд узнал, что случилось с Конго. Почему же тогда он не поспешит на помощь своему верному слуге? Сидеть в этой яме вовсе не так уж удобно, а кроме того, здесь полно всяких пресмыкающихся и насекомых, которые как-то попали сюда и теперь тоже не могут выбраться. Общество жаб, лягушек, больших муравьев, прозванных «солдатами», и других тварей не доставляло Конго никакого удовольствия.
— Черныш! Баас Аренд! — закричал он.
Но все было напрасно. Никто не откликнулся на его зов. Конго, как и все его соплеменники, отличался вспыльчивым нравом, и им вскоре овладел неистовый гнев. Он жаждал свободы уже ради одной только цели: ради мести. Месть Чернышу, который, вместо того чтобы освободить его из ямы, радуется его заточению!
Вы, наверно, решили, что Черныш разбился, падая в яму? Нет, этого не случилось. Едва он понял, что так неожиданно положило конец его веселью, он первым делом подумал о том, как бы ему выбраться отсюда без помощи человека, над которым он только что смеялся. Самолюбие Черныша было бы очень уязвлено, если бы, выбравшись из ямы, Конго увидел, что и он, Черныш, тоже попался. Легко ли снести такое унижение!
Вот почему Черныш молча слушал, как Конго взывает о помощи, а сам тем временем изо всех сил старался выкарабкаться из ловушки. Он попытался выдернуть заостренный кол, воткнутый посреди ямы. Падая в яму, слон или бегемот с размаху напарывается на такой кол и погибает. Сумей Черныш выдернуть кол, он мог бы с его помощью выбраться наверх. Но ему это не удалось, и мысли его потекли в ином направлении. Он стал искать, кто же виноват в том, что он попал в яму и не может из нее выбраться. У Черныша была своя логика, свойственная, впрочем, не ему одному, и он быстро догадался, что виноват, конечно, Конго. Не провались Конго, сам он, уж конечно, избежал бы этой участи.
Повеселившись вволю, он помог бы Конго выбраться из его темницы и, пожалуй, даже посочувствовал бы его несчастью; но теперь, когда он и сам попался, он знал одно: в приключившейся с ним неприятности кто-то виноват, и не мог понять, что всему виной он сам. Попав в беду, Конго навлек беду и на него, вот почему Черныш теперь молча сидел в своей яме.
В отличие от Конго, он не терзался мыслью, что его бросили на произвол судьбы, и поэтому переносил заточение намного спокойнее, чем Конго, совсем потерявший терпение. Да, кроме того, у него была надежда на скорое избавление — надежда, которую утратил Конго.
Черныш знал, что Аренд с минуты на минуту приведет в лагерь отбившуюся лошадь и хватится их. А так как бачка тоже нет на месте, он будет знать, где их искать. Увидев, что нет ни бачка, ни слуг, Аренд, конечно, пойдет к броду — единственному месту, где можно зачерпнуть воды. А раз так, он непременно заметит ловушку. Поразмыслив, Черныш примирился со своей участью и стал терпеливо и молча ждать; Конго же, не понимавший, куда запропастился Черныш, был далеко не так спокоен.
Глава 4
В ЯМАХ
Но время идет, солнце опускается все ниже, скоро над рекой сгустятся ночные тени… и Черныш стал терять надежду. Почему молодой охотник до сих пор не пришел им на выручку? Виллем, Гендрик и Ганс уже должны были бы вернуться; вчетвером им ничего не стоит разыскать пропавших слуг. И хоть Черныш очутился в непривычном положении, он долго терпел и молчал. Но наконец ему стало невмоготу. Его вдруг охватило страстное желание высказать все свое недовольство судьбой, и перед этим желанием он уже не мог устоять.
— Эй, Конго, старый дурень, где ты? — крикнул он. — Чего не идешь домой?
Услыхав этот глухой, отдаленный голос, Конго сразу понял, откуда он исходит. Значит, Черныш тоже заживо погребен! Так вот почему он до сих пор не пришел на выручку!
— Это ты, Черныш? А я тебя дожидаюсь! — ответил Конго и впервые за все это время слабо улыбнулся. — Неохота идти в лагерь без тебя.
— Больно много о себе думаешь! — отозвался Черныш. — Кому ты нужен, старый дурень? Шел бы лучше в лагерь да сказал бы баасу Гендрику — мол, Черныш хочет его видеть. Я бы ему кое-что сказал.
— Ладно, — ответил Конго, которому теперь не так тошно было сидеть в яме. Только на что тебе хозяин? Я ему все передам, нечего ему сюда ходить. Ну, что ему сказать?
В ответ Черныш разразился длинной речью. Пусть Конго признается, что он дурак, раз он упал в яму, — ведь он оказался глупей бегемота: эта ловушка, видно, сто лет назад вырыта, и ни один бегемот в нее не попался.
Конго потребовал объяснений. Почему это он глупее Черныша? Ведь и сам Черныш попал в такую же беду. Но тот продолжал утверждать, что в его несчастье полностью виноват Конго — ведь он первый имел глупость провалиться в ловушку.
Чернышу все было ясно и понятно: не провались Конго по глупости в первую яму, уж он-то, Черныш, никогда не угодил бы во вторую!
И он утешался этим. Он был просто счастлив, что может наконец отвести душу и отругать своего соперника. Но как ни приятно было это развлечение, скоро его мысли поневоле вернулись к печальной действительности: он в ловушке и, вместо того чтобы есть жареную антилопу, весь день голодный, томится в темной, грязной яме в обществе отвратительных пресмыкающихся.
Его мысль усиленно работала, подхлестываемая испуганным воображением. Ему стало страшно. А вдруг и с Арендом стряслась какая-нибудь беда и он не вернулся в лагерь? А вдруг Виллем и его спутники заблудились и будут два или, чего доброго, три дня искать дорогу назад в лагерь? Он слышал, что с иными глупыми белыми такое случалось, значит, и с ними может случиться. Или, может быть, им повстречалось какое-нибудь дикое племя и их убили или забрали в плен?
Тысячи догадок проносились в уме Черныша, и, окажись любая из них справедливой, ему придется сперва съесть лягушек и всех прочих тварей, что копошатся вокруг него на дне ямы, а потом помирать с голоду.
Черныша ничуть не утешало, что его соперника, сидящего в другой яме, ждет, как видно, та же участь.
Его невеселые размышления были прерваны отрывистым злобным лаем: взглянув вверх, в дыру, через которую он провалился, Черныш увидал морду дикой собаки.
Собака залаяла еще раз, уже по-другому, и попятилась; и по звукам, которые раздавались над головой Черныша, он догадался, что наверху собралась целая стая.
Инстинктивный страх перед человеком заставил собак немного отступить. Но вскоре они поняли, что, как говорит пословица, «Только дурак бежит, когда за ним никто не гонится», и вернулись.
Они были голодны и притом чуяли, что обнаруженный ими враг почему-то не может причинить им вреда.
Подходя все ближе и ближе, они вновь окружили обе ловушки и тогда увидели, что на дне ям есть чем поживиться. Их жертвы были сейчас беспомощны, и собаки расхрабрились и готовы были напасть на людей. Голос и взгляд человека уже не пугали их, и несколько десятков диких зверей стали пытаться овладеть добычей, чтобы утолить свой голод.
Они начали разгребать и разбрасывать слой травы и земли, который прикрывал ямы. Вниз лавиной хлынули пыль, песок, трава, и пленники едва не задохнулись.
Колья, поддерживавшие земляной настил, подгнили от старости, и под тяжестью теснившихся сверху собак крыша грозила рухнуть.
«Если собаки посыплются вниз, — подумал Черныш, — этот дурак Конго, надеюсь, тоже получит свою долю».
Его надежда тут же и сбылась: мгновенье спустя он услыхал вой собаки видно, она упала в соседнюю яму. К счастью для Конго, хищника постигла участь, которой он сам избежал. Животное напоролось на заостренный кол, торчащий посреди ямы, и теперь корчилось на нем в страшных мучениях и не могло освободиться.
Конго растянулся в грязи на дне ямы и прижался к стенке. Если б не это, не миновать бы ему собачьих зубов: оскаленная пасть была в каких-нибудь двенадцати дюймах от его лица. Зверь судорожно извивался и оглушительно выл.
Среди воя, рычания, лая собак, которые оставались наверху, Черныш различил вопли собаки, попавшей в яму, и вообразил, что между нею и Конго завязалась борьба не на жизнь, а на смерть.
Ревность и мелкое недоброжелательство, которые он так часто проявлял по отношению к Конго, были совсем не так сильны, как ему самому казалось. Черныш не на шутку тревожился за исход битвы. А вдруг зверь разорвет Конго на куски? И тут он понял, что они с Конго вовсе не враги, как он почему-то воображал, а друзья.
Собаки злобно рычали и выли. Сидеть в яме было и неудобно и страшно, а сколько еще времени придется ждать и терпеть? Кажется, еще немного — и он просто сойдет с ума. Но тут он услышал, что псы отступили. Остался лишь тот, что упал в яму, где сидел Конго. Что заставило их отступить? Уж не подоспела ли помощь? Затаив дыхание, Черныш прислушался.
Глава 5
АРЕНД ИСЧЕЗ
В полдень Виллем, Ганс и Гендрик вернулись в лагерь и обнаружили, что он пуст.
Завидев их, нехотя, воровато разбежались шакалы, а когда всадники подъехали ближе, они увидели начисто обглоданный скелет антилопы. Значит, уже несколько часов в лагере никого нет.
— Что же это? — воскликнул Виллем. — Куда делся Аренд?
— Не знаю, — ответил Гендрик. — Удивительно, что Черныша и Конго тоже нет; они могли бы рассказать, в чем дело.
Несомненно, что-то случилось. Охотники с тревогой оглядели все вокруг, но ничто не помогло им раскрыть тайну.
— Что будем делать? — спросил Виллем, и по голосу его было слышно, что он очень встревожен.
— Ждать, — ответил Ганс. — Больше нам сейчас ничего не остается.
В эту минуту их внимание привлекли две или три точки на равнине, примерно в миле от лагеря. То были лошади, их собственные вьючные лошади, и Гендрик с Виллемом ускакали за ними, чтобы привести их обратно в лагерь.
Прошло около часу, прежде чем удалось обойти и поймать беглянок. На обратном пути Гендрик и Виллем решили напоить их, благо до брода было недалеко, и повернули к реке.
Когда они приблизились к берегу, дикие собаки которые выли и визжали, сбившись в кучу, бросились врассыпную по равнине. Не слишком задумываясь над их поведением, всадники въехали в воду и дали лошадям напиться.
Они спокойно сидели в седлах, когда Гендрику вдруг послышались какие-то странные звуки.
— Послушай! — сказал он. — Не понимаю, что это такое. Слышишь?
— Собака воет, — ответил Виллем.
— Где?
В первую минуту ни один из них не сумел ответить на этот вопрос, но потом Виллем заметил ловушку, от края которой разбежались собаки.
— Гляди, ловушка! — воскликнул он. — Наверно, зверь провалился туда. Ну, вот что: я его пристрелю, пускай зря не мучается.
— Правильно, — поддержал Гендрик. — Я ненавижу этих собак и вообще всяких хищников, но оставить животное подыхать с голоду просто жестоко. Убей его.
Виллем подъехал к ловушке и спешился. Они разговаривали ненастолько громко, чтоб их можно было услышать, сидя в яме. Конго и Черныш в это время молчали, только собака выла от боли.
Заглянув в яму, Виллем увидел лишь зверя, который все еще висел на колу, и, прицелясь ему в глаз, выстрелил.
Последняя искра жизни угасла в несчастном звере; но вслед за выстрелом огромного ружья раздались два ужасающих вопля — так не завопит и дикая собака.
То кричали перепуганные негры: каждый вообразил, что следующая пуля угодит в него.
— Аренд! — воскликнул Виллем. Он тревожился о брате и ни о ком другом не думал. — Аренд! Это ты?
— Нет, баас Виллем, Это я, Конго.
Крепко держа свое длинное ружье за ствол, Виллем через отверстие протянул приклад Конго.
Конго ухватился за него обеими руками, и силач Виллем в один миг вытащил его из подземной тюрьмы.
Потом вытащили Черныша, и вот уже они, перемазанные, грязные, стоят друг против друга, и каждый наслаждается жалким видом соперника.
Постепенно пламя гнева, которое таилось в глубине глаз Конго, погасло, и суровое лицо его озарила, словно ясный день, широкая улыбка.
Наконец-то он на свободе, и, конечно, никто не виноват, что он так долго просидел в яме.
Черныш получил по заслугам за то, что радовался его беде, и теперь Конго готов все забыть и простить.
— Но где же Аренд? — спросил Виллем.
Даже смеясь над нелепым видом обоих негров, он не мог забыть, что брат его исчез.
— Не знаю, баас Виллем, — ответил Конго. — Я тут давно сижу.
— Но когда ты его видел в последний раз? — допытывался Гендрик.
Этого Конго не мог сказать: ему казалось, что он пробыл в недрах земли не один день.
От Черныша охотники узнали, что вскоре после того, как они уехали, Аренд отправился за лошадью, которая отбилась от остальных и бродила по равнине. А больше Черныш его не видел.
Солнце уже садилось, и, не тратя времени на пустые разговоры, Гендрик и Виллем опять вскочили на коней и поскакали туда, где Аренда видели в последний раз.
Они достигли опушки леса примерно в миле от лагеря, и, не зная, куда ехать дальше и что делать. Виллем выстрелил.
Выстрел прогремел по всему лесу, и теперь они с тревогой ждали ответа на свой сигнал. И ответ пришел. Но то был не выстрел и не голос исчезнувшего Аренда, нет, — сам лес отозвался голосами своих обитателей. Завопили стервятники, зацокали бабуины, зарычали львы.
— Что будем делать, Виллем? — спросил Гендрик.
— Прихватим с собой из лагеря Конго и Следопыта и вернемся сюда, — ответил Виллем и, повернув коня, поскакал на стоянку.
Гендрик двинулся за троюродным братом.
Глава 6
СЛЕДОПЫТ
Последний отсвет дня угас. Над долиной Лимпопо спустилась ночь, когда Гендрик и Виллем с зажженными факелами снова отправились на поиски исчезнувшего товарища. Теперь их сопровождали Конго и Следопыт.
Впереди бежал Следопыт — большая испанская ищейка. Впервые за время этого путешествия охотникам понадобилась его помощь, и он готов был исполнить то, что от него требовалось.
Он был еще совсем щенок, когда его привезли из одного португальского поселения на севере Африки. Виллем купил его, а Конго окрестил Следопытом.
Во время долгого путешествия из Грааф-Рейнета этот пес причинял гораздо больше беспокойства, чем все остальные собаки. Он хуже всех переносил голод и жажду, раньше всех уставал и не раз пытался удрать от своих хозяев.
Теперь его взяли с собой в надежде, что он сумеет возместить все то беспокойство, которое причинял дорогой.
Они направились вдоль опушки леса, рассчитывая, что где-то здесь должен был проехать Аренд в погоне за отбившейся лошадью, и действительно напали на след его коня и второй лошади.
Следы вели в лес. Они шли по хорошо утоптанной тропе — ее, очевидно, проложили буйволы и другие животные, проходя к реке на водопой. С обеих сторон к тропе подступал густой колючий кустарник. Кое-где он был совсем непроходим. С тропы все равно нельзя было свернуть ни вправо, ни влево, и некоторое время они обходились без помощи собаки. Впереди шел Конго.
— Ты уверен, что здесь прошли обе лошади? — спросил его Виллем.
— Да, баас Виллем, — ответил Конго. — Две прошли.
— Лучше бы уж Аренд послал ту лошадь ко всем чертям — она не стоила того, чтобы лезть за ней в такие дебри, — сказал Виллем, обернувшись к Гендрику.
Они пробирались сквозь чащу около полумили и наконец выехали на прогалину; тропа здесь обрывалась, и следы расходились в разные стороны. Охотники снова отыскали отпечатки копыт лошади Аренда, спустили ищейку с поводка, и она тотчас пошла по следу.
В отличие от большинства ищеек, Следопыт не кидался вперед, оставляя человека далеко позади. Казалось, он понимал, что и для него самого и для хозяина будет лучше держаться поближе друг к другу. Поэтому Конго без труда поспевал за умным псом.
Уверенные, что скоро они узнают что-нибудь о судьбе потерявшегося товарища, охотники то и дело окликали и поторапливали собаку.
Вскоре до них донеслись яростные вопли и рычание: впереди, в нескольких ярдах от них, не поделили чего-то дикие звери. Эти звуки охотники слышали уже не раз и тотчас поняли, что они означают.
Лев и стая гиен сошлись над телом какого-то большого животного. Тушей, конечно, завладел царь зверей, и гиены не вступали в драку, а только жаловались на своем, гиеньем, языке. Грозное рыкание льва и отвратительный хохот гиен слышались всего в нескольких ярдах, там, куда вел охотников Следопыт.
Взошла луна, и в лунном свете они вскоре увидели тех, кто поднял весь этот шум. Гиены — их было с десяток — визжали и лаяли на гигантского льва, а он лежал, подмяв под себя какое-то темное тело и, очевидно, пожирал его.
Когда охотники подъехали ближе, гиены немного отступили.
— Похоже, что это лошадь, — прошептал Гендрик.
— Несомненно, — ответил Виллем, — вон седло. Господи! Да ведь это лошадь Аренда! Где же он сам?
Между тем Следопыт был уже в каких-нибудь пятнадцати шагах от льва и начал угрожающе лаять, словно приказывая ему прервать свою трапезу. Но лев по-прежнему лежал неподвижно и удостоил Следопыта лишь грозным рыканием.
— Надо или убить его, или прогнать, — сказал Виллем. — Как по-твоему?
— Убьем, — ответил Гендрик. — Так будет вернее.
Виллем и Гендрик неслышно соскользнули с седел на землю, отдали поводья Конго — и вот они уже бок о бок крадутся вперед. Курки взведены, и Следопыт неслышно движется за ними по пятам.
Они подкрались к льву, они уже в пяти шагах от него, а он все еще не тронулся с места. Заметив людей, он только перестал есть и низко припал к трупу лошади, словно готовясь кинуться на них.
— Ну? — прошептал Гендрик. — Стреляем?
— Стреляем!
Оба одновременно спустили курки, и два выстрела слились в один.
В ту же секунду Гендрик и Виллем инстинктивно кинулись в стороны, спасаясь от последнего прыжка зверя.
Лев со страшным рычанием бросился на них, одним махом перелетел расстояние в добрых двадцать футов — и тяжело рухнул наземь между Виллемом и Гендриком. То был его последний прыжок, больше он уже не поднялся.
Даже не дав себе труда проверить, убит ли зверь или еще дышит, они кинулись к останкам лошади.
Да, это лошадь Аренда, но никаких следов всадника не видно. Какая бы судьба ни постигла его, ничто не говорило о том, что он убит вместе со своей лошадью. Оставалась надежда, что он спасся, хотя после того, как были найдены останки лошади, страх его друзей еще усилился.
— Надо разобраться, — предложил Гендрик, — где убили лошадь — здесь или в другом месте. Может быть, лев уже после притащил ее сюда.
Конго внимательно осмотрел все вокруг и объявил, что лошадь убита на этом самом месте и убил ее лев.
Это было уже странно.
При дальнейшем расследовании обнаружили, что одна нога лошади опутана поводом. Это немного объяснило происшедшее, иначе трудно было бы понять, каким образом такое быстроногое животное, как лошадь, могло на открытом месте попасться в лапы льву.
— Тем лучше, — сказал Виллем. — Значит, Аренд спешился, не доехав до этой поляны.
— Верно, — отозвался Гендрик. — Теперь надо найти, где он расстался с лошадью.
— Поедем назад, — сказал Виллем, — и повнимательнее рассмотрим следы.
Разговаривая, охотники перезарядили ружья, вскочили на коней и уже готовы были повернуть назад.
— Баас Виллем, — сказал вдруг Конго, — пускай Следопыт порыщет здесь.
Виллем согласился, и Конго, взяв собаку на поводок, двинулся по прогалине, описывая широкий круг, посреди которого лежала убитая лошадь.
Дойдя до того края поляны, где они еще не были, Конго позвал их.
Охотники подъехали и снова увидели след лошади Аренда — он вел от места, где сейчас лежали ее останки, в сторону, противоположную лагерю.
Значит, сперва лошадь промчалась мимо того места, где сейчас лежит ее труп. Вероятно, она потеряла седока где-то дальше, а когда возвращалась в лагерь, на нее напал лев.
Следопыт снова пошел по следу, Конго не отставал от него ни на шаг, а за ним ехали охваченные нетерпением Виллем и Гендрик.
Но вернемся в лагерь и отыщем след пропавшего охотника способом более верным, чем даже острый нюх Следопыта.
Глава 7
ПРОПАВШИЙ ОХОТНИК
Когда Аренд подъехал к отбившейся вьючной лошади, она паслась на опушке широко разросшейся чащи и уходила все дальше от лагеря.
Она явно не желала, чтобы ее поймали. Завидев охотника, она кинулась в глубь чащи по тропе, протоптанной дикими зверями.
Аренд поскакал за ней.
Слишком узкая тропа не давала ему возможности обойти беглянку, потерять же ее ему не хотелось, и он ехал следом, надеясь, что тропа станет шире и тогда он сможет обойти ее и погнать назад в лагерь.
Наконец отбившаяся лошадь вышла из зарослей и очутилась на поляне, поросшей невысоким вереском, сплошь усыпанным белыми цветами. Казалось, надежда охотника вот-вот сбудется.
Теперь уже можно было не следовать за беглянкой по пятам, и, пришпорив своего коня. Аренд попытался обойти ее. Но она, видно, вспомнила в эту минуту о тяжелом вьючном седле и припустилась галопом.
Аренд погнался за ней. Проскакав почти до конца поляны, беглянка на мгновение замерла на месте и, прянув в сторону, помчалась в другом направлении.
Аренд удивился, но тотчас понял, в чем дело: прямо на них, видимо направляясь к реке, шел огромный черный носорог.
Испуганная лошадь поспешила уступить ему дорогу, и, будь ее преследователь достаточно благоразумен, он поступил бы так же. Но ведь Аренд ван Вейк был охотник, притом человек военный, и, завидев носорога, который подставляет себя под выстрел, он, разумеется, не устоял от искушения выстрелить.
Осадив коня, — вернее, только попытавшись осадить, ибо, почуяв опасность, конь заупрямился и не стоял на месте, — Аренд спустил курок. Того, что за этим последовало, он и не ждал и не желал. Взревев, точно разъяренный бык, чудовище повернулось и кинулось на всадника.
Аренду оставалось только спасаться бегством, а носорог кинулся вдогонку, и по всему было видно, что хоть он и ранен, но не слишком серьезно и вполне способен отомстить за себя.
Расстояние, отделявшее преследователя от преследуемого, было с самого начала очень невелико, но, вместо того чтобы круто свернуть в сторону и пропустить чудовище — а охотник непременно должен был это сделать, потому что носороги плохо видят, — Аренд скакал все вперед и вперед, пытаясь на скаку перезарядить ружье.
Аренд совершил эту ошибку не потому, что растерялся или не знал, как поступить, — нет, просто был слишком беспечен, легкомыслен и воображал, что носорогу нипочем не догнать его. Он всегда был удачлив, а удача слишком часто порождает самоуверенность и ведет к беде, которую человек более осторожный может избежать.
Внезапно конь Аренда остановился на всем скаку, налетев на заросли колючего кустарника, который в Южной Африке прозвали «постой-погоди». Коню Аренда и впрямь пришлось задержаться на минутку, да на такую долгую, что носорог совсем нагнал его.
И уже не было ни времени, ни возможности свернуть ни вправо, ни влево.
Наконец-то Аренд зарядил ружье, но теперь убить носорога с одного выстрела было трудно: ведь не так-то просто прицелиться, когда сидишь на испуганном коне.
И чтоб стрелять вернее, Аренд на ходу соскочил на землю. К тому же он надеялся, что носорог, не заметив его, побежит за лошадью.
Поле зрения носорога очень невелико; но, к несчастью, когда испуганная лошадь пронеслась дальше, на глаза носорогу попался сам охотник.
Аренд поспешно вскинул ружье, выстрелил и кинулся к росшей поблизости купе деревьев.
За спиной он слышал тяжелый топот — носорог настигал его. Казалось, от этого топота содрогается земля. Он слышался ближе, ближе, вот уже так близко, что и оглянуться нельзя. Аренду чудится, что он уже ощущает всей спиной дыхание зверя. Спасение только одно: неожиданно метнуться в сторону, тогда носорог с разгону промчится мимо. Аренд так и сделал: он внезапно свернул вправо и только тут увидел, что еще мгновение — и зверь поддел бы eго рогом.
Эта хитрость позволила ему хоть на мгновение оторваться от преследователя. Но вот разъяренный носорог уже снова гонится за ним, и совсем незаметно, чтоб он устал, а охотника уже измучила эта бешеная гонка, и он чувствует, что его ненадолго хватит. Собрав последние силы, Аренд еще раз увернулся от носорога, и тут ему повезло: он очутился прямо перед поверженным стволом огромного баобаба. Когда-то сильная буря свалила его, и теперь он лежал, упираясь в землю с одной стороны корнями, с другой — обломанными при падении ветвями, так что между стволом и землей оставался просвет фута в два.
С разбегу кинувшись наземь, Аренд проскользнул под деревом, и как раз вовремя: еще мгновение — и длинный рог вонзился бы ему в спину.
Теперь можно перевести дух и хоть немного прийти в себя. Да, баобаб защитит его. Даже если носорог обежит вокруг дерева, достаточно Аренду снова проползти под стволом — и он опять недосягаем для страшного рога. Человек свободно проползал под стволом, а для носорога щель была слишком узка. Переползая с одной стороны на другую, ничего не стоило спастись от носорога. Другого выхода у Аренда не было, ибо, увидев за стволом человека, разъяренное чудовище обежало вокруг корней упавшего баобаба и возобновило атаку.
Носорог несколько раз то с одного, то с другого конца обежал дерево, и Аренду не сразу удалось поразмыслить над своим положением. Он надеялся, что носорог устанет от этих бесплодных попыток и либо уйдет сам, либо даст уйти человеку.
Но его надежде не суждено было сбыться. Рассвирепевший от ран зверь, казалось, был непреклонен: прошло уже больше часа, а он все бегал вокруг дерева, тщетно пытаясь добраться до охотника. Аренд с легкостью избегал этих атак. У него оставалось довольно времени для размышлений, и он старался придумать какую-нибудь хитрость, чтобы избавиться от носорога.
Первое, что пришло ему в голову, — это воспользоваться оружием. Дотянуться до ружья было нетрудно, оно лежало там, где Аренд уронил его, когда впервые нырнул под дерево, но зарядить его он не смог — пропал шомпол.
Когда он в последний раз заряжал ружье, носорог так неожиданно кинулся на него, что он не успел положить шомпол на место и, видно, уронил его на поляне. Это было очень некстати, и некоторое время молодой охотник не мог ничего придумать. Он лишь перекатывался из стороны в сторону под стволом баобаба, увертываясь от осаждавшего его зверя.
Но вот наконец носорог то ли устал, то ли понял всю бессмысленность своих атак. Однако жажда мести была по-прежнему сильна в нем: он и не думал уходить. Наоборот, он стал у баобаба, да так, чтобы видеть все, что происходит по обе стороны ствола, — он, видно, решил остаться здесь и дождаться случая, когда можно будет расправиться со своей жертвой.
Молча, во все глаза носорог следил за молодым охотником, а тот старался придумать, как бы ему выбраться из осады.
Глава 8
ИЗБАВЛЕНИЕ
Солнце село, над вершинами деревьев взошла луна, а носорог, казалось, все так же жаждал мести, как в ту минуту, когда он был ранен.
Долгие часы Аренд терпеливо ждал, что голод или что-либо другое отвлечет зверя от мыслей о мести и он уйдет. Но он напрасно надеялся. Боль от ран заставляла носорога забывать и голод и жажду; желание отомстить было сильнее всего. Он неотступно и зорко стерег Аренда, поэтому тот не решался ни на миг высунуться из своего убежища. Стоило ему шевельнуться — и носорог тотчас настораживался.
Время шло, а охотник все не мог придумать, как же ему выбраться отсюда. Но наконец его осенило.
Пускай без шомпола он не может зарядить свое ружье пулей, но можно пороховой вспышкой ослепить носорога или хотя бы сильно испугать его и, улучив минуту, незаметно ускользнуть. Прекрасный план, и такой простой, как это он раньше не додумался?
Аренд без труда засыпал в ствол двойную порцию пороха, а чтобы он не высыпался из дула, пока выдастся удобный случай выстрелить, заткнул отверстие сухой травой. Случай скоро представился: голова носорога оказалась в каких-нибудь двух футах от дула, и, старательно прицелившись прямо в глаз, охотник спустил курок.
Громко застонав от ярости и боли, носорог кинулся к человеку и, в бешенстве напрягая все силы, попытался перевернуть ствол баобаба — но безуспешно.
«Еще выстрел, в другой глаз, — подумал Аренд, — и я свободен».
Он принялся было опять сыпать порох в дуло ружья, но тут вдруг заметил новую опасность. Комок сухой травы, при выстреле вылетевший из дула, воспламенился и поджег листья, которые устилали землю вокруг. Они мгновенно вспыхнули, огонь стремительно распространился во все стороны и уже подбирался к Аренду.
Ствол баобаба больше не мог защитить его. Еще минута — и дерево будет объято пламенем. Медлить — значит погибнуть в огне. Выбирать не приходилось, оставалось лишь одно: вскочить и спасаться бегством.
Нельзя было терять ни секунды. Аренд выскользнул из-под дерева и со всех ног кинулся бежать. Он мог бы удрать незаметно для носорога, но сама судьба, как видно, была против него. Не пробежав и двадцати шагов, он почувствовал за спиной погоню.
Увидал ли носорог Аренда своим единственным глазом, услыхал ли его шаги своим острым слухом, но только он мчался за ним по пятам, да так быстро, что в конце концов неминуемо должен был нагнать свою жертву.
Охотник снова был на грани отчаяния. Сама смерть гналась за ним. Еще несколько секунд — и зверь подденет его своим ужасным рогом. Если б не властная любовь к жизни, любовь, которой движимо все живое, он покорился бы судьбе, но это чувство помогло ему держаться.
Он уже готов был в полном изнеможении упасть на землю, но тут до его слуха, точно желанный привет, донесся глухой лай ищейки и вслед за тем чей-то крик:
— Глядите, баас Виллем! Кто это бежит?
Секунда, другая — и носорог больше не гонится за Арендом. Следопыт с громким, яростным лаем скачет перед самым носом зверя — и тот уже не замечает ничего, кроме собаки.
Еще через две секунды подскакали Виллем и Гендрик, а там не прошло и полминуты, как носорог получил пулю из тяжелого ружья и медленно осел на землю. Он был мертв.
Виллем и Гендрик соскочили с коней и так горячо пожимали Аренду руки, словно не виделись с ним долгие годы.
— Что это значит, Аренд? — с добродушной насмешкой спросил Гендрик. Неужели носорог гнался за тобой все эти двенадцать часов?
— Ну да.
— И долго еще это могло продолжаться, по-твоему?
— Секунд десять, — с полной уверенностью ответил Аренд.
— Прекрасно, — сказал Гендрик. Обрадовавшись избавлению друга, он не прочь был поострить. — Теперь мы знаем, какой ты бегун. Ты можешь выдержать носорожьи гонки ровным счетом двенадцать часов и десять секунд.
Виллем был так счастлив, что не произнес ни слова, пока они не вернулись к месту, где оставался убитый лев.
Тут они остановились, чтобы снять с погибшей лошади седло и сбрую.
Виллем предложил переночевать здесь: ведь если возвращаться узкой тропой, которая ведет на равнину, можно столкнуться с буйволами, носорогами или слонами, и в темноте звери просто затопчут их всех.
— Верно, — подтвердил Аренд. — Конечно, лучше бы остаться здесь до рассвета, если бы не два обстоятельства. Во-первых, я умираю с голоду и мечтаю об отбивной из антилопы, которую я подстрелил утром.
— Я бы тоже не прочь, — сказал Гендрик, — но шакалы уже позаботились о твоей антилопе.
Он рассказал Аренду обо всем, что произошло в его отсутствие, и очень насмешил его злоключениями Черныша и Конго.
Потом Аренд поведал о том, что выпало в этот день на его долю, и кончил так:
— Что и говорить, прекрасное приключение для начала. Но только до сих пор от нашей экспедиции что-то мало толку.
— Надо спуститься вниз по реке, — сказал Виллем. — Ведь мы все еще не напали на след гиппопотамов или жирафов. Будем идти вперед, пока не разыщем их. Хватит с меня львов, носорогов и слонов!
— Да, а еще почему ты хочешь вернуться в лагерь? — спросил Аренда Гендрик.
— Что же, по-твоему, наш милый Ганс не человек, думаешь — он не волнуется? — ответил Аренд вопросом на вопрос.
— А, вот ты о чем!
— Ну да. Наверно, он сейчас прямо с ума сходит от страха за нас.
Все согласились, что надо ехать в лагерь. Седло и сбрую с убитой лошади положили на плечи Конго и двинулись в путь. Поздно ночью они вернулись в лагерь, и, как и предполагал Аренд, их нетерпеливо ждал Ганс, безмерно встревоженный их долгим отсутствием.
Глава 9
СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ
Поутру охотники снялись со стоянки и двинулись вниз по реке; на следующий день они продолжали путь в том же направлении.
Когда они миновали брод, где впервые переправились через Лимпопо, Виллем и Конго почти на милю опередили остальных. Виллем ускакал так далеко вперед потому, что хотел пристрелить какую-нибудь дичь, достойную внимания, пока ее не спугнули.
Время от времени перед ним пробегало небольшое стадо антилоп, которыми так богата Южная Африка, но знаменитый охотник едва удостаивал их взглядом. Он думал лишь о том, чтобы отыскать место, где водятся гиппопотамы и жирафы.
На пути то и дело попадались высокие деревья. Некоторые из них были сверху донизу обвиты растениями-паразитами, и это делало их похожими на гигантские башни или на обелиски. Под одним из деревьев, росшим у реки, в трехстах метрах впереди, Виллем увидел буйволицу с теленком.
Солнце клонилось к закату; близился час, когда мясо буйволенка было бы очень кстати и самим охотникам и их собакам.
Приказав Конго оставаться на месте, Виллем с подветренной стороны направился к буйволице и, прячась за кустами, стал подбираться к ней. Он знал, что буйволица очень пуглива, особенно когда с ней теленок, и двигался с величайшей осторожностью. Знал он и то, что ни одно животное не защищает своего детеныша так яростно и бесстрашно, как буйволица, и поэтому он не желал промахнуться; лучше не вступать в поединок с буйволицей, а этого не избежать, если не убьешь, а только ранишь ее. Виллем подъехал настолько близко, насколько позволяли кусты, прицелился в сердце животного и выстрелил.
Вопреки ожиданиям, буйволица не упала и не бросилась бежать, она только вопросительно посмотрела в ту сторону, откуда раздался выстрел.
Охотники недоумевали. Что за странность? Если Виллем промахнулся, почему же буйволица не убегает вместе со своим детенышем?
«Подкрадываться к ней бессмысленно, — подумал Виллем. — Она так же мало склонна двинуться с места, как вон то дерево».
И, быстро перезарядив ружье, он бесстрашно поскакал вперед, уверенный, что буйволица от него не уйдет. Казалось, она и в самом деле не думает бежать; но стоило ему подъехать ближе, и она, рассвирепев, кинулась к нему остановила ее лишь вторая пуля, которая угодила ей прямо в лоб. Буйволица еще раз рванулась вперед, но ноги у нее подогнулись, и она рухнула мертвая, как обычно падают буйволы: брюхом наземь, раскинув ноги, а не опрокинулась на бок, как другие звери.
Следующим выстрелом Виллем прикончил теленка, который жалобно мычал подле матери.
Подошел Конго и, осмотрев теленка, увидел, что одна нога у него сломана. Вот почему буйволица не пыталась спастись бегством. Детеныш не мог ходить, и материнский инстинкт заставил ее остаться с ним.
Перезаряжая ружье, Виллем услышал громкий шорох среди лиан, обвивших дерево, под которым стояли они с Конго. Что-то большое зашевелилось в ветвях. Что бы это могло быть?
— Отойди! — крикнул Виллем Конго, отскакивая от дерева и в то же время вкладывая пулю в ружье.
Отбежав на десять-двенадцать шагов, он обернулся и приготовился встретить неизвестного зверя, скрывавшегося в ветвях. Но перед ним оказался какой-то высокий человек. Он спрыгнул вниз в ту минуту, когда Виллем отбегал от дерева.
Одежда и весь вид этого человека обличали в нем африканца, но он не принадлежал ни к одному из тех отсталых племен, которыми так богата Африка. То был человек лет сорока, высокий, крепкий, с правильными чертами лица, выражавшими ум и отвагу. Лицо не черное, а цвета дубленой кожи, и волосы больше походили на волосы европейца, чем негра.
Все это молодой охотник заметил в первые несколько секунд: разглядывать дольше он и не мог, ибо человек, так внезапно появившийся перед ним, тотчас же сорвался с места и побежал; молодой охотник подумал было, что он испугался. Но нет, на лице его не было страха. Видно, какое-то другое чувство подгоняло его.
Так и оказалось, и Конго понял это первый. Человек со всех ног бежал к реке.
— Вода, вода! — закричал Конго. — Он хочет пить!
Конго был прав, они скоро убедились в этом. Проследив взглядом за незнакомцем, они увидели, что он бросился в реку, припал к воде и стал жадно пить.
Между тем Гендрик и Аренд, услышав выстрелы, испугались, не случилось ли чего-нибудь, и поскакали вперед, оставив вьючных лошадей на попечение Ганса и Черныша.
Они подъехали в ту минуту, как африканец, утолив жажду, вернулся к дереву, где стояли Виллем и Конго.
Не обращая ни малейшего внимания на всех остальных, африканец подошел к Виллему и с величайшим достоинством, какое свойственно почти всем полудиким народам, стал что-то говорить ему. Он, видно, считал себя обязанным поблагодарить за свое освобождение, все равно, поймут его или нет.
— Конго, ты что-нибудь понимаешь? — спросил Виллем.
— Да, баас Виллем, немного, — ответил Конго и как умел пересказал речь африканца.
Он говорил, что обязан Виллему жизнью и теперь готов принести в дар своему спасителю все, чего бы тот ни пожелал.
— Прекрасное обещание, — насмешливо сказал Гендрик. — Надеюсь, Виллем не станет слишком жадничать и оставит что-нибудь человечеству.
Подъехали Ганс и Черныш с вьючными лошадьми, и неподалеку от того места, где была убита буйволица, путешественники стали располагаться на ночь.
Работы хватило на всех — одни собирали сучья для костра, другие готовили все для ночлега, а Чернышу поручили освежевать и зажарить теленка. Пока он стряпал, охотники с помощью Конго, который выступал в роли толмача, подробно расспросили незнакомца о том, что за приключение привело его в их лагерь. Рассказ его был удивителен.
Глава 10
МАКОРА
В осанке и речи африканца была некоторая надменность, и это не ускользнуло от внимания слушателей. Все стало понятно, когда они узнали, кто он такой; а начал он с того, что правдиво и подробно рассказал о себе.
Зовут его Макора, он вождь. Племя его принадлежит к великому народу макололо, но живет отдельно. Их деревня, крааль, находится неподалеку отсюда.
Накануне он с тремя своими подданными отправился в каноэ вверх по реке на поиски одного растения, которое встречается в этих местах, — из него добывают яд для стрел и копий. Проходя неглубоким местом, они увидели гиппопотама — он бродил по дну реки, словно буйвол, пасущийся на равнине, и решили убить его. Но гиппопотам неожиданно всплыл наверх, опрокинул каноэ, и Макоре пришлось плыть к берегу, а ружье, за которое он когда-то отдал восемь слоновых бивней, пропало.
Своих спутников он не видел с той минуты, как опрокинулась лодка.
Он добрался до берега и здесь повстречал стадо буйволов, буйволиц и телят, которое направлялось к реке. Заметив человека, они тотчас повернули назад, и один из буйволов случайно сбил с ног теленка, да так сильно ударил его при этом, что теленок уже не мог бежать вместе со всеми. Заметив, что детеныш отстал, мать вернулась назад и обратила весь свой гнев на Макору. Преследуемый разъяренной буйволицей, которая жаждала отомстить за беду, приключившуюся с ее детенышем, вождь кинулся к ближнему дереву.
Едва он успел скрыться среди ветвей, как подбежала буйволица. С большим трудом сюда приковылял и теленок. Двигаться дальше он не мог, а мать не хотела его оставить. Так Макора очутился на дереве. Несколько раз он пытался спрыгнуть и ускользнуть, но всякий раз убеждался, что буйволица подстерегает его, готовая поднять на рога. Макору терзала нестерпимая жажда, когда наконец раздался первый выстрел Виллема, возвестивший, что помощь близка.
В заключение вождь пригласил охотников пойти с ним наутро в его деревню. Он обещал оказать им поистине королевское гостеприимство. Крааль его был недалеко, вниз по реке, и приглашение тотчас приняли.
— Одно место в его рассказе очень меня радует, — заметил Виллем. — Стало быть, неподалеку от нашего лагеря есть или, во всяком случае, был гиппопотам, и, может быть, скоро нам удастся начать долгожданную охоту.
— Спроси-ка у него, Конго, — попросил Гендрик, — много ли в этих местах бегемотов.
Вождь ответил, что здесь их почти не видно, но если ехать день вниз по реке, попадешь в большую проточную лагуну, вот там бегемотов — как звезд на небе.
— Как раз то, что нам нужно! — сказал Виллем. — Теперь спроси его о жирафах, Конго.
— Нет, пусть они не надеются найти жирафов в этой части Лимпопо, — ответил Макора. Он слышал, что кто-то когда-то видел здесь жирафа или двух, но они, видно, заблудились, а вообще жирафы тут не водятся.
— Спроси его, не знает ли он, где они водятся, — попросил Виллем.
Казалось, он интересовался жирафами больше, чем все его спутники.
Макора не мог или не пожелал ответить на этот вопрос сразу. Он немного подумал и начал издалека. Его родина, сказал он, родина его племени, далеко отсюда, на северо-западе, но великий тиран, король зулусов Мосиликатсе, изгнал их из родного края, захватил их земли и всех мелких вождей обложил данью.
Потом Макора рассказал, что каким-то таинственным образом он потерял расположение Секелету и других великих вождей своего народа, они отказали ему в покровительстве, и вместе со своим племенем он вынужден был бросить родной дом и переселиться в те места, куда он теперь поведет своих новых знакомых.
— Но я совсем не об этом спрашивал! — сказал Виллем.
Он и у себя на родине никогда не интересовался политикой, а уж до взаимоотношений африканских князьков ему и вовсе не было дела.
Когда Макору снова спросили о жирафах, он ответил, что нигде нет такого множества жирафов, как в его родных местах, откуда он изгнан по произволу великого вождя зулусов. Дома он охотился на жирафов с детства.
Тут беседу прервал Черныш.
— Мясо готово, — провозгласил он, — пора приниматься за еду.
И он разложил перед охотниками и гостем добрых десять фунтов телячьих отбивных.
Макора, который, судя по всему, очень терпеливо ждал, пока поджарятся отбивные, приступил к еде тоже довольно спокойно. Но скоро выдержка изменила ему. Он ел с жадностью и съел больше, чем все четыре охотника вместе. Но при этом он просил извинить его за прожорливость — ведь почти двое суток у него и маковой росинки во рту не было.
Наконец все поужинали, улеглись у костра и скоро уснули.
Ночь прошла спокойно. Поднялись они вскоре после восхода, но не все в одно время: один человек встал и ушел на час раньше остальных. То был Макора, их вчерашний гость,
— Эй, Черныш, Конго! — закричал Аренд, увидев, что вождя нет в лагере. Поглядите, все ли лошади на месте! Похоже, что он вчера наврал нам с три короба и в придачу обокрал нас.
— Кто? — спросил Виллем.
— Твой друг, вождь. Он пропал, и хорошо, если у нас больше ничего не пропало.
— Не знаю, куда он девался, но даю голову на отсечение, что он честнейший человек и все, что он рассказал, чистая правда! — воскликнул Виллем с необычайной горячностью, которая всех удивила. — Он вождь, это у него на лице написано, а почему он исчез, просто понять не могу…
— Ну, разумеется, он вождь, — насмешливо сказал Гендрик. — Здесь каждый африканец, у которого есть семья, уже вождь. Правду он говорил или нет, а только это ни на что не похоже — удрать, не сказавшись.
Ганс промолчал, он не имел обыкновения говорить о том, чего не знал; а Черныш, убедившись, что лошади, ружья и все остальное имущество цело, объявил, что еще никогда в жизни он не был так озадачен.
В лагере ничего не пропало, и все-таки Черныш был совершенно уверен, что всякий, кто разговаривает на одном из тех африканских наречий, которые понимает Конго, не устоит, если ему представится случай что-нибудь украсть.
Лошадям дали попастись еще часок, а сами охотники сели завтракать телятиной; потом наши путешественники снялись со стоянки и снова двинулись вниз по течению Лимпопо.
Глава 11
КРААЛЬ МАКОРЫ
Часа через три охотники подъехали к месту, по виду которого можно было безошибочно заключить, что здесь не раз побывал человек.
Небольшие пальмы были срублены, стволы исчезли, а верхушки валялись на земле. Слоны, жирафы и другие животные, питающиеся листвой, обглодали бы верхушки и уж, во всяком случае, не рубили бы пальмы топором, а следы его ясно виднелись на пнях. Еще через полмили путники увидели возделанные поля. Очевидно, неподалеку жили люди, достигшие известной степени умственного развития.
— Глядите! — воскликнул Аренд. — К нам идет какая-то толпа…
Все взгляды обратились в ту сторону, куда смотрел Аренд.
По гребню горной гряды, тянувшейся к северу, приближалось человек пятьдесят.
— Может, они замышляют недоброе? — сказал Ганс. — Что будем делать?
— Поскачем им навстречу, — предложил Гендрик. — Если они нам враги, это не наша вина. Мы им ничего плохого не сделали.
Когда толпа приблизилась, охотники узнали своего недавнего гостя, ехавшего впереди верхом на быке. Он обратился с приветствием к Виллему, и Конго перевел его речь.
— Я приглашаю тебя в мой крааль, — сказал Макора, — и пусть твои друзья идут с тобой. Я ушел ранним утром, я спешил домой, чтобы достойно встретить того, кто стал другом Макоры. Лучшие, храбрейшие сыны моего народа пришли приветствовать тебя.
После этого они все вместе двинулись к деревне, которая была неподалеку. На окраине сотни полторы женщин встретили их песней. Заунывный, негромкий напев походил на колыбельную песнь, которой мать убаюкивает дитя.
Дома в селении были построены, как строят частокол: высокие жерди, отвесно вбитые в землю, были переплетены камышом или длинной травой и затем обмазаны глиной. Охотников провели мимо домов на середину деревни, к длинному навесу; здесь расседлали лошадей и пустили их пастись.
Хотя у подданных Макоры было всего три часа сроку, они успели к прибытию гостей подготовить настоящий пир.
Чем только не угощали молодых охотников! Тут были и жареная антилопа, и узкие полосы вяленого мяса, и тушеное мясо гиппопотама и буйвола, и сушеная рыба, и жареные зерна зеленого маиса с медом диких пчел, и тушеная тыква, и дыни, и вдоволь отличного молока.
Охотников и всех, кто был с ними, угощали от всей души. Даже собак накормили до отвала. А Конго и Черныша нигде и никогда еще не окружали таким почетом. После обеда Макора объявил гостям, что теперь собирается их развлечь; а чтобы они могли по-настоящему насладиться зрелищем, он вместо пролога рассказал, что им предстоит увидеть.
После того как гиппопотам опрокинул лодку, рассказывал Макора, его спутники вернулись домой и принесли весть о постигшем их несчастье. Племя отправилось на розыски, но, так как вождя не нашли, все решили, что либо он утонул, либо его убил гиппопотам. Итак, было признано, что Макора погиб; тогда Синдо, один из первых людей племени, провозгласил себя вождем.
Утром, когда Макора вернулся к своему племени, узурпатор Синдо еще не выходил из дома и не успел узнать о возвращении вождя. Дом его окружили и самого его взяли под стражу. Теперь, крепко связанный и зорко охраняемый, Синдо ждал казни. Вот это зрелище и предстояло увидеть охотникам. У охотников не было ни малейшего желания присутствовать при казни, но, уступая настояниям вождя, они вместе с ним направились к тому месту, где она должна была совершиться. Синдо был привязан к дереву на окраине деревни. Едва ли не все здешние жители пришли поглядеть, как расстреляют узурпатора, — ибо Синдо приговорили к расстрелу.
Синдо был довольно красив. Ему можно было дать лет тридцать пять. Лицо его не выражало никаких дурных наклонностей, и охотники невольно подумали, что он, наверно, виновен всего лишь в чрезмерном честолюбии.
— Не можем ли мы избавить его от такой страшной участи? — спросил Виллема Ганс. — По-моему, ты имеешь некоторое влияние на вождя.
— Попытка не пытка, — ответил Виллем. — Посмотрим, что я могу сделать.
Синдо должны были застрелить из его собственного мушкета. Был уже назначен палач и сделаны необходимые приготовления, но тут Виллем подошел к Макоре и стал просить его помиловать Синдо.
Он говорил, что Синдо не совершил большого преступления; вот если б он затеял заговор, чтобы свергнуть Макору и самому занять его место, это было бы совсем другое дело. Тогда бы он заслуживал смерти.
Потом Виллем сказал, что, если бы он, Макора, в самом деле погиб, кто-то ведь должен был стать вождем; и нельзя упрекать Синдо за то, что он хотел править племенем, как правил Макора, чтобы все были довольны.
Виллем просил Макору сохранить Синдо жизнь. Свою просьбу он подкрепил обещанием: если Синдо останется жив, Макоре подарят ружье взамен потерянного в реке.
Макора долго молчал, но наконец ответил, что он никогда не будет чувствовать себя в безопасности, если узурпатор останется с племенем.
Виллем сказал, что его можно изгнать из крааля и под страхом смерти запретить возвращаться сюда.
Макора еще поколебался, но потом вспомнил, что он обещал сделать все, чего ни пожелает тот, кто избавил его от заточения на дереве, и согласился. Синдо была дарована жизнь при условии, что он сразу же и навсегда покинет крааль Макоры.
Соглашаясь помиловать Синдо, вождь желал, чтобы все поняли, что он делает это из благодарности к своему другу, белому великану-охотнику. Он не желал, чтобы подумали, будто жизнь Синдо куплена ценой ружья.
Все подданные Макоры, в том числе и сам осужденный, были поражены его решением, ибо ни о чем подобном в этих краях и не слыхивали.
Милосердие Макоры и его отказ от ружья, которым хотели его подкупить, убедили молодых охотников, что он не чужд благородства.
Синдо и вся его семья немедленно покинули крааль. Они собирались искать пристанища у одного из родственных племен — там, конечно, Синдо будет осторожнее и не даст воли своему честолюбию.
В тот вечер Макора на все лады развлекал своих гостей. Был великолепный праздник — песни, танцы под звуки тамтама и однострунной африканской скрипки.
Затем условлено было, что на другой день охотников поведут туда, где водятся гиппопотамы, и все отправились спать.
Глава 12
ОХОТНИКИ ИССЛЕДУЮТ МЕСТНОСТЬ
Ранним утром, отблагодарив Макору за гостеприимство самым лучшим завтраком, какой только они могли приготовить, охотники отправились на поиски гиппопотамов.
Макора и четверо его соплеменников служили проводниками, а еще полсотни туземцев должны были помогать во время охоты. Вьючных лошадей и все свое имущество охотники взяли с собой, так как они не собирались возвращаться в крааль, хотя вождь очень уговаривал их остаться. Пусть его крааль будет им домом на все время, пока они охотятся поблизости.
Больше мили они ехали мимо маленьких маисовых полей, принадлежащих племени Макоры. Их обрабатывали женщины и подростки.
На своем веку охотники повидали немало бушменских, бечуанских и кафрских деревень и были удивлены признаками цивилизации в краю, куда не достигало влияние капских колонистов.
Спускаясь вниз по реке, они видели небольшие стада буйволов, винторогих антилоп куду и зебр. Наконец-то они добрались до мест, суливших им те самые приключения, которых они искали!
Примерно в пяти милях от деревни они вышли на поляну, густо заросшую травой. Макора предложил раскинуть здесь охотничий лагерь, так как густой лес, который виднелся ниже по реке, служил постоянным прибежищем для дичи всех видов, какие только водились в окрестностях.
Все согласились с Макорой, и туземцы быстро возвели на поляне ограду, чтобы внутри можно было безопасно расположиться лагерем. Молодые охотники тем временем тоже не сидели без дела.
На равнине, вдали, паслись антилопы. Гендрик и Аренд отправились пострелять их, чтобы было чем накормить людей Макоры.
А Виллем решил побывать в лесу, где, как ему сказали, водится дичь покрупнее. Он уехал в сопровождении Макоры и четверых его адъютантов, предоставив Чернышу и Конго позаботиться о вьючных лошадях и имуществе экспедиции и приглядывать за сооружением ограды.
Неподалеку от берега реки Макора и Виллем въехали в болотистую низину, поросшую густым лесом. Не успели они сделать и нескольких шагов по лесу, как увидели болотных козлов. До них было не больше трехсот ярдов, и, судя по тому, как спокойно они продолжали пастись, Виллем понял, что, хоть деревня племени макололо совсем близко, с ружьем в этих местах еще никто не охотился. На этих кротких животных не стоило тратить пули из громобоя, и Виллем проехал мимо, не причинив им вреда.
Вскоре он напал на тропу, которую протоптали звери покрупнее, проходя по ночам на водопой, и среди множества следов с радостью увидел следы гиппопотама. Несколько гиппопотамов, очевидно, ушли с реки всего два или три часа назад и, должно быть, паслись где-то неподалеку. Люди так редко нарушали покой этих животных, что они, вопреки обыкновению, вышли пастить днем.
Виллем, очень довольный тем, что наконец-то он добрался до места, где стоило остановиться на некоторое время, не стал забираться глубже в лес и решил для начала подстрелить одного из двух буйволов, которые лежали неподалеку в тени деревьев.
Оставив на попечение Макоры и его спутников свою лошадь и трех собак, Виллем направился к буйволам с подветренной стороны — он хотел оказаться между ними и лесом, чтобы преградить им путь, если они попробуют скрыться в чаще.
Виллем был слишком хороший охотник, чтобы потихоньку подкрадываться к буйволам и стрелять их спящими, поэтому, дойдя до намеченного места, он свистнул собак, чтобы они подняли буйволов и он мог бы выстрелить в них на бегу. Едва он подал сигнал, как раздались громкие вопли туземцев и выстрел из мушкета Макоры.
Что-то случилось: его конь сорвался с привязи и скачет по лугу, а испуганные туземцы кинулись врассыпную.
Бык, на котором сидел Макора, скакал едва ли не быстрей, чем конь Виллема. Все три собаки, услыхав призывный свист, неслись к хозяину. Кто-то гнался за ними — какой-то зверь преследовал их. Он продвигался вперед длинными скачками, низко припадая к земле, но при этом так долго собирался с силами для каждого нового прыжка. что расстояние между ним и собаками почти не уменьшалось.
Буйволы вскочили и галопом поскакали к лесу — они промчались в каких-нибудь пятидесяти шагах от Виллема. Но он не стал стрелять в них. Зверь, достойный большего внимания, быстро приближался к нему.
Глава 13
ВЕРНЫЙ СМОК
Собаки, видимо, все еще не подозревали, что за ними гонится враг. Они слышали свист хозяина и, едва их спустили со сворки, кинулись выполнять команду.
Они подняли буйволов и, должно быть, вообразили, будто их позвали затем, чтобы догнать и уничтожить эту дичь. Ничего больше не замечая, они по пятам преследовали огромных четвероногих и промчались мимо Виллема всего в нескольких шагах, но он тщетно пытался отозвать их. А через минуту ему было уже не до собак.
Животное, которое преследовало собак и от которого спасались бегством Макора и его спутники, оказалось огромным леопардом. То была самка, и охотник тотчас сообразил, что произошло.
Она оставила детенышей в своем логове в лесу, а сама пошла к реке напиться и поесть. И теперь она не погналась ни за Макорой, ни за его спутниками — ведь собаки бежали сейчас как раз туда, где скрывались детеныши.
Увидев Виллема, леопард оставил погоню за собаками. Он припал к земле и стал подползать к человеку. Двигался он быстро, и лишь инстинктивная осторожность мешала ему ползти еще быстрее. При этом он так плотно прижимался всем телом к земле, что охотнику видны были только голова зверя и его глаза.
Леопард приближался, вот между ними уже нет и десяти ярдов…
Пора действовать. Виллем вскидывает ружье — рука его тверда, глаз зорок, а опасность лишь придает ему хладнокровия, — уверенно прицеливается прямо в морду зверя и стреляет.
Пуля попала в цель: леопард опрокинулся, вскочил, завертелся на одном месте — видимо, на время он перестал соображать, что происходит. Адская боль в раздробленной челюсти заставила его забыть и о детенышах и о враге. Но это длилось лишь несколько секунд. Зверь увидел охотника и тотчас понял все.
Выстрелив, Виллем кинулся в сторону, а отбежав с полсотни шагов, остановился и стал перезаряжать ружье. Но при этом он не спускал глаз с леопарда. А тот уже снова подбирался к нему, и на этот раз без всякой осторожности; видно было, что сейчас им владеет лишь одно чувство: жажда мести.
Виллем только успел загнать пулю в ствол ружья, а леопард был уж тут как тут. У охотника не оставалось времени хотя бы вытащить шомпол, тем более вставить пыж. Он схватил ружье за ствол и приготовился защищаться им, как дубинкой. Но в тот миг, когда разъяренный леопард уже готов был прыгнуть, подоспела помощь с той стороны, откуда охотник меньше всего ее ждал.
Одна из собак — огромный бульдог, по кличке Смок, — не побежала за буйволами в лес. Хозяин звал собак назад, и Смок подчинился команде. В то мгновение, когда леопард припал к земле, набираясь сил для последнего прыжка, Смок вцепился ему в заднюю лапу. Виллем не потерял ни секунды. То был последний шанс остаться в живых, и охотник поспешил воспользоваться им.
Курок был взведен и капсюль вложен на место в мгновение ока — из десятка хорошо обученных солдат, может быть, только один сумел бы проделать все это так быстро и ловко, — но, когда Виллем, окончательно зарядив громобой, поднял его и прицелился, несчастный пес уже бился в агонии.
А леопард приготовился к новой атаке на своего врага. Еще секунда огромный зверь кинулся бы на человека и его острые когти вонзились бы в тело Виллема. Охотник нажал спуск и отскочил. Глаза его заволокло дымом, а когда дым рассеялся, он увидел, что леопард валяется на земле рядом со Смоком и так же, как пес, бьется в предсмертных судорогах.
Поискав глазами своих спутников, Виллем увидел их ярдах в пятистах, значит, они были свидетелями его победы. Макора поспешно подошел к нему и сразу, показывая на своего быка, стоявшего в полумиле от них, попытался объяснить Виллему, что это бык с перепугу понес Макору прочь, когда он, Макора, хотел спешить на помощь другу.
Поняв, что опасность миновала, подошли и остальные, и славный охотник знаками дал им понять, что он хотел бы взять с собой шкуру леопарда.
Четверо туземцев принялись за дело, ловко орудуя своими ассегаи; видно было, что Виллему недолго придется ждать великолепной шкуры, которую он увезет с собою как трофей и как память о пережитой опасности.
Теперь он занялся раненым псом — Смок, распростертый на земле, все еще скулил и так смотрел на хозяина, словно хотел сказать: «Что же ты не подошел ко мне сразу и не помог мне?»
Несчастная собака пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь хозяину. У нее был перебит позвоночник и все тело изранено. Нет, тут уж ничем не помочь: Смок обречен. И великодушному Виллему стало не по себе.
Обернувшись к Макоре, он увидел, что тот вновь заряжает свой мушкет. Виллем показал на голову пса, потом на ружье.
Вождь понял его и прицелился.
Слезы выступили на глазах у Виллема, он отвернулся и пошел разыскивать своего коня.
Глава 14
ЗАЛИВ
Когда Виллем и его спутники вернулись в лагерь, они увидели, что Гендрик и Аренд поохотились на славу. Уже разведен был большой костер, и на нем поджаривалось мясо двух убитых антилоп.
На земле лежало много срубленных деревьев, и сооружение ограды шло полным ходом.
Макора не соглашался брать никакой платы за труд своих подданных — лишь немного кофе, табаку и бутылку джина. Убедившись, что его друзья расположились удобно, он в тот же вечер простился с ними.
Трех своих людей он оставил в лагере, наказав им помогать охотникам в чем только можно. Однако такое прибавление к отряду сильно раздосадовало Черныша: ведь разговаривать с ними можно было лишь с помощью его соперника Конго.
Теперь у Конго были подчиненные, которыми он распоряжался, а у Черныша подчиненных не было, и потому все стало не по нем.
— Надо бы как следует поохотиться сегодня, — сказал Аренд Гендрику за их первым завтраком в новом лагере.
— Да, — ответил Гендрик. — Виллем обогнал нас, у него уже позади день, полный приключений, но я надеюсь, что и нам скоро улыбнется счастье.
— Я думаю, оно всем нам улыбнется, — вмешался Виллем. — Лучшего места для охоты не найдешь. Дичи здесь хоть отбавляй, и теперь у нас есть помощники. Туземцы с удовольствием выполнят всю черную работу, а нам останется только стрелять.
— Да, верно, — сказал Гендрик. — Мы и мечтать не смели о таком удачном начале, а ведь всего два дня назад мы жаловались на судьбу… А ты что скажешь, Черныш? — обратился он к слуге. — Доволен?
— Сильно доволен, баас Гендрик, — отозвался Черныш, но лицо у него при этом было очень недовольное.
В этот день, оставив Черныша и Конго охранять лагерь, молодые охотники отправились к заливу — там они надеялись увидеть бегемотов.
Они проехали мимо того места, где Виллем убил леопарда. Теперь здесь валялись вперемешку лишь кости хищника да кости верного Смока, обглоданные шакалами и гиенами.
Охотники проехали еще полмили, и перед ними открылся залив. Они двинулись по берегу, потом остановились и прислушались — какие-то незнакомые, непередаваемые звуки исходили от двух темных предметов, едва видневшихся над водой. То были головы бегемотов. Животные направлялись к ним, издавая громкие, странные крики, совершенно не похожие на голоса зверей, которые охотникам случалось слышать прежде. О том, чтобы убить бегемотов в воде, нечего было и думать. Стрелять в них сейчас — значило бы зря тратить пули: ведь над водой видны лишь их глаза и нос. Нет, так их ни за что не подстрелить.
Казалось, бегемоты собираются вылезть и напасть на охотников. Но нет, близ берега они, как видно, передумали, круто повернули, расплескивая воду, и поплыли прочь.
Проехав немного дальше, охотники увидели еще трех бегемотов, но уже не в воде, а на суше. Животные спокойно щипали траву, не подозревая о надвигающейся опасности.
— Надо отрезать их от реки, — предложил Виллем. — Тогда они в наших руках.
Охотники быстрым аллюром проехали к реке. Теперь бегемотам путь отрезан.
Инстинкт не спасает этих животных от опасности: откуда бы она ни надвигалась, они бегут в одном направлении — к воде, даже если дорогу им преграждает враг.
Вот почему по первой тревоге все три бегемота, тяжело переваливаясь, двинулись к заливу, да с такой быстротой, какой никак нельзя было ожидать от этих неуклюжих созданий.
Они бежали прямо на охотников — и тем оставалось только посторониться и уступить дорогу, не то бы их попросту затоптали.
Ганс и Виллем стояли рядом, и, когда широкий бок бегемота оказался прямо перед ними, оба разом прицелились чуть ниже плеча и выстрелили. Гендрик и Аренд выстрелили в другого бегемота.
Огромные черные туши продолжали катиться к реке, но тот, в которого стреляли Ганс и Виллем, заметно пошагывался и все замедлял шаг. Не добежав до берега, он тяжело качнулся, словно корабль, зачерпнувший воды, и опрокинулся на бок. Раза два он тщетно пытался снова подняться, потом все его огромное тело судорожно затряслось и застыло неподвижно — он был мертв.
Два других зверя с разбегу бросились в воду, и Гендрику с Арендом осталось только огорчаться, что их первая попытка убить гиппопотама не удалась.
Ганс и Виллем не считали себя удалыми вояками, притом Ганс вечно был поглощен своими ботаническими изысканиями, но вот они с Виллемом убили гиппопотама, а ведь случай благоприятствовал им ничуть не больше, чем Гендрику с Арендом, которые упустили свою добычу!
Глава 15
ГИППОПОТАМЫ
Еще Геродот, Аристотель, Диодор и Плиний более или менее верно описали бегемота, или гиппопотама, или, что то же самое, речную лошадь, или водяную корову, которая водится в голландской Южной Африке.
Европейцы с давних пор читали об этом звере, но лишь недавно его увидели; интерес к нему оказался так велик, что в 1851 году, когда была Всемирная выставка, Зоологическое общество выручило десять тысяч фунтов, показывая бегемота в лондонском Риджент-парке.
Бегемотов, привезенных из Северной Африки, нередко показывали в римском цирке. Но потом на несколько столетий в Европе забыли о них. И, по свидетельству заслуживающих доверия авторов, они совершенно исчезли из Нила.
Прошло несколько веков с тех пор, как бегемотов показывали в Риме и Константинополе, и все это время считалось, что доставить их живыми в чужую страну невозможно. Но наука шла вперед, и эта ошибочная гипотеза была опровергнута. С мая 1850 года глухой рев гиппопотама стал хорошо знаком постоянным посетителям Лондонского зоопарка.
Если верить Мишелю Войну, гиппопотамы были обнаружены в реках Китая. Мареден поселил их на Суматре; другие сообщали, что гиппопотамы водятся в Индии, но ни одно из этих утверждений не было подкреплено хорошо проверенными фактами, и родиной гиппопотама теперь считают одну лишь Африку.
За что гиппопотаму дали название «речная лошадь», трудно понять. Едва ли на свете найдется другое четвероногое, до такой степени не похожее на лошадь.
Обычно гиппопотам погружается в воду настолько, что лишь его глаза, уши и нос остаются на поверхности, и тогда он видит, слышит и дышит, а пулей его не достать. В воде гиппопотам движется свободно и легко и бывает очень свиреп, но на суше он неуклюж и, чувствуя это, держится робко и даже трусливо.
Очевидно, эти громадные животные делают весьма полезное дело: они ломают и вырывают с корнем большие подводные растения, которые, разросшись, могли бы преградить путь реке и она затопила бы все вокруг.
В Африке шкуру гиппопотама используют для самых разных надобностей. Мягкая, когда ее только что сняли, она становится такой прочной и жесткой, когда высохнет, что местные жители выделывают из нее копья и щиты.
Для многих капских колонистов соленое гиппопотамье мясо — любимое блюдо.
Больше всего ценят зубы бегемота. Его огромные клыки — самая красивая кость из всех нам известных, и ею особенно дорожат дантисты: она прочнее и сохраняет свой цвет лучше всех других сортов, из которых изготовляют искусственные зубы.
Длина клыков бегемота иногда достигает шестнадцати дюймов, а вес двенадцати фунтов. Иные путешественники даже уверяют, что видели клыки длиной в двадцать шесть дюймов; но в музеях Европы пока что нет ни одного клыка таких размеров.
У взрослого бегемота шкура еще толще, чем у носорога. Она такая толстая, что ее не пробить ни отравленной стрелой, ни дротиком. Если бы не это, гиппопотамы давно исчезли бы из рек Африки — в отличие от большинства животных, к ним можно без труда подойти на расстояние выстрела из лука.
Но чтобы убить бегемота, местным жителям приходится затратить немало усилий и изобретательности.
Обычно поступают так. Роют ямы-ловушки на дороге, по которой бегемот проходит от реки на ближнюю равнину, когда ему придет охота полакомиться травой. Ямы надо рыть в сезон дождей. В засушливые месяцы земля становится такой твердой, что совершенно не поддается убогим орудиям, которые заменяют местным жителям заступ. Ловушку тщательно маскируют, но иной раз проходят долгие месяцы, прежде чем гиппопотам в нее попадется.
Есть и другой способ охоты на гиппопотамов. Над тропой, которой они идут из реки на соседнее пастбище, подвешивают футов на тридцать — сорок от земли тяжелое бревно с заостренным концом, а поперек тропы протягивают канат, привязанный к защелке, которая это бревно удерживает. Когда гиппопотам с силой дергает канат, огромный кол высвобождается и падает, вонзаясь острым концом в спину животного.
Но теперь по всей Африке вошло в обиход огнестрельное оружие, а за клыки гиппопотама платят так щедро, что не жаль никаких усилий на то, чтобы добыть их, и потому неуклюжий зверь, которого сейчас постоянно встречаешь на берегах южноафриканских рек, вероятно, скоро станет великой редкостью.
Глава 16
ОХОТА НА ГИППОПОТАМОВ
Гиппопотам, убитый Виллемом и Гансом, был великолепен — взрослый самец с большими, без малейшего изъяна клыками.
Измерив его стволом своего громобоя, Виллем сказал, что длина зверя шестнадцать футов, а в обхвате тела — пятнадцать.
Они оставили бегемота на том месте, где он свалился, и поехали дальше по берегу. Они уже видели великолепных гиппопотамов и предвкушали приятную и выгодную охоту, но действительность превзошла все их ожидания.
Не дальше чем в полумиле от места, где был убит первый гиппопотам, они увидели небольшую заводь фута в четыре глубиной. В ней барахтались семь гиппопотамов, а еще несколько паслись неподалеку в болотистой низине. Люди до сих пор так мало беспокоили их, что они не боялись выходить на берег и при свете дня. Те, что оставались в воде, оказались всецело во власти охотников: у них не хватало смелости выбраться на берег, а заводь была не настолько глубока, чтоб они могли укрыться в ней.
Около получаса четверо молодых охотников стояли у заводи, заряжали ружья и стреляли всякий раз, как предоставлялся удобный случай. А когда семь огромных гиппопотамов были убиты или лежали при последнем издыхании, охотники вернулись в свой лагерь.
Здесь их ждал Макора, приехавший с утренним визитом. В подарок охотникам он привез дойную корову, и они от души поблагодарили его.
Корову поручили Чернышу и строго наказали ему получше заботиться о ней.
— Корова нам дороже всякой лошади, — объяснил ему Гендрик. — Конго я бы ее ни за что не доверил, ну, а уж ты, конечно, приглядишь за ней как следует.
Черныш был просто счастлив.
Когда охотники рассказали Макоре, что убили сегодня утром восемь гиппопотамов, он несказанно обрадовался. Он тотчас же послал двоих туземцев в деревню сообщить приятную весть всему племени: их ждет великое изобилие любимой еды.
Ну, на сегодня хватит. И охотники прилегли отдохнуть в тени палатки. Но часа за два до захода солнца им пришлось встать: к ним явились человек триста из племени Макоры — мужчины, женщины, дети, — и все жаждали, чтобы их поскорее повели к убитым гиппопотамам.
Виллем боялся, как бы такое множество народу не распугало всю дичь в округе — тогда придется переносить лагерь в другое место. Но разве уговоришь несколько сот людей ради этого отказаться от обильной и лакомой пищи и бросить ее пропадать! И без дальнейших разговоров охотники согласились вести их к месту утренней охоты.
Виллем, Гендрик и с ними Конго вскоре были уже на конях, готовые к ночной охоте.
Они двинулись в путь, сопровождаемые Макорой со всеми его людьми, а Ганс и Аренд остались сторожить лагерь.
Подойдя к тому месту, где утром был убит первый гиппопотам, они спугнули целую стаю стервятников и свору шакалов, которые раздирали тушу; несколько человек остались охранять от хищников то, что могло пригодиться им самим.
По распоряжению Макоры, туземцы захватили с собой длинные и крепкие веревки, свитые из полос кожи носорога, и, когда они подошли к заводи, Макора приказал вытащить на берег туши семи убитых гиппопотамов.
При обычных условиях выполнить его распоряжение было бы просто невозможно, но здесь берег был ровный, отлогий, за дело взялись добрых полторы сотни людей — и дружными усилиями, ловко и умело орудуя канатами, они справились с этой почти неразрешимой задачей.
Потом мужчины принялись свежевать туши и разрубать их на части, а тем временем женщины и дети разводили костры и готовили все необходимое для грандиозного пира.
Люди работали до поздней ночи. Все мясо, которое не пошло для сегодняшнего пира, разрезали на длинные тонкие полосы, чтобы потом провялить их на солнце, а зубы гиппопотамов поступили в полную собственность молодых охотников.
В ту ночь Виллему и Гендрику не пришлось пускаться в дальний путь, чтобы заняться своим любимым делом — охотой.
Львы, гиены и шакалы издалека почуяли убитых гиппопотамов и, подкравшись к заводи, громко выражали свое недовольство тем, что их не пригласили на пиршество. Несмотря на то что здесь собралось столько людей, зловещий хохот гиен слышался совсем близко. Они, видно, собирались напасть.
В течение некоторого времени Виллем и Гендрик стреляли почти беспрерывно, и наконец отвратительные хищники стали осторожнее и отступили на безопасное расстояние.
У охотников не было ни малейшего желания тратить время и пули, чтобы убивать зверей без разбору. Они хотели стрелять лишь такую дичь, которая могла бы вознаградить их за далекое путешествие; поэтому они скоро перестали палить по гиенам и шакалам. Они отъехали от заводи и направились по берегу туда, где накануне видели гиппопотамов.
Гиппопотамы обычно выходят на сушу пощипать травку ночью, поэтому теперь охотники рассчитывали увеличить число своих побед — и их надежды сбылись.
В полумиле от того места, где они оставили Макору, пировавшего со своими соплеменниками, Виллем и Гендрик увидели равнину, залитую серебряным лунным светом. По равнине лениво бродило десятка полтора теней. Охотники пригляделись и, убедившись, что это гиппопотамы, осторожно двинулись к ним.
Не подозревая, чем им грозит приближение всадников, животные не обращали на них ни малейшего внимания и не пытались уйти, пока охотники не подъехали совсем близко.
— Вот тот — самый большой, — прошептал Виллем, показывая на громадного самца, который пасся не дальше чем в ста шагах от них. — Я им займусь. А ты, Гендрик, возьми на мушку другого, выстрелим одновременно.
С этими словами он поднял свой тяжелый смертоносный громобой, прицелился и выстрелил. Огромное животное зашаталось и попятилось: пуля пробила его голову.
То не было попыткой отступить к воде, бежать в страхе перед опасностью, гиппопотам уже ничего не сознавал, он был при последнем издыхании.
Пятясь задом, гиппопотам протащился каких-нибудь десять ярдов от того места, где его подстрелили, потом тяжело рухнул на землю, опрокинулся на бок и остался недвижим.
Гендрик выстрелил почти одновременно с Виллемом; но в первую минуту гиппопотам, в которого он целился, повел себя так, словно это его нимало не касалось. Вместе с остальными он затрусил прямиком к воде, пытаясь спастись бегством.
И Гендрик было огорчился: опять Виллему повезло, а ему нет! Но скоро он успокоился: они заметили, как один из бежавших к реке гиппопотамов споткнулся и упал.
Всадники перезарядили ружья, подъехали к упавшему животному и увидели, что оно бьется, пытаясь подняться.
Первым выстрелом Гендрик ранил гиппопотама в правое плечо и теперь вторым положил конец его тщетным усилиям и самому его существованию.
Но охотникам было мало этого. Они въехали под сень деревьев, спешились и залегли, ожидая, не покажутся ли гиппопотамы снова на равнине. И они опять не обманулись в своих надеждах. Время от времени до них доносилось глухое ворчание вынырнувшего из воды гиппопотама, а немного спустя они увидели, что три огромных зверя медленно движутся в их сторону. Оба охотника дождались, пока шедший впереди гиппопотам не оказался всего в нескольких ярдах от них, и выстрелили почти одновременно.
С воплем, напоминающим сразу и хрюканье кабана и ржание лошади, гиппопотам повернул к берегу, но не побежал, а начал медленно кружиться на одном месте, как собака, которая собирается лечь спать. Так и он — покружился и лег, чтобы никогда уже не подняться.
В ту ночь Виллем с Гендриком подстрелили еще трех гиппопотамов. Таким образом, они убили за одни только сутки четырнадцать штук. Макора сказал, что его племени за целых два года не удалось убить так много гиппопотамов.
Глава 17
В СТРАНУ ЖИРАФОВ
Уже больше месяца они охотились на гиппопотамов, и Виллему не терпелось заняться наконец делом, ради которого он затеял все это путешествие.
У них накопилось добрых семьсот фунтов превосходной кости, но, несмотря на такие успехи, им уже начала надоедать эта охота — из удовольствия она превратилась в деловое предприятие.
Несколько раз они беседовали с Макорой о жирафах и поняли, что поймать детенышей живьем совсем не просто: на это потребуется немало труда и изобретательности.
Выследить жирафов, догнать их и подстрелить ничего не стоит; иное дело поймать их малышей невредимыми. На это, судя по рассказам Макоры, у охотников уйдет все время, оставшееся до возвращения домой, в Грааф-Рейнет.
Имя, слава, вознаграждение — все, чего так жаждал Виллем, зависело от того, сумеют ли они доставить голландскому консулу двух молодых жирафов. Гендрику и Аренду не терпелось вернуться к своим невестам, а Ганс мечтал о путешествии в Европу.
Поэтому все с радостью согласились, когда Виллем предложил двигаться дальше.
Они сказали о своем намерении Макоре и этим очень его встревожили.
— Я не могу отпустить вас одних, — сказал он. — На пути к моей родине вас ждут опасности, а может быть, и смерть. Вместо того чтобы поймать живьем жирафов, вы, пожалуй, еще сложите там свои головы. Вам нельзя идти одним. И раз уж мы сами не можем добыть для вас детенышей жирафов, я пойду с вами, и мои лучшие воины будут помогать вам. Быть может, тиран Мосиликатсе убьет нас всех, но все равно я иду с вами. Макора не отпустит друзей одних, он разделит с ними опасность. Завтра мои воины будут готовы.
Таков был, по словам Конго, смысл речи Макоры. Молодые охотники давно уважали вождя за все, что он сделал для них, и теперь были тронуты новым доказательством его дружбы.
Макора готов был покинуть свой дом и отправиться чуть ли не за двести миль, а ведь от этого путешествия он не получит никакой выгоды, а потерять может все. И он охотно шел на это из благодарности человеку, который по чистой случайности выручил его однажды из беды.
Предложение Макоры приняли и тотчас начали собираться в дорогу.
Кость, добытую во время охоты на гиппопотамов, решили спрятать пока в надежное место.
Вот, пожалуй, и все, чем должны были заняться перед отъездом молодые искатели приключений. Не так готовились воины Макоры. Они запаслись отравленными стрелами, чинили луки и щиты, оттачивали дротики.
Назавтра, после того как Макора решил сопровождать охотников, он ранним утром выступил из своей деревни во главе пятидесяти трех лучших воинов, и экспедиция двинулась на север.
С собой взяли нескольких быков и нагрузили их сушеным мясом, толченым маисом и другой провизией на дорогу. Гнали и нескольких коров, чтоб не испытывать недостатка в молоке.
Одну из своих вьючных лошадей охотники отдали вождю, и он все время держался подле Виллема.
Места, через которые лежал их путь, были дикие, да и бык — животное не из быстроходных, поэтому продвигались они медленно.
По дороге попадалось много дичи, но охотники не убили ни одного животного просто ради прихоти. Убивали лишь столько, сколько требовалось, чтоб накормить всех свежим мясом; подстрелить антилопу можно было, не тратя и минуты лишней, — их вокруг было множество и притом близко, они подходили на расстояние выстрела.
Дорогой случилось лишь одно происшествие, о котором стоит рассказать.
Было это на шестые сутки, когда путники остановились на ночлег. Один из макололо, сидевший у костра, поднялся, чтобы подбросить хворосту в огонь. Он протянул руку за палкой, валявшейся на земле, и вдруг отпрянул с криком ужаса.
Туземцы, что были поближе, повскакали на ноги, поднялся переполох, и наши охотники не сразу могли понять, что произошло. В конце концов оказалось, что всему виной огромная змея, чуть ли не в восемь футов длиной. Ее подтащили к костру и стали разглядывать. Она извивалась и корчилась, издыхая: кто-то из туземцев раздробил ей голову. Змея была почти черная, и макололо тотчас поняли, какой она породы,
— Пикахолу! Пикахолу! — послышались голоса, и все поспешно обернулись к тому, кто первым на нее наткнулся.
Он поднял правую руку — и все увидели на ладони две глубокие царапины.
У макололо вырвался единодушный вопль — широко раскрытыми глазами они смотрели на несчастного, и взгляды их говорили яснее слов: «Тебе суждено умереть».
Вскоре он весь почернел. Потом у него задергались губы и пальцы, остекленели глаза.
Прошло едва десять минут с тех пор, как его укусила змея, а он уже ничего не сознавал и не чувствовал, кроме смертной муки, и, если б стоявшие вокруг не удержали его, упал бы в костер.
Меньше чем через полчаса он был уже мертв, а змея с искалеченной головой все еще судорожно извивалась по земле.
Воина похоронили на восходе солнца, спустя три часа после того, как он умер; но яд был так силен, что тело начало разлагаться еще прежде, чем его опустили в могилу!
Глава 18
ОХОТА НА ЖИРАФОВ
На двенадцатый день после того, как охотники покинули берега Лимпопо, они под вечер добрались до небольшой речки. Макора называл ее Луизой. Он сказал охотникам, что отсюда всего день пути вниз по течению до развалин деревни, где он родился и прожил всю жизнь, кроме последних двух-трех лет, и что его желание увидать родные места почти уже исполнилось.
Макоре было с чем поздравить себя. Выгнав его из родной страны, вождь Мосиликатсе мало что выиграл. Макололо угнали весь свой скот, унесли все добро — грабителю ничего не досталось. Ни один из его племени не остался дома, некому было платить дань завоевателю; земля макололо опустела — на ней теперь хозяйничают одни только дикие звери.
Соплеменники Макоры не стали рабами, они ушли из родных мест, но теперь никто не помешает им навестить их старый дом.
Ловить молодых жирафов вождь макололо предложил так: устроить в каком-нибудь подходящем месте западню — хопо — и загнать туда стадо жирафов; старых убить, а детенышей захватить.
План Макоры был очень хорош, и все единодушно одобрили его.
Место для западни нужно выбрать с умом, так, чтобы на устройство ее потратить поменьше труда и сил. Конечно, вождь сделает это лучше всех, и охотники решили всецело положиться на него во всем, что касалось сооружения хопо.
Макора вспомнил, что видел когда-то подходящее место на несколько миль ниже по течению, и они отправились туда.
Миновали разрушенную, опустевшую деревню, и многие макололо узнали среди мусора и развалин места, где когда-то стояли их дома.
Еще пять миль вниз по течению — и вот они уже у места, где надо устроить западню. Это узкая долина, вернее — овраг, который ведет от большого леса к берегу реки.
И каких только следов здесь нет! Как видно, чуть ли не все зверье со всей округи проходит тут каждый день.
В лесу растет главным образом мимоза. Ее листву жирафы предпочитают всякой другой пище. Здесь много и других деревьев — они пригодятся для устройства загона.
Макора обещал, что его люди начнут сооружать западню на следующий день: выроют ямы и срубят деревья, чтобы поставить ограду.
Виллем спросил:
— Не лучше ли сперва проверить, есть ли в ближайших окрестностях жирафы, а потом уже приниматься за дело?
Макора ответил, что в этом нет надобности: к тому времени, как они построят западню, жирафы, уж конечно, найдутся. Кроме того, он предостерег охотников, чтобы они не стреляли в жирафов, если и увидят их, пока не будет готова западня, а на это, по его подсчетам, уйдет недели две.
Только теперь охотники начали понимать, какое трудное дело они затеяли, и возблагодарили счастливый случай, который привел им на помощь вождя племени макололо. Без Макоры и его людей нечего было бы и пробовать поймать жирафов живьем.
Охотники прекрасно ездили верхом, и им ничего не стоило нагнать жирафов и убивать их сколько душе угодно, но это было бы жалкое развлечение, и даже Виллему оно бы скоро наскучило. Не для этого они пустились в дальний путь.
На другое утро начали устраивать западню, и, чтобы вдохнуть в молодых охотников надежду, что труды их будут не напрасны, Макора показал им следы стада жирафов, которое ночью побывало у реки.
Вождь не позволил своим гостям принимать участие в тяжелой работе, и, чтобы не терять времени попусту, Виллем, Гендрик и Аренд решили проехать вниз по течению.
Ганс остался в лагере. Он был рад случаю пополнить свой гербарий, а заодно пострелять антилоп и другую дичь, чтобы было чем кормить людей Макоры.
С ним остался и Черныш.
Думая, что их поездка продлится всего два дня, Виллем и его друзья хотели отправиться налегке и потому взяли с собой лишь одну вьючную лошадь. Ее поручили заботам Конго, который, разумеется, не отставал от своего хозяина.
Трудно представить себе места прекраснее тех, где они охотились в первый день. Пальмовые и смешанные рощицы разбросаны там и сям по цветущей равнине, и на ней мирно пасутся антилопы гну и каамы. Стаи яркокрылых птиц гнездились, кажется, в ветвях каждого дерева. И куда бы ни глянули наши путники, все представлялось поистине каким-то охотничьим раем.
В тот день молодые искатели приключений впервые увидели гордого жирафа. Семь величественных жирафов не торопясь спускались с холмов, которые пересекали равнину.
— Не шевелитесь! — воскликнул Гендрик. — Может, они подойдут поближе и мы успеем выстрелить в них, прежде чем они нас заметят.
Грациозные животные двигались по освещенной солнцем равнине, словно ожившие башни, и от них ложились на траву длинные тени. Деревья издали казались ниже их высоко поднятых голов. Не дойдя ярдов двести до охотников, жирафы почуяли их, круто повернули и стремительно понеслись прочь.
— Догоним их! — воскликнул Виллем. — Наши кони не устали. Что бы там ни говорил Макора, а я должен убить жирафа!
Все трое вскочили в седла и, оставив вьючную лошадь на попечение Конго, погнались за убегавшим стадом.
Некоторое время всадники не могли нагнать жирафов, которые уносились от них широкими, неуклюжими шагами. Но расстояние, разделявшее их, не увеличивалось, и охотники, не теряя надежды, все подгоняли лошадей.
Так они проскакали мили четыре, и лошади стали уставать, но и жирафы сбавили шаг. Прежняя скорость стала им не по силам.
— Один мой! — крикнул Виллем и дал шпоры коню. Огромный жираф, видно уставший больше других, начал заметно отставать. Скоро охотники почти поравнялись с ним и, отрезав его от стада, дали залп. Казалось, жираф должен был упасть, но нет, он побежал быстрее прежнего, словно выстрелы прибавили ему сил.
Всадники остановились, наскоро перезарядили ружья и, пришпорив коней, опять догнали жирафа.
Снова дали залп. Вилдем целился пониже плеча, остальные — вверх, в голову.
Жираф вдруг остановился и задрожал, словно подрубленное дерево. Голова его бессильно качнулась сперва направо, потом налево. Он пытался устоять на нетвердых ногах, но потерял равновесие и, не в силах больше бороться, рухнул наземь.
Охотники спешились и с гордостью смотрели на распростертое перед ними животное, которое совсем недавно было таким величественным. То был движущийся монумент — и вот он лежит на траве и судорожно бьет ногами в предсмертных муках.
Глава 19
ЖИРАФ
На свете нет, пожалуй, животного более стройного, с более красивой и гордой осанкой, чем жираф. От его переднего копыта до рогов восемнадцать футов это, говорят, самое высокое четвероногое на земле. Есть несколько видов жирафов. Изящные и величественные, с красивой пестрой шкурой и кротким нравом, они при первом же своем появлении в Европе вызвали большой интерес.
Жираф был хорошо известен древнему Риму и в пышных зрелищах привыкшего к роскоши города играл не последнюю роль; но после падения Римской империи жирафы исчезли из Европы, и на несколько веков цивилизованный мир забыл о существовании этих животных.
О них упоминается вновь лишь в конце XV века. Известно, что во Флоренции среди диковинок Лоренцо Медичи был и жираф.
Египетский паша преподнес жирафа в подарок Георгу IV, и это был первый жираф, которого увидели в Англии. Его привезли в 1828 году, и он прожил около года.
Двадцать четвертого мая 1850 года в зоологическом саду в Риджент-парке появились четыре жирафа. Их привезли с юго-запада Кордофана, и доставка обошлась в две тысячи триста восемьдесят шесть фунтов стерлингов три шиллинга и один пенс.
При взгляде на жирафа кажется, что передние ноги у него почти вдвое длиннее задних, но это неверно; просто плечи у него гораздо массивнее бедер. Голова жирафа непропорционально мала и покоится на постепенно суживающейся кверху шее длиной около шести футов. Если смотреть на него спереди, шея, туловище и передние ноги примерно одинаковой вышины. Задние же ноги, если считать от верха бедра до копыта, редко бывают длиннее шести с половиной — семи футов.
Голова жирафа увенчана парой шишек, которые обычно называют рожками, хотя они совсем не похожи на рога любого другого животного. Они костяные, пористые и покрыты короткой щетиной.
Натуралисты до сих пор не определили, для чего предназначены эти костяные отростки. Они не нужны ни при нападении, ни при защите и не выдержат столкновения в драке.
Глаза жирафа необыкновенно хороши. Они большие и притом более нежные и кроткие, чем прославленные глаза газели; посажены они так, что жираф видит во все стороны, не поворачивая головы.
Жираф на редкость чуток и очень робок, мгновенно замечает опасность, и человек может нагнать его лишь на самом быстроногом коне.
Питается жираф преимущественно листьями и ветками акаций и других деревьев, особенно зонтиковидной акации, которую туземцы называют «мохала», а голландцы — жители Капской колонии — «жирафья акация».
Язык служит жирафу, как хобот слону, своеобразным щупальцем и хватательным органом, но жираф гораздо выше ростом и потому лакомится листьями, растущими так высоко, что слону их не достать.
Кожа у жирафа необыкновенно толстая — нередко до полутора дюймов, — и пробить ее так трудно, что иногда приходится потратить двадцать, даже тридцать пуль, чтобы убить животное. Боль от ран жираф переносит молча — он немой.
Жираф не похож на других зверей и тем, что его шкура с годами темнеет.
Самка жирафа светлее самца и много ниже его ростом. У жирафа есть только один способ самозащиты — он лягается, и удар его копыта гораздо сильнее и опаснее, чем любого другого животного, в том числе и лошади. Выпуклые глаза позволяют ему видеть и то, что происходит сзади, поэтому он бьет врага наверняка; ударом копыта он может раздробить человеку череп или переломать ребра. Но если жирафа не трогать, он — одно из самых безобидных животных.
Это удивительное создание, с таким необычным строением тела, такое быстроногое, сильное, пригодно, конечно, не только для того, чтобы щипать листья акации, но какое найти ему применение, человек пока не знает,
Глава 20
ОНИ СПАСАЮТСЯ БЕГСТВОМ
Оставив наконец тело жирафа там, где он был убит (Виллему непременно хотелось повезти его с собой), охотники отправились на поиски реки. Они обрадовались, увидав невдалеке Луизу или другую точно такую же речку, и поехали берегом, отыскивая место, где можно было бы напоить лошадей; после долгой погони за жирафами их томила жажда.
Проехали уже с полмили, а берег был все так же крут и неприступен. Но неподалеку охотники увидали небольшое озерцо и сделали привал, чтобы дать лошадям немного отдохнуть, да и накормить их тоже было пора.
Вокруг озерца пышно разрослась трава, и лошади могли попастись час, другой. Их расседлали и пустили щипать траву.
— Я думаю, Конго догадается все упаковать и пойдет за нами, — сказал Гендрик.
— Да, наверно, — ответил Виллем. — По-моему, часа через два он будет здесь.
— А ты уверен, что он разыщет нас?
— Конечно, — ответил Виллем. — Он знает, что мы отправились вниз по течению, и река сама поведет его. А если и нет, ведь с ним Следопыт. Пойди мы сейчас вверх по реке, мы бы встретили его на полдороге.
— Но нам незачем идти вверх, — сказал Гендрик. — Нам надо идти вниз по течению.
— Тогда лучше дождемся его здесь.
Разговаривая так, они вдруг услыхали глухой, но мощный звук, и им почудилось, что сама земля задрожала у них под ногами.
Деревья в ближайшей роще зашатались, некоторые пригнулись к самой земле, словно вдруг налетел бешеный ураган.
Лошади встревожились — вздернули головы, захрапели и стали кидаться из стороны в сторону, словно не зная, куда спасаться.
Еще минута — и из-за шатающихся деревьев выступили слоны. Очутившись на равнине, почти все они громко затрубили.
Лошади поскакали прочь, и охотники погнались за ними — ведь от того, поймают ли они лошадей, зависела их жизнь.
Но почти тотчас погоню пришлось бросить. Слон, шедший впереди, кинулся на людей, и теперь впору было думать лишь о собственном спасении.
Остальные слоны двинулись за лошадьми; казалось, все они бешеные, кроме трех-четырех, которые остались у озера.
Самая жизнь охотников была в опасности. Остановить вожака и обратить слонов в бегство мог лишь меткий залп. Эта мысль пришла в голову всем троим. Они разом прицелились и выстрелили в бегущего на них слона. Но пули их пропали понапрасну.
От этой попытки задержать его слон только пришел в ярость и, затрубив еще громче, еще оглушительнее, прибавил шагу.
Перезаряжать ружья уже не было времени, и охотники снова побежали, с ужасом понимая, что вот-вот гигант нагонит их и не один, так другой падет жертвой преследователя.
Охотники со всех ног неслись к реке. Стоило им кинуться в любую другую сторону — и они напоролись бы на клыки остальных слонов. Слонов привлек рев раненого товарища, и они теперь яростно преследовали людей.
Охотникам удалось добежать до реки, и они уже хотели броситься вплавь, но тут Аренд подал новую мысль.
— За мной! — крикнул он и побежал по стволу поваленного тополя, лежащему поперек течения.
Разъяренный слон был уже так близко, что, когда Виллем, отступавший последним, стал взбираться на поваленное дерево, он почувствовал, как хобот слона коснулся его ноги.
Макушка дерева опустилась в воду на несколько футов ниже берега, за который оно еще цеплялось корнями, и им пришлось, как выразился Гендрик, взбираться по стволу вниз.
Ветвями упавший тополь опирался на камни посреди реки, и поэтому его не снесло течением, хотя здесь оно было очень быстрое.
На некоторое время охотники очутились в безопасности, и, хотя при обычных обстоятельствах их положение никто бы не назвал приятным, они были несказанно счастливы: так всегда чувствуешь себя, когда только что избежал гибели.
Слон неистово рвал вывороченные корни тополя, тщетно пытаясь добраться до охотников. Они оказались в осаде, но в ближайшее время им не грозила опасность столкнуться лицом к лицу с врагом.
Охотники внимательно осмотрели свое убежище и убедились, что основание скалы, на которую опиралась верхушка дерева, составляет не более тридцати футов в окружности, а вершина вдвое меньше — диаметр ее всего около десяти футов.
Этого было достаточно, чтобы все трое могли стоять на скале, но и только; зато ветви тополя оказались такими крепкими и длинными, что можно было сколько угодно лазить по ним, как лазили бы обезьяны, окажись они на месте наших охотников.
Что касается врага, он, видно, сразу понял, что люди оказались в безопасности, и минуту, другую словно обдумывал, не снять ли осаду.
Между тем охотники немного отдышались после отчаянного бега и стали перезаряжать ружья — нужно было быть наготове.
И, словно разгадав их намерения, слон спокойно двинулся от реки.
— Ушел! — сказал Виллем. — Но нам лучше не спешить. Я не прочь бы еще немного отдохнуть.
— Надеюсь, мы останемся здесь не дольше, чем сами захотим, — заметил Гендрик. — Только не надо двигаться с места, пока все стадо не уйдет отсюда. Эти слоны какие-то бешеные, мы таких еще никогда не встречали: они совсем не боятся людей!
Скала, на которой стояли охотники, была на несколько футов ниже берега реки, поэтому они не видели, что происходит на равнине.
Аренд предложил вернуться назад по стволу тополя и, если слон еще в пределах досягаемости, выстрелить по нему на прощанье. Виллем и Гендрик запротестовали. Они предпочитали оставить слона в покое — пусть уж уйдет, если сам собрался уходить.
Через несколько минут Аренд снова предложил подняться и поглядеть, тут ли слон. Но его товарищи опять воспротивились.
— Нет, еще рано, — сказал Виллем. — Нам нельзя показываться. Может, он все еще стережет нас — и, если увидит тебя, пожалуй, вообразит, что нам не терпится удрать. Это лишь подстрекнет его задержаться здесь. Надо быть поосторожнее — такой враг не глупей человека.
Прошло еще полчаса, и Виллем поднялся по стволу, так что его голова оказалась на уровне берега. Одного взгляда оказалось достаточно. Когда он обернулся к своим товарищам, лицо его было мрачно.
— Так я и думал, — сказал он, — слон все еще здесь. Он сторожит нас. Он хочет отомстить, и, думается мне, он свое возьмет. Пока можно будет выбраться отсюда, мы тут с голоду помрем.
— Где он? — спросил Гендрик.
— Да тут, у озера, принимает душ. Но я видел, он все время поглядывает в нашу сторону.
— Он один? — спросил Аренд.
— Да, похоже, что остальные ушли. У озера он один. Он ранен, но двигается довольно быстро, и, пока мы не убьем его, нам не выйти на равнину.
Никто не ответил. Виллем снова перешел на скалу, и все трое взялись за ружья, готовясь стрелять по врагу.
Глава 21
ДИЧЬ, КОТОРУЮ НЕЛЕГКО УБИТЬ
Снова Виллем вскарабкался по стволу. На этот раз он прихватил свой громобой, и двое друзей не отставали от него. Слон все еще был у озерка; чтобы заставить его подойти ближе, Виллем показался над берегом. Однако хитрость не удалась. Слон видел его, но инстинкт или, быть может, почти человеческий разум подсказал ему, что не стоит нападать на людей, пока они не покинули свое убежище.
— Отсюда стрелять нет смысла, — сказал Виллем. — Надо подобраться к нему поближе. Не стойте на дороге: очень возможно, что мне опять придется от него удирать.
От упавшего тополя до озерка было ярдов сто. Пройдя около трети этого расстояния, Виллем остановился.
С философским спокойствием слон ждал его приближения — видно, он решил подпустить охотника так близко, как тому будет угодно.
Стоял он так, что Виллем не мог прицелиться в бок, как целился всегда; но слон не менял позы, и пришлось стрелять в голову.
Едва раздался выстрел, слон взревел и ринулся на охотника.
Виллем помчался к поваленному дереву и перебежал в безопасное место, когда слон уже настигал его.
И тотчас в громадное тело слона впились еще две пули; это выстрелили Гендрик и Аренд, но слон, казалось, ничего и не заметил.
Пока они перезаряжали ружья, слон опять отошел к озеру. Там его настигли еще семь пуль, но он ни разу больше не попытался хотя бы подойти к убежищу, где скрывались его мучители.
До захода солнца оставалось только два часа, с юго-запада шли тяжелые, темные тучи. Тринадцать выстрелов дали охотники по слону, но, казалось, он все еще был невредим. Им грозило так и остаться под стражей. В своем ненадежном убежище — в ветвях упавшего дерева на середине реки — они застрянут на всю ночь, а ведь надвигается жестокая буря. Они выстрелили еще трижды, но все напрасно. А вот и дождь — он полил как из ведра.
Они не раз попадали под сильный ливень, но такого никто не мог припомнить.
Теперь им было не до того, чтобы пытаться прорвать осаду. Они думали только о том, как бы сохранить сухими порох и ружейные замки.
В угасающем свете дня Виллем еще раз вышел на разведку и убедился, что слон по-прежнему терпеливо караулит их.
Над рекой опустилась ночь, и в густой тьме они едва различали друг друга, а яростный ливень все не унимался. Вот когда можно бы незаметно ускользнуть от тюремщика, но теперь они уже не хотели этого. Как-никак, слону пришлось нелегко, в нем засело столько пуль, что вряд ли он дотянет до утра. Они подождут, пока он не испустит дух, и завладеют его великолепными бивнями.
Прошел час, другой, третий, а дождь все еще лил, хотя уже с меньшей силой.
— Не нравится мне все это, — сказал Гендрик. — Право же, Чернышу и Конго, когда они сидели в яме, было немногим хуже. Хотел бы я знать: неужели слон все еще стережет нас? Не улизнуть ли нам, как по-вашему?
— Об этом и думать нечего, — ответил Аренд. — Даже если слон и ушел, нам в такой тьме не найти лошадей. А если он все еще поджидает нас, мы и в пяти шагах его не разглядим, а уж он-то нас увидит. Лучше останемся тут до утра.
— Правильно, Аренд, — поддержал Виллем. — Из наших ружей сейчас не очень-то постреляешь, и, если на нас нападут, мы окажемся беззащитными.
Мнение Аренда взяло верх: решили остаться на скале до утра.
Дождь лил всю ночь, охотникам негде было от него укрыться, и они промокли до нитки. Томительно тянулось время. Они уже начали всерьез сомневаться, придет ли когда-нибудь утро, но оно все-таки настало.
Первые слабые проблески зари окрасили небо на востоке, и тут охотники со страхом услыхали громкий треск ветвей: еще мгновение — и мост, по которому они добрались до скалы, стало сносить течением!
— Берегитесь! — закричал Аренд. — Дерево поплыло. Держитесь подальше от ветвей, а то нас тоже снесет!
Все вместе они кинулись на самую вершину скалы и добрались до нее как раз вовремя, чтобы избежать опасности, о которой предупреждал Аренд, а еще через минуту они оказались отрезанными от берега.
Рассвет застал их на крошечном каменном островке — троим едва было где стать. Река вздулась, поднялась, вода уже касалась их ног и грозила подняться еще выше. Положение не из приятных! Вот-вот и их унесет потоком вслед за предательским мостом.
Теперь они уже не вспоминали про слона. Да они и не могли бы до него добраться: словно Прометей, они были прикованы к скале.
Даже если бы хватило сил справиться с бурным течением, берега так высоки, что на них не взберешься. Все трое умеют плавать, и можно бы поплыть вниз по течению в надежде добраться до отлогого берега. Это, конечно, выход из трудного положения, но одно плохо: придется оставить здесь ружья, и тогда их уже не вернешь. Разве что удастся издали поглядеть, как они лежат там, на скале. Нет, с оружием они ни за что не расстанутся. Это ведь значило бы, что с охотой покончено!
Кроме того, течение реки здесь быстрое, бурное, очень сильное. Оно понесет их со страшной скоростью. А впереди пороги, острые, зазубренные, — если налетишь на них, изранишься, а то и совсем разобьешься, и вряд ли всем троим удастся добраться до берега невредимыми.
— Нет, не хочется мне пускаться в это плавание, — сказал Гендрик. — И вот еще почему. Вчера, когда мы бежали сюда, я видел двух огромных крокодилов. Тут их, наверно, десятки.
— Останемся пока здесь, — сказал Аренд. — Крокодилы всегда голодны, а мне вовсе не хочется попасть им на обед.
— Согласен, — поддержал его Виллем. — Я еще не настолько голоден, чтобы расстаться с моим громобоем.
Предложение было принято единогласно, и они остались на месте. Но терпение начало изменять им. Солнце уже поднялось высоко. Оно палило нещадно, словно все его лучи, как в фокусе, сошлись в той каменной точке, на которой стояли наши три охотника. Казалось, никогда еще им не было так жарко и никогда их так не мучил голод. Гендрик и Аренд просто с ума сходили от жары и голода, один лишь Виллем сохранял остатки хладнокровия.
— Неужели слон все еще стережет нас? — заметил он. — Тогда он просто старый дурень, как Черныш называет Конго. Очень сожалею, что мы не можем отдать ему визит и поблагодарить за столь затянувшееся бдение.
Виллем пытался острить, он хотел развеселить своих павших духом товарищей. Но все было напрасно. Никто даже не улыбнулся в ответ.
Глава 22
ВРОЗЬ
Весь этот долгий день оставались охотники на каменном островке. Они больше не боялись, что их смоет потоком. Вода уже не поднималась, но и спадать еще не начала.
Солнце уже стояло в зените и жгло сильней прежнего. Охотники буквально поджаривались на своей каменной сковородке. Это становилось невыносимо.
— Неужели мы проторчим здесь еще одну ночь? — нетерпеливо спросил Гендрик.
— Похоже на то, — мрачно ответил Виллем.
— А завтра что будем делать? — спросил Аренд. — Вряд ли завтра нам будет легче выбраться отсюда, чем сегодня.
— Да, верно, — сказал Виллем. — Надо что-то придумать. Не век же сидеть здесь, как в тюрьме! Что можно сделать, как по-вашему?
— Вот что, — предложил Гендрик. — Пусть кто-нибудь один поплывет вниз по течению и поищет место, где можно вылезти на землю. Если он выплывет благополучно, он сушей опять поднимется сюда, выберет лиану подлиннее — они тут с каждого дерева свисают, — раскачает и забросит на камень, а другие двое постараются ухватить конец. Таким способом мы все и выберемся.
— Неплохо придумано, — отозвался Аренд. — Но только кто из нас поплывет? Я, например, готов рискнуть.
— Конечно, риск большой, — сказал Гендрик. — Но ведь и оставаться здесь опасно — нам грозит голодная смерть.
— Совершенно верно, — поддержал Аренд. — Не знаю, как на ваш вкус, а по-моему, пускай уж лучше меня слопает крокодил, чем я сам помру с голоду. Так что я с удовольствием отправлюсь. Если часа через три-четыре вы не увидите меня на берегу, значит, либо мною пообедал крокодил, либо я разбился о камни.
Гендрик и Виллем и слушать не хотели о таком самопожертвовании; некоторое время они спорили, кому плыть, и каждый утверждал, что плавает куда лучше других — уж конечно, при иных обстоятельствах никто из них не стал бы так говорить.
Каждый настаивал на своем праве рискнуть жизнью, и ни один не хотел уступить, пока наконец не решили кинуть жребий.
Так и сделали, и Гендрику, которому впервые пришел в голову этот план, выпало на долю осуществить его.
— Вот и хорошо! — обрадовался Гендрик, когда все было решено. — Ведь я сам все это придумал, я и сделаю. Ну, за дело!
Он быстро разделся, пожал руки Аренду и Виллему, прыгнул в поток — и стрелой унесся прочь, подхваченный стремительным, бурным потоком.
С тревогой глядели ему вслед друзья, но не прошло и трех минут, а он уже исчез из глаз.
Два часа Аренд и Виллем провели в тревожной неизвестности. Потом прошло еще два часа, и их объял ужас.
— Уже смеркается, — сказал Аренд. — Если до ночи Гендрик не вернется, я поплыву за ним.
— Что ж, можно и поплыть, пока у нас есть силы, — отозвался Виллем. — Если ты поплывешь, я с тобой. Двинемся вместе. Как по-твоему, сколько еще надо ждать?
— По-моему, немного. Уж конечно, на протяжении мили он мог найти место, где можно выбраться на берег. А много ли надо времени, чтобы проплыть одну милю по течению реки! Видел, с какой скоростью его понесло? Гендрик вернется очень скоро… или совсем не вернется.
Прошел еще час, а Гендрика все не было.
— Останься здесь, Виллем, — предложил Аренд. — Я поплыву один.
— Нет, — ответил знаменитый охотник. — Поплывем вместе. Когда-то я думал, что, пока жив, ни за что не расстанусь со своим ружьем, да, видно, придется. Больше ждать нельзя. Слабеешь, с каждым часом сил становится меньше.
Они разулись и уже хотели прыгнуть в воду, как вдруг до них донесся хорошо знакомый голос.
На берегу, как раз напротив их каменного островка, появился Конго верхом на лошади.
— Не бойтесь, баас Виллем! — крикнул он. — Я скоро вернусь! — И ускакал.
И тотчас, как будто объясняя его исчезновение, громко затрубил слон.
— О Господи! — воскликнул Аренд. — Сколько еще нам тут сидеть?
— Наверно, до завтра, — ответил Виллем. — Быстрее Конго не обернется: ему надо проскакать до лагеря и обратно.
— Неужели он ускачет, даже не попытавшись нас выручить?
— Конечно. Что он тут сделает один? Ничего. Он это понял, вот и поскакал за подмогой. Слона ему в одиночку не убить. Да и не будь тут слона, Конго не мог бы снять нас со скалы.
— До берега ярдов двадцать. Добраться-то можно, только для этого нужен канат. И лианы годятся, но Конго их не заметил. Он, видно, с первого взгляда понял, что одному здесь не справиться, и поскакал в лагерь за подмогой.
— Надеюсь, — сказал Аренд. — Если так, нам нечего бояться за себя. Просто нужно набраться терпения и ждать. Одно меня тревожит — Гендрик.
Виллем не ответил, и Аренд понял, что он уже почти потерял надежду снова увидеть Гендрика.
Медленно зашло солнце, и над бурной рекой снова опустилась ночь.
Даже если бы охотников не мучил голод, тревога все равно не дала бы им уснуть. Воды у них было вдоволь, даже слишком много, хотя доставали ее не без труда: черпать приходилось пороховницей, из которой для этого высыпали порох.
Снова настало утро, и солнце взошло такое же яркое и жгучее, как накануне, и чем выше поднималось оно в безоблачном небе, тем беспощадней жгли его лучи.
Еще несколько часов — и вернется Конго… А вдруг он вовсе не вернется? Они уже знали, что в Африке всякая поездка — дело опасное, недаром они снова попали в беду. Вдруг ему что-нибудь помешает добраться до лагеря?
Теперь они уже не сомневались, что с Гендриком стряслась беда, быть может, он даже погиб.
И, словно для того, чтобы окончательно уверить их в этом, около скалы, на которой они стояли, появились три крокодила. Они не спешили плыть дальше должно быть, надеялись в скором времени полакомиться человеческим мясом.
При виде этих тварей Виллем вышел из себя. Вот какая судьба, быть может, постигла Гендрика, вот что, возможно, ждет их обоих!.. Он схватил громобой, высыпал отсыревший порох и зарядил ружье снова. Потом прицелился в глаз одного из мерзких гадов и спустил курок.
Прогремел выстрел. Крокодил тяжело нырнул в воду и так заметался, что стало ясно: охотник не промахнулся!
Крокодил вынырнул, перевернулся в воздухе, потом снова ушел в воду и стал с такой быстротой кружить на одном месте, что Виллема и Аренда, смотревших на его агонию, обдавало брызгами с головы до ног.
Два других крокодила поплыли вниз по течению, и, провожая их взглядом, братья думали об одном и том же.
Мысли обоих были о Гендрике. Спустимся же и мы вниз по течению и посмотрим, что с ним сталось.
Глава 23
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Когда Гендрик расстался с друзьями и очутился в воде, ему не пришлось тратить много сил на то, чтобы плыть. Легких движений рук и ног было довольно, чтоб держаться на поверхности, а течение несло его с такой скоростью, что он надеялся быстро доплыть до цели.
Наверно, скоро он доберется до какого-нибудь места, где берег не так уж неодолимо крут и высок, а течение все-таки не настолько сильное, чтобы он не смог приблизиться к берегу.
Гендрик проплыл мимо нескольких скал, и ему стоило большого труда не разбиться об одну из них — так стремительно несла его река.
Уже около мили отделяло Гендрика от оставшихся позади друзей. Как он и ожидал, берега становились все более отлогими, и он решил, что пора выбираться на сушу.
Но река по-прежнему быстро мчала свои воды, и, пока Гендрик успевал на фут приблизиться к берегу, его сносило еще на несколько ярдов вниз по течению.
В сознании Гендрика наконец пробудилось смутное предчувствие опасности, о которой он и не подумал, пускаясь в путь. Он предвидел что угодно, но не это! До сих пор все шло хорошо: он не разбился о скалы, не попался крокодилам. Но он уже знал, что ему грозит новая и, быть может, еще более серьезная опасность. Его сносило так быстро, что он понял: воды катятся по наклонной, и вот впереди уже слышится шум водопада! Сперва это была лишь догадка, но вскоре не осталось никаких сомнений. Гендрик стрелой несся к краю водопада. Собрав все свои силы, он попытался выплыть к берегу в том месте, где было не слишком круто.
Это ему почти удалось. Еще десять футов — и он бы ухватился за нависшие над водой кусты. Но как ни мало было это расстояние, Гендрик не смог его одолеть, и жадная пучина снова потянула его.
На самом краю обрыва, откуда река низвергалась вниз, он заметил острый камень, выступающий из воды фута на три… Не столько все старания пловца, сколько счастливый случай помог ему — течение проносило его совсем близко. Дотянувшись до скалы, он ухватился за нее обеими руками и лишь так смог удержаться. Вода протащила его вокруг скалы, пока все тело его не вытянулось по течению и ноги не повисли над водопадом. Хотя скала разбивала течение и ослабляла его напор, Гендрику пришлось напрячь все силы, чтоб его не смыла вода. Немного погодя ему удалось найти место для ног. На скале оказался небольшой выступ: Гендрик поставил одну ногу, а другой оперся о вершину. Попытка добраться до берега неминуемо стоила бы ему жизни. Земля была совсем близко, на расстоянии прыжка, но, чтобы прыгнуть, надо сначала твердо стать на ноги, а для этого не хватало места.
Шли часы, и стоять в такой утомительной и неудобной позе становилось все труднее. Передохнуть он мог лишь одним способом: снова спуститься в воду, обхватив скалу обеими руками. Но больше двух-трех минут так не отдохнешь если это вообще можно назвать отдыхом, — и Гендрику приходилось снова взбираться на скалу.
«Здесь, по крайней мере, нечего бояться крокодилов, — подумал он в одну из таких «передышек». — Может быть, какого-нибудь и занесет сюда, но он все равно не успеет схватить меня, даже если будет умирать с голоду». Так он промучился всю ночь.
Рассвело, и снова он терзался, глядя на берег, до которого рукой подать, но который так недостижим, словно Гендрика отделяет от него поток в несколько миль шириной.
Нет, видно, судьба не пощадит его.
Раз невозможно добраться до берега, попробуем поглядеть вниз. Вытянув шею как только мог, Гендрик посмотрел, куда низвергаются воды реки. Глубина была футов тридцать. Внизу все пенилось, но уже чуть дальше река несла свои воды плавно, спокойно, словно отдыхала после бешеного прыжка.
«Не отдаться ли на волю течения?» — подумал Гендрик. Будь он уверен, что внизу глубоко, он бы мгновенно решился. Ну, а если там острые камни? Ведь тогда разобьешься насмерть. Да и берега внизу крутые. Пожалуй, еще не скоро выберешься на сушу, придется долго плыть. А после того как водопад сбросит его с тридцатифутовой высоты, нелегко ему будет держаться на поверхности. И, уж во всяком случае, долго плыть он не сможет.
Гендрик взвешивал, сомневался и наконец решил отказаться от этой опасной попытки.
Как ни тяжело ему приходилось, он не забывал о друзьях, оставшихся на скале.
Скорей всего, Виллем и Аренд поплывут вслед за ним. Пожалуй, кто-нибудь из них уже и поплыл, а может, и оба. И ночью их могло унести в водопад, а он в темноте ничего не заметил…
Время шло, и Гендрик так истерзался, что стал терять надежду на спасение. Он едва устоял перед искушением положить всему конец, отдав свое тело во власть потока. Но образ Вильгельмины, мелькнувший перед его мысленным взором, отогнал демона-искусителя.
Как добрый ангел, явилась она ему и повелела надеяться и ждать. И он подчинился.
Глава 24
СНОВА ВМЕСТЕ
Время шло. Виллем и Аренд на своем каменном острове терпеливо ждали возвращения Конго. Они не сомневались, что он поможет им и не заставит их ждать ни одной лишней минуты; но он уехал на ночь глядя, а это опасное время для путешествий. Он мог бы уже побывать в лагере и вернуться: времени прошло немало. Сестрица Анна и та, стоя на сторожевой башне замка Синей Бороды, не глядела на дорогу так пристально, как они; не отрывая глаз, следили они за берегом: не появится ли Конго. И они дождались! Около полудня они услыхали крики, и вскоре на берегу показались Ганс, Конго и Макора. С Макорой пришли человек десять туземцев. Они тащили длинные канаты, которые Конго велел захватить с собой.
— Где Гендрик? — прежде всего спросил Ганс с дрожью в голосе.
— Не знаем, — был ответ. — Он поплыл вниз по течению, он надеялся выбраться на берег. Мы очень боимся, что с ним что-то случилось.
Пока три друга тревожно совещались, Макора с несколькими своими людьми прошел берегом вверх по течению.
У самого берега росло когда-то высокое, футов в пятьдесят, дерево. Много лет назад оно упало, и теперь ствол лежал мертвый, высохший. Накрепко обвязав один конец ствола канатами, его столкнули в реку с таким расчетом, чтобы его снесло к скале, где стояли Виллем и Аренд. Другой конец каната крепко держали несколько туземцев.
Течение подхватило бревно и мгновенно прибило его к скале; люди изо всех сил натянули канат и придержали бревно, чтобы его не понесло дальше.
С кошачьей ловкостью Виллем и Аренд прыгнули на бревно, уселись верхом; их подтянули к берегу и в целости и сохранности втащили наверх.
Первое, что они увидели, была туша слона, в которого они всадили столько пуль.
Он все-таки сдался. Даже гнев и жажда мщения не спасли его от смерти.
Теперь Виллем и Аренд уже не беспокоились о себе, но они всё больше тревожились об исчезнувшем друге. Их мучил голод, усталость, но они не хотели и думать о еде, пока не разыщут Гендрика.
Ничто другое, кроме разве уважения к себе, не живет в душе человеческой так долго и упорно, как надежда, даже если надеяться больше не на что.
С тех пор как Гендрик расстался с ними, прошло уже больше суток. Увидят ли они его когда-нибудь снова живого или мертвого? Сто против одного, что нет. Но они все еще не теряли надежды.
Захватив еды, чтобы поесть дорогой, они отправились вниз по течению. Многим туземцам явно не хотелось идти. Они только что прошли около тридцати миль за несколько часов и, разумеется, устали. Но не только поэтому они отправлялись в путь с такой неохотой. Им уже сказали, что Гендрик поплыл вниз по течению, и, так как ими руководил здравый смысл, а не дружеские чувства, они не надеялись найти его. Ведь они хорошо знали эти места и этот водопад и были уверены, что пловцу не миновать пропасти и что река уже уносит его безжизненное тело к океану.
Проехав немногим больше мили вниз по течению, Виллем выстрелил. Эхо раскатилось далеко вдоль берегов. Все замерли, прислушиваясь, не откликнется ли Гендрик.
И он откликнулся.
Издали донесся слабый человеческий голос. С радостным криком все три охотника бросились вперед, и немного погодя Ганс позвал:
— Гендрик!
И в ответ с реки послышалось:
— Я здесь! Сюда!
Еще через минуту они уже стояли в нескольких футах от того, кого разыскивали, и с одного взгляда поняли, почему он не вернулся к ним на выручку…
Подошли макололо с запасами еды, голодные охотники наелись досыта, и потом все вернулись к убитому слону.
Раскинули лагерь, разложили костры и стали располагаться на ночь; а туземцы наслаждались своим любимым блюдом — запеченной слоновьей ногой.
Теперь пришла очередь Конго рассказать о своих приключениях.
Когда охотники ускакали от него, погнавшись за жирафами, он часа два или три дожидался их. Потом пошел по следу, но, так как приходилось вести на поводу вьючную лошадь, он двигался медленно.
Ночь застала его возле убитого жирафа. В темноте следов не видно, и он до утра оставался на месте.
А утром начался ливень и почти смыл следы, так что даже пес Следопыт с трудом их отыскивал. Немного погодя Конго увидел, что следы лошадей разделились и ведут в разные стороны. Он шел по одному следу, пока не наткнулся на лошадь, но на ней не оказалось ни седла, ни поводьев, ни всадника.
Это была лошадь Виллема, которая ускакала, напуганная появлением слонов.
Значит, не здесь надо искать хозяина. И Конго вернулся туда, где следы лошадей разошлись. Так он добрался до места, где слон впервые кинулся на охотников. Потом Конго вышел к реке и сразу увидал охотников на их каменном островке. Раненый слон, все еще не снявший осады, кинулся на Конго, и ему пришлось спасаться бегством, но и того, что он успел увидеть, было довольно: он понял, что надо спешить в лагерь за подмогой, и вот привел ее…
Ночь у озера прошла спокойно.
Счастливые тем, что они опять вместе, друзья, наверно, не сомкнули бы глаз, если бы не безмерная усталость.
Видя, как они измучены, Ганс и Макора не стали требовать подробного рассказа о всех опасностях, которые они пережили, и было еще совсем рано, когда лагерь погрузился в сон.
Итак, у них пропали две лошади. Это была для охотников большая потеря. Зато сами они спаслись, спаслись просто чудом, и никто из них не был в обиде на судьбу.
На другое утро они поехали обратно, туда, где сооружалась западня для жирафов. Черныш ждал их с величайшим нетерпением. Он бурно обрадовался, увидев их снова живыми и здоровыми, и объявил, что они еще дешево отделались. Могло быть и хуже, раз их проводником был Конго!
Глава 25
НОЧЬ ОШИБОК
На сооружение западни нужно было около двух недель, и Виллем решил пока снова отправиться на охоту. Вокруг было очень много дичи, но вождь настаивал, чтобы они не охотились поблизости, так как выстрелы выдадут их.
В рощах акации они видели жирафов, их следы были и на берегу реки.
Макора говорил, что, если жирафов спугнуть, они уйдут из этих мест раньше, чем будет готов загон.
Виллем был охотник, и приехал он не для чего-нибудь, а охотиться. Сидеть сложа руки целых две недели он просто не мог и, взяв с собой Гендрика и Конго, отправился к реке, которая, по словам вождя, протекала милях в тридцати к северо-западу от лагеря. Они надеялись добраться туда за один день. Так бы оно и было, не повстречайся им большое стадо антилоп. Охотники погнались за антилопами и задержались.
На ночь они остановились, как им казалось, милях в пяти от реки и на другое утро продолжали путь. Но проехали десять миль, проехали пятнадцать, а реки все нет.
После полудня охотники увидали ручеек, протекавший недалеко от озера. Они подумали, что он, наверно, впадает в реку, которую они ищут, и, значит, доведет их до цели. Однако они не спешили уйти от озера — здесь, судя по всему, можно было отлично поохотиться. Какой только дичи здесь не было! Каких только следов не увидишь на берегу! И Виллем предложил остаться на ночь в засаде у озера.
Гендрик согласился. Лошадей привязали и предоставили им щипать траву,
В двадцати шагах от озера они нашли подходящее для засады место и за какой-нибудь час выкопали две ямы, в которых можно было спрятаться.
Едва стемнело, они оставили Конго под защитой большого костра, а сами отправились к ямам и стали в молчании подстерегать дичь.
Первыми появились небольшие антилопы, но охотникам не нужно было пополнять свои запасы провизии, и они не стали трогать антилоп: пусть напьются воды и уйдут без помехи.
Но вдруг животные заволновались и кинулись прочь. На одну из антилоп бросился леопард, остальные скрылись, а хищник, подхватив свою жертву, хотел утащить ее. Но как только он повернулся к охотникам боком, Виллем выстрелил из своего громобоя, и пуля крупного калибра раздробила ребра зверя.
Взревев, леопард встал на дыбы, сделал несколько шагов на задних лапах и свалился наземь. Виллем стрелял почти наугад, в полутьме, но выстрел был так хорош, словно охотник старательно целился при ярком свете дня.
Потом у озера побывали гиены, шакалы и всякое другое зверье, не стоящее того, чтобы тратить на него порох.
Время шло, а подходящей дичи все не было и не было. Охотникам оставалось только слушать, как рычат, хохочут и лают пожиратели падали — гиены и шакалы, собравшиеся у озера,
— Не очень-то весело так лежать! — проворчал Гендрик. — Я, того и гляди, усну.
Прошел еще час, а дичь, достойная внимания, все не появлялась, и Виллему тоже начало надоедать бездействие.
Они уже подумывали, не вылезти ли из ям и не присоединиться ли к Конго, сидящему у костра, но вдруг услышали, что к ним приближается кто-то покрупнее гиены.
Спрятавшись в ямы чуть ли не по самые брови, охотники нетерпеливо уставились в ту сторону, откуда слышались шаги двух больших животных, которые, очевидно, шли к пруду.
Напрягая зрение, Виллем старался разглядеть, кто это, и наконец прошептал:
— Квагги!
— Верно, — ответил Гендрик. — Убьем их! Проку от них мало, но хоть веселее будет — не заснем.
Виллем уже не надеялся подстрелить этой ночью что-нибудь стоящее, поэтому он не возражал и выстрелил первый.
Животное, в которое он целился, качнулось вперед и с тяжелым всплеском упало в воду.
Вторая квагга повернулась и готова была бежать, но тут выстрелил Гендрик. Выстрел не остановил кваггу, и Гендрик решил, что промахнулся. Но тотчас он услышал глухой звук падения и понял, что ошибся; в то же время до него донесся какой-то очень знакомый стон. Нет, это не крик квагги!
Не говоря ни слова, охотники выскочили из ям и поспешили к подстреленной дичи. Оба ясно чувствовали — случилось что-то неладное.
Сперва они наткнулись на животное, которое уложил Гендрик.
Это была не квагга, а лошадь!
— Лошадь! — крикнул Виллем. — Но, слава Богу, не моя и не твоя.
— Ты эгоист, Виллем, — сказал Гендрик. — Все равно она чья-нибудь. Видишь, на спине след от седла.
— Может быть, — проворчал Виллем. — И все равно я рад, что это не моя лошадь.
Он ценил своего коня почти так же, как свой громобой.
Потом они пошли к озеру — там, в мелководье, все еще барахталась вторая лошадь. Было ясно, что ей уже не встать на ноги, рана ее смертельна, и, чтобы животное зря не мучилось, его пристрелили.
Теряясь в догадках, чьи это лошади, Виллем и Гендрик вернулись к костру; довольно уже на сегодня перебито зверья.
На следующий день они спозаранку двинулись от озера вниз по течению ручья и через два часа достигли реки, которую так долго искали.
Здесь решено было остаться до завтра. Они снова привязали лошадей и предоставили им пастись, а сами прилегли в тени мохалы, так как порядком устали. Но немного погодя их всполошил громкий лай Следопыта и крики Конго.
Вскочив на ноги, охотники увидели, что их окружили человек сорок африканцев, вооруженных кто копьями, кто луком и стрелами.
Вид у туземцев был воинственный, и охотники поняли, что ждать от них добра не приходится. Они схватились за ружья и решили защищаться до последнего.
Глава 26
В ПЛЕНУ
Конго бросился к Виллему и стал умолять его не сопротивляться. Он непременно хотел, чтобы они сдались, сдались без единой попытки отстоять свою свободу. Он даже схватился за ружье Гендрика, когда тот хотел стрелять.
— Отрава! Стрелы и копья отравлены! — закричал Конго вне себя от ужаса.
Виллем и Гендрик немало слышали и читали об африканских племенах, отравляющих стрелы и копья, а кое-что и сами видели, поэтому тревога Конго передалась и им.
Они были не робкого десятка, но прямо перед ними стояли люди с оружием, куда более смертоносным на близком расстоянии, чем их ружья. Пустячной царапины, нанесенной таким копьем, довольно, чтобы человек умер в страшных мучениях.
Нечего было и думать о том, чтобы победить тридцать или сорок человек, не получив при этом ни единой царапины. И, понимая это, охотники послушались Конго и сдались.
Когда Конго увидел, что они сдались в плен без боя, к нему вернулось самообладание, и он потребовал, чтобы туземцы объяснили, почему они напали на охотников.
Вперед выступил один из воинов, должно быть пользующийся наибольшим уважением.
Выслушав его, Конго понял, что произошло, и встревожился не на шутку.
Воин говорил на языке, понятном одному лишь Конго. Он объяснил, что у него пропали две лошади, обеих убили у пруда, когда они шли на водопой. Он очень огорчен потерей лошадей — то были дареные кони, — но рад, что нашел тех, кто злонамеренно убил их.
Охотники велели Конго сказать воину, что они убили лошадей по ошибке, очень сожалеют об этом и с радостью щедро возместят владельцу убытки.
Черный вождь ответил, что больше ему ничего не надо, и пригласил охотников в свою деревню, чтоб обо всем договориться.
Все направились вверх по реке. Но туземцы по-прежнему окружали охотников и держались с ними, как с пленниками.
— Нам очень не повезло, — сказал Гендрик. — Придется отдать что-нибудь такое, без чего трудно обойтись. Пустяками здесь не отделаешься: они могут потребовать наших лошадей взамен убитых.
— Лошадей они не получат! — отрезал Виллем, забыв на минуту, что он пленник и что их лошади уже в руках туземцев.
Примерно в миле от того места, где их захватили, они увидели несколько хижин, из которых высыпали женщины и дети. Видно, это и была деревня.
Не теряя времени, вождь перешел к делу. Ему не терпелось получить свое.
Виллем и Гендрик тоже не желали откладывать дело надолго. И Конго — вновь приступил к обязанностям толмача.
Черный вождь велел ему передать своим хозяевам, что убитым коням просто цены не было. Их подарил ему его высокочтимый друг, португальский работорговец, таких коней не сыщешь во всем мире. Никакие другие лошади их не заменят.
— Отлично, — сказал Виллем, выслушав все это. — Спроси его, что он хочет получить.
— Я понимаю, к чему он клонит, — заметил Гендрик, пока Конго снова объяснялся с вождем. — Нам не вырваться из его лап, пока он не вытянет все, что у нас есть.
— Лучше ему не жадничать, — ответил Виллем, — а то он и вовсе ничего не получит. Мы, конечно, сделали глупость и поэтому готовы заплатить ровно столько, сколько нужно, но не больше.
— Смело сказано, — ответил Гендрик. — Но сила-то на их стороне. Не мы хозяева положения, так что спорить не приходится.
Прежде чем предложить свои условия, вождь пожелал, чтобы охотники знали, что он не будет с ними суров. Он не станет наказывать их за ошибку, он просто хочет, чтобы они возместили ему убытки; но в то же время он дал понять, что потеря эта невозместима.
По виду убитых лошадей охотники поняли, что работорговец просто сжалился над ними и потому оставил их здесь. Судя по всему, они прошли долгий и тяжелый путь, совсем обессилели, и их прежний владелец, наверно, был благодарен вождю за то, что тот позволил им помереть естественной смертью в его владениях.
Истец, он же и судья, объявил наконец, что он требует в возмещение причиненного ему ущерба.
— Скажи им, — обратился он к Конго, — что взамен я прошу только их лошадей, ружья и патроны.
— Что! — воскликнул Виллем в ярости. — Отдать ему моего коня и громобой? Да все лошади Африки того не стоят!
Таким вымогательством Гендрик был удивлен и возмущен не меньше друга; и, видя, что продолжать переговоры бессмысленно, охотники, не говоря ни слова, направились к своим лошадям, готовые вскочить в седла и ускакать.
Но вождь и его соплеменники преградили им путь. Завязалась драка, в которой Виллем померился силами с добрым десятком туземцев. Всех, кто пытался вырвать у него ружье, он пошвырял наземь, в том числе и самого вождя. Стрелять Виллем не хотел — пуля убьет только одного врага, а их легион.
Удалось бы туземцам взять Виллема живым или нет, трудно сказать, но тут одному из них, самому хитрому, пришел в голову остроумный способ положить конец стычке. Схватив конусообразную корзину, которой ловили рыбу, он подбежал к Виллему сзади и, словно гася колпачком газовый рожок, нахлобучил корзину ему на голову. Еще двое или трое тут же ухватились за корзину, повалили великана-охотника и держали до тех пор, пока не удалось его связать ремнями из кожи зебры.
Тем временем один из туземцев так ударил Гендрика, что тот, оглушенный, уже не мог сопротивляться, и его тоже накрепко связали.
Конго не пробовал вступиться за своих хозяев; наоборот, он, казалось, был доволен тем, как развиваются события. Это, впрочем, не помешало туземцам связать и его.
Вскоре Гендрик очнулся и, увидев, что он крепко связан, пришел в неописуемую ярость. Что может быть мучительнее для храброго и самолюбивого человека, чем невозможность отомстить за глубокое унижение!
Виллем был не менее храбр, но не так горяч и потому спокойнее перенес оскорбление. Он возмутился, когда у него попытались отнять самую дорогую для него вещь — ружье. Но удержать ружье ему не удалось, и, потеряв его, а вместе с ним и свободу, Виллем решил сохранять философское спокойствие и терпеливо ждал, что будет дальше.
Конго, который с безразличным видом смотрел, как связывают его хозяев, и как будто даже радовался этому, теперь, когда его самого постигла та же участь, загрустил. Товарищи по несчастью не сочувствовали ему: у них были основания подозревать его в неблагодарности.
Глава 27
В ПУТАХ
Пленникам оставалось только смотреть, как туземцы делят между собой их вещи. Большую часть трофеев забрал себе вождь взамен потерянных лошадей и в вознаграждение за то, что его собственная особа пострадала во время стычки: ведь Виллем, прежде чем его схватили, свалил вождя наземь ударом приклада.
Смотреть на дележ своего имущества было для охотников новым унижением, и они чувствовали, что просто обязаны отплатить за него.
— Ничего не выйдет, баас Виллем, — сказал Конго, который ухитрился подползти поближе к нему. — Начнем сопротивляться — нас убьют.
Потом Конго сказал, что, если бы они с самого начала не спорили с вождем, быть может, им и удалось бы вернуться к Макоре, а теперь им ни за что не вырваться отсюда, даже и ему не вырваться, хоть он и притворился предателем, думая, что так ему легче будет выручить своих молодых хозяев.
— Ты думаешь, они в самом деле хотят нас убить? — спросил Виллем.
— Да, баас Виллем. Конечно, хотят, — ответил Конго. — Теперь они боятся отпустить нас.
— Но если они хотят нас убить, почему же сразу не убили? — спросил Гендрик.
Конго объяснил, что туземцы, взявшие их в плен, принадлежат к кочевому племени зулусских кафров, народу воинственному и совсем не уважающему белых. Это племя однажды потребовало дань с португальских поселенцев на севере Африки и получило ее, и они никогда не простят охотникам оскорбления, которое те нанесли вождю, свалив его ударом на землю да еще в присутствии его подданных. Одного этого довольно, чтоб их убить.
Объясняя охотникам, почему их не убили сразу, Конго показал себя таким знатоком нравов и обычаев племени, в руках которого они находились, что у Виллема и Гендрика не осталось никаких сомнений: он говорит правду.
— Белого человека, — сказал Конго, — никогда не убьют на глазах всего племени, чтобы женщины и дети потом не проболтались об этом другим белым, которых занесет в эти края. Все, конечно, поймут, какая судьба постигла белых пленников, но свидетелями казни будут лишь немногие. Как-нибудь ночью их отведут мили за две от деревни и там убьют. А палачи, вернувшись в деревню, расскажут, что отпустили их домой.
Конго считал, что вождю еще не до расправы: он очень доволен своими только что захваченными трофеями и ни о чем другом пока не думает.
Но что ни говорил Конго, а Виллем и Гендрик не теряли надежды на спасение. Наверно, им все же представится какой-нибудь случай унести ноги, но и только — ни лошадей, ни ружей им больше не видать.
К вечеру охотникам показалось, что их стерегут уже не так, как днем.
Но напрасно они пытались разорвать ремни или как-то из них выпутаться. Их связали надежно. Скорее всего, тут постарался человек, который приобрел немалый опыт, отправляя в рабство своих же несчастных соплеменников.
Вечером к ним подошел один из туземцев. Он остановился возле Виллема и стал внимательно разглядывать его.
Лицо его показалось Виллему знакомым, и, приглядевшись, он понял, что это не кто иной, как Синдо, изгнанник, которого он спас от гнева Макоры. Отчаяние Виллема сразу сменилось надеждой. Конечно же, этот «вождь на час» не будет неблагодарным! Он, наверно, вступится за них. Это просто его долг!
Виллем постарался показать Синдо, что узнал его, надеясь, что тогда Синдо скорее поможет им. Но он обманулся в своих ожиданиях. Скорчив презрительную гримасу, туземец удалился.
— Это Синдо, — тихонько сказал Виллем товарищам по несчастью. — Он, видно, пристал к этому племени. Неужели он не поможет нам?
— Верно, Синдо, — подтвердил Конго. — Только он не станет помогать.
— Почему?
— Не такой он дурак.
Это было похоже на правду.
Однажды его уже обвиняли в измене, и он едва не погиб. Было бы глупо идти на такой риск снова здесь, где он обрел новый дом.
Так понял Виллем поведение туземца.
Синдо отплатил им неблагодарностью. Он не проявил ни капли сочувствия к тем, кто помог ему в беде. Наоборот, он всем своим видом показывал, что и знать их не знает.
Всю ночь они лежали связанные. Настало утро, а их все еще не освободили.
— Что все это значит? — спросил Гендрик. — Что они собираются с нами делать?
— Я начинаю побаиваться, что Конго прав, — ответил Виллем. — Они в самом деле задумали недоброе. Они ограбили нас, продержали всю ночь связанными. Это подозрительно.
— Но неужели они посмеют убить нас? — воскликнул Гендрик. — Мы белые, у нас все стоят друг за друга, и, если пострадает один, за него отомстят другие. Неужели они пойдут на все и не побоятся возмездия?
— Сперва я тоже так думал, — ответил Виллем, — но, судя по тому, как они обращаются с нами, они ничего не боятся.
— Нет, баас Виллем, — вмешался Конго, — вождь очень даже боится.
— Вот как? Что-то непохоже.
— Я говорю, он боится нас отпустить. Они убьют нас, баас Виллем.
Конго сказал это с таким покорным и безнадежным видом, что ясно было: он глубоко в этом убежден.
— Неужели правда, Гендрик? — спросил Виллем друга. — Нет, невозможно! Может, мне все это снится?
— Что касается меня, то я, уж конечно, не сплю, — ответил Гендрик. — Мне так туго связали руки, что ремни прямо впились в тело. Еще немного — и я просто помру, если меня не развяжут. Но неужели они посмеют нас убить?
Некоторое время пленники молчали. Они вспоминали рассказы о многочисленных случаях, когда зулусские кафры жестоко расправлялись с белыми жителями Капской колонии, о случаях ничем не вызванного насилия, — и все это совершалось гораздо ближе к поселениям белых, там, где кафры могли бы больше опасаться возмездия. Племя, в руки которого попали наши охотники, могло не бояться кары — с юга их защищали огромные пространства, а трусливых португальцев, жителей севера, они и в грош не ставили.
Но и это не все.
Охотники нанесли им ущерб и отказались возместить его. Во время стычки они оскорбили вождя, ударив его. Сверх того, туземцам пришлось по вкусу имущество пленников, а как всего вернее сохранить его? Конечно же, надо сделать так, чтобы пленники никогда уже не могли вновь отнять свою собственность или потребовать возмещения убытков.
Будущее казалось беспросветным. И наши искатели приключений уже верили, что Конго не ошибается, предсказывая им близкую смерть.
Глава 28
ИХ ВЕДУТ НА СМЕРТЬ
Прошел еще день, а с пленниками обращались по-прежнему. Никто, кроме женщин и детей, почти не замечал их. Вождь и несколько его соплеменников весь день развлекались стрельбой в цель из отобранных у охотников ружей и учились, как пользоваться их имуществом.
— Чего они медлят? — с раздражением воскликнул Гендрик. — Если уж хотят убить нас, пускай убивают! Это лучше, чем вот так мучиться.
— Да, конечно, такая жизнь не многого стоит, — сказал Виллем. — Но знаешь, Гендрик, где есть неопределенность, там есть и надежда. Мы сегодня совсем не видели Синдо. Неблагодарный негодяй! Он боится показаться нам на глаза!
— Если б мы не нуждались в помощи, он наверняка признал бы нас, — сказал Гендрик. — Ну, ничего. Больше нам уже не придется сталкиваться с людской неблагодарностью: вряд ли мы еще сумеем выручить кого-то из беды.
Настала ночь, но пленники видели, что в деревне царит необычное оживление. Несколько туземцев с факелами в руках бегали взад и вперед — видно, готовились к какому-то большому событию. И лошадей зачем-то оседлали.
— Говорил я, — сказал Конго, — они поведут нас убивать.
Виллем и Гендрик молча наблюдали за всем происходящим.
Потом к ним подошли туземцы и всех трех пленников отвязали от деревьев. Очевидно, должно было произойти нечто серьезное; но охотникам после всех мучений и утомительно долгого плена всякая перемена казалась облегчением.
Вождь племени верхом на лошади Виллема возглавлял процессию из десятка туземцев. Он направлялся к пруду, где были убиты его лошади. Следом вели пленников. Следопыт и другие собаки бежали за ними, даже не подозревая о страхе, который терзал их хозяев. Шествие выступило из деревни, а старики, женщины и дети, выстроившись по обе стороны дороги, провожали их взглядами. Многие смотрели на них с жалостливым любопытством, иные, видно, были очень довольны происходящим. Пленники это заметили. Почему туземцы с таким интересом смотрят, как они уходят? Ведь когда они пришли в селение, их едва заметили и, когда они лежали связанные под деревьями, на них не обращали внимания.
Что же сейчас привлекает зрителей? Ответ мог быть только один: туземцы смотрели на них с тем невеселым любопытством, какое всегда вызывает человек, обреченный на насильственную смерть.
Вождь держал ружье Виллема и, судя по всему, собирался пустить его в ход. Время от времени он поднимал его и прицеливался.
— Спроси их, Конго, куда нас ведут, — сказал Гендрик.
Конго заговорил с одним из туземцев, который шел рядом с ним, но тот лишь что-то невнятно проворчал в ответ.
— Он не знает, — перевел Конго это сердитое ворчанье. — Зато я знаю.
— Куда?
— Нас ведут убивать.
— Конго! — воскликнул Виллем. — Спроси, где Синдо. А вдруг он нам все-таки поможет? Попытка не пытка. Если нет, мы хоть этим рассчитаемся за его неблагодарность. Я бы не прочь как-нибудь отплатить ему…
Конго послушался и спросил о Синдо. Вождь услыхал это, велел немедленно остановиться и стал о чем-то спрашивать своих спутников.
— Вождь тоже хочет знать, где Синдо, баас Виллем, — объяснил Конго.
Процессия остановилась, а разговор все продолжался. Потом вождь и еще один туземец поскакали назад к деревне — до нее теперь было около полумили. Пленники и их стражи остались на месте. Примерно через час вернулся вождь, сильно чем-то разгневанный.
Все поняли это по его сердитому лицу и громкому голосу. Конго внимательно прислушивался к каждому его слову.
— Он говорит про Синдо, — сказал Конго. — Он клянется, что завтра же его убьет.
— Надеюсь, он сдержит клятву, — сказал Виллем. — Думаю, что мы возбудили в нем подозрения насчет этого негодяя, которому он дал убежище. Теперь Синдо поплатится за свою неблагодарность. Он должен был попробовать спасти нас, даже рискуя тем, что ему пришлось бы уйти и из этого племени.
Двинулись дальше. Вождь ехал впереди, а по бокам два туземца несли факелы.
Проехали еще немного, и охотники узнали место, где их взяли в плен. Вождь обратился к своим спутникам с речью, а Конго перевел ее Виллему и Гендрику. Смысл речи был таков: белые чужестранцы умышленно и злонамеренно убили двух коней вождя — самых прекрасных скакунов на свете. Чужестранцы не захотели возместить убытки, хотя могли бы это сделать, а когда он попытался вознаградить себя за потерю лошадей, ему оказали сопротивление, сбили с ног и жестоко оскорбили в присутствии его подданных. По единодушному мнению старейших и мудрейших людей племени, за эти преступления пленников следует наказать, и наказанием для них будет смерть. Он привел их туда, где они совершили первое преступление, — здесь самое подходящее место для исполнения этого справедливого приговора.
Когда Конго перевел охотникам эту речь, они велели ему передать вождю, что, если он отпустит их, они охотно оставят ему лошадей, винтовки и прочее свое имущество и обещают никогда не возвращаться в его владения и ничем не тревожить его. Больше того: они пришлют ему подарок, выкуп, за то, что он оставил их в живых и вернул им свободу.
В ответ им было сказано, что они белые, а потому им нельзя верить. Они не пошлют вождю подарки, но скорее всего попытаются отомстить; и, чтобы этого не случилось, они должны умереть — так решил вождь.
После такого решения им уже не к кому было взывать. С этой минуты на них снова перестали обращать внимание. Едва Конго пытался вымолвить хоть слово, стражи начинали кричать; а тем временем остальные по указаниям вождя готовили все для того, чтобы привести в исполнение страшный смертный приговор.
Глава 29
КАК РАЗ ВОВРЕМЯ
Скоро пленники поняли, какая смерть их ждет. По всему было видно, что вождь намерен испытать свое новое оружие — громобой Виллема.
Наверно, пленники потому так долго и оставались в живых, что вождь учился пользоваться этим оружием, чтобы не промахнуться, стреляя по такой цели, как двое белых людей.
Ремни стягивали запястья Гендрика куда туже, чем было необходимо. Сырая кожа высохла и съежилась — ведь охотники пробыли весь день на жгучем солнце, — поэтому ремни глубоко врезались в тело, кисти рук распухли, и Гендрик мучился больше других.
Но не только это терзало его. Теперь уже не оставалось сомнений, что их ждет та страшная участь, о которой Конго догадался с самого начала. Смерть казалась неизбежной, и Гендрик с его живым умом и способностью остро чувствовать всем своим существом болезненно ощущал близость смерти. Он боялся ее. В этом страхе не было ничего недостойного. То была просто любовь к жизни, страстное желание жить.
Кто не любит жизни, тот недостоин ее; кто не дорожит ее радостями и легко расстается с ними, тот либо не сумел оценить их, либо душа его так черна, что он способен видеть в жизни только дурное.
Гендрик страстно хотел жить и радоваться жизни и, глядя, как готовятся отнять у него жизнь, испытывал невыразимые муки.
Прощаясь с этим миром, он горевал о многом, но прежде всего его мысли были о Вильгельмине ван Вейк. Никогда больше он ее не увидит! А ее он любил больше жизни.
— Виллем! — воскликнул он. — Что же это? Неужели мы сейчас умрем? Я не хочу… не могу!
Он говорил — и все силы его души и тела напряглись в одном порыве: вернуть себе свободу!
Отчаянным усилием он попытался разорвать путы, но он ничего не добился, только из-под ногтей у него брызнула кровь.
В этот тяжкий час Виллем тоже не оставался бесстрастным. И он не хотел умирать, и ему было о чем сожалеть. Ведь это значит, что никогда больше он не увидит своих близких. Никогда не завершит дела, ради которого пустился в этот дальний путь.
Верному Конго было тоже горько знать, что смерть надвигается, что она уже рядом.
— Баас Виллем, — сказал он, с жалостью глядя на молодого охотника, — сейчас вы умрете. Я благословляю Бога, про которого мне рассказывали ваши родители! Никогда я не вернусь в Грааф-Рейнет, не увижу, как они оплакивают вас!
Приготовления к казни уже закончились, но жестокому вождю не удалось показать свое искусство, не удалось исполнить задуманное.
Только было он хотел поднять ружье и прицелиться в одного из обреченных, как, откуда ни возьмись, появился большой отряд темнокожих воинов. На какое-то мгновение все растерялись. Те, что готовились совершить казнь, не сразу поняли, друзья это пришли или враги. Но вот раздался незнакомый им боевой клич, и их окружили рослые воины, вооруженные луками, копьями и ружьями. Да, тут оказались еще двое белых с ружьями, и их с радостью узнали пленники. То были Ганс и Аренд, а с ними Макора и его люди!
Приговор немедленно отменили, и пленников тут же освободили.
Не было никакой необходимости проливать кровь, так как никто из предполагавшихся палачей и не пробовал сопротивляться. Они тотчас вернули пленников, их ружья, лошадей и прочее имущество — большую часть его отдали еще прежде, чем было сказано хоть слово на этот счет.
И снова сердце Виллема не выдержало, и он стал просить Макору пощадить зулусов.
Не вступись Виллем, Макора перебил бы на месте всех зулусов, а потом отправился бы в их деревню чинить суд и расправу.
Объединенными усилиями охотники сдержали его ярость, и сбитым с толку убийцам разрешили уйти, не причинив им ни малейшего вреда.
— Как хорошо, что вы подоспели! — сказал Гендрик Гансу и Аренду. — Как раз вовремя. Только я не могу понять, откуда вы узнали, что мы попали в беду?
— Все очень просто, — ответил Ганс. — Сегодня утром нам сказали, что вас схватили и собираются убить. Мы, конечно, тут же пустились в путь и весь день спешили как только могли к вам на выручку.
— Но откуда же вы узнали, что с нами стряслось?
— От Синдо, того самого, которого Макора чуть не убил за чрезмерное честолюбие.
Значит, напрасно они подозревали Синдо в неблагодарности. Он шел, вернее бежал всю ночь, чтобы дать знать об опасности, грозившей людям, которые спасли ему жизнь. Для зулусов его слова ничего не значили, и он понял, что спасет пленников, только если предупредит тех, кто в силах помочь им. Так он сумел отблагодарить их.
«Цыплят по осени считают», — говорит пословица. Никогда не следует спешить с выводами. Если бы пленники, когда их вели к месту казни, не упомянули имя Синдо и вождь зулусов не заподозрил измены, помощь пришла бы слишком поздно. С казнью замешкались потому, что вождь поскакал в селение разыскивать Синдо и в результате растерял «уже сосчитанных цыплят».
Освобожденные пленники стали спрашивать, где Синдо: они хотели обнять его.
Но Синдо здесь не было. Он так измучился, пока бежал, что уже не в силах был вернуться вместе с избавителями и остался в лагере, где сооружали западню.
Ни одной лишней минуты не задержались охотники на месте, с которым были связаны такие неприятные воспоминания. И когда забрезжил рассвет, они вместе со своими друзьями макололо были уже на пути к лагерю.
Там они застали Черныша в полном смятении. Он радовался их возвращению и злился на Конго, допустившего, чтобы их молодые хозяева попали в такую беду.
Услуга, которую Синдо оказал белым друзьям, вновь завоевала ему расположение Макоры, и тот предложил изгнаннику вернуться домой, к своему племени, на что Синдо с радостью согласился.
Глава 30
ХОПО
На время Виллем как будто излечился от своей страсти к приключениям. Ведь он приехал сюда для того, чтобы поймать двух молодых жирафов и в целости и сохранности доставить их голландскому консулу. Опыт последних дней показал ему, что он не доведет дело до конца, если будет подвергать себя опасности умереть какой-нибудь страшной смертью. Это знание дорого досталось ему, и он больше не искал новых приключений, а принялся вместе с макололо строить западню. Ему помогали все три охотника. И все они думали уже не столько о жирафах или о новых приключениях, сколько о возвращении домой.
Западня должна была состоять из двух высоких изгородей, сходящихся под острым углом. Каждая изгородь была в полторы мили длиной, а там, где они сходились, оставался просвет такой ширины, чтобы мог пройти самый крупный зверь. Сразу за этим проходом вырыли яму сорок футов в длину, пятнадцать в ширину и восемь в глубину, а по краям ее положили, слегка сдвинув их внутрь, тяжелые стволы деревьев. Западню строили с таким расчетом, чтоб каждое животное, попавшее в загон, пробежав его, непременно свалилось в яму и не могло из нее выбраться. Чем ближе к яме, тем выше и крепче становилась изгородь, чтобы нельзя было ни повалить ее, ни перепрыгнуть через нее.
Яму прикрыли сверху камышом и тростником. Ни одна мелочь, от которой мог бы зависеть успех дела, не была упущена.
И охотники и макололо работали с жаром, и вскоре западня была закончена; оставалось только загнать в нее дичь. Это решили сделать на следующий день. Прямо перед западней был акациевый лесок — потому-то здесь и соорудили западню. Соплеменники Макоры должны были устроить в этом лесу облаву и всех четвероногих обитателей его загнать в ловушку.
Рано поутру все макололо вместе с охотниками и их собаками приготовились к грандиозной облаве. Разделились на два отряда. Виллем, Гендрик и Макора пошли влево, Ганс, Аренд и лучший воин и охотник племени макололо пошли со своим отрядом направо, так, чтобы охватить лесок с двух сторон. Им предстояло окружить пространство мили в четыре длиной и три шириной.
Достигнув северной опушки, большинство загонщиков и собак вступили в лес. Белые охотники верхом на своих лошадях и кое-кто из макололо верхом на быках остались на опушке, чтобы помешать испуганной дичи прорвать цепь загонщиков.
Некоторое время загонщики и собаки словно состязались, кто поднимет больше шуму; и всадники, стоявшие на опушке, скоро убедились, что это труд не напрасный.
Они не проехали еще и полмили от того места, где разделились на отряды, а уже стало ясно, что загонщики и собаки потревожили самую разную дичь. Громко затрубили слоны, затрещали ветки, уступая им дорогу; зарычали львы; пронзительно завизжали бабуины; послышался дикий, отвратительный хохот гиен.
Тем, кто ехал по опушке, Макора посоветовал держаться немного позади загонщиков. Виллем и Гендрик скоро оценили этот мудрый совет.
Стадо слонов прорвалось сквозь кусты всего в нескольких ярдах перед ними; их пропустили на равнину. Все были рады, что они не попали в западню.
Вскоре на равнину вырвалось несколько зебр, и им тоже дали уйти целыми и невредимыми.
Незадолго до конца облавы с той стороны, где стояли на страже Виллем и Гендрик, из лесу выбежало большое стадо буйволов. К счастью, в это время охотники немного отъехали от опушки, иначе они оказались бы прямо на пути мчавшегося стада и были бы затоптаны насмерть.
Несколько буйволов выбежали из лесу почти напротив Виллема с Гендриком и, догоняя стадо, едва не налетели на них, так что всадникам пришлось скакать во весь опор, чтобы не напороться на их рога.
Едва охотники увернулись от буйволов. Виллем с радостью увидел то, что ему больше всего хотелось видеть: семь или восемь жирафов, спасаясь от загонщиков, с шумом пронеслись среди деревьев и выскочили на опушку. Они оказались совсем близко к воронкообразному входу в ловушку. Если они проскочат мимо, их уже не поймать и весь тяжкий двухнедельный труд пропадет понапрасну. Вонзив шпоры в бока лошади, Виллем, а за ним и Гендрик галопом поскакали вперед, чтобы отрезать жирафам отступление. Никогда еще за всю свою жизнь Виллем не переживал минуты столь волнующей.
В стаде охотники заметили двух детенышей. Неужели они промчатся мимо загона? Успех дела решали секунды. Жирафы и охотники мчались наперерез друг другу и вскоре должны были столкнуться. Робкие животные быстро поняли это и, не подозревая о грозившей им опасности, повернули и кинулись в широко разверстую пасть западни.
Стоило им пробежать в прежнем направлении еще хоть несколько шагов, и они бы спаслись от ожидавшей их участи; но, как нередко бывает и с людьми, в поисках спасения они избрали самый опасный путь.
Загонщики уже вышли на опушку леса, и оба отряда встретились на середине поляны. Впереди, в загоне, они увидели живую, движущуюся массу: тут было множество самого разнообразного зверья, и в том числе, к большому огорчению охотников, два слона и носорог.
Над всеми остальными возвышались головы жирафов, которые, видимо, старались вырваться вперед и должны были первыми свалиться в яму.
По мере того как стены ловушки сближались, оставляя животным все меньше места, разношерстное стадо становилось все гуще.
За четверть мили до ямы мудрые слоны повернули и, увидев направляющихся к ним людей и собак, проломили ограду и очутились на свободе, К немалому удовольствию охотников, в пролом выбежали и несколько зебр. Жирафы вырвались уже слишком далеко вперед, чтобы спастись таким образом. Им не суждено было избежать плена.
Все макололо были охвачены неистовым азартом погони. С пронзительными воплями они неслись вперед. Им не терпелось увидеть, как многочисленные жертвы провалятся в яму, к которой они несутся, обуреваемые страхом и не замечая ничего вокруг. Все демонические страсти, какие скрыты в человеке, словно пробудились в душах преследователей. Бегство слонов привело их в ярость, хотя слоны, без сомнения, погубили бы всю затею, все плоды долгих трудов. Казалось, макололо хотят лишь одного: убивать животных, проливать их кровь, видеть их гибель.
Глава 31
РАЗОЧАРОВАНИЕ
Несколько антилоп и других животных погибли, не добежав до ямы, — их убили или изуродовали в давке и гонке.
Иные еще дышали, но охотники, лишь мимоходом взглянув на них или пнув ногой, спешили дальше, к зрелищу еще более ужасному — к чудовищной бойне, которую мог задумать и осуществить только человек и которую не описать словами.
Зрелище было так ново, так захватывало, возбуждение туземцев оказалось так заразительно, что жажда крови обуяла и Виллема и его друзей. Словно опьянев, они неслись вперед с таким же неистовым ожесточением, с каким бежали и одержимые макололо.
Животные, которых они гнали перед собой, сбились в трепещущую, борющуюся, рычащую массу. Жертвы погони падали друг на друга, рычали, ревели, мычали, выли; вскоре яма наполнилась, и те, что бежали позади — а их были сотни, спаслись, проскочив по телам упавших.
Когда все, кому уже не хватило места в яме, схлынули и охотники подошли посмотреть на добычу, глазам их представилось зрелище, которое, однажды увидев, нельзя забыть. Снизу неслось рыкание льва, он задыхался под тяжестью свалившихся на него антилоп. Впервые подле него оказалось чересчур много его любимой дичи. Лишь одного зверя не мог задавить никто — это был мучочо, белый носорог, которого охотники заметили еще раньше, во время облавы. Стоило ему шевельнуться — и он кого-то подминал под себя, кому-то ломал кости, и еще несколько голосов угасало в этом хоре воплей ярости и боли, раздававшихся над кровавой свалкой, — все вместе это походило на репетицию страшного суда в животном царстве.
Очевидно, только задние ноги носорога стояли на дне ямы, и чуть ли не всем телом он опирался на животных, которые мучились и гибли под непомерной тяжестью.
В этой барахтающейся массе были и жирафы; боясь, что и они станут жертвой огромного носорога. Виллем приставил дуло ружья к самому его глазу и выстрелил.
В диком шуме выстрел был едва слышен, но он сделал свое дело: носорог испустил дух.
И вот все принялись за работу — нужно расчистить яму и спасти молодых жирафов, если они еще живы. Ремни с петлями на концах накидывали на головы антилоп и другой мелкой дичи и вытаскивали ее вон.
Через некоторое время в яме стало свободнее. И тогда осторожно подняли наверх одного из молодых жирафов. Его нетерпеливо и со страхом осмотрели. Он был еще теплый, но уже не дышал. Оказалось, что у него переломлена шея.
Теперь заметней всех в яме был один из взрослых жирафов — огромный самец, который все время отчаянно бился, и, сказав, что в нем «слишком много жизни», Гендрик пристрелил его.
Еще один молодой жираф был почти погребен под телами более крупных животных. Охотникам видны были лишь его голова и шея. Судя по всему, он был невредим. С величайшими предосторожностями, стараясь не причинить ему вреда, его вытащили из ямы и накинули ему на шею два ремня, чтобы он не убежал. Детенышу было месяца два — как раз такого и искали охотники; но вскоре они убедились, что с ним что-то неладно. Пытаясь вырваться, он все время держался на трех ногах. Четвертая неестественно болталась в воздухе. Она была сломана.
Детеныш был молодой, красивый, но брать его с собой не имело смысла. Его не довезти до Европы. Этой страдающей, дрожащей, испуганной жертве честолюбия Виллема можно было оказать лишь одну милость: пристрелить и тем избавить от боли; и охотник горевал, глядя на эту смерть, и жалел маленького жирафа не меньше, чем беднягу Смока.
Наконец яма опустела, и охотники стали разглядывать добычу.
Погибли семь жирафов, почти у всех оказались сломаны шеи. Шея длиною в шесть или семь футов слишком хрупка, чтобы выдержать натиск огромного стада, пробежавшего по спинам упавших в яму.
Правда, охотникам не удалось получить то, что им было всего нужнее, и все же западню построили не напрасно, она еще пригодится — так сказал Макора. Он объяснил, что через два-три дня в акациевую рощу, вероятно, придут другие жирафы и тогда можно будет снова устроить облаву. Это немного утешило разочарованных охотников. Но как обидно, что погибли два детеныша, да как раз такие, о каких все они мечтали! Быть может, охотникам встретится еще не одно стадо жирафов, но попадутся ли там такие же детеныши, как эти два? Быть может, они поймают и убьют других молодых жирафов, но еще много неудач постигнет Виллема, прежде чем он завладеет добычей, ради которой заехал в такую даль.
Для макололо время не пропало даром: им досталось много мяса. Правда, чтобы заготовить его впрок, нужно немало времени, но зато этих запасов хватит надолго.
На другой день между вертикально поставленными столбами растянули ремни и развесили на них узкие полосы мяса, чтобы оно сушилось на солнце. Мясными гирляндами увешали все кусты и небольшие деревья, росшие поблизости. Для приготовления вяленого мяса вырезали лишь самые лучшие куски из каждой туши, а остальное бросили подальше от лагеря, и там пировали стервятники, гиены и прочие четвероногие и крылатые пожиратели падали.
Спустя три дня после побоища от жертв только и осталось, что вяленое мясо да обглоданные дочиста кости.
Глава 31
ОТСТУПЛЕНИЕ
Прошло четыре дня после неудачной попытки поймать в западню молодых жирафов, и вот на берегу реки появились наконец свежие следы.
Новое стадо жирафов поселилось в акациевой роще. В стаде были и детеныши об этом рассказали следы.
Надежды Виллема снова окрепли, он опять верил, что преуспеет в том, чего так горячо желал. Друзья его тоже воспрянули духом.
Если на сей раз им повезет, то через какой-нибудь месяц Гендрик и Аренд будут уже с теми, с кем они в мыслях не расстаются ни на час, а Ганс начнет готовиться к давно задуманному путешествию в Европу.
После первой неудачной попытки Макора ничем не показал, что собирается покинуть их. Он обещал помогать им до тех пор, пока они не добьются своего, и, хотя домашние дела и дела племени призывали его назад, он решил остаться с ними.
Он дал обещание Виллему и готов был всем пожертвовать, но не изменить своему слову.
Охотники ценили его преданную дружбу. Они уже успели убедиться, что без помощи Макоры они ничего не достигнут.
Вечером, накануне того дня, когда решено было снова устроить облаву, настроение у всех было приподнятое, и в знак уважения к человеку, для которого желания друзей стали превыше собственных, охотники распили с ним последнюю бутылку джина.
Они с удовольствием предвкушали завтрашний день, как вдруг появился Синдо и своими новостями разрушил все их планы.
Он только что вернулся с севера, где нашел было новый дом, когда его изгнал Макора. Он еще раз побывал в племени, у вождя которого охотники застрелили лошадей.
Синдо пришел туда украдкой, чтобы забрать жену и детей. Это ему удалось, а кроме того, ему удалось еще и кое-что разведать: он принес весть, что вождь зулусов, которого оскорбили охотники, все еще жаждет отомстить им за свои убытки и обиды.
Вождь посетил тирана Мосиликатсе, владыку всей этой части Африки, и поведал ему, что вождь племени макололо Макора, давнишний его враг, возвратился в свои прежние владения и похитил у него, вождя зулусов, друга благородного Мосиликатсе, его достояние: лошадей, ружья и рабов.
Мосиликатсе тут же снарядил большой отряд и отдал приказ схватить Макору и его людей или же, по выражению Синдо, «прогнать его с этого света».
С часу на час враг будет здесь!
Предупреждение Синдо всех встревожило. Сейчас же во все стороны разослали разведчиков, чтобы не быть застигнутыми врасплох.
Вот она, опасность, которую с самого начала предвидел Макора!
Назавтра ранним утром разведчики сообщили, что воины Мосиликатсе и в самом деле приближаются. На ночь они остановились милях в пяти от лагеря охотников и не позже чем через час будут здесь.
Аренд и Гендрик поспешно вскочили на коней и галопом помчались навстречу врагу, чтобы взглянуть на него своими глазами. А тем временем остальные принялись укладывать свое добро, готовясь либо к бою, либо к бегству.
Молодые офицеры вернулись через полчаса и объявили, что сюда идут три сотни воинов.
— Они идут на нас войной, в этом нет ни малейшего сомнения, — сказал Гендрик. — Мы подъехали к ним ярдов на сто. Завидев нас, они подняли крик и кинулись к нам, а когда мы поскакали назад, нам вдогонку полетели стрелы.
— Ну, чем скорее мы уедем отсюда, тем лучше, — сказал Ганс. — Их слишком много, нам их не одолеть.
— Похоже, что Макора иного мнения, — заметил Виллем.
Все повернулись к Макоре.
Вместе со своими людьми он готовился к решительному сражению.
— Спроси его, Конго, — сказал Виллем. — Он думает, мы их одолеем?
Конго перевел вождю вопрос Виллема и услышал в ответ, что победить воинов Мосиликатсе можно лишь превосходящими силами, а уж малым числом их никогда не одолеть.
— Так что же задумал Макора? Остаться здесь, чтобы нас всех перебили?
На это вождь ответил, что и он и его люди поступят так, как пожелает его друг Виллем.
— Тогда всем надо уходить, да поскорее, — сказал Виллем. — Я не желаю, чтобы хоть один человек погиб из-за меня.
Не теряя ни минуты, макололо снялись с места. Все произошло так внезапно, что им пришлось бросить вяленое мясо, на изготовление которого они положили столько трудов.
Они отошли как раз вовремя. Виллем и Гендрик, отстав немного, увидели, что враг уже подходит к покинутому лагерю, готовый вступить в бой с макололо.
Теперь было ясно: они жаждали отомстить. Они так злобно кричали и размахивали руками, что у охотников не осталось на этот счет никаких сомнений: Виллем и Гендрик видели и слышали вполне достаточно. Дав шпоры коням, они нагнали воинов Макоры.
Глава 32
ОНИ УХОДЯТ ОТ ПОГОНИ
Макора и его спутники надеялись, что враг не станет далеко преследовать их, — он удовлетворится тем, что прогнал их, разрушит лагерь и вернется восвояси.
Но они ошиблись. Их преследовал отряд, посланный Мосиликатсе, для того чтобы расширить его владения, и нечего было надеяться, что тиран откажется от задуманного, не добившись успеха. Макора быстро понял это и теперь, не теряя ни минуты, спешил домой, чтобы вражеское нашествие не застало племя врасплох.
Макололо принадлежали к одному из самых развитых южноафриканских племен, поэтому охотников очень удивило, когда они увидели, как переполошила воинов Макоры весть о приближении отрядов Мосиликатсе. Макололо не готовились отразить врага, большинство из них помышляли лишь о бегстве.
Несколько слов Макоры объяснили охотникам эту загадку. Он рассказал своим белым гостям, что во всей Южной Африке нет воинов более грозных, чем матабили. Их вождь Мосиликатсе может собрать пять тысяч воинов, и нередко он приказывает своим военачальникам не давать врагу никакой пощады. Макора сказал, что и его воины не трусы, но воевать с Мосиликатсе ему, Макоре, не под силу. Если б он остался и принял бой, он потерял бы по меньшей мере половину своего племени. Кроме того, их обобрали бы дочиста и всех оставшихся в живых угнали бы в рабство и заставили пасти скот. Есть лишь один способ не поддаться тирану: увезти подальше все сколько-нибудь ценное. Только благодаря этому Макора и его народ уже несколько лет сохраняют свою независимость. Так придется поступить и сейчас.
На том и порешили, и, добравшись до своего селения, Макора, не мешкая, взялся за дело.
Торопливо собрали весь скот и погнали его прочь, а за ним двинулись мужчины, женщины и дети; каждый тащил свой скарб — слоновые бивни и все, что удалось захватить в такой спешке.
Впереди шли женщины и дети, а Макора со своими воинами двигался в арьергарде, готовый защитить их от любой неожиданности.
Чтобы переправиться через Лимпопо, требовалось время, а так как до ближайшего брода было около пяти миль, враг мог настичь их еще до того, как все окажутся на другом берегу. Так и случилось. Брод был довольно глубок, и скот не хотел идти в воду; многим животным приходилось помогать добираться до противоположного берега. На все это нужно было время, и, прежде чем они успели переправиться, поднялась тревога: с тыла приближался враг.
Воины Мосиликатсе так привыкли к победам, что начали наступление прямо с ходу, хотя первыми подошли к реке всего человек двести.
Вооруженные дротиками и прикрываясь щитами, испуская пронзительные вопли, они с дикой свирепостью ринулись на Макору. Такую кровожадность порождает только многолетняя привычка к войне и насилию.
Но хотя макололо покинули свои дома, даже не попытавшись защитить их, теперь они показали себя истинными воинами.
Они ринулись навстречу матабили, и закипел рукопашный бой — и те и другие дрались, как черти. Можно было подумать, что главная забота Макоры защищать своих белых друзей. Ясно было, что воинам приказано держаться между охотниками и врагом. Но Гендрик и Аренд, как и подобало молодым офицерам, не упустили случая показать свою силу и умение. Они открыли огонь по матабили. Их примеру тут же последовали Виллем и Ганс; впервые в жизни они брали на мушку не зверя, а человека.
Раздалось четыре выстрела, и четверо воинов Мосиликатсе упали на землю, еще двоих почти тотчас застрелили Макора, Синдо и еще один макололо, вооруженные мушкетами.
Укрывшись за своими лошадьми, охотники перезарядили ружья, и враг потерял еще четверых бойцов.
Если бы нападающие могли подойти к охотникам, те скоро пали бы под тучей дротиков, но макололо не подпускали к ним врага.
Прикрываясь щитами, которыми они действовали с величайшей ловкостью, два воина-туземца могут бороться друг с другом очень долго, прежде чем один из них окажется побежденным.
Сейчас, однако, дело обстояло совсем иначе: четверо охотников брали врагов на мушку, и после каждого выстрела еще один матабили падал наземь. Вскоре ряды противника поредели. И матабили поняли, что огнестрельное оружие, к которому они издавна относились с презрением, в умелых руках — страшная сила.
Им уже было ясно, что зря они понадеялись на себя и вступили в бой, не дождавшись, пока подойдет все войско. Вот теперь и приходится отступать, оставляя на поле боя больше тридцати убитых.
В этой схватке Макора потерял всего шесть человек и был так рад этому, что едва не пустился преследовать врага в надежде завершить и упрочить победу. Но он знал, что любая его победа будет недолгой, что очень скоро перед ним окажутся тысячи врагов и что в конце концов ему придется отступать, поэтому он отказался от погони за растерявшимся противником и продолжал переправу.
Когда солнце село, племя со всем своим имуществом было уже в безопасности на противоположном берегу; воины заняли здесь надежные позиции, чтобы пресечь любую попытку матабили перебраться через реку, и племя двинулось дальше.
Теперь у Макоры не было ни клочка земли. Помогая своим белым друзьям, он лишился дома. Отныне он изгнанник, по пятам гонится мстительный враг, и нигде не ждут друзья. Племя его слишком немногочисленно, чтобы те, кто может повстречаться на пути, отнеслись к нему с уважением. Скоро все узнают, что злосчастных макололо преследует могучий Мосиликатсе, и тогда они будут изгнаны отовсюду, нигде не найдут покоя и пристанища, у них отнимут скот — их единственное богатство, а быть может, и жизнь.
Виллем и его спутники горько сожалели, что навлекли на своего защитника такую беду, а сам он, казалось, больше всего огорчался тем, что не сумел помочь друзьям.
Последними через реку перенесли тела павших в схватке воинов макололо; ночью их похоронили.
А убитые матабили остались там, где их застигла смерть, во власти хищных зверей.
Чтобы дать охотникам некоторое представление о нравах и обычаях врагов, Макора рассказал им, что матабили никогда не хоронят своих мертвецов, даже родных не хоронят. Сыновья оттаскивают тела родителей подальше от деревни и предоставляют их заботам гиен и стервятников.
Всю ночь из-за реки доносились рычание, вой, шум драки; и воины макололо, охранявшие брод, не сомневались, что к утру на поле боя останутся одни лишь кости убитых врагов. Шум этот для ушей макололо звучал, как музыка, а сознание, что они победили прославленных воинов Мосиликатсе, едва не вознаградило их за потерю дома.
Глава 33
ТИРАНИЯ И ВЕРНОСТЬ
На следующее утро еще до того, как макололо двинулись в путь, на другом берегу показался большой отряд воинов Мосиликатсе. Как уже говорилось, женщин, детей и скот отправили еще раньше, и они должны были уходить как можно скорее, а большинство мужчин остались, надеясь задержать врага, чтобы племя выиграло еще один день пути. Черныша отправили сопровождать быков, нагруженных костью. Ему оказали величайшее доверие, и это отчасти утешило его: ведь ему опять пришлось оставить своих молодых хозяев на попечение Конго, который, по мнению Черныша, всегда был виновником всех бед.
Отправляясь в путешествие, охотники взяли с собой на всякий случай несколько запасных ружей; теперь их достали и держали наготове. Едва рассвело, матабили начали переправляться через Лимпопо. Опасаясь, что тиран разгневается, если узнает об их малодушии, они без оглядки кидались в реку.
Первые пятеро или шестеро были убиты, но это не охладило пыла остальных. Они как безумные прыгали с берега в поток и шли наперерез течению, хотя вода поднималась выше пояса.
Взобраться на противоположный берег можно было лишь небольшим ущельем или оврагом футов в десять шириной. Подняться по нему было бы нелегко, даже если бы наверху не ждал вооруженный противник, но, когда вас встречают градом стрел, уцелеть почти невозможно.
И все-таки матабили решились пойти навстречу грозной опасности и не стали с этим медлить.
Они шли и шли как одержимые, и скоро у входа в овраг собралась большая толпа. Но в узкое горло оврага не могло протиснуться много воинов сразу. Макора с первого взгляда оценил преимущества своей позиции и велел своим воинам удержать ее. С десяток матабили начали было подниматься по оврагу, но ни одному не удалось взобраться по его скользким откосам. Не имея твердой опоры, они почти не могли пользоваться дротиками и щитами, и скоро их мертвые тела понесло вниз по течению.
Те, кому удалось немного подняться по оврагу, натолкнулись на макололо, засевших по обеим сторонам его, и пали под ударами копий. А охотники то и дело перезаряжали ружья и стреляли по тем, кого не достигали копья. Не прошло и десяти минут, как матабили уже поняли, что и на сей раз поступили опрометчиво и не сумеют перебраться через реку, пока макололо остаются на другом берегу. Поняв это, они отступили на свой берег, и шум битвы вновь утих, слышались лишь злобные угрозы.
В этой второй схватке были ранены всего пятеро макололо — их ранило дротиками. Не имея возможности сойтись с противником врукопашную, матабили метали дротики издали. Макора, понимая, что, как только он оставит столь выгодную позицию, враг тотчас начнет его преследовать, решил обороняться здесь до последней возможности, чтобы женщины и дети могли уйти подальше от опасных мест.
Два часа кряду враждующие отряды оставались каждый на своем беоегу и не начинали битвы. Шел лишь словесный бой. Они обменивались угрозами, насмешками, приглашениями перейти реку, но ни те, ни другие приглашений не принимали.
Наконец Макора и его воины решили, что пора сниматься с места и догонять отступающее племя. При этом нужно было как-то перехитрить матабили, чтобы те тотчас не переправились через реку и; не погнались за ними по пятам. Но Гендрик уже все обдумал и изложил свой план вождю.
— Пусть ваши воины отойдут, — сказал он Макоре. — Деревья скроют их от глаз врага, а у нас есть лошади, и мы сможем ускакать в любую минуту. Поэтому мы останемся и будем маячить на виду у врага, пока он не разгадает обман.
План был превосходен и легко осуществим. Макора сразу согласился.
— Только не торопитесь, — сказал Виллем. — Не отходите, пока я не начну стрелять. Я думаю, моя пушка бьет достаточно далеко. Нет-нет, да и свистнет у них над ухом пуля, и они будут знать, что мы еще здесь, и не заподозрят, что остальные ушли.
Виллем отполз в сторону, где берег немного выдавался вперед, прицелился в рослого матабили, стоявшего за рекой на самом виду, и выстрелил. С громким криком тот покачнулся и упал, а остальные поспешили спрятаться за кусты. А макололо, воспользовавшись смятением, без шума отошли; только вождь, Синдо и еще двое, у которых были лошади, остались вместе с охотниками охранять переправу.
Около часа оставались они у брода, а матабили ни разу не попытались выйти к реке. Их больше не было видно, и Макора, опасаясь, как бы они не снялись с места и не нашли где-нибудь другой брод, предложил не сторожить здесь больше и поскорее догнать племя. Это было вполне разумно: ведь если матабили в самом деле найдут другой брод, племя окажется в опасности. Поэтому решили уходить, но так, чтобы враг об этом не узнал.
На кустах развесили кое-какую одежду, постаравшись, чтобы с того берега казалось, будто здесь притаились люди, потом Виллем в последний раз выстрелил, и один за другим они, крадучись, отошли, сели на коней и скрылись за деревьями.
Примерно через час они нагнали пеших воинов, а еще немного погодя все племя снова было вместе. Вечерело. Поблизости оказалась вода, и они решили остановиться на ночлег.
Макоре посчастливилось: он вовремя подоспел к своему племени. Опоздай он на каких-нибудь десять минут — и не миновать бы несчастья еще большего, чем все, что постигло их до сих пор: едва Макора приказал остановиться, как неподалеку от предполагаемого лагеря замечен был отряд матабили. Врагов было около сотни, и, не подоспей Макора со своими воинами, они немедленно напали бы на женщин и детей. Судя по тому, с какой стороны появился вражеский отряд, он, видно, перешел реку выше по течению. Матабили думали, что воины Макоры охраняют брод, и решили пока напасть на женщин и детей. Но, встретив здесь мужчин, они не решились вступить в бой, так как силы их были невелики, и держались на почтительном расстоянии. Скоро охотники еще увеличили это расстояние; верхом на конях, вооруженные ружьями, они стоили доброй сотни воинов. Они подскакали к матабили, дали по ним несколько выстрелов, и те поспешили убраться подальше. Отогнав врага, охотники вернулись в лагерь и застали Макору в большой тревоге. Он ни на что больше не надеялся, уверенный, что и сам он и его племя обречены на гибель. Виллем осведомился, почему дурные предчувствия больше прежнего одолевают вождя ведь до сих пор в схватках с врагом успех был на его стороне. Макора ответил, что, уж наверно, Мосиликатсе послал против него не один отряд и, когда преследователи соединятся, не будет пощады ни ему самому, ни его племени, ни его друзьям. Потери врага в двух стычках слишком велики, чтобы можно было ждать от него хоть капли милосердия.
Макора объяснил еще, что ни один из воинов Мосиликатсе не отважится вернуться к своему повелителю, потерпев поражение: Молисикатсе предаст смерти и воинов и военачальников; они знают об этом и будут драться, презирая опасность, лишь бы победить.
— Есть только один выход, — продолжал Макора, — только одно может спасти мой несчастный народ: я должен пожертвовать собой. Если они поспешат на запад, то, пожалуй, еще успеют уйти от преследователей. Пусть попросят покровительства у великого вождя Себитуане, он сумеет защитить их. А я… вздохнул Макора, — я не могу пойти с ними.
Охотники попросили объяснений и получили их. Давным-давно из-за какого-то недоразумения Макора навлек на себя гнев Себитуане, а Себитуане никогда не забывает и не прощает оскорблений, и если Макора пойдет к нему, тот, конечно, прикажет убить его.
Макора советовал охотникам уходить подальше от опасности: у них есть лошади и они смогут добраться домой. Виллем тотчас отверг этот великодушный совет, не приняли его и остальные, и каждый при этом старался как-то ободрить другого. На редкость верными оказались и соплеменники Макоры. Когда Макора посоветовал им уходить и предоставить своего вождя его судьбе, все как один воспротивились: воины громко закричали, что лучше они умрут вместе с ним, но не оставят Макору.
Впервые за всю свою жизнь наши охотники увидели вождя, которого огорчала чрезмерная любовь народа! Он предлагал им спасти свою жизнь ценой его собственной жизни — отдать его в руки Себитуане. Но все племя как один человек оказалось верным своему вождю, и все в один голос отвергли его великодушное предложение.
Глава 34
ДОБРЫЕ ВЕСТИ
Охотников очень тяготила мысль, что они навлекли на Макору и его племя такое несчастье, и они старались найти какой-то выход, спасительный для всех.
Они посоветовали Макоре и племени искать убежища у баквейнов, живущих немного западнее, — это была ветвь того же могучего народа бечуанов, к которому принадлежали и макололо, — но Макора ответил, что там никто не даст им убежища. Баквейны побоятся прогневать тирана и, чтобы сохранить с ним добрые отношения, пожалуй, еще помогут его воинам уничтожить макололо. Охотники попробовали просить Макору уехать с ними на юг, тогда племя сможет отправиться в страну Себитуане, но Макора и слушать не стал. Нет, на это он не пойдет. Лучше смерть! Никогда он не бросит тех, кто так верен ему.
А кроме того, еще неизвестно, доберутся ли они до Себитуане. На рассвете может нагрянуть враг, а ведь с ними женщины, дети, скот — им не уйти от погони.
Своими соображениями Макора поделился кое с кем из племени, добавив, что у них есть еще бык, который ни за что не должен достаться врагу. Это самый жирный бык во всем стаде. Люди поняли его с полуслова, и не прошло двух часов, а бык уже был убит, зажарен и съеден.
Под вечер в полумиле от себя беглецы заметили костер и услышали громкие голоса. Они решили, что это расположились лагерем их враги и не нападают только потому, что не подошли еще основные силы.
Но опасения не оправдались. На рассвете беглецы с облегчением увидели на равнине две большие крытые повозки. Здесь же паслось несколько быков и лошадей. Повозки стояли неподалеку от лагеря Макоры и, как видно, приехали уже затемно. Несомненно, это остановились на ночлег белые охотники или торговцы.
Виллем и его друзья разом сели на коней и поскакали к повозкам и через несколько минут уже здоровались с вновь прибывшими. Как они и предполагали, это были торговцы — жители Порт-Наталя. Они ездили на север, а теперь возвращались домой. Им прислуживали кафры, которые сопровождали их из Наталя, и, кроме того, нескольких туземцев они прихватили с севера.
Наши охотники хотели разжиться у новых знакомых патронами и еще кое-чем необходимым, но тут их внимание привлек Макора — он словно вдруг сошел с ума. Хотя их отделяло от лагеря не меньше полумили, он что-то закричал своим воинам и стал отчаянно размахивать руками: то ли сообщал им что-то, то ли приказывал.
Встревоженные охотники огляделись по сторонам. Быть может, матабили снова пошли в наступление? Нет, ни одного врага не видно.
Наконец вождя услыхали в лагере, и все племя пришло в величайшее волнение. Тогда только и охотники поняли, что произошло. Оказалось, что кое-кто из туземцев, прибывших вместе с торговцами, был из страны Себитуане. Они всего несколько дней, как из дому. И от них Макора узнал, что Себитуане больше нет на свете. Он умер совсем недавно, и ныне всем народом маколодо полновластно правит его дочь Ма-Мочисане.
Теперь Макора может безбоязненно возвратиться к своему народу. Одно только пугало его: что подойдет многочисленное войско врага, с которым ему не совладать, и он больше не увидит родины.
Наконец-то его племя обретет спокойствие, надежную крышу над головой! Ободренные доброй вестью, все макололо от мала до велика с новыми силами принялись за дело: им не терпелось поскорей уйти из опасных мест.
Белых торговцев было трое, с ними девять туземцев, и все были прекрасно вооружены. Их помощь, особенно тех, у кого были ружья, очень выручила бы наших охотников в этот трудный час.
Виллем, который и не подозревал, что есть на свете люди, думающие лишь о себе и неспособные помочь другому, тотчас рассказал новым знакомым, какая опасность грозит ему и его друзьям, и сказал, что с минуты на минуту на них могут напасть их враги матабили. Он благодарил счастливый случай, пославший им помощь так кстати. Он воображал, что стоит торговцам услышать это, и их поддержка обеспечена: они тотчас возьмут отступающее племя под защиту.
Как же изумлены и возмущены были Виллем и его друзья, убедившись, что торговцы приняли его рассказ совсем не так, как он ждал! Не говоря ни слова, они кинулись запрягать быков.
Не прошло и десяти минут, как они уже спешили на юго-восток, к Порт-Наталю.
Они были не из тех, кто станет рисковать собой и своим имуществом, кто лишнюю минуту пробудет с людьми, попавшими в беду.
Если бы в душе наших охотников и шевельнулось желание покинуть Макору в трудный час, поступок торговцев убил бы его в зародыше. Трусливое бегство этих людей только прибавило оставшимся решимости. Они сделают все возможное, чтобы враг не настиг их. И они без промедления двинулись в путь.
Мужчины, женщины и дети напрягали все силы, стараясь поскорей уйти от преследования. Они знали, что впереди у них долгий путь, а позади — сильный и беспощадный враг. Даже собаки и те, казалось, понимали, какая опасность нависла над их хозяевами, и старательно подгоняли стадо.
Племя шло допоздна и проделало за день немалый путь, а матабили всё не появлялись, и охотники начали думать, что они отказались от погони.
Хотя Виллем и его друзья были на лошадях, они устали куда больше, чем пешие макололо, которые давно привыкли к еще более тяжелым и долгим переходам.
Охотники с радостью остановились бы, им казалось, что дальнейшее бегство уже не имеет смысла. «Лишь дурак и безумец бегут, когда за ними никто не гонится», — думали они.
Но Макора думал иначе. Он не пренебрег ни одной мерой предосторожности: выставил вокруг лагеря часовых, выдвинул вперед заставы, чтобы никакая случайность не застала племя врасплох. Кажется, никогда еще с тех пор, как они начали отступать, он так не боялся вражеского нападения.
Охотники не могли понять, чем вызваны все эти предосторожности, и через Конго спросили об этом вождя.
И Макора снисходительно объяснил, что воины Мосиликатсе не успокоятся, пока не добьются своего. Уж конечно, они не откажутся от преследования, если не нанести им действительно серьезное поражение. Они только ждут подхода новых отрядов, чтобы общими силами покончить с Макорой и его племенем. Через два дня макололо достигнут родных мест и тогда будут в безопасности — вот почему Макора всячески старается оберечь свое племя и своих гостей. Долг перед людьми для него превыше собственной жизни.
Назавтра они двинулись в путь еще до рассвета и торопились как только могли.
Гендрик, Аренд и Ганс сопровождали Макору без особой охоты: им казалось, что в таком поспешном бегстве уже нет надобности.
— Ну, ничего, — подбадривал их Виллем. — Еще только два дня — и мы увидим новые края.
Незадолго до полудня они убедились, что Макора был прав: впереди неожиданно показался отряд матабили.
Он был слишком мал, чтобы помешать отступавшим идти своей дорогой, и, завидев их, тотчас скрылся.
Позднее разведчики, оставленные позади, принесли весть, что с тыла подходят крупные силы врага. Отряды Мосиликатсе соединились, и теперь охотники вместе с Макорой знали, что дальнейшее бегство бесполезно. Не пройдет и суток, как им придется принять бой.
Ничего нет хуже, как подвергнуться нападению в пути. Надо остановиться там, где удобно будет защищаться. Поблизости не было подходящего места, но Макора надеялся, что на берегу можно найти удобную для обороны позицию, и, все ускоряя шаг, они направились к реке.
Глава 35
В ОСАДЕ
До захода солнца оставалось не больше часа, когда макололо вышли к реке. Враг, несомненно, был уже недалеко, и все тотчас стали готовиться к бою.
Гендрик и Аренд, полагавшие, что они здесь люди наиболее сведущие в военном деле, проехали немного вперед, чтобы выбрать поле для сражения.
Счастливый случай привел их туда, где было удобнее всего осуществить их план.
Чуть выше того места, где они вышли к реке, она изгибалась подковой, омывая полуостров, который в сезон дождей, когда река разливалась, превращался в остров. Сейчас туда можно было попасть через узкий перешеек — полоску суши шириною ярдов в пятьдесят. По нему-то на полуостров погнали стадо. Не теряя ни минуты, макололо вместе со всем своим имуществом перебрались на полуостров, чтоб их невозможно было окружить.
Лишь с одной стороны враг мог легко добраться до них — через неширокий перешеек. У края его на берегу реки стояло гигантское дерево: природа растила его сотни лет нарочно для того, как сказал Гендрик, чтобы спасти им жизнь.
Нвана — одно из замечательнейших деревьев Африки. Это настоящие гиганты, а иные стволы достигают необычайной толщины — девяноста футов в окружности. При этом древесина его не тверже капустной кочерыжки и считается совершенно бесполезной. Вот с этим охотники не могли согласиться.
Среди инструментов, которые они захватили с собой из дому, из Грэаф-Рейнета, были два добрых топора: по опыту прежних поездок, охотники знали, что без этого орудия в путешествии не обойтись.
Решили срубить дерево так, чтобы оно преградило доступ к полуострову с единственной незащищенной стороны. Получится укрытие, из которого можно будет успешно отражать атаки врага. Черныш достал топоры, и охотники принялись рубить дерево. Работали по двое и по очереди сменяли друг друга. С каждым ударом топоры все глубже погружались в мягкую, пористую древесину. Нвана поддавалась так легко, словно это было не дерево, а огромный пирог.
Им посчастливилось: ведь их спасение зависело от того, удастся ли им повалить этого царя африканских лесов до прихода матабили. Они, без сомнения, были уже недалеко, и люди на полуострове спешили укрепиться, чтобы достойно встретить их. Было еще неясно, в какую сторону упадет дерево. Если оно повалится в воду, все труды их пропадут даром — путь будет открыт и ничто не задержит врага. Если же оно закроет проход на полуостров, оно окажется для нападающих непреодолимым барьером. Молча, с нетерпеливым интересом смотрели макололо на огромное дерево. Наконец дерево покачнулось и стало падать — сперва медленно, точно нехотя, но, глядя на его трепещущую вершину, все поняли, что оно ляжет туда, куда надо. Оно падало чем ниже, тем быстрее, и ветви его со свистом рассекали воздух. Но вот гигант с треском рухнул наземь, и огромный ствол, точно валом, отрезал полуостров от суши; только с боков остались незащищенными по нескольку футов. Если отважно защищать эту баррикаду, наступающим нелегко будет одолеть ее. Теперь на полуострове готовы были встретить врага.
И враг не заставил себя ждать. Когда стемнело, в отдалении загорелись большие костры. Это подошли матабили. Они, видно, решили ничего не предпринимать до утра — тогда можно будет разведать позиции макололо и потом уж напасть на них. Еще перед тем как укрепиться на мысу, Макора спросил, кто из воинов тайно проберется к какому-нибудь нейтральному племени, которое могло бы подоспеть ему на выручку, и четверо воинов вызвались пойти. Стоило теперь осажденным макололо двинуться с места, и их бы наверняка разбили и уничтожили. Здесь они могли бы продержаться несколько дней, и, зная, что враг не снимет осады, пока не уничтожит их, Макора надеялся лишь на помощь какого-нибудь соседнего вождя, которому придется не по нраву вторжение матабили.
Первым вызвался идти в эту опасную разведку Синдо — он горячо желал вернуть себе расположение Макоры. Нашлось и еще трое добровольцев. Их разбили по двое: сперва отправилась одна пара, через час — другая.
Так было больше надежды на успех: не повезет одной паре, ее захватят проберется другая.
Ранним утром враги показались неподалеку от укрепленного лагеря. Укрывшись за кроной поверженного дерева, охотники видели большую толпу матабили — их было не меньше шестисот. А Макора мог выставить против них всего-навсего двести пятьдесят воинов.
Как уже говорилось, по обе стороны громадного дерева, у подрубленного конца и у макушки, оставались проходы, их надо было охранять особенно тщательно. Тут Макора поставил своих храбрейших воинов, остальные залегли за стволом, чтобы поражать копьем каждого, кто попытается перелезть через эту зеленую баррикаду.
Матабили уже разглядели расположение противника и, видимо, были уверены в успехе. Наконец-то они загнали дичь! Теперь ей некуда податься, и они могут отдохнуть после долгой погони, чтобы со свежими силами взять крепость.
Солнце уже светило вовсю, когда они пошли на приступ. Разделившись на два отряда, они ринулись к проходам по краям баррикады. Ожесточенный бой длился каких-нибудь десять минут, и враг вынужден был отступить, оставив на месте несколько человек убитыми.
Но эта кратковременная победа стоила жертв и Макоре. Восемь макололо были убиты и еще несколько серьезно ранены.
На лице Макоры все отчетливее проступала тревога. Он знал, что враги много сильнее его, что путь к отступлению отрезан и что попытка врагов прорваться чуть было не увенчалась успехом.
Мрачные предчувствия одолевали вождя. Судьба племени пугала его.
Он слишком хорошо знал нрав противника, чтобы надеяться на то, что матабили легко откажутся от своего намерения.
Они уже понесли немалые потери и, конечно, опасаются гнева Мосиликатсе, притом они рассчитывают поживиться добром макололо, и, несомненно, они будут драться до тех пор, пока у них остается хоть малейшая надежда победить.
Помощи от других племен не приходится ждать раньше чем через три дня. Продержатся ли они так долго?
Вождь смотрел на убитых и раненых, лежавших вокруг на земле, и понимал: нет, не продержаться. Врагов слишком много, они будут нападать снова и снова и в конце концов добьются своего.
Так думал вождь макололо, и, как ни доверял он мудрости и воинскому искусству белых охотников, тревога ни на минуту не оставляла его.
После атаки прошло уже два часа, а осажденные не видели ни одного матабили, если не считать тех, кто остался лежать у поваленной нваны. И все же они хорошо знали, что враг где-то близко.
Спустилась ночь. Во тьме запылали лагерные костры врага, но это еще ничего не значило.
Настало утро, а осажденных все еще никто не потревожил. Судя по всему, воины Мосиликатсе отчаялись и вернулись к своему вождю, решив, что им ничего не остается, как понести неизбежную кару за то, что они не сумели избежать поражения.
Так думали охотники и стали всячески уговаривать Макору, не мешкая больше, двинуться в страну своих сородичей. Но вождь наотрез отказался последовать совету своих белых союзников. Он признает их превосходство в охотничьем и даже воинском искусстве, но что такое Мосиликатсе и его воины, он знает лучше. Здесь, на полуострове, он со своим племенем может долго продержаться, а стоит уйти отсюда — и они попадут в засаду, которую, конечно, устроил враг. Если бы еще не было надежды на помощь, тогда другое дело, но, уж наверно, ему сразу вышлют подкрепление, а потому лучше остаться здесь.
Подумав, что Макора, быть может, прав, Виллем и его друзья согласились остаться, но при одном условии: они ждут еще тридцать шесть часов, и, если за это время ни друзья, ни враги не появятся, Макора обещает продолжать путь в страну макололо.
Глава 36
НЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО
Условленное время прошло, а матабили все не показывались; и от Синдо и его спутников тоже не было вестей.
Теперь охотники уже не сомневались, что враг отказался от мысли взять верх над племенем, на стороне которого — разум и оружие белых людей, и отправился восвояси. Макора был не вполне согласен с этим, но тем не менее, как и было условлено, он начал готовиться в путь.
Стадо вывели на дорогу, и все стали погонщиками, да такими усердными, словно не сомневались, что по пятам гонится враг.
Виллем и его друзья никак не могли понять поведения туземцев.
Ведь в бою люди Макоры показали себя отважными воинами, а теперь, когда враг словно сквозь землю провалился, они явно трусят!
Виллем велел Конго спросить вождя, в чем тут дело.
Да, согласился Макора, слова охотника справедливы, но белые друзья не удивлялись бы, будь им больше знакома тактика Мосиликатсе и его воинов.
Осторожный Макора не забыл оставить в тылу разведчиков, и через несколько часов после того, как племя покинуло свою крепость, один из них, догнав Макору, сообщил, что матабили движутся следом.
Как и предполагал Макора, враги только и ждали, чтобы он ушел с такой удобной для обороны позиции.
Теперь белые охотники по опыту знали, что следует где-то укрепиться, чтобы легче было отразить врага, и поэтому Гендрик и Аренд, пришпорив коней, поскакали вперед, намереваясь выбрать новое поле битвы.
Но на этот раз счастье им изменило. Племя шло теперь по открытой равнине, тут негде было укрыться, и ни одному из противников местность не давала никаких преимуществ.
— Мы уже далеко отъехали, — сказал Гендрик, когда они проскакали около мили. — Наши не успеют добраться сюда, матабили их нагонят. Надо возвращаться.
— Надо, конечно, — машинально отозвался Аренд, пристально глядя куда-то вдаль.
Гендрик проследил за его взглядом и с удивлением увидел, что к ним быстро приближаются человек тридцать туземцев.
— Нас окружают! — воскликнул Гендрик и повернул коня, готовый скакать прочь.
Без дальних слов оба галопом помчались обратно к каравану Макоры.
— Макора был прав, — сказал Гендрик, подъехав к Виллему и Гансу. — Не надо было уходить оттуда. Там мы могли устоять против этих матабили. Зря мы ушли.
Пока они рассказывали Макоре, что впереди появились вооруженные люди, прибежали разведчики и донесли, что с тыла быстро подходит большой отряд матабили.
На минуту в душе Ганса, Гендрика и Аренда шевельнулась мысль: быть может, не стоит так уж строго судить вчерашних торговцев за то, что они поспешили убраться подальше вт опасности. Жизнь, как видно, была им слишком дорога, чтобы отказываться от нее по доброй воле.
Все заветные мечты и давно лелеянные надежды вспомнились нашим искателям приключений. Невольно они подумали, что не худо бы и им спастись. Но в них было слишком сильно чувство чести, они и помыслить не могли о том, чтобы бросить на произвол судьбы отважное племя махололо, — ведь охотники, сами того не желая, оказались виновниками их несчастья.
Все они посмотрели на Виллема. Уж он-то ни в коем случае не покинет доблестного вождя, которому они столь многим обязаны, не покинет даже для спасения собственной жизни! И они больше не колебались. Судьба Макоры будет их судьбой.
Они попросили вождя отдать племени приказ остановиться, и он издал клич, который, наверно, был слышен на милю окрест, Ему откликнулись идущие впереди, те, кто погонял стадо; и среди множества голосов прозвучал один, который все узнали с безмерной радостью.
Этот голос донесся издалека, невнятно, но, услышав его, макололо стали в восторге прыгать и скакать как сумасшедшие, и многие закричали:
— Синдо! Синдо!
Люди Макоры устремились вперед, все ускоряя шаг, и через несколько минут повстречались с большим отрядом воинов макололо, которые порадовали их вестью, что следом подходят новые подкрепления.
Синдо и его товарищи успешно выполнили свою миссию.
Случилось так, что в эти критические для Макоры дни Ма-Мочисане как раз посетила свои южные владения, и с нею было множество воинов из разных подвластных ей племен.
Она не забыла Макору, он был другом ее детства. Желание помочь Макоре подкреплялось еще и давней ненавистью к племени матабили, и, не теряя ни минуты, Ма-Мочисане послала Макоре на выручку отряд лучших своих воинов.
Они подоспели как раз вовремя. Приди они двумя часами позже, и им пришлось бы вступить в бой с врагом, не успев выбрать удобную для обороны позицию.
И вот, вместо того чтобы встретиться с горсточкой усталых изгнанников, люди Мосиликатсе увидели перед собой большой отряд, полный сил, готовый к любой схватке, — увидели победоносных воинов благородного Себитуане.
Воины Мосиликатсе поняли, что лишь одно может спасти их от позора: надо немедленно переменить тактику. Они решили сейчас же сразиться с противником.
И они ринулись на макололо, но были отброшены.
После короткой стычки они были разбиты наголову и отступили так поспешно и беспорядочно, что ясно стало: они уже не вернутся.
С той поры охотники никогда больше не слыхали про матабили.
А через три дня Макора представил своих друзей ко двору Ма-Мочисане и сам присягнул в верности своей новой повелительнице.
Соплеменники с радостью приняли вождя, который вернулся на родину после долгого изгнания, да притом ускользнул от своих преследователей — матабили.
Глава 37
РАЗГОВОР О РОДНОМ ДОМЕ
— У меня к вам покорнейшая просьба, — сказал Гендрик своим друзьям на другой день после того, как охотники были представлены ко двору Ма-Мочисане. — Я хотел бы кое-что узнать, да только может ли кто-либо из вас мне ответить?
— Превосходно! — отозвался Виллем. — Что до меня, я охотно сделаю все, что в моих силах, чтобы просветить тебя. Что ты хочешь знать?
— Если мы собираемся еще остаться в этой части света, я хотел бы, чтобы кто-нибудь растолковал мне, чего ради мы это делаем, — сказал Гендрик. — Я вполне могу вернуться домой.
— Я тоже, — поддержал Аренд.
— И я, — прибавил Ганс. — Хватит с меня охоты за жирафами и за кем угодно. В последний месяц мне все порядком надоело. За нами тоже достаточно поохотились.
— Мне грустно это слышать, — сказал Виллем. — Я-то пока не могу вернуться домой. Разве мы уже добились того, ради чего сюда приехали?
— Нет, — заметил Гендрик. — И, конечно, никогда не добьемся.
— Почему ты так думаешь? — удивился Виллем.
— А почему бы мне думать иначе? Начать с того, что, как правило, людям удается осуществить далеко не все свои желания. Нам очень повезло в двух наших прежних путешествиях, и грех жаловаться, если на сей раз не повезет. Нельзя же всегда рассчитывать на победу. Счастье капризно, и сейчас я больше всего на свете хочу благополучно добраться до дому.
— Нет, мне еще рано ехать домой, — возразил Виллем таким тоном, что друзья поняли, насколько твердо его решение. — Мы провели здесь всего несколько недель, но за это короткое время добыли много клыков бегемота, а жирафов мы пытались поймать только один раз. Но не для того я проехал больше тысячи миль, чтобы бросить все дело после первой же неудачи. Зачем мы сюда приехали? От Грааф-Реннета до Лимпопо не такой близкий путь, чтобы проделать его понапрасну. Надо привезти добычу и показать, что не зря мы потратили время и лишились лошадей. Вот если нам еще раз пять не повезет, тогда можно будет говорить о возвращении, а раньше я и слушать не стану.
Гендрик и Аренд подумали о том, сколько раз за последние недели жизнь их висела на волоске, но, пожалуй, еще больше они думали о своих невестах. Ганс не мог забыть о желанной поездке в Европу. Но все эти доводы не подействовали бы на Виллема, будь они даже высказаны вслух. Он поехал на север за двумя молодыми жирафами. На эту поездку были потрачены время и деньги, и спутники Виллема не могли сколько-нибудь убедительно объяснить, почему надо отказаться от дальнейших попыток довести дело до конца.
Виллем всегда охотно уступал желаниям друзей. В мелочах он никогда им не противоречил. Но теперь они не могли с ним сладить. Ни Ганс, ни Гендрик, ни Аренд не могли вернуться домой, бросив Виллема, а он, по выражению Гендрика, уперся, как осел, и волей-неволей им тоже пришлось остаться.
От макололо они узнали, что к западу отсюда, на расстоянии дня пути, есть большой акациевый лес, где не раз видели жирафов, и решили побывать там.
Макора вошел в милость при дворе Ма-Мочисане и не мог сопровождать охотников, так как он был очень занят устройством своего племени на новом месте. Но он уверял, что им нечего опасаться — они несомненно найдут в том лесу и жирафов, и подходящее место для новой западни. В помощниках у них тоже недостатка не будет.
Чтобы они всегда могли без труда передать ему любое известие, Макора послал с ними четверых лучших своих гонцов — двоих из них охотники пришлют к нему, если захотят сообщить что-либо важное.
С истинным удовольствием Виллем и его товарищи снова пустились в путь ведь теперь они не бежали от злобного врага, а только расставались с друзьями, с которыми, наверно, еще встретятся.
Во время путешествия Гендрик и Аренд, увлеченные охотой, порой забывали о том, что манило их домой, но им столько раз приходилось удирать от погони, нередко рискуя при этом жизнью, что неудивительно, если мысли их то и дело обращались к мирным картинам цивилизованной жизни.
Черныш был в восторге оттого, что они расстаются с макололо. В последние дни он очень горевал, что ему приходится быть в столь дурном обществе, — во всяком случае, уверял, что горюет. Что он думал на самом деле, неизвестно, да и не так уж важно; но он не упускал случая повторить, что все несчастья постигли его хозяев лишь потому, что вел их Конго и окружало их племя, чей язык Конго понимал, а он, Черныш, не понимал. Уж конечно, этого довольно, чтобы с ними случилась любая беда. А теперь они расстались с этим племенем, и Черныш — один из десяти путников, но не один среди сотен. У него есть свои обязанности, и они дают ему определенное положение в этом маленьком отряде. Теперь к его сетованиям или советам прислушиваются, и он стал вслух выражать надежду, что с его помощью охотники еще добьются успеха.
По дороге к акациевому лесу не случилось ничего интересного даже с Гансом, который все время отставал от других, разглядывая каждый кустик и каждую травку. Лишь одно маленькое происшествие, видимо, очень заинтересовало собак.
Проходя мимо холма или даже скорей невысокой горы, охотники увидели стадо капских собакоголовых обезьян — бабуинов, спускавшихся с вершины, вероятно, на водопой. Охотники не раз слышали, что собаки ненавидят бабуинов, как никакого другого зверя на свете, и теперь воочию убедились, что это истинная правда. Из всех собак лишь одна встречала прежде бабуинов; и, однако, заметив их, все собаки тотчас пришли в самую неистовую ярость, на какую только были способны. Со злобным лаем они разом кинулись на бабуинов.
Как видно, в собаках жила инстинктивная ненависть к животным, которые с виду немного походили на них самих.
— Скачите скорей, — крикнул спутникам Виллем, — не то собаки погибли!
До этой минуты бабуины не собирались отступать. Как видно, они думали, что проще подраться с собаками, чем снова взбираться на гору; но стоило Виллему выстрелить, и они разбежались с такой быстротой, что собакам нечего было даже и пытаться догнать их.
Остался только один бабуин — тот, которого подстрелил Виллем. На раненого тотчас накинулись собаки — их не удалось отогнать, пока они не разорвали уродливую обезьяну в клочки.
Глава 38
СРЕДИ АКАЦИИ
Теперь охотники были поглощены одной мыслью — поймать жирафов. Даже рыкание льва возле самого лагеря не отвлекло бы их от этой мысли. И появись тут слон с тяжелыми бивнями, они не соблазнились бы драгоценной костью и не погнались бы за ним. Все прониклись важностью задачи: домой они вернутся не раньше, чем выполнят ее, и ничто не заставит их отказаться от этого намерения.
Подле акациевой рощи, где им предстояло охотиться, протекал небольшой ручей. На его берегах они обнаружили вскоре следы жирафов, а среди них и маленькие — по-видимому, отпечатки копыт детенышей. Виллем был в приподнятом настроении. Ему представлялась новая возможность удовлетворить свое охотничье честолюбие. Остальные, хотя и не столь уверенные в успехе, не менее стpaстно желали достичь цели.
На следующий же день, когда они прибыли к роще, среди деревьев показалось стадо жирафов и направилось к ручью.
Пугливые животные не подозревали о близости человека и заметили, охотников только тогда, когда очутились ярдах в ста пятидесяти от них. Тотчас повернув назад, жирафы неуклюжими, но быстрыми скачками понеслись по равнине на запад, прочь от рощи. Гендрика и Аренда, готовых ринуться за ними, с трудом удержали на месте.
Это была бы удивительно волнующая охота; не так легко им было совладать с собою и спокойно смотреть, как жирафы исчезают, несясь по равнине.
Сдержал друзей Виллем.
— Разве вы не видите, что в стаде три детеныша? — сказал он. — Их жилье, вероятнее всего, тут, в роще. Разве можно спугивать их отсюда!
— За ними уже охотились, — заметил Гендрик. — В боку у одного из них торчит стрела. Наверно, какой-нибудь туземец стрелял в него просто для забавы ведь жирафа стрелой все равно не убить.
— Вот жалость, что они нас заметили! — сказал Виллем. — Но, может быть, они все-таки вернутся в рощу. Надо проверить, действительно ли здесь их излюбленное убежище, а тогда мы пошлем к Макоре за людьми, и они соорудят новую западню. Пожалуй, это единственый способ заполучить жирафов.
Прошел еще день. Охотники развлекались, убивая куда больше антилоп и другой дичи, чем им нужно было на обед и нa ужин. Жирафы больше не показывались, а наутро охотники пошли по следам тех, которых видели накануне.
Милях в пятнадцати дальше на запад они обнаружили еще один акациевый лесок; объехав его вокруг, друзья наткнулись на небольшое озерце. Берега его истоптали жирафы, и среди отпечатков их копыт были заметны совсем маленькие. Следы, конечно, свежие, и их несомненно оставили те самые жирафы, которых наши путешественники видели три дня назад. Из этого они заключили, что стадо появляется в обеих рощах.
— Теперь мы знаем все, что нужно, — сказал Виллем. — Надо сейчас же послать к Макоре за помощью и сделать новую западню.
Все с ним согласились. Но тут возник вопрос: где устраивать ловушку?
— По-моему, можно у той рощи, где мы видели жирафов первый раз, — предложил Гендрик, — мы их легко туда загоним.
Против этого трудно было возразить, и план Гендрика был принят.
Утром охотники послали двоих макололо к Макоре за обещанной помощью, а сами вместе с остальными спутниками вернулись в рощу, где останавливались вначале, и разбили там лагерь.
В тот день, когда ждали людей Макоры, Гендрик и Аренд отправились берегом вверх по реке искать какой-нибудь дичи. Ими двигало непостижимое, чисто охотничье желание убивать — им не спалось бы ночью, если бы днем они не уложили какого-нибудь зверя.
Они добрались до опушки густого леса. Тут росли акация и вечнозеленый кустарник — стрелиция, замия и масляное дерево. Вдруг послышался треск ломающихся сучьев — сквозь чащу продирался какой-то крупный зверь.
— Приготовься, Аренд! Может, что-нибудь подстрелим! — крикнул Гендрик.
Оба остановили лошадей, дожидаясь, что будет дальше. Не прошло и нескольких секунд, как из лесу выскочили два жирафа. На спине у одного из них сидел леопард. Грудь жирафа была вся в крови, и он бежал, спотыкаясь на каждом шагу.
Молодые охотники знали, что леопард труслив и в тех местах, где дичь водится в изобилии, легко находит добычу, не подвергая себя риску. Значит, он напал на жирафа вовсе не потому, что хотел есть. Может быть, жирафы потревожили его детенышей в логове или чем-либо другим рассердили его. Второй жираф, очутившись на открытом месте, мгновенно покинул раненого, а тот явно уже терял силы. Кровь ручьем лилась из разорванной шеи, и громадное животное изнемогало от ран, нанесенных ему свирепым, увертливым врагом. Охотники наблюдали единственную в своем роде сцену: леопард убивал жирафа. Обстоятельства сложились благоприятно для хищника, и, хоть он был вдесятеро слабее и меньше огромного жирафа, случайно вызвавшего его гнев, того ждала гибель.
Сопровождавшие охотников две собаки, не обращая внимания на окрики хозяев, тоже набросились на несчастное животное. С громким лаем помчались они за жирафом, стараясь вцепиться ему в ноги. Пошатываясь, жираф лягнул одну из собак — лягнул без промаха и с такой силой, что пес отлетел на несколько футов и остался лежать, корчась в агонии. После такого усилия раненый жираф потерял равновесие; голова его свесилась набок, и он рухнул на землю, придавив своей тяжестью леопарда. Так, подобно Самсону, леопард оказался виновником собственной гибели!
Гендрик передал поводья Аренду, подошел поближе к леопарду и выстрелом в голову положил конец его пронзительному вою.
Вскоре вместе с кровью, выпущенной из его вен хищным зверем, жизнь покинула и жирафа. Стоя возле обоих трупов, охотники пытались найти объяснение удивительному зрелищу, свидетелями которого они оказались. Они как-то слышали про жирафа, который пробежал несколько миль, неся на спине льва, но считали эту историю вымыслом. И вот они увидели собственными глазами, как леопард тоже проскакал немалое расстояние верхом на жирафе. Почему бы такое не могло случиться и со львом? Хотя кожа на шее у жирафа очень толстая, она была растерзана в клочья и свисала у него по плечам. Конечно, леопард не раз вонзал в тело жирафа свои длинные клыки и когти; он разорвал его артерии и вены еще до того, как жираф окончательно изнемог и жизнь его покинула.
Для того чтобы так его изранить, нужно было по крайней мере несколько минут, и, возможно, безжалостный враг даже не сознавал, что его уносят все дальше от места, где он напал на жирафа. В пылу своей лютой ярости он и не заметил, как жираф увлек его далеко от детенышей, которых он с таким упорством защищал, и смерть помешала ему обнаружить это.
Глава 39
ЕЩЕ ОДНО РАЗОЧАРОВАНИЕ
Макора выполнил обещание и снова помог охотникам. Через три дня после того, как отбыли посланные к нему макололо, пришли тридцать его людей. Место для западни выбрали в полумиле от опушки леса и тут же принялись ее сооружать.
Охотникам не терпелось узнать, чем кончится вторая попытка поймать жирафов, и они трудились без устали. Двое из них, не выпуская из рук топора, валили небольшие деревца; туземцы тут же уносили их на место, где строился загон, а остальные два охотника руководили устройством изгородей. На этот раз соорудить западню было легче, так как для нее выбрали более удобное место. Изгороди предполагалось поставить чуть позади, по обе стороны акациевой рощи, которая имела не больше полумили в ширину; да и яму рыли не такую большую, как раньше. Работая без передышки от восхода до захода солнца, они сделали западню дней за семь.
Пока охотники трудились, они видели неподалеку от рощи несколько жирафов и снова воспрянули духом. Теперь они надеялись дня через два или три тронуться в обратный путь. Чтобы обеспечить верный успех, охотники вместе с большой группой макололо отправились во вторую акациевую рощу. Они хотели перегнать жирафов из этого леска в тот, где сооружалась западня. Во время этой вылазки охотникам не встретилось ни одного жирафа, но их это не смутило: жирафы окажутся там, где их ждут. И в надежде на такой исход они поспешно возвратились в лагерь.
Загоняли жирафов в западню тем же способом, что и в прошлый раз. Это была обычная облава, в которой все приняли участие. Макололо, стараясь поднять как можно больше шуму, шли с собаками через заросли; тем временем Виллем и Гендрик ехали по одну сторону леска, а Ганс и Аренд — по другую.
Загонщики были уже совсем близко от западни, когда Виллем начал подозревать неладное. Не видать было ни единого стада крупных зверей, убегающих из рощи. До ушей не доносилось треска ломающихся сучьев. Казалось, лес покинули все, кроме макололо, которые шумно прокладывали себе путь под его сенью. Наконец облава кончилась. В загоне оказалось лишь несколько мелких обыкновенных антилоп, два-три пятнистых гну да несколько диких свиней.
Охотники были жестоко разочарованы. Жирафы ушли, и никто не знал, куда. Возможно, они и вернутся, но можно ли быть в этом уверенным! Те из макололо, кто считал себя знатоками жирафов и их повадок, заверяли, что жирафы перекочевали далеко на юг, в большие леса, и в этих местах их теперь полгода не увидишь. Макололо жаждали скорее вернуться домой, и, может, это оказало на них влияние. Им надо было заботиться о семьях, строить хижины и обрабатывать землю, но, подчиняясь приказу своего вождя, они бросили все. Охотники не имели больше оснований задерживать их, и, хотя им этого не хотелось, все же пришлось отпустить макололо.
В последующие три дня охотники объездили окрестности миль на двадцать вокруг. Они натолкнулись на несколько небольщих акациевых рощиц, но жирафов там не было. Очевидно, они и в самом деле ушли из этого края и не вернутся в течение многих недель и даже месяцев. Макололо, по-видимому, сказали правду.
— Может, мы поступали не так глупо, — сказал Аренд, — но, уж конечно, глупо и дальше тратить зря время на этих жирафов — ясно, что нам не судьба их поймать.
— Вот это умно! — воскликнул Гендрик. — Продолжай в том же духе.
— Пока что я все сказал, — ответил Аренд, многозначительно покачав головой в знак того, что все уже ясно и говорить больше не о чем.
— Что же нам делать, Ганс? — спросил Виллем.
— Отправиться домой, — тотчас последовал ответ. — Теперь я согласен с Гендриком. Не можем мы всегда и во всем рассчитывать на успех, а сейчас мы тратим время зря — ведь видно, что эта затея обречена на неудачу.
— Что ж, — сказал Виллем, — только сначала вернемся в те места, где живут макололо. Ведь это нам по пути.
Заметив, что Черныш жаждет высказать свое мнение по этому важному вопросу, Гендрик любезно предоставил ему эту возможность. Бушмен обладал довольно распространенным даром: разразившись потоком слов, сказать очень мало. На этот раз ему удалось удовлетворить свое тщеславие — охотники ужинали, и у них было вдоволь времени слушать его разглагольствования.
По мнению Черныша, неудача постигла их исключительно по вине Конго. Он-то, Черныш, с самого начала знал, что нельзя рассчитывать на успех, пока их ведет Конго или кто другой из любого негритянского племени, чей язык понятен кафру.
Дальше Черныш сообщил, что в детстве ему каждый день приходилось видеть жирафов, и окажись сейчас охотники среди его соотечедтвенников, бушменов, а это, по его мнению, самые честные и умные из африканцев, — они давно уже поймали бы жирафов. Слова Черныша вызвали лишь улыбку у охотников — они знали, что бушмены, пожалуй, наиболее отсталое из всех африканских племен, — однако сам он счел это за признание его красноречия и был, видимо, вполне доволен.
Охотники отправились в новое селение Макоры. Вождь очень сожалел, что экспедицию постигла неудача, но он не мог обнадежить Виллема: нет, в ближайшее время им вряд ли представится случай найти жирафов. Они, говорил Макора, часто кочуют с места на место, идут не останавливаясь по нескольку дней подряд, делая по тридцать — сорок миль за день. Стадо, где есть детеныши, иной раз месяцами не встретишь во всей округе. И, однако, Maкopa обещал, что он со своим племенем станет и дальше помогать им чем только сможет.
Виллем непрочь был остаться, чтобы соорудить новую западню, но его спутники в один голос потребовали, чтобы отправиться домой не откладывая. Они так горячились, что великану-охотнику пришлось подчиниться. В конце концов решили все же двинуться в Грааф-Рейнет не прямым путем, а через страну бечуанов — пересечь край, где живут бушмены. А там можно, свернув на восток, направиться домой.
Виллем дал слово, что не станет без необходимости задерживаться в пути, а его спутники обещали, не жалея усилий, помогать ему осуществить заветную мечту.
В племени Макоры было четверо юношей, которым очень хотелось побывать в селениях белых и узнать о том, как живут цивилизованные люди, больше, чем они знали из случайных встреч с охотниками или торговцами. Соплеменники снабдили юношей упряжкой быков, дали леопардовые шкуры, страусовые перья и слоновую кость — все, что можно продать белым. Макора велел им во всем помогать его другу Виллему и остальным охотникам.
Вождь и другие знатные люди племени провожали охотников несколько миль от деревни. Расставаясь с ними, путешественники почувствовали, что покидают искренних друзей.
И Макора и Синдо очень горевали, прощаясь с Виллемом. Оба заявили, что обязаны ему жизнью. Оба дали обещание когда-нибудь его навестить в его далеком доме. Охотники отправились дальше, глубоко убежденные, что среди макололо есть люди, обладающие едва ли не всеми благородными чертами, свойственными человеческой природе.
Глава 40
СТАДО БУЙВОЛОВ
На обратном пути к Грааф-Рейнету Ганс, Гендрик и Аренд были очень довольны и собой и всеми окружающими. Совсем не так чувствовал себя Виллем. Он ехал с остальными лишь потому, что все еще надеялся натолкнуться на жирафов; но все время его тревожила мысль: неужели они приедут домой, не приведя двух детенышей?
Он не был склонен спешить и не упускал случая замешкаться, охотясь эа дичью ради забавы или для еды.
Утром третьего дня после разлуки с Макорой наши путешественники увидели большое стадо буйволов. Буйволы паслись у подножия холма, возвышавшегося на полмили в стороне от пути, которого держались охотники. В одно мгновение Виллем был уже в седле и скакал к буйволам. Спутникам не очень-то хотелось следовать за ним.
— Опять на целый день задержимся! — воскликнул Аренд. — Виллем убьет буйвола и не успокоится, пока мы не сделаем привал, чтобы съесть этого буйвола.
— Ну конечно, — заметил Гендрик. — Но почему он один должен получить удовольствие от охоты?
Гендрик и Аренд, вскочив на коней, поскакали за Виллемом, а следом за ними верхом на быках — двое из макололо. Терпеливый, рассудительный Ганс остался ждать их возвращения.
Не желая испугать буйволов внезапным нападением, Виллем поехал в обход, чтобы оказаться впереди стада, и Аренд с Гендриком вскоре догнали его.
Буйволы — их было не меньше двухсот — двигались в одном направлении и очень медленно, так как на ходу щипали траву.
Когда охотники приблизились к ним ярдов на триста, буйволы на минуту подняли головы, поглядели на странные существа, помешавшие их трапезе, и опять склонили головы, продолжая пастись.
Вожак стада пока не подавал сигнала к бегству.
— Поедем дальше влево и обойдем их, — предложил Виллем. — Если какой-нибудь старик нападет на нас, ускачем на холм.
Когда охотники подъехали к подножию холма и были шагах в ста от стада, несколько буйволов повернулись к ним и встали, преградив дорогу врагу, словно приготовившись прикрыть отступление самок и детенышей.
Сидя на коне, редко удается сделать удачный выстрел. Охотники знали это и спешились; каждый избрал себе жертву и, тщательно прицелившись, выстрелил. Три выстрела грянули почти одновременно, после чего охотники бросились к своим лошадям. Раненые буйволы вырвались из стада и свирепо ринулись на своих противников.
Увидев, что на них мчатся буйволы, испуганные лошади принялись метаться, вставать на дыбы, и сесть на них оказалось совсем не просто. Гендрик и Аренд все же вскочили в седла, но Виллему это не удалось.
Лошадь, на которой он не раз приближался чуть ли не вплотную к разъяренному слону, совсем обезумела от страха, услышав рев раненых буйволов. И когда они неожиданно ринулись вперед, лошадь стала вырываться из рук хозяина. Казалось, чем крепче Виллем ее держал, тем отчаяннее она сопротивлялась; невзирая на огромную физическую силу охотника, она тащила его на поводьях, пока один конец не лопнул. Второй конец лошадь так стремительно выдернула из руки Виллема, что он рассек ему пальцы чуть ли не до кости. А в это время один из буйволов оказался уже совсем близко. Хоть и настоящий великан, Виллем вовсе не был медлителен и неуклюж; наоборот, он отличался большим проворством. Но где ему было убежать от африканского буйвола!
Разъяренное животное напало так стремительно, что бык, на котором ехал один из макололо, не успел посторониться, и седок поспешно соскочил с него. Это было счастьем для Виллема — злополучный бык спас ему жизнь. Кинувшись к быку, буйвол вонзил ему между ребрами длинный рог, скинул с его спины седло и свалил его на землю; тот остался недвижим, словно сраженный топором мясника.
А тут внимание буйвола было снова отвлечено от Виллема — на него набросились собаки.
Три или четыре пса упрямо нападали на него, ловко увертываясь от рогов и копыт, пока наконец буйвол не сшиб одну из собак, пытавшуюся вцепиться ему в морду, и не наступил на нее копытом.
Те, кто видел эту сцену, воочию убедились в мстительности африканского буйвола. Не довольствуясь тем, что он убил собаку, он встал на ее труп и яростно придавил его, словно решил переломать жертве все кости. Казалось его злит, что ои не может сокрушить собаку сразу и копытами и рогами.
А тем временем Виллем успел перезарядить свой громобой. Буйвол повернулся, чтобы погнаться эа охотником, но пуля свалила его. Взревев так, что воздух задрожал на милю вокруг, буйвол поднялся, шагнул, шатаясь, раз, другой и упал на землю, чтобы больше уже не встать. Он был тяжело ранен первым же выстрелом, и трава кругом на большом расстоянии была забрызгана его кровью.
Нападению подвергся не только Виллем. Аренд и Гендрик были также вынуждены отступить — за каждым из них гнались по два буйвола. Но, к счастью, холм был совсем рядом, всадники пустили в ход шпоры и хлыст, и лошади во весь опор поскакали вверх.
Тяжелый буйвол не в состоянии быстро бежать в гору, хотя, спускаясь вниз, он может обогнать коня. Буйволы, которые, преследовали охотников, вскоре убедились в безнадежности погони и, оставив добычу победителям, пустились догонять стадо, уходившее по раскинувшейся внизу равнине. Так, во всяком случае, подумали охотники. Скоро они увидели, что ошиблись: четыре буйвола неожиданно свернули в сторону и бросились к пятому, который был ранен и плелся далеко позади. То, что произошло дальше, чрезвычайно удивило охотников. Вместо того чтобы попытаться защитить своего товарища, эти четыре буйвола кинулись на него, сбили с ног и стали бодать его рогами. Жестокая расправа прекратилась лишь тогда, когда несчастное животное испустило дух.
Казалось, буйволы действовали так не в пылу ярости, а в силу какого-то непонятного инстинкта. Это нападение на беззащитного товарища было ужасно. Но, увы, разве так не случается и среди людей! В несчастье друг нередко становится врагом.
Разделавшись со своим раненым товарищем, четыре буйвола побежали дальше и вскоре догнали стадо, для защиты которого они задержались.
Буйвол, застреленный Виллемом, был самым крупным из всех убитых нашими охотниками. Любопытства ради они записали его размеры. Он был восьми футов в длину и почти шести футов ростом, считая до верхушки плеч. Расстояние между концами его длинных рогов равнялось пяти футам трем дюймам. Плечо и часть шеи перерезал широкий шрам длиною больше чем в два фута. Шрам был глубокий и потому заметен в густой шерсти, а шерсть темная — знак того, что буйвол не старый. Рану, оставившую такой рубец, нанес лев. Охотники поняли это, увидев три параллельных шрама на плече буйвола — несомненный след когтей льва.
Вырезав из туши обоих убитых буйволов несколько самых лакомых кусков и привязав их позади седел, чтобы увезти с собой, путешественники устроили короткий привал, подкрепились бифштексом из свежего мяса и отправились дальше.
Глава 41
ОТРАВЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК
К вечеру восьмого дня, после того как охотники расстались с Макорой, они разбили лагерь на берегу небольшой речки, протекавшей, по их расчетам, милях в ста двадцати южнее места, откуда они пустились в обратный путь.
В душе Виллема все еще тлела надежда, что по дороге им снова попадутся жирафы, и он не упускал случая их искать.
Спутники были недовольны этими проволочками; однако Виллем поступал, как ему хотелось: он так обезоруживал своим добродушием, что трудно было ему перечить, и его друзьям оставалось только удовлетворяться сознанием, что они хоть и медленно, а все же движутся к дому.
Проснувшись утром в своем новом лагере, они увидели картину, прекраснее которой не видели во время своего путешествия по этой огромной стране. Поблизости раскинулась целая роща олеандровых кустов, осыпанных чудесными розовыми цветами. На каждой ветке сидели прелестные зеленые птички-нектарницы. Ничто в природе не может сравниться с великолепием оперения этих птиц.
Небольшая долина, где остановились охотники, была словно уголок рая, залитый золотом солнечного света; даже быки, на которых ехали макололо, казалось, покидали его с неохотой.
Путешественники двинулись отсюда по руслу и вскоре заметили, что едут они не берегом ручья — сейчас, в засушливые месяцы, он превращался в цепь маленьких озер. Охотники пересекли песчаный нанос меж двух таких водоемов, как вдруг с той стороны, куда они направлялись, ветер обдал их каким-то ужасным зловонием. Они продолжали путь, но вонь стала такой нестерпимой, что им пришлось остановиться; единодушно решили повернуть на восток и двигаться против ветра, чтобы не слышать этого ужасного, все еще непонятного им запаха.
Но тут они заметили, что на западе носятся в небе целыми стаями стервятники, а по равнине рыщут сотни шакалов и гиен. Охотникам хотелось понять, почему здесь скопилось столько пожирателей падали. Они подъехали ближе и увидели трупы антилоп — их было множество, они попадались через каждые несколько шагов.
Чем дальше ехали наши друзья по равнине, тем больше было трупов; казалось, охотники попали в долину смерти и им уже не выбраться отсюда. Но загадку а это было для них загадкой — тут же объяснили макололо и Конго. Антилопы напились воды в озерке или в роднике, отравленном туземцами; это означало, что охотники очутились поблизости от какого-либо племени бечуанов. Путешественникам не раз доводилось слышать об этом способе бессмысленного истребления дичи, применяемом многими африканскими племенами. Следовательно, многочисленные рассказы о массовом уничтожении диких зверей ядом, рассказы, к которым они относились с недоверием, — правда. На площади чуть ли не в квадратную милю валялось до двухсот дохлых антилоп. В цепи водоемов, у которых охотники сделали привал, какой-то один был отравлен. К нему пришло напиться стадо антилоп, и, выбравшись на берег, все они свалились мертвые.
— Нам очень повезло, — заметил Виллем, — ведь мы могли разбить лагерь у отравленного источника, и тогда мы пошли бы на обед гиенам и шакалам, вот как эти антилопы.
Конго с ним не согласился: люди вряд ли могут выпить так много воды, чтобы отравиться и умереть: но вот их быки и лошади, утолив жажду в этом водоеме, погибли бы непременно.
Ради того, чтобы раздобыть себе в пищу двух-трех антилоп, не приложив труда, бечуаны уничтожали целое стадо. Так неблагоразумно и неэкономно поступают обычно счастливцы, живущие в краю, где слишком много дичи. Теперь даже Виллем готов был ехать скорее, только бы не видеть больше этой отвратительной картины.
Зная, что они находятся в стране бечуанов, макололо стали опасаться за своих быков. Бечуаны, говорили они, могут украсть скот, а то и попросту отнять силой. Однако охотники считали эти опасения слишком лестными для бечуанов. Они судили об этом многочисленном племени понаслышке и полагали, что бечуанов бояться нечего — слишком они трусливы и беспечны.
Утром охотники двинулись дальше, как вдруг Аренд, ехавший впереди, осадил коня и крикнул:
— Смотрите, вон крааль и маисовое поле!
Виллем и Гендрик поскакали вперед и убедились, что Аренд не ошибся.
В ту же минуту Виллем заметил и нечто другое, что было ему куда интереснее, чем деревня бечуанов и все их достояние. По равнине к маисовому полю шагали два громадных слона.
— Подкрадемся к ним незаметно, — предложил охотник. — Всем идти незачем. Хватит двоих или троих. Кто-нибудь пусть останется здесь.
С этими словами Виллем ускакал, а за ним и Гендрик с Арендом.
Ганс решил остаться. С ним вместе остался и Черныш. Конго и макололо охраняли быков и вьючных лошадей. Итак, сейчас они все увидят интересное зрелище! Казалось, ничто не могло помешать охотникам подкрасться к слонам и сделать удачный выстрел, а раненый слон редко спасается бегством. Один из слонов… может быть, даже оба будут убиты.
— Если бы мы не подоспели, — говорил в это время Виллем ехавшему рядом с ним Гендрику, — эти слоны вытоптали бы весь маис. Хозяеза поля не могли бы спасти его. Они не сумели бы даже прогнать слонов.
Вскоре, однако, охотник был выведен из заблуждения.
Глава 42
ВОЛНУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ
Слоны шли по узкой тропе, ведущей не то к маисовому полю, не то к видневшемуся за полем селению. Они не спешили; казалось, они шествовали с полным сознанием того, что лакомая пища близко и ее никто у них не отнимет.
— Как только они накинутся на маис, они наши, — сказал Гендрик. — Они нас не заметят, и мы уложим их на месте.
Вдруг слон, который шел первым, провалился сквозь землю! Второй на минуту остановился, как бы раздумывая, куда же девался его товарищ, потом повернулся и, осторожно ступая, направился обратно.
— Яма! — воскликнул Гендрик. — Слон упал в яму!
— Вперед, вперед! — крикнул Виллем, пришпоривая своего огромного коня. Убьем второго!
Гендрик и Аренд поскакали за ним.
Отступающий слон, по-видимому, не спешил избежать встречи с охотниками и спокойно шел своей дорогой. Когда охотники подъехали к слону ярдов на сто, он громко затрубил и кинулся к ним. Но они ждали нападения и приготовились отразить его. Виллем мгновенно вскинул свой громовой и выстрелил.
Одновременно с гулким выстрелом Виллема затрещали ружья его спутников.
Гендрик и Аренд круто повернули коней вправо, Виллем — влево, и громадина слон промчался между ними.
На мгновение он остановился в нерешительности: за кем погнаться раньше? Если бы все трое поскакали в одну сторону, слон не медлил бы ни секунды и, возможно, догнал бы одного из них. Теперь же секунда передышки позволила охотникам составить план действий и выиграть расстояние.
— Яма, яма! — крикнул Гендрик. — Скачите к яме!
Виллем и Аренд тотчас поняли его.
Слон повернулся и, увидев, в какую сторону они поскакали, последовал за ними; однако теперь он замедлил шаг, будто еще не решил, стоит ли ему догонять их. И тут раздался громкий рев — полный муки и отчаяния крик второго слона. Он доносился из ямы.
Слон, гнавшийся за охотниками, сразу остановился. Горестные крики товарища пробудили в нем иное чувство, чем жажда мести. Его охватил страх — и, как видно, страх возвратил ему способность соображать: слон повернул назад и тем самым избежал участи, которая постигла его товарища. Отступая, он, казалось, мчался по следам, только что оставленным лошадьми, словно инстинкт ему подсказывал, что так он не угодит ни в какую ловушку, если даже их понарыли по всей равнине.
— За ним! Вдогонку! — крикнул Аренд. — Ганс в опасности!
Охотники быстро перезарядили ружья и во весь опор помчались за слоном.
Ганс и его спутники-туземцы не были равнодушными зрителями только что разыгравшейся сцены, и теперь они поняли, что им предстоит самим стать участниками подобного же представления. Слон стремительно несся в их сторону, и у каждого мелькнула мысль: бежать.
Но они тотчас от нее отказались.
Во что бы то ни стало надо уберечь вьючных лошадей! И молодой ботаник, поручив их Чернышу и Конго, выехал навстречу врагу.
Под ним был конь, который и двух секунд не простоял бы спокойно на месте, а ведь от точности прицела, возможно, зависит его жизнь, — и Ганс спешился.
Лошадь, освободившись от всадника, поскакала прочь. Раненый слон, который был всего в каких-нибудь пятидесяти шагах, бросился за нею, по-видимому, не заметив врага, которого ему следовало больше всего опасаться.
Гансу это было на руку, и он не упустил случая: как только слон ринулся вперед, молодой охотник, тщательно прицелившись, выстрелил ему в грудь. Разъяренный зверь дрогнул и оглушительно заревел.
Тем временем лошади, оставленные на попечение Черныша и Конго, вырвались от них и разбежались. Слон сделал несколько крупных шагов — и вот его бивни уже грозят лошади Конго, попавшейся ему на пути. Еще мгновение — и конь подброшен в воздух; пролетев на добрых шесть-восемь футов над слоном, он со всего маху упал на землю. Однако Конго успел соскользнуть с седла и остался цел и невредим.
Лошадь убита — но на это ушли последние силы раненого слона.
Собаки нагнали его; он бешено завертелся, стараясь добраться до них, зашатался и тяжело рухнул на землю.
— Я почти уверен, — заметил Гендрик, прискакавший в эту минуту вместе с Виллемом и Арендом, — что собаки воображают, будто именно они свалили слона.
— Тогда они большие дураки, совсем как Конго, — сказал Черныш, раздосадованный тем, что кафр показал себя ловким и смелым и хозяева, конечно, похвалят его.
Конго лишь улыбнулся в ответ. Он снова возбудил ревность своего соперника и был очень доволен.
Упавший слон через несколько минут испустил дух. Это был огромный самец с бивнями длиною более пяти футов; Чернышу поручили их вырезать.
Разумеется, лошадь Конго погибла; и ему дали одну из вьючных лошадей, распределив ее груз между остальными. Вскоре все двинулись дальше.
Гендрику, Виллему и Аренду не терпелось поехать к яме, куда свалился второй слон, — они никогда еще не видели, чтобы таким способом удалось поймать слона.
— Ты остаешься, Ганс, чтобы присмотреть тут за всем, или едешь с нами? спросил Гендрик.
— Предпочитаю остаться, — ответил невозмутимый Ганс. — Может быть, мне опять достанется львиная доля удовольствия.
— Конго нам придется взять с собой, — заметил Аренд. — У ямы наверняка уже собрались туземцы. Мы видели хижины неподалеку от маисового поля. Должно быть, там большое селение.
— Ты прав… Едем, Конго, — распорядился его хозяин, пришпорив коня.
За ним двинулись все, кроме добродушного Ганса и Черныша, на чью долю обычно выпадал самый тяжелый труд, пока другие развлекались.
Глава 43
ЯМА
Слова «рев», «вой», «крик», «визг», видимо, обозначают различные звуки, однако слон, попавший в яму, от боли и ужаса издал вопль, в котором, казалось, все они слились вместе. Этот вопль все еще потрясал воздух, и путешественники, знакомые чуть ли не со всеми существующими способами охоты на слонов, подумали, что слон, свалившийся в яму, терпит неслыханные муки.
— Наверно, на дне ямы торчит острый кол, — сказал Гендрик, — и слон напоролся на него.
Еще издали они увидели столпившихся возле ямы людей. Тут были и мужчины и женщины. Как только охотники подъехали к ним, навстречу вышел эфиоп и знаками предложил купить бивни слона, все еще ревевшего в яме.
— Этих бояться нечего, — сказал Конго, — они привыкли иметь дело с торговцами и нам худого не сделают. Может, только попробуют обмануть, когда будут называть цену.
Подойдя к яме, охотники увидели, что она вовсе не была квадратной с отвесными стенками и вбитым посередине колом, как предполагал Гендрик. Вверху она была овальной, книзу суживалась, точно перевернутый конус, и на дне не оставалось ровного места, на котором слон мог бы стоять. Его четыре ноги были стиснуты вместе и в таком положении выдерживали всю тяжесть громадного тела; это была адская пытка, ее не вынесло бы ни одно живое существо.
Ловушка, устроенная с дьявольской изобретательностью, чтобы причинить жертве как можно больше мучений, была девяти футов в длину и футов семи или восьми в глубину. Усилия, которые делал слон, чтобы вырваться, приводили только к тому, что его огромные ноги еще больше стискивались и страдания еще увеличивались.
Здесь, совсем близко одна от другой, были вырыты две ямы, и охотники своими глазами убедились, как хитро это придумано. Хотя обе они были тщательно замаскированы и вырытая земля унесена прочь, слон заметил ловушки, но одну из них — слишком поздно. Будь тут только одна яма, слон бы в нее не провалился, так как, поставив ногу на первую, видимо, почувствовал скрытую опасность, но, стараясь ее избежать, неожиданно и неотвратимо попал во вторую яму.
Все стоявшие вокруг туземцы были вооружены дротиками или стрелами, однако никто из них не пытался положить конец мучениям пленника.
Виллем подошел ближе и навел конец длинного ствола своего ружья прямо в глаз слону, но несколько туземцев бросились вперед и помешали ему выстрелить.
Конго, как будто понимавший их язык, сказал Виллему, что еще не время убивать слона.
— Но почему же? — воскликнул Аренд. — Неужели они не убивают слона только потому, что хотят видеть, как он мучается? Его не спасти. Он все равно умрет в яме.
— Я тебе сейчас объясню, в чем дело, — сказал Гендрик. — Они большие любители музыки и собираются держать слона в яме, как птичку в клетке, чтобы насладиться его прекрасным голосом.
У одного из туземцев было ружье, у которого недоставало всего-навсего затвора! Виллем сразу обратил внимание на это ружье; его владелец протянул ружье и знаками просил пулю и пороха, чтобы зарядить. Виллем захотел узнать, как он намерен это сделать, но туземец, покачав своей курчавой головой, чистосердечно признался, что сам не знает.
— Спроси его, зачем он принес сюда ружье, — сказал Виллем, обращаясь к Конго.
Владелец ружья снова признался, что не знает. В толпе началось какое-то оживление — со стороны деревни подходили еще люди. Они сообщили, что сюда идет из крааля вождь, который намерен собственной персоной убить слона. Он недавно приобрел у какого-то торговца ружье и хочет теперь показать восхищенным подданным свое искусство меткого стрелка.
Явился вождь, и охотники увидели, что его ружье — солдатский мушкет, который был далеко не в порядке: настоящий охотник не решился бы из него стрелять.
— Этаким оружием, — сказал Гендрик, — слона не прикончить. Вождь скорее пристрелит сам себя или кого-нибудь из своих подданных. Пока слон дождется, чтобы его застрелили из этой штуки, он, пожалуй, умрет с голоду.
Вождь, видимо, очень гордился тем, что у него есть ружье, и ему не терпелось показать своим подданным, как надо убивать слонов. Остановившись шагах в двадцати пяти от ямы, он прицелился в голову животного и выстрелил.
За выстрелом последовал рев, выражавший скорее гнев, чем боль, а на голове слона вскочила небольшая шишка — знак того, что пуля слегка поцарапала кожу.
На то, чтобы перезарядить мушкет, потребовалось минут пять-шесть, потом вождь опять выстрелил, на этот раз с расстояния в пятнадцать шагов. И опять вождь и его люди удивились, что слон все еще жив.
Снова шесть-семь минут было затрачено на то, чтобы зарядить ружье, и опять последовал выстрел. Пуля не миновала слона, но об этом можно было догадаться только по громкому, полному бессильной ярости реву.
Теперь к собравшимся у ямы присоединилась новая группа людей. То были Ганс, Черныш и их спутники. Они вырубили бивни своего слона, привязали их ремнями к седлам двух вьючных лошадей и привезли с собой.
— Что у вас тут творится? — спросил Ганс. — Вы что, никак не можете пристрелить этого слона? Я слышал выстрелы.
— Они нам и попробовать не дают, — ответил Виллем. — Вождь хочет убить его из старого мушкета и не разрешает стрелять ни мне, ни вот этому превосходно вооруженному джентльмену, который стоит с ним рядом. — Виллем указал на туземца с ружьем без затвора.
В эту минуту вождь заговорил с Конго. Раздосадованный неудачей, он возымел некоторые сомнения в честности торговца, у которого купил это хваленое ружье. Вождь пожелал сравнить свое разрушительное оружие с каким-нибудь из ружей, принадлежащих охотникам, и предложил Виллему выстрелить в слона,
— Только, баас Виллем, — сказал Конго, переводя слова вождя, — не делайте этого, не стреляйте в слона.
— Почему? — удивился Виллем.
— Вы застрелите его из своего ружья, и они захотят его. Захотят и отберут.
— Что отберут, слона?
— Нет, баас Виллем, ружье, — ответил кафр.
Хоть Виллем и не боялся, что у него отнимут ружье, он и его товарищи хотели избежать неприятностей с туземцами, и поэтому предложение вождя было учтиво отклонено. Виллем объяснил свой отказ тем, что не может надеяться на успех там, где сам великий вождь потерпел неудачу.
Теперь всем было предложено участвовать в убийстве слона, и на него напало более десятка людей, вооруженных дротиками и копьями. Чуть не полчаса понадобилось на то, чтобы лишить его жизни; путешественники с негодованием смотрели, как пытают несчастное животное, — ведь если бы им позволили, они могли бы избавить слона от мучений в несколько секунд. Как истые охотники, они не щадили жизни животных, но в их мучениях не находили удовольствия.
Глава 44
НА ПЛАТО
Убив слона, туземцы принялись за более легкое дело — стали резать тушу на куски и уносить в селение. Ноги предназначались для вождя. В ожидании, пока их отрубят, он удостоил наших путешественников беседы. Охотникам хотелось узнать, посещают ли крааль торговцы — люди, с которыми им не терпелось встретиться; однако Виллему еще больше не терпелось узнать, появлялись ли здесь когда-либо жирафы. Конго в качестве толмача вел переговоры с вождем; оба говорили, вернее — кричали, одновременно, и один не слушал другого. Голоса становились все громче, и наши любители приключений заметили, что между собеседниками завязался горячий спор, который грозил перейти в нечто более серьезное, чем словесная война.
— Что он говорит? — спросил Виллем.
— Не пойму, баас Виллем, — ответил Конго и покачал головой, несколько смущенный своим невежеством.
— Как же так? — сердито сказал Виллем. — Разве ты не понимаешь его языка?
— Не понимаю, баас Виллем. Он не говорит по-зулусски и ни на каком наречии кафров не говорит.
— Так что ж ты раньше делал вид, будто переводишь его слова? — спросил Гендрик.
— Я пробовал научиться, — ответил Конго тоном, в котором слышалась уверенность, что его ответ всех удовлетворит.
— У нас нет времени ждать, пока ты научишься их языку, — сказал Гендрик. Почему ты не сознался, что не можешь объясниться с этим человеком? Ты же минуту назад сказал, что переводишь нам его слова.
Но тут общее внимание привлек Черныш: он просто захлебывался от восторга.
Разобрать, что он бормочет, удалось не сразу.
— Я говорил, Конго старый дурак. Теперь вы сами видите. Глядите на него! Он четыре раза дурак, пять раз, шесть раз дурак! Ведь я говорил!
— А ты что, понимаешь вождя? — спросил Виллем.
— Ну да, баас Виллем, всякий бушмен понимает.
— Тогда говори ты с ним. Ты ведь знаешь, о чем надо расспросить его.
Лицо бушмена приняло забавное насмешливо-лукавое выражение, и охотники поняли, что он теперь серьезен.
Подойдя к вождю, он вступил с ним в разговор, из которого Виллем после перевода узнал, что жирафов не видели поблизости уже много месяцев. Торговцы редко посещали племя, а те, что бывали здесь, не оставили по себе доброй памяти,
Вождь жил в видневшемся неподалеку селении и пригласил охотников посетить его.
Виллем тотчас принял приглашение. Казалось, он потерял всякое желание возвратиться в Грааф-Рейнет. Но Гендрик с легкостью разбил эту попытку оттянуть их возвращение домой.
— Зачем нам ходить к ним в крааль? — спросил он. — Они задержат нас дня на два, на три, а ведь мы ищем жирафов, которых здесь нет.
Виллем охотно согласился с этим, и они стали собираться в дорогу.
Бечуаны уже унесли большую часть слоновой туши. Мясом нагрузили трех быков, и несколько туземцев, которых и разглядеть нельзя было, едва брели, сгибаясь под тяжестью ноши, — длинные полосы, вырезанные из боков слона, свисали у них с головы до самых пят. Другие тащили громадные куски квадратной формы, сунув голову в дыру, прорезанную посередине, и мясо ниспадало с их плеч наподобие мексиканского серапе.
Не слишком было приятно смотреть, как, шатаясь под своей ношей, движутся к деревне эти люди.
— Ну и зрелище! — заметил Гендрик. — Такое может отвратить человека от пищи по меньшей мере на месяц.
Расставшись с этим племенем, наши охотники продолжали свой путь на юг. Уже совсем стемнело, когда они добрались до места, где можно было разбить лагерь. После тех прудков, которые они видели поутру, им больше не попадалась вода; лошади и волы изнывали от жажды.
В темноте далеко не уедешь. Охотники разгрузили своих вьючных животных и улеглись спать, с тем чтобы на рассвете двинуться дальше. Рано поутру они были уже в пути: необходимо как можно скорее добраться до воды.
Несколько миль они ехали по земле, поверхность которой походила на океан, взбудораженный штормом. Земля все время дыбилась, как будто одна за другой катились огромные волны, разделенные глубокими провалами.
Тут охотники впервые заметили, как по-разному действует жажда на лошадей и рогатый скот. Быки, казалось, думали найти облегчение, покорно поддавшись расслабляющему действию жажды, и еле двигались. С большим трудом удавалось гнать их вперед; поторапливая быков, макололо то и дело пускали в ход свои длинные палки. Животные брели нехотя, вперевалку, с высунутым языком и являли собой картину полной безнадежности.
Лошади, наоборот, стремились, видимо, поскорее уйти из этих мест. Казалось, ими руководит разум, они словно понимали: до желанной воды еще далеко, и чем быстрее двигаться, тем скорее к ней придешь.
Весь день Гендрик и Виллем ехали впереди, озабоченно высматривая по пути какой-либо источник, озеро или ручей. Живительную влагу необходимо было найти до наступления ночи, иначе быки погибнут. Путников охватил страх за будущее, и, сознавая, как велика опасность, они почти так же приуныли, как их быки. Какая ошибка, что они так опрометчиво расстались с бечуанами, не расспросив о местности, через которую лежал их путь! Будь они благоразумнее, они, возможно, не очутились бы в таком тяжелом положении.
Незадолго до захода солнца путники заметили справа от себя холм более высокий, чем все те, что им попадались днем. У его подножия виднелась рощица карликовых деревьев. Лошади под Виллемом и Гендриком подняли головы, навострили уши и галопом пустились к холму: они тихо заржали, и всадники поняли — это ржание означает: вода! По дороге к рощице они натолкнулись на издохшего льва, наполовину объеденного какими-то хищниками пустыни. Рядом с трупом льва валялось несколько мертвых шакалов, — очевидно, он убил их прежде, чем сам издох.
У рощи путешественники увидели небольшое озерцо мутной воды; кони их, вытянув шеи, кинулись к воде. У берега лежал труп буйвола, а рядом мертвая гиена.
— Придержи лошадь! — крикнул Гендрик, резко остановив свою. — Не отравлена ли вода? Ты посмотри на буйвола и гиену, — а ведь мы только что видели и еще дохлых зверей.
Охотники напрягали все силы, чтобы не пустить лошадей в воду. Лишь вонзив им шпоры в бока, удалось повернуть их и отвести от озерца. Но измученные животные рвались назад, и охотники с большим трудом заставили их отъехать прочь.
Виллем и Гендрик спешили навстречу своим товарищам: надо было предупредить, чтоб никто не приближался к озерцу, пока Черныш, Конго и макололо его не исследуют.
Глава 45
ОЗЕРО СМЕРТИ
Подъехав к своим спутникам, разведчики сообщили им радостную весть: вода найдена! Однако радость тотчас сменилась огорчением, когда Виллем и Гендрик сказали, что сомневаются, мoжнo ли ее пить. Ганс и Аренд быстро спешились и вместе с Чернышем и двумя макололо направились к озерцу.
Едва подойдя к нему, Черныш заявил, что вода отравлена. Ее отравили двумя различными ядами, и оба они смертельны. В воде лежал пучок корешков, раздавленных и размолотых меж двух камней, а на поверхности плавала кожура каких-то ядовитых ягод.
Ничего не поделаешь, надо ехать другой дорогой — ведь если животные почуют воду, их не удержишь и они непременно напьются.
Буйвол утолил жажду, а потом улегся в тени деревьев и околел. Отравленную влагу попробовал и могучий лев, но вся его сила не спасла его. Только на несколько шагов отошел он от озерца — и свалился на ходу. Шакалы наполовину объели труп льва, потом напились смертоносной воды и вернулись к прерванной трапезе, но докончить ее им уже не пришлось.
Удостоверившись, что вода в озерце отравлена, Ганс, Аренд и их спутники хотели было вернуться, когда вдруг заметили сильный переполох среди лошадей и быков. Быки мычали, а кони как-то необычно ржали. Обе лошади, уже побывавшие возле гибельного места, всего неистовей рвались из рук; Гендрик изо всех сил старался сдержать свою лошадь, как вдруг подпруга его седла лопнула. Он соскочил наземь, чтобы поправить ее, но тут конь вырвался, галопом помчался к озеру и пронзительно заржал, как будто звал за собой остальных.
Приглашение не осталось без внимания. Вьючные лошади сейчас же понеслись за ним. Быки встрепенулись. То ли инстинкт, то ли пример лошади подсказал им, что вода близко. К тяжело нагруженным быкам, которых последние несколько миль с таким трудом гнали вперед, вдруг вернулись силы, и они тоже пустились вскачь. Их уже невозможно было удержать.
Измученные жаждой животные состязались теперь со своими хозяевами — кто скорее достигнет воды. Аренд и двое макололо встали в ряд, пытаясь преградить дорогу бегущим. Но все оказалось напрасно. Обезумев от жажды, животные уже не подчинялись людям, и те, кто хотел остановить их на пути к гибели, поспешили отскочить в сторону, чтобы самим не оказаться растоптанными.
Озерцо было не больше десяти футов в диаметре, и добраться до воды можно было только с одной стороны, где берег был отлогий, поэтому животные не могли подойти к воде все сразу. Лошадь, доскакавшую первой, тотчас столкнули в воду две другие, бежавшие за нею по пятам, но только они успели глотнуть отравленной влаги, как на них обрушились несколько быков.
Напрасно животных хлестали бичами, били прикладами — отогнать их от воды не удавалось. Ими владело одно неодолимое желание: пить.
К счастью для охотников, все быки и лошади не могли утолить жажду одновременно — они мешали друг другу. Минут десять длилась неописуемая сумятица, слышались крики, шум борьбы. Три лошади и два быка сбились в кучу и не могли бы вылезть из озерца, если бы даже захотели. Их так крепко притиснуло друг к другу и к высокому берегу, что они не могли ступить и шагу.
В глубину водоем был около трех футов, и его целиком заполнили тела первых пяти животных. Те, которым не удалось подойти к воде со стороны низкого берега, взобрались на высокий; но, глядя вниз, они видели в озерце лишь спины застрявших там лошадей и быков. Один из быков, отчаянно пытавшийся дотянуться до воды, сорвался и упал, и его затоптали.
Охотники бились не меньше получаса, и наконец с помощью четверых макололо им удалось отогнать всех животных, кроме тех пяти, которые завладели озерцом. Эти пятеро так из него и не выбрались.
Охотники потеряли трех вьючных лошадей и двух быков. К счастью, ни одно из животных не было нагружено порохом или еще чем-либо, что легко портится от воды.
С них тотчас же сняли тюки и погрузили на оставшихся быков. Теперь Конго и Чернышу надо было идти пешком. Впрочем, Конго нисколько не огорчился. Потеря «скакуна» не слишком взволновала его, больше всего он боялся, как бы не погиб Следопыт; его любимый пес и остальные собаки так страдали от жажды, что на них больно было смотреть.
Проскакали несколько миль — и отравленный водоем остался позади, а над равниной уже снова стала сгущаться ночная тьма. Охотники поняли, что придется идти всю ночь напролет. Останавливаться нельзя — с каждым часом и животные и люди только еще больше слабеют. Но в какую сторону двинуться? Вот что надо было решить немедля.
Охотники и не помышляли вернуться на север; однако оставался еще восток, запад и юг. Какое выбрать направление? Где скорее можно найти воду? Этого они не знали, и, не будь с ними Черныша, им пришлось бы положиться на волю случая.
Черныш предложил избрать путь, который одобрили не только макололо, но и Конго. Тем не менее сперва Черныш, по обыкновению, долго жаловался на Конго и обвинял его во всех злоключениях. После этого он сообщил хозяевам, что еще в детстве много слышал об обычаях и привычках бечуанов.
Какое-то слабое племя бечуанов, говорил он, видно, надумало укрыться от врага, поселившись где-нибудь на пустынном плоскогорье, которое они сейчас пересекают. Враг, наверно, преследовал беглецов, и, чтобы лишить его воды, они отравили озерцо. Те, кто отравил воду, знали, что враг не появится ни с севера, ни с юга, — там жили соплеменники бежавших. Поэтому они ждали неприятеля только с востока, из страны кафров-зулусов, которых Черныш считал исчадием ада. На западе же, говорил он, должно встретиться племя бечуанов, и за несколько часов пути можно добраться до их крааля.
Против такого рассуждения нечего было возразить, и, по совету Черныша, охотники повернули на запад.
Они знали, что находятся сейчас в той части Южной Африки, где нет огромных плато, и это давало им надежду выбраться отсюда. Они зашли далеко на юго-восток, следовательно, нечего опасаться, что они забредут в великую пустыню Калахари.
Плато, по которому они сейчас едут, вероятно, совсем небольшое, и они пересекут его за несколько часов, если будут двигаться не слишком медленно. Увы, надежда не оправдалась!
Животные были так истощены, что ни хлыстами, ни бранью на голландском, английском, готтентотском, кафрском языках и на языке макололо нельзя было заставить их пройти больше двух миль в час. При такой скорости тоже можно проделать немалый путь, но для этого нужно много времени, а лошадям и быкам долго не выдержать, и наши путешественники стали опасаться, что их экспедиция обречена на нечто худшее, чем на неудачу.
Глава 46
ВОДЯНЫЕ КОРНИ
Всю эту долгую, ужасную ночь они шли медленно, но без отдыха, гоня перед собой быков. Шли они почти напрямик, ориентируясь по Южному Кресту. Но когда забрезжил рассвет, они увидели, что вокруг по-прежнему однообразная волнистая равнина, которая так наскучила им за последние два дня.
Хотя все были голодны, измучены и жестоко страдали от жажды, нельзя было позволить себе сделать привал.
Нужно было гнать скот как можно быстрее или бросить его вместе с поклажей.
Солнце медленно всползло по небу и уже стояло прямо над головой, а путешественники, если верить ландшафту, ни на шаг не сдвинулись с места, где впервые ступили на плато. Все вокруг выглядело в точности так же.
— Хватит с нас такого черепашьего шага, — заметил Гендрик, — пора подумать о себе и поменьше тревожиться об имуществе.
— Что ты хочешь делать? — спросил Виллем. — Бросить быков?
— В конце концов их все равно придется бросать. Лучше сделать это сейчас. Надо спасать себя и лошадей, остальное пусть пропадает.
— Ты забываешь, Гендрик, — возразил его брат, — что не все мы на лошадях. Не можем же мы оставить тех, кто идет пешком.
— Конечно, нет. Но даже Черныш, хоть он и плохой ходок, шел бы вдвое быстрее, если бы ему не надо было подгонять быков.
В эту минуту они услышали крик Черныша. Он наклонился над небольшим, дюймов в шесть высотой, растением с узкими листьями. Это был стебель водяного корня, спасшего в пустынях Южной Африки жизнь тысячам изнывавших от жажды путешественников. Кругом росло несколько стеблей этого растения, и бушмен знал, что они хотя бы отчасти утолят мучившую всех жажду.
Из тюка, навьюченного на одного из быков, поспешно достали кирку и заступ, и Черныш принялся выкапывать первое найденное им растение. Он вырубал большие глыбы опаленной солнцем земли, твердой, как обожженный кирнич, и вскоре на глубине десяти или двенадцати дюймов обнажилась луковица. Ее вытащили и увидели, что она овальной формы, футов в семь длиной и покрыта кожицей светло-коричневого цвета. Сочную мякоть разрезали на дольки и стали жевать. Вкусом она походила на воду — иначе говоря, не имела никакого вкуса.
Теперь пущены были в ход ножи и дротики; этого растения оказалось поблизости так много, что очень скоро его луковицами освежились все — люди, лошади и быки.
Конго первый же корень, который достался на его долю, разделил со Следопытом — собака высунула язык и давно уже еле волочила ноги.
Охотники проехали бы долгие мили по плоскогорью, поросшему этой луковицей, и не подозревали бы, что ее тонкий, невзрачный стебель таит под собой щедрый источник влаги.
Конго и макололо также не знали об удивительном свойстве этого растения и прошли бы мимо, не будь с ними Черныша. И он, оказав всем такую услугу, ждал за нее не меньшей благодарности, чем если бы сам изобрел это спасительное растение.
Но никто и не собирался умалять его заслуг, и Черныш был полностью вознагражден за все огорчения, которые испытывал оттого, что на него так долго не обращали внимания.
Освеженные прохладным соком водяного корня, быки и лошади воспрянули духом, словно поняв, что еще не все потеряно. Они с новыми силами двинулись вперед и за день прошли немалый путь.
Солнце уже садилось, когда на юге показалось несколько хижин — селение бечуанов. Путники направились к ним, нисколько не сомневаясь, что возле жилья найдут вдоволь воды. Теперь можно было не бояться, что быки и лошади погибнут.
Навстречу охотникам вышли здешние жители. Они прежде всего выразили удивление по поводу того, что кому-то удалось добраться до их уединенного селения.
Черныш в ответ попросил проводить его и его спутников к ближайшему месту, где есть вода, — к ручью, пруду или колодцу, где берут воду жители селения. Ответ последовал совершенно неожиданный. Никаких источников нет ближе чем на расстояние целого дня пути! Уже много месяцев никто не видел такого источника, и жители селения обходятся без него.
— Что это значит? — возмутился Гендрик. — Они, конечно, лгут. Не хотят дать нам воды и прибегают ко всяким уловкам. Черныш, скажи им, что мы им не верим.
Бушмен сказал, что ему велели, но бечуаны стояли на своем.
— Какая чушь! — воскликнул Аренд. — Они принимают нас за дураков! Неужели мы не знаем, что люди не могут жить без воды! Уж конечно, у них есть где-нибудь источник. Что ж, поищем сами, обойдемся и без них.
— Нет, баас Аренд, — возразил Черныш, — так не надо. Потом они покажут, где вода. Только надо подождать.
Следуя совету бушмена, быков разгрузили и неподалеку от крааля разбили лагерь. Охотники притворились, будто поверили бечуанам, что те обходятся без воды, но были настороже и внимательно оглядывали все вокруг, надеясь обнаружить, где же здесь желанная влага. Однако они не увидели ничего похожего на ручей или пруд, колодец или другой какой-нибудь водоем. Во все стороны раскинулась земля, такая же бесплодная, как та, по которой они странствовали последние два дня.
Казалось, бечуаны были правы. В конце концов, может быть, они и в самом деле сказали правду. Мысль не очень-то утешительная, и наши любители приключений совсем приуныли.
Все же Черныш несколько успокоил их, посоветовав покориться и безропотно ждать, набравшись терпения.
Охотники послушались, да и что им еще оставалось делать? Они понимали, что целиком зависят от Черныша, и, наблюдая за тем, как уверенно он себя держит, терпеливо ждали развязки.
Глава 47
УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
Охотники очень скоро убедились, что поступили разумно, послушавшись Черныша. Если бы они настаивали на том, чтобы им дали воды, или захотели взять ее силой, их постигла бы неудача. Они не нашли бы и капли воды на расстоянии многих миль от селения, хотя в нем жило больше двухсот человек. Разумеется, вода была здесь, и, положившись на великодушие этих людей чувство, которое редко подводит, если ему довериться, — они в конце концов ее получили. Воду принесли в лагерь.
Сперва ее приносили понемножку, в скорлупе страусовых яиц. Но вскоре воды набралось достаточно, чтобы охотники могли утолить жажду, а затем позаботиться и о животных.
Виллем, выпив свою долю, показал женщине, принесшей воду, на своего измученного коня. Женщина, которую никак нельзя было назвать «украшением своего пола», покачала курчавой головой и с задумчивым видом ушла обратно в селение.
— Если не удастся напоить лошадей, — сказал Виллем своим спутникам, придется двинуться дальше. Задерживаться больше нельзя, иначе они погибнут.
— Потерпите, баас Виллем, — заявил Черныш. — Сердце бечуана скоро смягчится. Он — такой же, как бушмен.
Предсказание Черныша сбылось. Вскоре после этого разговора в лагере появился бечуан и попросил, чтобы его проводили к вождю. Черныш тут же указал на Виллема, как на человека, который соответствует этому званию, и бечуан подошел к нему. Он сообщил, что лошадей и быков можно напоить, но только поодиночке. Такое предложение вполне устраивало охотников. Лошади Виллема, как принадлежащей начальнику, было оказано предпочтение: ее первую повел бечуан, явившийся в лагерь; по пятам за ней следовал ее хозяин. Они подошли к роднику, находившемуся неподалеку от селения: с родника недавно была снята земляная покрышка. Его почему-то тщательно маскировали, словно это была западня для слонов.
Ведром из буйволовой шкуры черпали воду, пока конь не напился вволю. Потом его увели, а на его место привели другого, за ним еще одного, и так напоили всех лошадей и быков.
Способ поения животных показывал, что бечуаны не лишены сообразительности. Если бы измученных жаждой лошадей и быков привели к источнику всех сразу, не избежать бы свалки и сумятицы.
Вечером охотники долго беседовали с главой племени. Толмачом был Черныш. Вождь рассказал, что когда-то его племя было многочисленным и сильным, но теперь людей осталось мало: многие сбежали, а остальные были убиты в войнах с кафрами. Чтобы жить в мире и спокойствии, он нашел убежище на уединенном плоскогорье; добраться до их далекого жилья можно, лишь пустившись в трудный и опасный путь, а это остановит любого врага. Чтобы обезопасить себя вдвойне, признался вождь, он велел отравить несколько водоемов, и, к его немалому удовольствию, этот замысел себя однажды прекрасно оправдал: враги его племени, кафры, напились воды из отравленного пруда, и целый отряд их полег на месте.
Эта часть рассказа, переводимая Чернышем, по-видимому, доставила ему самому не меньше удовольствия, чем вождю бечуанов.
Он ухмылялся от радости, пересказывая охотникам этот необычайный случай.
Чтобы гости в полной мере прониклись сознанием его могущества, вождь сообщил им, что он брат самого Калаты. Виллем пожелал узнать, кто же он, этот великий Калата. Вождь поразился и даже опечалился, услышав признание в таком невежестве, и тотчас просветил охотников. Калата — отважнейший воин, лучший из братьев, преданнейший из подданных, поистине лучший из людей, другого такого не было и нет, и память его чтит и должен чтить весь мир. Все это было новостью для путешественников, и им захотелось узнать побольше о вожде и его необыкновенном родиче. Желая доставить удовольствие своим гостям, вождь сообщил, что кафры сделали еще одну попытку добраться до уединенного селения, где он теперь пребывает. На плоскогорье проникло их большое войско, хорошо снаряженное для дальнейшего пути, и, возможно, они пришли бы сюда, если бы их не завлекли в другую сторону. Его брат Калата нарочно перебежал к врагу и под видом проводника повел их по ложному следу. Он завел их далеко на север, в самое сердце великой пустыни Калахари. Одураченные им враги погибли все до одного, никто не вернулся домой: все они умерли от жажды.
— А Калата? Что же случилось с ним? — нетерпеливо спросили слушатели. — Как он избежал той же участи?
— Калата ее не избежал, — спокойно ответил вождь. — Он погиб вместе с остальными. Калата пожертвовал жизнью, чтобы спасти своих соплеменников!
Своим поступком этот человек снискал любовь и добрую память в своем народе.
Услышав историю Калаты, охотники поняли, что в бечуанах, на которых они привыкли смотреть, как на людей бессердечных, стоящих на низшей ступени развития, живет, однако, душа, способная чтить и ценить благородный поступок.
Наутро путешественникам показали, как жители селения получают воду для своих повседневных нужд. Толстым слоем дерна родник был тщательно замаскирован от людского взора и укрыт от солнечных лучей. Место для селения было выбрано здесь именно из-за источника; поверхности земли над ним придали такой вид, чтобы нельзя было догадаться, что под ней находится вода.
В небольшое, незаметное для глаз отверстие, проделанное нарочно для этой цели, вставили тростниковую трубочку, которую, когда ею не пользовались, прикрывали камнем. Воду из родника высасывали — женщины прижимали губы к верхнему концу трубочки, набирали в рот влагу и выливали потом в яичную скорлупу.
Вода, которую пили охотники в первый раз, была «выкачана» этим оригинальным способом!
Бечуаны открывали родник и пользовались ведром только в редких, непредвиденных случаях, как, например, сейчас, когда понадобилось напоить не только гостей, но и их лошадей и быков.
Охотники провели в деревне бечуанов два дня, но им не пришлось скучать они были заняты починкой своего дорожного снаряжения; кроме того, передышка позволила животным восстановить силы, надорванные долгим, утомительным путешествием.
Виллем, Аренд, Ганс и Гендрик с интересом наблюдали жизнь и обычаи простодушных бечуанов. Никто из этих людей, видимо, не имел ни малейшего желания покинуть уголок пустыни, который они сделали своим домом. Здесь они обрели покой. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать об этом месте, потому что вряд ли тут можно было найти что-нибудь еще, кроме покоя. Впрочем, большего они и не требовали. Судя по всему, их не мучили обычные человеческие желания. Они были лишены честолюбия, любопытства, корысти — их не терзала ни одна из тех страстей, которые делают несчастной жизнь цивилизованного человека.
Трудно сыскать или хотя бы представить себе место, менее подходящее для людского жилья, чем это селение. Земля здесь выжженная солнцем, бесплодная, сюда редко залетает птица или заходит зверь, на которых стоило бы охотиться. Те немногие коренья и другие продукты питания, которые бечуаны умудрялись выращивать, обеспечивали лишь скудное существование.
Так ограничен был здесь запас домашней утвари, что даже самый ничтожный предмет имел в глазах бечуанов большую ценность, и все, что они получили от своих гостей, было принято с бесконечной благодарностью. Они открыли искусство жить мирно и счастливо и в полной мере наслаждались своим открытием.
Расспросив бечуанов, путешественники поняли, что меньше чем за два дня им не выбраться с плоскогорья и что по дороге они не найдут воду. Но так как лошади и быки хорошо отдохнули, охотников это не слишком огорчило, и, дружески простившись с бечуанами, они снова пустились в путь.
Хлопоты, причиненные хозяевам, они возместили без особых затрат. Этим непритязательным людям стеклянная бутылка из-под капской водки показалась дороже ружья; и, если принять во внимание условия их жизни, они, возможно, не очень ошибались в своей оценке.
Глава 48
РЕДКО ПОСЕЩАЕМЫЕ МЕСТА
Зная, что, чем дольше они будут добираться до ближайшего водоема, тем сильнее пострадают их животные, охотники постарались проделать больше половины пути быстрее чем за половину времени. Покинув селение бечуанов, они прошли около двадцати пяти миль за один день; зато на второй день, едва тронувшись с места, они поняли, что не пройти и половины этого расстояния и быки не ступят ни шагу, не понукаемые бичом.
К полудню они оказались в краю, где было когда-то соленое озеро, — оно пересохло, и теперь почву покрывал тонкий слой соли. Солнечные лучи отражались от поверхности, словно от воды. При виде воды быки, лошади и собаки бросились вперед, надеясь утолить жажду. Когда же они убедились, что это не вода, животные, каждое по-своему, стали выражать свое разочарование: кони ржали, быки мычали, а собаки лаяли и скулили. Над равниной вечно носились миражи, увеличивая и искажая все вокруг. Местами там, где корка соли не покрывала землю, росли приземистые, горькие на вкус растения, обглоданные антилопами и другими дикими зверями. Порой казалось, и животные и низкорослые растения повисают в воздухе — огромные, куда больше естественных размеров. Высоко над землей видно было отражение какой-нибудь антилопы, которая на самом деле паслась за много миль от того места, где ее видели. Такой обман зрения заставлял очень страдать измученных жаждой путешественников, а особенно их животных, неспособных понять, что же это такое. В надежде утолить жажду они устремлялись в погоню за призраками, так ужасно их мучившими, и лишь с большим трудом их можно было сдержать.
Они давно не получали соли и с жадностью лизали соляную корку, которая местами покрывала землю слоем в восьмую дюйма. От этого пить хотелось еще мучительнее, и животные сильнее прежнего рвались вперед, к следующему обманчивому видению. Но вместо воды они снова наталкивались на соль, еще больше распалявшую их жажду. Казалось, наши путешественники вступили в край, где причудливо переплетаются фантастические видения с реальностью.
Они видели большие призрачные озера, на зеркальной поверхности которых отражались деревья. Ослепительное солнце светило со дна воображаемого моря, а лес, казалось, висел в воздухе.
Но наряду с этими прекрасными видениями существовала горькая действительность. Первые два или три часа охотники были невольно захвачены красотою необычайного зрелища. Постепенно миражи стали привычны, и интерес к ним угас. Потом перед ними предстало зрелище еще более удивительное.
Часа через три после полудня они подошли к месту, казавшемуся островком посреди океана. Со всех сторон набегали волны, и, если бы их уже прежде так часто не обманывали глаза, путешественники вообразили бы, что пересохшую землю, на которой они стоят, вот-вот затопит. Пока они созерцали эту необычайную картину, их внимание привлекла другая, не менее необычайная.
По небу неслась громадная птица, но она не летела, а ступала крупными шагами! Охотники забеспокоились бы, если бы не знали, что это за птица.
Где-то на плоскогорье шел страус, и мираж отразил его, увеличив раз в десять.
В одной из прежних своих экспедиций охотники уже наблюдали миражи. Они видели много, очень много странного, но зрелище, которое они наблюдали сейчас, было удивительнее всего. Очертания отраженного страуса были безукоризненны, поступь совершенно естественная, и, не знай наши охотники, в чем тут дело, они, пожалуй, подумали бы, что это какое-то чудо.
Пока они стояли и глазели, с запада подул ветер и нанес облака. Мираж рассеялся, и огромный, фантастический страус исчез. Путешественники больше не видели никаких призраков; зато вскоре увидели вещи вполне реальные и поняли, что еще немного — и пустыня останется позади.
Земля под ногами стала не такая плоская и ровная, растительность богаче и разнообразнее. Как видно, уже и вода недалеко. Об этом свидетельствовало то, что поблизости паслось несколько зебр и антилоп пала, а эти животные всегда бродят неподалеку от какого-нибудь ручья.
Охотники уже ушли от границы пустыни, но недалеко, когда им попалась дорогая для них находка. Они набрели на страусовое гнездо, в котором оказалось семнадцать свежеснесенных яиц. Из них можно было сделать превосходный обед.
Яйца быстро сварили и съели, и путешественники отправились дальше.
Однако Чернышу захотелось непременно убить страусов или достать их перья. Возможно, его прельщало и то и другое, но, как бы то ни было, он не желал уйти от гнезда даже после того, как там уже не осталось яиц.
Зная, что его хозяева собираются раскинуть лагерь у первого же водоема, Черныш решил на час, другой остаться возле гнезда, а вечером присоединиться к ним; никто не стал возражать, и он остался.
Постепенно Черныш перестал отдавать предпочтение отравленным стрелам как средству нападения и признал огнестрельное оружие; с некоторых пор он стал даже носить двуствольное ружье, из которого можно было стрелять как пулями, так и дробью.
С этим ружьем в руках Черныш уселся возле страусового гнезда. Здесь спутники его и покинули.
На закате впереди показались темные очертания рощи. Подъехав к ней, путешественники увидели ручей. Нетерпеливые быки не дали даже снять с себя тюки с поклажей, пока не напились воды, потом принялись за буйные травы, росшие по берегам.
Прошло целых два часа, прежде чем у костра появился Черныш. Свет озарил его довольную, смеющуюся физиономию.
Не зря он остался возле гнезда: его затея увенчалась успехом. В руках он держал длинные белые страусовые перья — трофеи его охотничьего искусства, которые даже в Африке не так-то легко раздобыть. Он немедля рассказал, как было дело.
Он ждал птиц, лежа на земле у самого гнезда. Страусы вернулись вдвоем, и он убил обоих, чтобы вознаградить себя за терпеливое ожидание. Черныш принес с собой перья не только в доказательство своего успеха — он намерен был взять их с собой в Грааф-Рейнет и преподнести их своей Тотти.
Черныш сказал, что, пока он дожидался тех двух страусов, которых потом убил, он видел целое стадо, и, уж конечно, завтра их можно будет разыскать. Быкам все равно надо было дать отдохнуть и набраться сил после тяжелого перехода через пустыню, поэтому наши путники решили поохотиться за страусами, и у костра весь вечер только и было разговоров, что о страусах,
Глава 49
БЕСЕДА О СТРАУСАХ
Страус — это птица-верблюд, как его называют персы, о нем каждый что-нибудь да знает, но никто не знает всего полностью.
Я полагаю, что мои юные читатели уже знают, как выглядит эта птица, и потому не стану подробно ее описывать.
У страуса длинные ноги с плоской стопой о двух пальцах. Крылья этой птицы, пожалуй, приносят больше пользы человеку, чем ему самому. И в самом деле, ради этих как будто бесполезных для страуса крыльев человек охотится за ним и убивает его.
Страус принадлежит к числу тех несчастных созданий, которых преследуют для того, чтобы польстить тщеславию, быть может, столь же несчастных созданий, именуемых светскими дамами. Рост взрослой птицы достигает семи — восьми футов, но попадаются и великаны, ростом больше десяти футов.
Питаются они обычно семенами и листьями всевозможных растений. А иссушенная солнцем почва пустыни родит только жесткие, сухие кустарники и травы; и, словно в помощь природе, которая должна его прокормить, страус обладает способностью глотать все что угодно, даже камешки, кусочки железа и другие минералы. В желудке у вскрытых страусов находили коллекции самых разнообразных предметов, как в какой-нибудь лавке древностей или в геологическом музее.
Из желудка страуса извлекали камни весом свыше английского фунта.
Когда эта громадная птица бежит во всю прыть — летать она, конечно, не может, — то шаг ее в длину равняется полным двенадцати футам, и бегает она со скоростью не менее чем двадцать пять миль в час. Всадник на лошади не в силах ее догнать, и поймать ее можно, лишь пустившись на хитрость.
Кормится страус всегда на открытом месте, где ничто не заслоняет от него окрестностей и он может заблаговременно увидеть приближающегося врага. Страус обладает острым зрением: на несоразмерно маленькой голове его, возвышающейся над землей на восемь — десять футов, глаза посажены так, что он может одним взглядом охватить весь горизонт. Вот почему приходится соблюдать исключительную осторожность, чтоб подойти к нему близко.
Страус — глупая птица и часто попадает в плен из-за своей глупости. Природа, как видно, вложила в его крохотную головку уверенность, что стоит ему побежать в подветренную сторону — и он непременно натолкнется на какое-нибудь неодолимое препятствие и любой враг непременно его нагонит. Охотники за страусами знают о такой их особенности и всегда подкрадываются к стаду с наветренной стороны. Птицы замечают маневр, но им кажется, что это попытка отрезать им путь к бегству в единственном направлении, в каком они могут спастись. И они бросаются бежать в ту сторону, где рано или поздно неминуемо столкнутся с охотниками. А так как при этом страус должен пробежать большее расстояние, то охотники подходят к нему настолько близко, что валят его выстрелом из ружья. Удирай глупая птица в обратном направлении, преследователи ни за что не догнали бы ее.
Оперение страуса прекрасно приспособлено к теплому климату пустыни, где он обитает. Оно не препятствует доступу воздуха к коже и в то же время защищает тело от зноя. Больше всего ценятся белые перья самца. Цена их достигает порой фунта стерлингов за унцию. Черные перья обычно ценятся раза в четыре дешевле.
На великих равнинах Южной Америки встречаются два вида страусов и еще один — в Австралии. Но гигант африканский страус превосходит и тех и других не только ростом, но и красотою и ценностью своего оперения.
Некогда мозги страуса были излюбленным кушаньем римлян; известно, что для одного пиршества было перебито шестьсот птиц. Мясо страуса и теперь едят коренные жители Африки.
Птица эта отличается огромной физической силой и может бежать с большой скоростью, неся на себе человека. Страуса нетрудно приручить. Этим понемногу занимаются арабы; они разводят и выкармливают страусов ради перьев и мяса. Но в наши дни в более просвещенных странах из страусов не пытаются извлечь никакой пользы, разве что держат пару, другую птиц в городском зверинце, где на них глазеют детишки с их нянями.
Глава 50
НОВАЯ ЗАДЕРЖКА
На следующее утро охотники с рассветом были уже на лошадях и отправились дальше. Некоторое время они ехали по берегу окаймленного ивами ручья. Они выбрали это направление, чтоб оказаться с наветренной стороны от страусов, в надежде пострелять их, когда те побегут против ветра. К любой другой дичи охотники подкрадывались бы только с подветренной стороны.
Пройдя немного по плоскогорью, они увидели в миле от себя пятерых громадных страусов. Страусы, несомненно, приближались к ним, и очень быстро; четверо охотников выстроились в ряд на некотором расстоянии друг от друга, чтобы отрезать дорогу глупым птицам, бежавшим в направлении, которое им казалось спасительным. Страусы все приближались крупными, быстрыми шагами, и вскоре охотники поняли, что надо скакать дальше на север, иначе им не сделать по птицам меткого выстрела.
Казалось, страусы бегут по прямой от места, с которого начали свой путь, но так только казалось. Они отклонились в сторону как раз настолько, чтобы миновать охотников, хотя и бежали по ветру.
Чтобы не промахнуться по птицам, надо было скакать что есть духу, и охотники тотчас пустили лошадей во весь опор. Но страусы бегают намного быстрее лошади, и им удалось опередить преследователей ярдов на триста.
Виллем и Гендрик, едва успев осадить лошадей, спешились и выстрелили, но промахнулись. Страусы были слишком далеко и убежали невредимые. Понимая, что гнаться за ними бесполезно, охотники не стали их дальше преследовать.
Потом они заметили еще нескольких страусов, но по открытой местности к ним все равно не удалось бы подойти, и охотникам пришлось вернуться в лагерь, не добыв ни единого пера. Их неудача очень обрадовала Черныша. Он, пеший, убивает страусов, а белые вчетвером, хорошо вооруженные, на быстрых лошадях, не справились с этим делом! Черныш был горд и не скрывал этого. Он объявил своим хозяевам, что, если им так уж хочется раздобыть страусовые перья, он научит их, как это сделать. Но никто из них не сомневался больше в том, что Черныш — искусный охотник за страусами, и, признав свое поражение, они снова двинулись в путь.
Сразу же за плоскогорьем начинался прекрасный плодородный край, где обитали небольшие племена мирных бечуанов; их селения были расположены вдалеке от всех враждебных племен, и поэтому они могли жить в покое, их не тревожили воинственные соседи. В этом краю Виллему хотелось пробыть подольше, ибо он знал, что за пределами его им уже вряд ли встретятся жирафы.
В пути изредка попадались акациевые рощи, однако самих жирафов не было видно.
По дороге в одном селении охотникам сказали, что жирафы иной раз появляются здесь неподалеку, только не в такое время года, но их все же можно легко найти в каких-нибудь сутках пути отсюда.
Гендрика, Аренда и Ганса это ничуть не обрадовало: они боялись новой задержки.
И они не ошиблись. Виллем твердо заявил, что пока не намерен ехать дальше. Впрочем, сказал он своим спутникам, если им так не терпится попасть в Грааф-Рейнет, пускай отправляются без него.
Все трое так бы и сделали, да не решились. Что они скажут дома, как объяснят, почему покинули товарища? Люди станут спрашивать, как же это они не остались и не помогли знаменитому охотнику осуществить его достойный всяческих похвал замысел. А что они ответят?
Если они доставят голландскому консулу двух жирафов, их ждут слава и деньги: они бы, конечно, не прочь получить свою долю и славы и денег, если бы им посчастливилось поймать жирафов. И все же они немедля вернулись бы домой, если бы не Виллем, который решил непременно остаться.
Раздосадованы были этой проволочкой и четверо макололо — они жаждали скорее увидать какие-нибудь чудеса цивилизации; однако своего нетерпения они открыто не выражали. Напутствуя их, Макора велел им во всем подчиняться Виллему, и ослушаться они не собирались.
Один Конго относился к будущему с полным равнодушием. Его место было возле Виллема, и Грааф-Рейнет вспоминался ему и интересовал его не больше, чем его пса Следопыта.
Выбрав в нескольких милях от деревни бечуанов подходящее место для лагеря, охотники решили ненадолго здесь задержаться и сделать последнюю попытку поймать жирафов. Виллем пообещал, что, если они найдут жирафов, но ни одного не сумеют взять живым, он не станет больше возражать против возвращения домой.
Все знали, что он сдержит слово, и поэтому, больше не споря, согласились задержаться на несколько дней.
На юго-запад, пересекая эту местность, бежал ручей. По берегам его стоял лес или, вернее сказать, цепь отдельных рощиц. Росла там главным образом зонтиковидная акация. Всюду попадались деревья с обломанными сучьями и оборванными ветками — верный знак, что здесь были жирафы; на берегах ручья там и тут виднелись отпечатки их копыт.
А так как акации были повреждены недавно и следы тоже были совсем свежие, охотники поняли, что жирафы еще не ушли далеко.
— Что-то мне говорит, что нам наконец повезет, — заявил Виллем. — Я уехал из дому, с тем чтобы не возвращаться без двух детенышей жирафов, а я еще не потерял надежды опять увидеть Грааф-Рейнет. Мы не станем больше рыть ямы, но дайте мне еще хоть раз увидеть своими глазами жирафа, и, помяните мое слово, он будет мой, хотя бы мне пришлось для этого самому загнать его и схватить голыми руками!
— Это немыслимо, — заметил Гендрик. — Ты, конечно, можешь изловить даже дикого слона, но что ты с ним сделаешь? Вернее, что он сделает с тобой?
— Вот когда я поймаю жирафа, тогда и подумаю над твоим вопросом, — ответил Виллем. — Скажу только, что если я набреду на него, то не расстанусь с ним, пока жив, хотя бы мне для этого пришлось пожертвовать моим скакуном.
Три дня охотники без устали носились по всей округе, но ни одного жирафа не видали. Чернышу и четверым макололо, оставшимся в лагере, больше повезло. Когда Виллем и его товарищи вернулись к вечеру третьего дня, который провели, рыская по прибрежным рощам, Черныш сообщил им, что видел неподалеку от лагеря двух жирафов. Это старые жирафы, за ними, наверно, не раз уже охотились. Должно быть, они давно обитают в ближних рощах; они-то и обглодали ветви акаций и оставили следы на берегу ручья. Черныш сравнил следы проходивших мимо лагеря жирафов с отпечатками на берегу и объявил, что это следы одних и тех же копыт.
Потом он сказал своим хозяевам, что мог бы поймать этих двух жирафов, да их ловить не стоило, потому что они старые.
Гендрик, Аренд и Ганс такому хвастовству не очень-то поверили, зато оценили все остальное в его рассказе. Да, жирафы тут только старые, решили они, значит, оставаться здесь — лишь даром время терять.
Виллем понял, что они опять готовы расстроить его планы, но это только утвердило его в решении не уходить отсюда.
У каждого из четверых была своя заветная мечта. Виллем хотел во что бы то ни стало поймать двух маленьких жирафов, а три его спутника, потеряв надежду отговорить его от этого намерения — по крайней мере, в недалеком будущем, — мечтали о доме.
Прошло еще два дня, и наши охотники, молодые по возрасту, но связанные старой дружбой, совсем уже собрались расстаться. Но в этот решающий час глазам их представилось зрелище, которое снова склонило их действовать сообща.
Глава 51
ОТЧАЯННАЯ ПОГОНЯ
За завтраком наших охотников вдруг всполошил глухой, тяжелый топот каких-то животных и лай диких собак. В четверти мили к востоку они увидели крупное стадо скакунов, приближавшееся к лагерю, и с ними жирафов. Больше сотни этих антилоп и десятка два жирафов удирали от нескольких диких собак.
Дикие собаки в Южной Африке охотятся стаями и действуют по хорошо обдуманному плану. Завидев дичь, свора никогда не гонится за ней вся сразу. Часть собак остается в резерве, а потом, следуя зову тех, которые преследуют жертву, нередко нагоняют ее, срезая расстояние под углом. Этот маневр удается всякий раз, когда дичь бежит не по прямой.
Таким образом, собаки сменяют друг друга, пока жертва не выбьется из сил, и тогда им ничего не стоит взять ее.
Просто удивительно, до чего упорны, неутомимы и хитры эти животные! Они начинают охотиться, лишь когда голодны, и тогда охота нередко длится часами — собаки не остановятся до тех пор, пока жертва не свалится с ног.
Сейчас они бешено гнались за антилопами, и одна из них вот-вот должна была достаться собакам на обед в награду за их ловкость и труды.
Жирафы по глупости вообразили, будто дикие собаки гонятся за ними. Вместо того чтобы свернуть в сторону или же остановиться и дать собакам промчаться мимо, они бежали вместе с антилопами. Когда они поравнялись с охотниками, силы явно начали уже изменять им.
Виллему очень приятно было это видеть.
Вот они, жирафы, совсем близко. В стаде есть и детеныши. Троим из них не больше нескольких недель. Жирафы, за которыми он приехал в такую даль, здесь, перед глазами, и пришли сюда словно для того, чтоб отдаться ему в руки.
Только когда антилопы повернули направо, чтоб не наскочить на всадников, они отделились от жирафов. Те по-прежнему бежали вдоль берега ручья, меж тем как скакуны, преследуемые дикими собаками, понеслись к холмам, видневшимся на севере.
Жираф бегает медленнее лошади, и охотники знали, что сумеют нагнать желанную дичь, но что толку? Жирафа можно подстрелить, но как его взять живым?
Однако теперь было не до размышлений. Охотники пустились в погоню, и волнующая охота всецело захватила их.
Две мили жестокого преследования — и жирафы стали сдавать. Они устали еще прежде, убегая от собак, и теперь, когда за ними гнались свежие лошади, самое большое напряжение сил не могло их спасти. На третьей миле охотники настигли их.
Часть стада, отделившись от остальных, повернула прочь от берега. Их было трое: родители и прехорошенький детеныш. Виллем скакал сбоку, глядя на малыша жадными глазами, — ему до смерти хотелось поскорее завладеть желанной добычей. Жирафы уже не мчались галопом, а перешли на рысь; они поднимали ноги от земли всего на несколько дюймов, чуть не волочили их, и по неуклюжим движениям видно было, что долгая скачка измотала их вконец. И все же они бежали с такой скоростью, что Виллему приходилось все еще гнать лошадь галопом.
Вскоре он потерял из виду и стадо и своих товарищей. Он не знал, где они теперь. Он даже не подумал, что рискует заплутаться, это не пришло ему в голову. Все его мысли были об одном — как поймать маленького жирафа.
Преследуемые и преследователь двигались все медленнее; лошадь Виллема вся взмокла и, казалось, вот-вот свалится.
«Какой смысл продолжать погоню? — думал Виллем. — Стоит ли губить лошадь ради того, чтобы еще немного полюбоваться малышом, которым я не могу завладеть?»
Он понимал, что поступает безрассудно, и все же не в силах был отказаться от погони.
Рядом с ним скакал маленький жираф — такой яркий, красивый, такой грациозный, и в глазах Виллема ему просто цены не было. Но как его заполучить? Страстно желанная добыча, всего лишь нескольких недель от роду, изнемогающая от долгого бега, все еще отказывалась покориться усилиям, которые прилагал охотник, чтобы остановить ее.
Виллем был уже в миле от реки. Конь под ним спотыкался, чуть не падая от усталости, измученный этой непрерывной долгой скачкой. Что же предпринять?
Остановиться, дать коню отдохнуть, а потом вернуться к друзьям? Так поступить подсказывал ему здравый смысл, но здравый смысл был сейчас не властен над Виллемом. Возбуждение, тревога, отчаяние сводили его с ума. Он обезумел и вел себя, как безумец. Надежды, мечты, которые он лелеял в течение долгих месяцев, сосредоточились для него в этом одном часе погони за жирафом, и в этот час он не в силах был от них отказаться. Виллем был слишком возбужден и не мог рассуждать спокойно и разумно. Пусть лошадь сделает еще одно усилие, и он опередит этих трех жирафов, а тогда можно погнать их назад к реке. «Неужели я утрачу то, что почти уже держу в руках? — думал он вне себя от страха. — Если уж я не могу поймать этого детеныша, я буду гнать его. Буду гнать до самого Грааф-Рейнета. Он от меня не уйдет!»
Вонзив шпоры во взмыленные бока лошади, Виллем рванулся вперед, обогнал трех жирафов, и они, как он и ожидал, остановились. Осадив коня, он повернулся к ним; и оба взрослых жирафа тоже повернулись и понеслись в противоположную сторону.
Отступая, один из них толкнул детеныша, едва державшегося на ногах; мгновение казалось, что старый жираф растопчет его под ногами, но вот он умчался, а детеныш, шатаясь, сделал шаг, другой и повалился наземь.
Глава 52
УТОМИТЕЛЬНОЕ БДЕНИЕ
Соскочив с седла, Виллем ухватил упавшего жирафа за шею и, прижав его голову к земле, не дал ему подняться. Сделать это было нетрудно, так как мышцы длинной, тонкой шеи животного были еще слабы. Охотнику не пришлось применять силу, достаточно было придавить добычу тяжестью своего крупного тела.
Тем временем старые жирафы убежали, а лошадь Виллема, освободившись от седока, принялась щипать сухую траву, росшую поблизости. И вот Виллем заполучил то, что так долго и страстно желал добыть. Малыш у него в руках. Виллем крепко держал его, и все же ему казалось, что никогда еще он не был так далек от осуществления своей мечты! Что толку от того, что жираф пойман, если удержать его можно, лишь пока он лежит там, где упал? Стоит его отпустить на мгновение, как он вскочит на ноги, и тогда уж Виллему его никак не вернуть.
Этого он не мог допустить. Слишком страстно мечтал он о маленьком жирафе, слишком далеко ради него забрался и слишком долго ждал. Мысль, что все же придется выпустить свою добычу или он убьет ее, была для Виллема нестерпима, и только надежда, что к нему, может быть, подоспеют друзья, успокаивала его. Они увидят следы его лошади и явятся сюда. Тогда все легко уладится. Жирафа свяжут ремнями, и он пойдет с ними вместе до самого Грааф-Рейнета. Но придут ли они? А главное, придут ли вовремя? В этом Виллем вовсе не был уверен. Они, вероятно, будут ждать его возвращения до утра и только потом отправятся на поиски.
А пока они придут, маленький жираф околеет от непосильных попыток вырваться. Ведь он все время брыкается и мечется, лезет из кожи вон, чтоб высвободиться. Такие отчаянные усилия не могут ему не повредить. Сам Виллем страдал от жажды. Впереди еще долгий день. За ним последует долгая ночь время, когда лев, блуждающий тиран африканских равнин, рыщет в поисках ужина.
Удастся ли сохранить драгоценную добычу? Его скакун, верный друг, который столько раз уносил охотника от опасностей, бродит сейчас Бог весть где. Ведь и он может заблудиться, найдешь ли его тогда? Его могут растерзать дикие звери. Но его пока можно нагнать. Не лучше ли бросить жирафа и вернуться к друзьям? Застряв здесь, он рискует все потерять — и коня, и свою драгоценную находку, и самую жизнь. Как поступить? Никогда еще Виллем не чувствовал себя таким растерянным. Его терзали сомнения, неуверенность. Пот заливал лицо, пересохшее горло жгло, как огнем. Лошадь постепенно удалялась, почти уже скрылась из виду, а охотник все еще не решил, что ему делать. Он проехал полторы тысячи миль, для того чтобы поймать двух молодых жирафов, вот таких, как тот, что сейчас под ним. Он поймал одного; возможно, что его спутники, выполняя свое обещание, поймали второго. При этой мысли Виллем еще сильнее прижимал к земле пойманного жирафа; и в ту минуту, как солнце скрылось за горизонтом, он увидел, что конь его исчез где-то за холмом.
Некоторое время жираф еще отчаянно бился, пытаясь вырваться, потом ненадолго присмирел, хотя не похоже было, чтоб он отказался от намерения убежать; скорее, он раздумывал, как бы ему освободиться. Затем он снова начал вырываться и опять на время стих, словно собирался с силами для новой борьбы. Понемногу он примирился со своим положением и, казалось, стал ровнее дышать, и все реже, все слабее становились его попытки освободиться. Он понял, что человек не угрожает его жизни. Жираф свыкся с его обществом и убедился, что все равно не вырвется, пока человек его держит.
Настала ночь, а Виллем все еще сидел возле жирафа, обхватив ето руками за шею. Он с удовольствием думал, что друзья уже начинают беспокоиться о нем. Наверно, через несколько часов Конго со Следопытом отправятся по его следам, а за ними и остальные; затем все придут сюда и свяжут жирафа. Надеясь на такой благополучный конец, Виллем легче переносил стоадания. Вскоре он обнаружил, что бодрствует не один; кое-кто оспаривал его право на драгоценную добычу.
Первыми появились гиены, но их смех, словно вызванный его забавной позой, не заставил Виллема переменить ее, и хищники забегали вокруг него, бессмысленно скаля зубы. Они чересчур трусливы, чтобы напасть на человека, и их усилия напугать его только насмешили Виллема.
Сразу после захода солнца стало очень темно — так темно, что, хотя гиены были в нескольких шагах от Виллема, он видел только их сверкающие глаза. Именно в такую ночь лев выходит на поиски добычи — в такую темь царь зверей может незаметно подкрасться и броситься на человека столь же смело, как бросился бы на антилопу.
Виллем старался коротать время, предаваясь радужным мечтам, как вдруг воздух задрожал от грозного рыка. Охотник знал — так рычит лишь лев. Он вышел из своего логова в поисках жертвы.
Клубившиеся на юго-западе тучи в эту минуту сгустились дочерна; их, казалось, прорезали потоки огня, и вдали послышался низкий рокот далекого грома. Это были предвестники, в значении которых нельзя было ошибиться: надвигалась тропическая буря.
Приближался и лев. Его рык раздавался все громче, все грознее.
Кто придет первым — буря или хищный зверь? Можно было подумать, что они между собой состязаются. Вот уже падают тяжелые капли дождя. Изнывающий от жажды Виллем обрадовался бы их шуму, если бы не слышал грозного рычания льва.
Хорошо знакомый с повадками этой огромной кошки, охотник ясно себе представил, как лев приблизится к нему вплотную, взревет и прыгнет, как будет рвать когтями тело и грызть кости — его, Виллема, тело, его кости. Он редко испытывал страх, но сейчас не мог не поддаться ему. И все же он спокойно ждал конца.
Почти все люди, когда их охватывает страх, испытывают непреодолимое желание убежать подальше от места, где на них напало это мучительное чувство. Но не таков был Виллем. Он сознавал, что стоит ему шевельнуться — и он попадет в ту самую пасть, которой жаждет избегнуть, — ведь по рыканию льва нельзя догадаться, с какой стороны он покажется. К тому же Виллем был не настолько напуган, чтобы бросить добычу, доставшуюся ему с таким трудом.
Пошел дождь и некоторое время лил как из ведра. Тьма то и дело сменялась ослепительными вспышками электрических разрядов.
Через несколько минут эта жестокая гроза как будто кончилась; и тут же, словно завершая ее, сверкнула ослепительней всех прежних долгая молния, и гром загрохотал еще оглушительней, чем раньше.
От этой последней вспышки Виллем чуть не ослеп. Электрический разряд, казалось, ударил по каждому его нерву, и, если бы он стоял выпрямившись, его, конечно, свалило бы на землю.
Потом сразу все окутал непроницаемый мрак, и на минуту Виллему могло бы показаться, что он потерял зрение; но в тот миг его пронзила мысль еще более страшная.
Когда небо и земля озарились молнией, Виллем заметил нечто такое, что вытеснило из его сознания все мысли, кроме одной: сейчас он умрет. Футах в десяти от него, весь подобравшись для прыжка, притаился лев! Виллем хотел было оставить жирафа и скорее бежать отсюда, но не в силах был это сделать. Он весь оцепенел, словно и душу и тело его пронзила молния, ударившая в землю в нескольких шагах от него.
После того как он слегка оправился, первой его отчетливой мыслью была мысль о том, что вот уже прошла целая минута, а лев все еще не вцепился в него когтями. Оглушил его удар молнии, а не удар львиной лапы. Это и спасло Виллему жизнь, так как царь зверей, опаленный и перепуганный молнией, мгновенно кинулся бежать.
Гроза кончилась, и вскоре на западе обнажился клочок ясного неба. Вслед за этим показался серебристый диск луны, и при ее мягком свете Виллем продолжал бодрствовать, но ни лев, ни гиены больше его не тревожили.
Маленький жираф был все еще жив и спокойно лежал на земле; однако его медленное, тяжелое дыхание беспокоило Виллема. Что, если жираф умрет прежде, чем можно будет избавить его от того неудобного положения, в котором все еще приходится его держать?
Глава 53
НЕ РОДИСЬ УМЕН, А РОДИСЬ СЧАСТЛИВ
Жирафы, преследуемые Гансом, Гендриком и Арендом, по-прежнему бежали вдоль берега ручья. Это была главная, большая часть стада, и охотники помчались за ним, не заметив, что Виллем исчез.
Увидев такую заманчивую дичь и увлекшись погоней, все три охотника пришли в возбуждение, не менее сильное, чем у самого Виллема.
Полные азарта, они лихорадочно пришпоривали лошадей, и те неслись с такой быстротой, что казалось, вот-вот нагонят жирафов.
Только сейчас охотники заметили, что Виллема нет рядом. Он скакал в полумиле от них, и расстояние между ними быстро увеличивалось. Виллем несся по направлению к северу. Это обстоятельство нисколько их не смутило. Каждый был слишком увлечен собственной охотой, чтобы думать о других. Вскоре они вплотную подошли к жирафам, загнанным в крутую излучину реки.
Обнаружив препятствие, животные повернули назад, но путь к отступлению был отрезан. Их встретили охотники.
Аренд, скакавший справа, быстро помчался вперед, обогнал своих товарищей и успел помешать жирафам удрать, не замочив копыт.
Стадо снова погнали к реке.
Заставляя жирафов повернуть. Аренд оказался в нескольких ярдах от самого крупного из них. Не устояв против искушения уложить такое животное, он на полном скаку прицелился в голову жирафа и выстрелил. Умение или же счастье ему благоприятствовало, только жираф упал, сраженный выстрелом.
Итак, довольно было единственной пули немногим больше горошины, чтобы повергнуть на землю громадное животное шестнадцати футов в высоту. Пуля попала ему в голову позади глаза; подстреленный жираф поднялся на дыбы, завертелся, как вокруг оси, и всей тяжестью рухнул на бок. Упав, он принялся с силой биться о землю головой, словно хотел скорей избавиться от мучений.
Остальных жирафов погнали к реке; и, не видя иной возможности избавиться от преследующего их врага, они бросились в воду.
Речка не была ни широкой, ни глубокой, однако в этом месте через нее неудобно было переправляться. Берега на несколько футов возвышались над водой, и, судя по тому, как жирафы переходили ее вброд, видно было, что они идут по вязкому дну. Только когда несколько жирафов достигли противоположного берега и сделали безуспешную попытку выбраться, наши охотники стали надеяться, что поймают одного из детенышей. До сих пор они и не думали, что смогут захватить их живыми.
Они кинулись в погоню просто сгоряча, но, увидев, как жирафы борются с течением, охотники загорелись той же надеждой, какая на другом краю равнины в это же самое время владела Виллемом.
— Им не выбраться на берег! — закричал Гендрик. — Тут два маленьких жирафа. Попробуем схватить их.
Не теряя времени, они обдумали, как осуществить предложение Гендрика.
Мгновенно было решено разделиться и одному выехать на другой берег.
Сделать это поручили Гендрику. Объехав излучину, он добрался до места, где берег был пологий, въехал в воду и быстро достиг противоположного берега.
У каждого из всадников был с собой длинный ремень из буйволовой кожи, которыми они обычно привязывали своих лошадей, пуская их пастись. На конце ремня Гендрик сделал петлю, как ее делают на лассо в Латинской Америке. С помощью этой петли они собирались ловить жирафов.
Гендрик поскакал жирафам навстречу и нашел их все еще в воде. Утомленные бегом, они стояли спокойно, по-видимому слишком измученные, чтобы вытащить ноги из вязкой тины, в которую погружались все глубже и глубже. Лишь двое-трое, более крепкие, по-прежнему старались выбраться на берег, но ни один из всего стада не пытался спастись, двинувшись вверх или вниз по течению. От этого их удерживало присутствие Ганса и Аренда, стоявших на берегу по краям излучины: один — выше того места, где были жирафы, другой ниже. Появившись прямо перед ними, Гендрик заставил жирафов изменить поведение. Предводительствуемые крупным самцом, они забарахтались в воде, словно решили пробиться вверх по течению. Но Аренду, стоявшему поблизости, пришлось сделать всего несколько шагов, чтобы снова оказаться перед ними, и жирафы опять остановились. После короткой передышки они снова всполошились и попробовали ускользнуть вплавь, только вниз по течению. Но река в этом месте круто поворачивала, и перед ними вырос Ганс, стоявший здесь настороже; громкими криками он заставил жирафов остановиться, и опять они оказались в тупике. Охотники увидели, что животные почти уже не пытаются бежать, и это еще больше подзадорило их: во что бы то ни стало надо схватить этих детенышей! Выбраться из тины было не под силу их тонким, еще не окрепшим ногам. В этой узкой речке им некуда увернуться, им не уйти, думали охотники, и каждый приготовил ремень с петлей на конце, выжидая удобной минуты, чтобы пустить ее в ход.
Стараясь спастись от врага, испуганные жирафы заметались во все стороны, с трудом вытаскивая ноги из тины, пока совсем не выбились из сил. Гендрику, стоявшему ближе других, после нескольких бесплодных попыток удалось наконец набросить петлю на шею одного из детенышей. Сделав это, он быстро соскочил с седла и привязал второй конец ремня к дереву. Теперь жираф никак уже не мог ускользнуть. Как он ни был силен, его длинная, тонкая шея оказалась слишком слабой, чтобы помочь ему в его отчаянных усилиях освободиться от петли; и вскоре он покорился неволе.
— Постарайтесь поймать и этого! — крикнул Гендрик своим спутникам, показывая на второго детеныша. — Поторопитесь — и вы его схватите. Смотрите, он завяз в тине. Ганс, быстрее закидывай ремень!
Через секунду, другую Ганс удачно накинул петлю на второго детеныша, и он тоже стал пленником.
А так как большего им и не надо было, то охотники занялись пойманными жирафами, уже не интересуясь остальным стадом.
Предоставленные самим себе, взрослые жирафы снова попытались прорваться, уйдя вниз по течению. Спеша спастись, они сбили с ног одного из детенышей того самого, что поймал Гендрик.
Его не унесло течением — удержал ремень, но, хоть он и оставался в руках поймавших его людей, они владели лишь его трупом.
Он, видимо, захлебнулся, когда голова его ушла под воду, а может быть, его задушило затянувшейся вокруг шеи петлей.
Как только стадо исчезло, трое охотников обратили все свое внимание на пленника, оставшегося в живых. Прежде всего они закрепили на нем петлю, чтобы она не соскользнула, потом осторожно вывели его из речки.
Некоторое время жираф силился освободиться, затем, словно убедившись, что старания его напрасны, присмирел.
Маленького жирафа, измученного долгой скачкой, а потом стараниями выбраться из воды, оказалось легко укротить.
Охотники были в восторге. Они поймали детеныша и надеялись раздобыть еще одного.
Оказалось, что поймать жирафов — совершить подвиг, который был не под силу многим охотникам, — все-таки возможно. Значит, Виллем вовсе не вел себя как ребенок, требующий, чтоб ему дали луну. Он вовсе не гнался за чем-то недостижимым.
Теперь их главной заботой было благополучие пленника, и, для того чтобы он мог оправиться от страха и немного свыкся со своими новыми спутниками, они решили дать ему часок отдохнуть, прежде чем вернуться в лагерь.
Маленький жираф был слишком измучен и больше не пытался вырваться. Жираф быстро примиряется с неволей.
Глава 54
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Предоставив своему пленнику желанный отдых — причем жираф обнаружил здравый смысл и почти все время держал себя тихо и мирно, — охотники уже собирались отвести его в лагерь.
Аренд и Ганс сели верхом на коней, каждый держал конец ремня, середина которого охватывала шею жирафа. Они намеревались ехать чуть впереди него, на некотором расстоянии друг от друга. Таким образом, пленник не сможет вырваться ни вправо, ни влево. Гендрик должен был ехать позади и подгонять жирафа, если он вздумает пятиться обратно.
Все шло как по маслу. Жираф вынужден был следовать прямо за двумя всадниками, и всякую его попытку остановиться или рвануться назад пресекал кнут Гендрика. В этом случае он кидался вперед и снова ослаблял натянувшуюся веревку.
Так они вели свою добычу без всяких затруднений и к середине дня добрались до места, откуда начали охоту.
Тут они увидели на земле вьючные седла, кухонную утварь и всякое снаряжение, но ни Конго, ни Черныша, ни четверых макололо, ни быков как не бывало! Все куда-то исчезли! Больше того: охотники надеялись увидеть здесь Виллема и с огромным удовольствием предвкушали эту встречу — они знали, как порадовался бы Виллем их удаче. Но где же их спутники? Где Черныш и Конго? Они-то куда девались? Тут была какая-то загадка, которую ни один из троих охотников не мог разгадать.
Почему же те, кому было поручено охранять имущество, бросили его? Неужели макололо увели лошадей и быков? Неужели Черныш и Конго оказались изменниками? Не может быть! Но тогда почему же никого нет?
Охотникам ничего не оставалось, как выжидать в надежде, что время все разъяснит и пропавшие вернутся.
Ни быка, ни лошади, ни собаки — никого не видать. Связки слоновой кости, завернутые в циновки, лежат там, где их положили утром. Если лагерь обокрали, почему самое ценное осталось нетронутым?
Так как на этот вопрос никто не мог ответить, то решили во всем положиться на время.
Вечерело, а три охотника все еще терялись в догадках, волнуемые то надеждами, то страхами и сомнениями. Долгое отсутствие Виллема начинало их серьезно тревожить. Пора было что-то делать, искать его. Но что делать, где искать? Этого они не знали. Однако сидеть дольше сложа руки было невозможно.
Уже надвигалась ночь, а потому Аренд и Гендрик, оставив Ганса сторожить жирафа, двинулись в том направлении, где последний раз видели Виллема.
Они не отъехали еще и мили от лагеря, как сумерки сгустились, но и в полутьме охотники разглядели приближавшихся Конго и Черныша. С ними были только собаки.
Оба охотника поспешили вперед и вскоре встретились с ними. Гендрик стал торопливо расспрашивать о загадочных событиях прошедшего дня Черныша, а Аренд — Конго.
Вопросы: «Где Виллем?», «Куда девались быки?», «Почему оставили без присмотра лагерь?», «Где макололо?» — сыпались один за другим, и на все был лишь один ответ: «Да, баас».
— Скажешь ты или нет, желторожий дьявол? — нетерпеливо вскричал Гендрик, не получая внятного ответа.
— Да, баас, — ответил Черныш. — А с чего начинать?
— Где Виллем?
На этот вопрос, по мнению Черныша, нельзя было ответить сразу, но, пока он размышлял, Конго сказал:
— Мы не знаем.
— Вот еще! Конго дурак! — воскликнул Черныш. — Мы видели, что баас Виллем утром пошел с вами за жирафами.
Охотники чуть не лишились рассудка, пока наконец им удалось узнать то, что им хотелось. Виллем не вернулся, и Черныш с Конго знали о причине его отсутствия еще меньше их самих. Быки и кони днем паслись на равнине и понемногу забрели далеко. Четверо макололо ушли за ними и не вернулись. Черныш и Конго сознались, что среди дня они задремали и, проснувшись, увидели, что нет ни макололо, ни животных. Они отправились на поиски и нашли посланцев Макоры в большом волнении. На них напали бечуаны, которые и угнали всех лошадей и быков.
Макололо очень огорчены пропажей скота, они боятся, что их будут ругать, и поэтому не возвратились в лагерь. Они теперь в двух милях отсюда вниз по реке и собираются идти домой — ведь белые, наверно, не захотят больше иметь с ними дело.
Впервые путешественникам пришла в голову мысль, что они опрометчиво поступили, оставив имущество без хозяйского присмотра и защиты, да еще в краю, где обитают африканские племена, на честность которых нельзя положиться.
Бечуаны не постесняются воровать друг у друга и у любого другого племени, но они вряд ли увели бы лошадей и быков, если бы тут был кто-либо из белых и заявил, что скот принадлежит ему.
Но воры-бечуаны застали при скоте только черных людей чуждого им племени с далекого севера Африки, которым нечего было делать на их территории. Это был слишком удобный случай, чтобы его упустить, и, поддавшись искушению, они увели лошадей и быков.
Беде нельзя было помочь. Сейчас, во всяком случае, было не до того. Первым делом следовало найти Виллема, и охотники снова отправились его искать.
Одни они ночью ничего не смогли бы сделать, но теперь с ними были Конго и его собака Следопыт. Воодушевленные надеждой на успех, они быстро шли вперед.
Вскоре стало так темно, что Аренд предложил остановиться на привал до утра, но Гендрик на это не согласился, и Конго его поддержал.
— Забыл ты, как провел ночь под баобабом, увертываясь от носорога? спросил Гендрик.
— Замолчи, — сказал Аренд. — Если ты идешь, я иду с тобой.
Черныша отправили назад в лагерь к Гансу, а Конго со Следопытом оставили, чтобы они указывали дорогу. Вскоре Гендрик привел своих спутников к месту, где в последний раз видели Виллема. Сейчас здесь ничто о нем не напоминало.
От радости, с какой они возвращались в лагерь, не осталось и следа. Что-то странное произошло с их товарищем, что-то недоброе. Быки и вьючные лошади пропали, их угнали неизвестно куда люди, которые могут и не вернуть их, если даже их разыщут.
Все складывалось очень плохо — и что значил теперь для них пойманный жираф!
Размышляя об этом, Гендрик и Аренд следовали за Конго, который вел их в ночной темноте.
Глава 55
В ПОИСКАХ ВИЛЛЕМА
Конго, видимо, умел каким-то таинственным способом говорить своему псу, чего от него требуют. Не убегая далеко вперед, Следопыт носился то вправо, то влево, принюхиваясь к земле, словно нащупывая след. Почти все время невидимый в темноте, он лишь изредка проносился, как тень, пересекая путь всадникам, а порою фыркал, принюхиваясь к запахам земли.
Охотники не прошли и полмили, как Следопыт высказался более определенно по поводу того, что его интересовало: он отрывисто, громко залаял.
— Он нашел след! — воскликнул Конго, бросаясь вперед. — Я ему велел, я знал, что он найдет.
Вскоре они все нагнали собаку, которая по-прежнему не спеша, рысцой бежала вперед, изредка опуская нос к самой земле, как будто проверяла, не сбилась ли она с дороги. Следопыт шел по следу не так, как другие собаки: он не бросался вперед на запах и не оставлял охотников далеко позади. Аренду и Гендрику была знакома эта повадка, однако они все еще сомневались, что он ведет их именно по следам Виллема.
— Откуда ты знаешь, что мы идем куда надо, Конго? — спросил Гендрик.
— Мы идем за Следопытом, а он знает, — ответил Конго. — Он найдет всякий след в траве.
— И ты уверен, что твой пес идет именно по следам лошади Виллема?
— Да, минхер Гендрик, конечно уверен. Следопыт не дурак. Он знает, чего нам надо.
Слепо доверившись проницательности Конго и его пса, охотники продвигались вперед медленной рысью и потратили больше часа на то, чтоб проехать расстояние, какое Виллем проскакал в несколько минут.
Может случиться, что собака приведет их обратно в лагерь и там они найдут того, кого ищут. Виллем, конечно, не станет возвращаться той же дорогой, по которой гнался за жирафами, и они, возможно, целую ночь проблуждают, разыскивая его, тогда как он уже в лагере.
Эта мысль подсказывала им, что следует вернуться назад.
Было еще и другое соображение в пользу того, что нужно возвратиться. Надвигалась гроза, а она очень затруднит поиски.
Но все доводы в пользу возвращения отступали при мысли о том, что, быть может, Виллему грозит опасность, что он нуждается в помощи, и Аренд с Гендриком решили идти дальше.
Теперь они уже подгоняли собаку. Гроза быстро приближалась; охотники знали, что, если земля пропитается влагой, станет не так-то легко учуять запах и, возможно, поиски придется прекратить.
Вскоре небеса разверзлись и хлынул дождь, но промокшие насквозь охотники шли все дальше и дальше, утешаясь мыслью, что выполняют свой долг перед пропавшим другом.
Наконец гроза кончилась, но тут Следопыт, видимо, усомнился, что держится верного направления. Ливень не только заглушил все запахи, но и смыл отпечатки копыт, так что пес их больше не различал. Последние полчаса они шли в кромешной тьме и видели друг друга лишь в те короткие мгновения, когда вспыхивала молния и озаряла, казалось, целую вселенную.
Вскоре, однако, ночь посветлела. В западной части неба показалась луна; теперь можно было бы легче продолжать поиски, если б не стерлись следы. Собака, видимо, была сбита с толку и бегала, описывая короткие, неровные круги, словно совсем обезумела от сознания, что самое главное из пяти чувств не помогает ей.
— В конце концов придется вернуться, — безнадежно заявил Гендрик. — Сегодня ночью ничего больше не удастся сделать.
Все готовы были уже послушаться его, как вдруг примерно в полумиле от них, там, где они только что проехали, раздалось грозное рыкание льва. Стоило им повернуть назад, и они наскочили бы на свирепого зверя.
— Я старался сохранить затвор сухим, — сказал Аренд, — но боюсь, что на него нельзя положиться. Надо бы ружье перезарядить.
Он развернул кусок леопардовой шкуры, покрывавшей ружье, поднял кверху дуло и нажал курок. Раздался выстрел.
Когда замолкло эхо, как бы в ответ на выстрел в отдалении послышался человеческий голос.
— Эй! — окликнул их кто-то.
Охотники поспешили в ту сторону, откуда донесся крик. Даже собака, казалось, вдруг оправилась от замешательства и опять побежала вперед, указывая путь. Не прошло и десяти минут, как все обступили Виллема, радуясь, что он невредим и тоже поймал жирафа.
С минуту слышались только возгласы удивления и радости, потом Гендрик спросил:
— Ты давно здесь?
— С полудня, — ответил Виллем.
— А сколько еще оставался бы, если б мы тебя не нашли?
— Пока кто-нибудь из нас не помер бы — или я, или жираф, — ответил Виллем. — Я бы его не бросил.
— Ну, а если бы ты умер раньше, тогда что? — спросил Аренд.
— Тогда бы я, наверно, недолго тут пробыл — какое-нибудь зверье позаботилось бы об этом. Но, может быть, кто-нибудь из вас займет мое место? Мне б надо размяться, а то я никогда больше не смогу стоять на ногах.
Гендрик обхватил руками голову жирафа, а Виллем, с трудом поднявшись, обошел вокруг лежавшего животного и заявил, что наконец-то он счастлив.
Решено было не трогаться с места до утра. Остаток ночи, если не считать одного или двух часов сна, они провели, закидывая друг друга вопросами и рассказывая обо всем, что пережили за последние сутки. Виллем горевал о своем потерянном скакуне и с огорчением узнал о пропаже быков и вьючных лошадей, но эти несчастья не могли омрачить его радость от того, что он поймал наконец молодого жирафа.
— Он стал теперь совсем ручным, — сказал Виллем. — Если я не найду своего коня, то поеду в Грааф-Рейнет верхом на этом детеныше. Но сначала я с его помощью поймаю другого. Мне нужны два жирафа, и у меня они будут! Вполне возможно, что нам снова повезет. Постыдились бы: вас было трое, а вы не справились с тем, с чем справился я один! У вас там было двое детенышей, а то и больше, и вы им дали удрать, а я один, без всякой помощи, захватил единственного малыша, какой оказался в моей половине стада!
Аренд и Гендрик многозначительно переглянулись, а Конго посмотрел на них. Гендрик покачал головой, давая понять обоим посвященным — Конго уже знал о поимке второго жирафа, — что раскрывать секрет не следует, и, разумеется, они ни словом не обмолвились об этом Виллему. Друзья хотели сделать ему сюрприз.
Глава 56
ВСТРЕЧА СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
Едва занялась заря, наши охотники задумались над тем, как отвести маленького жирафа в лагерь.
Виллем удивился, почему его товарищи не взяли с собой ремни. Гендрик объяснил, что им это в голову не пришло, к тому же они покинули лагерь второпях.
Охотники опасались, что доставить жирафа в лагерь будет трудно. Он казался таким слабеньким и покорным, что друзья беспокоились лишь о том, выдержит ли он дорогу.
Тем не менее без ремней и веревки вести жирафа не так-то просто. А вдруг он вздумает сопротивляться и вырвется у них из рук?
— Нет, какая-то веревка необходима, — сказал Виллем. — Я готов вырезать ремень из шкуры чьей-нибудь лошади. Я слишком долго стоял, вернее сказать сидел, охраняя этого звереныша, и слишком далеко забрался, для того, чтобы изловить его, — неужели же позволить ему теперь удрать? Это всего лишь половина того, что нам нужно. Вот если бы вы были настоящими охотниками, вы раздобыли бы вторую половину!
В нескольких сотнях ярдов от них стояла молодая рощица; стройным, гибким деревцам, росшим тут, обрадовался бы любой рыболов в поисках удилища.
Виллем пошел в рощицу и выбрал две длинные жерди, раздвоенные на концах.
Эти жерди приставили к шее жирафа с двух сторон раздвоенными концами и концы переплели так, что образовалось нечто вроде ошейника. Таким образом, жирафа можно было вести вдвоем, придерживая его с двух сторон.
Аренд взялся за конец одной жерди, Гендрик — за конец другой. Жираф так долго оставался в лежачем положении, что с трудом поднялся на ноги, а потом не пытался вырваться, и с ним легко справились.
Каждый раз, когда он пробовал свернуть в сторону, его тотчас повертывали обратно. Вскоре жираф обнаружил, что, хотя он стоит на ногах, он такой же пленник, каким был, когда ему не давали подняться с земли.
Убедившись, что сопротивление напрасно, он отдался на волю людей, лишивших его свободы.
Аренд и Гендрик, оба верхами, держали жерди, с помощью которых направляли жирафа, а Виллем и Конго шли сзади. Так они вели пленника в лагерь.
В дороге Виллем снова и снова корил своих товарищей. Прояви они такую же энергию и решимость, какую проявил он, сейчас все могли бы вернуться домой, довольные и счастливые.
— Я гнался бы за этим жирафом до тех пор, — говорил Виллем, — пока моя лошадь не упала бы мертвая, а потом бежал бы за ним и все равно поймал бы его! Вот если бы один из вас троих обладал хотя бы долей такой решимости, мы с радостью бросили бы наших быков и уже на рассвете прямиком отправились домой.
Аренд и Гендрик не прерывали торжествующего охотника. Им нечего было стыдиться своего поведения, но из деликатности ни один из них не сказал Виллему, что хоть он и поймал жирафа, но без их помощи это кончилось бы для него лишь потерей лошади и многими другими неприятностями.
Они знали, что, не будь Виллем так опьянен выполнением давно лелеемого замысла, он не стал бы преувеличивать свои заслуги. К тому же радость Виллема от того, что он завладел жирафом, омрачалась опасением, что его лошадь потеряна безвозвратно.
Виллем был уверен, что, верни он своего скакуна, он добыл бы и второго жирафа.
В стаде, за которым гнались охотники, он видел еще двух детенышей. Может быть, удастся найти их снова? Но как их догнать, если не сядешь снова на своего верного коня!
К полудню они достигли лагеря, и первое, что бросилось в глаза Виллему, был маленький жираф, привязанный к дереву! Рядом стоял его собственный конь!
Коня привели назад макололо; возвращаясь в лагерь, они нашли его на равнине. Они тут же рассказали, как очутились здесь лошадь и они сами. Лишившись своего скота, они отказались от намерения посетить страну белых людей. Без быков они не могли бы одолеть предстоящий им долгий путь. Видимо, им ничего больше не оставалось, как вернуться домой, к Макоре. Но они не хотели уйти, не попрощавшись со своими недавними спутниками, и в то же время боялись, что на них рассердятся — ведь они не уберегли быков и лошадей, принадлежащих белым, да и своих потеряли, — поэтому они провели беспокойную ночь, не зная, как им поступить.
Когда рассвело, они заметили лошадь Виллема; она паслась невдалеке от места, где они разбили лагерь на ночь. В последний раз они видели великана-охотника, когда он верхом на своем кене гнался за жирафами, и им захотелось узнать, почему теперь лошадь одна, без всадника. Зная, как хозяин ею дорожит, они подумали, что, если они ее приведут, им простят их вину.
И они не ошиблись. О другом животном — о жирафе, привязанном к дереву, Виллем ничего не спросил, и никто не стал ему ничего объяснять. Виллем предпочел промолчать.
Свыше тридцати часов у него во рту не было ни крошки, и сейчас, ни слова не говоря, он стал уплетать обед, приготовленный для него Чернышем; доказав этим, что все беды не лишили его аппетита, он растянулся на траве и заснул как убитый.
У охотников оставалось еще одно дело, с которым нужно было покончить, прежде чем отправиться домой. Надо было постараться вернуть похищенных лошадей и быков, и чем раньше они за это примутся, тем больше надежды на успех. Однако, когда Виллема разбудили и спросили его совета, он заявил, что ближайшие двенадцать часов будет спать, и только; сказав это, он снова захрапел. Остальные не могли без него предпринять ни одного серьезного шага, и им пришлось ждать, пока Виллем проснется, а проснулся он лишь на следующее утро к завтраку.
Глава 57
ПРОПАЖА НАЙДЕНА
Позавтракав, охотники решили тотчас же приняться за поиски украденного. Виллема, хотя и с трудом, уговорили поехать со всеми. Ему не хотелось даже на несколько часов расстаться со столь дорогими его сердцу пленниками.
Сбылись самые его дерзкие мечты: пойманы и почти приручены два молодых жирафа. Они даже позволяют ему гладить себя. Теперь их без особых хлопот можно отвести в Грааф-Рейнет, а оттуда препроводить к голландскому консулу. Наградой охотникам будут и деньги и слава.
С тех пор как Виллем вернулся в лагерь и увидел второго жирафа, друзья не слышали от него больше ни похвальбы, ни упреков. Теперь, однако, возник вопрос, как быть со слоновой костью и всем, что оставалось еще в лагере. Ради того, чтобы довезти до голландских поселений на юге столько ценного груза, стоило потрудиться и разыскать пропавших быков и вьючных лошадей. Итак, оставив Ганса, Конго и двоих макололо стеречь лагерь, остальные отправились на поиски, надеясь вернуть украденных животных.
Уверенные, что бечуаны, похитившие их, живут где-нибудь близ реки или ручья, охотники решили прежде всего пойти вниз по течению той речки, на берегу которой они стояли лагерем. Так они и сделали.
Первые пять миль не видно было ни единого отпечатка ни бычьих, ни лошадиных копыт. Земля тут была твердая, и, если даже здесь прошло стадо, невозможно было рассмотреть его следы. Но вскоре охотники подъехали к месту, где берег был низкий, болотистый, и тщательно осмотрели его. Они увидели множество следов — разные животные приходили к речке напиться, и копыта четко отпечатались на мягкой почве. К радости своей, охотники различили среди других следы лошадей и быков и без труда признали их. Сомненья нет украденное у них стадо перегоняли здесь на другой берег. Довольные таким началом поисков, они отправились дальше, окрыленные надеждой. Теперь они были уверены, что едут в нужную сторону. Следы по-прежнему вели вниз по течению. Мили через три или четыре охотники увидели селение — тут было хижин сорок. Когда они подъехали ближе, навстречу им выбежали несколько человек и сразу спросили, что им здесь нужно.
Черныш ответил, что они ищут украденных лошадей и быков.
Высокий, совсем голый человек, державший в руках огромный зонт из страусовых перьев, выступил вперед и произнес речь. Он знает, что такое быки, и ему не раз приходилось их видеть, но только это было давно. Лошадей же он никогда в жизни не видел и не знает, что это за животное.
К счастью, после ночного дождя земля была совсем мягкая, и все более поздние следы были отчетливо видны. Человек с зонтом явно об этом не подумал, и охотники сразу поняли, что он лжет. Он не мог не заметить следы лошадиных копыт, отпечатавшиеся на земле вокруг того самого места, где они сейчас стояли. Следы были совсем свежие. Несколько лошадей прошло здесь не больше часа назад; было просто невероятно, чтобы жители деревни и сам вождь их не заметили.
Не сказав больше ни слова туземцам, охотники двинулись к селению.
Первое, что они увидели, подъехав ближе, была только что снятая шкура быка, сушившаяся на одной из хижин. Наблюдательный Черныш сразу заявил, что это шкура одного из быков, которых он совсем еще недавно помогал гнать; то же сказали оба макололо. Они показали белым охотникам рубцы, оставшиеся на шкуре от их вьючного седла. Ни один из стоявших вокруг туземцев не мог объяснить, каким образом попала сюда эта шкура. Никто будто бы ее раньше и не видел, и, когда им на нее показали, они постарались изобразить на лицах крайнее удивление.
Выехав из селения, охотники поскакали по равнине, раскинувшейся к северу; в той стороне они увидели что-то вроде стада и тут же подумали, не их ли это пропажа. Они не ошиблись. Это были украденные лошади и быки. Охраняли животных лишь несколько женщин и детей, которые с неистовым криком бросились бежать, едва увидели белых.
Виллем и Гендрик погнались вслед за перепуганными женщинами, которые бежали со всех ног. Судя по всему, женщины не сомневались, что если их догонят, то непременно убьют.
Охотники были очень рады, что вернули свое имущество, и не имели ни малейшего желания обижать беззащитных женщин, и все же они оказались причиной гибели одной из беглянок.
Мчась галопом за кучкой перепуганных детей и женщин, всадники увидели, что одна из них немного отстала и вдруг упала на землю. Виллем и Гендрик придержали коней и повернули к упавшей. Подъехав ближе, они увидели ее тусклые, остекленевшие глаза и поняли, что она умерла.
Гендрик спешился и приложил руку к ее сердцу. Сердце не билось. Женщина не дышала. Она была мертва. Испуг убил ее!
Возле нее лежал ребенок, не старше трех лет. Все же его глаза, устремленные на Гендрика, сверкали гневом. Страх перед белым человеком не смирил его инстинктивной, точно у зверька, враждебности, и весь его вид доказывал справедливость распространенного мнения, будто африканский ребенок, подобно детенышу льва, рождается с поразительно развитыми умственными способностями.
Тем временем остальные женщины убежали уже далеко и не услышали бы, если бы их позвали назад. Гендрику не хотелось оставлять ребенка возле мертвой матери. Не зная, как поступить, он обратился к подъехавшему Виллему.
— Мы испугали эту женщину насмерть, — сказал Гендрик. — После нее остался ребенок. Что нам с ним делать? Нельзя же бросить беднягу здесь.
— Вот несчастье! — сказал Виллем, взглянув на мертвое тело. — Чернокожие подумают, что это мы убили женщину, и у них составится превратное мнение о белых. Надо отвезти ребенка в деревню и отдать его. Мы скажем, что женщина умерла по собственной глупости, — ведь это так и есть. Дай-ка мне этого негритенка.
Едва Гендрик наклонился к ребенку, тот отчаянно заорал, не желая расставаться с матерью. Сопротивление выразилось не только в крике. Словно тигренок, он царапал и кусал державшие его руки: это было совсем не похоже на поведение его взрослых родичей бечуанов, которые испытывают инстинктивный страх перед белыми и избегают каких-либо столкновений с ними.
Держа чернокожего малыша под мышкой, Виллем галопом поскакал за скотом и с помощью своих товарищей меньше чем через час пригнал стадо к деревне. Недоставало лишь того быка, шкура которого висела на крыше хижины.
Ребенка передали вождю. Черныш рассказал ему, при каких обстоятельствах ребенка нашли, и перевел бечуанам совет Виллема никогда больше не зариться на чужое добро. К удивлению охотников, вождь и несколько его старейшин заявили, что знать ничего не знают ни о животных, ни об охранявших стадо женщинах; но тут двое макололо признали нескольких бечуанов, которые громче всех утверждали, будто они впервые слышат о скотине: они-то угнали лошадей и быков.
Чтобы спастись от нестройного крика туземцев, охотники поспешно повернули назад, уводя свое стадо.
Гендрик и Аренд не прочь были наказать бечуанов за их вероломство, за потерю времени и все те неприятности, которые они причинили, но великодушный Виллем удержал их. Он считал, что туземцев нельзя винить эа их проступок, как нельзя винить птицу за то, что она заглатывает подвернувшегося ей червяка.
— Эти бедняги, — сказал он, — не понимают, что делают. Они не отличают добра от зла. Пусть наше милосердие послужит им уроком.
Глава 58
ОХОТА НА ЛЬВОВ
И вот наши любители приключений опять на пути домой.
Против ожиданий, жирафы почти не причиняли им хлопот. Ремня, обвязанного вокруг шеи, было достаточно, чтобы они покорно шли вперед.
Способ, каким их поймали, с первой минуты научил их, что воля человека сильнее их воли, и с той поры, то ли из хитрости, то ли по глупости, они больше не сопротивлялись.
Можно было не опасаться, что они отобьются в пути, даже если бы им предоставили возможность это сделать. Подобно прирученным слонам, они не знали ни своей силы, ни своего проворства и вскоре стали не менее послушны, чем любая лошадь или бык.
В течение нескольких дней не случилось ничего, о чем стоило бы упомянуть, да охотники и не мечтали больше ни о каких приключениях. Они получили все, чего хотели, и даже такой страстный охотник, как Виллем, не свернул бы в сторону, чтобы убить самую прекрасную антилопу, когда-либо ступавшую по равнинам Африки, если б ему не приходилось добывать мясо на обед.
Они провели в пути еще две недели, и вот Черныш очутился в краю, где жило много его соплеменников — бушменов. Он давно предвкушал удовольствие побывать в этих местах, хотя влекли его туда не лучезарные воспоминания детства, а просто любовь к родине — чувство, присущее всякому человеку. Своим молодым хозяевам он всегда изображал бушменов доблестными воинами и охотниками, утверждая, что они добры, гостеприимны, умны, — во всех отношениях превосходят соотечественников его соперника Конго.
Охотники находились сейчас в крае, населением несколькими кочующими племенами бушменов, и им мог представиться не один случай проверить справедливость утверждений Черныша.
Так оно и вышло. Однажды перед вечером они прибыли в поселение бушменов своеобразную деревню, где жило семейств пятьдесят. Узнав, что поблизости нигде не найти подходящего места для привала, путешественники решили заночевать в этой бушменской деревне.
Первым проявлением гостеприимства бушменов, которое так расхваливал Черныш, было то, что они всем племенем стали выпрашивать табак, спиртные напитки, одежду и все, что видели у охотников, а взамен милостиво разрешили брать воду из пруда, находившегося рядом с деревней, и только.
Ночью лев унес телку, принадлежавшую главе селения, а утром двоим туземцам было приказано выследить и убить льва. Охотники не раз слышали рассказы о том, как бушмены убивают львов. Им очень хотелось своими глазами увидеть это, и они попросили разрешения сопровождать двух смельчаков.
Отправляясь на охоту за царем зверей, каждый взял с собой только буйволову шкуру, небольшой лук и несколько отравленных стрел.
Следы льва вели к леску, росшему в полутора милях от деревни. Путешественники направились туда, полные любопытства: верно ли, что такая крошечная стрела несет льву смерть? И как бушмены осмелятся подойти к такому страшному зверю настолько близко, чтобы пустить в него стрелу?
Оказывается, вовсе нетрудно подойти близко ко льву, когда он досыта наелся. Как бушмены и предполагали, после обильной трапезы свирепый хищник спал глубоким сном.
Оба бушмена подкрались к нему совсем близко — так близко, что почти касались спящего льва.
Наши зрители остановились поодаль, спешились и, готовые в любую минуту пустить в ход ружья, двинулись следом за бушменами в нескольких ярдах позади, невольно восхищаясь их бесстрашием.
Только один из них натянул лук. Второй, растянув обеими руками буйволову шкуру, подошел к льву еще ближе, чем тот, который готовился пронзить льва смертоносной стрелой.
Охотники смотрели затаив дыхание. Ведь лев мог в одну секунду повергнуть этих двух малорослых людей на землю, смять их и разорвать на куски.
Еще минута — и крошечная стрела вонзилась меж ребер громадного зверя. И в то мгновение, как он, гневно взревев, вскочил на ноги, в тот самый миг, как перед глазами у него мелькнули два человеческих лица, ему на голову накинули буйволову шкуру.
Лев отпрянул назад, быстро повернулся и высвободился из-под шкуры; потом, пораженный непонятным столкновением, он бросился бежать и ни разу не оглянулся.
Бушмены сделали свое дело: они убили льва. Отравленная стрела проникла в тело, и смерть его была так же неизбежна, как если бы ему снесло голову пушечным ядром.
Но оказалось, это еще не все. Бушменам было приказано принести своему вождю все четыре львиные лапы в доказательство, что лев убит. Они должны были идти за львом, пока тот не упадет мертвым, и охотники, которым хотелось видеть все до конца, следовали за ними.
Сначала лев уходил медленно, словно бы даже равнодушно, но постепенно он все убыстрял шаг.
Стрела могла разве только пробить толстую кожу, и, боясь, как бы лев не остался жив, Виллем пожалел, что не всадил в него пулю из своего ружья.
— Очень хорошо, что ты этого не сделал, — заметил Ганс. — Ты испортил бы нам все удовольствие от этой охоты. Мне хочется увидеть, как действуют их отравленные стрелы, и своими глазами убедиться, что льва можно умертвить таким легким способом.
Раненый зверь пробежал чуть ли не милю, потом остановился и яростно зарычал.
С ним явно творилось что-то неладное — он завертелся, точно на вертеле, и вообще вел себя самым странным образом.
Яд начинал действовать, и мучения льва, видимо, усиливались с каждой минутой. Он упал и стал кататься по земле; потом поднялся на задние ноги и взревел, словно обезумев. Одно мгновение он даже пытался стать на голову. Потом бешено накинулся на растущее рядом дерево и принялся зубами и когтями сдирать с него кору, пятная ветви кровью. Казалось, он жаждал разнести в клочья весь мир!
Никогда еще нашим путешественникам при всем их охотничьем опыте не случалось видеть такую отчаянную борьбу со смертью.
На мучения громадного зверя было страшно смотреть, и в зрителях пробудилась жалость. Они избавили бы его от страданий, всадив в него пулю, если б не стремились узнать все, что касается действия яда.
С того мгновения, как лев остановился, и до того, как он испустил дух, прошло минут пятнадцать. Все это время он проделывал самые разнообразные акробатические трюки, — охотникам не приходилось видеть такое даже в цирке.
Едва бушмены удостоверились в том, что лев мертв, они отрубили ему лапы и понесли их в селение.
Глава 59
СЧАСТЬЕ ВДРУГ ПОВЕРНУЛОСЬ СПИНОЙ
На третий день после того, как путешественники покинули деревню бушменов, их разбудили громкие крики черных обезьян в соседней роще. Судя по отчаянным крикам, обезьяны, вероятно, попали в беду.
Пока готовили завтрак и нагружали вьючных лошадей и быков, Виллем и Аренд пошли к роще, откуда доносились крики. Сейчас они стали еще пронзительнее и на языке обезьян, казалось, означали: «Караул! Убивают!»
На дереве, где примостилось штук пятнадцать — двадцать этих четвероруких, каждая величиной с кошку, охотники увидели молодого леопарда, пытавшегося поймать одну из этих черных обезьянок себе на завтрак. Спасаясь от врага, они забирались на самые тонкие ветки, и леопард не решался за ними следовать, зная, что эти ветки не выдержат его тяжести.
Некоторое время охотники забавлялись, наблюдая за бесплодными усилиями леопарда добыть себе еду. Леопард преследовал обезьяну, убегавшую по ветке, пока ветка не делалась слишком тонкой, чтоб он мог идти по ней дальше.
Он останавливался в двух-трех футах от визжавшей обезьяны, протягивал лапу и обнажал белые зубы, улыбаясь, словно хотел поздороваться со зверьком, которого собирался сожрать.
Убедившись, что до этой обезьянки ему не добраться, он оставлял ее и затевал ту же игру с другой.
Наконец он загнал одну обезьяну на крупный сухой сук, протянувшийся горизонтально от ствола. Конец сука был обломан, тут не было тонких веток, на которых обезьяна могла найти себе пристанище; и ничто не мешало леопарду последовать за ней и не спеша схватить. Не оказалось поблизости и другой ветки, на которую обезьяна могла бы перескочить; действительно, податься было некуда. Поняв это, она повернулась к охотникам, стоявшим внизу, и посмотрела на них с таким выражением, будто хотела сказать: «Спасите меня! Спасите!»
Леопард, которого мучил голод, заметил двоих охотников только тогда, когда они оказались ярдах в двадцати от дерева, а он уже нагонял обезьянку на сухой ветви. Тут он вдруг остановился. Он увидел «божественный лик человека», и инстинкт подсказал ему, что опасность близка. Леопард уставился на пришельцев горящими глазами, словно обдумывал, не позавтракать ли ими вместо обезьяны.
— Оставь про запас пулю, Гендрик! — крикнул Виллем, вскинув ружье. — Твой выстрел может понадобиться.
Виллем спустил курок, и леопард кувырком полетел на землю. Гендрику не пришлось истратить на него заряд: зверь упал, сраженный насмерть. Виллем схватил его за задние лапы и поволок к лагерю.
Лагерь был близко, и вскоре охотники его увидели. К своему удивлению, они заметили, что там царит смятение. Быки и лошади разбегались во все стороны, бежали и люди.
Что бы это значило?
Недоумение рассеялось, когда охотники увидели посреди лагеря какое-то огромное животное. Это оказался необычных размеров носорог. Свирепый зверь стоял посередине лагеря, как бы размышляя, за кем из убегавших ему погнаться. Он был зол, оттого, что придя на место, где обыкновенно утолял жажду, застал там посторонних.
Черный носорог может, не колеблясь, броситься на целый кавалерийский полк: неудивительно, что этот зверь, внезапно вторгшийся в лагерь, обратил в бегство людей и животных — всех, кто в состоянии был удрать. Один из жирафов был так крепко привязан, что не мог спастись. Он барахтался на земле, стараясь высвободиться, а с ним рядом лежал бык, которого носорог опрокинул, когда ворвался в лагерь. Второй жираф мчался по равнине, далеко обогнав всех быков и лошадей. Казалось, он несся, подгоняемый не только страхом, но и вновь проснувшейся в нем любовью к свободе.
Вскоре носорог сделал выбор — пустился в погоню за одной из вьючных лошадей. Виллем был верхом. Он, пожалуй, еще мог бы догнать беглеца, но теперь, когда жираф намного опередил охотников, на это нечего было надеяться. Однако нельзя было терять ни секунды — надо попытаться сделать все возможное. Предоставив остальным собирать лошадей и быков, которые разбрелись по равнине, Виллем, сопровождаемый Гендриком, Конго и Следопытом, поскакал к роще.
Виллем ван Вейк, всего лишь час назад счастливейший в мире охотник, был теперь едва ли не самым несчастным: один из двух пойманных жирафов, ради которых Виллем столько натерпелся, сбежал и, по всей вероятности, никогда больше не попадется на глаза белому человеку. Теперь неизвестно, когда осуществится заветная мечта Виллема. А может быть, она и вовсе не сбудется.
Один жираф не имел в его глазах большой цены. Ему необходимо два; кто знает, представится ли ему случай добыть второго. Кроме того, он не был уверен, что сумеет уберечь оставшегося. Смерть может вырвать добычу у него из рук. Стараясь освободиться из петли, жираф причинил себе увечья, и Виллем, покидая лагерь, видел, что макололо не удалось поднять его на ноги. Большая задача, которую поставил себе Виллем — главная цель их экспедиции, — по-прежнему не была решена.
Вот какие мысли терзали охотника, когда он торопил Конго и собаку быстрее идти по следу, ведущему через лес.
Глава 60
ПРОПАВШИЙ НАЙДЕН
Виллем опасался, что лес этот тянется на много миль, а он оказался всего только небольшой рощицей; они быстро ее пересекли и опять выехали на равнину. Жирафа не было видно, но они сразу отыскали на равнине его следы.
Желания Виллема то и дело менялись. Сперва он боялся, что жираф затеряется в густом лесу, где за ним не угнаться на лошади, а теперь, когда он увидел перед собой бесконечную равнину, он стал опасаться, как бы сбежавший пленник не умчался куда-нибудь далеко, и пожалел, что жираф не остался в лесу.
Под сенью рощи он нашел бы себе кров и пищу и задержался бы; там они его и застали бы, между тем как на открытой местности он вряд ли станет задерживаться. А теперь его и не видать, — уж наверно, он опередил их на много миль.
По следу быстро не пойдешь; приходилось двигаться вдвое медленнее, чем жираф, бежавший в поисках своих родителей, с которыми его так жестоко разлучили несколько дней назад.
Значит, чем дольше Виллем со своими спутниками будут идти за жирафом, тем больше они от него отстанут!
Наши любители приключений это отлично понимали.
— Незачем идти дальше, — заметил Гендрик. — Жирафа мы потеряли. Вернемся лучше назад, в лагерь.
— Ничего подобного! — возразил Виллем. — Малыш мой, и так легко я с ним не расстанусь. Я буду за ним гнаться до тех пор, пока не свалюсь с лошади. Должен же он когда-нибудь и где-нибудь остановиться! И когда бы это ни случилось, я подоспею и еще разок погляжу на него.
Рассчитывая, что еще часом-другим этой явно безнадежной погони удовлетворится даже Виллем, Гендрик не стал возражать и двинулся дальше за Конго, который шел впереди всех по следу.
Было уже за полдень, солнце клонилось к западу.
Они выехали из лагеря не позавтракав и в спешке не захватили с собой никакой еды. Страдая от жажды, ослабев от голода и утомительной езды по следу под палящими лучами солнца, они двигались вперед довольно уныло.
— Виллем! — воскликнул наконец Гендрик, круто осаживая коня. — В пределах разумного я на все готов, но то, что мы сейчас делаем, — бессмыслица. Мы и так уже чересчур далеко забрались. Вряд ли мы успеем вернуться в лагерь засветло. Я дальше не еду.
— Отлично, — ответил Виллем. — Не смею упрекать тебя. Ты волен поступать, как знаешь, а я пойду. Нечего мне ждать, что другие станут поступать так же глупо, как я. Это моя забота, а тебе и Конго лучше вернуться. Оставьте мне собаку, и я пойду по следам жирафа без вас.
— Нет, нет, баас Виллем! — воскликнул Конго. — Я с вами, и Следопыт тоже. Мы вас не бросим.
Виллем и Конго с собакой отправились дальше, а Гендрик остался, глядя им вслед.
Он не трогался с места, где придержал коня.
— Забавно! — пробормотал он, глядя на удалявшихся Виллема и Конго. — Я действовал безрассудно, просто глупо с самого начала экспедиции. Меня толкали на это обстоятельства и опять толкают. Да, я должен идти за Виллемом. Могу ли я покинуть его, если кафр остался ему верен? Неужели его дружба стоит больше, чем моя?
Гендрик пустил коня галопом и вскоре опять ехал рядом с товарищем.
Виллем и сам подозревал, что поступает безрассудно, добиваясь невыполнимого, но эта здравая мысль не удержала его от дальнейших поисков. Почти обезумев от потери жирафа, он сейчас сам не в состоянии был разобраться, поступает ли он умно или глупо.
Судя по всему, Гендрик следовал за Виллемом лишь для того, чтобы убедить друга вернуться.
Молодой офицер привел все доводы, какие только пришли в голову, чтобы доказать, как бессмысленно продолжать поиски, но убедить охотника ему не удалось. Виллем упорно стоял на своем, он твердо решил идти дальше.
Приближался вечер, а охотник, все еще не хотел отказаться от поисков.
Все равно они не успеют вернуться к ночи — ведь они оказались на расстоянии почти целого дня пути от лагеря.
«Виллем помешался, безнадежно помешался, — подумал Гендрик, — мне нельзя оставить его одного».
Они ехали молча, и Гендрик чувствовал, что и сам близок к тому состоянию, какое приписывал Виллему.
Однако поиски подходили к концу. Путешественники и не надеялись, что успех так близок.
Впереди на равнине виднелась группа деревьев. Это были ивы, — значит, поблизости есть вода. Следы вели к ним почти прямо. Жираф инстинктивно почуял воду. То же произошло с лошадьми охотников — они заторопились к рощице.
Посреди нее был прудок, и у берега стояло животное, при виде которого Виллем радостно вскрикнул. Это был сбежавший жираф. Второй радостный возглас раздался, когда охотники заметили, что жираф опять пойман.
Свободный конец обвивавшего его шею ремня запутался в кустах. Жираф оказался привязанным, и поймать его было проще простого. Не приди охотники вовремя, он задохся бы, либо погиб от жажды, или его растерзал бы какой-нибудь хищный зверь.
Ремень, зацепившийся за ветку, распутали, и жираф избавился от утомительного положения. Он совершенно не пострадал.
— Ну, Гендрик, — воскликнул счастливый, гордый Виллем, глядя на пленника, разве не лучше, что мы спасли беднягу, а не оставили его погибать мучительной смертью?
— Что и говорить, — ответил Гендрик. — Иной раз думаешь, что поступаешь глупо, а выходит — это вовсе не было глупо.
Виллему, довольному результатами своего упорства, было безразлично, глупо вел он себя или умно.
А Конго, видимо, нисколько не удивился удаче своего хозяина — быть может, потому, что слепо верил в мудрость Виллема и ни минуты не сомневался, что жираф будет найден.
Не было случая, чтобы у Виллема не оказалось при себе огнива или трута без своей трубки он дня прожить не мог, — и до самого рассвета у них ярко пылал костер.
Обратный путь был очень утомителен, но на сердце у них было куда легче, чем когда они отправлялись из лагеря на поиски бежавшего жирафа, возвращенного им счастливым случаем.
Глава 61
СРЕДИ ГОТТЕНТОТОВ
Когда Виллем и Гендрик наконец добрались до лагеря, друзья в тревоге ждали их.
Все лошади и быки были пойманы, а носорога, вызвавшего весь этот переполох, Ганс и Аренд пристрелили. Из-за его вторжения потеряли быка и на два дня задержались.
И вот наши любители приключений снова на пути домой. День за днем они быстро движутся вперед, и лишь страх, что могут пострадать их быки, лошади и жирафы, удерживает их от того, чтобы двигаться еще быстрее.
Однако по дороге охотников ждало еще немало бед, и несколько раз они едва не лишились обоих жирафов.
В краю, где жили готтентоты, путешественники не могли найти ни травинки, чтобы накормить животных, — здесь, на равнинах, порой вся трава бывает выжжена. На обожженной земле валялись останки сгоревших змей и других пресмыкающихся.
Проезжая эти места, охотники и их лошади сильно страдали от голода и жажды. Но Виллем, казалось, и не замечал лишений. Он заботился только о жирафах и боялся лишь одного: как бы они не погибли в пути. И все же во время этого утомительного путешествия охотников ежечасно радовало сознание, что они всё ближе к дому, что недалек конец их тяготам, и поэтому безропотно их сносили.
Последняя часть пути через Южную Африку вела далеко на запад, туда, где им еще не приходилось бывать. Они проезжали земли, населенные племенами, о которых нередко слышали или читали, но которых никогда не видали.
Впрочем, с некоторыми обычаями одного из этих злополучных племен, а именно с племенем готтентотов, наши путешественники однажды столкнулись, и эти обычаи произвели на них весьма тягостное впечатление.
Под тенью низкорослых деревьев они увидели старика и с ним ребенка немногим старше года. Старик, лет за семьдесят, был совершенно слеп; возле него стояла пустая тыквенная бутыль, по-видимому из-под воды.
С помощью Черныша — он служил им толмачом — путешественники узнали, что старик недавно потерял единственного сына и защитника. Теперь некому было его кормить, и его увели далеко от родной деревни и бросили в пустыне на верную смерть.
Ребенок лишился матери, единственного родного ему человека, и его оставили на произвол судьбы вместе со стариком и по той же причине: о нем некому было позаботиться.
Обоих, старика и ребенка, ждала неминуемая смерть. Они умерли бы от голода и жажды или их растерзали бы гиены.
Нашим путникам приходилось слышать об этом ужасном обычае, в существовании которого они сейчас воочию убедились. Они знали, что он был когда-то широко распространен среди обитателей тех мест, по которым они сейчас проезжали; но, как и тысячи других людей, они думали, что готтентоты, следуя наставлениям и примеру цивилизованных европейцев, давно уже отказались от этого варварского обычая.
Узнав, что селение готтентотов всего лишь в нескольких милях отсюда, и не желая предоставить беспомощного старика и ребенка их страшной участи, путешественники решили свезти их назад к людям, которые, по словам Черныша, «вышвырнули их вон».
Странно сказать: старик не только выражал желание умереть здесь, в пустыне, но всячески противился тому, чтобы его вернули к соотечественникам!
Он рассуждал так: раз он стар и беспомощен, как ребенок, то своей смертью он лишь выполнит долг перед общиной; стать бременем для людей, которые ему не родня, было бы, по его мнению, преступлением.
Охотники решили спасти старика, хотя бы против его воли.
Только к вечеру они добрались до селения, откуда эти несчастные были изгнаны. Среди всей общины не нашлось ни единого человека, который признал бы, что старик жил здесь раньше, и никто тут не имел ни малейшего представления, чей это ребенок!
Белым людям посоветовали отправить своих подопечных туда, где живут их родичи.
— Интересно, — сказал Гендрик. — Так мы можем объехать всю Южную Африку и не найти ни одного человека, который сознается, что когда-нибудь прежде видел этих несчастных. Теперь они наши, и, так или иначе, мы должны о них позаботиться.
— Ну, не знаю, — возразил Аренд. — Как мы можем взять это на себя? Я уверен, что они из этого племени, оно и должно о них заботиться.
Охотники снова попытались убедить жителей селения признаться в том, что они хотели уморить голодом двоих людей. Но те уже поняли, что белые считают их обычай преступным, и твердо стояли на своем — они знать не знают, кто такие эти двое.
Самое странное, что хилый старик подтвердил их слова и в доказательство сказал путешественникам, будто вождь и несколько других здешних людей — и он их назвал по имени — неспособны обманывать.
Он уверял, что хорошо знает это, потому что давно знаком с ними!
Охотники находились сейчас на территории, объявленной доминионом, и колониальное правительство нередко оказывало давление на ее обитателей; готтентотам пригрозили карой английского правосудия, если они не возьмут на себя заботу о старике и ребенке или снова бросят их одних в пустыне.
Готтентотам заявили, что через какой-нибудь месяц сюда пришлют человека проверить, послушались ли они приказания белых. И, поручив старика и ребенка вождю селения, путешественники отправились дальше.
Глава 62
У ОЧАГА НЕКОЕГО ГОЛЛАНДЦА
Спустя три или четыре дня наши охотники добрались до местности, где проживало несколько семей голландцев-буров. Путешественники ехали теперь по полосе земли, называвшейся здесь дорогой, от которой только и было толку, что между речками она вела кратчайшим путем от брода к броду.
Впервые за несколько месяцев они видели поля, возделанные белыми, и могли достать продукт питания, называемый хлебом.
Как-то вечером, когда они собирались разбить лагерь неподалеку от жилья какого-то, видимо, зажиточного бура, хозяин пригласил их переночевать у него в доме.
Почти весь день лил сильный, холодный дождь, и, судя по всему, нечего было ждать, что погода к ночи улучшится. Предложение было с удовольствием принято, и путешественники, сидя возле кухонного очага у бура, наслаждались уютом. Эту радость каждый из нас в большей или меньшей степени ощущает, находясь под теплым кровом, когда снаружи дует холодный ветер и льет дождь.
Лошадей и быков отвели в большие загоны. Жирафов привязали в другом месте, отдельно от них, Конго, Черныш и макололо поместились в хижине рядом, вместе с несколькими готтентотами, слугами хозяина-бура.
Хозяин был гостеприимный, веселый малый, он громко благодарил судьбу за то, что она послала нескольких гостей, чтобы развлечь его. Табак у него был самого лучшего качества, и запас «капского виски», местной персиковой водки, был, по-видимому, неистощим.
По его словам, он в молодости был отличным охотником, и для него нет большего удовольствия, чем рассказывать интересные случаи и приключения из своей охотничьей жизни или слушать рассказы других охотников. Наши герои, находил он, страдают одним недостатком: уж очень они мало пьют его хваленого виски.
Он был человек общительный и считал, что нет в жизни ничего лучше, чем, как он выразился, «клюкнуть» в компании с друзьями после долгого дня работы. Он заявил, что терпеть не может пить в одиночестве — нет ничего хуже этого, разве только вид человека, который пьет слишком много в обществе тех, кто отказывается отдать должное его радушию.
Если верить ему, он целый день без устали работал под дождем у себя на ферме. Почему бы ему и не повеселиться, в таком случае? А водка для этого самое подходящее дело. Он рад предоставить своим гостям все лучшее, что есть у него на ферме, и единственное вознаграждение, которого он ждет за свое гостеприимство, — это удовольствие видеть, что они чувствуют себя у него как дома.
Бур твердо решил напоить своих гостей допьяна, но они этого не замечали. Правда, им казалось, что его гостеприимство заходит слишком далеко — и даже становится назойливым. Но они наблюдали не раз такую навязчивость у людей, которые хотят быть как можно предупредительнее, а так как они это делают совершенно бескорыстно, им это прощают.
Виллем и его друзья хоть и натерпелись всяких лишений во время своих путешествий, не имели привычки злоупотреблять спиртными напитками, и горячие, настойчивые уговоры бура, к которым присоединилась его довольно красивая толстуха-жена, не заставили их изменить своему обыкновению. Бур казался очень огорченным оттого, что не умеет занять своих молодых гостей.
Однако наши охотники провели этот длинный вечер очень приятно, греясь у очага бура, хоть он и уверял, что они скучают.
Ужин, который им подали, оказался очень хорош. Здесь все было хорошо, если не считать кое-каких охотничьих рассказов бура. Хозяину так редко выпадало счастье принимать у себя гостей, что с их стороны было бы неблагодарностью лишить его этой радости, и, уступая его просьбам, они засиделись до поздней ночи.
За столом хозяин мимоходом завел разговор, не очень-то приятный для наших охотников. Осушив несколько стаканов виски, бур сказал:
— Мне очень шаль, что деньги за двух жирафов получите вы. Мои два брата и брат моей жены на этом проиграют. Мне их очень шаль, сами понимаете.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что с полгода назад два брата хозяина вместе с братом его супруги отправились на север охотиться. Они хотели добыть двух молодых жирафов, за которых была обещана награда в пятьсот фунтов стерлингов. Они собирались в страну баквейнов и взяли с собой слугу из того же племени. Они должны были вернуться еще месяц назад, и, хотя от них нет вестей, в любую минуту они могут быть здесь.
Вполне естественно, что бур предпочел бы, чтобы награду получили его родичи, а не чужие, люди, и то, что он так откровенно это высказал, говорило в его пользу. Гости приписали эту откровенность честности и прямоте его характера, к тому же водка развязала ему язык.
Только когда старые голландские часы в уголке кухни пробили два, молодым людям, ссылавшимся на усталость после долгого пути, разрешили отправиться на покой.
Их проводили в большую комнату, где для каждого была приготовлена удобная, мягкая постель. Утомительному путешествию, казалось, настал конец; они добрались уже до мест, где люди спят в постели, а не на жесткой земле и звезды не светят им прямо в лицо.
Глава 63
ЗАБРЕЛИ КУДА-НИБУДЬ ИЛИ УКРАДЕНЫ
Лишь в десять часов утра Ганс проснулся и разбудил своих спутников.
— Стыд какой! — воскликнул Виллем, торопливо одеваясь. — Мы слишком много выпили и заспались!
— Heт, — сказал Ганс, не упускавший случая показать, какой он философ. Скорее, мы должны гордиться тем, что, хоть выпили немного, водка на нас так сильно подействовала: это доказывает, что мы не привыкли к употреблению спиртных напитков, и надо, чтобы мы и впредь могли гордиться этим качеством.
Вскоре путешественники были опять в обществе хозяина и хозяйки, которые ждали, чтобы гости отдали должное роскошному, обильному завтраку, и все, кроме Виллема, сели за стол. Виллем не получил бы никакого удовольствия от еды, не взглянув раньше на свое сокровище, к которому проявлял куда больший интерес, чем его спутники, и не соглашался сесть за завтрак, пока не навестит своих милых жирафов.
Выйдя из дому, он направился туда, где под навесами были размещены на ночь слуги-туземцы и животные. В хижине, в которой он вечером оставил своих темнокожих спутников, он увидел грустную картину, доказывавшую, какое зло приносит неумеренное потребление спиртных напитков. Четверо макололо катались по полу и так тяжко стонали, словно находились при последнем издыхании. А тяжелое дыхание Черныша и Конго, больше привыкших к алкоголю, говорило о том, что они после ночной попойки крепко спят.
Виллем пинками быстро привел их в чувство; однако даже этот грубый способ не оказал никакого действия ни на одного из четверых макололо.
Конго вскочил, обхватил голову руками, словно стараясь удержать ее на плечах, и, пошатываясь, вышел вон. Виллем, убедившись, что в течение еще нескольких часов никакими силами нельзя будет заставить макололо ехать дальше, последовал за ним.
Подойдя к загону, где были привязаны жирафы, Виллем не на шутку встревожился — он увидел, как неузнаваемо исказилось лицо Конго.
Глаза кафра, казалось, готовы были выскочить из орбит. Лицо его ужасающе вытянулось — изумление и ужас, отразившиеся на нем, могли испугать кого угодно.
Виллему не требовалось объяснений. Достаточно было одного взгляда.
Жирафы исчезли!
Черныш и Конго обещали поочередно стеречь их, но, опьянев, пренебрегли своими обязанностями.
Виллем не проронил ни слова упрека. Надежда, страх и горе на минуту лишили его дара речи.
У него возникла смутная надежда, что кто-нибудь из слуг здешнего хозяина отвел жирафов в другое, быть может, более надежное место поблизости.
Эту надежду вытеснил страх, что их украли или что им удалось вырваться на свободу и теперь их уже не вернуть.
Охваченный горем и отчаянием, Виллем оказался все же достаточно рассудительным, чтобы даже в эти первые минуты винить в происшедшем самого себя. Он был так же беспечен, как эти два насмерть перепуганных человека, стоявших сейчас перед ним.
Разве можно было всецело предоставить заботу о том, чем он так дорожил, другим! Соблазнившись несколькими часами уюта и тепла, от которых он за последнее время отвык, он не потрудился присмотреть за своей драгоценной добычей, ради которой было потрачено столько усилий и времени! Почему он не прожил еще несколько дней так, как жил столько месяцев, — в мыслях и заботах о главном? Почему он не был настороже? Тогда все было бы хорошо.
Пять минут поисков между хижинами и загонами убедили Виллема, что жирафы действительно исчезли.
Найти их надо было во что бы то ни стало. Велев Чернышу и Конго дознаться, по возможности, о том, когда и как пропали жирафы, охотник в отчаянии вернулся в дом, чтобы сообщить своим спутникам о постигшем их всех несчастье.
Эта весть лишила их всякого аппетита. Великолепному завтраку, приготовленному супругой бура и ее темнокожими служанками, грозило остаться нетронутым. Все вскочили с места и кинулись к загону, где оставили жирафов на ночь.
Гостеприимный бур выразил глубокое сочувствие их несчастью и заявил, что готов целый месяц, если понадобится, вместе со всеми своими слугами искать пропавших жирафов.
— Вот что происходит, когда слишком напьются, — сказал он. — Я не пошалел водки моим людям, и они перепились; но больше они этого не сделают. Вылью теперь всю водку и никогда не стану покупать.
Один из жирафов был привязан к столбу в изгороди. Этот столб оказался не только вывороченным из земли, но и был выдернут из скреп вверху — он лежал на земле в шести — восьми шагах от прежнего места. Два соседних столба были повалены; таким образом, в ограде образовалась брешь, через которую жирафы свободно могли убежать. Если бы их, как обычно, привязали к деревьям, они бы не убежали: их удержали бы ремни, обмотанные вокруг шеи.
Возможно, навалившись на частокол, жирафы обрушили его и ремни соскользнули с упавших столбов. В этом случае жирафы, конечно, могли убежать. Но хотя такое объяснение казалось достаточно простым, наши путешественники все же заподозрили неладное.
За последнее время жирафы не пытались вырваться на свободу, и было странно, что им вдруг этого захотелось. Больше того: у обоих жирафов должен был быть общий, заранее обдуманный план действий, а уж такое вряд ли могло произойти.
Что бы там ни было, но они исчезли, и их следовало разыскать и привести назад.
Конго готовился уже отправиться на поиски, хотя мало рассчитывал на успех. Всю ночь лил дождь, и даже Следопыт не мог бы отыскать следы исчезнувших жирафов.
Более пятисот голов скота было заперто на ночь в большом загоне, примыкавшем к дому бура. А утром их снова выпустили на пастбище, и земля, разумеется, была повсюду истоптана копытами лошадей и рогатого скота. Целый час был потрачен, пока нашли след, с большей или меньшей вероятностью принадлежавший жирафам, но шел он по направлению к загонам. Конечно, след этот оставили жирафы, когда их накануне вечером вели туда.
— Что же нам теперь делать, Гендрик! — воскликнул Виллем, чуть не обезумевший от отчаяния. — Должны же жирафы где-то быть, и нам надо их найти!
— Они могли уйти в любую сторону, — ответил Гендрик. — Почему бы им не уйти в сторону Грааф-Рейнета?
Это замечание еще увеличило горе Виллема; он понял, что его товарищи вовсе не желают задерживаться с отъездом из-за случившегося несчастья.
Бур выразил готовность обеспечить охотников людьми и лошадьми для поисков, если они хотя бы приблизительно знают, в каком направлении следует искать беглецов.
Тут Ганс подал совет, показавшийся Виллему наиболее разумным из всех услышанных.
— Нашим недавним пленникам представилась возможность удрать, — сказал философ Ганс, — и они как нельзя лучше этим воспользовались. Ими, без сомнения, руководил инстинкт; и этот же инстинкт, надо полагать, заставит их вернуться назад, в родные места. Если уж их искать, то в той стороне, откуда они пришли.
— Мальшики мои, — вмешался бур, — что толку искать их там? Они не станут долго ждать, пока их опять поймают.
Того же мнения оказались Гендрик и Аренд.
— Конго, черномазый ты негодяй! — воскликнул Виллем. — Где наши жирафы? В какой стороне нам теперь их искать?
Растерянный кафр лищь покачал болевшей с похмелья головой.
Виллем крепко верил в инстинкт Конго и не удовлетворился столь туманным объяснением.
— Как думаешь, Конго, может, нам пойти обратно той дорогой, которой мы пришли сюда? — спросил Виллем.
Конго снова покачал головой.
— Ты чумазый идиот! — воскликнул, вконец расстроившись, охотник. — Ответь мне толком, брось качать башкой, не то я ее расшибу!
— Я теперь не могу думать, баас Виллем, — сказал Конго. — Голова моя совсем распухла, как я могу ответить вам на вопрос?
Гендрик, не желая еще больше расстраивать Виллема, предложил перейти от слов к делу.
— Ганс, ты остаешься здесь, — сказал Виллем. — Присмотришь за нашим имуществом. Остальные, если хотят, пусть следуют за мной, но тогда пусть тотчас садятся на лошадей. Я немедленно еду искать жирафов.
С этими словами Виллем побежал к конюшне, где стояла его лошадь. Он сам оседлал ее, вскочил в седло и быстро умчался.
Глава 64
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕНИ
Только Гендрик с Арендом, последовав примеру Виллема, помчались за ним. Бур, столько наобещавший, замешкался с приготовлениями, так что на его помощь нечего было рассчитывать. Все трое ускакали, не дожидаясь ни работников фермера, ни его слуг, хотя несколько человек околачивались тут же. Бур оправдывал свою медлительность тем, что никто не мог определенно сказать ему, в какую сторону убежали жирафы, а искать их где-нибудь на севере, когда они, может быть, забрели на юг, было бы просто глупо.
К великому удивлению охотников, Конго не поехал за Виллемом, а остался на ферме. Обычно он так неусыпно заботился о безопасности своего хозяина, так неохотно покидал его, что всех, кто его знал, его теперешнее поведение не могло не поразить. Ему предоставлялась свобода действий, ибо все знали, что, если лишить его этой привилегии, никакие усилия чего-либо от него добиться ни к чему не приведут. Его верность, его преданность Виллему настолько не вызывали сомнений, что никто почти никогда не проверял его поступков.
— Как только мы отъедем на милю, на две от дома бура, — сказал Гендрик, нам, может быть, удастся напасть на след жирафов. Бессмысленно искать их там, где прошло такое большое стадо. Но предположим, мы узнали, что идем по верному следу, что мы тогда станем делать, Виллем?
— Тогда мы пойдем по этому следу и будем идти до тех пор, пока не вернем себе жирафов, — ответил Виллем. — Я не надеялся бы опять схватить их, если бы не знал, что они теперь совсем ручные, — продолжал он. — Никак не ждал, что они убегут! Это все равно, как если бы моя лошадь вздумала удрать за сто миль в пустыню, чтобы от меня избавиться. Нет, мы разыщем жирафов, если будем настойчивы, а уж когда разыщем, они легко дадутся нам в руки.
Помня, как кротко и доверчиво вели себя последние три недели жирафы. Аренд и Гендрик не могли не согласиться, что Виллем прав. Все трое пришпорили лошадей, горячее прежнего мечтая напасть на след где-то блуждающих жирафов.
Земля, истоптанная скотом фермера-бура, осталась позади, и путешественники снова оказались на так называемой дороге, по которой проезжали накануне. На расстоянии целой мили при самом тщательном осмотре им не удалось обнаружить хотя бы намека на следы жирафов, взрослых или детенышей. Если бы они оставили следы вчера, их все равно невозможно было бы разглядеть в пыли. Дождь и скот, проходивший тут после, уничтожили бы их. Зато сейчас, на влажной земле новые отпечатки было бы легко разглядеть, но их не было, и охотники могли с уверенностью сказать, что сбежавшие жирафы этой дорогой не проходили.
После долгих разговоров, едва не кончившихся ссорой, так как Виллем не соглашался со своими спутниками, наконец решено было на большом расстоянии объехать вокруг дом бура.
Они рассчитывали таким образом неизбежно натолкнуться на следы жирафов. Другого выхода они не видели и медленно, с тяжелым сердцем, не зная, что их ждет, двинулись в путь.
Они пересекли местность, представлявшую собой скудное пастбище, — кое-где попадались клочки земли, поросшие чахлой травой. Недавно здесь проходило стадо рогатого скота и лошадей — взрослых, жеребят и телят, — и нередко взгляд улавливал на земле следы, так похожие на следы жирафов, что один из охотников слезал с лошади, чтобы хорошенько их разглядеть.
Медленная езда вконец извела Виллема. Его мучила мысль, что жирафы с каждой минутой уходят от них все дальше и дальше.
Наконец после двух часов таких поисков они натолкнулись на след, несомненно оставленный жирафом. Вскрикнув от радости, Виллем повернул коня и понесся по этому следу. След был совсем недавний — жираф прошел тут лишь несколько часов назад.
Люди, возбужденные какой-нибудь большой удачей или же большой неудачей, действуют порой не очень благоразумно.
Подумав так, Гендрик напомнил Виллему, что они отправились с целью найти след, но не затем, чтобы идти по нему; для этого им нужна помощь Конго со Следопытом, нужно запастись едой и всякими другими вещами, необходимыми для двух или трех дней пути.
Уверенный, что к тому времени, пока они доберутся до дома бура и вернутся назад, жирафы опередят их не меньше чем на десять — пятнадцать миль, Виллем счел доводы Гендрика нелепыми; он по-прежнему ехал по следу, словно не слышал их.
Гендрику и Аренду ничего другого не оставалось, как ехать за ним. Вскоре Аренд заметил, что следы слишком велики, чтобы они могли быть оставлены жирафом-детенышем.
— Все это твоя фантазия, — возразил Виллем, не задерживаясь.
— Но тут проходил только один жираф, — сказал Гендрик, когда они отъехали еще немного.
— Ну и что же? Нам некогда искать второго, — ответил Виллем. — Он не уйдет далеко от товарища, и мы, вероятно, найдем их вместе.
Слова Виллема не убедили его спутников. Они не сомневались, что преследуют только одного жирафа, вдобавок более крупного, чем те, которые у них пропали. Они снова отважились высказать свое мнение.
— Чепуха! — воскликнул Виллем. — В этих местах за последние десять лет не видели ни одного жирафа, кроме тех двух, которых мы сюда привели.
Это заявление мог бы подтвердить любой из поселенцев на целых сто миль вокруг. Тем не менее оно было неверно, и наши любители приключений вскоре в этом убедились.
Не успели они проехать еще милю, как перед ними смутно вырисовалось крупное туловище жирафа и голова на высокой шее. Увидев его, они пришпорили лошадей и понеслись навстречу.
Они были уже ярдах в трехстах от него, и только тогда жираф их заметил.
Началась погоня. Первые десять минут расстояние между охотниками и убегающим жирафом оставалось прежним.
Постепенно оно стало уменьшаться. Жираф, по-видимому, совсем изнемог, хотя бежал недолго; потом он попал в болото, где его стало засасывать в грязь. Он отчаянно старался удержаться на ногах, потом свалился на бок.
Подъехав ближе, преследователи поняли, почему так быстро закончилась охота за ним. Их только удивило, как этот жираф вообще в состоянии был бежать.
Это оказался старый самец, от которого остались лишь кожа да кости. Можно было подумать, что это последний из вымирающего рода жирафов. На спине у него и по всему телу виднелись шишки величиной с грецкий орех, следы старых ран, — видимо, в него стреляли из мушкета и пули сидели в его теле уже несколько лет. В боку у него торчал ржавый наконечник стрелы.
За ним, должно быть, охотились лет двадцать подряд, и сотни раз он был на волосок от смерти.
Его враг человек взял наконец верх и смотрел сейчас на его мучения, не торжествуя, а скорее с жалостью и состраданием.
Наши охотники не радовались, что нагнали и захватили животное, так долго боровшееся со смертью. Виллем, который воспрянул было духом, загоревшись надеждой вернуть пропавших жирафов, опять приуныл. На эту бесцельную погоню было затрачено много времени.
Он был не из тех, кто легко впадает в отчаяние, но теперь настоящее отчаяние овладело им. Близилась ночь, и, по всем признакам, очень темная. Движимый то ли жалостью, то ли досадой, он выпустил из своего ружья пулю в голову издыхающего жирафа и, вскочив в седло, повернул к дому бура.
Они попытались найти пропавших жирафов, но им не повезло. Наступает ночь. Сегодня ничего больше нельзя сделать, и Виллем объявил, что готов возвратиться в Грааф-Рейнет и умереть.
Он потерял всякую надежду и всякий интерес к жизни.
Гендрик и Аренд, хоть и сочувствовали ему в этой общей для всех беде, радостно переглянулись. Теперь можно будет вернуться домой.
Глава 65
ВЕСТОЧКА О ПРОПАВШИХ
Весь день небо было обложено тучами, они не рассеялись и после захода солнца. Спустилась ночь, и стало темно, как в аду.
Решив, что нет смысла возвращаться на ночь в дом бура, за десять-пятнадцать миль, разочарованные следопыты привязали лошадей к колышку и стали ждать утра.
Ночь они провели беспокойно, дремля у костра; на огонь его слетались крупные мотыльки, явилось и несколько гиен, которые противно хохотали, словно издевались над охотниками в их горе. Они находились сейчас в такой части страны, которую, казалось, покинули все благородные звери и где остались лишь самые презренные.
Занялась заря, и путешественники сели на лошадей и направились к ферме бура.
Милях в пяти от дома бура они встретили двух незнакомых всадников.
— Тоброе утро, тшентльмены! — приветствовал их один из незнакомцев, подъехав близко. — Ошень рат встретить людей на этой дороге. Вы не видели наших лошатей?
— Каких — тех, на которых вы едете? — спросил Гендрик.
— Нет, не этих, у нас еще пять лошатей. Вернее, три коня и тве кобыли — все они без сетел, без узтечек: у рыжего коня отин глаз и белое пятно на левой затней ноге, у одной кобыли — звезточка на лбу и…
— Нет, — прервал его Гендрик, — мы выехали вчера утром, но не видели никаких заблудившихся лошадей, ни единой лошади, кроме тех, которые под нами.
— Значит, нам незачем искать их в той стороне, где вы были, — заметил второй всадник, правильно произнося слова по-английски. — Не скажете ли вы нам, откуда вы едете?
Гендрик рассказал коротко историю их путешествия за последние сутки и, между прочим, упомянул, что ездили они искать пропавших жирафов.
— Если вы ездили за этим, — сказал всадник, который говорил на правильном английском языке, — мы можем кое-чем вам помочь. Как я понял из ваших слов, вы остановились у минхера ван Ормона. Вчера мы искали своих лошадей милях в десяти южнее его фермы и видели там двух жирафов. Первый раз в жизни я увидел жирафов. Под нами были плохие лошади, и мы подготовились к охоте только за своими пропавшими лошадьми, а то бы мы погнались за жирафами.
— В десяти милях южнее фермы! — воскликнул Виллем. — А мы-то их ищем в двадцати милях севернее! Ну и дураки же мы! Что делали жирафы? возбужденно спросил он, обращаясь к человеку, снова пробудившему в нем сладостную надежду. — Они паслись или бежали?
— Они шли рысцой к югу, но, увидев нас, побежали быстрее. Мы находились от них в четверти мили, не дальше.
От нетерпения нашим путешественникам не стоялось на месте. Получив еще несколько указаний, они попрощались с незнакомцами и поспешили к дому бура.
Первым, кого они встретили в воротах, был минхер ван Ормон.
— Я вишу, вас постигла неутача, мальшики мои, — сказал голландец, когда они подъехали. — Я знал, что так будет. Ширафы слишком талеко от вас ушли.
— Да, слишком далеко на юг, — ответил Виллем. — Но мы получили о них кое-какие сведения и немедленно должны ехать. Где наши спутники?
— Они ушли отсюда фчера утром тута, где есть трава для быков. Теперь они ждут вас на юге.
— Отлично, — заметил Гендрик. — Надо скорее ехать к ним, только сначала, я думаю, не мешало бы слегка подкрепиться. Я умираю от голода. Минхер ван Ормон, нам снова придется злоупотребить вашим гостеприимством.
— Пошалуйста, мальшики мои, это отно утовольствие тля меня. А кто сказал, что я ван Ормон?
— Те самые люди, что сказали нам про жирафов. Они искали пропавших лошадей.
— Это, толжно быть, мой сосед Клоотс, он шивет в пятнатцати милях отсюда на восток. Так они сказали, что вители ширафов? Где и когта они их вители?
— Вчера утром, милях в десяти к югу, как они сказали.
— Может, они отправились в Грааф-Рейнет перетать, что вы туда етете? Хе-хе! Это ошень таже хорошо, — засмеялся бур.
Потом он повел гостей к дому. По дороге, проходя мимо одной из хижин, охотник с удивлением заметил Конго, быстро скрывшегося за углом.
Для Конго эта встреча была, видимо, неожиданной и нежелательной, так как он повернул назад с явным намерением их избежать.
Опять загадка.
— Эй, Конго, поди сюда! — крикнул Виллем. — Почему ты здесь? Почему не со всеми остальными?
Конго ничего не ответил и прошмыгнул в хижину.
Бур принялся объяснять, что кафр захотел служить у него, — сказал, что не пойдет дальше со своими прежними хозяевами, так как они обрушились на него за то, что он упустил жирафов. Сам он, ван Ормон, на это странное решение Конго ничем не повлиял.
— Этого не может быть, — сказал Виллем. — Здесь какая-то ошибка. Он врет, если сказал, что мы его побили. Я, возможно, ругал его, да, сознаюсь, но я не знал, что он так чувствителен. Мне жаль, если я его обидел, и я готов извиниться.
Минхер ван Ормон подошел к двери хижины и приказал Конго выйти.
Как только Конго показался в дверях, Виллем извинился за грубые слова, которые он сказал, и, обращаясь к нему, как к другу, просил забыть об этом, простить его и вернуться вместе с ними в Грааф-Рейнет.
Во время этого разговора бур проницательно смотрел то на хозяина, то на слугу, словно знал, чем разговор закончится. И в глазах его блеснула радость, когда Конго заявил, что предпочитает остаться у нового хозяина, и только просит Виллема заплатить ему за прежнюю службу.
Будь Конго одним из его братьев, Гансом или Гендриком ван Блоомом, Виллем не мог бы горячее добиваться примирения. Наконец, выведенный из себя необъяснимым поведением своего старого слуги, он с презрением от него отвернулся и вместе с Гендриком и Арендом вошел в дом.
Приказав подать гостям холодной говядины, каравай темного хлеба и бутылку капского вина, бур опять вышел. Он поспешно направился к одному из загонов, где слуга-готтентот седлал лошадь.
— Пит, — торопливо сказал хозяин, — скорее, паренек, сатись на лошать и скачи на север, пока не встретишь моего брата и Тшеймса. Скажи им, чтоб еще час не потходили к дому ближе чем на полмили. Шивее отправляйся!
Через две минуты готтентот был уже в седле и мчался в указанную ему сторону.
Утолив голод, поблагодарив хозяина и его толстуху-жену за гостеприимство и пожелав им всего доброго, охотники поскакали к югу. Им не терпелось скорее встретиться с Гансом и вновь отправиться на поиски жирафов.
Глава 66
ПОЧЕМУ КОНГО ОКАЗАЛСЯ ИЗМЕННИКОМ
Не желая больше злоупотреблять гостеприимством минхера ван Ормона, Ганс покинул его дом, намереваясь разбить где-нибудь неподалеку лагерь и ждать там возвращения товарищей.
Бур не очень его отговаривал, и Ганс пошел к макололо, чтобы подготовить их к переезду. Они все еще чувствовали себя скверно после первого в их жизни опьянения, и, войдя в хижину, где они провели ночь, Ганс застал их преисполненными того особого раскаяния, которое приводит к твердому решению никогда больше не брать в рот спиртного.
Когда макололо сказали о пропаже жирафов, казалось, угрызения совести привели их в неистовство, а один из них рвал на себе свои курчавые волосы и все твердил:
— Комби! Комби!
Ганс знал, что так называется распространенный у макололо смертельный яд.
Эти четверо несчастных всецело винили себя за проиажу жирафов и были, как видно, благодарны, что после этого их все-таки оставили в живых.
Когда лошадей и быков уже навьючили и все было готово, чтобы тронуться в путь, Конго заявил о своем решении остаться.
— Что это значит, Конго? — спросил Ганс. — Ты сердишься на хозяина за то, что он тебя ругал? Забудь об этом. Он не хотел обидеть тебя. Что же ты думаешь делать?
— Не знаю, баас Ганс, — угрюмо ответил Конго. — Ничего не знаю.
Уверенный, что Конго злится лишь на себя за свое поведение прошлой ночью и что он скоро остынет, Ганс не пытался его переубедить. Он уехал вместе с Чернышем и макололо, которые гнали быков, а Конго со своей собакой остался.
Ганс направился к югу: в этой стороне трава была лучше. Милях в пяти от дома бура он нашел рощу, через которую протекал ручеек. На его берегу Ганс решил разбить лагерь и дождаться возвращения товарищей.
Он покинул дом бура неожиданно и, пожалуй, даже несколько бесцеремонно, и, если бы у него потребовали объяснений, почему он так сделал, он привел бы какие-то самому ему неясные и малоубедительные доводы, и все же они у него были. Прежде всего ему хотелось увести макололо, всецело оставленных на его попечение, от искушения снова приложиться к капской водке.
Однако это опасение было совершенно неосновательно — посланцев Макоры, даже если бы они уже избавились от головной боли и перестали терзаться угрызениями совести, ничто не заставило бы сейчас снова напиться.
У Ганса, философа по складу характера, было сколько угодно терпения. Черныш и макололо нуждались в покое, чтобы прийти в себя после вчерашнего пьянства. Быкам и лошадям не мешало пожевать травки, буйно росшей на берегах ручья. Все, таким образом, могли бы недурно провести день, поджидая товарищей.
Настала ночь, всех лошадей и быков согнали вместе, и они, по обыкновению к этому их давно приучили, — улеглись поближе к большому костру, разложенному на опушке рощи.
Ночь прошла без каких-либо происшествий, но на рассвете всех разбудил лай собаки, и вскоре их приветствовал знакомый голос.
То был Конго.
— Я знал, что ты лучшего мнения о нас и вернешься! — сказал Ганс, обрадовавшись, что опять видит перед собой верного кафра.
— Да, я пришел, — ответил Конго, — только я не останусь. Я опять уйду.
— Что ты? Зачем же ты, в таком случае, пришел?
— Чтоб увидеть бааса Виллема, а его тут нет. Скажите ему, когда вернется, чтоб ждал Конго. Скажите, чтоб ждал два дня, четыре дня, чтоб ждал, пока Конго не вернется.
— Но Виллем побывает у бура до того, как придет сюда, и ты сам его увидишь.
— Нет, я, верно, уйду с быками бура. Я теперь у него работаю. Скажите баасу Виллему, чтоб ждал Конго.
— Я, конечно, скажу ему, — ответил Ганс, — но ты что-то от меня скрываешь. Зачем тебе нужно видеть твоего хозяина, если ты так на него обижен, что покинул его? Отчего ты не идешь с нами?
— Не знаю, — был неопределенный ответ. — Этот дурак Конго ничего не знает.
— Мне надо что-то сказать про Конго, — вмешался Черныш. — Конго всегда говорит правду. И теперь говорит правду.
Кафр улыбнулся, видимо довольный замечанием Черныша.
Попросив еще раз передать Виллему, чтобы тот его ждал, Конго поспешно ушел вместе со Следопытом.
В его поведении была какая-то тайна, и Ганс не понимал, в чем тут дело. Оставалось согласиться с объяснением самого Конго. По-видимому, он действительно глуп — во всяком случае, поступает очень глупо.
С наступлением утра Ганс начал верить, что поиски следопытов увенчались успехом. Должно быть, они напали на след жирафов и пошли по нему, иначе они давно бы уже вернулись.
Зная Виллема, Ганс был уверен, что, если тот напал на след, он не остановится и будет идти дальше, пока у него хватит сил. Жирафы сделались совсем ручными. Почему бы и на самом деле их опять не поймать? Однако в полдень надежды рухнули — Виллем и его друзья вернулись с пустыми руками.
— Вам не повезло, — сказал Ганс, кегда они подъехали, — но ничего, не все еще потеряно; у нас есть надежда благополучно возвратиться домой.
— У нас есть и другая надежда, — возразил Виллем. — К нам дошла весть о жирафах. Вчера утром их видели милях в десяти к югу отсюда. Без них нам нельзя вернуться домой. Мы не охотники, если их не поймаем! Надо немедленно пуститься вдогонку.
Чернышу и макололо приказали гнать быков, и все стали собираться в дорогу.
Когда навьючили быков и лошадей. Виллем сказал:
— Нам будет сильно недоставать Конго и Следопыта. Без них нам будет худо.
— Ах да, чуть не забыл тебе сказать! — воскликнул Ганс. — Конго утром был здесь и просил передать, чтобы ты его ждал. Он очень хотел тебя видеть и сказал, чтобы ты его ждал четыре дня, а то и больше, если он за это время с тобой не свидится.
— К счастью, ради этого не стоит задерживаться, — заметил Виллем. — Я только что виделся с этим неблагодарным негодяем — всего полчаса назад.
— Вот как? И чего же он хотел?
— Только получить с меня жалованье, которое я задолжал ему за последний год службы. Никогда в жизни я так не обманывался в человеке! Ни за что бы не поверил, что Конго способен стать изменником и сбежать от меня.
На этом разговор кончился, так как все занялись приготовлениями к отъезду.
Глава 67
ТЬМУ ПРОРЕЗАЕТ СВЕТ
Спустя полчаса охотники поехали дальше.
— Жаль, что нам пришлось расстаться с Конго, — сказал Виллем, когда быков перегоняли через речку. — Я, правда, нисколько не жалею об этом неблагодарном негодяе, но, боюсь, без него мы не сможем напасть на след жирафов. Он и Следопыт были бы для нас теперь неоценимы.
— Я думаю, жирафы вряд ли найдутся, — заметил его брат. — Мы сейчас в населенных местах, и здесь им не знать покоя. Или они быстро отсюда удерут, или первый встречный подстрелит их.
— Я уже думал об этом, — заметил Виллем. — Но еще день-другой я хочу надеяться. Мне легче будет перенести эту потерю, если никому не удастся получить обещанную награду. Но бур говорил, что его брат отправился в такую же экспедицию, как мы, и, если он добудет жирафов, у меня пропадет всякое желание жить.
Они не успели еще далеко уйти, как все заметили, что с Чернышем творится что-то неладное. Похоже было, что он намерен вернуться назад. Он бормотал про себя что-то невнятное, как делал обычно, когда был чем-нибудь смущен или раздражен. Наконец, не справившись с охватившим его волнением, он подъехал к Виллему и спросил:
— Что вы такое сейчас сказали, баас Виллем, про брата того голландца?
— Право, не помню, Черныш, — ответил Виллем. — Кажется, сказал, что он тоже отправился за жирафами и награду получим не мы, а он. Почему ты спрашиваешь?
— Разве они тоже пошли на север, как мы?
— Да, так сказал бур.
— И давно?
— Мне помнится, он говорил — с полгода назад.
— Что же мне раньше не сказали?
На этот вопрос Виллем не счел нужным отвечать, и на несколько минут Черныш был предоставлен своим мыслям.
Но вот он снова заговорил.
— Баас Виллем, — сказал он, — давайте-ка остановимся и потолкуем немножко. Дурак-то не Конго, а Черныш. Это я дурак, верно вам говорю.
— Хорошо, но для чего же нам останавливаться и о чем говорить? — спросил Виллем.
— Брат этого бура ведь вернулся с севера. Он там не поймал никаких жирафов, — ответил Черныш. — Зато теперь, наверно, уже добыл.
И тут Ганса, прислушивавшегося к этому разговору, как будто осенило. Загадочное поведение Конго стало для него куда яснее.
Последовал приказ немедленно остановиться, и все окружили Черныша.
Чуть ли не двадцать минут охотники вытягивали у Черныша все, что он мог сообщить. Его забросали чуть ли не сотней вопросов и из его ответов узнали, что в хижине, где Конго и макололо так весело провели время, они видели одного готтентота, возвратившегося недавно из поездки на север.
Черныш об этом догадался по тем нескольким словам, которые этот человек пробормотал, опьянев от водки.
Потом его вызвали из хижины, и Черныш больше не видел его и не вспоминал о сказанных им словах.
Теперь, когда он услышал, что у бура есть брат, отправившийся на север охотиться на жирафов, у него мелькнула мысль, что пьяный готтентот ездил туда не один.
По всей вероятности, он сопровождал экспедицию. Экспедиция эта не удалась, и братья бура украли тех двух жирафов, которых теперь ищут хозяева Черныша.
Чем больше размышляли охотники над этим предположением, тем более вероятным оно казалось.
Несомненно, Конго заподозрил что-то неладное, но свои сомнения держал при себе, боясь ошибиться.
Не задержался ли он у бура в надежде узнать правду? То, что он нагрубил прежнему хозяину в присутствии бура, могло быть уловкой: он хотел обмануть бура, чтобы получить возможность узнать, что тот замыслил. Все это вполне соответствовало характеру Конго, и Виллем был очень рад, что именно этим и объясняется его поступок.
— В последний раз, когда я видел его, — сказал Виллем, — я подумал, что он ведет себя не совсем так, как вел бы себя предатель. Я теперь вижу, что все мы оказались дураками. Надеюсь, что так. Я немедленно возвращаюсь, чтобы повидаться с Конго. Я попрошу у него объяснения. Он мне все скажет, если бура при этом не будет.
— У меня возникла другая мысль, — сказал Гендрик. — Те двое, что искали своих лошадей и сказали, будто видели наших жирафов на юге, соврали. Не похожи они были на людей, которые говорят правду. Теперь я понимаю: мы оказались простаками, нас ничего не стоило обмануть. Эти люди — братья бура, они-то нас и обворовали.
— Ты прав, — сказал Ганс, — а минхер ван Ормон помогал им. Вот чем объясняется его радушие и гостеприимство! Нас действительно провели, как последних дураков.
Теперь никто уже не сомневался, что жирафов украли бур и его братья, и наших охотников это даже обрадовало. Куда утешительнее, что животных украли, чем если бы они блуждали невесть где. Теперь больше надежды найти их.
Мы легче верим в то, во что больше всего хотим верить, и все согласились, что принадлежавших им жирафов тайком увели из загона.
Не обмолвившись больше ни словом, Виллем повернул коня и поскакал обратно к ферме ван Ормона.
Бур встретил его за воротами и явно удивился возвращению своего гостя. Виллем сразу заметил, что его появление совсем некстати. Лицо бура выражало недовольство, и во взгляде его мелькнула тревога.
— Я вернулся, чтобы поговорить со своим прежним слугой, — сказал Виллем. Он прослужил у меня много лет, и мне не хочется расстаться с ним из-за пустяков.
— Ошень хорошо, — ответил ван Ормон. — Мошете его повитать, когта он вернется. Он погнал быков. Возьмите его с собой, когта бутете уезшать, если хотите.
Солнце клонилось к закату, и Виллем знал, что Конго должен скоро пригнать стадо. Он отъехал от дома, рассчитывая встретить его. Вскоре на равнине действительно показалось большое стадо, и, объехав его, Виллем увидел Конго и с ним двух готтентотов.
Конго ни слова не сказал своему прежнему хозяину в прлсутствии посторонних; он был всецело занят стадом, словно не замечал Виллема.
«Мы ошиблись в своих предположениях, — подумал Виллем. — Конго в самом деле изменил мне. Ни один человек не сумел бы так притворяться. Я могу ехать обратно».
Он хотел уже повернуть назад, когда Конго, заметив, что готтентоты ушли на несколько шагов вперед и разговаривают между собой, пробормотал:
— Уезжайте, баас Виллем, ждите меня в лагере. Я буду там завтра утром.
Виллем несказанно обрадовался. Этих слов было достаточно, чтобы убедить его в верности Конго — в том, что он старается для них и все кончится хорошо. Охотник вернулся к друзьям веселый и счастливый — таким он был два дня назад, когда сидел у очага хозяина-бура, слегка навеселе ет выпитой водки.
Глава 68
КАФР УЗНАЕТ СЛИШКОМ МНОГО
Узнав об исчезновении жирафов, Конго решил, что в этом больше всех виноват он сам. Совесть говорила ему, что он пренебрег своими обязанностями. Сожаление о случившемся преисполнило его твёрдой решимости сделать все, что только можно, чтобы найти пропавших жирафов. Осматривая пролом в изгороди, через который они убежали, он усомнился в том, что они сами сломали ее. Они могли выворотить столбы, налегши на них всей тяжестью тела, но тогда он услыхал бы шум, так как жирафы находились ярдах в десяти от хижины, где он спал. Столбы, к которым жирафы были привязаны, лежали тут же, а ведь если бы их вывернули животные, стараясь сорваться с привязи, они оттащили бы столбы в сторону. Конго заподозрил, что столбы повалены были человеческими руками; но так как его спутники, видимо, не думали этого, он решил, что, должно быть, ошибается. Оттого он и утаил свои подозрения. Он мог сказать, что услышал бы, если бы изгородь действительно повалили жирафы, но тогда ему бы ответили: «Ты был так пьян, что ничего не слышал», — и его словам не придали бы значения. Но он знал, что был не настолько пьян.
Он заметил и еще кое-что, подкрепившее его подозрения. Ему вспомнился готтентот, хваставший спьяну, что он недавно вернулся с севера, где видел, как охотились на жирафов и как их убивали. Конго слышал, что готтентота вызвал из хижины человек, говоривший по-английски не чисто, а как бур. Но это не был голос здешнего хозяина, которого Конго видел в начале вечера, а так как других белых, кроме хозяина, он здесь не видал, значит, появился кто-то еще.
Но и это еще не все: ведь, помимо жирафов, пропало также несколько верховых лошадей из тех, что стояли прошлой ночью в стойлах. Вот почему Конго решил остаться здесь и наблюдать. Он притворился, будто хочет наняться к буру на службу, и тот согласился взять его.
Каждый день случалось нечто такое, что подтверждало подозрения Конго. Он заметил, как готтентота куда-то услали, пока Виллем, Гендрик и Аренд завтракали в доме, а когда они уехали с фермы, прибыли двое белых, которые вели себя здесь как дома. Конго подумал, что эти люди были здесь и в ночь, когда исчезли жирафы, и заподозрил в них воров. Он видел, как они опять отправились в ту сторону, откуда приехали, снаряженные словно для охоты или далекой поездки. Он хотел было пойти следом за ними, но не отважился, боясь, как бы бур, хозяин фермы, его не заметил и не заподозрил что-нибудь.
Думая, что за ночь эти люди далеко не уйдут, Конго решил выследить их на следующее утро. Едва рассвело, он незаметно выбрался из сарая, где провел ночь; напав на их след, он двинулся по нему и увидел вскоре то, что убедило его в справедливости всех подозрений.
Пройдя еще миль десять, Конго оказался среди нескольких гряд крутых холмов, между которыми зияли узкие, глубокие ущелья. Он взобрался на вершину одного из холмов и увидел поднимавшийся из ущелья дымок.
Швырнув на землю шляпу, он приказал собаке ее сторожить, а сам, крадучись, пополз на дымок и вскоре разглядел, откуда он поднимается. Укрытый в тени густых деревьев, горел костер, словно там расположились на отдых охотники.
Увидев животных, которые были привязаны к деревьям, Конго понял, что люди, разложившие костер, не охотники, а воры. К деревьям были привязаны два жирафа — те самые, которых Конго погонял сотни миль.
Вопреки его ожиданиям, жирафов стерег только один человек, и это не был один из тех двоих, которых Конго видел накануне вечером в доме ван Ормона. Должно быть, люди, которых он выслеживал, приходили в лагерь, а потом опять ушли. Но их отсутствие не имело для него большого значения. Жирафы находились здесь, и больше ему ничего не нужно было. Теперь он мог уйти и привести сюда настоящих хозяев, а уж они сумеют отстоять свою собственность. И если бы те двое, которых он выслеживал, были у костра в лагере, ему удалось бы выполнить свой план. Но, к несчастью, их здесь не оказалось.
Запомнив все приметы этого места, Конго повернулся, чтобы уйти.
Не успел он сделать и двадцати шагов, как услышал выстрел. Следом за выстрелом донесся жалобный вой — это взвыл Следопыт. В это же мгновение из кустов, росших на гребне холма, вынырнули два всадника. С одного взгляда он узнал, в них тех самых людей, которых видел накануне вечером у ван Ормона. Их-то он и выслеживал.
Присев в кустах, он попытался спрятаться, но это ему не удалось.
Один из всадников что-то крикнул, и Конго понял, что его увидели, а вскоре быстрый топот копыт сказал ему, что всадники скачут к месту, где он спрятался. Он не надеялся удрать от них, хотя бегал быстро; все же инстинктивно он кинулся бежать. Пока он мчался вниз по крутому склону, всадники не могли его нагнать. Однако на ровном месте они быстро поравнялись с ним, и этой погоне был сразу положен конец; один из преследователей ударил Конго сзади прикладом ружья — и он свалился ничком.
Глава 69
КОНГО — ПЛЕННИК
Всадники с торжествующим криком осадили коней.
— Что же это ты остановился? — спросил человек, ударивший Конго. — Что не бежишь дальше? — добавил он с дьявольской усмешкой, склонившись над упавшим.
— Да, да, почему ты не бешишь рассказать этим дурням, где их ширафы? Почему ты остановился? — спросил второй.
К лежавшему на земле почти без чувств Конго обращались те самые люди, которые за два дня до этого попались навстречу Виллему, Аренду и Гендрику, — люди, направившие их на юг искать жирафов. Один из них приходился братом минхеру ван Ормону, другой — братом его жене. Они были из тех людей, которые долгие годы жили на границе колонии и занимались отчасти тем, что нападали на туземцев и грабили их скот, а отчасти тем, что скупали у местных жителей страусовые перья и слоновую кость. Они только недавно возвратились из неудачной экспедиции на север, которую предприняли с целью добыть молодых жирафов и получить за них награду, обещанную голландским консулом. Когда они увидели в краале у своего родича ван Ормона тех самых животных, которых они тщетно пытались добыть, потратив столько усилий и времени, они не устояли перед соблазном присвоить их. Они решили спрятать жирафов среди холмов и держать там до тех пор, пока владельцы не откажутся от поисков и не вернутся домой.
Тогда они смогли бы отвести жирафов в Кейптаун и передать их консулу, а прежние владельцы так и не узнали бы, как ловко их провели.
К несчастью для Конго, в это утро они вышли подстрелить какую-нибудь дичь на завтрак и возвращались как раз в то время, когда он следил за их лагерем.
— Это тот негодяй, что прикинулся, будто поссорился со своим прежним хозяином, — сказал человек, который сбил Конго с ног. — Я советовал ван Ормону отослать его со всей компанией, но он был уверен, что кафр не хочет им помогать и не сумел бы, если бы даже хотел. По глупости ван Ормона, наш план чуть не сорвался. Хорошо, что мы поспели вовремя и поймали этого черномазого. Но что теперь с ним делать?
— Убьем его, — ответил второй, брат ван Ормона. — Нельзя, чтобы он вернулся к белым. Они придут и все у нас отнимут.
— Вполне возможно. Бывают скверные люди, способные на все. Но я уже наполовину его убил, теперь твой черед — прикончи его, если хочешь.
— Нет, Джеймс, ты начал, тебе лучше и кончить это дельце.
Конго попал в руки гнусных негодяев, однако ни один из них не хотел нанести последний удар; так и не решив, что делать с Конго, они связали ему руки за спиной.
Потом они помогли ему подняться и повели его, шатающегося, словно пьяный, к себе в лагерь.
Немного оправившись от удара, Конго понял, в какую беду он попал. Из их разговоров он догадался, что его хотят убрать с дороги. А их свирепые взгляды и жесты говорили ему, что жизнь его висит на волоске. Люди, которым он попался в руки, не отпустят его. Он слишком много знает, и они не оставят его в живых. Нечего рассчитывать на помощь хозяина и его товарищей — они ждут его далеко отсюда.
— Так вот какая дичь вам досталась! — воскликнул человек, сидевший у костра, когда эти двое подъехали, волоча за собой пленника.
— Да, а раз ты повар, приготовь ее нам на обед, — ответил тот, которого звали Джеймс.
— Что все это значит? — спросил человек, сидевший у костра.
— Только то, что мы поймали шпиона. Он выследил нас, но не успел еще навредить. Нам повезло, и теперь все будет в порядке. Можешь не сомневаться, ведь мы его схватили.
Негодяи долго совещались между собой и единодушно решили, что пленника надо убить. Нельзя оставить его в живых. В конце концов они попадутся, даже если годами будут держать его в неволе. Ему надо заткнуть глотку навсегда. Есть лишь один способ заставить его молчать: не дать ему уйти отсюда живым.
И все же они не могли на это решиться. Они не знали, предпринял Конго слежку на свой страх и риск или с ведома и по наущению своих хозяев. В первом случае его можно убить, не опасаясь последствий, но, если о его затее знают, им грозит большая опасность. Один из троих — брат ван Ормона заявил, что вернется домой и, по возможности, проверит, как обстоит дело. Остальные двое охотно на это согласились. И, вскочив на лошадь, брат ван Ормона помчался к ферме своего родича. Как только он уехал, двое оставшихся привязали Конго к дереву и, усевшись в тени акаций, занялись игрой в карты.
Прошло четыре часа — эти часы показались Конго днями. Его мучения были ужасны. Ремни, которыми его руки были привязаны к дереву, врезались в тело, и к тому же душу его терзало сознание, что жить ему осталось недолго.
Впрочем, его мучила не столько боязнь смерти, сколько горячее желание что-либо узнать о судьбе спутников и желание, чтобы Виллем нашел своих жирафов. Теперь он жалел, что не поделился с молодым хозяином своими подозрениями, когда видел его в последний раз. Это уберегло бы охотников от потери жирафов, а его самого — от страшной участи, которая ему сейчас угрожала. Но теперь поздно было сожалеть об этом. Он старался сделать лучше, а получилось хуже.
В полдень брат Ормона вернулся в лагерь.
— Ну, какие новости? — спросил его Джеймс, едва тот подъехал настолько близко, что его можно было услышать.
— Все в порядке. Они нишего не знают. Мой брат велел следить за их лагерем. Они совсем растерялись и скоро уедут домой.
— А ван Ормон уверен, что они не виделись с этим кафром? — спросил Джеймс.
— Виделись. Вчера один из них заявился к брату в дом и виделся с этим малым. Но чернокожий ни одного слова не сказал ему. С них не спускали глаз, пока они были вместе.
— Тогда, может быть, не так уж все благополучно, как ты говоришь. У них тоже могли возникнуть подозрения, как у этого кафра. Какого черта они тянут с отъездом? Не нравится мне, что они так долго околачиваются здесь.
— Уверяю тебя, Джеймс, все обстоит хорошо. Надо только избавиться от этого шпиона. Одно нужно: чтоб он никогда больше не свиделся со своими болванами хозяевами. Что нам с ним делать?
— Всадить в него пулю, — сказал человек, оставшийся стеречь жирафов.
— Да, так или иначе, а убить его необходимо, — подхватил Джеймс. — Только кто из нас это сделает? Жалко, что мы его не пристрелили, когда он удирал от нас. Это было бы в самую пору. Теперь, когда я поостыл, мне не хочется этого делать.
Как ни гнусны были эти негодяи, им не хотелось хладнокровно убить человека. Они решили, что Конго должен умереть, но ни один из них не желал убить его своими руками.
После долгих пререканий и споров брату ван Ормона пришла вдруг в голову блестящая мысль. Он предложил отвести пленника к озерку, находившемуся в ущелье на некотором расстоянии отсюда, привязать к дереву и оставить там на всю ночь.
— Я каждое утро вижу там львиные следы, — сказал он с дьявольской усмешкой. — Головой ручаюсь, что мы найдем завтра вместо этого черномазого лишь пятна крови.
Такой план всем понравился, и перед заходом солнца они освободили Конго от пут, свели вниз по узкой долине и крепко привязали к деревцу, росшему у самой воды.
Чтобы его не услышал и не освободил какой-нибудь случайный прохожий, они сунули Конго в зубы палку, а концы ее, торчавшие по углам рта, закрепили с обеих сторон куском ремня и тугим узлом стянули ремень у него на затылке.
Проверив прочность этого кляпа, жестокие тюремщики насмешливо раскланялись со своим пленником, пожелали ему «всего хорошего» и зашагали к лагерю.
Глава 70
СХВАТКА У КОСТРА
Виллем с тревогой ждал наступления утра и обещанного прихода Конго.
Но наступило утро, потом день, а Конго все не было. Виллема охватило нетерпение, и он не мог больше оставаться в лагере.
— Ждать больше нельзя! — воскликнул он, увидев, что солнце клонится к закату. — Мы не должны сидеть сложа руки. Что, если Конго просто не может прийти? Конечно, не может, а то он давно был бы здесь. Мы должны его разыскать. Только незачем ехать всем сразу. Гендрик, едешь со мной?
Гендрик охотно согласился. Оба сели на лошадей и двинулись к дому ван Ормона.
По тому, как вел себя в последний раз Конго, Виллем понял, что его посещения фермы нежелательны. Вероятно, Конго думал, что они помешают его планам и навлекут на него подозрения.
Однако Виллем решил, что попытается еще раз увидеться с кафром.
Конго нарушил обещание, и это доказывало, что с ним что-то произошло.
Теперь, когда они снова посетили минхера ван Ормона, этот джентльмен не стал с ними церемониться и откинул в сторону всякую вежливость.
— Шерномазый негодяй, которого вы зовете Конго, — сказал он, — ушел отсюда вшера ночью. Мы думали, он с вами. Когда вы его опять найдете, шаберите его к шорту, если хотите, и там его и оставьте.
— Как ты думаешь, он действительно ушел от бура? — спросил Виллем Гендрика, когда они отъехали от фермы ван Ормона.
— Да, — ответил Гендрик, — я не вижу оснований не верить этому.
— Но почему Конго не пришел ко мне, как обещал?
— Вероятно, у него была для этого веская причина.
— Хотел бы я знать, куда он пошел?
— На это ответить нетрудно, — сказал Гендрик. — Кажется, я могу тебе сказать, и не глядя на компас. Он находится на севере от нас и чуть-чуть к востоку.
— С чего ты это взял?
— А с того, что именно в этой стороне мы встретили двоих всадников на другой день после пропажи жирафов. Больше того: мы можем с уверенностью сказать, что они не на юге, потому что эти люди нарочно направили нас на юг, чтобы сбить со следа.
Виллем, слишком взволнованный, чтобы вернуться в лагерь ни с чем, предложил проехать по равнине на северо-восток, рассчитывая что-либо узнать о Конго. Гендрик согласился. Отъехав к югу от дома ван Ормона примерно на милю, они повернули, объехали его вокруг и направились на северо-восток.
Они не очень надеялись натолкнуться на того, кого искали, но бездействие томило их, а так как предположение Гендрика не лишено было смысла, то они за него ухватились.
Проскакав миль пять по равнине, охотники заметили несколько холмов, неясно вырисовывавшихся на северо-востоке. До холмов, видимо, было мили четыре.
— Подходящее местечко, чтобы укрыть там наших жирафов, — заметил Гендрик. Не прятать же их на ровном месте! Если мы их там не найдем сегодня вечером, то поделом нам, что они пропали.
Солнце садилось, когда путешественники достигли гребня первой гряды холмов. Взглянув назад, на дорогу, по которой только что ехали, они увидели, что какой-то всадник пересекает равнину на расстоянии мили от места, где они остановились.
— Последим на этим человеком, но так, чтобы не выдать себя, — сказал Гендрик. — Может быть, мы найдем то, что ищем. Если только это не один из воров, то уж наверняка посланец от ван Ормона. Судя по тому, как ведет себя этот бур, я теперь твердо убежден, что жирафов у нас украли, а ван Ормон и есть вор.
Укрывшись среди деревьев, охотники спешились и, привязав лошадей, стали следить за всадником, приближавшимся со стороны равнины.
В сумерках им было видно, как он медленно поднялся на холм несколько восточнее от них и, идя по гребню, направился к следующему холму.
Стало темно, и, чтобы не потерять его из виду, надо было бы подъехать к нему совсем близко.
Это было опасно: вдруг он услышит стук лошадиных копыт? Охотники подождали, пока он уехал далеко вперед, а затем медленно и бесшумно направились в ту же сторону, надеясь, что счастливый случай наведет их на его след.
И случай помог им.
Поднявшись на холм в полумиле от места, откуда они в последний раз видели всадника, они заметили костер, горевший, видимо, в самом низу долины. Виллем с Гендрикем спешились, привязали коней к деревьям и, крадучись, пошли к костру.
По мере того как охотники приближались к нему, он становился все больше, все ярче.
Они подходили ближе и ближе, нисколько не рискуя, что их заметят, пока наконец не разглядели троих людей, сидящих у костра. Те были, по-видимому, всецело поглощены разговором.
Если бы не тот всадник — он уже повернул назад, к ферме ван Ормона, Виллем и Гендрик, вероятно, долго блуждали бы меж холмов, так и не заметив ничего, что вознаградило бы их за поездку. Но теперь они увидели нечто такое, что Виллем весь задрожал от радости и едва удержался, чтоб не вскрикнуть.
Подозрения Конго, основанные на инстинкте или на логике, оказались не пустой выдумкой. Привязанные к дереву у ярко пылающего костра, стояли два жирафа-детеныша. Они не забрели куда-то, их просто украли.
Оба охотника стали торопливо совещаться. Необходимо вернуть жирафов, но как это сделать? Им не хотелось отстаивать свои права с риском для жизни, но они не хотели также без особой необходимости убивать тех, кто их обокрал.
— Дадим им возможность спасти свою жизнь, — сказал Виллем. — Если они мирно вернут украденных жирафов, мы их отпустим. Если нет, я застрелю их без пощады. Мы сами будем судить их. За сотню миль отсюда не найдешь ни суда, ни магистрата.
Пока они поспешно обдумывали план действий, трое людей, сидевших вокруг костра, стали готовить себе ужин.
Виллем и Гендрик обменялись еще несколькими словами, и план был готов.
Они взвели курки своих ружей и, плечом к плечу, неслышно двинулись вперед. Скрытые за деревьями, они подошли шагов на десять к ничего не подозревающим ворам и внезапно вышли на свет.
— Ни с места! — громко и повелительно крикнул Виллем. — Первый, кто шевельнется, умрет, как собака!
Человек, которого звали Джеймс, рванулся было за ружьем, лежавшим поблизости.
— Ни с места, если вам жизнь дорога! — крикнул охотник.
Это предостережение пропало даром: человек схватил ружье и мгновенно прицелился. Но прежде чем он успел спустить курок, прогремел выстрел Виллема, и вор упал головой к костру.
Брат ван Ормона разделил участь приятеля; он тоже попытался было оказать сопротивление, но Виллем пресек попытку, ударив его прикладом своего громобоя. Третий из воров не стал дожидаться такой же участи и пустился наутек, да так быстро, что не всякая лошадь догнала бы его.
Охотники подобрали ружья всех троих воров, разрядили их и разбили в щепы о деревья. Жирафов отвязали и отвели туда, где остались лошади охотников. После этого Виллем с Гендриком вскочили в седла и, ведя за собой жирафов, направились к лагерю, где их ждали друзья.
Судьба двоих людей, которых они бросили возле костра, так и осталась неизвестной нашим охотникам. Впрочем, она и не интересовала их. Покидая это место, они видели, что ни один из этих людей не был ранен смертельно, а так как оставался еще третий, который мог о них позаботиться, то, вероятно, они здравы; во всяком случае, Виллем и Гендрик на это надеялись.
Глава 71
ВСЕ СНОВА В ПОРЯДКЕ
Привязанный к дереву, с кляпом во рту, всеми брошенный, Конго понимал, что никто не избавит его от пут, разве только какой-нибудь хищный зверь.
Он не сомневался, что, бросив его здесь, люди не вернутся, чтобы его освободить. В голове его теснились невеселые мысли. Такие мысли могут быть у больного, которому врач заявил, что нет надежды на выздоровление.
Конго был не из тех, кто плачет от страха перед смертью; однако его мучила другая, пожалуй, не менее тягостная мысль: он горевал, что больше не увидит своего любимого хозяина и не сможет сказать ему, что жирафы нашлись.
Он даже подумал в ожидании своей неизбежной участи, что встретил бы смерть спокойно, если бы каким-нибудь образом мог сообщить Виллему, где спрятано его сокровище.
Прошел час, и тьма сгустилась вокруг Конго. Наступила ночь.
Несколько зверей, по-видимому антилопы, пришли к озерцу напиться.
Вслед за ними появились шакалы. Вот-вот, думал Конго, придут и другие гости — гости, которые уйдут лишь тогда, когда со всей жестокостью положат конец его плену. А еще через полчаса глаза Конго, пронизывавшие темноту, завидели какое-то четвероногое. Что это за животное, он не знал. Если судить по величине, это мог быть леопард. Медленно и бесшумно зверь подбирался к Конго.
Он придвинулся ближе, и в то мгновение, когда Конго показалось, что зверь сейчас бросится на него, тот заскулил. Конго узнал Следопыта!
Сердце Конго наполнилось радостью. Верный пес жив и не покинул его! Если ему суждено умереть, он умрет возле самого преданного друга, какого только может человек найти среди четвероногих. На время Виллем и жирафы были забыты.
Когда собака была совсем близко, Конго увидел, что она ковыляет на трех ногах, поджав четвертую, и книзу от плеча шерсть у нее вся в пятнах запекшейся крови.
От радости, что видит хозяина. Следопыт, казалось, забыл о своей ране. Никогда в жизни Конго так не хотелось говорить. Но кляп во рту мешал ему. Он не мог сказать ни одного ободряющего слова существу, которое, невзирая на собственные страдания, его не покинуло. Он знал, что собака ждет знакомых звуков его голоса и смотрит на него с укором — почему он молчит?
Конго не хотел, чтобы даже животное сочло его неблагодарным, но он не мог объяснить Следопыту причину своего молчания.
Вскоре после появления собаки Конго услыхал ружейный выстрел. Кафру, с его острым слухом, звук этот показался знакомым. Он был очень громкий, совсем как выстрел из громобоя его хозяина. Но откуда взяться здесь Виллему? Нет, это, наверно, не он. За выстрелом последовало несколько минут полной тишины, затем еще три выстрела подряд, и опять воцарилась тишина. Прошло минут пятнадцать, и вверху на холме послышался стук копыт: по гребню хребта ехали всадники. Конго услышал их голоса, сливавшиеся с тяжелым конским топотом.
Еще немного — и они проедут мимо.
«Воры, — подумал Конго. — Они уходят на другое место».
Всадников отделяло уже не больше ста ярдов от дерева, к которому он был привязан, а когда они поравнялись с ним и Конго уже не сомневался, что они минуют его, не заметив, он услышал вдруг какую-то возню и слова: «Остановись на минутку, Гендрик. Моя лошадь очутилась по одну сторону дерева, а Тутла — по другую».
Голос принадлежал Виллему, а Тутлой звали одного из жирафов!
Конго сделал отчаянное усилие вытащить руки из ремней или освободиться от кляпа, распиравшего рот, но все напрасно.
Не было, казалось, никакого средства поднять тревогу, дать знать друзьям, что он тут, совсем близко. Конго не мог ничего придумать.
Они оставляют его одного! Вернутся в Грааф-Рейнет, а он умрет, привязанный к дереву или растерзанный дикими зверями. Он чуть не обезумел от отчаяния, как вдруг его осенило.
Сам он не мог говорить, но почему собаке не сделать этого вместо него?
Ноги у него были свободны, и Конго, подняв ногу, дал пинка Следопыту что было сил.
Бедный пес скорчился и тихо взвизгнул. Его нельзя было услышать и за тридцать шагов.
Конго снова поднял ногу и пнул в ребра несчастного пса, который даже не увернулся и снова безропотно принял удар.
Единственным ответом был тихий, жалобный вой, словно Следопыт хотел сказать: «За что ты меня, хозяин? Что я тебе сделал?»
И в ту самую минуту, когда нога Конго поднялась в третий раз, громкий, протяжный рык потряс воздух. То рычал голодный лев, появившийся всего в нескольких шагах от Конго.
Следопыт мигом вскочил на ноги и ответил царю зверей громким, вызывающим лаем.
Верный пес, который ничем не выразил протеста против жестокости своего хозяина, готов был защитить его от любого врага.
Лай Следопыта не похож был на лай других собак, и наши охотники сразу узнали его.
Еще мгновение — и Конго с радостью услышал топот лошадей, рысью спускавшихся с холма, и его окликнул голос Виллема!
Когда его развязали и вынули кляп изо рта, первое, что он сказал, были слова извинения перед Следопытом за те удары, которые он ему нанес.
Бессловесный пес так шумно проявлял свою радость, что можно было подумать, будто он принял эти извинения и искренне простил своего хозяина.
Виллем заставил Конго, который в течение полутора суток оставался без пищи, сесть на его лошадь. Тот согласился, но лишь при условии, что ему позволят взять и Следопыта.
Охотники немедленно тронулись с места и на другой день рано поутру добрались до лагеря, где их ждали Ганс, Аренд и остальные спутники.
Увидев их, да к тому же вместе с жирафами, Черныш на радостях заявил, что никогда больше не назовет Конго дураком. И действительно, он этого обещания ни разу не нарушил.
В полдень они двинулись к Грааф-Рейнету. Дня три Следопыт ехал на спине быка, с удобством расположившись в большой корзине, сплетенной Конго специально для него.
Глава 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Однажды вечером после долгого перехода путешественники оказались всего в нескольких милях от дома. Еще час, два езды добрым галопом — и они снова увидят родных и друзей, с которыми так долго были в разлуке.
Аренду и Гендрику не терпелось поскакать вперед, но ни один из них не решался предложить это другому.
Как же велика была их досада, когда они увидели, что Ганс и Виллем остановились у дома какого-то бура, готовясь у него заночевать!
Они делали это с такой беспечностью, словно находились в сотнях миль от дома.
Оба они, и Виллем и Ганс, обладали изрядной долей старомодной голландской мудрости, а она подсказывала им, что ни при каких обстоятельствах нельзя забывать о милосердии к животным, которые столь долго и столь преданно им служили.
На другой день, рано утром, когда охотники на пути домой проезжали через Грааф-Рейнет, горожане вышли из домов, чтобы поздороваться с ними.
Почти все здешние жители глазели на жирафов с неменьшим удивлением, чем четверо макололо на шпиль городской церкви.
Не было ни одного человека старше десяти лет, который не слышал бы о том, что наши любители приключений несколько месяцев назад отправились в экспедицию. Все знали, для чего она была предпринята, и, разумеется, большинство предсказывали им такую же неудачу, какая постигла стольких опытных охотников.
— Мы возвращаемся домой с почетом, — сказал Гендрик своим спутникам, когда увидел, как восторженно приветствуют их жители Грааф-Рейнета.
— Да, и этим мы обязаны настойчивости Виллема, — заметил Аренд.
— Не думаю, чтобы я проявил какую-то особенную настойчивость, — сказал Виллем. — Я стремился домой не меньше, чем любой из вас, мне только не хотелось вернуться без пары жирафов-детенышей. Вот и вся разница между нами.
Ответа на его слова не последовало. Все ехали молча, размышляя о великодушии Виллема.
Наши путешественники, бывало, и дольше отсутствовали, но никогда еще родной дом не казался им дороже и никогда раньше их не встречали так тепло, как в этот раз.
Две молодые девушки, Трейи ван Блоом и Вильгельмина ван Вейк, встретили своих женихов с восторгом и были так прямодушны, что не скрывали этого.
Конго и Черныш старались вознаградить себя за перенесенные лишения тем, что важничали перед остальными работниками и слугами, а также тем, что ели, пили и спали больше чем когда-либо.
Виллему предстояло еще одно путешествие. Он провожал Ганса до Кейптауна, откуда тот направлялся в Европу; кроме того, он должен был передать жирафов голландскому консулу. Впрочем, отправился он туда лишь после того, как сам отдохнул месяц и дал отдохнуть жирафам и лошадям.
Все это время родные наших молодых друзей в обеих семьях относились к макололо с величайшей добротой. Когда макололо собрались вернуться на родину, каждому подарили коня, ружье и костюм. Кроме того, Виллем послал в подарок своему великодушному другу и покровителю Макоре кое-какие полезные вещи.
До отъезда в Европу Ганс пожелал присутствовать на двух весьма торжественных церемониях, которые должны были рано или поздно состояться и в которых обе семьи — ван Блоомов и ван Вейков — так или иначе были заинтересованы. Но Гансу не терпелось отправиться в путь, а Гендрику с Арендом это обстоятельство пришлось как нельзя более по душе.
Таким образом, Трейи и Вильгельмину уговорили ускорить тот день, который сделал обоих молодых офицеров счастливейшими из людей.
На другой день после двойного бракосочетания Виллем и Ганс пустились в путь. Они везли в Кейптаун жирафов и слоновую кость, добытую на севере.
Животные, которых они с таким трудом поймали, затратив на это так много времени, были переданы консулу и солидная награда получена. Жирафы стали пассажирами того же корабля, который увозил молодого философа в Европу.
Виллем расстался с Гансом и жирафами перед самым отплытием корабля и сразу же отправился назад, в свой далекий Грааф-Рейнет. Там он живет и по сей день, стараясь проводить время в мирных занятиях; однако эти намерения для него трудно выполнимы — отчасти в силу его неуемной жажды приключений, а отчасти потому, что его изводят своими приставаниями юные Ян и Клаас. Раззадоренные рассказами старших братьев, они страстно мечтают бросить охоту за знаниями и отправиться на охоту за дичью.
Гендрика и Аренда больше не тянет к этому виду спорта. Им теперь мил домашний очаг, и они с радостью уступают своим младшим братьям удовольствие провести несколько месяцев за пределами колонии, чтобы заслужить, как заслужили они сами, почетное право называться Охотниками за жирафами.
МАЛЬЧИКИ-ОХОТНИКИ С БЕРЕГОВ МИССИСИПИ (цикл)
В поисках белого бизона (повесть)
Три брата Люсьен, Базель, Франсуа с собакой Маренго отправляются в прерии на поиски шкуры белого бизона, которая очень нужна их отцу. После многочисленных приключений и опасностей, испытав голод и лишения, попав в плен к индейцам, братья всё-же достигают своей цели.
Глава 1
ДОМ ОХОТНИКА-НАТУРАЛИСТА
Пойдемте со мной к великой реке Миссисипи. Это самая длинная река в мире. Если бы Миссисипи вытянуть в одну прямую линию, то длина этой линии равнялась бы расстоянию до центра Земли. Другими словами, длина Миссисипи — четыре тысячи миль.
Пойдемте же со мной к этой величественной реке. Я приглашаю вас не к самому ее истоку, а только к Пойнт Купе, который расположен в трехстах милях от устья. Там мы на некоторое время остановимся, совсем ненадолго, так как нам предстоит большое путешествие. Путь наш лежит далеко на запад — по необъятным прериям Техаса, и мы начнем свое путешествие от Пойнт Купе.
Возле Пойнт Купе есть старенькая деревушка, не совсем обычная, похожая на французскую. Это одно из самых ранних поселений тех, кто вместе с испанцами были первыми колонистами запада Америки. Поэтому до сих пор по всей долине Миссисипи и районам, расположенным к западу от реки, встречаются французы и испанцы, французские и испанские имена и обычаи.
Сейчас мы не будем на этом долго останавливаться, да нам, собственно, больше и нечего добавить о Пойнт Купе. Предметом нашего внимания является странного вида дом, который много лет назад стоял на западном берегу реки, за милю от деревни. Весьма возможно, что он стоит там и поныне, так как это был крепкий, хорошо построенный дом из тесаных бревен, тщательно прошпаклеванных; все щели были промазаны известью. Крыша из кедровой дранки, выступая над карнизом, защищала стены от дождя.
Такой дом в этой местности называют «двойным», так как посредине его широкий проход, по которому мог бы проехать воз с сеном. Этот внутренний проход имел такие же крышу и потолок, что и дом, и такой же пол из крепких досок. Поднятый на фут от земли, пол выдавался вперед, образуя крыльцо или веранду, легкую крышу которой поддерживали резные столбики из кедра. Столбики и перила веранды были обвиты кустами роз, а также диким виноградом и другими вьющимися растениями, на которых почти круглый год распускались прекрасные цветы.
Дом выходил фасадом к реке и стоял, как я уже говорил, на западном берегу — на той же стороне, что и Пойнт Купе. Перед домом простирался луг; он тянулся ярдов на двести в сторону реки и кончался обрывом. Луг был окружен высокой изгородью; на нем рос кустарник и декоративные деревья. Большинство их было местного происхождения, но встречались и экзотические. Здесь росли магнолия, вся в крупных белых цветах, красная шелковица, катальпа с бледно-зелеными листьями, высокое тюльпановое дерево и апельсиновые деревца с блестящей листвой. На фоне яркой листвы этих деревьев выделялись темные конусообразные кедры и островерхие тисы. Тут были и финиковые пальмы и плакучие ивы, грациозно склоняющиеся над самой водой. Можно было увидеть и другие растения и деревья южного климата: большое мексиканское алоэ, юкку с узкими и длинными листьями, похожими на штыки, и карликовую пальму с веерообразными листьями. В гуще древесной листвы и над лугом порхало множество красивых, разнообразных птиц.
Проход, о котором уже упоминалось, представлял собой любопытную картину. Это был скорее зал. С обеих сторон по стенам его было развешано различное охотничье снаряжение: ружья, дробовики, подсумки, фляжки, охотничьи ножи и все виды капканов и сетей — короче говоря, все то, чем можно добывать диких обитателей земли, воздуха и воды. На стене висели испанские и мексиканские седла, рога оленя и лося; на этих ветвистых рогах были развешаны волосяные уздечки. На полочках по стенам стояли искусно сделанные чучела редких птиц и четвероногих. Здесь были также застекленные ящики с расположенными в систематическом порядке бабочками и другими насекомыми, наколотыми на булавки. Иными словами, этот зал напоминал маленький музей.
Войдя внутрь дома, мы обнаружили бы там несколько просторных комнат, уютно обставленных и наполненных охотничьим снаряжением и различными предметами, относящимися к изучению естественной истории.
В одной из комнат мы увидели бы на стене барометр и термометр, старые часы над камином, саблю, пистолеты и книжный шкаф с ценными, тщательно подобранными книгами.
За домом находилась маленькая бревенчатая кухня, содержащая обычную кухонную утварь. Дальше тянулся крытый двор, на одном конце которого стояли амбар и конюшня. В конюшне помещались четыре лошади, а за перегородкой несколько мулов. Во дворе наше внимание привлекла бы большая рыжая собака с длинными ушами, очень похожая на охотничью.
Издали этот дом можно было принять за дом богатого плантатора, но при ближайшем рассмотрении становилось очевидно, что это не так. Здесь не было ни негритянских лачуг, ни сахароварен, ни складов табака, которые неизбежны около жилища плантатора. Ничего подобного здесь не имелось. Не было перед домом и большого участка обработанной земли.
Темный кипарисовый лес, на фоне которого стоял дом, бросал тень почти до самых стен.
Ясно, что это не дом плантатора.
Что же это за дом и кто его обитатели?
Это дом охотника-натуралиста.
Глава 2
ОХОТНИК-НАТУРАЛИСТ И ЕГО СЕМЬЯ
В 1815 году произошла знаменитая битва при Ватерлоо[230], и в этом же году Наполеона Бонапарта сослали на остров Святой Елены. Многие французские офицеры, сторонники этого великого авантюриста, эмигрировали в Америку. Большинство из них, естественно, отыскали французские поселения на Миссисипи, понастроили себе дома и остались там жить. Среди эмигрантов был один, по имени Ленди, бывший полковник стрелкового полка наполеоновской армии. Корсиканец по происхождению, он стал офицером французской армии только потому, что в молодости дружил с одним из родственников Бонапарта, а на самом деле его еще с юности гораздо больше привлекала наука, чем военная служба.
Во время испанской кампании Ленди женился на баскской девушке, которая родила ему троих детей — все трое сыновья. Мать умерла незадолго до битвы при Ватерлоо, поэтому, когда Ленди эмигрировал в Америку, его семья состояла только из троих сыновей.
Сначала Ленди отправился в Сент-Луис, но вскоре перебрался вниз по реке, к Пойнт Купе, в Луизиану, где купил себе дом, который мы только что описали, и поселился в нем.
Разрешите пояснить вам, что Ленди ни в коей мере не нуждался. Перед отъездом в Америку он продал доставшееся ему от отца имение на Корсике за такую сумму, которая давала ему возможность жить, не работая, где угодно. Ему не было необходимости избирать себе на новом местожительстве какое-либо ремесло или специальность. Чем же тогда было заполнено его время?
Сейчас я вам расскажу.
Ленди был образованным человеком. До вступления во французскую армию он изучал естественные науки. Он был натуралистом, а натуралист может найти себе занятие везде, получить ценные сведения и удовольствие там, где другие будут умирать от скуки и безделья.
Помните: «Камни поучают, а ручьи заменяют книги». Ленди не был кабинетным натуралистом. Как и знаменитый Одюбон[231], он был увлечен внешним миром и любил брать уроки у самой природы. В Ленди сочетались страсть к охоте и тонкий вкус к научным исследованиям, и где бы он нашел лучшее место для всего этого, как не в долине Миссисипи, которая изобиловала природными дарами, представляющими интерес как для охотника, так и для ученого! С моей точки зрения, он выбрал для своего жилья как нельзя более удачное место.
Ленди не сидел без дела: он охотился, ловил рыбу, изготовлял чучела птиц и выделывал шкуры редких зверей, сажал и подрезал деревья, воспитывал своих мальчиков и тренировал собак и лошадей. Его мальчики помогали ему во всем, в чем могли. Был у него и еще один помощник — Гуго.
Кто такой был Гуго?
Сейчас я вам опишу его.
Гуго был француз — очень маленький француз, не выше пяти футов и четырех дюймов, чрезвычайно живой и подтянутый. У него был орлиный нос внушительных размеров и, несмотря на маленький рост, огромные усы, которые почти скрывали рот, это придавало Гуго довольно свирепый вид, что, в сочетании с военной выправкой и быстрыми, почти механическими, движениями, сразу говорило о том, кто он такой, а именно — французский солдат. Он и в самом деле раньше был капралом стрелкового полка, где Ленди служил полковником. Об остальном вы легко догадаетесь: Гуго последовал в Америку за своим бывшим начальником, он жил теперь в его доме и был ему верным слугой. Редко можно было встретить натуралиста и не увидеть рядом с ним огромные усы. Если бы судьба надолго разлучила Гуго с его полковником, это убило бы старого капрала.
Конечно, Гуго всегда сопровождал своего хозяина на охоту. Мальчики тоже, как только научились держаться в седле, стали ездить с отцом в его научные и охотничьи экспедиции. Обычно, когда все уезжали на охоту, дом запирался, так как у Ленди не было ни домоправительницы, ни каких-либо других слуг. Дом оставался запертым на несколько дней, а иногда и недель, так как натуралист со своим маленьким отрядом предпринимал далекие экспедиции в окружающие леса. Они возвращались нагруженные добычей — шкурками птиц и зверей, растениями и редкими породами камней. После этого в течение нескольких дней они обрабатывали свои новые приобретения. Так Ленди и его семья проводили свое время.
Гуго был одновременно поваром, камердинером, грумом, дворецким и рассыльным. Я уже говорил, что никакой другой прислуги, ни мужской, ни женской, в доме не имелось — следовательно, Гуго выступал и в роли горничной. Однако его разнообразные обязанности были не так уж сложны, как может сначала показаться. Полковник отличался скромностью в своих привычках. Он приобрел ее, будучи солдатом, и воспитал сыновей в том же духе. Ленди ел простую пищу, пил только воду и спал на походной кровати, покрытой лишь одеялом и шкурой бизона. Белье стирала прачка из Пойнт Купе. Как видите, Гуго не так уж был занят домашними делами.
Маленький француз ежедневно совершал путешествие в поселок — на базар и на почту, откуда часто приносил письма. На многих из них красовались большие печати и герб принца.
Иногда пароход привозил бывшему полковнику посылки с научными книгами или с какими-то непонятными инструментами. Несмотря на все это, в жизни охотника-естествоиспытателя не было ничего таинственного.
Ленди не был человеконенавистником — он часто посещал деревню и любил поболтать со старыми охотниками и другими деревенскими жителями. Крестьяне называли его за глаза «старым полковником» и относились к нему с уважением. Они только удивлялись вкусам натуралиста, которые казались им странными. Кроме того, их поражало, как это он ухитряется вести хозяйство без служанки. Но полковника не интересовали их догадки. Он лишь посмеивался над любопытными, оставаясь все в тех же хороших отношениях со своими деревенскими соседями.
По мере того как подрастали его мальчики, они тоже становились всеобщими любимцами. Они считались лучшими стрелками среди своих сверстников, могли соревноваться в верховой езде с любым, могли переплыть Миссисипи, умели управлять пирогой, бросать лассо и бить гарпуном крупную рыбу. Все это они проделывали совсем как взрослые. Это были настоящие маленькие мужчины. Простые крестьяне инстинктивно чувствовали над собой превосходство этих юношей, которые были образованны и прошли хорошую закалку; мальчики, однако, не были заносчивы и обходились со всеми очень приветливо. Все это вместе взятое заставляло окрестных жителей относиться к сыновьям Ленди с большим уважением.
Соседи приходили к полковнику только по делу. У него вообще не бывало гостей, за исключением кое-кого из давнишних знакомых по армии, которые жили в Новом Орлеане и примерно раз в год приезжали к нему поговорить о былых временах и попробовать его оленины. В таких случаях основной темой разговора был, конечно, «великий Наполеон». Как и все старые солдаты империи, Ленди боготворил Наполеона; но был один член семьи Бонапарта, к которому натуралист питал еще большее чувство, перешедшее в искреннюю дружбу: то был Шарль Люсьен, принц Музиньянский.
Не все Бонапарты были плохи — некоторые члены этой замечательной фамилии доказали миру, что они обладают благородством. Скромные изыскания принца Музиньянского в области естественной истории могут, однако, рассматриваться как победы в царстве природы, и, хотя их затмили более блестящие и кровопролитные триумфальные подвиги императора, труды принца все же дают ему больше права на благодарность и уважение со стороны человечества. Он-то и был подлинным героем натуралиста Ленди.
Многие годы полковник вел тот образ жизни, который мы описали. Но вот произошло событие, чуть не ставшее для него роковым.
Еще по время кампании на Пиренейском полуострове Ленди был ранен в ногу. Однажды, после падения с лошади, рана открылась, и возникла необходимость ампутировать ногу.
Жизнь Ленди была спасена, но он уже не мог больше наслаждаться охотой ему оставались лишь более спокойные занятия натуралиста.
Ленди ходил, прихрамывая, на своей деревянной ноге по дому и лугу, подрезал деревья, ухаживал за своими четвероногими любимцами, которых завел себе немало. Гуго все время следовал за ним, как тень. Мальчики же по-прежнему отправлялись на охоту и собирали образцы для коллекций. Все шло своим чередом.
Такова была их жизнь, когда я впервые познакомился с натуралистом Ленди, его слугой Гуго и тремя сыновьями Ленди — мальчиками-охотниками, героями нашей небольшой книги.
Юный читатель, разреши мне познакомить тебя с ними поближе — я думаю, что ты полюбишь их всех троих и охотно побудешь некоторое время в их обществе.
Глава 3
ПИСЬМО ПРИНЦА
Прекрасное весеннее утро. Мы приближаемся к дому и входим на лужайку через боковую калитку. Нам не надо заходить в дом, так как там никого нет. Погода слишком хороша, чтобы сидеть в помещении, но все члены семьи неподалеку от дома: они разместились на лужайке и на веранде.
Все заняты кто чем. Сам полковник кормит своих четвероногих подопечных. Гуго помогает ему — носит корзинку с пищей.
Полковника можно назвать интересным мужчиной. Его волосы и усы белы как лунь, бороды он не носит; лицо цвета красноватой бронзы гладко выбрито, выражение его доброе, но мужественное. Ленди очень похудел за последнее время из-за ампутации ноги. Одежда его проста: желтая нанковая куртка, полосатая бумажная рубашка и широкие ярко-синие брюки. Широкополая панама защищает глаза от солнца. Ворот рубашки расстегнут, так как день теплый.
Гуго одет примерно так же, но материал его куртки и брюк грубее, а шляпа из простых пальмовых листьев.
Посмотрите на Базиля, старшего мальчика. Он прикрепляет ремешки к охотничьему седлу, лежащему на земле возле него. Базилю семнадцать лет. Это миловидный юноша, хотя его и нельзя назвать красивым. У него мужественное лицо, и вся его фигура выражает силу. Волосы у него прямые, черные как смоль. Он больше своих братьев похож на итальянца. Он поистине сын своего отца настоящий корсиканец. Базиль — «могущественный охотник» и любит охоту превыше всего на свете. Он любит охоту ради охоты и наслаждается ее опасностями. Он уже вышел из того возраста, когда ловят птиц и стреляют белок, — его честолюбие может быть теперь удовлетворено только охотой на кугуара, медведя или бизона.
Как не похож на него Люсьен, второй сын! Люсьен — изящный белокурый юноша; он больше похож на свою мать, которая была блондинкой, как многие из ее народа — басков. Люсьен страстно любит книги и науку. И сейчас он сидит на веранде с книгой. Он изучает естественную историю, и его любимые науки — ботаника и геология, в которых он достиг больших успехов. Люсьен сопровождает Базиля во всех охотничьих экспедициях, но в разгар самой отчаянной погони может вдруг соскочить с лошади, если ему на глаза попадется редкое растение, цветок или необычайный камень. Люсьен не очень разговорчив — не так, как большинство мальчиков, — но, обыкновенно молчаливый, он обладает редким здравым смыслом, и, если дает совет, совет этот обычно принимают с уважением. Таково скрытое воздействие интеллекта и образованности.
Следующий по возрасту и самый младший — Франсуа, умненький кудрявый мальчуган, безудержно веселый, всегда жизнерадостный, непостоянный в своих вкусах и привязанностях, многосторонний в своих талантах — короче говоря, больше француз, чем кто-либо из братьев. Франсуа — знаменитый ловец птиц. В настоящий момент он чинит свои сети, и его двуствольный дробовик, который он только что закончил чистить, лежит рядом. Франсуа — всеобщий любимец, он доставляет немало хлопот Гуго, над которым вечно подшучивает.
В то время как натуралист и его семья были заняты каждый своим делом, с низовьев реки послышался громкий гул. Он немного напоминал пушечную стрельбу, хотя звуки были мягче и глуше.
— Пароход! — воскликнул Франсуа, услыхавший его первым.
— Да, — сказал Базиль. — Я думаю, что он идет из Нового Орлеана в Сент-Луис.
— Нет, — спокойно возразил Люсьен, поднимая голову от книги, — это судно из Огайо.
— Откуда ты знаешь, Люс? — спросил Франсуа.
— По свистку, конечно. Я узнаю его. Это «Олений глаз» — почтовое судно, идущее в Цинциннати.
Вскоре над деревьями стало видно белое облако пара, а затем из-за излучины реки показалось большое судно, рассекающее коричневую воду. Через несколько минут пароход был уже против лужайки и действительно оказался, как и говорил Люсьен, почтовым пароходом «Олений глаз». Люсьен воспринял свой триумф с присущей ему скромностью.
Прошло всего несколько минут, и от Пойнт Купе послышался громкий, пронзительный свисток. Пароход причаливал.
— Гуго! — обратился к слуге полковник. — Может быть, что-нибудь есть для нас — пойди посмотри.
Не мешкая, Гуго отправился выполнять поручение. Он был хороший ходок и вернулся быстро. В руках он держал письмо, внушительное по величине и виду.
— От принца Люсьена! — воскликнул Франсуа, который везде должен был быть первым. — Это от принца, папа, — ведь это его печать!
— Успокойся, Франсуа, успокойся! — строго сказал отец, ковыляя к веранде, чтобы взять очки.
Письмо было распечатано и прочитано.
— Гуго! — крикнул полковник, закончив читать.
Гуго ничего не ответил, но предстал перед своим хозяином, по-военному отдавая честь.
— Гуго, тебе придется съездить в Сент-Луис.
— Слушаюсь, полковник.
— Ты отправишься с первым же пароходом.
— Слушаюсь, полковник.
— Ты должен добыть мне шкуру белого бизона.
— Это не составит труда, месье.
— Боюсь, что это труднее, чем ты думаешь.
— За деньги, месье?
— Да, даже за деньги, Гуго. Слушай: мне нужна шкура, не просто мех, а настоящая шкура — с головой, ногами, вся целиком, чтобы можно было сделать чучело.
— А-а, полковник! Это другое дело.
— Боюсь, что это будет очень нелегко… — задумчиво произнес полковник. Я сомневаюсь, удастся ли вообще ее достать. Но нет, мы должны это сделать во что бы то ни стало! Да, во что бы то ни стало!
— Сделаю все, что в моих силах.
— Заходи в каждый меховой магазин в Сент-Луисе, наведи справки среди охотников и трапперов[232] — ты знаешь, где их найти. Если из этого ничего не получится, помести объявление в газетах на английском и французском языках. Сходи к коммерсанту Шото, куда угодно… Не считайся с расходами, но достань мне шкуру!
— Будьте спокойны, полковник, все будет исполнено.
— Тогда готовься в путь. Возможно, еще сегодня пойдет пароход… Тш-ш! Я слышу, он уже идет, и, может быть, как раз в Сент-Луис.
Некоторое время все стояли молча, прислушиваясь. Ясно был слышен шум парохода, идущего вверх по реке.
— Он действительно идет в Сент-Луис, — сказал Люсьен. — Это «Красавица Запада».
Люсьен обладал способностью определять по свистку название почти каждого парохода, курсирующего по Миссисипи.
Через полчаса показался пароход, и все увидели, что Люсьен опять прав: пароход шел в Сент-Луис и назывался «Красавица Запада».
Гуго не надо было долго собираться. Пароход не успел поравняться с домом, а маленький француз уже все собрал, получил от своего хозяина еще несколько инструкций и кошелек с деньгами и отправился в Пойнт Купе, чтобы встретить пароход у причала.
Глава 4
СБОРЫ НА БОЛЬШУЮ ОХОТУ
Прошло целых три недели, прежде чем Гуго вернулся. Для старого полковника, который волновался, что Гуго не удастся выполнить поручение, это были долгие недели.
Ленди написал ответ принцу Бонапарту и обещал постараться добыть шкуру белого бизона; принц просил его в письме именно об этом. Полковник ни за что на свете не хотел бы нарушить свое обещание, и неудивительно, что во время отсутствия Гуго он все время испытывал беспокойство и нетерпение.
Наконец, поздно вечером, Гуго вернулся. Полковник не мог дождаться, когда тот пойдет в дом, и встретил его в дверях со свечой в руке. Вопросы были излишни: ответ был написан на лице Гуго. Сразу стало ясно, что он не достал шкуру. Вид у него был совершенно убитый; огромные усы его, казалось, поблекли и обвисли.
— Не достал? — спросил полковник упавшим голосом.
— Нет, полковник, — пробормотал в ответ Гуго.
— Ты всюду пытался?
— Всюду.
— Ты давал объявления в газетах?
— Во всех газетах, месье.
— И предлагал высокую цену?
— Да, но это ни к чему не привело. Я не достал бы шкуры белого бизона, даже если бы предложил в десять раз больше. Я не смог бы достать ее и за тысячу долларов.
— Я бы дал пять тысяч!
— Это не помогло бы, месье: ее нельзя достать в Сент-Луисе.
— А что говорит Шото?
— Что очень мало шансов найти то, что вам нужно. Он говорит, что можно проехать по всем прериям и так и не встретить белого бизона. Индейцы ценят белых бизонов превыше всего, и, когда им попадается случайно белый бизон, они уж его не упустят. У одного торговца мехами я сыскал две-три шкуры, но это не то, что вы хотели, месье: это только мех, но даже и за него просили порядочную сумму.
— Нет, это не годится. Шкура нужна для другой цели — для большого музея. Боюсь, что мне не раздобыть ее. Уж если нельзя достать в Сент-Луисе, тогда где же еще…
— Где еще, папа? — прервал Франсуа, который вместе с братьями стоял и слушал весь этот разговор. — Где же еще, как не в прериях!
— В прериях… — машинально отозвался его отец.
— Да, папа. Пошли Базиля, Люсьена и меня — мы найдем тебе белого бизона, я ручаюсь!
— Браво, Франсуа! — воскликнул Базиль. — Ты прав, брат, — я и сам хотел это предложить.
— Нет-нет, мальчики мои! Вы слышали, что говорит Шото? Нечего и думать об этом. Ее нельзя достать… А я-то написал принцу, я обещал ему!
Лицо и жесты старого полковника выражали разочарование и огорчение. Люсьен, с болью заметивший это, сказал:
— Папа, Шото правда имеет большой опыт в торговле мехами, но он сам себе противоречит. (Люсьен, как вы, наверно, заметили, был очень рассудителен.) Гуго видел две-три шкуры в Сент-Луисе, — кто-то должен же был найти животных, которым принадлежали эти шкуры! К тому же Шото утверждает, что они высоко ценятся индейскими вождями, которые часто носят их в качестве одежды. Это доказывает, что белые бизоны в прериях есть. Почему же мы не можем напасть на них, как другие?.. Франсуа и Базиль, поедем искать их!
— Войдем в дом, дети мои, — сказал отец, явно обрадованный и до некоторой степени утешенный предложением сыновей. — Войдем в дом… Мы обсудим это после ужина.
С этими словами старый полковник, ковыляя, вошел в дом. За ним шли трое его мальчиков, а Гуго, измученный и голодный, замыкал шествие.
За ужином и после него вопрос обсудили со всех сторон. Отец с самого начала был склонен дать согласие на предложение сыновей, а они, особенно Базиль и Франсуа, горячо доказывали ему осуществимость своего замысла.
Едва ли надо говорить вам, чем все это завершилось. В конце концов полковник дал согласие: было решено, что мальчики немедля отправятся в экспедицию на поиски белого бизона.
Натуралист согласился по двум причинам: он жаждал доставить удовольствие своему другу-принцу и был втайне доволен, что сыновья проявили такую храбрость и решительность. Не в его характере было препятствовать их замыслам и охлаждать их пыл. Недаром он часто хвастал перед соседями и друзьями, как он воспитал и закалил детей, и называл их своими маленькими мужчинами. Насколько это было в его силах, полковник действительно растил их так, что они были подготовлены к самостоятельной жизни. Он научил их ездить верхом, плавать, нырять, бросать лассо, лазить на высокие деревья, взбираться на отвесные утесы и метким выстрелом из лука или ружья сбивать птицу на лету, а зверя — на бегу. Он приучил их спать на открытом воздухе, в дремучих лесах, в голой прерии, в непогоду, прямо на земле, — где угодно, пользуясь вместо постели лишь одеялом и шкурой бизона. Приучил питаться самой простой пищей и дал знания в области практической ботаники, к которой привил им большую любовь, особенно Люсьену. Это давало им возможность в случае необходимости использовать в пищу растения и деревья, корни и фрукты — короче говоря, находить средства к существованию там, где несведущий человек умер бы с голоду.
Мальчики знали, как добыть огонь даже без помощи кремня, огнива или пороха. Они умели определять направление без компаса — по скалам, деревьям, солнцу и звездам. Кроме того, они были обучены в пределах знаний того времени географии той необъятной пустыни, которая простиралась от их дома до далеких берегов Тихого океана.
Полковник знал, что может спокойно отпустить сыновей в прерии. И правда, он согласился на эту экспедицию, испытывая при этом скорее гордость, чем беспокойство. Но, пожалуй, больше всего им руководило другое чувство. Его вдохновляло честолюбие естествоиспытателя; он думал о том, какой будет триумф — послать в большой европейский музей такой редкий экспонат. Если когда-нибудь, мой юный читатель, ты станешь натуралистом, ты поймешь нашего охотника-естествоиспытателя.
Сначала Ленди предложил, чтобы мальчиков сопровождал Гуго, но они не желали и слышать об этом и все трое яростно воспротивились: они и думать не могут о том, чтобы взять Гуго. Гуго нужен отцу дома, а им без него будет даже лучше, — заявили мальчики. Они свободно обойдутся без посторонней помощи.
На самом же деле молодые, честолюбивые охотники не желали делить свою славу ни с кем, хотя Гуго вряд ли оказался бы их соперником на охоте — он не был ни охотником, ни даже воином, несмотря на то что служил в свое время конным стрелком и носил такие воинственные усы.
Старый полковник хорошо знал все это и не очень настаивал на том, чтобы Гуго ехал вместе с мальчиками.
Гуго блистал талантами в другой сфере — на кухне. Тут он был как у себя дома. Он умел приготовить омлет, фрикасе из цыпленка или утку с оливками не хуже самого лучшего повара, но не чувствовал ни малейшей склонности к охоте, хотя в течение многих лет сопровождал своего хозяина и его сыновей в их охотничьих странствиях. Гуго ужасно боялся медведей и кугуаров, не говоря уже об индейцах. О, индейцы!..
Ты будешь поражен, мой юный читатель, когда я скажу тебе, что в прериях живет и бродит около пятидесяти воинственных племен. Многие из них — заклятые враги белых. Они убивают белых везде, где бы ни встретили, так, как ты убил бы бешеную собаку или ядовитого паука.
Узнав это, ты будешь поражен, что старик-отец согласился отпустить сыновей в такую опасную экспедицию. Это кажется невероятным, не правда ли?
Действительно, в это трудно поверить: ведь полковник горячо любил своих детей — он дорожил ими, может быть, не меньше, чем собственной жизнью, — и тем не менее едва ли можно было найти лучший способ избавиться от них, нежели отпустить их одних в прерии.
На что же он рассчитывал? На их возраст? Нет. Он слишком хорошо знал индейцев, знал, что возраст не будет принят во внимание, если только мальчики повстречаются с каким-нибудь племенем, враждующим с белыми. Правда, индейцы, возможно, не оскальпировали бы их, учитывая, что это все же почти дети, но наверняка взяли бы их в плен, из которого те, вероятно, никогда не вернулись бы. А может быть, отец предполагал, что они продвинутся не дальше той территории, на которой живут дружественные племена? Нет, он не мог этого предположить. Ведь тогда они не смогли бы выполнить свою задачу. В такой местности они бы встретили очень мало бизонов, так как хорошо известно, что бизонов можно найти в большом количестве только в тех местах прерий, которые называются «военной тропой» — то есть там, где охотятся несколько враждующих между собой племен. Бизонов там больше, чем где бы то ни было, поскольку охотников в этих местах меньше, так как они боятся столкновений с чужими племенами. На той же территории, которая целиком находится во владении одного какого-нибудь племени, бизонов очень скоро убивают или они сами покидают ее из-за непрестанной охоты на них.
В прериях всем охотникам хорошо известно, что там, где много бизонов, много и опасностей, тогда как обратное бывает редко. На нейтральных или военных тропах индейцев вы можете встретить дружественное племя, а на следующий день — попасть в руки к врагам, которые снимут с вас скальп в мгновение ока.
Отец наших троих мальчиков-охотников знал все это не хуже меня. Как же понять его явно неразумный поступок, почему он разрешил им рисковать своей жизнью? Это действительно было бы совсем непонятно, если бы не тайна, о которой я расскажу вам потом.
Пока что я могу сказать только, что, когда мальчики уже сели на коней и готовы были отправиться, полковник подошел к ним и, вынув из кармана маленький кожаный мешочек, отделанный крашеными иглами дикобраза, подал его Базилю со словами:
— Никогда не расставайся с этой вещью. Ваша жизнь может зависеть от нее… С Богом, мои храбрые мальчики! До свиданья!
Базиль перекинул на шею ремешок и, привязав к нему мешочек, спрятал его на груди под рубашкой. Пожав руку отцу и пришпорив коня, он быстро ускакал.
Люсьен поцеловал отца, грациозно помахал рукой Гуго и последовал за Базилем.
Франсуа немного задержался; подъехав к Гуго, он потянул его за длинный ус, что заставило бывалого солдата усмехнуться. Звонко расхохотавшись, Франсуа повернул свою лошадку и поскакал вслед за братьями.
Полковник и Гуго некоторое время стояли и смотрели им вслед.
Когда мальчики-охотники достигли опушки леса, все трое остановились, повернулись в седлах и, сняв шляпы, прокричали прощальное приветствие. Полковник и Гуго крикнули им в ответ. Когда снова все утихло, донесся голос Франсуа:
— Не беспокойся, папа, мы привезем тебе белого бизона!
Глава 5
ЛАГЕРЬ МАЛЬЧИКОВ-ОХОТНИКОВ
Наши юные искатели приключений повернули на запад и скоро ехали уже под сенью величественного леса. В те времена на запад от Миссисипи было очень мало поселений белых. Единственными признаками цивилизации были разбросанные по берегам реки маленькие города, расчищенные для обработки участки земли и хижины скваттеров[233]. После одного дня пути на запад все это оставалось позади, и путешественник попадал в лабиринт болот и лесов, которые простирались перед ним на сотни миль. Правда, еще дальше на запад, по притокам Миссисипи, иногда встречались селения, но большая часть ландшафта представляла собой дикую местность.
Примерно через час наши путешественники были уже далеко от селений, окружавших Пойнт Купе, и продвигались по лесным тропинкам, по которым редко проходил кто-нибудь, кроме индейцев или местных охотников. Мальчики хорошо знали эти тропинки — они часто бывали здесь и прежде во время охоты.
Не буду подробно описывать все события, происшедшие в пути. Это займет слишком много времени и утомит вас. Я подведу вас прямо к тому месту, где они впервые остановились, чтобы расположиться лагерем на ночь.
Это была одна из тех небольших лужаек, которые часто встречаются в лесах к западу от Миссисипи. Она представляла собой около акра земли, поросшей травой и цветами, среди которых можно было заметить подсолнечник и синий лупинус. Лужайку окружали высокие деревья, и, судя по их листве, здесь росли многие породы. Это можно было определить и по их стволам, так как все они были разные. У одних деревьев стволы были гладкие, а у других растрескавшаяся кора свисала завитками в фут длиной. Красивые тюльпановые деревья было легко отличить по их прямым, как колонны, стволам, которые распиливают, как вы, наверно, видели, на длинные доски для обшивки. Плотники и строители называют это дерево белым тополем. Название «тюльпановое дерево» происходит от его цветов, формой и размером очень напоминающих тюльпаны: цветы эти зеленовато-желтого цвета, с оранжевым отливом. Больше всего на этой поляне было именно таких деревьев. Кроме того, сразу бросались в глаза магнолии с большими, словно восковыми, листьями и цветами. Тут можно было увидеть и высокий сахарный клен, а пониже — раскидистый конский каштан с красивыми оранжевыми цветами и заросли орешника гикори. Огромные ползучие растения обвивали стволы и тянулись от дерева к дереву. На одной стороне лужайки виднелись толстые стебли тростника, похожего на высокую траву. Лес на другой стороне был намного реже — очевидно, в свое время пожар уничтожил весь подлесок в этом направлении. Веерообразные листья карликовых пальм и листья юкки придавали всей местности южный, тропический характер.
Юные охотники сделали привал часа за два до захода солнца, чтобы заблаговременно разбить лагерь. Примерно через полчаса лужайка представляла собой следующую картину.
Около опушки стояла маленькая брезентовая палатка в виде белого конуса, или пирамиды. Полог палатки был откинут, так как вечер был теплый. В палатке никого не было. Немного в стороне лежали на траве три седла. Это были мексиканские седла с высокой лукой; стремена их были стальные — не грубые деревянные, которые обычно так уродуют мексиканские седла. Рядом с седлами находился какой-то странный предмет: он напоминал гигантскую книгу, слегка приоткрытую и поставленную корешком вверх. Это было седло для вьючных животных, тоже мексиканское, называемое в этой местности «альпареха». На седле была крепкая кожаная подпруга с ремнем, который не позволял ему съезжать на шею животного.
Недалеко от седел на траве лежало несколько красных и зеленых одеял и шкуры медведя и бизона. На ветке висели кнуты, уздечки, бутылки из тыквы и шпоры. К стволу тюльпанового дерева, возвышавшегося рядом с палаткой, были прислонены три ружья. Два из них — карабины, один намного длиннее другого, третье — двуствольный дробовик. Патронташи и рога с порохом свисали с ружей на ремнях, перекинутых через шомпола.
С другой, подветренной стороны палатки горел костер. Его зажгли недавно, и он разгорался, потрескивая. По сильному красному пламени видно было, что это горит гикори — дерево, лучше всех других пригодное для костров, хотя для того, чтобы разжечь костер, мальчики воспользовались сухими ветками более легко воспламеняющихся деревьев.
По обеим сторонам костра в землю были воткнуты развилками вверх две палки, между которыми была перекинута еще одна, свежесрезанная, палка. На ней висел над огнем железный походный котелок, в котором уже начинала закипать вода. Вокруг были разбросаны сковородки, жестяные миски, пакеты с мукой, вяленым мясом и кофе, кофейник из прочного олова, небольшая лопата и легкий топорик с изогнутым топорищем из орехового дерева.
Это неодушевленные детали картины. Теперь перейдем к одушевленным.
Прежде всего — наши герои, три мальчика-охотника: Базиль, Люсьен и Франсуа. Базиль был занят палаткой, вбивал в землю колышки. Люсьен следил за костром, который он только что развел. Франсуа ощипывал диких голубей, подстреленных им по дороге. Все трое были одеты по-разному. Одежда Базиля была вся из оленьей кожи, за исключением шапки, сделанной из шкуры енота.
Шапка была украшена полосатым хвостом енота, свисавшим до плеча, словно страусовое перо. Капюшон охотничьей куртки был по краям отделан бисером. Куртка в талии была перехвачена ремнем, с которого свешивались охотничий нож в ножнах и маленькая кобура с поблескивающей из нее рукояткой пистолета. На ногах у Базиля были искусно расшитые вдоль швов гамаши из оленьей кожи и мокасины. Он был одет, как заправский лесной охотник, только белье его было тоньше и чище, а вышивка на куртке сделана с большим вкусом, чем у профессионального охотника.
Одежда Люсьена была небесно-голубого цвета: не то блуза, не то охотничья куртка и брюки из плотной хлопчатобумажной материи. На ногах у него были сандалии со шнурками, а на голове — широкополая панама. В общем, наряд его не выглядел так воинственно, как у старшего брата, но и у него на ремне тоже висел с одной стороны нож, а с другой — вместо пистолета маленький томагавк.
Люсьен носил томагавк не для того, чтобы убивать им кого-нибудь, — нет, он носил этот топорик, чтобы раскалывать не черепа, а скалы. Это был томагавк геолога.
Франсуа был еще в школьной курточке и брюках. Брюки были заправлены в краги, на ногах надеты мокасины; из-под суконной шапочки выбивались пышные кудри. На поясе у него тоже висел охотничий нож, а на левом бедре — маленький пистолет.
Ближе к середине поляны паслись три лошади, привязанные лассо к колышкам так, чтобы они не мешали друг другу.
Все три лошади были разные. Одна — большая караковая, с примесью арабской крови, очень сильная и норовистая. Это был конь Базиля, заслуженно пользовавшийся большой любовью мальчика. Звали его Черный Ястреб — в честь знаменитого вождя племени Лисиц, друга старого полковника, с которым тот познакомился во время посещения им племени индейцев.
Вторая лошадь была самая обыкновенная, гнедая, из породы, известной под названием «коб»[234]. Это было тихое, спокойное животное; во внешности ее не было ничего охотничьего или воинственного. Лошадь была упитанная и лоснящаяся, как дородный горожанин, поэтому ее звали Буржуа. Она, конечно, принадлежала спокойному Люсьену.
Третью лошадь можно было бы назвать пони, если принять во внимание ее рост, — она была намного меньше других.
Однако это была настоящая лошадь и по сложению и по нраву, одна из представительниц той породы низкорослых, но горячих лошадок, которых привезли в Новый Свет испанские завоеватели. Эти лошади известны теперь по всей западной части страны под названием мустангов.
Так как я буду еще говорить об этих красивых существах, то сейчас отмечу только, что этот маленький мустанг был пятнистый, как леопард, и отзывался на кличку «Кошка», особенно когда его звал Франсуа, ибо это была его лошадь.
Немного поодаль от лошадей стояло другое животное, грязно-серого цвета, с белыми подпалинами на спине и на боках. Это был настоящий мексиканский мул, упрямый и злой, как всякий представитель данной породы. Звали мула Жаннет это была самка.
Жаннет привязали на некотором расстоянии от лошадей, чтобы они не могли лягнуть друг друга, потому что мул и мустанг были не в особенно дружеских отношениях.
Жаннет и являлась обладательницей странного вьючного седла. Ее долгом было возить палатку, провизию, снаряжение и утварь.
На лужайке можно было видеть еще одно живое существо — собаку Маренго. По росту и коричневато-рыжему цвету ее можно было принять за кугуара, однако длинная темная морда и широкие висячие уши указывали на то, что это сильное животное — охотничья собака, помесь ищейки с догом. Собака примостилась около Франсуа в ожидании потрохов птиц, которых он сейчас ощипывал.
Ну вот, юный читатель, теперь перед тобой полная картина ночного лагеря мальчиков-охотников.
Глава 6
РЫЖАЯ БЕЛКА В ЗАПАДНЕ
Франсуа вскоре закончил ощипывать голубей и погрузил их в кипящую воду. Он добавил кусок вяленого мяса, соли и перцу, которые достал из мешка с запасами, так как хотел приготовить из голубей суп. Затем он смешал с водой немного муки, чтобы подправить его.
— Как жаль, — сказал он, — что у нас нет овощей!
— Подожди! — воскликнул Люсьен. — По-моему, в этой местности есть много всякой зелени. Дай я посмотрю — может быть, найду что-нибудь.
С этими словами Люсьен пошел по лужайке, внимательно глядя себе под ноги. Не найдя ничего подходящего среди трав, он направился к берегу маленького ручья, протекавшего поблизости.
Через несколько минут Люсьен уже возвращался, неся целую охапку овощей. Он молча бросил их перед Франсуа.
Овощи были двух видов: одни напоминали мелкую репу и действительно были индейским турнепсом, а другие — дикий лук, который часто встречается в Америке.
— Ого! — воскликнул Франсуа, сразу узнав их. — Какая удача! Честное слово, это репа и дикий лук. Теперь я сварю такой вкусный суп!
И он весело принялся резать овощи и кидать их в дымящийся котел.
Скоро мясо и голуби сварились, и суп был готов. Котелок сняли с огня, и три брата, усевшись на траве, наполнили жестяные миски и приступили к еде.
У них был запас серого хлеба на несколько дней. Когда хлеб кончится, они должны будут сами печь его из муки, которую взяли с собой в мешке, а когда и мешок истощится, они намеревались обходиться совсем без хлеба, как им частенько приходилось делать и раньше во время подобных экскурсий.
Пока мальчики наслаждались супом из голубей и обгладывали косточки жирных птиц, внимание всех троих внезапно привлекло какое-то движение на одной стороне поляны. Они заметили, как что-то, точно вспышка желтого света, мелькнуло вверх от земли. Все трое догадались, что это молниеносный прыжок белки по стволу дерева. А вот и сам зверек. Он вплотную прижался к стволу, замерев на мгновение, как обычно делают белки перед следующим прыжком.
— Смотрите-ка, — воскликнул Люсьен приглушенным голосом, — это рыжая белка, и какая красавица! Видите — она вся в отметинах, как пятнистая кошка. Папа дал бы двадцать долларов за такую шкурку!
— Она обойдется ему гораздо дешевле, — отозвался Франсуа, подкрадываясь к своему ружью.
— Стой, Франсуа, — сказал Люсьен. — Пусть Базиль попробует выстрелить — он стреляет лучше тебя.
— Хорошо, — ответил Франсуа. — Но если он промахнется, не мешает быть наготове.
Базиль уже поднялся и молча стал пробираться к ружьям. Подойдя к ним, он взял самое длинное и повернулся к белке. В это же время Франсуа вооружился своей двустволкой.
Дерево, по которому побежала белка, было мертвым — гнилое тюльпановое дерево, поврежденное молнией или бурей. Оно стояло немного поодаль от других, на открытом месте. Кругом почти ничего не росло. Голый ствол возвышался, как колонна, высотой в шестьдесят футов. Все сучья были сломаны ветром, за исключением одного, который, точно длинная рука, протягивался вверх по диагонали. Этот сук, изогнутый и расщепленный в нескольких местах, был не очень толстый; на нем не было ни веток, ни листьев; он был сухой, как и все дерево.
В то время, когда Базиль и Франсуа готовились к выстрелу, белка сделала еще прыжок и оказалась на конце сука, где и уселась в развилке, как бы любуясь закатом солнца. Лучшей мишени нельзя было и желать, тем более что мальчики могли подойти достаточно близко: зверек, казалось, не обращал внимания ни на них, ни на лошадей. Очевидно, на него никогда не охотились.
Белка сидела на задних лапках, подняв вверх и распустив, словно веер, пушистый хвост. Можно было подумать, что она наслаждается теплыми закатными лучами.
Мальчики осторожно продвигались по краю поляны. Базиль шел впереди. Когда он был уже на расстоянии выстрела, прицелился и хотел спустить курок, белка, которая до сих пор не замечала охотника, вдруг вздрогнула, будто испугавшись, опустила хвост и побежала по суку. Футах в двух от верхушки дерева она остановилась и распласталась на стволе.
Что могло испугать ее? Не мальчики, потому что она до этого не обращала на них внимания. К тому же белка все еще была на виду, по-прежнему представляя собой хорошую мишень. Если бы она испугалась охотников, она бы, как все белки, спряталась за стволом, — но нет, она не боялась их, так как лежала, прижавшись к стволу и подняв голову; по ее движениям было видно, что она опасается какого-то врага сверху.
Так это в действительности и было, потому что в воздухе прямо над деревом кружила большая хищная птица.
— Стой! — прошептал Люсьен, кладя руку на плечо Базиля. — Стой, брат! Это краснохвостый ястреб. Смотри, он хочет снизиться. Понаблюдаем за ним.
Базиль опустил ружье, и все трое стояли в ожидании.
Над головами мальчиков была раскидистая ветка, и птица не видела их или, может быть, поглощенная тем, чтобы заполучить свою добычу, не обращала на них в этот момент внимания.
Едва Люсьен кончил говорить, как ястреб, который до этого парил, широко раскинув крылья, вдруг сложил их и с громким «уиш-ш» устремился вниз. Ястреб упал почти перпендикулярно, чуть не коснувшись белки, и все трое, когда он снова взлетел, посмотрели, не держит ли он ее в когтях. Однако он промахнулся. Белка была настороже и, когда ястреб устремился вниз, с быстротой молнии обогнула ствол.
Управляя хвостом, как рулем, ястреб вскоре повернул и подлетел к другой стороне дерева, где теперь находилась белка. Несколько взмахов сильных крыльев быстро помогли ему набрать прежнюю высоту, и он снова ринулся вниз, на намеченную жертву. Белка опять увернулась и перебежала на другую сторону ствола. Ястреб еще раз повернул, поднялся, кинулся вниз на добычу, промахнулся и взмыл кверху. Четвертая попытка оказалась столь же безуспешной, и птица опять взлетела в небо и продолжала кружить над деревом.
— Странно, что рыжая плутовка не перескакивает на другое дерево, пробормотал Франсуа. — На дерево с густой листвой, которая закрыла бы ее, или на то дерево, где у нее гнездо, — там она была бы в безопасности.
— Она как раз это и хочет сделать, — ответил Люсьен. — Но смотри, враг прямо над ней. Вблизи нет ни одного дерева, и, если она попытается бежать по открытому месту, ястреб сейчас же схватит ее. Ты видел, как он стремительно падал?
В самом деле, белка поглядывала на соседние деревья с большим беспокойством. Хотя ей до сих пор и удавалось ускользать от врага, она все же была очень напугана. Как только ястреб снова поднялся над деревом на несколько ярдов, он опять начал кружить, издавая странный крик. То был не пронзительный крик, который часто можно услышать у этих птиц, а крик другого рода — будто он звал товарища. Так и оказалось. Через несколько минут из глубины леса послышался ответ, и в следующее мгновение другой ястреб, такой же краснохвостый, но намного крупнее, уже парил в вышине. Это явно была его подруга, так как самки этих птиц всегда намного крупнее самцов.
Теперь птицы вдвоем стали кружить над деревом, пересекая орбиты полета друг друга и глядя вниз. Белка, казалось, перепугалась еще больше — она хорошо понимала их намерения. Она начала бегать вокруг ствола, время от времени поглядывая по сторонам, как будто хотела спрыгнуть с дерева и кинуться в густой лес.
Ястребы не дали белке долго раздумывать. Тот, который был поменьше, снизился первым, но промахнулся, как и раньше, и лишь загнал ее за ствол. Испуганный зверек едва успел скрыться там, как большой ястреб, самка, со свистом налетел на него и заставил перебежать на другую сторону. Самец к этому времени повернул и кинулся вниз так неожиданно и с таким точным расчетом, что белка, будучи не в состоянии снова спрятаться за деревом, прыгнула в воздух. Ястреб последовал за ней и, прежде чем белка успела достичь земли, ринулся на нее. Затем с громким криком ястреб поднялся в воздух — в его когтях билась белка.
Однако триумф хищника продолжался недолго. Раздался треск дробовика, и оба — и ястреб и белка — тяжело упали на землю.
Почти одновременно прозвучал другой выстрел, и самка ястреба с перебитым крылом упала, кувыркаясь, вниз и затрепетала на траве, визжа, точно кошка. Франсуа ударом приклада скоро добил ее. Оба ствола его ружья были сейчас пусты, так как это он убил обоих краснохвостых ястребов.
Самое замечательное то, что белка не была убита ни выстрелом, ни падением. Наоборот, когда Люсьен наклонился, чтобы поднять ее, радуясь такой удаче, белка вдруг прыгнула, высвободилась из когтей мертвого ястреба и, кинувшись в лес, взобралась на высокое дерево. Все трое что было сил побежали за ней, но когда они достигли дерева (это был дуб пяти футов в обхвате), то увидели, к своему разочарованию, футах в пятидесяти от земли дупло, что и привело охоту за белкой к концу.
Глава 7
ФРАНСУА В ОПАСНОСТИ
Следующий привал наших охотников был у Реки Крокодилов. Этот заболоченный рукав Миссисипи, как и все реки Луизианы, представляет собой медленно текущий поток, который время от времени образует широкие пруды или озера. Он называется Рекой Крокодилов, так как в нем водится много аллигаторов, хотя в этом отношении он не так уж отличается от других рек Луизианы.
Мальчики выбрали место для лагеря на открытом участке берега, там, где рукав разливается в маленькое озеро. Оттуда открывался вид на все озеро, и вид этот был замечательный. По берегам озера возвышались огромные деревья — дубы и кипарисы; с их ветвей ниспадал, подобно серебряным нитям, испанский мох. Это придавало верхней части леса довольно угрюмый вид, и вся местность казалась бы мрачной, если бы не блестящая листва. То тут, то там сверкала на солнце большими белыми цветами, величиной с тарелку, зеленая магнолия.
Внизу рос густой тростник. Его высокие, похожие на пики бледно-зеленые стебли напоминали гигантскую пшеницу, когда она еще не выбросила колосья. Над тростником простирали свои серые ветви со светлой, не густой листвой камедные деревья. Изящные пальмы поднимали вверх веера своих листьев, будто хотели защитить землю от палящих лучей солнца. Кое-где вода отражала причудливые очертания этих пальм.
Точно толстые канаты, с дерева на дерево протягивались дикий виноград, лианы и другие виды ползучих растений. Некоторые из них были покрыты густой листвой, другие пестрели замечательными цветами.
Красные колокольчики бигнонии, белые, точно звездочки, цветы вьюнков и алые лепестки болотной мальвы — смешение всех этих красок привлекало больших пестрых бабочек и красногрудых колибри, которые порхали среди нежных венчиков. Контраст с этими яркими пятнами составляли темные и мрачные места ландшафта. Деревья стояли здесь прямо в зеленой, тинистой воде. Прогалины леса позволяли видеть далеко вглубь. Здесь не было подлеска ни из тростника, ни из карликовых пальм. Черные голые стволы кипарисов поднимались на сотню футов; с их сучьев свешивался седой плакучий мох. Можно было различить большие коряги, похожие на конусы или на деревья, стволы которых, сломавшись, воткнулись в землю. Иногда через эти мрачные прогалины протягивались огромные лианы, больше фута в диаметре, напоминая чудовищную змею, переползающую с дерева на дерево.
Озеро все кишело аллигаторами. Видно было, как они отдыхали на низких берегах или уползали в темное, зловещее болото. Некоторые тихо плыли по поверхности, и из воды высовывались только их длинные гребни и точно зазубренные спины. В неподвижном состоянии эти уродливые существа напоминали засохшие деревья. Большинство из них лежали не шевелясь, отчасти из-за природной склонности к неподвижности, отчасти потому, что подкарауливали добычу. Лежащие на берегу держали пасти открытыми, время от времени закрывая их с громким лязганьем. Аллигаторы развлекались ловлей мух, которые, привлеченные запахом мускуса, летали вокруг ужасных челюстей и садились на липкие языки.
Некоторые аллигаторы ловили рыбу. Удары их хвостов по воде были слышны более чем на полмили. В лесной тишине раздавалось что-то похожее на кваканье жабы, но только очень громкое и страшное, как мычание быка; эти звуки издавали аллигаторы.
Это было устрашающее зрелище, но наши охотники привыкли к таким картинам и не испытывали страха.
Вокруг озера были и другие живые существа, гораздо более привлекательные. Вдали выстроились в ряд, как солдаты в строю, фламинго; их алое оперение сверкало на солнце. Недалеко от них находилась стая бело-черных журавлей, каждый высотой со взрослого человека; время от времени они издавали громкие трубные звуки. Здесь была и большая белая цапля с белоснежным опереньем и оранжевым клювом, и изящная луизианская цапля, и стайки светло-серых журавлей, которые казались на расстоянии стадом почти белых овец. Меланхолично стояли пеликаны. На шее у них виднелся толстый зоб, а клюв был похож на косу. Рядом можно было увидеть белых и красных ибисов и пурпурных водяных курочек.
Розовые колпики ходили по отмелям и ловили крабов и раков своими причудливыми клювами, а в ветвях деревьев сидела черная анхинга, жадно протягивая над водой длинную, змееподобную шею. В воздухе лениво кружила стая хищных сарычей, и два рыболова летали над озером, то и дело кидаясь вниз на добычу.
Вот что видели вокруг своего лагеря мальчики-охотники, — и такую картину можно часто наблюдать среди пустынных болот Луизианы.
Мальчики установили палатку на высоком берегу, где земля посуше. Место было открытое — там росло лишь несколько карликовых пальм. Животных привязали поблизости.
На ужин была оленина. Бьющий без промаха Базиль подстрелил самку оленя как раз перед тем, как они сделали привал. Базиль показал себя опытным мясником: олень был быстро освежеван и лучшие куски вырезаны на ужин и завтрак. Задние ноги оленя мальчики повесили на дерево, чтобы взять с собой, так как завтрашняя охота могла оказаться уже не столь успешной.
Все же осталось еще достаточно мяса на ужин для Маренго, и голодное животное с радостью воспользовалось этим обстоятельством. Собака знала, что во время подобных экспедиций не всегда попадаются жирные олени, а если это и случается, то на ее долю редко приходятся такие порции.
Было еще рано — часа два до захода солнца, когда охотники закончили ужин, или, вернее сказать, обед, потому что они ничего не ели с утра, за исключением нескольких кусков, проглоченных всухомятку во время полуденного привала. Базиль занялся починкой упряжи мула, которая испортилась в дороге, а Люсьен вынул записную книжку и карандаш и, усевшись на шкуру бизона, начал записывать впечатления дня.
Франсуа, которому нечего было делать, решил побродить по берегу реки и пострелять фламинго, если ему посчастливится подойти к ним поближе. Он знал, что это будет нелегко, но решил попробовать и, сказав братьям о своем намерении, вскинул ружье на плечо и ушел.
Франсуа вскоре скрылся из виду, войдя в густой прибрежный лес, через который пролегала узкая тропинка, притоптанная оленями и другими дикими животными. Он шел по тропинке, прячась за деревьями, чтобы фламинго, находившиеся в ста ярдах ниже по течению, не могли заметить его.
Не прошло и пяти минут со времени ухода Франсуа, как вдруг Базиль и Люсьен услышали выстрел и тут же — второй. Они знали, что это стреляет Франсуа, но в кого? Он не мог стрелять в фламинго, так как не успел еще подойти к ним. К тому же птицы были видны из лагеря. Все они, напуганные выстрелами, взлетели на верхушки деревьев.
Нет, Франсуа выстрелил не в фламинго. Тогда в кого же?
Этот вопрос с беспокойством задавали друг другу Базиль и Люсьен. Может быть, Франсуа наткнулся на оленя или на стаю индеек?
Так братья терялись в догадках, но вдруг из леса раздался страшный крик Франсуа. Базиль и Люсьен схватили ружья и побежали на поиски, но, прежде чем они успели достигнуть леса, на тропинке между деревьями показался сам Франсуа. Он бежал во весь дух. На пути перед ним лежал какой-то предмет, похожий на сухое дерево. Это не могло быть деревом, потому что оно двигалось. Это было живое существо — аллигатор! Он был огромный, футов двадцати в длину, и лежал прямо поперек дороги.
Базиль и Люсьен увидели аллигатора сразу, как только добежали до опушки. Они увидели также, что не он был причиной того, что Франсуа мчался с такой быстротой, потому что мальчик бежал прямо на аллигатора. Все мысли Франсуа были поглощены чем-то, что было позади, и он совсем не видел аллигатора, хотя братья кричали, чтобы предупредить его.
Франсуа все бежал и бежал и, споткнувшись о тело отвратительного пресмыкающегося, упал лицом вниз и выронил ружье. Однако он не ушибся и, вскочив на ноги, продолжал бежать. Выскочив из кустов, Франсуа крикнул, задыхаясь: «Медведь! Медведь!» Базиль и Люсьен вскинули ружья и посмотрели вдоль тропинки. Действительно, там был медведь, и он быстро приближался. Это в него стрелял Франсуа. Пустяковая рана только раздразнила медведя, и, видя такого слабого врага, как Франсуа, он погнался за мальчиком.
Сначала юные охотники думали искать спасения в бегстве, но медведь был слишком близко и мог напасть на любого из них, прежде чем они добегут до лошадей и отвяжут их. Поэтому мальчики решили остаться на месте. Базиль, который уже бывал на медвежьей охоте, не очень боялся этой встречи. Он и Люсьен держали ружья наготове, чтобы устроить мишке теплый прием.
Медведь неуклюже подвигался вперед, пока не достиг места, где лежал аллигатор. Пресмыкающееся повернулось вдоль тропинки и стояло теперь на своих коротких ногах, раздуваясь, как кузнечный мех. Медведь, занятый погоней за Франсуа, ничего не видел, пока не наткнулся прямо на аллигатора, и тогда, издав громкое рычание, отпрыгнул в сторону. Это дало аллигатору ту возможность, которой он дожидался, и через мгновение его мощный хвост ударил медведя с такой силой, что было слышно, как затрещали мишкины ребра.
Медведь, который в другое время не тронул бы аллигатора, так разъярился от этого незаслуженного оскорбления, что повернулся и, ринувшись на нового врага, крепко обхватил его поперек туловища. Они катались по земле: один — рыча и храпя, другой — мыча, точно бык.
Неизвестно, как долго продолжалась бы эта борьба и кто оказался бы победителем, если бы они были предоставлены самим себе, но Базиль и Люсьен выстрелили оба и ранили медведя. Это заставило его ослабить хватку, и он, казалось, уже был не прочь удрать, но аллигатор схватил его лапу своими сильными челюстями и крепко держал, в то же время стараясь подтащить к воде. Медведь явно понял намерение врага и издавал громкие, жалобные вопли, визжа, как боров под ножом мясника. Но ничто не помогло: безжалостный противник добрался до берега, волоча медведя за собой, и втащил его в воду. Погрузившись, они оба исчезли из виду, и, хотя мальчики продолжали наблюдать еще около часа, ни зверь, ни пресмыкающееся не показались снова на поверхности. Медведь, без сомнения, сразу захлебнулся, а аллигатор, задушив его, спрятал труп в ил, чтобы сожрать, когда проголодается.
Глава 8
ОБ АЛЛИГАТОРАХ
Мальчики вернулись к палатке под впечатлением сцены, свидетелями которой только что были. Они легли на траву и начали разговаривать. Предметом их беседы были медведи и аллигаторы, однако больше всего они говорили об аллигаторах, об их своеобразных повадках. Юным охотникам было известно много необычайных историй об этих животных, — даже маленькому Франсуа, а Базиль, давно уже охотившийся на болотах и реках, довольно хорошо знал нрав аллигаторов. Но Базиль был не очень наблюдателен и замечал только те их особенности, с которыми иногда сталкивался во время охоты, в то время как Люсьен более тщательно наблюдал повадки аллигаторов и, кроме того, изучал их по книгам. Поэтому Люсьен был отлично знаком со всем, что знали натуралисты об этих животных, и по просьбе братьев согласился в часы, оставшиеся до сна, поделиться с ними своими знаниями.
— Аллигатор, — начал он, — принадлежит к отряду крокодилов, состоящему всего из одного семейства, которое так и называется «крокодилы» и разделяется на четыре группы видов.
— Сколько же всего видов? — спросил Базиль.
— Натуралистам известно немного больше двадцати видов. Крокодилы делятся на собственно крокодилов, гавиалов, аллигаторов и кайманов. Эта классификация основывается преимущественно на строении черепа и зубов. У собственно крокодилов длинные, остроконечные, узкие морды и с обеих сторон нижней челюсти по большому зубу. Когда пасть закрывается, зубы входят в особые ямки в верхней челюсти. Гавиалы — тоже с длинной, узкой мордой, но утолщенной на конце, и зубы у них почти все одинаковые и ровные. У аллигаторов, напротив, широкие, плоские морды, но заостренные на конце, как у щук, и очень неровные зубы, а на нижней челюсти четвертый зуб очень большой; когда закрывается пасть, он входит в особое углубление в верхней челюсти. Известно пять видов собственно крокодилов. Четыре из них можно найти в реках Африки, а пятый обитает в Вест-Индии, Центральной и Южной Америке. Гавиалы водятся в Азии, особенно в Ганге и в других реках Индии. Аллигаторы встречаются в Америке — их много в Северной и в Южной Америке. Их близкая родня — кайманы, распространенные в Центральной и Южной Америке. Несомненно, когда великие реки Северной Америки будут лучше изучены, найдут еще какие-нибудь разновидности. Я слышал о видах, обитающих в озере Валенсия, в Венесуэле, и отличающихся от вышеупомянутых американских. Они гораздо меньше, и за ними усиленно охотятся индейцы из-за их мяса, которым индейцы очень любят лакомиться.
Итак, я думаю, вполне достоверно, что все эти разновидности семейства крокодилов имеют почти одинаковые повадки. Различие в них определяется климатом, пищей или другими обстоятельствами. Поэтому то, что я расскажу вам об аллигаторе, вы можете применить в большой мере и ко всем его чешуйчатым кузенам. Вы знаете, какого он бывает цвета: серовато-коричневый сверху и грязно-желтовато-белый снизу. Вы знаете, что аллигатор весь покрыт щитками и чешуей, и видели, конечно, что на спине эти толстые щитки образуют ряды пирамидок. На хвосте пластинки вытянуты в зубцы, и хвост выглядит зазубренным, словно пила. Заметьте, что хвост сплющен вертикально, не так, как у бобра, у которого он плоский, горизонтальный. Лапы у аллигатора короткие и мускулистые. На передних — пять пальцев, на задних лапах — по четыре пальца, соединенных перепонкой. Голова аллигатора немного похожа на голову щуки. Ноздри расположены близко к концу морды. Глаза выдаются вперед, и сразу за глазами находятся ушные отверстия. Зрачки глаз темные, радужная оболочка — лимонного цвета, и зрачки не круглые, как у человека, а овальные, как у козы.
Все это вы можете заметить, глядя на аллигатора, но есть кое-что особенное в строении этого животного, что вы не сразу обнаружите. Его челюсти, например, открываются очень широко и по-особому сочленены между собой. Благодаря такому сочленению, когда аллигатор открывает пасть, шея его слегка подается вверх, и кажется, что двигается верхняя челюсть, хотя на самом деле двигается нижняя.
— Да, я часто слышал, будто у крокодилов подвижна именно верхняя челюсть, — сказал Франсуа.
— Так думали и говорили больше тысячи лет. Однако это неверно. Двигается именно нижняя челюсть, как и у других позвоночных, но внешнее впечатление, как я уже говорил, ведет к этой ошибке, сделанной невнимательными наблюдателями. Есть еще один пункт, о котором стоит упомянуть. Каждое из ушных отверстий защищено парой клапанов, которые при погружении аллигатора в воду закрываются. Ноздри также защищены клапанами.
Тело аллигатора длинное, а ноги короткие; тяжелый и неуклюжий, он не в состоянии быстро поворачиваться на суше. Поэтому хищник не очень опасен на земле, если держаться подальше от его челюстей и могучего хвоста. Хвост — его основное оружие нападения и защиты, он очень подвижен, и аллигатор может одним его ударом сбить с ног и даже убить человека.
Многое об аллигаторах нам хорошо известно — например, то, что самки несут яйца величиной с гусиные и устраивают для них особое гнездо. Самка натаскивает растения, укладывает их в кучу и утрамбовывает. В такую кучу она зарывает десятка три яиц и хорошо прикрывает их сверху. Гниющая растительная масса разогревается; главное же — внутри кучи сыро, а сырость — обязательное условие для развития зародышей. Самка все время находится поблизости и охраняет гнездо от возможных нападений. А когда вылупливаются детеныши, она разрывает кучу, и маленькие аллигаторы ползут к воде. Как видите, заботы матери не очень уж сложны и велики.
— Кажется, они едят все, что попадается на пути? — заметил Франсуа.
— Они не очень разборчивы. Их обычной пищей является рыба, но они могут съесть и любое наземное животное, какое только в состоянии одолеть. Говорят, что аллигаторы предпочитают есть животных, когда те уже начинают разлагаться. Но это сомнительно. Известны случаи, когда они убивали крупных животных и оставляли их на несколько дней в воде. Но, может быть, они просто не были голодны в то время и хотели сохранить пищу до тех пор, пока появится аппетит…
Процесс пищеварения у них, как и у всех пресмыкающихся, очень медленный; им не требуется такого количества пищи, как теплокровным — млекопитающим и птицам.
— Ты говоришь, Люс, что их любимая пища — рыба, — сказал Базиль, — а я думаю, что они охотнее всего лакомятся собаками. Я знаю, что аллигаторы часто появляются там, где слышат лай собак, как будто специально для того, чтобы поймать и сожрать их. Я видел, как однажды аллигатор схватил большую собаку, переплывающую реку Беф, и утащил ее под воду с такой же быстротой, как форель — муху. Больше эту собаку никто не видел.
— Совершенно верно, — ответил Люсьен, — они едят собак так же, как и других животных, но является ли это их любимой пищей, сомнительно. Правда, аллигаторы приближаются к тому месту, где слышат собачий лай, но некоторые говорят, что это потому, что лай собак очень похож на звуки, которые издают их детеныши.
— Но как аллигаторы ухитряются поймать рыбу? — спросил Франсуа. — Ведь рыба движется гораздо быстрее их.
— Нет, лишь немногие породы рыб плавают быстрее. Аллигатор при помощи своих перепончатых лап и особенно плоского хвоста, который действует по принципу кормового весла и руля, может плыть в воде с такой же быстротой, как большинство рыб. Однако аллигатор добывает себе рыбу для еды не столько преследованием, сколько хитростью.
— Какой хитростью?
— Вы, наверно, часто замечали, как аллигаторы плавают на поверхности воды: не заметно ни одного движения тела, точно это лежит на воде какой-то длинный, изогнутый полукругом предмет.
— Да-да, я много раз замечал это.
— Так вот, если бы вы заглянули под воду в это время, вы бы увидели где-нибудь с внешней стороны полукруга рыбу. Она спокойно наблюдает за поверхностью воды в поисках добычи — мух или жуков. Рыба не обращает внимания на темную массу, которая медленно скользит по направлению к ней и выглядит вполне безопасной, так как голова хищника в это время повернута в сторону от намеченной жертвы. Кажется, что он спит, но он хорошо знает, что делается вокруг. Он тихо плывет дальше, пока рыба не очутится вблизи от его огромного хвоста, который до тех пор был выгнут, как лук. И тогда, наметив верную мишень, аллигатор ударяет по своей ничего не подозревающей добыче с такой силой, что сразу убивает ее. Иногда этот удар отбрасывает рыбу прямо ему в пасть, а иногда выкидывает на несколько футов из воды.
На земле аллигатор бьет свою добычу таким же способом. Во время удара его голова поворачивается так, чтобы встретить на полпути хвост, — таким образом, все тело образует полукруг. Если добыча не убита ударом хвоста, она отбрасывается прямо в пасть чудовища, и с ней расправляются в мгновение ока.
— Но почему аллигаторы едят камни и другие твердые предметы? — спросил Базиль. — Я видел одного вскрытого аллигатора. Его желудок был почти на целую четверть набит камнями величиной с мой кулак и кусками палок и стекла. Они выглядели так, будто уже долго пробыли в желудке: все острые края были обточены. Этого я никак не могу понять.
— Неудивительно. Даже более осведомленные ученые-натуралисты, чем мы с вами, не знают причины этого. Некоторые предполагают, что тут действует тот же принцип, что у птиц и других животных, которые глотают гравий и землю, чтобы помочь процессу пищеварения. Другие утверждают, что это делается для того, чтобы наполнить желудок, что это дает пресмыкающемуся возможность перенести долгий пост в течение зимней спячки. Последний довод кажется мне совершенно абсурдным.
Я думаю, что всякие посторонние предметы, которые обычно находят в желудке аллигатора, попадают туда случайно. Аллигаторы глотают их время от времени по ошибке или вместе с добычей, так как их вкусовые органы далеки от тонкости восприятия и они готовы пожрать все, что выбрасывается в воду, даже стеклянную бутылку. Все эти предметы остаются в желудке аллигатора, накапливаются там. Желудок у аллигатора, как и у большинства пресмыкающихся, очень грубый, и эти предметы не причиняют ему никакого вреда. Не следует сравнивать желудок аллигатора с желудком человека, так же как и какие-либо другие их органы.
Если наш мозг серьезно поврежден, мы умираем. Известны отдельные случаи, когда у аллигаторов мозг был разрушен выстрелом, а они еще сражались с теми, кто пытался приблизиться к ним. Мозг их, как и у большинства пресмыкающихся, очень мал. Это показывает, что они находятся на более низкой ступени развития, чем птицы и млекопитающие.
— Но, Люсьен, ты говоришь, что повадки семейства крокодилов очень сходны, — как же получается, что африканские крокодилы намного свирепее и часто нападают на обитателей Сенегала и Верхнего Нила и пожирают их? Наши аллигаторы не такие. Правда, они иногда бросаются на негров и, говорят, бывают причиной гибели детей, но это случается, только если сам человек по неосторожности попадется на пути аллигаторов. Они не опасны, если их не трогать. Мы, например, не боимся приблизиться к ним с одной только палкой в руках.
— Это потому что мы уверены, что они слишком неуклюжи на земле, чтобы схватить нас: ведь мы легко можем отскочить в сторону от их хвостов и челюстей. А не хотел ли бы ты сейчас переплыть эту реку? Я думаю, ты не рискнул бы.
— Конечно, нет.
— А если бы ты и рискнул, они, по всей вероятности, кинулись бы на тебя раньше, чем ты достиг противоположного берега. Но наши аллигаторы сейчас не такие, какими были сто лет назад. Мы знаем из достоверных источников, что они были тогда намного свирепее и опаснее и часто нападали на людей без всякого повода. Теперь они стали бояться нас, так как знают, что мы представляем для них опасность. Эти пресмыкающиеся легко могут отличить человека по виду и по вертикальной походке от других животных. Посмотрите, как много их уничтожили во время моды на крокодиловую кожу и как много их убивают и сейчас ради их жира и хвостов! Поэтому вполне естественно, что они должны бояться нас, и вы можете заметить, что они гораздо смирнее вблизи плантаций и селений, чем в необитаемой местности. Я слышал, что есть еще участки, в больших болотах, где к этим животным опасно приближаться.
Про аллигаторов и кайманов рассказывают множество всяких историй. Большинство из них вымышленные, но некоторые вполне достоверны. Я слышал одну, которая, я уверен, является правдой. Я расскажу ее вам, если хотите, хотя это очень грустная и трагическая повесть и я бы очень хотел, чтобы она не была правдой.
— Расскажи, расскажи нам! — воскликнул Франсуа. — Мы выдержим твой рассказ, у нас с Базилем нервы крепкие… Ведь правда, Базиль?
— Да, разумеется, — отозвался Базиль. — Рассказывай, Люс.
— Ну хорошо, — сказал Люсьен, — я расскажу. Это не длинная история и она не утомит вас.
Глава 9
МАТЬ-ИНДИАНКА И КАЙМАН
Наверно, в Америке нет другого такого места, где бы кайманы достигали больших размеров и были свирепее, чем на Магдалене и на ее притоках. Все эти реки текут в низменной части тропиков: климат там очень жаркий и, следовательно, чрезвычайно благоприятен для развития крупных пресмыкающихся. Не слишком деятельный характер людей, населяющих эту часть страны полуиндейцев, полуиспанцев, — является причиной того, что они почти не охотятся и не истребляют этих животных достаточно энергично. В результате они там меньше боятся людей и нередко нападают на них. Кайманы Магдалены иной раз пожирают туземцев, случайно попавших в воду, где обитают эти животные. Нередко лодочники, плавающие по реке Магдалене в своих плоскодонках, падают за борт и становятся добычей кайманов, так же как моряки в океанах становятся добычей акул.
Лодочники берут с собой ружья, чтобы стрелять в кайманов, но таким путем их уничтожено очень мало, так как убить каймана выстрелом очень трудно, а лодочник при этом еще должен управлять лодкой. Надо непременно попасть животному в глаз; все его остальное тело нельзя повредить даже выстрелом из мушкета. Конечно, тут необходим точный прицел и удобный случай, когда животное спокойно лежит на берегу или на воде. Когда кайман находится на суше, его можно застрелить, если попасть в мягкую эластичную кожу под лопаткой, но это очень ненадежный способ: часто бывает, что и несколько выстрелов в эту часть тела не могут убить животное.
Иногда жители Магдалены ловят кайманов при помощи лассо и, втащив на берег, убивают их топорами и копьями. И все же кайманы водятся в этих реках в большом количестве и редко уничтожаются обитателями, за исключением случаев, когда происходит какая-нибудь ужасная трагедия — например, если кайманы, схватив намеченную жертву, разрывают ее на части и пожирают. В таких случаях люди, сочувствуя несчастью соседа, пробуждаются от обычной апатии, объединяются и уничтожают множество этих ужасных пресмыкающихся.
История, которую я обещал вам рассказать, как раз на эту тему.
В нескольких милях от города Новый Карфаген на Магдалене жил один пастух. Его ранчо, крытое пальмовыми листьями, стояло в пустынной и малозаселенной местности на берегу реки, где водилось много кайманов. У пастуха была жена и маленькая дочь, шести-семи лет. Она была хорошенькая и, кроме того, единственный ребенок, и, конечно, родители обожали ее.
Пастуха часто не бывало дома — он уходил со стадом далеко в лес. Но жена его мало беспокоилась о том, что остается одна. Она была индианка и привыкла к таким опасностям, которые повергли бы в ужас городских женщин.
Однажды, когда муж ее, как обычно, отсутствовал — пас стадо, женщина пошла к реке стирать белье. Река была единственным источником воды около ранчо, и, стирая прямо в реке, женщина избавляла себя от труда носить воду. Кроме того, у берега лежал широкий, плоский и гладкий камень, на котором она обычно колотила белье. Маленькая дочь пошла с нею, неся узелок с бельем.
Женщина наполнила сосуды водой и принялась стирать. В это время девочка, желая развлечься, начала собирать спелые гуавы, срывая их с дерева, росшего на самом берегу и свисающего над водой. Занятая своим делом, мать вдруг услышала дикий крик и всплеск воды. Оглядевшись, она увидела, что ее ребенок погружается в воду и огромный кайман устремляется вслед за ним. В ужасе женщина уронила белье, бросилась туда и, не колеблясь ни минуты, прыгнула в воду, которая была ей по горло. В этот момент ребенок показался на поверхности. Мать схватила девочку на руки и хотела уже вытащить ее из воды, когда кайман кинулся вперед, разинув пасть, и одним взмахом мощных челюстей отделил ноги девочки от туловища. Девочка закричала еще раз, но это был ее последний крик. Когда мать выбралась на берег и положила на землю изувеченное тельце, ребенок уже не дышал.
Некоторое время несчастная мать сидела и смотрела на бренные останки. Иногда она наклонялась и целовала бледные, помертвевшие губы. Но она не плакала… Я ведь уже сказал, что она была индианка. Они ведут себя не так, как белые. Как бы то ни было, боль ее была слишком остра, чтобы проливать слезы.
Женщина не кричала, не звала на помощь — это было бесполезно: слишком поздно. Она знала, что вблизи нет никого — никого на расстоянии миль. Она поднимала глаза от искалеченного трупа лишь для того, чтобы взглянуть на темную воду: там, в тени кустов гуавы, плавало взад и вперед гнусное пресмыкающееся. Оно проглотило кусочек и нетерпеливо ожидало следующего.
На лице женщины было написано невыносимое страдание и жажда мести. Вдруг внезапная мысль пришла ей в голову. Она поднялась и, бросив взгляд сначала на тело дочери, а затем на каймана, быстро пошла к дому. Через несколько минут она возвратилась, неся длинное копье. Это было охотничье копье ее мужа, которое он часто применял при встречах с ягуаром и другими хищниками. Она принесла также и другие предметы: лассо, несколько веревок и два ножа.
Придя на берег, женщина с беспокойством огляделась. Кайман был еще здесь. Она повернулась и с минуту стояла, как бы раздумывая. Наконец женщина приняла решение и, наклонившись, вонзила копье в то, что осталось от ее ребенка. Это было страшное дело, но чувство мести превозмогло ужас. Затем она привязала к копью ножи, расположив их так, чтобы они торчали, как зубцы, придвинула изуродованное тельце вплотную к ножам и плотно затянула петлю лассо на древке копья. Другой конец лассо она обвязала вокруг ствола дерева, хорошо зная, что ее собственная сила ничтожна по сравнению с силой такого чудовища, как кайман.
Когда все было готово, женщина взялась за древко и метнула копье вместе с телом и со всем остальным в воду. Затем, взяв лассо в руки, она спряталась за кусты и стала ждать.
Ждать пришлось недолго. Кайман тут же бросился вперед и схватил тело ребенка своими огромными челюстями. Женщина оставалась неподвижной, выжидая.
Кайманы не жуют пищу; их зубы для этого не приспособлены — они созданы только для того, чтобы хватать, а язык, который они не могут высунуть, только помогает при глотании.
Через несколько мгновений тело исчезло в широком горле чудовища. Увидев это, женщина вдруг вскочила и сильно потянула лассо. Дикий вой известил о том, что ее намерение увенчалось успехом. Торчащие лезвия вонзились в каймана, и он был побежден.
Почувствовав, что его поймали, огромное пресмыкающееся нырнуло на дно, затем всплыло снова. Громко мыча, оно било хвостом, вспенивая воду. Кровь лилась из его пасти и ноздрей. Кайман метался из стороны в сторону, сотрясая дерево, но толстое ременное лассо сдерживало его.
Это продолжалось долго. Наконец силы каймана стали слабеть, и вот он уже лежал неподвижно в воде.
Во время всей этой сцены мать сидела на берегу реки в глубоком молчании, но, когда она устремляла глаза на чудовище, лишившее ее ребенка, они вспыхивали мстительным огнем.
Наконец звук конских копыт заставил женщину выйти из оцепенения. Она оглянулась Это приехал ее муж.
Грустная повесть была поведана ему; вскоре об этом узнали и все соседи. Горе было всеобщим, и сочувствие заставило подняться всю округу. В течение нескольких дней против кайманов велась война на уничтожение… Вот вам подлинный случай, — сказал Люсьен. — Со времени этого печального происшествия прошло не больше двух лет.
— Какая трагическая история! — с волнением воскликнул Базиль. — Черт побери, начинаешь ненавидеть этих чудовищ! Мне хочется сейчас же застрелить хоть одного!.. И, кроме того, мне нужен длинный зуб аллигатора, чтобы заряжать ружье.
С этими словами он взял ружье и пошел к воде. Вблизи не было видно ни одного аллигатора, хотя в реке можно было заметить десятки их.
— Стой, Базиль! — закричал Франсуа. — Потерпи немного, и я заставлю их приблизиться. Спрячься, а я выманю их к берегу.
Одним из достоинств Франсуа был необычайный талант подражания. Он мог имитировать все — от крика петуха до мычанья быка — и так естественно, что обманывал самих животных. Сбежав вниз, к берегу, он укрылся в зарослях юкки и начал скулить и лаять, как маленький щенок. Базиль тоже спрятался в кусты.
Через минуту несколько аллигаторов уже подплывали с разных сторон. Вскоре они достигли того места на берегу, где прятался Франсуа. Впереди всех был большой самец; задрав морду, он выполз из воды.
Аллигатор, конечно, рассчитывал чем-то поживиться, но ему было суждено разочароваться в своих ожиданиях. Раздался выстрел Базиля, и ужасное пресмыкающееся забарахталось в грязном иле и через некоторое время затихло. Аллигатор был мертв — меткая пуля угодила ему прямо в глаз.
Базиль и Франсуа вышли из засады — они не собирались зря тратить пули. Остальные аллигаторы, увидев людей, уплыли быстрее, чем приплыли.
Топориком Люсьена мальчики выбили из челюсти убитого аллигатора самые большие зубы, а страшное тело оставили лежать на месте — на съедение волкам и хищным птицам, всем тем, кто захочет им поживиться.
Поужинав куском оленины и запив его кофе, наши любители приключений расстелили в палатке шкуры бизона и улеглись спать.
На следующее утро они встали на рассвете и, вкусно позавтракав, оседлали коней и отправились дальше.
Глава 10
ПИЩА ШЕЛКОВИЧНЫХ ЧЕРВЕЙ
Покинув Реку Крокодилов, наши юные охотники направились прямо на запад, через прерии Оуплаусаса. Они не рассчитывали встретить бизонов в этих лугах бизоны уже давно оставили пастбища Оуплаусаса и ушли на запад. Вместо них на этих равнинах бродили тысячи длиннорогих животных. Но все они, хотя и не вполне ручные, имели хозяев, носили тавро и паслись под присмотром пастухов, которые объезжали стада на лошадях. В прериях Оуплаусаса имелись поселения белых, но наши путешественники не стали сворачивать со своего пути, чтобы посетить их, — целью экспедиции было продвинуться намного дальше, и нельзя было попусту терять время.
На пути им приходилось пересекать многочисленные притоки и реки, большинство которых текло на юг, впадая в Мексиканский залив. Мелководные реки они переходили вброд, а глубокие переплывали на лошадях. Это не представляло трудностей, так как и лошади, и мул Жаннет, и собака Маренго — все умели плавать, как рыбы.
После нескольких дней пути юные охотники достигли берегов реки Сабин, которая отделяет Луизиану от Техаса, бывшего тогда мексиканской территорией. Эта местность отличалась от большинства тех, которые они проехали. Тут было много холмов и возвышенностей; изменился и растительный мир: исчезли высокие темные кипарисы, уступив место соснам. Леса были светлее и не так густы.
Сабин разлилась, по мальчики все же переплыли ее и остановились на западном берегу. Хотя солнце было еще высоко, братья решили остаться у реки до конца дня, так как во время переправы намок багаж. Они разбили лагерь на полянке, в роще низкорослых деревьев. Там было много открытых лужаек, так как деревья росли далеко друг от друга, и вся рощица выглядела как запущенный сад. Кое-где, возвышаясь над остальными деревьями, виднелись конусообразные вершины магнолий; огромный голый ствол одной из них казался на расстоянии старой, разрушенной башней.
Земля была покрыта всевозможными цветами. Здесь были и голубой лупинус, и золотистые подсолнечники, и красные цветы мяты, и мальвы по пяти дюймов в диаметре. Там были и дикий виноград и другие ползучие растения, которые обвивались вокруг деревьев или протягивались гирляндами с одного на другое. Больше всего бросались в глаза ярко-алыми раструбами своих венчиков огромные цветы бигнонии.
Среди этих цветов наши охотники и расположились лагерем, разбив, как всегда, палатку и привязав животных.
Светило яркое солнце, и они разложили для просушки мокрую одежду и одеяла.
— Мне приходит в голову, — сказал Люсьен после того, как они закончили все приготовления, — что мы остановились на месте старого индейского города.
— Почему ты так думаешь? — спросил Базиль.
— А я вижу какие-то кучи, поросшие сорной травой и вереском. Это могилы индейцев или сгнившие бревна домов, которые когда-то стояли здесь. Об этом можно судить и по деревьям. Взгляните вокруг… Заметили вы что-нибудь особенное в этих деревьях?
— Ничего, — ответил Франсуа. — Ничего, за исключением того, что они в большинстве своем маленькие и низкие.
— Мне кажется, я все их видел и раньше, — сказал Базиль. — Здесь и тутовые деревья, и темные деревья грецкого ореха, и дикая слива, и папайя, и оранжевое дерево, и орешник гикори, и пиканы, и медовые локустовые деревья. Больше я ничего не вижу, кроме винограда и больших магнолий. Я видел все эти деревья и прежде.
— Да, — ответил Люсьен. — Но видел ли ты когда-нибудь, чтобы они росли вот так — все вместе?
— А, это другое дело! Кажется, нет…
— Это потому, — продолжал Люсьен, — что, как мне кажется, здесь были когда-то поселения индейцев. Эти деревья или другие, от которых они произошли, выросли здесь не сами, они были посажены индейцами.
— Но, Люс, — перебил Франсуа, — я никогда не слышал, чтобы у индейцев в этих местах были такие большие поселения. Ведь эти низкие леса простираются на несколько миль вниз по реке. Они должны были культивировать уж очень большую площадь.
— Я думаю, — отвечал Люсьен, — индейцы, которые сейчас заселяют этот район, никогда не сажали эти деревья. Вероятнее всего, это поселение древнего племени натчезов.
— Натчезов! Но ведь это название города на Миссисипи. Я не знал, что существовали индейцы, которые так назывались.
— Сейчас их нет, но когда-то большое племя, занимавшее всю территорию Луизианы, носило это имя. Говорят, что, подобно мексиканцами перуанцам, они достигли больших успехов в цивилизации: знали, как ткать материю и возделывать почву. Теперь этот народ вымер.
— Как же это случилось?
— Никто не может сказать. Некоторые старые испанские авторы утверждают, что это племя было уничтожено индейцами Южной Америки. Эта версия, однако, совершенно нелепа, как и большинство того, что было написано этими старыми испанскими авторами, книги которых можно рассматривать скорее как детский вымысел, чем как произведения разумных людей. Гораздо более вероятно, что натчезы были завоеваны другими индейскими племенами — криками и чикасавами, пришедшими с запада, и что остатки этого племени смешались и затерялись среди завоевателей. Таким образом, мне кажется, и исчезло это племя. Почему же это не может быть одним из их древних поселений, а деревья — остатками садов, которые они обрабатывали, выращивая фрукты или для каких-нибудь других целей?
— Но мы из таких деревьев извлекаем мало пользы, — заметил Франсуа.
— Что ты говоришь! — воскликнул Базиль. — Ты, Франсуа, который каждый год съедает столько орехов гикори, и пиканы, и красной шелковицы! Ты, который любит сочные фрукты, как опоссум! «Мало пользы»!
— Да, это правда, — ответил Франсуа. — Но мы не разводим эти деревья — мы находим их в лесу, где они растут сами по себе…
— Потому что, — прервал его Люсьен, — у нас есть преимущество перед индейцами. Мы ведем торговлю, мы получаем другие, лучшие сорта плодов из всех частей земного шара. У нас есть хлебные злаки, пшеница, рис и многое другое, чего не было у них, — поэтому мы можем обойтись без этих деревьев. А у индейцев — другое дело. У них был только маис, и, как и всем людям, им хотелось разнообразия. Эти деревья предоставляли им такую возможность… Индейские племена, жившие в тропиках, имели достаточно разнообразную пищу. Действительно, ни один другой народ, не знающий торговли, не был более обеспечен плодоносящими растениями и деревьями, чем ацтеки и другие племена юга. У племени натчезов, однако, и у тех, кто живет в зоне умеренного климата, были свои растения и деревья вроде тех, которые находятся перед нами, и от них люди и получали необходимую пищу и лакомые фрукты и напитки. Первые колонисты поступали так же, а многие поселенцы отдаленных районов и по сей день используют эти продукты природы.
— Не правда ли, Базиль, было бы интересно, — сказал Франсуа, обращаясь к старшему брату, — если бы Люсьен дал нам ботаническое описание всех этих деревьев и рассказал об их применении? Он ведь все это знает.
— Да, — ответил Базиль, — расскажи, пожалуйста.
— С удовольствием, — сказал Люсьен. — Но это не будет ботаническое описание в соответствии со школой Линнея[235], что вас скоро утомит и не прибавит вам знаний. Я расскажу только то, что сам знаю о свойствах этих деревьев и их применении. Заметьте, что не существует ни одного дерева или растения, которое бы не предназначалось природой для какой-нибудь цели. Если бы ученые-ботаники посвятили побольше своего времени изучению вопросов практического использования растений, их труды принесли бы колоссальную пользу всему человечеству.
Давайте начнем с шелковицы, поскольку ее особенно много вокруг. Если бы я взялся рассказать вам все, что известно об этом ценном дереве, это заняло бы весь день или даже больше. Я изложу вам лишь самое важное.
Шелковица была известна еще древним грекам. Мы знаем несколько видов этого рода. Без сомнения, в неисследованных странах встречаются и другие виды шелковицы, которых ботаники или совсем не знают, или еще не описали. То же можно сказать и о других деревьях, так как мы каждый день слышим о новых разновидностях, открытых предприимчивыми исследователями.
Итак, первой идет белая шелковица. Это наиболее важная разновидность из всех известных нам. Вы легко согласитесь с этим, когда я скажу вам, что весь наш шелк добывается от шелковичных червей, живущих именно на этом дереве. Оно называется белой шелковицей по цвету его ягод, которые, однако, не всегда белые — иногда они бывают пурпурные или черные.
Дать точное описание белой шелковицы трудно, так как, подобно яблоням и грушам, существует много ее разновидностей, происходящих от тех же семян, и, кроме того, это зависит от разницы в почве и климате. Однако можно сказать, что шелковица — небольшое дерево, редко достигающее сорока футов высоты. Оно ветвисто, и листья у него плотные, мясистые.
Самой важной частью шелковицы являются листья, так как именно ими питается шелковичный червь. Правда, шелковичный червь может питаться листьями и остальных разновидностей шелковицы, так же как и листьями многих других растений: вязов, фиговых пальм, латука, свеклы и эндивия, — но тогда шелк получается более низкого качества. Даже другие породы самой белой шелковицы дают разное качество этого замечательного материала.
Шелковица имеет и другое применение: ее древесина плотная и тяжелая, один кубический фут ее весит сорок четыре фунта. Во Франции шелковицу часто употребляют в токарном деле; из нее делают винные бочки, так как она придает белым винам приятный аромат фиалок. Из веток делают подпорки для винограда и изгороди, а из коры — путем процесса, который у меня нет времени описывать, можно выделывать материю, почти такую же тонкую, как сам шелк. Ягоды белой шелковицы, растущей в теплом климате, очень вкусные, и из них можно делать отличный сироп.
Предполагают, что белая шелковица впервые была вывезена из Китая, где ее и сейчас можно найти дикорастущей. Китайцы первыми стали культивировать ее для разведения шелковичных червей еще за две тысячи семьсот лет до нашей эры. Теперь это дерево можно найти повсюду: оно используется или в декоративных целях, или для производства шелка.
Следующая разновидность — это черная шелковица, называемая так по цвету ягод: они темно-пурпурные, почти черные. Этот вид происходит из Персии, но сейчас, как и белая шелковица, встречается во всех цивилизованных странах. Ее культивируют не столько для разведения шелковичных червей, сколько как декоративное и тенистое дерево. Хотя в некоторых странах, особенно в холодном климате, где другие виды не приживаются, ее разводят и на корм шелковичным червям.
Черную шелковицу легко отличить от белой. Кора черной шелковицы намного грубее и темнее; древесина ее не такая твердая и тяжелая, как у белой, но тоже очень прочная и употребляется в Англии для обручей, колес и шпангоутов[236] небольших кораблей. В Испании, Италии и Персии в качестве корма для шелковичных червей предпочитают листья черной шелковицы. Эти листья едят также коровы, овцы и козы. Особо приготовленные корни применяются как глистогонное средство. Ягоды имеют приятный, ароматный вкус; их можно есть и сырыми и в виде варенья; если их смешать с сидром, получается приятный напиток. Греки гонят из этих ягод прозрачную слабую водку, а французы делают вино; но его надо пить, пока оно молодое, так как вино скоро превращается в настоящий уксус. Эти ягоды полезны при лихорадке и ревматизме. Их с жадностью поедают всякие птицы — как дикие, так и домашние.
Это о белой и черной шелковице. Теперь переходим к третьей разновидности красной.
— Красная шелковица перед вами, — продолжал Люсьен, показывая на дерево, на которое он уже обращал внимание своих братьев. — Ее называют красной из-за ягод, которые, как вы знаете, темно-красного цвета и очень напоминают красную малину. Некоторые из этих деревьев, как видите, около семидесяти футов высотой, хотя обычно они несколько ниже. Обратите внимание на листья. Они имеют сердцевидную форму; многие из них десяти дюймов в длину и почти такой же ширины. Листья темно-зеленые и шершавые, и в тех местах, где растет белая шелковица, шелковичные черви не едят их; однако красная шелковица дает чудесную тень, и в этом одно из применений этих красивых деревьев. Ягоды тоже, по-моему, — и, я думаю, Франсуа согласится со мной, — не уступают по вкусу лучшей малине. Что касается стволов этого дерева, то их часто используют в кораблестроении в Южных штатах. Древесина красной шелковицы бледно-лимонного цвета и считается более подходящей по прочности для нагелей[237], чем любое другое дерево, за исключением локусты. Красная шелковица, так же как белая и черная, бывает разных пород, значительно отличающихся друг от друга.
Кроме того, есть еще четвертый вид этого рода, называемый бумажной шелковицей. Этот вид, однако, выделен ботаниками в другой род. Она заслуживает особого внимания, потому что это очень любопытное и ценное дерево, или, скорее, кустарник, так как оно не такое высокое, как три предыдущих дерева.
Родина бумажной шелковицы — Китай, Япония и острова Тихого океана, но ее, как и другие шелковицы, разводят в декоративных целях и в Европе и в Америке. Ее ягоды алого цвета и круглые, а не продолговатые, как у настоящей шелковицы, — и в этом одна из причин, почему ее выделили в самостоятельный род. Листья бумажной шелковицы непригодны для шелководства, но являются хорошей пищей для скота, и, поскольку это дерево растет быстро и имеет густую листву, некоторые говорят, что его надо разводить для корма скота вместо травы. Не знаю, делали ли уже такую попытку…
Самой интересной частью бумажной шелковицы является ее кора, которую употребляют для изготовления бумаги как в Китае, так и в Японии. Из нее делают красивую, так называемую индийскую бумагу для гравюр и тонкую белую ткань, которую носят жители островов Согласия и которая так поразила европейцев, когда они впервые увидели ее.
Можно было бы подробно рассказать о том, как делают эту ткань и бумагу, но это заняло бы сейчас слишком много времени.
Существует еще один род деревьев, сильно напоминающих шелковицу. Эти деревья ценятся за их древесину, которая дает хорошую желтую краску, известную под названием «желтое дерево». Дерево, из которого можно сделать лучшую из этих красок, — «красящий тут». Оно растет в Вест-Индии и в тропиках Америки, но его разновидности есть и в Северных штатах, хотя уже более низкого качества; из них добывают заменитель желтой краски, которая идет на продажу.
Вот и все о шелковице. Боюсь, братья, что у меня осталось мало времени, чтобы рассказать о других.
— О нет, времени достаточно! — сказал Базиль. — Нам больше ведь нечего делать. Лучше мы поучимся у тебя, чем будем слоняться без дела. И, честное слово, Люс, ты заставишь меня заинтересоваться ботаникой!
— Очень рад, — ответил Люсьен. — Я считаю, что это чрезвычайно полезная наука не только с точки зрения ее пользы для всяких ремесел и производства, но и для самого изучающего ее, так как, с моей точки зрения, это повышает культуру человека.
Люсьен хотел продолжать свое описание деревьев, но ряд происшествий прервал разговор на эту тему.
Глава 11
ЦЕПЬ РАЗРУШЕНИЙ
Прямо перед палаткой, совсем близко от нее, между двумя деревьями протянулись плети дикого винограда. Это были большие камедные деревья, и ползучие растения, которые переплелись между стволами, образовали своими темными листьями непроницаемую сетку. Между листьями виднелись цветы; их было так много, что они почти закрывали листву, и казалось, будто между деревьями натянут яркий ковер. Цветы были разных расцветок: некоторые — белые, как звездочки, но в большинстве это были большие алые колокольчики бигнонии.
Франсуа, слушая своего брата, время от времени поглядывал в том направлении, как бы любуясь цветами. Вдруг, прервав разговор, он воскликнул:
— Посмотрите туда: колибри!
В Америке не так часто можно видеть колибри, как это предполагают по рассказам путешественников. Даже в Мексике, где существует много их пород, вы не каждый день увидите колибри. Правда, вы можете их просто не заметить, если только не ищете их специально. Это такие крохотные существа и они так быстро летают, порхая с цветка на цветок, с дерева на дерево, что вы можете пройти мимо и вовсе не увидеть их или принять за пчел. А в Соединенных Штатах, где до сих пор известна только одна порода колибри, увидеть их — большая редкость, и это обычно вызывает интерес. Поэтому в восклицании Франсуа звучало удивление и удовольствие.
— Где они? — с живостью спросил Люсьен, поднимаясь.
— Вон там, — ответил Франсуа, — около бигнонии. Мне кажется, я вижу нескольких.
— Осторожно, братья, — сказал Люсьен. — Приблизимся тихонько, чтобы не спугнуть их. Мне хочется понаблюдать за ними.
Говоря это, Люсьен осторожно продвигался вперед. Базиль и Франсуа следовали за ним.
— А, — воскликнул Люсьен, когда они подошли ближе, — теперь я вижу одну! Это рубиновая колибри. Она пьет сок бигнонии. Они любят эти цветы больше всех остальных. Смотрите, она забралась внутрь цветка. Вот она вылезла обратно! Послушайте, какой звук издают ее крылышки: как жужжанье большой пчелы. Отсюда и их название — «жужжащие птички». Посмотрите, как блестит у нее горлышко прямо как рубин!
— Вон и другая! — воскликнул Франсуа. — Взгляните наверх! Эта не такая красивая, как первая. Она другой породы?
— Нет, — ответил Люсьен, — это самка той же породы. Но ее оперение не такое яркое, и ты можешь заметить, что грудка у нее не рубиновая.
— Больше я не вижу колибри, — сказал Франсуа после некоторого молчания.
— Я думаю, тут только две, — заметил Люсьен, — самец и самка. Сейчас период выведения птенцов. Несомненно, где-то поблизости у них гнездо.
— Попробуем поймать их? — предложил Франсуа.
— Это можно бы сделать, будь у нас сеть.
— Я могу застрелить их дробью.
— Нет, нет, — сказал Люсьен, — самая маленькая дробинка разорвет колибри на куски. В них иногда стреляют семенами мака или водой. Но не нужно, я хотел бы понаблюдать за ними так. Я хочу удостовериться в одном своем предположении. А вы пока поищите гнездо — у вас зоркие глаза. Вы найдете его поблизости, в какой-нибудь обнаженной развилке, а не в ветвях или листьях.
Базиль и Франсуа принялись искать гнездо, а Люсьен продолжал наблюдать за поведением крошечных пернатых созданий. Наш молодой натуралист хотел удостовериться, едят ли колибри и насекомых или они питаются только цветочным нектаром. По этому вопросу между орнитологами шел спор.
Пока Люсьен стоял и смотрел, прилетел, жужжа, большой шмель и уселся на цветок. Едва его ножки коснулись ярких лепестков, как самец колибри напал на него, словно маленькая фурия. Враги вместе вылетели из цветка, продолжая на лету свою борьбу. После короткого состязания шмель пустился наутек и улетел с сердитым жужжанием, которое, конечно, происходило оттого, что, улетая, он еще быстрее работал крылышками.
Крик Франсуа известил, что гнездо обнаружено. Оно помещалось в развилине низкой ветки, но яиц в нем еще не было, иначе обе птички не летали бы вдали от него.
Братья внимательно осмотрели гнездо, но не тронули его. Оно было свито из тонких нитей испанского мха, которыми и было прикреплено к ветке, а внутри выложено шелковистым пухом анемона. Гнездо представляло собой полушарие в один дюйм диаметром, открытое сверху, и было такое маленькое, что, если бы это был кто-нибудь другой, а не зоркий Франсуа — знаменитый птицелов и открыватель гнезд, он принял бы его просто за выпуклость на коре дерева.
Все трое вернулись, чтобы продолжать наблюдение за птичками, которые, не заметив, что возле их гнезда побывали люди, по-прежнему порхали среди цветов. Мальчики подкрались как можно ближе, прячась за ползучими растениями. Люсьен был ближе всех; его лицо находилось в нескольких футах от крохотных созданий, и он мог наблюдать за каждым их движением. Вскоре он был вознагражден зрелищем, разрешившим вопрос, который его интересовал.
Внимание Люсьена было привлечено роем синекрылых мушек. Они летали среди цветов, то садясь отдохнуть, то перелетая с одного на другой. Он видел, что птички несколько раз бросались на мух с открытым клювом и хватали их.
Итак, вопрос был решен: колибри питаются насекомыми.
Через некоторое время самка колибри улетела к своему гнезду, оставив самца среди цветов.
Любопытство мальчиков было удовлетворено, и они уже хотели вернуться к палатке, когда Люсьен вдруг сделал им знак и шепнул, чтобы они молчали. Франсуа первый заметил то, что вызвало странное поведение брата, а потом и Базиль.
Какое мерзкое существо они увидели!
Притаившись в листве, то подползая боком, то делая короткие прыжки и затем снова прячась, ползло отвратительное существо. Оно было примерно такого же размера, как и птички, но выглядело далеко не так же. Тело его состояло из двух соединенных в середине частей и все было покрыто красновато-коричневой шерстью, или волосами, которые стояли вертикально, как щетина; так же волосаты были все его десять длинных кривых лап. Спереди у него было двое щупалец, загнутых, как клешни, а сзади — два длинных рога, и, если бы не поблескивающие глазки, было бы трудно различить, где голова, а где хвост.
Безобразное тело цвета ржавчины, волосатые лапки — все это придавало существу поразительно зловещий вид, каким обычно отличаются все представители рода пауков.
— Прыгающий тарантул! — шепнул Люсьен братьям. — Смотрите, он охотится за колибри.
Это было очевидно. Шаг за шагом, прыжок за прыжком — паук приближался к цветам, где находилась птичка. Тарантул жадно следил за ней и всякий раз, когда она взлетала, отрываясь от цветка, припадал, прячась в листве. Когда же птичка садилась и была поглощена едой, притаившееся существо старалось сократить расстояние между ними быстрой перебежкой или прыжком, а затем снова пряталось в ожидании следующего удобного случая.
Так как птичка часто порхала вокруг цветов, пауку приходилось все время менять направление в своем преследовании. Птичка после одного из коротких взлетов устроилась над цветком бигнонии, прямо перед тем местом, где притаился тарантул. Она не влезла в чашечку цветка, а оставалась над ней, балансируя на своих трепещущих крылышках, в то время как ее длинный цепкий язычок высасывал мед. Она не пробыла в этом положении и нескольких секунд, как тарантул прыгнул вперед и схватил ее своими щупальцами. Птичка отчаянно чирикнула, как раненый сверчок, и заметалась. Ее крылышки были еще свободны, и мальчики ожидали, что она унесет паука, который обхватил ее тельце. Однако случилось по-другому.
После того как птичка отлетела на несколько футов от цветка, стало видно, что ее полету вдруг начало что-то мешать, и, хотя она все еще держалась в воздухе, кидаясь во все стороны, было ясно, что что-то мешает ей улететь совсем. Внимательно приглядевшись, мальчики заметили, что между нею и деревьями тянется тонкая, будто шелковая ниточка. Это была паутина, и она-то и не позволяла жертве унести тарантула в воздух. Крылышки скоро перестали двигаться, и оба они — и птичка и паук — повисли на конце паутинки. Так они висели в воздухе несколько мгновений.
Мальчики видели, что птичка мертва и тарантул впился своими челюстями в ее сверкающее горлышко.
Франсуа хотел броситься и уничтожить убийцу, но Люсьен, который был слишком рьяным натуралистом, чтобы позволить кому-нибудь прервать свои наблюдения, удержал нетерпеливого братишку, и все трое продолжали стоять неподвижно.
Тарантул начал раскачиваться на своей паутине — он хотел утащить добычу в ветви дерева, где у него было гнездо. Мальчики взглянули наверх. Там, в тенистом уголке, между большой лианой и стволом камедного дерева, была натянута паутина; туда-то и полз паук со своей бездыханной жертвой.
Наблюдая за тарантулом, мальчики вдруг увидели блестящий предмет, который двигался по неровной коре лианы. Поскольку растение имело почти фут в диаметре и цвет его был красновато-коричневый, это существо было сразу заметно на темном фоне, так как отливало яркими красками. Это было животное из породы ящериц, и если какая-нибудь ящерица может считаться красивой, то эта принадлежала к их числу.
Животное, как мы уже сказали, отличалось чрезвычайно яркой окраской. Вся спина его была золотисто-зеленая и переливалась, как изумруд; зеленовато-белого брюшка не было видно, так как животное лежало на лиане, виднелась лишь часть туловища, окрашенная в чисто зеленый цвет. Особенно бросалось в глаза раздувшееся ярко-красное горло животного; при свете солнца оно казалось разрисованным киноварью. Глаза сверкали огнем; их радужная оболочка напоминала полированное золото, в середине которого блестели, как брильянты, маленькие зрачки. Передние лапки были такого же цвета, как туловище. На концах пальцев были плоские расширения. Строение лапок и раздутое горло указывали на род, к которому принадлежало данное животное: аноли из семейства игуан — единственная разновидность аноли, обитающая на территории Соединенных Штатов.
Все эти сведения Люсьен сообщил братьям шепотом, пока они наблюдали за животным, притаившимся на лиане. Базиль и Франсуа и раньше видели представителей этой породы и знали, что это зеленая ящерица, или «хамелеон», как его иногда называют. Животное было не более шести дюймов длиной, и по крайней мере две трети длины занимали большая голова и тонкий, как кнут, хвост. Аноли двигался вверх по лиане, извивающейся между деревьями. Он не видел мальчиков, или, во всяком случае, не обращал внимания на их присутствие, — это храброе животное не боится человека. Все это время он не видел и тарантула. Но, продвигаясь вверх, аноли вдруг заметил, как тот карабкается по своей шелковой лестнице. Аноли сразу остановился и припал к лиане. Цвет его внезапно изменился: красное горло стало белым, затем пепельно-бледным, а ярко-зеленый цвет тела постепенно перешел в темно-коричневый, напоминающий ржавчину, и скоро уже стало трудно различить животное на коре лианы. Если бы глаза наблюдателей не были прикованы к ящерице, можно было бы предположить, что она исчезла совсем.
После того как аноли пробыл несколько секунд в неподвижности, у него, казалось, созрел план атаки. Было ясно, что он собирается напасть на паука, который, так же как мухи и другие насекомые, является его обычной пищей. Он перебрался на противоположную сторону лианы и продолжал двигаться вверх, подбираясь к гнезду тарантула. Одним рывком аноли достиг своей цели, хотя все время полз вверх ногами. Это он мог сделать при помощи плоских расширений на концах пальцев, благодаря которым ящерицы из рода аноли могут двигаться вверх по отвесным стенам, по стеклу окон и даже по гладкому потолку.
Несколько мгновений аноли лежал тихо, притаившись в ожидании, когда паук приблизится, а тот, занятый своим делом, и не предполагал, что рядом находится в засаде враг. Тарантул, несомненно, предвкушал удовольствие напиться крови колибри, которую тащил в свое темное шелковое жилище. Но ему не суждено было добраться туда. Когда тарантул был уже в нескольких дюймах от входа, аноли выскочил из-за ветки, схватил паука своими широкими челюстями, и все трое ящерица, паук и птичка — упали на землю. При падении тарантул выронил птичку. Между ящерицей и тарантулом произошла в траве короткая борьба. Тарантул сражался яростно, но не мог сравниться с противником, который вскоре откусил ему ноги, и от паука осталось только беспомощное, недвижимое туловище. Потом аноли схватил свою жертву за голову, вонзил в нее острые зубы и таким образом прикончил тарантула.
Замечательнее всего было то, что, когда аноли прыгнул на свою добычу, его яркие краски вернулись подобно вспышке молнии: спина снова стала зеленой, а горло — красным, пожалуй еще более ярким, чем прежде. Теперь он тащил паука но траве, явно пробираясь к находившейся вблизи груде гнилых деревьев, наполовину скрытых ползучими растениями и вереском. Очевидно, там было его жилище.
На этот раз Франсуа не пытался и не имел желания вмешиваться. Он рассматривал смерть тарантула как справедливую кару. Кроме того, аноли, благодаря тому, что они обладают красивой окраской и ловкостью и не причиняют вреда человеку, пользуются всеобщей любовью. Дело в том, что Франсуа, так же как и его братья, часто наблюдал, как это маленькое существо прыгает среди листвы и кормится мухами и другими насекомыми, но никогда раньше не видел это пресмыкающееся в такой ярости. Мальчики одобряли аноли за то, что он убил страшного тарантула, и не хотели мешать ему унести добычу. Однако было суждено, чтобы препятствие возникло с другой стороны. Франсуа, зоркие глаза которого приглядывались ко всему окружающему, вдруг воскликнул:
— Посмотрите, братья, посмотрите: ящерица-скорпион!
Базиль и Люсьен взглянули туда, куда показывал Франсуа, — на ствол дерева, мимо которого сейчас полз хамелеон. В двадцати футах от земли в дереве было темное круглое отверстие — очевидно, бывшее гнездо красногрудого дятла. Однако птицы, свившие это гнездо, покинули его, так как теперь оно было занято существом совсем другого рода — ящерицей-скорпионом, чья красная голова и коричневая шея торчали в этот момент из дупла.
Каждый, кто путешествовал по бескрайним лесам Америки, знаком с подобной картиной, так как это пресмыкающееся можно часто видеть в таком положении. Редко встречается более неприятное зрелище. Ящерица-скорпион, с ее красной головой и оливково-коричневым телом, — очень некрасивое пресмыкающееся, но, когда оно вот так выглядывает из своей мрачной норы в стволе дерева, поводя из стороны в сторону острой мордочкой, на которой зловеще поблескивают злые глазки, трудно представить себе более отвратительное существо.
Двигающаяся голова ящерицы-скорпиона и привлекла внимание Франсуа. Она поворачивалась то вправо, то влево, когда пресмыкающееся высовывалось из дупла и глядело вниз. Животное смотрело на землю под деревом и явно собиралось спуститься. Шуршанье аноли по сухим листьям привлекло его внимание.
Вдруг ящерица-скорпион появилась на дереве и прижалась к коре. Задержавшись на мгновение, она быстро пробежала по стволу вниз и прыгнула на аноли. Последний, так неожиданно атакованный, выронил паука и сначала хотел отступить. Если бы он это сделал, ящерица-скорпион не последовала бы за ним, так как единственной ее целью было отнять добычу. Аноли, однако, мужественное животное, и, видя, что противник немногим крупнее его самого, он повернулся и приготовился к сражению. Горло аноли раздулось до предела и стало еще ярче.
Оба находились теперь друг перед другом в угрожающих позах на расстоянии дюймов двенадцати. Глаза противников сверкали, раздвоенные языки были высунуты и блестели на солнце, а головы то поднимались, то опускались, как у боксеров, вышедших на ринг.
Вот они кинулись друг на друга, разинув пасти, и стали кататься по земле, взмахивая хвостами; затем снова разошлись и приняли прежнюю вызывающую позу. Так они сходились и расходились несколько раз, и ни один из них, казалось, не мог взять верх.
Уязвимым местом зеленой ящерицы аноли является ее хвост. Это такая чувствительная часть тела, что даже от слабого удара маленького прутика хвост отделяется от туловища. Ящерица-скорпион, казалось, знала об этом, так как несколько раз пыталась обойти своего противника сзади, или, как говорится у военных, «зайти ему в тыл», и явно стремилась атаковать его с хвоста. Аноли, в свою очередь, прилагал все усилия, чтобы не быть обойденным «с фланга». Как ни старалась ящерица-скорпион, противник каждый раз встречал его своей алой грудью.
Поединок длился несколько минут. Маленькие существа эти проявляли такую ярость, как будто бились два крокодила. Наконец аноли начал сдавать. Горло его побледнело, зеленый цвет стал менее ярким, и стало ясно, что силы покидают его. Тогда ящерица-скорпион сделала прыжок и перевернула его на спину. Прежде чем аноли успел вскочить, противник схватил его хвост и откусил у самого туловища. Бедняга, чувствуя, что потерял больше половины своей длины, пустился наутек и спрятался в валежнике.
Как оказалось впоследствии, аноли посчастливилось, что он убежал, хотя бы и изуродованный; да и для ящерицы-скорпиона лучше было бы оставаться в своей норе. Сражаясь, они отдалились от того места, где началась их битва, и оказались под раскидистой шелковицей. И тут внимание мальчиков было привлечено каким-то движением в листве дерева. В следующее мгновение там мелькнуло что-то красное, и с дерева свесился предмет в фут длиной и толщиной с трость. Блестящая чешуя и то, что предмет извивался, ясно говорили о том, что это змея.
Она стала медленно опускаться, и скоро из листвы уже был виден целый ярд ее тела. Остальная часть тела змеи была скрыта густой листвой; хвостом она, несомненно, обвилась вокруг ветки. Та часть тела змеи, которая была видна, была кроваво-красного цвета, а живот, или нижняя часть, — намного бледнее.
— Смотрите, — тихо сказал Франсуа, — какая красная змея! Я никогда еще не видел таких.
— Я тоже, — отозвался Базиль.
— И я, — сказал Люсьен. — Но я слышал о них. Я легко узнаю ее по описаниям. Это красная змея Скалистых гор.
— О, — заметил Базиль, — я слышал рассказы о ней от охотников!
— Да, — добавил Люсьен, — это редкая порода, и встречается она только на Дальнем Западе… Смотрите, скорпион хочет убежать! И аноли тоже убегает. Без хвоста!
Ящерица-скорпион увидела длинное красное тело змеи, висящее над ней, и побежала, стараясь спрятаться в траве. Вместо того чтобы броситься к какому-нибудь дереву, где ее могло бы спасти то, что она проворнее змеи, испуганная ящерица растерялась и выскочила на открытое место. Змея спустилась с шелковицы и поползла за своей жертвой, высоко подняв голову и открыв пасть. Через одну-две секунды она догнала ящерицу.
Люсьен был в восторге от только что полученного интересного урока естествознания и опять удержал Франсуа, хотевшего выбежать вперед. Мальчики придвинулись немного ближе, чтобы получше рассмотреть движение змеи. Они старательно прятались за листьями и кустами.
Змея, убив ящерицу-скорпиона, осталась на земле и, вытянувшись на траве, начала пожирать ее. Змеи не пережевывают пищу — их зубы для этого не приспособлены, они могут ими только хватать и убивать. Красная змея не ядовитая, и поэтому у нее нет таких длинных зубов, как у ядовитых змей. Вместо них у нее имеется двойной ряд острых зубов. Она очень проворна и обладает достаточной силой, чтобы сжимать своими кольцами, чего не может делать почти ни одна ядовитая змея. Как и все другие, она глотает добычу в том виде, в каком убивает, — целиком.
Так вела себя и эта змея. Поместив ящерицу прямо перед собой, она разинула пасть во всю ширину, взяла в рот ее голову и начала постепенно заглатывать. Это была любопытная операция, и мальчики с интересом наблюдали за ней.
Но и другие глаза следили за пресмыкающимся. Его яркое, кроваво-красное тело, лежащее на траве, бросилось в глаза зоркому врагу, темная тень которого скользила сейчас по земле. Подняв глаза, мальчики обнаружили птицу, которая кружила в воздухе. По ее снежно-белой голове и груди, широко раскинутым заостренным крыльям и, самое главное, по длинному раздвоенному хвосту они с первого же взгляда определили, что это за птица. То был вилохвостый коршун.
Он кружил, или, вернее, летел по спирали, постепенно снижаясь и сужая круг. Центром этого круга было то место, где лежала змея. Приятно было видеть, как эта птица парила в воздухе. Ее полет был идеалом непринужденности и грации — в этом отношении ни одна птица не может сравниться с коршуном. Ни один взмах его больших остроконечных крыльев не выдавал того, что ему необходима их помощь: казалось, он гордится тем, что может держаться в воздухе и без них. К тому же движение крыльев, если бы он взмахивал ими, могло обратить на себя внимание намеченной жертвы и предупредить ее об опасности.
Коршун казался совсем белым, когда поворачивался к зрителям грудью, а когда наклонялся при повороте, на солнце сверкали его черная спина и пурпурные крылья.
Это было красивое зрелище, и юные охотники стояли в немом восхищении.
Базиль и Франсуа были удивлены, что коршун не бросился сразу на змею, так как полет его явно был направлен в ее сторону. Они видели, что так поступали другие хищные птицы, такие, как краснохвостый ястреб, сапсан и скопа, которые иногда бросаются на свою добычу прямо с высоты нескольких сотен футов. Люсьен, однако, был осведомлен лучше. Он знал, что подобный подвиг могут совершать только те хищные птицы, у которых хвост сплошной, не раздвоенный, — такие, как белоголовый орлан и птицы только что упомянутых пород. Их широкие хвосты сразу пресекают движение вниз и не дают им разбиться о землю. Коршуны же не обладают этим качеством, в чем Люсьен видел чудесный закон природы — она уравняла преимущества этих двух пород птиц.
Люсьен рассуждал так.
Ястребы, хотя и очень быстро летают и в состоянии совершать большие перелеты, не могут оставаться в воздухе долго. Они скоро устают и должны время от времени отдыхать, садясь на какое-нибудь дерево. Можно заметить, что ястребы часто выбирают засохшие деревья, стоящие на открытых местах. Они делают это, чтобы листья не мешали им осматривать окрестность и выслеживать добычу. Но даже этого им недостаточно, и, чтобы лучше обнаружить ее, им часто приходится подниматься в воздух.
Коршуны же всегда, или почти всегда, находятся в воздухе. Они фактически живут в небесных просторах: даже пищу свою они поедают на лету, держа ее в когтях. Таким образом, они имеют гораздо больше возможностей увидеть свою добычу, чем их собратья из породы ястребов. Если бы коршуны обладали способностью кидаться на добычу с такой же уверенностью, как ястребы, у них было бы большое преимущество перед последними: отсутствие же этой способности уравновешивает их. Как я уже сказал, Люсьен видел в этом известное «равновесие сил», которое часто наблюдают те, кто изучает природу.
Эти мысли промелькнули в голове Люсьена за те несколько секунд, которые прошли с момента, когда мальчики впервые заметили коршуна, парящего в воздухе, до того, как он пролетел над самыми кустами — так низко, что они могли различить красную радужную оболочку его блестящих глаз.
Тут только змея впервые заметила коршуна. До сих пор она была слишком занята добычей, которую наконец заглотала. Тень больших крыльев упала на освещенную солнцем траву, прямо перед глазами змеи. Она взглянула наверх и увидела своего страшного врага. Все ее длинное тело содрогнулось, и красный цвет вдруг поблек. Змея спрятала голову в траву, стараясь укрыться, но было поздно. Коршун снизился плавно и бесшумно, выпустив когти, и на мгновение замер в воздухе прямо над змеей… Когда он снова взмыл вверх, змея уже извивалась в его когтях.
Несколько взмахов сильных крыльев подняли коршуна выше самых высоких деревьев, но заметно было, что лететь ему тяжело. Он поднялся еще выше, и взмахи его крыльев стали более частыми и неровными. Очевидно, что-то затрудняло его полет. Змея больше уж не висела в когтях коршуна — она обвилась вокруг его тела. Блестящие кольца змеи, наполовину скрытые в белом оперении птицы, выделялись точно красные ленты.
Вдруг коршун беспорядочно замахал крыльями, затем одно из его крыльев исчезло из виду, и, несмотря на судорожные взмахи другого крыла, оба они — и птица и змея — тяжело упали на землю.
Они упали близко от того места, где поднялись. Ни тот, ни другая не были убиты при падении — казалось, они даже не ушиблись, так как, едва коснувшись земли, начали яростную борьбу. Птица стремилась высвободиться из обвивавших ее колец, а змея старалась удержать ее. Змея словно знала, что в этом ее единственная надежда: если бы она отпустила коршуна и попыталась уползти, тот опять схватил бы ее. Только потому, что змея спрятала голову в траву, коршуну не удалось схватить ее за шею и прикончить сразу. Возможно, что в данный момент ее противник был бы рад свести борьбу «на ничью», так как находился в еще худшем положении. При создавшейся обстановке змея бесспорно имела преимущество.
Борьба обещала быть длительной. Змея изо всех сил извивалась на земле, а птица все билась одним крылом, которое было еще свободно, и в положении сражающихся долго не было заметно никаких изменений. Они останавливались, чтобы передохнуть, через каждые две-три минуты.
Как же суждено было кончиться поединку?
Коршун не мог убить змею, так как ему не удавалось достать до нее ни клювом, ни когтями. Свою первоначальную хватку он утерял при падении и теперь уже не был в состоянии возобновить ее, так как змея очень плотно обвилась вокруг его тела.
С другой стороны, змея не могла убить коршуна, потому что, хотя и обладала известной силой для того, чтобы сжать своими кольцами птицу, силы этой было все же недостаточно. Ее хватало, чтобы удержать и до некоторой степени сжать своего врага, но не хватало, чтобы раздавить и задушить его.
В этот момент оба врага хотели бы находиться как можно дальше друг от друга, но не могли разойтись, не подвергаясь каждый большой опасности.
Коршун не мог вырваться, а змея не решалась выпустить его.
Как же суждено было этому кончиться, если не вмешается какая-нибудь третья сила? Этот вопрос задавали себе наши любители приключений, с интересом наблюдая за происходящим. Они строили следующие предположения.
Борьба кончится, когда кто-нибудь из двоих умрет с голоду. По кто погибнет первым? Хорошо известно, что коршун может прожить без пищи несколько дней. Но и змея тоже. Больше того: пресмыкающееся может прожить без пищи в десять раз дольше, чем птица, а змея только что пообедала — великолепно пообедала ящерицей-скорпионом, которая сейчас находилась еще не переваренная в ее желудке. Коршун же, очевидно, давно ничего не ел и был очень голоден, если решил попытаться съесть кроваво-красную змею в четыре фута длиной, так как его обычной пищей являются саранча, аноли и маленькие зеленые змейки. Следовательно, со всех точек зрения, у змеи было преимущество перед птицей и змея оказалась бы победительницей. Так бы и кончилось все происшествие, если бы противники были предоставлены самим себе.
К такому заключению пришли юные охотники и, понаблюдав борьбу и удовлетворив свое любопытство, хотели уже выйти из кустов и положить ей конец, когда новые действия сражающихся заставили мальчиков снова притаиться.
Коршуну удалось приблизить свою голову к голове змеи, и он ударял по ней открытым клювом, стараясь схватить ее за челюсти. Коршун лежал на спине — эти птицы лучше всего сражаются в таком положении. Змея изо всех сил старалась укусить врага и время от времени открывала пасть, обнажая двойной ряд острых конусообразных зубов. В один из таких моментов коршун нанес ей сильный удар и захватил в клюв нижнюю челюсть змеи. Та сейчас же закрыла пасть, но острые змеиные зубы не могли повредить твердый клюв, и птица не обращала на это внимания.
Коршун продолжал крепко держать змею своим мощным клювом. Теперь он завоевал преимущественное положение. Он не собирался медлить и хотел использовать свое превосходство. Быстро перевернувшись при помощи крыла, он впился в землю когтями одной лапы и стал подтягивать голову змеи поближе к себе, пока она наконец не оказалась в пределах досягаемости другой его лапы. Затем одним яростным ударом он захватил горло врага когтями и стал сжимать его, точно тисками.
Это положило конец борьбе. Красные кольца ослабли и соскользнули. Змея еще слегка шевелилась, но это были уже предсмертные судороги. Через несколько мгновений тело ее лежало, вытянувшись на траве, без сил и без движения.
Коршун вскоре вырвал клюв из челюстей змеи, поднял голову, расправил крылья, чтобы удостовериться, что свободен, и с победным криком поднялся в воздух, а за ним потянулось, точно шлейф, длинное тело змеи.
В это время другой крик достиг ушей юных охотников. Его можно было бы принять за эхо первого крика, но он прозвучал более дико и громко. Все устремили глаза туда, откуда он послышался. Мальчики хорошо знали, кто это кричит, они слышали подобный крик и раньше. Они знали, что такие звуки издает белоголовый орлан.
Юные охотники тут же и увидели его. Он парил высоко в голубом небе, распустив большой хвост и раскинув широкие — семи футов в размахе — крылья.
Орлан летел по прямой, направляясь к коршуну, и явно желал отнять у того только что завоеванную добычу. Коршун услыхал крик, прозвучавший как эхо его собственного, и, понимая его значение, сразу напряг всю силу крыльев, чтобы подняться повыше в воздух. Он, казалось, твердо решил не отдавать добычу, которая досталась ему с таким трудом, или, по крайней мере, не уступать ее без боя.
Птицам его породы иногда удается улететь от орла, то есть от некоторых орлов, так как эти царственные птицы отличаются друг от друга по быстроте полета, как собаки от лошади по быстроте бега. Коршуны тоже бывают разные, и тот, о котором идет речь, будучи абсолютно уверен в мощи своих крыльев, думал, наверно, что сумеет потягаться со своим преследователем, который мог оказаться слишком жирным, слишком старым или слишком молодым, для того чтобы обладать необходимыми для полета силами.
Во всяком случае, коршун решил заставить орлана погоняться за собой, предполагая, если тот догонит его, быстро положить конец преследованию, уступив врагу добычу, как частенько вынужден делать сородич коршуна — скопа. Поэтому коршун стал набирать высоту, делая круги по пятидесяти футов в диаметре.
Если коршун предполагал, что его преследователь слишком стар, молод и жирен или в какой-то мере медлителен, ему предстояло скоро в этом разувериться. Те, которые наблюдали за полетом этой птицы, не разделяли точки зрения коршуна, — наоборот, юные охотники подумали, что никогда еще не приходилось им видеть более замечательного представителя орлиной породы.
У орлана было пышное оперение, а голова и кончик хвоста — белые как снег. Крылья широкие, четкого рисунка. Птица была очень большая, и это доказывало, что перед ними самка, а не самец. Как ни странно, природа, кажется, изменила себе в отношении этих птиц; самки их всегда ярче по оперению, крупнее, быстрее в полете, сильнее и даже свирепее, чем самцы…
Коршун устремляется все выше, изо всех сил напрягая свои остроконечные крылья, — вверх по спирали, как бы ввинчиваясь в воздух. Вверх устремляется и орлан, тоже по спирали, но более широкими кругами, которые охватывают орбиту полета коршуна. Обе птицы летят концентрическими кругами. Вот орбиты их полета пересекаются; теперь они кружат параллельно. Коршун взлетает еще выше. Преследующий его орлан тоже взмывает вверх. Они все больше приближаются друг к другу. Круги их становятся все уже, но это только кажется, так как они поднялись очень высоко. Вот коршун превратился в точку и кажется неподвижным; вот он совсем пропал из виду. Орлана еще видно, но сверкает только маленькое пятнышко, точно кусочек белого облака или снега на голубом небе, — это кончик его хвоста. Наконец и оно исчезло — и коршун и орлан словно растаяли в воздухе.
Чу! Сс-сс-ш!.. Вы слышали этот звук, точно свист ракеты? Посмотрите, что-то упало на верхушку дерева и сломало несколько веток. Смотрите, это коршун! Он мертв, и из раны на плече сочится кровь.
Чу, опять! Фш-ш-ш! Это орлан. Видите, у него в когтях змея!
Орлан камнем ринулся вниз. Полет его был так стремителен, что за ним нельзя было проследить глазом. В двухстах-трехстах ярдах от земли он расправил крылья и распустил, как веер, хвост, что сразу затормозило его движение вниз. Затем несколькими размеренными взмахами крыльев он медленно поднялся над верхушками деревьев и уселся на вершину засохшей магнолии.
Базиль схватил ружье, чтобы выстрелить. Ему негде было спрятаться, так как дерево, на которое опустился орлан, стояло на голом месте. Юный охотник знал по опыту, что приблизиться к птице верхом на лошади было единственным шансом, поэтому он выдернул колышек, к которому был привязан Черный Ястреб, и, вскочив в седло, поскакал меж кустов. Не прошло и нескольких минут, как послышался выстрел, и орлан свалился с дерева.
Это было последним звеном в цепи разрушений.
Базиль возвратился, неся большую птицу. Это была самка, как и сказал Люсьен, очень крупная — более двенадцати фунтов весом, а размах крыльев ее равнялся семи футам. Обычно вес птицы этой породы редко превышает восемь фунтов и сами они бывают небольшими.
— Как цепь разрушений! — воскликнул Люсьен. — Одно существо служит добычей другому.
— Да, — сказал Франсуа. — И как интересно: это началось с птицы и кончилось птицей. Посмотрите на них обеих!
Говоря это, он указал на крошку-колибри и на огромного орлана, которые лежали в траве рядом и представляли собой резкий контраст по величине и внешнему виду.
— Ты забываешь, Франсуа, — сказал Люсьен, — что в этой цепи были еще два звена, а может быть, и больше.
— Какие же другие звенья? — спросил Франсуа.
— Колибри, как вы помните, подверглась нападению в то время, когда она сама являлась разрушителем — она убивала синекрылую мушку.
— Да, это, конечно, другое звено… Но кто убил орлана?
— Думаю, это Базиль. В таком случае, он является последним звеном в цепи разрушений.
— И, может быть, самым преступным, — сказал Люсьен, — потому что ему это было меньше всего необходимо. Остальные существа руководствовались лишь инстинктом к добыванию пищи, тогда как целью Базиля было стремление к бессмысленному разрушению…
— Я не согласен с тобою, Люс! — сказал Базиль, резко прерывая брата. Дело совсем не в этом. Я застрелил орлана за то, что он убил коршуна и отнял у него добычу, вместо того чтобы потрудиться самому и добыть себе пищу. Вот почему я добавил это звено к твоей цепи.
— С этой точки зрения, тебя, пожалуй, можно извинить, — отвечал Люсьен, улыбаясь брату. — Хотя трудно понять, почему орлан больше виноват, чем коршун: он взял только одну жизнь, так же как и коршун.
Базиль, казалось, был немного рассержен тем, что его обвинили в бессмысленной жестокости.
— Но, — возразил он, — помимо того, что орлан лишил жизни свою жертву, он обокрал ее. Он совершил грабеж и убийство, а коршун виновен только в убийстве.
— Ха-ха-ха! — рассмеялись вместе Люсьен и Франсуа. — Вот так рассуждение!
— Люс, — спросил Франсуа, — а что ты имел в виду, когда говорил, что в этой цепи могло быть еще много звеньев?
— Кто знает… может быть, синекрылая мушка сама питалась какими-нибудь другими, еще более мелкими существами, а те, в свою очередь, — другими, мельчайшими, которые, хотя и невидимы простым глазом, все же являются живыми существами. Кто знает, зачем природа создала эти существа… Чтобы они служили пищей друг другу? Вот вопрос, на который мы не можем найти удовлетворительный ответ.
— Как знать, Люс, — сказал Франсуа. — Как знать… Может быть, есть еще одно звено, по другую сторону этой цепи… Базиль, а что скажешь ты? Может быть, мы еще встретимся с медведями гризли? — И Франсуа рассмеялся.
— А если это произойдет, — ответил Базиль, — скорее всего, именно ты явишься этим последним звеном.
— Не говори так! — воскликнул Люсьен. — Я надеюсь, что в нашем путешествии мы не встретим ни гризли, ни индейцев.
— А я жажду сразиться с гризли! Что касается индейцев, я ни капельки их не боюсь, пока у меня есть вот это.
С этими словами Базиль достал из-за пазухи расшитый бисером мешочек, подержал его с минуту в руках и спрятал на прежнее место.
— Базиль, ну, пожалуйста, — воскликнул Франсуа, — расскажи нам об этом мешочке! Как он сможет спасти нас от индейцев? Мне очень хочется знать.
— Не сейчас, Франсуа, — ответил Базиль снисходительным тоном старшего. Не сейчас. Надо приготовить ужин и ложиться спать. Мы потеряли полдня, просушивая вещи, поэтому должны наверстать время, встав пораньше утром. А затем — в прерии!
— А затем — в прерии! — повторил Франсуа. — Да здравствуют прерии, мустанги, олени, антилопы и бизоны!
Глава 12
ТРИ «КРЫЛАТЫХ БИЗОНА»
На следующее утро наши путешественники снова пустились в путь, и в течение нескольких дней никаких особенных приключений с ними не произошло. Они пересекли много больших рек, среди которых можно назвать Нечес и Тринити в Техасе. Между реками Тринити и Брасос с мальчиками произошел случай, который чуть было не закончился очень печально.
В жаркие дни юные охотники обычно в полдень делали привал, чтобы отдохнуть самим и дать отдых животным. Это обычай большинства путешественников в диких местах, и он получил название «полдника».
С этой целью мальчики остановились однажды на опушке леса и спешились. Позади них был лес, сквозь который они только что проехали, а перед ними расстилалась прерия, которую они намеревались пересечь вечером, пользуясь прохладой. Поверхность прерии была совершенно гладкая и покрыта зеленым ковром бизоновой травы. Однообразие картины нарушалось лишь время от времени попадающимися островками низкого кустарника. Вдали виднелся густой лес вечнозеленых дубов, окаймлявший прерию с противоположной стороны, и, хотя лес этот, казалось, был всего в двух-трех милях, на самом деле он отстоял от места привала не менее чем на десять миль — так обманчив прозрачный воздух этой возвышенной местности.
Местность, в которой находились сейчас мальчики, представляла собой так называемую «лесистую прерию», то есть прерию, в которой попадаются рощицы и лески.
Итак, наши путешественники только что спешились и собирались уже расседлать лошадей, когда их внимание было привлечено восклицанием Франсуа.
— Смотрите, — кричал он, указывая на прерию, — бизоны, бизоны!
Базиль и Люсьен посмотрели в указанном направлении. На гребне небольшой возвышенности виднелись три больших темных силуэта. Они двигались. Один из них был явно меньше остальных двух.
— Конечно же, это бизоны! — продолжал Франсуа. — Посмотрите, какие они большие! Это, без сомнения, два быка и корова.
Братья согласились с ним. Никто из юных охотников никогда не видел бизонов в их родной пустыне, и, конечно, у них было очень туманное представление о том, как те должны выглядеть на расстоянии.
Должно быть, это все же бизоны. Лось или олень казались бы рыжими, волки рыжеватыми или белыми. Это не могли быть и медведи, поскольку те не стали бы ходить по прерии втроем, — если только это не гризли, которые действительно иногда выходят на открытое место, чтобы выкопать себе репу или другие корни. Однако это маловероятно, так как гризли почти никогда не заходят так далеко на восток. Нет, это не гризли. Ясно, что это и не мустанги. Следовательно, это бизоны.
Как и все, кто видит бизонов впервые на их родных пастбищах, наши юные охотники пришли в сильное волнение, главным образом оттого, что встреча с этими животными являлась основной целью их экспедиции — целью долгого и опасного путешествия.
Братья стали совещаться, как добыть этих животных. Ясно, что среди трех бизонов не было ни одного белого, но это не имело сейчас значения. Нашим охотникам хотелось попробовать мяса бизонов, а погоня за этими бизонами послужила бы им хорошей практикой, которая смогла бы пригодиться потом. Но какой способ охоты применить в данном случае?
— Конечно, погоню! — заявил Франсуа с видом опытного охотника за бизонами.
В прериях существует несколько способов охоты на бизонов, применяемых как белыми, так и индейцами. Наиболее распространенный из них тот, о котором говорил Франсуа: погоня. Этот способ состоит в том, что охотник верхом на лошади просто догоняет бизона и стреляет ему в сердце. Попасть надо обязательно в область сердца, так как иначе вы можете выпустить в тело животного хоть двадцать пуль, а бизон все-таки ухитрится уйти от вас. Охотники целятся немного выше груди и пониже плеча. Белые охотники стреляют из ружья или иногда из большого пистолета, который лучше подходит в данном случае, ибо его легче заряжать на скаку. Индейцы предпочитают лук, так как могут быстро посылать стрелу за стрелой, убивая за одну погоню сразу несколько бизонов. Индейцы так хорошо владеют этим оружием, что их стрелы иногда пронизывают тело бизона насквозь и выходят с другой стороны. Порой индейцы применяют копья, которые мечут в бизонов, поравнявшись с ними.
Другой способ охоты на этих животных называется «скрад». Он состоит в том, что охотники незаметно подкрадываются к бизонам на расстояние выстрела, затем стреляют из ружья, снова заряжают и снова стреляют, и так далее, пока не убивают многих, прежде чем животные успевают убежать. Иногда охотник подкрадывается совсем близко и, прячась за телами уже убитых им бизонов, ведет огонь, пока не уничтожает почти все стадо. В таких случаях охотник старается держаться с подветренной стороны, так как иначе эти животные, обладающие гораздо более острым обонянием, чем зрением, почуяв его, мгновенно убегают. У бизонов такое острое чутье, что они могут обнаружить врага, если он подходит с наветренной стороны, даже на расстоянии мили и более. Охотясь способом скрада, охотник иногда надевает на себя шкуру волка или оленя, и бизоны, принимая его за одного из этих животных, подпускают на расстояние выстрела.
Рассказывают, что один индеец пробрался таким образом в середину стада и из лука перестрелял всех бизонов одного за другим.
Способ скрада иногда лучше, чем погоня. В этом случае охотник бережет свою лошадь, нередко измученную, и может убить большое количество бизонов и получить много шкур, если в этом заключается его цель, как это часто бывает. Если же это только путешественник или траппер, занимающийся ловлей бобров, который просто хочет добыть себе бизона на обед и ему не нужно более одного, погоня является наиболее верным способом. В таком случае, однако, охотник может убить лишь одного или, от силы, двух-трех, так как, пока он стреляет в одних и перезаряжает ружье, стадо разбегается, а его лошадь уже измучена и не может продолжать погоню.
Третий способ охоты на бизонов — окружение. Этот способ применяется только индейцами, поскольку белые охотники редко выезжают в прерии в таком количестве, чтобы быть в состоянии окружить стадо. Самое название почти объясняет характер этой охоты, которая производится следующим образом.
Когда отряд охотников-индейцев обнаруживает стадо бизонов, они рассыпаются и окружают стадо. Им удается достигнуть этого очень скоро на своих быстрых лошадях: как всякие охотники в прериях, будь то белые или индейцы, они охотятся, конечно, верхом. Как только круг замыкается, индейцы с громкими криками скачут внутрь круга и сгоняют всех бизонов в центр, в тесную группу. Затем индейцы набрасываются на них с луками и копьями, и каждый охотник убивает сколько может. Бизоны пугаются, мечутся туда и сюда, и лишь немногим удается убежать. За одну такую облаву индейцы иногда уничтожают стадо, состоящее из сотен или даже тысяч бизонов.
Индейцы совершают такое массовое уничтожение с двумя целями: во-первых, чтобы добыть мясо, которое они сохраняют путем вяления — разрезая на тонкие, длинные куски и высушивая на солнце; во-вторых, чтобы добыть шкуры, которыми они покрывают свои палатки и постели и из которых делают одежду. Много шкур индейцы меняют в факториях белых, специально для этого расположенных в отдаленных районах. Там они получают взамен ножи, ружья, пули, порох, бусы и киноварь.
Есть еще один способ охоты на бизонов, применяемый индейцами. Он не похож на последний, только что описанный, но еще более жесток.
Большая часть мест, где водятся бизоны, представляет собой высокие нагорные прерии, которые в Азии называются «степи», а в Мексике и Южной Америке — «столовые горы» или «плато». Такие равнины подняты над уровнем моря на высоту от трех до шести тысяч футов.
Во многих местах этих плато имеются так называемые каньоны, или, что вернее, барранкосы, которые, вероятно, образовались под влиянием размывших их потоков воды во время дождей. Эти каньоны обычно сухие и представляют собой огромные расселины, глубина которых доходит до тысячи и более футов; они тянутся на десятки миль.
Иногда две такие расселины пересекаются, образуя треугольник или «полуостров», и путешественник, попав туда, должен повернуть обратно, поскольку он окружен пропастями, которые уходят в глубь земли. Если индейцам удается загнать бизонов к одному из таких каньонов, они окружают животных с трех сторон и гонят к пропасти. Когда бизоны уже близко от пропасти, индейцы бросаются на них с дикими криками, и бизоны, обезумев от страха, слепо кидаются вперед. Все стадо иногда прыгает, таким образом, в пропасть. Передних подталкивают задние, а те, в свою очередь, вынуждены прыгать, иначе преследующие их всадники вонзят в них копья.
Когда индейцев недостаточно много, чтобы произвести окружение, они собирают сухой помет и складывают его так, что получается нечто похожее на человеческие фигуры. Помет размещают двумя рядами, которые постепенно сближаются и ведут к обрыву. Индейцы гонят бизонов между этими двумя рядами, и животные, принимая кучи помета за людей, направляются вперед, к краю пропасти, где охотники делают шумный набег и заставляют бизонов прыгать в пропасть.
Существуют и другие способы охоты на бизонов — например, преследование их по снегу, когда охотники на лыжах легко нагоняют и убивают их. Некоторые мексиканские охотники за бизонами (называемые в южных прериях «сиболерос») ловят бизонов при помощи лассо, но этот способ применяется не часто — обычно в тех случаях, когда охотники хотят поймать молодых телят живыми, чтобы вырастить их.
Все эти способы были известны нашим юным охотникам, то есть знакомы по рассказам — они часто слышали об этом от старых трапперов, приходивших в Луизиану и иногда проводивших ночь под кровом их отца, так как полковник очень любил принимать старых трапперов и слушать их рассказы. Именно из этого источника Франсуа и почерпнул свои знания относительно охоты на бизонов, что и заставило его гордо воскликнуть: «Конечно, погоню!»
Базиль и Люсьен задумались, не сводя глаз с трех бизонов. Их было как раз по одному на каждого охотника. Мальчики могли разделиться и погнаться каждый за своим, тем более что они находились слишком далеко от какого бы то ни было укрытия и поймать бизонов способом скрада оказывалось невозможным. Кроме того, лошади были свежие, так как накануне было воскресенье, а наши путешественники взяли себе за правило всегда по воскресеньям давать отдых себе и своим животным — так им велел отец перед отправкой в путь.
Взвесив все это, юные охотники остановились на погоне, как на наиболее приемлемом способе.
Жаннет привязали к дереву и оставили позади со всей поклажей, которая еще не была снята с ее седла. Маренго, конечно, взяли с собой, так как он мог пригодиться, чтобы затравить старого бизона, если удастся его ранить. Все, что могло помешать охотникам, они оставили с Жаннет, и все трое поскакали в прерию, по направлению к животным. Мальчики договорились, что каждый наметит себе одного и затем, при помощи ружья и пистолета, сделает все от него зависящее.
Франсуа зарядил оба ствола крупной дробью и был уверен, что вот-вот подстрелит своего первого бизона.
Когда мальчики подскакали поближе, их внимание привлекло то, что тела этих странных животных блестели. Что же это, бизоны или нет?
Братья тихо ехали вперед, внимательно вглядываясь в животных. Нет, это не бизоны. Грубая, косматая шкура бизонов не могла бы так блестеть, а шкура этих животных так и отливала на солнце при каждом движении.
— Это не бизоны, — сказал Люсьен после того, как внимательно вгляделся, приложив к глазам руку козырьком.
— Кто же это тогда? — спросил Франсуа.
— Послушайте! — ответил Люсьен. — Слышите?
Все трое натянули поводья и остановились. Они ясно услышали громкое «гобл-обл-обл».
— Клянусь жизнью, — воскликнул Франсуа, — это кричит старый индейский петух!
— Совершенно верно, — с улыбкой ответил Люсьен. — Это дикие индейки.
— Индейки? — отозвался Базиль. — Мы индеек приняли за бизонов? Какой ужасный обман!
Все трое сначала посмотрели недоумевающе друг на друга, а затем принялись от души хохотать над своей ошибкой.
— Не будем никогда никому об этом рассказывать, — сказал Базиль. — Над нами все станут смеяться.
— Нисколько, — ответил Люсьен. — Такие ошибки часто совершают и старые охотники, находясь в прерии. Это очень распространенный атмосферический обман зрения. Я слышал о еще худших случаях — ворону принимали за бизона!
— Значит, когда мы встретим бизонов, я думаю, мы примем их за мамонтов? заметил Франсуа.
И разочарованные охотники сосредоточили теперь все свое внимание на том, чтобы добыть всех трех «крылатых бизонов».
Глава 13
ОХОТА ЗА ДИКИМИ ИНДЕЙКАМИ
— Вперед! — воскликнул Базиль, пришпоривая коня. — Вперед! В конце концов, не так уж плохо получить на обед жирную индейку. Поехали!
— Подожди, Базиль, — сказал Люсьен. — Как мы к ним приблизимся? Они же на открытой местности — нам спрятаться негде.
— Нам не нужно никакого укрытия. Мы можем просто догнать их, как если б это были бизоны.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Франсуа. — Погоня за индейками! Но ведь они тотчас же улетят! Какие глупости ты говоришь, Базиль!
— Вовсе нет, — ответил Базиль. — Не глупости. Это можно сделать. Я часто слышал о подобных случаях от трапперов, а теперь давайте попробуем сами это сделать.
— Тогда решено, — сказали сразу Франсуа и Люсьен, и все трое двинулись вперед.
Когда мальчики подъехали достаточно близко, чтобы различить очертания птиц, они увидели, что там были два старых индюка и одна индейка. Индюки важно расхаживали, распустив хвосты, точно веера, и их крылья волочились по траве. Время от времени они издавали свое громкое «гобл-обл-обл», и по всему было ясно, что это два соперника и что дело, очевидно, кончится битвой. Самка гордо шествовала по траве, и вид у нее был спокойный и кокетливый. Конечно, она сознавала, что возбуждает горячий интерес в сердцах этих воинственных петухов. Она была намного меньше их и не столь яркая по оперению, самцы же сверкали яркостью красок, не уступая павлинам. Их глянцевитые спины отливали на солнце металлическим блеском, и наши охотники подумали о том, что никогда еще не видели таких красивых птиц.
Поглощенные своей ссорой, индюки, конечно, дали бы возможность охотникам приблизиться на расстояние выстрела; самка, однако, была настороже и, заметив мальчиков, подняла голову с громким криком, который привлек внимание ее кавалеров. В одно мгновение индюки закрыли и опустили распушенные хвосты сложили крылья и вытянули длинные шеи. Внешность их совершенно изменилась, и они стояли теперь прямо; каждый оказался футов пяти ростом.
— Какие красивые создания! — воскликнул Люсьен.
— Да, — прошептал Базиль, — Однако они не будут нас дожидаться, нам лучше броситься сейчас же. Ты возьми индейку, Люсьен, — твоя лошадь не такая резвая, как наши. Приготовились! Вперед!
Все трое пришпорили лошадей и рванулись вперед.
Через мгновение охотники были уже ярдах в ста от индеек. Птицы, застигнутые врасплох, пробежали несколько шагов, а затем поднялись в воздух, громко хлопая крыльями. Второпях они все трое полетели в разных направлениях. Каждый мальчик выбрал себе ту, которую намеревался преследовать, и охотился уже теперь только за ней. Базиль и Франсуа поскакали за индюками, а Люсьен спокойным галопом последовал за индейкой.
Маренго, конечно, тоже участвовал в погоне, примкнув к Люсьену: может быть, он определил, что мясо самки вкуснее, а может быть, и сообразил, что ее легче поймать, чем остальных.
Индейка летела недолго и, снова опустившись на землю, со всех ног побежала прямо к ближайшему леску. Туда направился и Люсьен. Он следовал за Маренго, который время от времени громко лаял.
Когда Люсьен въехал в лесок, он увидел, что собака стоит под большим дубом. Маренго загнал индейку на дерево и теперь смотрел на нее, задрав морду, лая и помахивая хвостом. Люсьен осторожно подъехал к дереву, где увидел индейку, затаившуюся среди покрытых мхом ветвей дуба.
Люсьен вскинул ружье; раздался выстрел — и птица покатилась вниз, задевая за листву. Маренго кинулся к индейке, как только она оказалась на земле, но его хозяин, соскочив с лошади, отогнал собаку и поднял добычу. Птица была убита наповал.
Люсьен снова сел на лошадь. Когда он выехал из-за деревьев, то увидел Базиля, скачущего далеко в прерии. Базиль скакал во весь опор, а на некотором расстоянии впереди него был виден индюк, который распростер крылья и бежал, как страус. Оба они — и Базиль и индюк — скоро скрылись из виду за одним из лесных островков.
Люсьен стал искать глазами Франсуа. Его нигде не было видно, так как он преследовал своего индюка в том направлении, где купы деревьев стояли теснее. Решив, что нет смысла ехать вслед ни тому, ни другому, Люсьен медленно двинулся обратно — туда, где на опушке леса была привязана Жаннет. Здесь он сошел с лошади и стал поджидать братьев.
Погоня Базиля оказалась более длительной, чем он предполагал. Он выбрал самую большую птицу, которая, естественно, оказалась и наиболее сильной и выносливой. Индюк в первый же взлет пролетел расстояние около мили, а когда опустился на землю, то побежал, как испуганная кошка. Но Базиля нельзя было обескуражить, и, как следует пришпорив коня, он быстро нагнал птицу. Индюк снова взлетел и пролетел еще полмили. Опять Базиль нагнал его, и снова старый петух поднялся на воздух, но на этот раз он пролетел лишь ярдов сто и снова опустился. Базиль на своем быстром коне скоро опять догнал его. Индюк был уже не в состоянии лететь дальше. Однако бежать он мог еще довольно быстро и там, где дорога шла в гору, намного опередил лошадь. Но под гору та скакала быстрее. Так продолжалось, пока птица не начала кружить и петлять, выказывая все признаки усталости. Несколько раз лошадь настигала индюка, но он поворачивал и менял направление.
Погоня продолжалась довольно долго. Наконец птица, совершенно измученная, припала к земле и спрятала голову и длинную шею в заросли, как страус, вообразив, что таким образом укрылась от своего преследователя. Базиль натянул поводья, поднял ружье; в следующее мгновение пуля пронзила индюка, и он вытянулся мертвый на траве.
Тогда Базиль сошел с лошади и, подняв индюка, привязал его за ноги к луке седла. Для этого юноше пришлось напрячь все силы, так как птица была очень крупная и весила фунтов сорок. Затем Базиль вскочил в седло и пустился в путь… Но куда? Этот вопрос он сразу задал себе, едва лошадь сделала несколько шагов. Куда ехать?
Вдруг мозг его пронзила мысль, что он заблудился. Со всех сторон его окружали рощицы; они все походили друг на друга, а если и отличались чем-нибудь, то во время своего дикого галопа он не заметил в них никакого различия. Он не имел ни малейшего представления о том, откуда приехал, и поэтому не знал, куда ехать. Базиль ясно видел и понимал, что заблудился.
Мой юный читатель, ты не можешь представить себе, какие мысли приходят в голову тому, кто заблудился в прериях. В таком положении дрогнет сердце даже у более мужественных людей. Сильные люди трепетали, оказавшись одни в пустыне, и они имели для этого достаточно оснований, так как знали, что это часто кончается смертью. Потерпевший кораблекрушение моряк в жалкой лодчонке редко находится в худшем положении, чем путешественник, заблудившийся в открытой прерии, и многие при таких обстоятельствах лишались рассудка. Представьте же себе чувства Базиля!
Я уже говорил, что это был храбрый и выдержанный юноша. Таким он себя показал и на этот раз. Он не потерял присутствия духа. Пустив лошадь шагом, Базиль стал внимательно оглядывать прерию, но это ни к чему не привело. Место было совершенно незнакомое. Базиль громко крикнул, но не услышал ни эха, ни ответа. Он выстрелил и стал ждать, думая, что Люсьен и Франсуа ответят ему тем же сигналом, но ответа не последовало. Он перезарядил ружье и сидел некоторое время в седле, погруженный в раздумье.
— А, вот что надо сделать! — воскликнул он вдруг, приподнимаясь на стременах. — Как я глуп — не догадался сразу! Вперед, Черный Ястреб! Мы еще не погибли!
Базиль не зря был охотником с малых лет, и, хотя его опыт охоты в прериях был невелик, ему пригодилось сейчас его знание лесной охоты. Ему пришла в голову хорошая мысль: вернуться по своим собственным следам. Только это и могло спасти его.
Базиль повернул лошадь и, пристально вглядываясь в землю, медленно поехал вперед. Трава была жесткая, и следы копыт были не глубоки, но Базиль обладал глазом охотника — он умел идти по следу даже молодого оленя.
Через несколько минут Базиль приехал туда, где Люсьен убил индейку, — на земле виднелись следы крови, валялись перья. Здесь Базиль задержался немного, пока не определил направление, по которому он приблизился к этому месту.
Базиль медленно направился по старому следу. После того как он проехал некоторое расстояние, след вдруг стал расходиться в разные стороны. Базиль поехал по одному из направлений и скоро приехал обратно почти к тому же самому месту. Следы все расходились, не отходя дальше чем на сто ярдов от места, где была застрелена индейка.
Все эти повороты молодой охотник проделывал каждый раз с величайшим старанием и терпением. Здесь сказались его рассудительность и знание охотничьего искусства, ибо, прояви он нетерпение и сделай больший круг, чтобы найти след, он мог бы попасть на свои же только что оставленные следы и, таким образом, очутиться в настоящем лабиринте.
Вскоре круги, которые Базиль делал, стали больше, и, к своей великой радости, он наконец обнаружил, что продвигается по прямой линии. Следы его пересекало множество лошадиных следов; некоторые из них были почти такие же свежие, как следы его лошади, но они не сбили Базиля. Это были следы мустангов, и, хотя Черный Ястреб тоже не был подкован, Базиль знал следы его копыт так же хорошо, как вид собственного ружья. След арабского коня был значительно крупнее следов диких лошадей.
После того как Базиль проехал назад по своему следу около часа, все время глядя в землю, он вдруг услышал, что его окликнули по имени. Подняв голову, он увидел на опушке леса Люсьена. С радостным возгласом Базиль пришпорил лошадь и поскакал вперед; однако, когда он подъехал ближе, чувство радости сменилось мучительным предчувствием. Здесь был Люсьен, здесь были Жаннет и Маренго, но где Франсуа?
— Где Франсуа? — спросил Люсьен, когда Базиль подъехал.
Базиль с трудом мог говорить — так он был взволнован.
— А разве Франсуа не возвращался? — произнес он наконец.
— Нет, — ответил Люсьен. — Я думал, он с тобой и вы вернетесь вместе. Я удивлялся, что задержало вас так долго.
— О Боже, он заблудился! — воскликнул Базиль в припадке горя. — Люсьен, Люсьен, наш брат погиб!
— Погиб? Что ты хочешь сказать? — спросил Люсьен, уже думая, что на Франсуа напали индейцы или какой-нибудь дикий зверь. — С ним что-нибудь случилось? Говори, Базиль!
— Нет, нет! — ответил Базиль все еще в сильном волнении. — Он заблудился в прерии… Ах, Люс, ты не знаешь, что это такое! Это ужасно! Я тоже заблудился, но я нашел дорогу назад. А Франсуа, наш бедный маленький Франсуа, — для него нет никакой надежды, он погиб, погиб!
— Но разве ты не видел его с тех пор, как мы все трое разделились? спросил в отчаянии Люсьен.
— Нет. Я сам заблудился и все время искал дорогу. Мне удалось вернуться только благодаря тому, что я ехал по своему собственному следу, иначе мы могли бы никогда больше не встретиться. О, Франсуа, бедный братец Франсуа, что с ним будет!
Люсьен разделял мрачные предчувствия и отчаяние брата. До этого момента он предполагал, что они отправились вместе и что-нибудь задержало их — возможно, разорвался стремянный ремень или лопнула подпруга… мало ли что, — и он начал уже волноваться, когда показался Базиль. Люсьен не знал, что это значит заблудиться в прерии, но бессвязные объяснения Базиля помогли ему представить себе, чем это могло кончиться, и он теперь хорошо понимал положение Франсуа. Однако не время было предаваться горю. Люсьен видел, что Базиль почти лишился мужества, особенно потому, что считал себя причиной несчастья: именно Базилю принадлежала мысль погнаться за индейками, и он возглавлял погоню. Оба мальчика чувствовали, что должны немедленно что-то предпринять для спасения пропавшего брата.
— Что делать? — сказал Люсьен.
Базиль наконец пришел в себя. Надежда на спасение Франсуа вернула ему обычную энергию и мужество.
— Может быть, нам лучше остаться здесь? — спросил Люсьен, который знал, что его рассудительный брат найдет выход из положения.
— Нет, — ответил тот, — это бессмысленно. Даже я не мог бы найти дорогу обратно, если бы не следы моей лошади. Франсуа не придет это в голову, и, даже если он подумает об этом, его лошадь — мустанг, а прерия во всех направлениях покрыта следами мустангов. Нет-нет, он никогда не сможет вернуться сюда разве только случайно, а это всего один шанс против тысячи. Мы должны отправиться на поиски. Мы пойдем по его следу. Впрочем, боюсь, что и это невозможно — здесь слишком много других следов. Но прежде чем двинуться на поиски, — продолжал Базиль, — давай испробуем все средства, которые у нас еще остались. Твое ружье заряжено?
— Да, — ответил Люсьен.
— Я выстрелю, а ты выстрели немного погодя после меня. Первый выстрел может заставить его прислушаться, и он лучше услышит второй.
Базиль поднял ружье и выстрелил в воздух. Через несколько секунд выстрелил и Люсьен, и оба стояли тихо, прислушиваясь. Сердца их громко бились.
Братья стояли так больше пяти минут. Франсуа мог бы успеть зарядить свое ружье, если бы оно было не заряжено. Но ответного выстрела не последовало.
Опять братья зарядили ружья — на этот раз порохом, положив тяжелые заряды и туго забив их, чтобы выстрелы были громче. Они выстрелили. Результат был тот же самый: никакого ответа.
— Это доказывает, что Франсуа очень далеко, — сказал Люсьен. — В этой местности звук слышен на большом расстоянии.
— Давай попробуем дать сигнал дымом, — сказал Базиль, откладывая ружье. Собери хворосту, Люс, пока я разожгу листья.
Базиль взял несколько пыжей и, положив их на землю, сгреб в кучу сухие листья, траву и поджег их. Тем временем Люсьен собрал охапку хвороста и положил его на костер. Сверху набросали сучьев с ветками и зелеными листьями, а поверх всего — несколько пригоршней испанского мха, который здесь в изобилии свисал с дубов. Вскоре высоко в небо поднялся густой дым, и братья стояли, напряженно вглядываясь в прерию.
— Франсуа, должно быть, очень далеко, если не видит дыма, — сказал Люсьен. — Я полагаю, что дым заметен на десять миль вокруг.
— Да, по крайней мере, — ответил Базиль. — И у него не заняло бы много времени проскакать десять миль. Очевидно, погоня увлекла его очень далеко, и он, обнаружив, что заблудился в поисках дороги, мог ускакать еще дальше.
— Да, если только он не напал, как и ты, на свой собственный след, сказал Люсьен.
— Нет, вряд ли. Бедный маленький Франсуа не догадается сделать это — у него недостаточно опыта, и, кроме того, я даже надеюсь, что он не сделал этого.
— Почему? — спросил Люсьен.
— Потому что нам будет легче отыскать его след, если он двигался прямо вперед.
— Правда, правда! — ответил Люсьен.
И оба, снова погрузившись в молчание, стали взволнованно вглядываться в прерию.
Так они стояли некоторое время, пока наконец не повернулись друг к другу с выражением разочарования на лицах.
— Он не возвращается! — печально сказал Люсьен.
— Нет. Если бы он увидел дым, он бы пустился галопом и уже давно бы вернулся. Мы должны ехать за ним.
Но тут взгляд Базиля упал на собаку. В глазах у него сверкнул радостный огонек, и весь он вдруг преобразился.
— Мы напрасно тратили время! — воскликнул он. — Скорее, Люсьен, на коня, на коня!
— Что такое? — спросил с удивлением Люсьен.
— Не спрашивай меня! Отличная мысль пришла мне в голову! Но нельзя терять ни минуты. Время дорого, едем!
— А Жаннет мы оставим здесь?
— Конечно. Франсуа может приехать.
— А если он вернется, как он узнает, куда мы уехали?
— Это правда, — ответил Базиль и задумался. — Вот что, — продолжал он, дай мне бумагу и карандаш, а пока я буду писать, привяжи Жаннет.
Люсьен подал ему листок бумаги и карандаш, а затем принялся крепко привязывать мула к дереву. Базиль взял бумагу и написал:
«Франсуа, мы отправились по твоему следу. Жди нас около Жаннет».
Он прикрепил бумажку к стволу дерева так, чтобы она сразу бросилась в глаза, схватил ружье и, прыгнув в седло, сказал Люсьену, чтобы тот следовал за ним.
Люсьен сел на свою лошадь и поехал за Базилем. Собака Маренго бежала сзади.
Глава 14
ПО СЛЕДУ С ОХОТНИЧЬЕЙ СОБАКОЙ
Братья поехали туда, откуда начали преследование индеек.
Отсюда Франсуа поехал налево, но там было много следов в одном и том же направлении, в том числе и следы скачущих лошадей.
— Я ведь уже сказал, — заметил Базиль, — что нам не найти его след. Тут очень трудно разобраться. Вот эти следы, должно быть, его — они выглядят свежее остальных. Попробуем идти по ним… Маренго!..
— Подожди, Базиль, — прервал Люсьен. — Последний раз я видел Франсуа вон там — он проскакал мимо того леска.
— Это уже лучше! Может быть, там его следы легче отличить от других. Вперед!
Проехав еще около ста шагов, мальчики приблизились к леску, указанному Люсьеном.
— Да, — воскликнул Базиль, — ты прав! Франсуа проезжал здесь — видны его следы.
Базиль сошел с лошади и отдал поводья Люсьену. Он встал на колени в траве и тщательно рассмотрел отпечатки копыт один за другим.
— Так, — тихо сказал он, поднимаясь. — Я узнаю тебя среди тысячи… Приготовься к быстрой езде, — продолжал он, обращаясь к Люсьену. — Собака, конечно, помчится со всех ног, нам придется скакать во весь опор… Маренго!
Собака подбежала к юному охотнику, наклонившемуся над следом. Базиль держал в руках красное одеяло Франсуа, которое тот отвязал с лошади и сбросил, когда начал погоню. Собака понюхала одеяло, тихо скуля и поглядывая на своего хозяина умными глазами. Казалось, она понимала, чего от нее хотят.
Базиль перекинул одеяло через седло, снова наклонился, провел рукой по траве и показал жестом Маренго, чтобы он шел в этом направлении. Охотничья собака коротко залаяла, пригнула голову к земле и побежала по следу.
Базиль сейчас же вскочил в седло и, схватив поводья, крикнул брату:
— Едем, Люсьен! Мы не должны терять собаку из виду, даже если наши лошади упадут замертво. Все зависит от того, чтобы не упустить ее из поля зрения.
Оба пришпорили лошадей и галопом ринулись вперед.
— Мы должны знать, как найти дорогу обратно, — сказал Базиль, натягивая поводья, когда они проезжали мимо группы деревьев. — Нам бы самим не заблудиться!
С этими словами он надломил ветку дерева, и она повисла, раскачиваясь. Затем Базиль снова пустился галопом.
Около мили собака бежала по прямой, никуда не сворачивая: это была линия первого полета индейки. Затем направление несколько изменилось, и они снова поехали прямо.
— Второй полет, — сказал Базиль брату.
Они скакали галопом, то с беспокойством следя за собакой, то задерживаясь на мгновение у какого-нибудь приметного дерева, чтобы надломить ветку, отметив таким образом свой путь.
Наконец собака вбежала в рощицу.
— Вот! — воскликнул Базиль. — Здесь Франсуа убил индейку… Нет… продолжал он, когда собака выскочила из рощицы снова на открытую равнину. Нет, индейка пыталась спрятаться здесь, но ее настигли, и она полетела дальше.
Маренго пробежал по прямой еще несколько сотен шагов, потом вдруг начал кружить по прерии.
— Остановись, Люсьен! Остановись! — воскликнул Базиль, натягивая поводья. — Я знаю, что это значит. Не наезжай на след — ты собьешь Маренго. Не мешай ему.
Через несколько секунд собака остановилась, испустила короткий вой и подкинула носом в траве какой-то темный предмет. Базиль и Люсьен наблюдали на некотором расстоянии. Они увидели, что это перья.
— Нет сомнений, именно здесь Франсуа убил птицу, — сказал Базиль. — Если бы только Маренго удалось напасть на след, по которому Франсуа поехал отсюда, все было бы хорошо… Но смотри, смотри — он опять побежал!
Теперь наступило время, когда у Базиля и Люсьена еще сильнее забилось сердце. Они знали, что приближается критический момент. Если Маренго, как сказал Базиль, удастся найти след Франсуа, собака почти наверняка поведет их по этому следу. В этом были уверены оба брата, они знали способности своей собаки. Но найдет ли она этот след?
Оба чувствовали, что от этого зависит жизнь их брата, и неудивительно, что они наблюдали за каждым движением собаки затаив дыхание, сидя неподвижно и молча в своих седлах.
Через некоторое время собака отошла от перьев и снова принялась кружить по земле. Она явно волновалась. Ее сбивали с толку следы, которых было много; они то сближались, то пересекали друг друга. Собака опять подошла к месту, где была убита индейка, и, остановившись с разочарованным видом, завыла.
Базиль и Люсьен одновременно испуганно вскрикнули — они знали, что этот вой был плохим знаком, но ни один из них не сказал ни слова.
Маренго еще раз метнулся к прежнему месту, но, как и раньше, повернул и закружил по прерии.
— О Боже, — воскликнул в отчаянии Базиль, — он выходит на старый след!
Так оно и было. В следующую минуту Маренго, побежав по старому следу, забегал под ногами лошадей. Вдруг он остановился, закинул голову и опять разочарованно завыл. Базиль жестом приказал собаке продолжать поиски.
Маренго побежал снова, но, как и прежде, по старому следу. Затем, видимо совсем запутавшись, забегал по земле то туда, то сюда, совершенно сбитый с толку. Братья взглянули друг на друга в отчаянии. След был потерян!
— Подожди, еще есть надежда, — сказал Базиль. — Попробуем пойти по более широкому кругу. Возьми мои поводья, — продолжал он, спрыгивая с лошади. Маренго! Сюда, Маренго!
Собака послушно подбежала к хозяину. Базиль, сказав Люсьену, чтобы тот следовал за ним с лошадьми, двинулся в прерию.
Базиль шел медленно, нагнувшись вперед, тщательно осматривая землю. Он двигался по неправильному кругу, большего диаметра, из того расчета, чтобы держаться снаружи того пути, который проделал Франсуа в погоне за уставшей птицей. Базиль внимательно рассмотрел расходящиеся в разные стороны следы конских копыт. Но это все было не то, что он искал. Так он прошел по кругу полмили, когда взгляд его упал на след, казавшийся свежее остальных. Базиль бросился вперед и наклонился над землей, радостно воскликнув: он узнал следы мустанга Франсуа. Он узнал их по тому признаку, который заметил еще там, где собаку впервые пустили по следу: от одного из передних копыт был отломан кусочек. Но для Маренго не это имело значение — он снова напал на правильный след и кинулся вперед по прерии, обнюхивая землю.
Базиль вскочил в седло и, махнув рукой брату, чтобы тот следовал за ним, поскакал за собакой.
Этот след шел не по прямой. Лишь в некоторых местах он тянулся прямо на протяжении сотни миль, затем вдруг сворачивал то вправо, то влево и шел зигзагами, а иногда по кругу. В одном или двух местах он пересекался. Тут собака опять чуть не сбилась.
Братья хорошо понимали, почему след был таким запутанным: бедный Франсуа плутал, не зная, куда ехать.
Еще раз след выпрямился и тянулся так больше двух миль. Франсуа явно принял здесь какое-то решение и поехал прямо, но, как заметил Базиль, он все время удалялся от их лагеря. Отсюда, поскольку след был свежий, собака побежала быстро, заставляя охотников скакать галопом. В конце концов она опять свернула направо, на запад.
Когда всадники повернули вслед за ней, они обратили внимание на небо: солнце садилось!
Тяжелое предчувствие вновь овладело ими. Мальчики знали, что на этом высоком южном плато не бывает сумерек. Если ночь будет темная, как им следовать за собакой, которая мчится с такой быстротой? Положим, Маренго разыщет след, но какой в этом толк? Франсуа лишь приобретет товарища по несчастью, но это не даст ни ему возможности найти братьев, ни им найти его.
Базиль и Люсьен поделились друг с другом этими мыслями, пока скакали рядом. Вскоре солнце село, и на траву легли тени. Становилось все темнее и темнее, и наконец стало уже трудно отличить собаку на фоне травы. Что делать? Скоро Маренго ускользнет от них, и они останутся без вожака.
— Придумал! — воскликнул вдруг Базиль.
С этими словами он пришпорил лошадь, догнал Маренго и, спрыгнув с седла, схватил собаку и задержал ее.
— Слезай, Люс! — крикнул он. — Сойди и помоги мне. Сними свою рубашку она светлее моей.
Люсьен, еще не совсем понимая план Базиля, сейчас же снял блузу и затем рубашку из выбеленного холста в еле заметную полоску. В темноте она казалась почти белой. Базиль схватил рубашку и поспешно оторвал от нее рукава. Затем он натянул ее на Маренго и, продев передние лапы собаки в проймы, крепко завязал воротник вокруг шеи куском ремня, а на спине застегнул пуговицы. Одетый таким образом, Маренго выглядел, как обезьянка бродячих артистов, но его стало очень хорошо видно в темноте.
— Теперь, — возбужденно вскричал Базиль, — мы можем следовать за ним, даже если будет темно, как в могиле!
— Подожди минуту, — сказал Люсьен. — Давай будем действовать наверняка. Еще достаточно светло, я могу писать.
С этими словами Люсьен вынул блокнот и написал:
«Франсуа, поезжай обратно по своему следу, и ты встретишь нас. Если ты не можешь найти след, пусть Маренго ведет тебя».
Люсьен вырвал листок и подал его Базилю, который крепко привязал записку к рубашке.
Маренго опять пустили по следу, и оба брата, поспешно вскочив на лошадей, двинулись за ним.
К счастью, ночь оказалась не такой непроглядной, как они предполагали. Братья видели белую «попону» Маренго достаточно отчетливо и могли следовать за ним даже галопом. Таким образом они скакали еще около часа, причем Базиль все время отмечал путь, надламывая ветки на попадающихся по пути деревьях.
Вдруг, когда они свернули за густую рощу, что-то ярко блеснуло у них перед глазами. Это был костер; он горел под высокими деревьями. Маренго бросился прямо к нему. Опасаясь, что это, может быть, лагерь индейцев, Базиль соскочил с лошади и перехватил собаку. Юные охотники остановились, раздумывая, как лучше поступить В этот момент огонь вспыхнул, и они увидели рядом с костром что-то пятнистое. Ура! Это стоял мустанг Франсуа.
Базиль и Люсьен бросились вперед и, к своей великой радости, тут же обнаружили Франсуа. Он сидел у костра и держал что-то над огнем.
В следующее мгновение братья были в объятиях друг друга, плача от радости. Франсуа рассказал обо всех своих приключениях. Он убил индейку, а затем заблудился и, вместо того чтобы идти обратно по своему следу, как это сделал Базиль, блуждал до самой ночи, время от времени крича и стреляя из ружья. Иногда он совсем отчаивался и тогда, отпустив поводья, долго ехал туда, куда везла его лошадь. Вконец измученный, он спешился и привязал лошадь к дереву. Надвигалась ночь, Франсуа замерз и устал. Он решил рискнуть и развел костер. По счастью, индейка все еще висела на луке его седла. Франсуа как раз только что опалил ее и поджаривал на огне, когда радостная встреча с братьями прервала это занятие.
При виде чудесной жарящейся индейки Базиль и Люсьен вдруг почувствовали, что голодны, как волки. В своем волнении они совсем и не подумали о том, чтобы пообедать. Жаркое скоро оказалось готово, и после обильного ужина, который Маренго разделил с ними, юные охотники вбили в землю колышки, привязали к ним лошадей и, закутавшись в одеяла, уснули.
Глава 15
ЖАННЕТ И ДИКИЕ СВИНЬИ — ПЕКАРИ
На следующее утро мальчики поднялись очень рано и, наскоро зажарив остатки индейки, позавтракали и отправились в обратный путь. На собаку они уже не надеялись. След, конечно, остыл, и они боялись, что Маренго, несмотря на свое чутье, не найдет его. Юные охотники решили руководствоваться своими собственными следами и отметинами на деревьях. Поэтому они продвигались медленно и были вынуждены часто останавливаться, но они предпочли именно этот способ как наиболее верный. Они знали, как им важно вернуться к Жаннет: палатка, вся провизия и вещи остались с ней.
Мальчики были в приподнятом настроении, обычном для людей, только что избегнувших большой опасности, и, пока ехали, подшучивали друг над другом.
Люсьен был без рубашки, так как Маренго разорвал ее и она была теперь грязная, сырая и никуда не годилась. Это было основной темой шуток для Франсуа. Досталось и Жаннет, так как Люсьен вспомнил, что привязал ее на расстоянии фута от дерева и она, конечно, все это время оставалась голодной. Больше того, в спешке не успели снять с нее поклажу, и это, вероятно, не улучшило настроение мула.
Была середина дня, когда мальчики подъехали к месту, откуда уже стало видно Жаннет.
— Что такое? — крикнул Франсуа, который первый заметил ее из-за кустов. Что там происходит?
Все трое остановились и смотрели недоумевающе. Представшая перед ними картина удивила бы кого угодно. Несомненно, это была Жаннет, но Жаннет в очень странном положении. Ее копыта непрерывно мелькали в воздухе — она взбрыкивала то передними, то задними ногами; иногда все четыре ноги одновременно взлетали в воздух, и белое полотно палатки, сползшей с седла, мелькало то вверх, то вниз.
Мальчики некоторое время смотрели на эту сцену с изумлением, не лишенным страха. «Может быть, это индейцы?» — думали они.
— Нет, это волки, — сказал Базиль. — На нее напали волки! Поспешим ей на помощь!
Все трое пустили лошадей галопом и скоро были уже в нескольких сотнях ярдов от места происшествия. Теперь им стало видно землю под ногами мула: она вся кишела не волками, а животными другой породы. Животные эти с маленькими темными телами, но без хвостов, и с заостренными мордами напоминали свиней. Издали бросались в глаза белые клыки их длинных челюстей.
— Пекари! Дикие свиньи! — воскликнул Люсьен, который хотя никогда и не видел этих животных, узнал их по описанию.
Это и действительно были дикие мексиканские свиньи.
Юные охотники не стали медлить, так как понимали, что Жаннет находится в опасности. Она все еще брыкалась и пронзительно визжала, как кошка, а дикие свиньи, хотя несколько их трупов уже лежало у ее ног, с громким хрюканьем наскакивали на ноги мула, едва те касались земли.
Вокруг Жаннет толпилось около сотни свиней — земля была буквально вся покрыта их темными телами, снующими туда и сюда.
Не думая об опасности, Базиль кинулся в самую гущу, а за ним Франсуа и Люсьен. Хорошо, что мальчики были верхом, иначе они никогда не выбрались бы оттуда. Все трое выстрелили на ходу — они надеялись, что выстрелы рассеют стадо, но вскоре поняли, что ошибались, ибо, хотя каждый и застрелил по одному пекари, это не произвело должного впечатления, и в следующее мгновение кони мальчиков заскакали и запрыгали так же неистово, как Жаннет. Дикие свиньи окружили их с пронзительным хрюканьем, впиваясь клыками в ноги лошадей и подпрыгивая так высоко, что едва не доставали до самих всадников.
По счастью, братья были хорошими наездниками. Если бы хоть один из мальчиков был сейчас не на лошади, судьба его была бы решена. Юным охотникам удавалось держаться в седлах, но они не могли перезарядить ружья. Маренго, будучи старой техасской охотничьей собакой, видел диких свиней и раньше, а теперь, благоразумно отбежав, издали поглядывал на эту сцену.
Братья скоро поняли, что бессмысленно оставаться здесь, и приготовились отступать. Базиль заставил свою лошадь подъехать к дереву и охотничьим ножом перерезал лассо, которым была привязана Жаннет. Затем, крикнув Люсьену и Франсуа, чтобы они ехали за ним, пустился галопом через прерию.
Наверно, никогда еще ни один мул не был так рад освободиться от привязи, как Жаннет, и никогда еще мул не пользовался своими ногами с большим успехом. Жаннет мчалась по прерии, как будто за ней гнался сам черт. Но если и не черт, то, во всяком случае, целое стадо диких свиней кинулось за ней вдогонку; их было множество, они хрюкали и визжали на бегу.
Лошади легко опередили пекари, так же как и Маренго, но Жаннет была еще в опасности. Она около двух суток ничего не ела и не пила и сильно ослабела. Кроме того, ноги ее были изодраны клыками диких свиней, а палатка, которая съехала и волочилась теперь за ней по земле, очень мешала ей бежать.
Это последнее обстоятельство в конце концов оказалось спасительным для мула, так как дикие свиньи, нагнав Жаннет, схватили висящую палатку и стянули ее с седла. Палатка упала, распластавшись по траве, как одеяло, и все стадо, подоспевшее к этому времени, решив, что это и есть настоящий враг, начало топтать палатку копытами и рвать зубами. Это дало Жаннет время, и она сумела им воспользоваться. Освободившись от поклажи, она пустилась быстрым галопом и скоро догнала лошадей; теперь вся кавалькада мчалась вместе, пока не оказалась на расстоянии нескольких миль от диких свиней. Тут охотники остановились разбить лагерь.
Животные были измучены, а Жаннет вообще была не в состоянии больше двигаться.
Разбить лагерь было теперь делом нехитрым — ведь они потеряли не только палатку, но и большинство своих вещей.
Что заставило пекари напасть на мула? Это явилось предметом разговоров наших путешественников, как только они пришли в себя после скачки. Они знали, что эти животные редко нападают, если их не вызвать на это. Но, очевидно, Жаннет дала им какой-то повод. Наверно, они бродили вокруг в поисках пищи и наткнулись на индеек, которых Люсьен и Базиль в спешке оставили лежать на земле. Дикие свиньи неразборчивы в пище — они могут есть и рыбу, и птицу, и змей, и овощи — и, найдя индеек, начали пожирать их. Занятые едой, пекари подошли близко к ногам Жаннет, которая в этот момент, будучи в дурном настроении, лягнула одного из них. Это-то, очевидно, и привело к бешеной атаке всего стада.
К счастью для Жаннет, подоспели ее хозяева, иначе ее старые ребра вскоре захрустели бы под клыками разъяренных животных. Дикие свиньи, или пекари, как их чаще всего называют натуралисты, обычно безвредны и, если их не трогать, редко нападают на человека. Однако если ранить хотя бы одного из них или даже если побеспокоить пекари в их логовище, они становятся свирепыми и опасными. Хотя пекари и маленькие существа, они обладают исключительной храбростью, а сильные челюсти и большие клыки делают их грозными противниками. Как и все животные из породы свиней, в ярости они не сознают опасности, и их стадо может сражаться с врагом до тех пор, пока не погибнут все. Нередко дикие свиньи загоняют на дерево мексиканского охотника, и он вынужден сидеть в своем убежище часами, а иногда и днями, прежде чем осада будет снята и он получит возможность благополучно спуститься на землю.
Глава 16
ХИТРАЯ КОШКА И КОВАРНЫЙ СТАРЫЙ ОПОССУМ
Место, где остановились наши путешественники, представляло собой частые заросли дубов и орешника. В середине рощи протекал ручей, берега которого густо поросли травой. Здесь привязали лошадей. Вяленое мясо, которое служило постоянной пищей для наших охотников, упало с седла Жаннет во время ее бегства и, конечно, было потеряно. Что же добыть на обед? Это был серьезный вопрос. Базиль и Франсуа вскинули на плечи ружья и отправились посмотреть, не попадется ли им белка или какое-нибудь другое животное, которое сможет послужить пищей. Но солнце стояло еще высоко, и ни одной белки не было видно, так как эти маленькие существа днем прячутся, а выходят только утром и вечером, чтобы поесть и поиграть.
Ничего не найдя в густой, тенистой роще, молодые охотники решили поискать на опушке и, пройдя около ста ярдов, увидели, что отсюда вновь начинаются прерии. Мальчики не сразу вышли из-за деревьев, так как надеялись напасть на оленя, куропаток или еще на какое-нибудь животное из тех, которые любят отдыхать на опушке. Они осторожно и тихо продвигались вперед, прячась за толстыми стволами деревьев.
Прерия тянулась ровной, гладкой пеленой — ни единой рощицы. Лишь изредка попадались одинокие деревья, да и те низкорослые, чаще всего дубки с темной корой и орешник гикори. Было видно далеко кругом, так как прерия представляла собой совершенно плоскую равнину, заросшую низкой бизоновой травой. Однако ни олени, ни какие-либо другие животные не показывались. Приглядевшись внимательнее, мальчики увидели на расстоянии около двухсот ярдов два маленьких существа, которые бегали по траве и время от времени садились на задние лапы, как обезьянки, будто разговаривая друг с другом.
— Степные собачки, — высказал предположение Франсуа.
— Нет, — сказал Базиль. — Я не вижу хвостов. У степных собачек хвосты сразу заметишь.
— Кто же это тогда?
— Я думаю, что это зайцы, — ответил Базиль, глядя на них из-под ладони.
— Зайцы? — воскликнул в удивлении Франсуа. — Но ведь эти зверюшки не крупнее крыс! Ты, вероятно, думаешь, что это зайчата?
— Нет, вполне взрослые зайцы. Это такая порода.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Франсуа. — Куда годятся твои глаза, брат! Ты думаешь, они очень далеко отсюда, не так ли? А я говорю, что они не дальше двухсот ярдов от нас, и рядом с ними даже белка покажется великаном. Нечего сказать, зайцы!
— А я все-таки остаюсь при своем мнении, — ответил Базиль, продолжая внимательно вглядываться в животных. — Хотя я и не вполне уверен… Жалко, здесь нет Люсьена! Он, наверно, смог бы сказать нам, что это за животное.
— А вот и он! — сказал Франсуа, услыхав шаги Люсьена. — Посмотри туда, Люс, — продолжал он, — видишь? Базиль называет этих малюток взрослыми зайцами!
— И Базиль прав, — ответил Люсьен, присмотревшись и разглядев животных. Это действительно взрослые зайцы.
На лице Франсуа отразилось полное недоумение.
— Если не ошибаюсь, — продолжал Люсьен, — это порода, известная среди индейцев прерий под названием «маленький заяц-вожак». Может быть, это и какой-нибудь другой вид… В Скалистых горах и в окружающих их прериях водится много пород этих зверьков, но они очень редко попадаются на глаза. Мне бы хотелось добыть шкурку одного из них. Я уверен, что папа будет очень доволен.
— А это мы можем сделать немедленно, — сказал Франсуа. — Разве нельзя сейчас же подойти поближе и подстрелить одного из них?
— Нет, — ответил Люсьен. — Они умчатся, как ветер, прежде чем ты успеешь подойти на расстояние выстрела.
— А если натравить Маренго — неужели он не поймает?
— Думаю, что нет. Кроме того, он разорвет зайца в клочки. Нет, единственный наш шанс — это остаться здесь. Они, кажется, двигаются в нашем направлении…
Все три мальчика заняли позиции за стволами больших деревьев так, чтобы пугливые зверьки их не увидели.
А зайчики щипали траву и прыгали, постепенно приближаясь к опушке. Но двигались они наискось, и было не похоже, что они подойдут к тому месту, где стояли юные охотники. Мальчики хотели было уже продвинуться дальше вперед, навстречу зайцам, когда вдруг заметили нечто такое, что заставило их замереть на месте.
Бесшумно двигаясь среди травы и кустиков ежевики, то быстро перебегая за каким-нибудь лежащим стволом, то медленно проползая по более открытой местности, приближалось странное животное. Время от времени оно останавливалось, припадало всем телом к земле и жадно вглядывалось в прерию. Оно не видело юных охотников. Его желтые глаза были устремлены на невинные маленькие существа, резвящиеся в траве.
Животное выглядело действительно очень странно. Оно было величиной примерно с фокстерьера, но по внешнему виду не было похоже на него: рыжевато-желтый цвет, коричневые пятна по бокам и полосы на спине придавали ему вид леопарда или тигра, которых оно напоминало и своей закругленной, как бы кошачьей головой. Однако торчащие вверх уши с кисточками на концах и короткий хвост показывали, что животное в некоторых отношениях отличалось от породы тигров. Самым достопримечательным был хвост. Он был не больше пяти дюймов длиной, круто загибался вверх и выглядел так, будто его подрезали, как обычно у фокстерьеров. Но это было не так: у животного никогда и не было хвоста длиннее пяти дюймов, и именно этот короткий хвост и толстые, неуклюжие лапы, а больше всего — торчащие, с кисточками уши, кончики которых сближались, помогли юным охотникам определить, что это рысь из породы, известной под названием «рыжая рысь», которую обычно называют в Америке «дикой кошкой». Эта рысь была техасской разновидности — темнее по цвету, чем обычная рыжая.
Рысь явно старалась подкрасться поближе к зайчикам и схватить одного, а может быть, и обоих. Она знала, что бегает недостаточно быстро и догнать их не сможет, поэтому старалась приблизиться настолько, чтобы прыгнуть на них. Ей до некоторой степени благоприятствовала земля, так как хотя прерия и была открытая, но высохшая, прошлогодняя трава, видневшаяся повсюду среди новой травы, скрывала тело рыси, когда та припадала к земле.
Почти по прямой между рысью и зайцами росло одинокое дерево с раскидистыми ветвями, а под деревом находился как бы маленький островок вереска и высокой травы. Очевидно, когда-то в этом месте сгнил старый ствол или труп животного и удобрил почву. Туда-то и двигались с одной стороны — рысь, а с другой — зайцы.
Зайцы подошли очень близко к зарослям вереска, и мальчики могли теперь различить их длинные торчащие уши, стройные тельца и грациозные движения. Зверьки действительно очень напоминали обыкновенных зайцев. Однако расцветка их была другая — ржаво-коричневая, книзу светлее, но нигде на всем теле животного не было видно ни единого белого пятнышка. Мальчики с удовольствием наблюдали, как эти милые существа то обгрызали траву, то делали прыжки больше фута длиной, то смешно усаживались на задние лапки. Охотники залюбовались ими. И ты, мой юный читатель, разделил бы их мнение, если бы посмотрел на этих забавных миниатюрных зверюшек.
Вдруг мальчики увидели, что прямо против зайцев и ближе к вереску находится какой-то странный предмет. Предмет был круглый и походил на большой клубок волос или шерсти сероватого цвета, наполовину врывшийся в землю. Ни Базиль, ни Люсьен, ни Франсуа не могли сказать, был ли он там раньше. Возможно, они раньше не замечали его, так как их внимание было поглощено зайцами и рысью. Франсуа сказал, что заметил этот предмет некоторое время назад, но почти не обратил на него внимания, так как решил, что это пучок сухой травы или шаровидный кактус, который последнее время часто встречался им в прерии. Однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это не растение.
Зайчики, казалось, тоже заметили его и, движимые любопытством, подходили к нему все ближе и ближе. Во внешности этого предмета не было ничего, чтобы возбудить в них тревогу. На зайцев никогда еще не нападал такой враг. По-видимому, у него не было ни зубов, ни когтей, а следовательно, им нечего было бояться.
Подбодренные отсутствием опасности и соперничая друг с другом в храбрости, маленькие существа продвигались дюйм за дюймом вперед — сначала один, потом другой, пока носы их почти не коснулись странного предмета. Вдруг тело, похожее на клубок, развернулось и превратилось в узконосое четвероногое животное, чей длинный змеевидный хвост мгновенно обвился вокруг одного из зайцев и сжал его в своих цепких объятиях. Маленькое существо издало пронзительный вопль, а его товарищ кинулся в ужасе прочь.
Опоссум — это был не кто иной, как старая самка опоссума — круто повернулся и, схватив голову зайца своими похожими на свиные челюстями, убил его одним движением. Затем, выпустив зайца из тисков, он положил его на траву и приготовился было тут же съесть. Но судьба решила иначе.
Рысь, которая кралась вперед и была уже меньше чем в двадцати фугах от вереска, явилась свидетелем этой сцены. Сначала все это ей, видимо, пришлось не по вкусу, однако через некоторое время стало казаться, что рысь скорее одобряет все происшедшее.
Очевидно, по зрелом размышлении, она решила, что так оно будет даже лучше. Опоссум избавил ее от хлопот по поимке зайца, которого рысь могла бы и не поймать. Опоссум поймал добычу, а достанется она ей, рыси.
Все эти соображения так ясно выражались во всех поступках рыси, как если бы она произнесла их вслух. Она подкрадывалась, намереваясь прыгнуть на ничего не подозревающего опоссума.
Последний, однако, прежде чем начать есть, как все, кто чувствует, что совершил преступление, поднялся во весь рост и осмотрелся, нет ли свидетелей его злодеяния. Взгляд опоссума упал на рысь, и, поспешно схватив зайца в зубы, он кинулся в заросли. Рысь, видя, что дальше прятаться бесполезно, прыгнула вперед. Спина ее выгнулась, шерсть встала дыбом. Она не сразу последовала за опоссумом в вереск, а обежала вокруг, чтобы обнаружить, куда он спрятался. Рысь боялась, что у опоссума там есть нора. Тогда прощай и заяц и опоссум! наверно, подумала она.
Однако на самом деле это оказалось не так. Обежав вокруг зарослей, рысь храбро кинулась туда. Некоторое время не видно было ни рыси, ни опоссума. Эти заросли занимали всего несколько ярдов прерии, но представляли собой настоящую чащу, где дикий виноград, вереск и чертополох тесно переплетались под навесом из густой листвы.
Ни то, ни другое животное не издавало ни единого звука, но движение листьев и потрескивание вереска то тут, то там говорили о том, что происходит яростная погоня; причем преследуемый был явно в лучшем положении, так как тело его было намного меньше и лучше приспособлено к тому, чтобы протискиваться в узкие места.
Эта любопытная погоня продолжалась несколько минут. Затем, ко всеобщему удивлению, опоссум выскочил на открытое место, все еще держа зайца в зубах. Он бросился прямо к дереву и начал карабкаться на него совсем как человек, обхватив ствол передними лапами.
Это удивило мальчиков, так как дерево было низкое, не выше тридцати футов, и юные охотники знали, что рысь тоже свободно может влезть на него.
Рысь выскочила из зарослей и одним прыжком очутилась под деревом. Она не сразу последовала за опоссумом, а остановилась на минуту, чтобы отдышаться, явно торжествуя. Она с легкостью могла вскарабкаться на дерево и чувствовала удовлетворение оттого, что теперь наверняка добьется своего.
«Наконец-то я загнала старую хитрюгу на дерево! — должно быть, сказала она себе. — Теперь я доберусь до тебя. И задам же я тебе хорошую трепку за все беспокойство, которое ты мне причинила! Погоди ж ты у меня! Я не стану есть тебя — нет, ты для этого недостаточно вкусна, но съем зайца и накажу тебя за то, что ты его поймала».
Она кинулась вверх по дереву, и кора затрещала под ее когтями.
К тому времени опоссум подобрался почти к верхушке дерева, а оттуда перешел на одну из ветвей, росших горизонтально.
Рысь пошла за ним по этой ветке и уже почти достигла своей цели, когда опоссум, вдруг обвив ветку хвостом, спустился на другую, находящуюся внизу. Рысь сначала, казалось, хотела прыгнуть за ним, но ветка была тонкая и рысь не была уверена, что сможет ухватиться за нее, — поэтому она повернула обратно, явно раздосадованная, и, спустившись по основному стволу, побежала по той ветке, на которой находился опоссум. Последний же опять спустился на другую ветку и затем, не дожидаясь своего преследователя, — на следующую, еще ниже, пока не повис на самой нижней.
Мальчики думали, что опоссум соскочит на землю и попытается спастись в лесу, однако он не имел такого намерения, так как знал, что рысь скоро поймает его, если он попытается бежать. Данное положение было для него наиболее безопасным, и, казалось, он знал это, а потому продолжал висеть на нижней ветке, почти на самом ее конце, так что ветка сгибалась под его тяжестью. Она не выдержала бы и другого опоссума — не то что рыси, которая была намного тяжелее, и рысь, со свойственной ей зоркостью, поняла это с первого взгляда. Раздосадованная, она все же решила попытаться еще раз.
Рысь поползла по ветке с большой осторожностью. Она продвинулась, насколько было возможно, дальше и затем, протянув лапу, старалась достать до хвоста опоссума, думая, что ей удастся оторвать его от ветки. Но она потерпела неудачу. С таким же успехом она могла бы стараться разжать когти орла. Рыси удавалось лишь коснуться лапой хвоста опоссума. Тогда она взобралась на верхнюю ветку, думая таким образом приблизиться к опоссуму, но скоро поняла свою ошибку.
Она вновь побежала по ветке, на которой висел опоссум, и некоторое время казалось, что она хочет прыгнуть на него и тем самым свалить его на землю вместе с собой. Но расстояние было слишком велико, и через некоторое время рысь прокралась назад и залегла в развилке дерева.
Рысь недолго оставалась в этом положении — казалось, ей пришла в голову новая мысль.
Опоссум был не очень высоко над землей: может быть, она сможет подпрыгнуть и схватить его за нос? Во всяком случае, попытаться было нетрудно.
С этим намерением рысь спустилась с дерева и побежала к тому месту, над которым висел опоссум. Но он оказался выше, чем она предполагала, и, как в басне «Лиса и виноград», после нескольких прыжков ей пришлось отказаться от этой попытки. Однако рысь твердо решила продолжать осаду и, рассудив, что ей достаточно удобно и здесь, не полезла опять на дерево, а уселась на траву, не сводя глаз с противника.
Все это время старый опоссум спокойно висел на хвосте, держа зайца в зубах. С того момента, как он обезопасил себя, заняв эту позицию, он, казалось, совсем перестал бояться своего врага — наоборот, вся его внешность выражала злобное веселье, и это было так ясно зрителям, как если бы оно было выражено словами. Хитрое существо явно наслаждалось той досадой, которую оно вызывало у дикой кошки.
Время от времени опоссум как бы начинал задумываться над тем, чем все это кончится. Но рысь приняла решение долго не снимать осады, — опоссум видел это по ее морде. Следовательно, это был вопрос выдержки. Что касается опоссума, он был готов к этому и, для того чтобы лучше выдержать осаду, взял зайца в передние лапы, точно в руки, и принялся раздирать его и есть.
Это переполнило чашу терпения рыси. Она не могла больше выдержать и, неожиданно поднявшись на ноги и ощетинившись, снова кинулась на дерево и побежала по той ветке, на которой висел опоссум. На этот раз, не останавливаясь и не думая об опасности, рысь прыгнула вперед, обхватила передними лапами задние лапы опоссума и схватила его зубами за хвост. Ветка затрещала, сломалась, и они оба упали на землю.
На мгновение рысь, казалось, была оглушена падением, но тут же пришла в себя. Она поднялась, выгнула спину, как настоящая кошка, и с диким визгом кинулась на опоссума.
Рысь словно забыла о зайце, которого опоссум выронил при падении. Самым сильным чувством ее теперь была месть, бушевавшая в ней. Месть заставила ее забыть голод.
Опоссум, как только попал на землю, вдруг весь сжался в клубок и теперь выглядел точно так, как его впервые увидели мальчики. Голова, шея, лапы и хвост исчезли — ничего не осталось, кроме шара из густой шерсти. На этот шар теперь и напала дикая кошка, терзая его когтями и зубами. Она билась с ним минут десять, пока не обессилела.
Опоссум, по всей видимости, был мертв. Очевидно, так думала и рысь. Во всяком случае, она оставила его в покое. Более лакомый кусочек — заяц был у нее перед глазами. Рысь повернулась и схватила его.
В этот момент Франсуа спустил Маренго, и вся компания с криком кинулась вперед. Рысь, увидев, что путь в заросли отрезан, бросилась в прерию, небольшая охотничья собака скоро нагнала ее и после короткой, но отчаянной борьбы положила конец ее браконьерству.
Юные охотники, преследуя рысь, подняли зайца, которого она выронила во время сражения. Когда погоня закончилась, они вернулись обратно к дереву, чтобы взять и мертвого опоссума, которого мальчики намеревались приготовить на ужин. К их удивлению, никакого опоссума не оказалось ни на дереве, ни в вересковых зарослях — нигде.
Хитрое создание все это время притворялось мертвым и теперь, обнаружив, что путь свободен, опять развернулось и укрылось под корнями одного из соседних деревьев.
На земле остались только труп рыси и такое же безжизненное тельце бедного маленького зайца. Наши путешественники не хотели есть рысь, хотя ее часто едят трапперы и индейцы, а заяц был так изорван, что не представлял никакой ценности.
Итак, поскольку в этой местности не нашлось никакой другой добычи, даже белки, все четверо — Люсьен, Базиль, Франсуа и Маренго — отправились спать впервые с начала путешествия без ужина.
Глава 17
СТРАННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕД ЗАВТРАКОМ
Зато на завтрак у мальчиков было сколько угодно мяса, хотя они чуть не поплатились за него очень дорого.
Все три брата спали на земле в нескольких футах друг от друга. Палатка была потеряна, приходилось устраиваться на ночлег прямо под открытым небом. Закутавшись в одеяла, они крепко спали всю ночь под большим развесистым деревом.
Рассветало, когда что-то вдруг коснулось лба Франсуа — что-то холодное и липкое. Когда оно прикоснулось к горячей коже Франсуа, тот сразу проснулся.
Франсуа подскочил, как будто в него вонзили булавку, и так закричал, что разбудил остальных. Не змея ли? Эта мысль не оставляла Франсуа, пока он протирал глаза; когда же глаза его окончательно открылись, он увидел, как убегает какое-то существо. Оно не могло быть змеей.
— Как ты думаешь, что это было? — спросили одновременно Базиль и Люсьен.
— Я думаю, волк, — ответил Франсуа. — Я почувствовал его холодный нос. Смотрите, вон он! Смотрите, смотрите, их двое!
Базиль и Люсьен посмотрели в направлении, указанном Франсуа, и увидели двух бегущих животных. Животные по величине были примерно такие, как волки, но казались совершенно черными и совсем не похожими на волков.
Кто бы это мог быть?
Животные скрылись в темном проходе между деревьями, мальчики только мельком успели увидеть их. Кто же это? Может быть, дикие свиньи — пекари?
— Для свиней они слишком велики и неуклюжи, — сказал Люсьен.
— Может быть, это медведи? — высказал предположение Франсуа.
— Нет-нет, они недостаточно велики для медведей.
Все трое недоумевали.
Мальчики сидели, высвободившись из одеял, держа ружья, — они всегда клали их рядом с собой, когда спали. Напрягая глаза, они всматривались в едва различимый просвет, где на расстоянии пятидесяти ярдов от них остановились два непонятных существа.
Вдруг прямо перед животными возникла фигура человека. Вместо того чтобы убежать от них, как ожидали мальчики, человек спокойно остановился. Затем, к еще большему удивлению мальчиков, животные приблизились и начали прыгать вокруг него, будто нападая. Но это было не так, ибо человек не сдвинулся с места, как сделал бы тот, на кого нападают, — наоборот, через некоторое время он наклонился и, казалось, стал ласкать их.
— Человек и две собаки! — прошептал Франсуа. — Может быть, индеец?
— Может быть, это и человек, — ответил Люсьен также шепотом, — я не знаю, что это еще может быть, но те животные — не собаки, или я никогда не видел таких!
Люсьен произнес это с таким чувством и таким серьезным тоном, что братья придвинулись поближе друг к другу.
Все это время Маренго стоял рядом. Собака проснулась только тогда, когда прозвучал крик Франсуа. Маренго был измучен долгим переходом предыдущих дней и, так же как его хозяева, спал очень крепко. Одно слово Базиля остановило Маренго: он был хорошо выдрессирован и без приказания Базиля не привык нападать ни на одно существо, даже на своих естественных врагов. Поэтому Маренго стоял тихо, пристально глядя в том же направлении, что и мальчики, время от времени издавая глухое, еле слышное рычание. Однако в его рычании звучал гнев, который показывал, что он не рассматривает эти странные существа как друзей. Возможно, он лучше остальных знал, кто это.
Три таинственных существа все еще оставались на прежнем месте, на расстоянии пятидесяти ярдов от мальчиков, но они не стояли неподвижно. Те, что поменьше, бегали по земле, то отдаляясь от большой стоящей фигуры, то возвращаясь к ней, и, казалось, ласкались, как и раньше, а фигура время от времени наклонялась, как бы для того, чтобы принять их ласки, а когда их не было рядом — чтобы собрать что-то с земли. Затем она вновь принимала вертикальное положение. Все это проделывалось в абсолютной тишине.
Было что-то таинственно-устрашающее в их поведении, и наши юные: охотники наблюдали за ними не без страха. Мальчики недоумевали и боялись одновременно они не знали, как вести себя, и разговаривали шепотом. Может быть, им подползти к лошадям, сесть на них и ускакать? Это бессмысленно, если таинственная фигура — индеец: поблизости, без сомнения, находятся и другие индейцы, и они легко смогут выследить и догнать мальчиков. Юные охотники чувствовали, что странные существа знают об их присутствии: они не могли не слышать, как привязанные ярдах в тридцати лошади бьют копытами землю и жуют траву. Больше того, одно из этих животных коснулось и обнюхало Франсуа, так что можно было не сомневаться, что оно-то уж знает о присутствии мальчиков. Поэтому бессмысленно было пытаться убежать незамеченными. Что же тогда делать? Взобраться на дерево? Но и это мало облегчило бы положение мальчиков, и они отбросили эту мысль.
Наконец они приняли решение оставаться на месте и ждать: будь что будет либо на них нападут таинственные соседи, либо наступление дня даст возможность понять, кто это.
Однако, когда стало светлее, ужас юных охотников не уменьшился, так как теперь они увидели, что высокая фигура обладает двумя толстыми, сильными руками, которые она держит горизонтально, забавно размахивая ими. Цвет ее показался мальчикам красноватым, в то время как маленькие животные были совершенно черные. Если бы юные охотники находились в лесах Африки, а не в лесах Северной Америки, они приняли бы ее за гигантскую обезьяну, но сейчас они знали, что этого не могло быть.
Облака рассеялись, и свет внезапно стал ярче. Теперь можно было легче различить предметы, и тайна, так долго мучившая юных охотников, была раскрыта.
Огромное, непонятное существо поднялось на дыбы и стало боком к мальчикам: его длинный, острый нос, короткие, торчащие вверх уши, грузное тело и косматая шерсть доказывали, что это не индеец и не какое-либо другое человеческое существо, а огромный медведь, стоящий на задних лапах.
— Медведица с детенышами! — воскликнул Франсуа. — Но посмотрите, продолжал он, — она бурая, а медвежата черные как смоль.
Базиль не стал медлить. Поняв, что это за животное, он вскочил и вскинул ружье.
— Ради всего святого, не стреляй! — закричал Люсьен. — Может быть, это гризли!
Но было уже поздно. Раздался выстрел Базиля — и медведь, опустившись на все четыре ноги, затанцевал по земле, тряся головой и яростно рыча. В полумраке Базиль не рассчитал и, вместо того чтобы выстрелить медведице в голову, как он намеревался, попал ей в нос. Пуля лишь царапнула ее по носу, почти не причинив вреда.
Нос медведя является наиболее уязвимым и нежным местом, и удар в нос приводит в ярость даже самого смирного. Так случилось и на этот раз. Медведица увидела, откуда стреляли, и несколько раз тряхнув головой, кинулась неуклюжим галопом по направлению к мальчикам.
Теперь Базиль понял, как опрометчиво он поступил, но уже не было времени выражать сожаление. Не было времени даже добежать до лошадей. Прежде чем они успеют добраться до лошадей и отвязать их, медведь настигнет их, и кто-нибудь из троих братьев сделается его жертвой.
— Лезьте на деревья! — закричал Люсьен. — Если эта медведица — гризли, то она не достанет нас. Гризли не умеют лазить по деревьям.
Говоря это, Люсьен вскинул свое короткое ружье и выстрелил в приближающегося зверя. Очевидно, пуля попала медведице в бок, так как она с рычанием повернулась и стала лизать раненое место. Это задержало ее на мгновение и дало возможность Люсьену вскарабкаться на дерево.
Базиль бросил ружье — у него не было времени перезарядить его. Франсуа, увидев огромное чудовище так близко, выронил ружье, не стреляя.
Все трое в суматохе забрались на разные деревья. То была роща из белых дубов. Эти деревья, в противоположность соснам, магнолиям и кипарисам, обычно имеют большие сучья, растущие низко и горизонтально. Такие сучья часто имеют столько же футов в длину, сколько самое дерево — в высоту. На эти-то деревья и взобрались мальчики.
Базиль влез на дерево, под которым они спали. Оно было намного больше других. Под этим деревом медведица и остановилась: ее внимание на минуту привлекли шкуры и одеяла. Она разбросала их лапами, а затем принялась ходить вокруг дерева, глядя вверх и время от времени громко втягивая в себя воздух с таким шумом, с каким выходит пар из трубы паровой машины.
К этому времени Базиль добрался до третьего или четвертого сука от земли; он мог бы забраться и выше, но из слов Люсьена заключил, что это животное, должно быть, принадлежит к породе гризли. Красновато-бурый цвет медведицы утвердил Базиля в этом мнении: он знал, что гризли бывают разных оттенков. В таком случае, ему нечего было бояться даже на самом нижнем суку, и он думал, что нет смысла лезть выше.
Базиль посмотрел вниз. Сейчас он мог хорошо рассмотреть животное и, к своему ужасу, сразу увидел, что медведь этот не гризли, а другой породы. Его внешний вид убедил Базиля в том, что это одна из разновидностей черного медведя, представители которой лучше всех других умеют лазить на деревья. Скоро в этом уже не оставалось сомнения, когда Базиль увидел, что зверь обхватил ствол дерева огромными лапами и начал взбираться.
Это был ужасный момент. Люсьен и Франсуа оба соскочили на землю, издавая крики предостережения и отчаяния. Франсуа схватил ружье и, не колеблясь ни минуты, подбежал к дереву и всадил заряд обоих стволов в ляжку медведицы. Дробь едва ли могла пробить ее толстую, косматую шкуру — это только еще больше раздразнило медведицу и заставило яростно зарычать. Она остановилась на некоторое время, как бы раздумывая, спуститься ли ей и наказать врага «в тылу» или продолжать преследовать Базиля. Шорох, производимый Базилем в ветвях над ее головой, решил дело, и медведица снова стала карабкаться вверх.
Базиль умел передвигаться по ветвям дерева не хуже белки или обезьяны. Находясь футах в шестидесяти от земли, он перебрался на длинный сук, росший горизонтально. Базиль выбрал именно этот, так как увидел над ним другой, на который мог бы перелезть, если бы зверь последовал за ним по первому; а оттуда он думал перебраться обратно к основному стволу, прежде чем медведица догонит его и соскочит на землю. Однако он тотчас увидел, что просчитался. Сук, на котором Базиль теперь находился, под его тяжестью так отклонился от верхнего, что он не мог достать до него даже кончиками пальцев. Он повернулся, чтобы идти назад, и, к своему ужасу, обнаружил медведицу в развилке на другом конце. Она собиралась следовать за ним по суку.
Базиль не мог идти назад — так он попадет прямо в пасть разъяренного зверя. Ни внизу, ни наверху не было ни одной ветки, за которую он мог бы уцепиться, а до земли — около пятидесяти футов. Единственным способом избежать лап медведя было спрыгнуть вниз, но и это означало верную смерть.
Медведь продвигался по суку. Франсуа и Люсьен кричали внизу, поспешно заряжая ружья. Они боялись, что опоздают.
Положение было ужасное, но в такие минуты ясный ум Базиля проявлялся с особой силой, и, вместо того чтобы поддаться отчаянию, юноша держался спокойно и сдержанно. Он искал выход.
Вдруг его осенила мысль, и он крикнул стоявшим внизу братьям:
— Веревку, веревку! Киньте мне веревку! Скорее! Ради Бога, скорее!.. Веревку — или я погиб!
К счастью, под деревом лежала веревка. Это было грубое лассо, которое применялось для увязывания поклажи на Жаннет. Люсьен отбросил полузаряженное ружье и, кинувшись к лассо, стал на ходу сматывать его в кольца. Люсьен умел бросать лассо почти так же ловко, как сам Базиль, а тот мог потягаться с мексиканским гаучо[238] из пампасов. Люсьен подбежал почти под самый сук, размахнулся и кинул лассо вверх. Базиль, чтобы выиграть время, перебрался почти на конец сука. Свирепый преследователь неотступно двигался за ним. Под их двойным весом сук выгнулся дугой. По счастью, это был дуб, и сук не обломился.
Базиль стоял, расставив ноги, лицом к дереву и к своему преследователю. Длинная морда медведицы находилась в трех футах от его головы, и Базиль чувствовал горячее дыхание зверя, когда тот, яростно рыча, тянулся к нему своей открытой пастью.
В этот момент кольцо лассо ударилось о сук прямо между ними и повисло. Мгновенно, прежде чем лассо успело соскользнуть обратно и упасть, юный охотник схватил его и с проворством упаковщика обвязал двойным узлом вокруг сука. В следующее мгновение, как раз, когда медведь уже протянул лапу, чтобы схватить мальчика когтями, тот спустился по лассо вниз.
Лассо не доходило до земли по меньшей мере на двадцать футов: оно было короткое, и часть его ушла на узел. Люсьен и Франсуа с ужасом увидели это, как только лассо повисло. Но они не растерялись. Когда Базиль достиг конца лассо, братья уже стояли внизу и держали, растянув, большую шкуру бизона. В нее Базиль и прыгнул и через секунду стоял на ногах цел и невредим.
Теперь наступил момент триумфа. Толстый сук, который сдерживался тяжестью Базиля и внезапно освободился, рывком взлетел вверх.
Неожиданная сила рывка оказалась слишком большой для медведицы. Она не удержалась: ее подбросило в воздух на несколько футов, и, упав с тяжелым стуком на землю, она лежала несколько минут без движения.
Однако медведица была лишь оглушена и скоро вскочила бы опять и возобновила бы нападение. Но она еще не успела встать на ноги, как Базиль схватил наполовину заряженное ружье Франсуа и, поспешно всыпав туда пригоршню пуль, выстрелил медведице в голову и убил ее наповал.
К этому времени к месту происшествия прибежали медвежата, и Маренго, который теперь пришел уже в себя, яростно кинулся на них, чтобы отомстить за то, что был так напуган их матерью. Маленькие существа отчаянно сражались и вместе могли бы справиться с Маренго, но ружья его хозяев пришли ему на помощь и положили конец борьбе.
Глава 18
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕДВЕЖАТИНЫ
Все трое — старая медведица и оба медвежонка — лежали теперь, вытянувшись на траве, мертвые. Редко можно было увидеть такое трио. Старая медведица весила не меньше пятисот фунтов. Ее длинная, жесткая шерсть была коричневого цвета, а у медвежат она была совсем черная. Это, однако, обычное явление, и самое замечательное то, что детеныши черного медведя часто бывают красновато-коричневого цвета, тогда как мать вся черная. Без сомнения, медвежата, после того как вырастут, становятся такого же цвета, как и вся их порода, но даже в любом возрасте медведи одной породы часто отличаются друг от друга по цвету, в зависимости от климата и других обстоятельств.
Натуралисты говорят, что в Северной Америке можно встретить только три породы медведей: черных, полярных и гризли.
Полярный медведь водится только в снежных районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном, и никогда не заходит дальше, чем на сотню миль от моря. Гризли по силе, отваге и свирепости занимает первое место в семействе медведей, превосходя даже своего белого кузена на севере. Мы позже поговорим о гризли подробнее. Сейчас же предметом нашего обсуждения является черный медведь. Он водится по всему Американскому континенту, может спокойно жить в любом климате и чувствует себя как дома и в заснеженных районах Канады и в тропических болотах Луизианы. Его можно встретить на всем протяжении от берегов Атлантического океана до Тихого. Черный медведь живет в густых лесах и в гористых пустынных районах, где мало растительности, однако он предпочитает лесистые места, и там его можно встретить чаще.
В Америке до колонизации ее европейцами водилось очень много черных медведей. После колонизации на них усиленно охотились из-за шкур, и, конечно, медведей становится с каждым годом все меньше и меньше. Меховые компании за последние сто лет получили от белых и индейских охотников тысячи и тысячи медвежьих шкур. И все же этих животных еще много в диких, незаселенных местах, и даже в старых, давно заселенных штатах их можно случайно встретить в отрезанных от поселений горных районах.
Вы удивитесь, что черных медведей давно не истребили, раз они такие большие и их можно легко обнаружить и выследить, да еще поселенцы и охотники-любители считают для себя делом чести убить медведя. И размножаются они медленно: у медведицы рождается только двое детенышей, и то один раз в год. Но дело в том, что зимой, когда земля покрыта снегом и медведя легко выследить и убить, он не показывается, а лежит в спячке в своей берлоге, которая помещается или в пещере в скалах, или около упавшего дерева. Это происходит только в северных странах, где выпадает снег и зима суровая. Там медведь исчезает на несколько месяцев, прячась в темном логове и питаясь, как утверждают охотники, тем, что «сосет свою лапу». Однако я не пытаюсь подтверждать эту теорию. Все, что я могу сказать, — это что медведь удаляется в свое убежище «жирный, как масло», а выходит оттуда ранней весной «худой, как палка».
Есть еще одна интересная деталь относительно медведей, которая объясняет, почему их нелегко истребить. Она заключается в том, что старых самок никогда не убивают в тот период, когда она вынашивает детенышей, так как в это время охотники их никогда не встречают. Говорят, что по всей Америке не найдется охотника, который помнил бы, что он когда-нибудь убил медведицу с детенышами.
Не так обстоит дело с большинством других животных, как, например, с лисами и волками, которых часто убивают вместе со всем приплодом и, таким образом, сразу уничтожают многих.
Медведица рожает детенышей зимой, в глубине какой-нибудь пещеры, где она лежала, спрятавшись, задолго до этого, благодаря чему она почти никогда не делается жертвой охотников. Когда медвежата подрастают, она выводит их из берлоги и обращается с ними с трогательной нежностью. Медведица всегда готова пожертвовать для них жизнью и защищает своих детенышей с большой храбростью. Говорят, что ей иногда приходится спасать медвежат от их свирепого отца, который стремится сожрать своих детенышей, когда ему предоставляется такая возможность, но я этому не верю.
Черные медведи — всеядные. Они едят и рыбу, и мясо, и дичь, и овощи, обожают всякие ягоды и сладкие фрукты. Они сходят с ума по меду; взбираются на деревья, где водятся пчелы, и грабят их соты. Медведи выкапывают земляные орехи и степную репу, жадно вылизывают личинки насекомых, выворачивая большие стволы лежачих деревьев, чтобы достать их. На юге медведи разрушают гнезда черепах и аллигаторов, чтобы полакомиться их яйцами, а там, где есть поселения, они пробираются в поля и поедают молодые хлеба и картофель, губя посевы. Они охотно едят свиней и других животных, пожирая их мясо, если можно так выразиться, живым, поскольку они не дают себе труда убить животных, а съедают их, разрывая на куски. Медведи могут утолять голод и падалью — короче говоря, всем тем, что служит пищей любым другим существам.
Несмотря на отвратительное разнообразие их пищи, мясо черного медведя очень вкусно. Оно является деликатесом для индейцев и белых охотников; особенно ценятся большие, жирные лапы. Может быть, эти люди так любят медвежьи лапы потому, что им кажется, что сами медведи очень любят их, раз они сосут лапы во время зимней спячки.
Существует много способов охоты на медведя. Его затравливают особо выдрессированными гончими. В этом случае медведь в состоянии пробежать миль десять, если преследователи не слишком близко от него; если же медведя настигают, он нападает на собак, и, когда какая-нибудь из них подходит близко, он сбивает ее с ног одним ударом лапы.
Медведь — животное стопоходящее. Он бегает неуклюже, но хотя кажется, что из-за огромных размеров тела он двигается медленно, на самом деле это не так.
Медведь ухитряется ковылять по земле гораздо быстрее, чем это можно предположить. Он в состоянии догнать человека, идущего пешком, а человек на лошади, с собаками легко догонит его. Когда медведь видит, что не может спастись бегством, он залезает на дерево и, вскарабкавшись как можно выше, старается спрятаться в листве. Ему не часто удается это, поскольку острое чутье гончих подводит их прямо к стволу дерева, и они стоят там, лая и завывая, пока не подоспеют охотники.
Когда медведя находят на дереве, его почти всегда удается сбить выстрелом. Если медведь только ранен, он яростно сражается с собаками и охотниками, — в этом случае черный медведь вступает в борьбу с человеком; первым медведь никогда не нападет на человека. Однако, если охотник ранит медведя, тот становится опасным противником. В подобных случаях люди бывали ужасно обезображены, истерзаны и с трудом выживали. Некоторых медведь чуть не раздавил насмерть в своих «объятиях».
Черного медведя часто ловят в различные западни или капканы — например, западнями из бревен, петлями, которые завязывают на согнутых молодых деревцах, западнями из поваленных деревьев и стальными капканами. Таким образом, медведи попадаются в ловушку чаще, чем рысь, лиса или волк.
Легко было бы заполнить целый том рассказами о приключениях, героем которых является черный медведь. В глухих поселках Америки о нем можно услышать много интересных историй. Некоторые из них являются правдой, другие же во многом преувеличены.
Но мы сейчас не имеем возможности рассказать их все. Я привел здесь только факты, которые помогут вам узнать основное о повадках этого животного.
Большинство этих фактов Люсьен и поведал своим братьям, пока они готовили завтрак, — все трое были очень голодны, и это было первое, чем они занимались после того, как убили медведей.
Завтрак состоял из жареного медвежонка. Мальчики знали, что медвежатина, также как и свинина, портится, если кожу содрать, и поэтому приготовили ее по индейскому способу: опалили медвежонка над огнем, а затем поджарили. Они поели с большим аппетитом, так как мясо оказалось нежным и сочным и по вкусу являлось чем-то средним между поросенком и телятиной. Маренго, конечно, тоже недурно позавтракал. Он получил столько остатков, что их хватило бы для заполнения большой корзины. Однако ног ему не досталось, как это случилось бы, если бы на завтрак готовили оленя или бизона. Наши юные охотники еще раньше пробовали лапы медвежат и поэтому сейчас приберегли эти лакомые кусочки для себя.
Позавтракав и сводив животных на водопой, братья собрались на «совет трех». Необходимо было решить, что делать дальше. Обстоятельства сильно изменились. Все их запасы — вяленое мясо, мука и кофе — были потеряны Жаннет во время ее бегства и, конечно, съедены или приведены в негодность дикими свиньями. Следовательно, добыть себе еду мальчики могли теперь лишь с помощью ружей. Потеря палатки не расстраивала их. При ясной летней погоде, которая тогда стояла, они не имели ничего против того, чтобы спать под открытым небом. Но большим лишением было то, что они остались без кофе, который высоко ценится всеми охотниками в прерии. Однако им приходилось мириться и с этим.
Вскоре юные охотники уже должны были встретить бизонов, а имея в изобилии вкусное мясо бизонов, путешественники редко жаждут каких-либо других лакомств. Все трое были довольны, что места, где обитают бизоны, недалеко и что, держась все время на запад, они скоро увидят большие стада этих животных. Но мальчики решили действовать осторожно. Они слышали еще раньше, что большая часть этой прерии почти бесплодна. Учитывая это, юные охотники не собирались бросать мясо медведицы; они решили снять его с костей, высушить и погрузить на Жаннет взамен того груза, который она с себя сбросила.
Итак, Базиль и Франсуа принялись свежевать медведицу, а Люсьен стал собирать хворост для костра.
Мальчики намеревались остаться еще на одну ночь в этом лагере: на то, чтобы срезать все мясо, требовалось не меньше дня. Медведица скоро была освежевана и разрезана на тонкие ломтики и кусочки, ибо в этом и состоит способ вяления, или сохранения мяса без соли. Обычно мясо просто развешивают на шестах или веревках на жарком солнце, где оно достаточно высыхает за три дня, и можно уже не опасаться, что оно испортится.
Но наши путешественники не хотели так долго задерживаться и поэтому избрали другой способ приготовления, а именно высушивание мяса над огнем. Способ этот состоял в следующем; в земле была вырыта неглубокая яма и через нее перекинуты параллельно друг другу молодые деревца. В яму бросили угли и раскаленную золу, чтобы был достаточно сильный жар. На деревца, как на решетку, положили тонкие ломтики мяса, чтобы они в одно и то же время высушивались и слегка поджаривались. Мясо, приготовленное таким способом, может сохраняться месяцами, и индейцы и белые охотники обычно поступают так, когда у них нет времени на то, чтобы провялить его как следует.
Второго медвежонка опалили и разрезали, не снимая кожи, как обычно готовят свинину. Его мясо мальчики поджарили, чтобы можно было есть сразу же, без дальнейших приготовлений.
Пока мясо сушилось, Базиль растопил немного сала в котелке, который, по счастью, оказался в числе уцелевших вещей. Этим салом, которое, уж конечно, являлось самым настоящим, неподдельным медвежьим жиром, он смазал ноги бедной Жаннет, так как почти вся кожа с них была содрана дикими свиньями. Жаннет очень страдала все это время и, когда ей смазали раны медвежьим жиром, почувствовала большое облегчение.
Глава 19
НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Настала ночь, юные охотники улеглись спать. Внезапно похолодало, и они легли ногами к костру, как обычно делают охотники, когда спят у огня. Если ноги находятся в тепле, то и всему телу тепло; но если ногам станет холодно, заснуть почти невозможно. Мальчиков холод не беспокоил, и вскоре они уже крепко спали.
Для того чтобы все время подбрасывать в яму свежие угли, они весь день поддерживали большой костер. И сейчас он все еще пылал и потрескивал. На перекладинах лежало мясо, положенное для высушивания.
Никто из братьев не подумал о том, чтобы оставить дежурного. Во время ночевок в своих охотничьих экспедициях в болотах Луизианы они никогда этого не делали и решили, что и здесь это необязательно. Только страх перед индейцами заставляет путешественников в прерии выставлять на ночь часового. Но наши юные охотники боялись индейцев гораздо меньше, чем можно предположить. В этой местности никогда еще не было вражды между белыми и индейцами; кроме того, Базиль знал, что у него есть с собой знак дружбы на тот случай, если они все-таки встретятся.
Мальчики не проспали и получаса, когда их разбудило рычание Маренго. Они все сразу приподнялись и стали с беспокойством вглядываться в темноту. Они не увидели ничего необычного. В свете все еще пылающего костра вырисовывались стволы огромных деревьев, с которых свешивался серебристо-белый мох. Все пространство между деревьями было непроглядно черным и мрачным.
Ничего особенного не было и слышно. Не чувствовалось ни малейшего дуновения, и деревья стояли тихо, будто во сне. Только наверху, в листве их высоких вершин, продолжали свою музыку древесные лягушки и цикады. Среди этих разнообразных звуков можно было различить «лл-л-лак» древесной жабы, а с водяных растений, окружавших ближайший ручей, доносилось стрекотанье «сверчка саванн». Высоко в листьях дубов маленькая зеленая древесная лягушка повторяла свою звенящую, как колокольчик, ноту, которая приятно отдавалась в ушах. Но все это были обычные голоса ночи — голоса южного леса, — и они не тревожили прислушивающихся охотников. Правда, крик жабы, громкий и часто повторяющийся, предупреждал, что скоро будет дождь, а темнота неба подтверждала это предостережение.
Но ведь не эти звуки заставили Маренго вскочить с таким злобным рычанием, и мальчики продолжали настороженно прислушиваться.
Воздух в темном лесу сверкал движущимися огоньками. Тысячами летали светлячки, и их фосфорический блеск, ярче обычного, тоже говорил о приближении грозы. Вглядевшись повнимательнее, юные охотники увидели еще какие-то огоньки, и это заставило мальчиков схватиться за ружья и держать их наготове. Эти огоньки резко отличались от светлячков: они светились низко над землей и были круглые и огненно-зеленые. Огоньки то оставались неподвижными, то исчезали, то тотчас же зажигались в другом направлении. Множество их двигалось вокруг. Это были не светлячки.
Наши юные охотники знали, что это такое. Это были глаза животных — диких зверей! Что это были за звери, никто из мальчиков не знал, и неизвестность приводила их в ужас. Звери могли оказаться медведями, росомахами или кугуарами.
Юные охотники разговаривали шепотом, взведя курки ружей и приготовившись к худшему. Звери, несомненно, уже заметили их — ведь братья сидели в свете костра.
Маренго стоял рядом, глядя в темноту и время от времени издавая рычание, которым он обычно предупреждал о присутствии врага. Казалось, горящих глаз становилось все больше. Вдруг ясно послышалось, что залаяла собака. Собака ли это? Нет. Долгий, протяжный вой, последовавший за лаем, показал, что это животное было не собакой, а волком — «лающим волком». Едва замолчал первый, как этот вой подхватил второй, затем третий и четвертый, и вскоре весь лес огласился отвратительным воем. Он доносился не из какого-нибудь одного определенного места, а, казалось, шел отовсюду, и, вглядываясь в темноту между деревьями, мальчики видели сверкающие глаза волков, образовавшие полный круг.
— Ба! — воскликнул Базиль, прерывая наконец молчание. — Это всего лишь стая степных волков — койотов. Кто же обращает внимание на их вой!
Все сразу успокоились. Юные охотники не боялись степных волков, которые хотя и могут с яростью напасть на какого-нибудь беднягу оленя или раненого бизона, но страшатся человека и всегда готовы улизнуть, если полагают, что человек хочет напасть на них. Это, однако, бывает редко, так как охотники в прерии не любят тратить пули на койотов и часто разрешают им идти за собой следом и безнаказанно бродить вокруг лагеря на расстоянии выстрела.
Степные волки гораздо мельче других пород волков в Америке. Они ненамного крупнее английских терьеров и хитры, как английская лиса. Их нелегко поймать в западню или в капкан, но легко загнать на лошадях с собаками. Шкура койотов тускло-рыжеватого цвета, с примесью белых волосков. Это их обычный цвет, хотя, как и у многих иных животных, встречаются изредка экземпляры и других расцветок. Хвосты у них большие, пушистые, черные на концах и составляют примерно одну треть всего их тела. Койоты напоминают собак, которых можно найти в прериях у индейцев; без сомнения, койоты являются прародителями этих собак. Койоты встречаются по всему району Миссисипи, на запад — к Тихому океану и на юг — к Мексике. Они охотятся стаями, как шакалы, и часто нападают на оленей, бизонов и других животных, с которыми, как они думают, могут справиться, но не решаются нападать на бизона в стаде, хотя стаи койотов всегда идут следом за бизонами. Койоты ждут, пока кто-нибудь отстанет молодой теленок или дряхлый, старый бык, — тогда они нападают на него и раздирают на куски.
Койоты идут вслед за отрядами охотников и путешественников, завладевая местом стоянки, едва путешественники уходят оттуда, и поедая все оставшееся съестное. Они даже пробираются ночью в лагерь и утаскивают все, что охотник припас себе на завтрак. Это иногда приводит к тому, что возмущенный охотник перестает жалеть порох и пули и начинает стрелять, пока не уложит нескольких хищников.
В Америке койоты водятся в большем количестве, чем другие породы волков, и поэтому они часто страдают от голода — слишком много ртов и желудков должно быть накормлено. В таких случаях койоты едят даже фрукты, корни и овощи короче говоря, все, что только может поддержать в них жизнь.
Эти волки получили название «степные» потому, что их обычно встречают в прериях на западе, хотя в американских прериях водятся и другие породы волков. Иногда их называют «лающими волками», потому что, как мы уже заметили, первые две-три ноты их воя напоминают лай собаки; однако он заканчивается продолжительным, неприятным визгом.
— Я рад, что это всего-навсего койоты, — сказал Люсьен в ответ на замечание Базиля, — а не что-нибудь похуже. Я боялся, что к нам явились с визитом наши друзья пекари.
— Ну, и это тоже достаточно плохо, — сказал Базиль. — Теперь нам придется не спать и сторожить мясо, а то эти разбойники не оставят нам к утру ни одного кусочка.
— Это правда, — ответил Люсьен. — Но нам незачем сторожить всем. Ты и Франсуа ложитесь спать, а я останусь на часах.
— Нет, — возразил Базиль, — ложитесь спать вы. Сторожить буду я.
— Братья, — сказал Франсуа, — мне совсем не хочется спать, разрешите мне подежурить! Я не подпущу их.
— Нет, нет! — воскликнули одновременно Базиль и Люсьен. — Я! Я!
Наконец согласились на том, что Базиль подежурит часа два, пока ему не захочется спать, а тогда он разбудит Люсьена, который, в свою очередь, поднимет потом Франсуа.
Договорившись так, Люсьен и Франсуа завернулись в одеяла и снова улеглись. Базиль сидел один, глядя то на огонь, то в мрачную темноту.
Люсьен и Франсуа, несмотря на заявление последнего, вскоре уже похрапывали, заснув как убитые. Накануне утром они очень рано встали из-за приключения с медведем и целый день потом работали. Надо было действительно очень хотеть спать, чтобы заснуть под такое дикое завывание.
Базиль устал не менее их и скоро почувствовал, как мучительно не спать, когда одолевает сон. Глаза волков продолжали сверкать вокруг него со всех сторон, но он боялся их не больше, чем если бы это были зайцы. Однако было очевидно, что стая очень большая. Запах медвежатины, без сомнения, заставил прибежать издалека многих койотов, помимо тех, которые следовали за мальчиками последние дни.
Наблюдая за койотами, Базиль увидел, что они осмелели и стали подходить все ближе и ближе. Наконец несколько волков подобрались к лежавшим недалеко от костра медвежьим костям и набросились на них. В полумраке Базиль видел, как хищники вдруг кинулись со всех сторон. Было слышно, как трещали кости на зубах у волков, и видно, как они дерутся и возятся около скелета медведя. Скоро это кончилось — все кости были обглоданы в мгновение ока. Волки отошли и снова рассыпались вокруг.
«Я должен получше разжечь костер, — подумал Базиль, — а то они доберутся и до меня».
Он встал и бросил несколько охапок хвороста в костер, который вскоре запылал, осветив десятки пар желтых глаз вокруг. Это помогло Базилю немного развеять сон; он снова сел к костру, но скоро опять начал дремать. Все чаще и чаще он ловил себя на том, что засыпает, и каждый раз, когда он заставлял себя проснуться, замечал, что волки подвинулись еще ближе к медвежатине. Базиль легко мог бы выстрелить в любого из них и отогнать их на время, но не хотел тратить пули и пугать братьев.
Базиль сидел, раздумывая, как заставить себя не спать. Вдруг ему в голову пришла мысль, от которой он сразу вскочил на ноги.
«Придумал! — сказал он себе, прислоняя ружье к дереву. — Я еще как следует высплюсь, несмотря на этих грязных крикунов! Странно, что нам раньше это не пришло в голову».
Базиль взял лассо и, подойдя к мясу, начал складывать куски медвежатины на один конец веревки. Это не заняло много времени. Когда Базиль сложил все и прочно перевязал, он перекинул другой конец лассо через высокую ветку и подтянул мясо наверх, как на блоке, так что оно оказалось больше чем в десяти футах от земли; затем он привязал веревку к поваленному дереву.
— Ну, джентльмены, — пробормотал он, обращаясь к волкам, — можете бродить вокруг и выть, пока не охрипнете, но вы не заставите меня и на пять минут отложить мой отдых — ни за что!
Сказав это, Базиль улегся и закутался в одеяло.
— Ну что, господа волки? — продолжал он, увидев, что несколько койотов выбежали вперед и стали глядеть на раскачивающееся мясо. — Не правда ли, вам очень хочется достать мясо? Да? Спокойной ночи!
С этими словами Базиль рассмеялся и, вытянувшись рядом с братьями, через пять минут храпел так же громко, как они.
Но Базиль, при всей своей опытности, оказался в данном случае не так хитер, как предполагал, и волков ему перехитрить не удалось.
Видя, что Базиль уснул, они смело подвигались ближе и ближе, пока на том месте, над которым висело мясо, не набралось их несколько десятков. Они бегали взад и вперед, натыкаясь друг на друга и глядя вверх, однако не издавали ни звука, чтобы не разбудить спящих.
Некоторые волки тихо сидели, не отрывая глаз от лакомых кусочков, но не делая попыток достать их: они знали, что мясо находится вне пределов досягаемости. Это были явно наиболее старые и умные волки. Другие же показывали свою удаль, высоко подпрыгивая. Самым ловким удавалось прыгнуть так высоко, что носы их оказывались в нескольких дюймах от мяса, и они испытывали муки Тантала[239].
Один койот, лучший прыгун в стае, наконец ухитрился выхватить из связки маленький кусок, висевший ниже других. На ловкача сейчас же накинулись, едва он коснулся земли, и принялись гоняться за ним и осаждать его так, что он уже был рад отдать этот кусок, лишь бы спасти свою жизнь. Однако успех койота окрылил остальных, и они продолжали прыгать, хотя и безуспешно.
Но старшим — тем, которые до сих пор только наблюдали, — пришла в голову новая мысль. Некоторые из них побежали к бревну, где было привязано лассо, и, схватив зубами лассо, стали перегрызать его. Им потребовалось немного времени, чтобы добиться своего. Минуты через две тяжелая связка мяса глухо стукнулась о спину одного из волков, заставив его страшно завыть.
Маренго, который все это время был настороже, зарычал громче обычного, и весь этот шум разбудил троих спящих. Базиль, увидев, что случилось, вскочил и, схватив ружье, побежал вперед, а следом за ним — Франсуа и Люсьен.
Все трое ворвались в гущу волков, стреляя на бегу и ударяя их прикладами. Звери, конечно, бросились бежать врассыпную, но некоторые из них, убегая, все же захватили с собой лучшие куски медвежатины. Два койота были убиты выстрелами, а третьего, раненного Франсуа, догнал и растерзал Маренго.
Мясо скоро собрали, и Базиль, хотя и несколько расстроенный, но все же веря в свой план, снова перевязал мясо и подвесил его на лассо. На этот раз, однако, он закрепил конец лассо на высокой ветке дерева, и, так как волки не умеют лазить на деревья, мальчики были уверены, что, при всей своей хитрости, койоты теперь уже не смогут достать мясо.
Подбросив в костер побольше хвороста, братья снова завернулись в одеяла в надежде, что ничто больше не побеспокоит их до утра.
Глава 20
ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО
Однако их надежды не оправдались. Бедные мальчики, им и в голову не приходило, что их ожидает! Их нервам предстояло еще большее испытание.
Волки страшно завывали вокруг лагеря, и их глаза по-прежнему сверкали во мраке. Но это не помешало бы мальчикам спать, если бы их внимание не привлек другой звук — голос совсем иного существа. Они услышали его среди воя волков и сразу узнали, так как он не был похож на голоса койотов. Звук сильно напоминал рычание сердитой кошки, но был намного громче, свирепее и страшнее. Это было рычание кугуара!
Я сказал, что юные охотники сразу узнали голос этого зверя, так как они слышали его раньше, охотясь в лесах Луизианы, хотя он и никогда не нападал на них. Однако они много слышали о кугуаре, знали о его силе и свирепости и поэтому были очень напуганы его рычанием — оно испугало бы и людей с более крепкими нервами.
Когда рычание кугуара впервые достигло их слуха, оно казалось слабым, не громче, чем мяуканье котенка. Зверь был явно далеко в лесу, но мальчики знали, что он быстро может пробежать расстояние, отделяющее его от их лагеря. Мальчики прислушались. Второе рычание прозвучало ближе. Они вскочили и снова стали слушать. В третий раз звук показался более далеким, однако это было заблуждение. Они забыли, что теперь их уши находятся дальше от земли.
Несколько секунд юные охотники стояли, глядя друг на друга с ужасом, предчувствуя недоброе. Что делать?
— Сесть на лошадей и ускакать? — спросил Базиль.
— Мы не знаем, в какую сторону ехать, — сказал Люсьен. — Мы можем угодить прямо ему в пасть!
Это было весьма вероятным, ибо замечателен тот факт, что крик кугуара, как и рычание льва, доносится как бы со всех сторон. Трудно определить, где находится животное, издающее крик. Результат ли это испуга того, кто слышит рычание, — этот вопрос еще не разрешен.
— Что нам делать? — сказал Базиль. — Забираться на дерево бессмысленно. Эти животные карабкаются, как белки. Что делать?
Люсьен стоял молча, раздумывая.
— Я читал, — сказал он наконец, — что кугуар не может пересечь огонь. Это свойство большинства животных, хотя есть и исключения. Давайте попробуем… Тс-с! Слушайте!
Все трое замолчали. Опять кугуар издал свой дикий рев, донесшийся все еще издалека.
— Слышите? — продолжал Люсьен. — Он еще далеко. Может быть, он и не сюда идет, однако лучше приготовиться, пока у нас есть время. Давайте попробуем окружить себя огненным кольцом.
Как Базиль, так и Франсуа поняли, что имел в виду их брат. Все трое бросили ружья на землю и набрали охапки хвороста. К счастью, его здесь было очень много. Несколько сгнивших деревьев давно уже упало, и их ветви, разломившиеся при падении на много частей, покрывали землю и хорошо подходили для растопки. В большом костре, который уже пылал, не было недостатка в горячих углях, и через несколько минут на земле горел полный круг костров, почти касающихся один другого.
Мальчики не теряли даром времени и трудились изо всех сил. Хорошо, что они оказались так догадливы, ибо рев кугуара, который они время от времени слышали, все приближался и теперь, разносясь по лесу, покрывал все остальные звуки. Странно, но вой волков внезапно стих, и этих существ больше не было слышно. Однако теперь послышалось другое — топот и храп испуганных лошадей. Юные охотники забыли о своих бедных четвероногих слугах. Теперь было уже поздно спасти их: кугуар находился в сотне ярдов от лагеря!
Все трое вместе с Маренго встали в огненный круг. К счастью, не было и дуновения ветра, и дым поднимался вертикально, давая мальчикам возможность дышать. Так они и стояли, сжимая в руках ружья. Вокруг них пылал и трещал огонь, но сквозь треск и шипенье горячих сучьев слышен был жуткий рев кугуара.
Теперь стало ясно, с какой стороны шел зверь; приглядываясь, юные охотники могли сквозь дым и пламя различить желтое, словно кошачье, тело животного, расхаживавшего взад и вперед под висевшим мясом. Закругленная голова, длинное, худое туловище, гладкая рыжеватая шкура — здесь нельзя было ошибиться. К величайшему своему ужасу, мальчики увидели, что там было не одно, а два этих страшных существа; они расхаживали, жадно глядя на мясо.
Тут только охотники поняли, как неосмотрительно поступили, не срезав лассо. Ведь тогда кугуары, конечно, съели бы мясо и, насытившись, ушли бы прочь. Увы, эта мысль слишком поздно пришла им в голову.
Несколько минут животные продолжали ходить взад и вперед, жадно поглядывая на соблазнительную пищу. Время от времени они подпрыгивали, стараясь схватить мясо, но их попытки были безуспешны, и они скоро отказались от этого. Один из кугуаров взобрался на дерево, на котором было закреплено лассо. Слышно было, как его когти скребут кору. Сначала он вскарабкался на ту ветку, на которой висела медвежатина. Кугуар с силой потряс ветку, глядя вниз — не упадет ли подвешенный кусок. Разочарованный, он через некоторое время перебрался на другую ветку, на которой было завязано узлом лассо. Тут он опять схватил веревку когтями и стал сильно трясти ее, но все с тем же результатом.
Хотя кугуар и имел то преимущество перед волками, что мог влезть на дерево, но не обладал их хитростью, иначе он скоро добился бы своего — стоило лишь перегрызть лассо, и мясо упало бы. Но такая мысль может прийти в голову только существу более высокой организации, чем кугуар. Поэтому кугуар вскоре вернулся на землю, к своему товарищу, который сидел все это время, наблюдая за его маневрами.
Попытки кугуара достать мясо заняли около часа. В течение всего этого времени мальчики стояли в кольце огня в самом плачевном положении: по мере того как хворост сгорал и превращался в красные угли, жар все усиливался. Юные охотники сделали свой круг слишком узким и стояли теперь будто в пылающем горниле.
Дым слегка рассеялся, и мальчики различали каждое движение кугуаров, но страшный жар, мучивший их, почти победил страх перед опасными животными. Еще немного — и они выскочили бы, чтобы сразиться с кугуарами. Пот лил с них градом, им казалось, что вместо ружей они держат раскаленное железо.
— Я не могу больше выдержать! — воскликнул Базиль. — Давайте выстрелим в них, выскочим отсюда и попытаем счастья.
— Терпение, брат, — ответил Люсьен. — Еще немного — и, может быть, они уйдут.
Кугуары, оставив мясо, начали подкрадываться к огню. Они ползли, как кошки, к добыче; время от времени они издавали странный звук, похожий на глухой кашель человека, больного туберкулезом. Потом послышался другой звук, который удивил охотников. Он напоминал мурлыканье кошки, когда ее ласкают, но был намного громче и далеко разносился в лесу, теперь притихшем. Яснее всего этот звук слышали те, кто был близко. Его издавали оба кугуара, как бы подбадривая друг друга в своем продвижении вперед, и продолжали ползти, размахивая хвостами.
В нескольких футах от огня животные остановились и распластались по земле, явно готовые прыгнуть вперед в любую минуту. Жутко было смотреть на эти свирепые создания. Свет большого костра делал каждую часть их тела необычайно рельефной; отчетливо были видны их когти, их оскаленные зубы и даже яркая радужная оболочка сверкающих глаз. Но теперь кугуары не выглядели и вполовину такими страшными, как вначале. Юные охотники рассматривали их сейчас с другой точки зрения. Мальчики так ужасно страдали, что им казалось, что вне этого горячего огненного кольца не существует опасности — даже от когтей зверя.
— Я больше не выдержу! — воскликнул Базиль. — Мы заживо поджаримся. Вы, братья, берите того кугуара, а а прицелюсь в этого… Итак, не бойтесь, стреляйте!
Почти одновременно грянули три выстрела, и три брата выпрыгнули из-за пылающей ограды. Промахнулись ли Франсуа и Люсьен, стало известно лишь позже, но Базиль не промахнулся. Он ранил кугуара, и, едва юные охотники выбрались из огненного круга, разъяренный зверь прыгнул туда; было видно, как он то вскакивал, то катался по земле в предсмертной агонии.
Маренго бросился на кугуара, но оба они попали в раскаленную золу, и собаке пришлось снова выскочить обратно. Кугуар, предоставленный самому себе, скоро перестал биться и лежал на земле — судя по всему, мертвый. Но что стало с другим?
Все трое стояли, прислушиваясь, как вдруг до них донеслось храпенье и топот их лошадей, а в довершение всего — пронзительный крик мула Жаннет. Это продолжалось несколько минут. Затем все стихло.
«Бедная Жаннет! — подумали они. — Второй кугуар заел ее… Ну что ж, нам придется обойтись без нее. Делать нечего».
Никто не спал до рассвета — все еще боялись, что кугуар может вернуться за своим товарищем. Начался дождь; он лил как из ведра, заливая костры. Мальчики не пытались снова разжечь их, а, накинув на плечи одеяла, старались спрятаться под деревьями.
Наконец забрезжил рассвет. Каково же было удивление и радость мальчиков, когда они увидели, что Жаннет стоит на привязи и мирно пасется, а рядом на земле лежит мертвый кугуар! Он был ранен выстрелами, но не это, как они вскоре убедились, было причиной его смерти, так как тело его было раздавлено и ребра поломаны.
Некоторое время юные охотники не могли ничего понять. Наконец все объяснилось. Положение, в котором был найден зверь, помогло им разрешить загадку. Кугуар лежал под большим деревом, к которому, очевидно, был притиснут. Убегая, он наскочил на Жаннет, а та кинулась со всех ног и, наткнувшись в темноте на дерево, прижала к нему кугуара и задавила его насмерть.
Свирепое животное оставило следы своих когтей на спине и загривке Жаннет, а глубокий шрам на ее горле показывал, куда вонзились его зубы. Счастье, что Жаннет налетела на дерево, иначе кугуар не отпустил бы ее, пока не выпил бы всю кровь из ее вен, ибо эти животные убивают свою добычу именно таким образом.
Настало утро. Юные охотники, не спавшие почти всю ночь, были измучены и могли бы теперь отдохнуть, но сочли это неблагоразумным. Они понимали, что очутились в такой части леса, где водилось много опасных животных, и решили до наступления ночи уехать отсюда. Действительно, они находились на берегах поросшего лесом притока реки Тринити, которая в это время года разливается, и все дикие звери — медведи, кугуары, волки, рыси, и пекари — вынуждены были уйти из низин и бродили в соседних лесах более голодные и злые, чем обычно.
Оседлав лошадей и навьючив на мула одеяла, бизоньи шкуры и запасы мяса, наши путешественники снова отправились на запад. Проехав несколько миль, они миновали леса и двинулись по открытой прерии.
Глава 21
ОДИНОКИЙ ХОЛМ
Путь юных охотников пролегал по одной из самых живописных местностей, какие только встречаются в южных районах: они ехали по цветущей прерии, среди несметного количества цветов. Цветы спереди, цветы сзади — со всех сторон; куда ни глянь, всюду виднелись их блестящие венчики. Тут росли и золотистые подсолнечники, и красные мальвы, и молочай, и алый лупинус. Были здесь также и розовые цветы дикой болотной мальвы, а ярко-оранжевые калифорнийские маки выглядывали из зеленой листвы, точно огненные шары. Ниже, у самой земли, притаились скромные фиалки, сверкавшие, как голубые самоцветы. Все это освещалось ослепительным солнцем. После недавнего дождя, омывшего их, цветы, казалось, стали еще ароматнее и красивее.
Миллионы бабочек, не менее красивых, чем цветы, порхали над ними или отдыхали на их нежных чашечках. Некоторые бабочки были очень крупные, с бархатистыми, разнообразно и ярко раскрашенными крылышками. В воздухе проносились и другие разноцветные крылатые создания. Огромные мухи то парили на своих жужжащих крыльях, то проносились, как молнии, в другой конец этого бескрайнего сада. Пчелы, перелетая с цветка на цветок, собирали нектар. Неожиданно из-под копыт лошадей взлетали виргинские перепелки и гривистые куропатки. Франсуа посчастливилось убить двух куропаток, и теперь они свисали с его седла. Наши путешественники ехали все дальше и дальше через этот огромный цветник, и копыта их лошадей приминали множество чудесных цветов. Иногда цветы были так высоки и росли так густо, что достигали лошадям до груди, совершенно скрывая их из виду. Иногда путешественники попадали в полосу сплошных подсолнечников, и тогда большие головки цветов задевали всадников, обсыпая их своей желтой пыльцой.
Ландшафт был необычайно красив и своеобразен, и юные охотники наслаждались бы им, если бы не страдали так от усталости и желания спать. Сначала аромат цветов, казалось, освежил их, но через некоторое время они почувствовали, что он действует на них, как наркотик, так как им еще больше захотелось спать. Мальчики сделали бы привал, но поблизости нигде не виднелось воды. Кроме того, не было корма для животных: как это ни странно, в этих цветущих прериях редко можно встретить траву. Цветы занимают всю почву, и вокруг их корней совершенно нет травы. Поэтому путешественники были вынуждены ехать дальше, пока не покажутся трава и вода — самое необходимое, без чего нельзя было расположиться на ночлег.
Миль через десять цветы стали реже, и наконец началась травяная прерия. Проехав еще две-три мили, наши путешественники достигли маленького ручья, бежавшего по открытой равнине; на его берегах не росло никаких деревьев, кроме нескольких ив. Здесь мальчики и решили остановиться, сошли с лошадей и, привязав их, дали животным наконец возможность поесть.
Все трое очень устали и хотели спать. Не в меньшей мере их хотелось и есть. Надо было прежде всего утолить голод, и они принялись готовить ужин. Ивы были зеленые и горели плохо, но мальчики проявили большое упорство и все-таки разожгли костер. Они опустили куропаток Франсуа в котелок, сдобрили их диким луком и степной репой, которые Люсьен набрал по дороге, и получилось очень вкусное блюдо. Запас медвежатины они не тронули, за исключением маленького куска, который вместе с потрохами куропаток составил ужин Маренго. Едва закончив есть, охотники расстелили на траве бизоньи шкуры и, натянув на себя одеяла, крепко заснули.
Эту ночь юные охотники спали спокойно. Просыпаясь, они слышали вой волков, раздававшийся где-то в прерии и даже неподалеку от их лагеря, но они уже привыкли к этим серенадам и не обращали на них внимания. Все трое крепко спали всю ночь.
Мальчики проснулись на рассвете и чувствовали себя совершенно отдохнувшими. Они напоили лошадей и приготовили завтрак из медвежатины. Медвежатина всегда вкусна, но проголодавшимся юным охотникам такое блюдо показалось особенно лакомым — они съели каждый почти по фунту. Все были в отличном, бодром настроении. И Маренго был хорошо настроен, хотя когти кугуара и оставили на нем немало следов. Жаннет тоже весело щипала траву, отмахиваясь от мух. Базиль только что смазал ей ноги медвежьим жиром, а раны, оставленные кугуаром, уже начали заживать.
Мальчики оставались у ручья весь следующий день и спокойно провели там еще одну ночь. Наутро они пустились в путь и через несколько дней достигли смешанных лесов, которые так давно занимают умы любознательных натуралистов. Наши путешественники не задержались тут долго, так как не видели никаких признаков бизонов, и поехали дальше на запад, пересекая многочисленные притоки реки Брасос.
Примерно на третий день после того, как они покинули смешанные леса, мальчики остановились у одной из этих речушек, очень маленькой и извилистой, на берегах которой не росло ни деревьев, ни кустов. Но наши путешественники не ощущали нехватки в топливе — ведь они могли развести костер из сухого бизоньего помета, вид которого радовал их в течение всего дня пути: они понимали, что, значит, неподалеку должны быть и сами бизоны. Теперь юные охотники достигли местности, где обитают эти животные. Встречи с ними можно было ожидать в любую минуту.
Как только наступил день, наши охотники стали вглядываться в прерии, но бизонов не было видно. Во все стороны — казалось, до самого неба расстилалась зеленая безлесная равнина. Однообразие ландшафта нарушалось лишь возвышенностью, высоко поднимавшейся над похожей на море прерией.
Возвышенность, казалось, была по меньшей мере в десяти милях от них. Она стояла одиноко, как утес, и ее отвесные склоны круто поднимались над прерией. Этот своеобразный холм находился как раз на пути следования мальчиков.
— Поедем туда? — спросили они друг друга.
— Почему бы и нет? — сказал Базиль. — С тем же успехом можно встретить бизонов в этом направлении, как и в любом другом. У нас нет проводника, и мы должны положиться на случай. Пусть он приведет нас к бизонам или их — к нам, все равно.
— Ну, тогда давайте поторопимся, — заявил Франсуа, — и доедем до холма. Как знать, может, там-то как раз и бродят бизоны.
— А что, если там нет воды? — сказал всегда благоразумный Люсьен.
— Вряд ли, — ответил Франсуа. — Я уверен, что есть. Там, где есть горы, обычно всегда бывает вода. А этот холм можно назвать горой. Я ручаюсь, что воду мы там найдем.
— Если ее там нет, — добавил Базиль, — мы можем вернуться сюда.
— Но мы не знаем, как далеко эта возвышенность, — сказал Люсьен.
— Я думаю, милях в десяти отсюда, — ответил Базиль.
— Конечно, не больше, — добавил Франсуа.
— Не меньше чем в тридцати, — заметил Люсьен.
— Тридцати? — воскликнули Базиль и Франсуа. — Тридцать миль! Ты, конечно, шутишь? Да до нее рукой подать!
— Это обман зрения, — ответил наш юный философ. — Вы оба определяете расстояние так, как это делают на низменности, в плотной атмосфере Луизианы. Не забывайте, что мы в местности, расположенной в четырех тысячах футов над уровнем моря, где нас окружает воздух чрезвычайно чистый и прозрачный. Здесь можно видеть предметы на расстоянии вдвое большем, чем мы увидели бы их на берегах Миссисипи. Эта возвышенность, до которой, как вы полагаете, только десять миль, на самом деле, наверно, отстоит от нас минимум миль на тридцать.
— Не может быть! — воскликнул Базиль, вглядываясь в возвышенность. — Я вижу даже пласты на ее склонах и как будто деревья на вершине…
— Весьма возможно, и все-таки я прав, — продолжал Люсьен. — Ну что ж, давайте отправимся туда, если хотите. Я думаю, воду мы там найдем. Однако имейте в виду: ехать нам придется целый день, и еще хорошо, если мы попадем туда до наступления ночи.
Благоразумие Люсьена не было преувеличенным. Напротив, в данном случае его оказалось даже мало. Если бы Люсьен или его братья имели хоть чуть-чуть больше опыта, они призадумались бы, прежде чем пуститься так смело в далекий путь, не будучи уверенными, встретится ли вода впереди. Это такой риск, на какой редко пускаются даже старые охотники, хорошо знающие по опыту, как опасно очутиться в прерии без воды. Охотники страшатся этого больше, чем кугуаров, медведей гризли, росомах или даже воинственных индейцев. Страх жажды сильнее всех остальных страхов.
Наши юные охотники почти не чувствовали этого страха. Правда, все они слышали или читали о мучениях, которые иногда испытывают путешественники от отсутствия воды. Люди, которые живут уютно дома, окруженные родниками, колодцами и ручьями, цистернами и резервуарами, трубами и кранами, струями и фонтанами, все время бьющими вокруг них, склонны недооценивать эти страдания. Такие люди охотно поверят, что кошка сумеет открыть замок в двери, а свинью можно научить играть в карты и что их собака может делать чудеса, — что этими животными движет что-то помимо инстинкта, но эти же самые люди будут недоверчиво качать головой, когда я скажу им, что опоссум спасается от врага, подвешиваясь на хвосте на ветке, или что дикий баран прыгает в пропасть на рога, или что рыжие обезьянки делают мост над потоком, цепляясь друг за друга хвостами.
— «О, чепуха! — воскликнут они. — Это неправдоподобно!»
Неужели это кажется невозможным по сравнению с трюками их кошки и собаки и даже маленькой канарейки, порхающей по гостиной? Невиданное и далекое всегда воспринимается с удивлением и недоверием, в то время как знакомые факты, которые сами по себе гораздо более замечательны, не вызывают интереса и не подвергаются сомнению.
Кто теперь рассматривает потрясающее явление электричества иначе, как простую, вполне понятную истину? И все же было когда-то время, когда, если бы вы или я заявили об этой истине, над нами посмеялись бы. Было время, когда это могло бы стоить нам свободы или даже жизни. Вспомните Галилея[240]!
Итак, как я уже сказал, люди, живущие дома, не знают, что такое жажда, ибо дом — это такое место, где всегда есть вода. Они не могут понять, что значит очутиться в пустыне без этого необходимого элемента. Я сам изведал это, и, поверьте моему слову, муки жажды — страшная вещь.
Наши юные охотники имели лишь смутное представление об этих ужасах. До сих пор их путь пролегал по району, где было много воды. Через каждые десять-двенадцать миль они пересекали какую-нибудь речку, угадав ее еще издали по растущим на ее берегах кустам и деревьям, и, таким образом, знали заранее, в каком направлении искать воду.
Но мальчики мало разбирались в особенностях местности, расстилавшейся теперь перед ними. Они не знали, что въезжают в пустынную равнину — в необъятные и безводные степи, которые ведут к подножию Скалистых гор.
Франсуа, опрометчивый и порывистый, никогда не думал об опасности; смелый Базиль не боялся ее; у Люсьена были сомнения, потому что он слышал и читал об этом больше, чем его братья. Однако всем было интересно попасть на необычную, похожую на холм возвышенность, возникшую вдруг на равнине. Это было вполне естественно. Даже невежественный дикарь или деловитый траппер часто отклоняется от своего курса, движимый подобным любопытством.
Лошадей напоили и оседлали, на Жаннет навьючили поклажу, фляги наполнили водой, и наши путешественники, сев на лошадей, двинулись вперед, к холму.
Глава 22
ОХОТА НА ДИКОГО КОНЯ
— В этой местности должны водиться бизоны, — сказал Базиль, посмотрев на землю. — Вот совершенно свежий бизоний помет. Не может быть, чтобы он пролежал много дней. Смотрите: тропа бизонов и на ней следы!
С этими словами он указал на напоминающую желоб впадину, которая тянулась по прерии насколько хватал глаз. Впадина выглядела, как русло пересохшего ручья, но следы копыт на ее дне указывали, что это как раз то, что предположил Базиль, — тропа бизонов. Тропа, без сомнения, вела к водопою. Когда всадники въехали на нее, края ее оказались на уровне их голов — так она была глубока: во время сильных дождей здесь текла вода, унося с собой в реку почву, разрыхленную копытами бизонов. Тысячи бизонов ходят иногда по этим тропам один за другим, переселяясь таким образом в поисках лучших пастбищ или воды: они знают по опыту, что такая дорога всегда приведет их к воде и траве.
Наши охотники не поехали по тропе далеко — у них не было уверенности, что в конце ее они встретят бизонов. Они пересекли тропу и продолжали ехать к холму.
— Смотрите! — воскликнул Франсуа. — Что это?
Он указал на несколько круглых впадин в земле.
— Бизоновы ямы, честное слово! — сказал Базиль. — Некоторые из них совсем свежие.
— Бизоновы ямы? — отозвался Франсуа. — Это что еще такое?
— Разве ты никогда не слышал о них? — спросил Базиль. — Это место, где бизоны валяются и кувыркаются, как лошади или домашний скот.
— А, вот что! — сказал Франсуа. — Но зачем она это делают?
— Вот этого я не знаю. Может быть, Люс нам расскажет?
— Некоторые говорят, — сказал Люсьен, — что бизоны делают это, чтобы почесаться и таким образом избавиться от мух и других надоедающих им насекомых. Иные считают, что бизоны проделывают эти любопытные упражнения для развлечения.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся Франсуа. — Какие же они смешные!
— А есть еще одно интересное объяснение, — продолжал Люсьен, — будто бизоны вырывают эти углубления, чтобы там во время дождей собиралась вода и чтобы из них можно было напиться на обратном пути.
— Ха-ха-ха! — снова засмеялся Франсуа. — Уж этому я никак не поверю!
— А я и не стремлюсь тебя в этом убедить, — сказал Люсьен. — Конечно, такое предположение неправильно, поскольку бизон — животное, не обладающее для этого достаточным развитием. Это всего лишь забавное предположение. Очевидно, однако, то, что в период дождей в таких ямах собирается вода и часто остается там в течение нескольких дней, а бизоны, которые бродят вокруг, пьют эту воду. Следовательно, можно сказать, что бизоны роют свои собственные «колодцы». Эти колодцы частенько служат на пользу и другим животным и даже людям. Многие заблудившиеся трапперы и индейцы спасались, находя воду в таких углублениях, иначе они погибли бы от жажды.
— Какие эти ямы круглые! — сказал Франсуа. — Они представляют собой совершенно правильные круги. Как бизоны делают их такими?
— Бизоны ложатся во всю длину и крутятся и крутятся, как колесо на оси. Они вращаются с большой скоростью, упираясь загривками и отталкиваясь ногами, как рычагами. Иногда они кружатся так добрые полчаса. Несомненно, бизоны делают это, чтобы почесаться. Несмотря на толстую шкуру и густую шерсть, им очень досаждают насекомые-паразиты. Кроме того, это для них и вид развлечения. Вы часто могли наблюдать, как лошади катаются по траве, и разве не ясно, что они получают при этом удовольствие? Вам никогда не приходило это в голову?
— О да! — воскликнул Франсуа. — Я уверен, что лошади любят как следует покувыркаться.
— Ну вот, предполагают, что и бизоны тоже. Конечно, им очень приятно, что они таким образом отделываются от своих мучителей и прижимают разгоряченные бока к свежей, прохладной земле. Бизоны не очень чистоплотны. Они до такой степени покрыты грязью, что невозможно определить, какого цвета их шкура.
— Ну, — сказал Франсуа, — я надеюсь, что скоро нам попадется бизон с белой шкурой!
Разговаривая таким образом, наши юные охотники продолжали свой путь. Они проехали миль десять, когда Базиль, который все время вглядывался в горизонт прерии, издал восклицание и неожиданно остановил лошадь. Остальные тоже придержали коней.
— Что ты там увидел? — спросил Люсьен.
— Еще сам не знаю, — ответил Базиль, — но на горизонте что-то есть… К югу, — видите?
— Да, похоже на группу низких деревьев.
— Нет, — сказал Базиль, — это не деревья. Они движутся. Мне думается, что это какие-нибудь животные.
— Надеюсь, что это бизоны! — закричал Франсуа, поднимаясь во весь рост в стременах и пытаясь что-нибудь увидеть. Но его лошадка была слишком малоросла, и Франсуа ничего не мог разглядеть.
— Поедем им навстречу? — предложил Люсьен, обращаясь к Базилю.
— Я думаю, они движутся по направлению к нам, — ответил тот. — Они все больше растягиваются по горизонту, и, может быть, это кажется оттого, что они приближаются. Бизоны!.. Нет, честное слово, — продолжал он, повышая голос, это всадники… может быть, индейцы!
— Почему ты так думаешь? — спросил Люсьен.
— Я видел одного на фоне неба. На таком расстоянии я могу определить очертания лошади. Я уверен, что это так… Смотри, вон другая!
— Да, — сказал Люсьен, — это лошадь. Но, смотри, всадника нет. Никого на ней нет… А вот и еще одна, тоже без всадника… Ага! Теперь я знаю: это мустанги!
— Мустанги! — вскричал Франсуа. — Отлично. Вот на это стоит посмотреть!
Вскоре подтвердилось, что Люсьен был прав: это был табун мустангов, или диких лошадей. Базиль тоже оказался прав, говоря, что они приближаются, ибо через несколько минут мустанги были уже меньше, чем в миле от мальчиков.
Мустанги мчались быстрым галопом, двигаясь плотной массой, подобно вытренированному эскадрону, а один мустанг был несколько впереди и, несомненно, являлся вожаком. Время от времени какая-нибудь лошадь отделялась от рядов и отставала, но всякий раз подтягивалась снова и присоединялась к своим товарищам. Это было чрезвычайно интересное зрелище. Земля гудела под копытами животных так, как будто неслась кавалерия.
Когда мустанги были уже меньше чем в полумиле от наших охотников, они, казалось, впервые заметили мальчиков. Вдруг вожак остановился, вскинул голову, заржал и встал, как вкопанный. Остальные тоже остановились, подражая вожаку. Он был все же несколько впереди, в то время как весь табун сомкнул ряды, как кавалерия в бою. Постояв несколько секунд на месте, вожак издал резкое ржание, бросился вправо и помчался во весь опор. Все кони тоже заржали и, сейчас же круто повернув, последовали за ним. Все это мустанги проделали с четкостью эскадрона.
Наши охотники предполагали, что лошади пройдут мимо и не приблизятся. Они все сожалели об этом, им хотелось посмотреть поближе на этих благородных животных.
Чтобы не спугнуть мустангов, мальчики спешились и теперь стояли, частично заслоненные своими лошадьми, все же крепко держа их, так как те были напуганы громовым топотом своих диких собратьев.
Через мгновение мустанги появились прямо перед мальчиками — то есть их бока были обращены к охотникам, — и те с радостью увидели, что мустанги не удаляются, а галопируют по кругу, центром которого были наши зрители.
Круг, по которому бежали дикие лошади, имел не больше полумили в диаметре; они, казалось, приближались к центру. Мустанги двигались не по окружности, а по спирали, которая постепенно суживалась внутрь.
Теперь мальчики могли хорошо разглядеть их. Это было красивейшее зрелище. Среди двух сотен мустангов самых разнообразных мастей вы не нашли бы и двух одинаковых. Тут были и вороные, и белые, и гнедые, и чалые. Некоторые были буланые, некоторые — рыжие, а некоторые — серые с металлическим отливом, и было много-много других, разномастных и с подпалинами, как охотничьи собаки. Пышные ниспадающие гривы и длинные хвосты развевались по ветру, и это придавало лошадям еще большую грацию. Да, это было захватывающее зрелище, и мальчики стояли затаив дыхание, наблюдая, как этот «эскадрон» носится вокруг них.
Но глаза всех троих вскоре обратились на одного — вожака. Ничего более прекрасного они никогда не видели. Базиль, который обожал красивых лошадей, был в восторге и не мог оторвать глаз от этого красавца.
И неудивительно, ибо трудно было себе представить более совершенное животное. Вожак был крупнее остальных, хотя все же меньше английской лошади. Его крепкая грудь и выпуклые глаза, стройные бока, тонкие, изящные ноги и маленькие копыта — все указывало на его происхождение: он был чистокровный арабский конь, потомок тех благородных коней, которые привезли первых завоевателей в Мексику. Его пропорции были, как сказал бы знаток, совершенны, и Базиль, который действительно являлся знатоком, подтвердил это.
Жеребец был весь белый — белый, как горный снег. Когда он скакал, его ноздри раздувались и делались красными, глаза выкатывались, грива рассыпалась по обеим сторонам шеи, от холки до загривка, и длинный хвост развевался по ветру. Свободные, грациозные движения вожака, как и движения тех, кто следовал за ним, показывали, что все они никогда не знали седла.
Глядя на это благородное животное, Базиль загорелся непреодолимым желанием обладать им. Правда, у него уже была лошадь, одна из самых замечательных, когда-либо носивших седло, но у Базиля была слабость: он жаждал иметь каждую красивую лошадь, которую видел, а этот мустанг возбуждал в нем особенное стремление сделаться его обладателем.
Через несколько секунд желание Базиля настолько возросло, что он почувствовал, что готов отдать все на свете — может быть, только за исключением Черного Ястреба, — чтобы завладеть этим конем прерий. Вы можете подумать, что при умении Базиля бросать лассо и ездить верхом он мог бы быстро удовлетворить свое желание, но это было не так просто сделать, и Базиль знал это. Он знал, что без особого труда смог бы накинуть аркан на какую-нибудь из рядовых лошадей табуна, но поймать вожака — совсем другое дело. Никому, даже индейцам, никогда еще не удавалось это сделать, и Базиль часто слышал об этом, но все-таки решил попробовать. Он очень доверял быстроте и выносливости своего Черного Ястреба.
Базиль поведал братьям о своем решении шепотом, чтобы не спугнуть мустангов, которые скакали теперь совсем близко. Люсьен пытался отговорить его, выдвигая в качестве аргумента, что это заставит их отклониться от курса и они могут потерять друг друга.
— Нет, — сказал Базиль, — поезжайте к холму — ты и Франсуа. А я приеду к вам. Может быть, я даже окажусь там раньше вас… Не возражай, брат, не надо! Я должен иметь этого коня, и я поймаю его, даже если мне придется проскакать пятьдесят миль!
Говоря это, Базиль пододвинулся ближе к левому стремени, взглянул на лассо, висящее в свёрнутом виде на седле, и стоял, готовый в любой момент вспрыгнуть на лошадь. Люсьен увидел, что бессмысленно продолжать отговаривать брата, и замолчал. Франсуа с восторгом присоединился бы к Базилю в этой погоне, но сама идея охотиться на мустанга на маленькой лошадке была абсурдом.
Мустанги всё продолжали свой бег по кругу. Иногда по сигналу вожака они останавливались и разворачивались в одну линию, как раз напротив маленькой группы наших охотников, мордами к ним. В этом положении они оставались несколько секунд, подняв вверх головы и с любопытством разглядывая странные существа, которые вторглись в их владения. Некоторые били копытами землю и храпели, будто сердились. Затем вожак издавал свое пронзительное ржание, и все мустанги опять принимались кружить.
Дикие лошади находились теперь меньше чем в двухстах ярдах от того места, где стояли охотники, но были ясно, что они не намереваются подходить ближе. Наоборот, они, казалось, собирались уходить. После каждой остановки они поворачивали головы к прерии, а затем снова принимались кружить, как будто еще не удовлетворив свое любопытство.
Во время их последней остановки, или, вернее, когда Базиль подумал, что она может быть последней, он опять предупредил братьев, чтобы те направлялись к холму, и, бесшумно поставив ногу в стремя, вскочил в седло. Его движение заставило мустангов вздрогнуть, но, прежде чем они успели повернуть, юный охотник пришпорил своего коня и сделал несколько скачков по направлению к ним. Базиль не смотрел на табун — ему было все равно, куда тот побежит, — юный охотник смотрел только на белого вожака и мчался во весь опор к нему.
Вожак на мгновение замер, будто удивившись, затем издал дикое ржание, совсем не такое, как до сих пор, повернул направо и помчался с бешеной скоростью; остальные лошади последовали за ним. Так как задние сделали поворот, Базиль находился теперь от них не дальше чем в двенадцати ярдах и в несколько скачков приблизился к ним настолько, что легко мог бы набросить лассо на любого из мустангов. Когда же они повернули, Базиль остался далеко позади, но скоро наверстал расстояние и продолжал погоню, держа направление несколько вбок. Он не хотел попасть в гущу мустангов, так как понимал, что это опасно и только задержит его. Целью Базиля было оказаться впереди табуна и как-нибудь отделить вожака от остальных. Юноша взялся за выполнение этой задачи со всей своей энергией.
Дикие кони стремглав летели вперед, за ними следовал охотник. Погоня была явно безнадежной, но мальчик умело правил своей лошадью. Лассо висело на его седле: Базиль не дотрагивался до него — время еще не пришло. Вперед и вперед летели дикие лошади. Все ближе и ближе к ним был смелый охотник, и вот уже мили отделяют его от того места, откуда он начал погоню. Через несколько минут Франсуа и Люсьен потеряли его из виду.
Но маленькие андалузские кони не могли сравниться с арабской лошадью Базиля. Табун изменил свое построение: лошади бежали уже не рядами, а длинной цепочкой, заняв каждая место соответственно своей скорости, а далеко впереди, несясь как метеор, сверкал своей снежной белизной вожак.
Последние лошади скоро остались позади. Они сворачивали в сторону, как только видели, что их обгоняет большая темная лошадь, несшая на себе какой-то странный и страшный предмет. Базиль обогнал их одну за другой, и Черный Ястреб оказался во главе всего табуна, а его седок не видел перед собой ничего, кроме белого коня, зеленой прерии и голубого неба. Если бы он оглянулся, то увидел бы, что мустанги рассыпались по прерии во всех направлениях. Но он не оглядывался. Все, что ему было нужно теперь, находилось перед ним, и он мчался все вперед и вперед, то и дело вонзая шпоры в коня.
Базилю и не нужно было пришпоривать Черного Ястреба. Конь его, казалось, считал делом чести догнать мустанга, и делал все, что в его силах. Дикий конь тоже как будто чувствовал, что его жизнь или по меньшей мере свобода зависят от этого, и тоже напрягал все силы. Оба летели как ветер — и преследователь и преследуемый. Линия их бега была прямой, как стрела. Это доказывало, что мустанг, спасаясь от врагов, обычно полагается на свои ноги.
В такой погоне, однако, преследователь имеет преимущество перед преследуемым. Последний, находясь в постоянном волнении, вынужден оглядываться назад и поэтому хуже видит почву под ногами. Оборачиваясь, он теряет правильное положение тела, и скорость его уменьшается. Кроме того, он может споткнуться.
Так произошло и с этим диким конем. Он, правда, не спотыкался — ноги хорошо держали его, но голову он время от времени поворачивал, чтобы своим черным глазом рассмотреть врага, преследовавшего его. Это, конечно, до некоторой степени задерживало мустанга. Только в такие моменты Базиль мог сократить расстояние между собою и диким конем, и тогда, чувствуя свое превосходство, он еще больше стремился поймать мустанга и завладеть им.
После долгой погони расстояние между ними было все еще не меньше двухсот шагов. Юный охотник с нетерпением продолжал пришпоривать своего коня, а мустанг, казалось, летел вперед, ничуть не убавляя скорости.
Вдруг Базиль заметил, что белый конь, вместо того чтобы скакать прямо, начал петлять, двигаясь зигзагами. Базиль посмотрел на него с удивлением и стал искать причину. Вглядываясь в поверхность земли, он обнаружил, что она неровная и покрыта, насколько хватал глаз, маленькими холмиками. Мустанг был среди этих холмиков. Так вот что заставляло его бежать так странно!
Едва Базиль увидел это, как почувствовал, что его лошадь неожиданно проваливается под ним и летит кувырком на землю.
Всадник вылетел из седла. Но он не очень ушибся и сразу вскочил на ноги. Черный Ястреб тоже поднялся и стоял тихо. Его влажные бока поднимались и опускались, он тяжело дышал. Он был не в состоянии скакать дальше.
Но даже если бы Черный Ястреб не устал, Базиль видел, что погоня пришла к концу. Маленькие холмики, которые он только что заметил, плотно покрывали всю прерию. Дикая лошадь неслась среди них с прежней быстротой.
Когда охотник поднялся на ноги, мустанг был на расстоянии около четверти мили и резко заржал, как бы торжествуя, что спасся, так как не оставалось сомнения, что он убежал.
Базиль, к своему огорчению, и сам видел это. Он понял, что дальнейшее преследование не только бессмысленно, но и опасно, так как, хотя он никогда раньше не видел подобных холмиков, он хорошо знал, что это такое, и знал, как опасно ехать среди них верхом при большой скорости. Базиль получил своевременный урок, так как лошадь его споткнулась и упала, едва он въехал в пределы этих холмиков. По счастью, она ничего себе не повредила. Базиль знал, что во второй раз он едва ли отделается так же благополучно, и не был склонен рисковать опять. Не хотел он рисковать и своим любимым Черным Ястребом ради белого коня, даже если бы был уверен, что поймает его. Но теперь это было уже и невозможно. Если продолжать погоню, то, вместо того чтобы поймать мустанга, можно потерять и свою собственную лошадь, а юный охотник знал, что тогда положение стало бы ужасным. Поэтому ничего не оставалось, как отказаться от погони и предоставить мустангу возможность убежать. Базиль несколько минут наблюдал за ним, пока тот не растаял, как белое облачко, далеко-далеко на бледно-голубом горизонте.
Теперь юный охотник задумался над возвращением к своим братьям. Но в каком направлении ему надо ехать?
Он огляделся, ища глазами холм… Вот он! Но, к изумлению Базиля, — прямо перед ним и ближе, чем тогда, когда он последний раз видел его. Все это время Базиль скакал по направлению к холму, но в спешке и не заметил его.
«Люсьен и Франсуа, должно быть, сзади, — подумал он, — и скоро приедут сюда».
Поэтому лучшее, что Базиль мог сделать, — это подождать их.
И Базиль, сев на один из холмиков, пустил свою лошадь пастись на свободе.
Глава 23
«ГОРОД» ЛУГОВЫХ СОБАЧЕК
Черный Ястреб отошел на некоторое расстояние в поисках травы, потому что ее было очень мало в этом месте, а та, что росла здесь, была объедена почти под корень, будто ею кормилась тысяча кроликов. Базиль не препятствовал своему коню — он знал, что Черный Ястреб слишком хорошо выдрессирован, чтобы убежать, и его можно подозвать в любую минуту, стоит лишь свистнуть. Поэтому Базиль сидел спокойно, то вглядываясь в прерию на восток, то стараясь убить время, рассматривая расположенные напротив него странные маленькие холмики.
Их были тысячи; они покрывали прерию к северу, югу и западу, насколько хватал глаз. По форме они напоминали усеченные конусы около трех футов диаметром в основании и не больше двух футов высотой. У вершины имелось вход-отверстие, в которое мог бы пролезть зверек не больше крысы. Вокруг холмиков травы не было, но склоны и вершины их были покрыты ровной зеленой травой, что создавало впечатление, будто они уже очень давно сооружены.
Вскоре стали показываться и обитатели этих своеобразных жилищ. Они были напуганы громовым топотом мустангов и спрятались при их приближении. Теперь снова воцарилась тишина, и они отважились выйти. Сначала показалась одна мордочка, потом другая и третья… и скоро уже из каждой норки выглядывала головка с парой блестящих глаз. Через некоторое время обладатели этих головок стали смелее и храбро вышли, и тогда Базиль увидел сотни этих странных существ. Сами они были красновато-коричневого цвета, а их грудки и брюшки грязно-белого. По размеру они напоминали обыкновенных серых белок, но, в общем, были похожи одновременно на белку, на суслика, на сурка и на крысу, с каждым из которых у них было что-то общее, и все же зверьки отличались от них. Это были мелкие грызуны, известные под смешным названием «луговые собачки». Хвосты у них очень короткие и не пушистые, как у белок, и вообще все тело не столь грациозно-симметрично, как у тех.
Вскоре уже на каждом холмике виднелись два-три грызуна, так как в одном и том же домике их обычно живет несколько. Одни стояли на всех четырех лапках, а другие поднимались на задние лапки, как медвежата или обезьянки, все время помахивая хвостами и издавая тоненький лай, который звучал, как лай игрушечной собачонки. От этого они и получили название «луговые собачки», ибо больше ничем не напоминали отряд собачьих. Все эти собачки — а их существует много разновидностей — безвредные маленькие существа. Они питаются травой, семенами и корешками. Должно быть, они едят очень мало, и все естествоиспытатели даже удивляются, чем они живут. Большие поселения этих грызунов около Скалистых гор обычно расположены в бесплодной местности, где очень мало травы, и все-таки их никогда не находят дальше, чем в полумиле от норок. Как же тысячи их существуют на том количестве травы, которая растет на таком ограниченном пастбище? Это еще не получило своего объяснения. Также неизвестно, почему луговые собачки выбирают для своих норок бесплодные участки вместо плодородных. Все эти факты ждут изучения и наблюдения со стороны ученых.
Базиль был удивлен, когда увидел, что луговые собачки не являются единственными обитателями своего «города»: тут были и совсем другие существа, которые, казалось, чувствовали себя как дома — например, белые совы величиной с голубя. Базиль никогда раньше не видел такой породы. Это были совы, живущие в норках, разительно отличающиеся от своих ночных сородичей, которые обитают в густых лесах и старых развалинах. Базиль видел, как эти маленькие совы бесшумно летают вокруг или сидят вертикально на верхушках холмиков, так что на расстоянии их можно было принять за самих грызунов.
Кроме луговых собачек и сов, тут находились и другие живые существа. Вокруг мелькали ящерицы, а между холмиками ползало отвратительное животное, тоже из породы ящериц, — жабовидная ящерица.
Это существо было ново для Базиля, и его безобразное землистое тело, весь его вид, напоминающий, с одной стороны, жабу, с другой — ящерицу, с шипами на спине, шее и голове, вызвал в нем отвращение.
Базиль видел также маленькую земляную черепаху, которая прильнула к земле и осторожно выглядывала из-под своего похожего на коробку панциря.
Но в этом «общежитии» были еще существа намного страшнее остальных: земляные гремучие змеи. Одни, свернувшись, грелись на солнце, другие скользили между холмиками, будто в поисках добычи. Базиль заметил, что эти змеи отличаются от других гремучих змей, которых он видел, по форме и расцветке, но их внешний вид и повадки производили такое же зловещее впечатление. Этот вид гремучих змей обитает только в засушливых районах.
Базиль невольно задумался над этой «коммуной» разных животных. Друзья это или последовательные звенья цепи разрушений? Конечно, они не могли быть все друзьями. Луговые собачки питаются травой, ящерицы — насекомыми и кузнечиками, которых здесь было очень много. Ими же, без сомнения, питаются и черепахи. Но что едят совы и змеи? Эти вопросы озадачили Базиля; он не мог найти им объяснения и подумал о Люсьене, который лучше него разбирался в повадках различных животных. Базиль уже давно начал подумывать о Люсьене и Франсуа, так как прошло два часа, а они не показывались. Беспокойство его все росло, но тут он вдруг увидел, что с запада движутся всадники, оказавшиеся, к его радости, теми, кого он ждал.
Спустя полчаса Люсьен и Франсуа подъехали, приветствуя брата радостными возгласами. Они, не останавливаясь, ехали с самого утра по следу Базиля. Мальчики сразу поняли, что белый конь убежал, а Базиль в нескольких словах рассказал им об охоте и о том, как она закончилась.
Было уже за полдень, а холм казался еще далеко, и наши охотники сделали небольшой привал, только чтобы проглотить кусочек мяса и отхлебнуть из фляжек, которые из-за сильной жары теперь почти опустели. Животные уже давно страдали от жажды, и поэтому мальчики без промедления сели в седла, чтобы продолжать путешествие.
— Через «город» луговых собачек? — спросил Франсуа, который вскочил в седло первым. — Поедем через него или объедем кругом?
В этом действительно было затруднение: колонии луговых собачек лежали непосредственно между ними и холмом. Чтобы ехать прямо, пришлось бы пересечь «город». Это значительно затруднило бы их передвижение, поскольку ехать можно было только медленно и зигзагами, чтобы избежать опасности споткнуться и провалиться в норки. С другой стороны, если ехать в объезд, они отклонятся на несколько миль от своего курса — может быть, на много миль, так как колонии луговых собачек обычно тянутся на большие расстояния.
— Давайте продвинемся немного к югу, — посоветовал Люсьен. — Может быть, таким образом мы попадем на конец «города».
Юные охотники повернули лошадей на юг. Они проехали по меньшей мере мили две, держась вдоль границы «поселения», все время продолжая видеть его впереди. Оно явно тянулось еще на много миль.
— Мы не так поехали, — сказал Люсьен. — Может быть, было бы лучше повернуть на север, а теперь нам придется пересекать «город». Что вы скажете, братья?
Все согласились, так как не очень приятно кружить, когда цель путешествия уже близка.
Итак, лошадей снова повернули по направлению к холму, и маленький отряд медленно, с большой осторожностью поехал между норками грызунов.
При приближении всадников зверьки подбегали к своим холмикам, лаяли на незваных гостей, махали короткими хвостиками и затем исчезали в норках. Как только охотники удалялись ярдов на сто, зверьки снова появлялись и, как и раньше, издавали тоненькие кашляющие нотки. Таким образом, когда наши путешественники въехали в середину «города», они оказались как бы в центре лающего кольца.
Совы взлетали перед ними и садились совсем близко, затем, вдруг испугавшись, улетали подальше, иногда скрываясь совсем из виду, а иногда, как собачки, прячась в норки. Гремучие змеи прятались так же, как и ящерицы. Самое удивительное было то, что все эти существа — собачки, совы, змеи, ящерицы, убегая, иногда скрывались в один и тот же холмик, что наши путешественники наблюдали не раз.
Естественно, что об этом зашел разговор, и Люсьен добавил несколько фактов к тем наблюдениям, которые сделал Базиль.
— Если бы у нас было время разрыть норки, — сказал Люсьен, — мы увидели бы, что они спускаются перпендикулярно на два-три фута. Дальше они идут наклонно несколько футов и кончаются маленькой «комнаткой», которая и является настоящим жилищем луговой собачки. Я говорю — «настоящим» жилищем, потому что эти конусообразные холмики — только вход. Они образовались из земли, вырытой при постройке норы. Как видите, эта земля не оставлена лежать в куче, как делают крысы и кролики. Луговые собачки тщательно складывают и прижимают землю лапками до тех пор, пока она не станет совсем твердой и гладкой, затем дают возможность на этих холмиках вырасти траве, которая не позволяет дождям размыть землю. Ясно, что животные делают все это с целью — так же, как бобры, когда строят свои дома. На холмиках собачки любят лежать, греться на солнце и резвиться. Возможно, что им удобнее с этой позиции наблюдать за врагами и, таким образом, иметь время, чтобы скрыться.
— Но некоторые холмики совсем разрушены, — заметил Франсуа. — Посмотри: вон несколько холмиков провалилось и загрязнилось от дождя. Почему это?
— А это норы, в которых живут совы, — ответил Люсьен. — Вон сова как раз скрывается в одну из таких норок — видишь? Предполагают, что совы захватывают норки у грызунов и живут там сами, но, как ты уже заметил, содержат их в плохом состоянии. Все, что им нужно, — это нора, где можно укрыться, а наружная постройка может разрушаться от дождя. Конечно, хотя мы и видели, что и совы и собачки убегают в одну и ту же нору, это происходит лишь потому, что мы наехали на них неожиданно. Они не живут таким образом: у собачек свои собственные жилища, у сов — свои, разрушенные, как вы уже заметили.
— А совы не едят собачек? — спросил Базиль. — Ведь большие лесные совы едят зверьков такого размера. Я видел, как они ловили в сумерках кроликов.
— Эти — нет, — ответил натуралист. — По крайней мере, так предполагают. У многих сов, подстреленных и вскрытых, ничего не обнаружено в желудках, кроме жуков и других насекомых, каких мы видели в прерии. Я думаю, что иногда совы едят жабовидных ящериц. Известно, что птицы этой породы питаются и пресмыкающимися.
— А как живут гремучие змеи? — спросил Франсуа. — Что служит им пищей?
— Вот это является загадкой для натуралистов, — сказал Люсьен. — Некоторые утверждают, что гремучие змеи — тираны всей «коммуны» и пожирают старых грызунов. Я думаю, это маловероятно, так как такие змеи недостаточно велики, чтобы проглотить взрослую собачку. Однако достоверно известно, что иногда змеи пожирают детенышей луговых собачек.
— Ну что ж, — сказал Франсуа, — змеям, кажется, очень удобно. Если они едят маленьких луговых собачек, что может им помешать убивать их в любом количестве? Они могут проникнуть в норку с такой же легкостью, как и сами собачки.
— Это правда, — ответил Люсьен. — Но эти змеи не такие проворные, и возможно, что собачки могут даже убежать от них в норку. Гремучая змея очень медленно ползает. Возможно, что в такой подземной галерее она еще меньше способна поймать собачку. А у старых собачек, наверно, есть какой-нибудь способ защиты себя и своих детенышей от нападения ядовитой змеи. До сих пор очень мало известно о луговых собачках. Они обитают в отдаленных районах, и натуралистам трудно наблюдать их; а у тех из них, которые посетили такие «города», едва хватило времени, чтобы сделать торопливые наблюдения. Луговые собачки очень пугливы — они редко подпускают к себе на расстояние выстрела. Их очень нелегко поймать, разрывая норы, так как норы эти очень глубоки, а поскольку шкурки этих грызунов ценятся невысоко, а мяса они дают мало, охотники чрезвычайно редко убивают этих зверьков.
— А они съедобные? — поинтересовался Франсуа.
— Да, — ответил Люсьен. — Индейцы очень любят их мясо и едят его всякий раз, когда представляется возможность.
— Чем питаются луговые собачки зимой, когда нет травы? — спросил Франсуа.
— Тогда они лежат в спячке. В их подземных «квартирах» есть гнезда, и очень интересные. Они построены из травы и корней, круглые, как глобус, и такие прочные, что ими можно играть, как футбольным мячом. Самое гнездо расположено внутри. В него ведет маленькое отверстие, не шире твоего пальца. Когда собачка влезает туда, она заделывает гнездо со всех сторон, за исключением этого отверстия, через которое она получает необходимый воздух. В таких уютных постелях собачки спят во время холодов, и их редко можно встретить тогда на поверхности земли.
Глава 24
НОЧЬ В ПУСТЫНЕ
Разговаривая таким образом, юные охотники продолжали ехать вперед, держась как можно дальше от краев холмиков, чтобы копыта лошадей не провалились в разрытую землю. Они проехали уже целых пять миль, а «поселение» луговых собачек все еще простиралось перед ними. Все еще эти зверьки со всех сторон издавали свое «кху-кху», все еще совы бесшумно взлетали вверх, а гремучие змеи пересекали им путь.
Солнце уже садилось, когда юные охотники выехали из зоны холмиков на твердую бесплодную равнину. Разговор принял более мрачное направление, потому что помрачнели их мысли. Мальчики выпили уже всю свою воду. Жара и пыль распаляли жажду, и вода, которая нагрелась во флягах, принесла мало облегчения. Холм все еще, казалось, был на большом расстоянии — по меньшей мере милях в десяти. Что, если и достигнув его, они не найдут воды? Недобрые предчувствия и страх одолевали мальчиков.
Базиль понял теперь, как необдуманно они поступили, не послушавшись благоразумных советов Люсьена, но было уже слишком поздно сожалеть, как это часто случается с теми, кто поступает опрометчиво.
Охотники видели, что необходимо достигнуть холма как можно скорее. Надвигалась ночь. Если ночь будет темной, они потеряют холм из виду, собьются с пути и будут блуждать до рассвета.
Подавленные страхом, мальчики старались ехать как можно быстрее и понукали животных, но те, измученные долгим путешествием и жаждой, еле передвигали ноги.
Наши путешественники отъехали от колоний луговых собачек мили три, когда, к своему ужасу, увидели вдруг, что прерия разверзается перед ними, образуя одну из тех трещин, которые часто встречаются на высоких плато Америки. Трещина, или барранкос, была почти в тысячу футов глубиной и обрывалась отвесно в глубь земли; края ее отстояли друг от друга не очень далеко. Она преграждала путь нашим охотникам и тянулась на мили вправо и влево то по прямой, то зигзагами. Когда мальчики подъехали к ее краю, они сразу увидели, что пересечь трещину им не удастся. Она была обрывистой с обеих сторон, и в некоторых местах темные скалы нависали над пропастью. На дне трещины не было воды, которая могла бы порадовать путников, но, даже если бы вода и была, они не смогли бы достать ее. Дно было сухое, покрытое обломками скал, упавших сверху.
Это было препятствие, которого не ожидали наши путешественники, и они в отчаянии взглянули друг на друга. Несколько минут мальчики раздумывали, как поступить: поехать по краю и постараться найти переправу? Или лучше вернуться по своим следам и попробовать отыскать источник, который они покинули утром? Последний план устрашал их: они знали, что невозможно проехать по холмикам грызунов в темноте — это опасно и означает большую потерю времени. Всегда очень неприятно возвращаться назад, особенно если уже заехали так далеко. В конце концов они решили поискать переправу.
С этим намерением юные охотники снова двинулись в путь, держась вдоль края трещины. Они выбрали тропинку, которая, казалось, вела вверх, надеясь таким путем скорее достигнуть места, где трещина будет более мелкой. Мили и мили оставались позади, но трещина с ее отвесными утесами все еще чернела перед ними, и не было нигде места, где можно было бы ее пересечь. Солнце зашло, и настала ночь, темная-темная. Мальчики остановились. Они не решались ехать дальше, не решались и повернуть назад, боясь провалиться в какое-нибудь ответвление этой трещины. Они сошли с лошадей и опустились на землю в полном отчаянии.
Невозможно описать их мучения в ту ночь. Юные путешественники не сомкнули глаз ни на минуту. Муки жажды и мысль о том, что они не знают, что еще принесет им утро, не давали им спать. Они даже не привязывали лошадей, так как травы здесь не было, и сидели всю ночь, держа поводья в руках. Бедные лошади, как и сами мальчики, страдали от жажды и голода, а Жаннет время от времени издавала жалобные крики, которые было больно слышать.
Как только настал день, юные охотники сели в седла и поехали дальше по краю трещины. Они видели, что трещина извивается в разных направлениях, и, к довершению всех бед, обнаружили, что могли бы найти ту тропинку, по которой ехали сюда, лишь проделав весь пройденный путь по собственным следам. Солнце было закрыто облаками, и мальчики не знали, в каком направлении находится источник, который они оставили. Они не отыскали бы этот источник, если бы даже у них хватило сил достигнуть его.
Юные охотники продолжали ехать вперед, обсуждая вопрос, не попробовать ли добраться до этого источника, когда вдруг увидели, что их тропинку пересекает глубокая тропа бизонов. Следы были явно свежие. Мальчики приветствовали это зрелище радостными возгласами, так как поняли, что тропа бизонов приведет их к переходу. Без колебаний мальчики въехали на эту тропу и направились по ней вниз. Как они и предполагали, тропа спускалась на дно и затем выходила на другую сторону трещины, куда они скоро и прибыли в целости и сохранности.
Однако это еще не было концом их мучений, которые теперь стали ощущаться острее прежнего. Атмосфера была накалена, как печь, и тонкая пыль, взлетавшая из-под копыт лошадей, окутывала мальчиков удушающим облаком, так что иногда они даже не могли разглядеть холм, к которому держали путь. Не было смысла делать привал. Остановиться — означало верную смерть, и они продолжали двигаться вперед. Силы покидали мальчиков, они едва держались в седлах и были даже не в состоянии говорить друг с другом. Жажда почти лишила их способности разговаривать.
Солнце склонялось к западу, когда наши путешественники, обессиленные, задыхающиеся от пыли и жары, едва держась в седлах, на лошадях, которые уже не шли, а буквально ползли, приблизились к подножию горы. Глаза их были жадно устремлены вперед; во взглядах отражались одновременно надежда и отчаяние.
Серый скалистый утес, представший перед ними, был угрюмый и весь в трещинах. Казалось, он негостеприимно хмурился на мальчиков, когда они подъехали ближе. Неужели здесь нет воды? Но тут Жаннет, которая до сих пор тащилась сзади, выскочила галопом вперёд с громким криком. Жаннет, как мы уже говорили, была старым путешественником по прерии и могла почуять воду на таком же далеком расстоянии, на каком волк почуял бы ее тушу. Другие животные, взглянув на Жаннет, побежали за ней. В следующее мгновение маленькая кавалькада обогнула группу скал, и там радостному взору путников предстала зеленая трава и ивы, между которыми бурлили кристальные воды степного родника. Через несколько секунд и лошади и всадники уже утоляли жажду прохладной водой.
Глава 25
ВИЛОРОГИЕ АНТИЛОПЫ
Этот холм являлся одним из своеобразных образований, встречающихся в Великой американской пустыне, — чем-то средним между горой и холмом. По своей форме он отличался и от той и от другого; он был больше похож на огромную массу земли и скал, поднятую над прерией, со всех сторон отвесную, а на вершине гладкую и плоскую. Это был один из тех холмов, которые на языке испанской Америки называются «мезас» или «столы» — из-за их плоских, похожих на стол вершин. Такие холмы, обычно глинистые, чаще всего встречаются в верховьях Миссисипи и пустынных районах к западу от Дель Норте. Иногда несколько таких холмов стоят близко друг от друга на равнинах и производят впечатление, что их вершины когда-то в древности составляли одно целое и что потом часть земли между ними была размыта дождями или унесена другим каким-либо способом, а холмы так и остались стоять. Тем, кто привык смотреть на закругленные холмы или горы с острыми пиками, эти высокие мезас кажутся совершенно необычными; они представляют интересный предмет изучения для геолога.
Вершина холма, у которого остановились наши путешественники, имела площадь в двадцать-тридцать акров, а его отвесные склоны возвышались над окружающей прерией почти на две сотни футов. Поверхность холма поросла редкими высокими соснами, а над крутыми обрывами нависали низкорослые сосенки и кедры. По краям росли агавы, юкки и кактусы. Все это придавало холму очень живописный вид.
Утолив жажду, наши путешественники не думали, уж конечно, ни о чем другом, как только о том, чтобы остаться здесь и дать отдых себе и своим животным. Мальчики видели вокруг все необходимое для привала: воду, деревья и траву.
Юные охотники начали с того, что срубили несколько сосенок, которые росли у подножия. Скоро был зажжён яркий костер. У них оставалось медвежатины еще дней на пять. Чего им было еще желать!
Путешественники обнаружили, что даже этот бесплодный район природа наделила деревьями и растениями, пригодными для поддержания жизни. Сосенки предоставили свои мучнистые шишки, агава — съедобные корни, а по берегам ручейка рос хлебный корень. Они увидели маленькое растение с белыми, похожими на лилию цветами. Это было индейское «сего», а мальчики знали, что на его корнях находятся клубни величиной с орех, которые очень вкусны в вареном виде. Люсьен узнал все эти съедобные продукты и обещал братьям на завтра отличный обед. Сейчас они не в силах были заниматься приготовлением еды — так они устали и хотели спать. Медвежатина для голодных и жаждущих путников не требовала никакой приправы.
Итак, юные охотники тщательно смыли с себя пыль, съели свою скромную пищу и растянулись, чтобы хорошенько отдохнуть за долгую ночь.
Наши путешественники насладились полным отдыхом. Их ничто не беспокоило. Можно было предположить, что после стольких трудностей они проснутся все же утомленные, но, как ни странно, они встали со свежими силами. Люсьен объяснил это освежающим влиянием разреженной, сухой атмосферы, и он был прав, ибо, хотя мальчиков и окружала бесплодная почва, климат этой местности является одним из самых здоровых в мире. Многие туберкулезные больные, которые пересекали прерии с лихорадочно горящими щеками и изнурительным кашлем, возвращались к своим друзьям, чтобы засвидетельствовать то, что я сейчас говорю.
Все три брата чувствовали себя как нельзя более бодрыми и сразу приступили к изготовлению завтрака. Они набрали полную шапку сосновых шишек, из семян которых Люсьен умел приготовлять кушанье. Семена высушили и истолкли. В сочетании с медвежатиной получился отличный охотничий завтрак. Потом мальчики стали думать об обеде и выкопали немного сего и хлебного корня. Кроме того, они нашли мальву, длинные, суживающиеся к концу корни которой напоминают пастернак как по вкусу, так и по внешнему виду. Все это они потушили с медвежатиной, и кушанье в некоторых отношениях напоминало ветчину с репой, пастернаком и бататом, так как корни сего, приготовленные таким образом, похожи на батат, или на сладкий картофель.
Конечно, наши путешественники не ели обед непосредственно после завтрака между тем и другим был большой интервал, во время которого они мыли, чистили и чинили свои вещи, так как все пришло в полный беспорядок во время спешки последних дней. Занимаясь этим, братья время от времени поглядывали в прерию, но бизонов не было видно. Правда, юные охотники не очень настойчиво искали их, потому что решили остаться здесь на день или два, пока животные не отдохнут как следует и не будут готовы снова приняться за тяжелую работу.
Животные наслаждались отдыхом так же, как их хозяева. По берегам ручейка росло много сочной травы, а для счастья лошадей и мулов, кроме травы и воды, ничего больше и не было нужно, Жаннет, по-видимому, радовалась, что темные леса, где ее чуть не разорвали на части кугуары и дикие свиньи, остались позади.
Еще не настал вечер, а мальчики уже закончили все свои дела. Седла, уздечки и лассо были тщательно починены и развешаны на скалах. Ружья они протерли и как следует почистили затвор, ложу и ствол. Лошадей тоже вымыли у ручья, а задние ноги Жаннет опять смазали медвежьим жиром.
Итак, управившись со всеми своими делами, юные охотники сидели на трех больших камнях около источника, беседуя о своих приключениях и строя планы на будущее. Конечно, бизоны являлись основной темой — ведь это была цель экспедиции. Не забывали они и о своем любящем, добром отце и заранее радовались тому удовольствию, которое он получит, слушая повесть об их приключениях, когда они вернутся. Говорили они и о Гуго, и Франсуа смеялся, вспоминая, какие он проделывал шутки над маленьким капралом.
Развлекаясь таким образом, мальчики вдруг заметили в прерии, на некотором расстоянии, какие-то существа.
— Смотрите! — воскликнул Франсуа. — Целая цепочка волков!
Волки не являлись необычным зрелищем, и даже в тот момент несколько их сидело не дальше чем в двухстах ярдах от лагеря. Это были волки, которые следовали за отрядом на протяжении уже нескольких дней.
— Животные, которых мы там видим, — не волки! — радостно сказал Базиль. Мне кажется, это олени.
— Нет, брат, — отозвался Люсьен, — это антилопы.
Слова Люсьена заставили Базиля и Франсуа схватиться за ружья.
Базилю особенно хотелось подстрелить антилопу, потому что он никогда еще не охотился на них. Он даже не видел никогда антилопы, так как это животное не водится около Миссисипи.
Как ни странно, любимым местом антилоп являются бесплодные пустыни, расположенные у подножия Скалистых гор, где очень мало травы и еще меньше воды.
В некоторых таких пустынях антилопа является единственным жвачным животным значительных размеров, которое можно тут встретить. Их часто находят так далеко от воды, что некоторые натуралисты утверждают, будто антилопы могут жить без этого необходимого элемента. Ученые забывают, что то, что для них кажется «далеко от воды», для антилопы — пять минут бега, или, вернее сказать, полета, потому что скорость и легкость, с которой передвигаются антилопы, больше напоминают полет птицы, чем галоп четвероногого существа.
Антилопы мало отличаются от оленей. У оленей нет желчного пузыря, а у антилоп есть. Другое различие у них — в рогах. Рога оленя состоят из сплошной костной ткани, отличающейся от настоящего рога, а рога антилопы больше похожи на рога козла. Натуралисты говорят, что в Северной Америке есть только один вид антилоп — вилорогие. Когда фауна Мексики будет как следует изучена, я думаю, что найдут и какой-нибудь другой вид.
Вилорогие антилопы встречаются только в бескрайних прериях Дальнего Запада. Эти антилопы очень пугливы и робки. Охотникам удается приблизиться к ним только хитростью и уловками. Индейцы иногда охотятся на стадо антилоп способом загона или окружения. Но даже в этих случаях необычайная быстрота ног выручает антилопу, давая ей возможность убежать. Догнать антилопу стоит такого труда, что в тех местах, где есть какие-нибудь другие животные, на антилоп охотятся редко.
Легче всего настичь антилоп, когда они переходят реку, так как их тонкие ноги и маленькие копытца делают их довольно слабыми пловцами. Индейцы иногда уничтожают все стадо, пока оно пытается переплыть широкие степные потоки.
Хотя антилопа и очень робка, она в то же время любопытна и часто приближается к самому опасному врагу, лишь бы удовлетворить свой инстинкт любопытства. Нашим героям было суждено стать свидетелями замечательной иллюстрации этой особенности антилоп.
Базиль и Франсуа схватили ружья, но не двинулись с места. Они рассудили, что это было бы бессмысленно, поскольку кругом не было даже пучка травы, чтобы скрыть их от приближающихся антилоп. Поэтому мальчики сидели тихо, в надежде, что животные направляются к источнику и сами подойдут поближе. Мальчики оказались правы: стадо, в котором насчитывалось около двадцати антилоп, шло по прерии, направляясь прямо к холму. Они шли гуськом следом за своим вожаком, совсем как индейцы на военной тропе. Скоро они были уже настолько близко, что охотники могли различить каждую часть их тела — их желтые спины, белые бока и животы, короткую торчащую гриву, изящные ноги и длинные острые мордочки. Они могли даже рассмотреть маленькие черные пятнышки за щеками, испускающие неприятный запах — такой, как от обыкновенного козла, из-за чего охотники-трапперы на своем неромантичном жаргоне прозвали этих грациознейших животных «козлами».
Стадо приближалось. Мальчики спрятались за ивовыми кустами, чтобы антилопы не заметили их. Они увидели также, что с рогами был только один, самый первый, вожак; все остальные были самки или молодые антилопы. Когда животные подошли ближе, они, казалось, не обратили внимания на лошадей, которые паслись на равнине, а не на самой их дороге. Антилопы явно приняли лошадей за мустангов, которые не являются их врагами и поэтому не вызывают в них страха.
Наконец антилопы приблизились к ручью и двинулись дальше к самому источнику — может быть, для того, чтобы сделать глоток наиболее прохладной и освежающей воды из самого ключа. Юные охотники лежали, спрятавшись в ивняке, с ружьями наготове, намереваясь выстрелить, как только ничего не подозревающие антилопы подойдут на достаточно близкое расстояние.
Антилопы были уже близко — пожалуй, меньше чем в двухстах ярдах, — когда мальчики увидели, что вожак вдруг кинулся вправо, отскочив от воды. Что это могло означать?
И тут мальчики заметили на земле несколько пушистых предметов.
Предметы были странные, рыжевато-коричневого цвета, и их можно было бы принять за спящих лис. Но это не были лисы — это были койоты, степные волки, животные похитрее самих лис. И они вовсе не спали — они только притворялись спящими.
Койоты лежали, прильнув к земле, спрятав головы в пушистые хвосты, и было бы невозможно определить, кто это, если бы мальчики не знали, что это те же самые волки, которых они наблюдали всего несколько минут назад. Их было около полудюжины, и они лежали вплотную друг к другу; на первый взгляд казалось, что это какой-то один предмет или несколько предметов, скрепленных между собой. Волки лежали неподвижно. Они-то и привлекли внимание вожака антилоп и заставили его изменить направление.
Желая увидеть развязку, наши охотники продолжали лежать тихо в своей засаде.
Все антилопы последовали за своим вожаком и шли теперь в новом направлении, цепочкой, как солдаты. Они шли медленно, вытянув шеи, пристально вглядываясь в странные предметы, находящиеся перед ними. Подойдя к волкам ярдов на сто, вожак остановился и стал принюхиваться. Другие антилопы подражали каждому его движению, но ветер дул в сторону волков, поэтому антилопы, которые хотя и обладают очень острым обонянием, ничего не могли почуять. Они продвинулись вперед еще на несколько шагов, снова остановились, зафыркали и опять пошли вперед. Так продолжалось несколько минут, и было ясно, что в душе этих существ происходит борьба между страхом и любопытством. Иногда, казалось, страх брал верх, антилопы дрожали и настораживались, будто готовые пуститься наутек. Затем снова побеждало любопытство, и результатом было новое продвижение вперед.
Так антилопы подходили ближе и ближе, пока вожак не оказался в нескольких шагах от волков, которые все это время лежали не шелохнувшись, как мыши, или, вернее, как кошки, подстерегающие мышей. Волки лежали абсолютно неподвижно, только длинные волоски хвостов слегка шевелились от ветра. Но это только еще больше возбуждало любопытство антилоп.
Вожак, казалось, вдруг осмелел. Это был толстый, старый самец — чего было ему бояться? Почему он должен опасаться существ, у которых нет ни голов, ни зубов, ни когтей и которые явно даже не способны двигаться? Несомненно, это неодушевленные предметы.
Скоро он разрешит эту задачу — он просто выступит вперед и дотронется носом до одного из них.
Вожак решительно пошел вперед и коснулся острым носом шерсти одного из волков.
Волк, который все время подглядывал исподтишка в ожидании именно этого момента, мгновенно вскочил на ноги и схватил антилопу за горло. Остальные койоты последовали его примеру. Через минуту вилорог был повален на землю, и вся стая волков накинулась на него.
Испуганное стадо повернуло и рассыпалось по прерии. Некоторые побежали в сторону охотников, но так быстро пролетели мимо, что поспешные выстрелы мальчиков не попали в цель. Ни одна из антилоп, казалось, не была ранена, и через несколько секунд никого из них уже не было видно. Все спаслись, кроме вожака, который умирал под клыками волков.
— Ну ничего, он-то, по крайней мере, достанется нам, — сказал Базиль. Заряжайте ружья, братья, — пусть волки убьют его, мы потом легко отгоним их прочь.
— Очень любезно с их стороны, — добавил Франсуа, — обеспечить нас свежей олениной на ужин. Нам не получить бы ее, если бы не их хитрость. Мы оказали волкам услугу, угостив их медвежатиной, и им как раз пора отплатить нам тем же.
— Тогда нам лучше поторопиться, — сказал Люсьен, перезаряжая ружье. Волки очень деятельно принялись за дело — они могут растерзать в клочки нашу оленину. Посмотрите, какая драка!
Койоты прыгали вокруг тела вилорога, то накидываясь на него всей массой, то рассыпаясь в стороны. Они явно стремились растерзать животное. Пасти их были запачканы кровью, пушистые хвосты непрерывно двигались.
Охотники спешили перезарядить ружья, иначе, как предсказал Люсьен, волки испортили бы все мясо. На то, чтобы зарядить ружья, у мальчиков ушло не больше минуты. Все трое побежали вперед. Маренго, вытянув шею и открыв пасть, несся вперед, стремясь сразиться со всей стаей волков.
До того места, где находились волки, было не больше трехсот ярдов, и, когда наши охотники подбежали ближе, они остановились, вскинули ружья и выстрелили. Залп произвел должный эффект: два койота подскочили и покатились по траве, а остальные, бросив добычу, рассеялись по прерии.
Маренго кинулся на одного раненого волка, а другого мальчики добили прикладами. Но где же антилопа? Вместо нее лежало с полдюжины кусков растерзанной шкуры, голова с рогами, задние ноги и несколько полуобглоданных ребер и других костей. Это все, что осталось от красивого животного, которое всего несколько минут назад шествовало по прерии, гордое сознанием своей силы, здоровья и красоты.
Юные охотники рассматривали его останки с разочарованием и грустью, ибо, хотя у них было еще много медвежатины, они уже предвкушали удовольствие поужинать свежей олениной. Но не осталось ни задней ножки, ни «седла» ничего, кроме изорванных, непригодных клочков; поэтому, после резких высказываний по адресу волков, мальчики предоставили это все Маренго и, медленно вернувшись к себе в лагерь, снова уселись на камни.
Глава 26
ПРИМАНИВАНИЕ АНТИЛОПЫ
Мальчики просидели так не больше пяти минут, как вдруг их внимание было снова привлечено прерией. Другое стадо антилоп! Странно, но это так. Как и первое, оно направлялось прямо к источнику. Охотники знали, что это не те же самые антилопы, ибо это стадо было намного больше и в нем было несколько самцов, которых легко можно было распознать по слегка разветвленным рогам.
Мальчики снова зарядили ружья и подозвали к себе Маренго, чтобы тот не спугнул антилоп.
Эти антилопы, как и первые, выступали в полном порядке, гуськом, и их вел самец. В стаде было около тридцати животных. Они, очевидно, весь день паслись на каком-нибудь отдаленном пастбище, а теперь шли к воде, намереваясь хорошенько напиться, прежде чем улечься спать.
Подойдя к источнику на четыреста-пятьсот ярдов, антилопы свернули слегка влево. Это привело их сразу к ручью, в который они вошли; напившись, они вышли на берег и опять стали щипать траву. Было ясно, что антилопы не собираются подходить ближе к холму или к ивам, где сидели в засаде наши охотники. Это было разочарованием. Братья еще раз настроились на то, чтобы получить на ужин антилопу, а теперь шансов на это становилось все меньше и меньше, так как животные, вместо того чтобы подойти поближе, паслись в прерии, в стороне от них. Не за что было и спрятаться, чтобы приблизиться к вилорогам. Что же оставалось делать охотникам, как не примириться с обстоятельствами?
Но тут Базилю пришла на ум одна хитрость. Он слышал об этом от старых охотников, и поведение первого стада в отношении волков напомнило ему о ней. Базиль решил воспользоваться этой хитростью, чтобы добыть антилопу.
Предупредив братьев, чтобы они не шумели, он взял одно из красных одеял, лежащих неподалеку, потом срезал длинную, раздвоенную на конце ветку и заострил ее с другого конца ножом. Растянув перед собой одеяло и держа ружье в одной руке и ветку — в другой, Базиль вышел из кустов ивняка на открытое пространство: одеяло, таким образом, полностью скрывало юного охотника. Он прошел так, согнувшись, несколько шагов, пока не привлек внимания антилоп. Тогда Базиль глубоко воткнул ветку в землю, повесил на развилку одеяло и встал на колени, прячась за ним.
Необычный по форме и цвету предмет — красное одеяло — сразу возбудил любопытство стада. Антилопы перестали пастись и начали приближаться, то и дело останавливаясь. Они шли не гуськом, как первое стадо. То один самец, то другой становился во главе: казалось, каждый из них стремился показать свою храбрость.
Через несколько минут один из самых больших самцов подошел на расстояние выстрела. Тогда Базиль прицелился ему в грудь и выстрелил. Самец подскочил на месте, но, к великому разочарованию стрелка, повернулся и ускакал со всем стадом, которое пустилось бежать, едва услышав выстрел.
Базиль отметил это с некоторым удивлением. Он очень тщательно целился и знал, что в таких случаях редко давал промах. Но на этот раз он, очевидно, промахнулся, так как видел, что антилопа убегает явно невредимая. Отнеся свою неудачу за счет спешки, в которой он заряжал ружье, Базиль поднял его и с огорченным видом повернулся к братьям.
— Посмотри туда! — закричал Франсуа, который все еще наблюдал за убегающими антилопами. — Посмотри на волков! Они бегут за стадом!
— Ну да! — воскликнул Люсьен. — Ты ранил его, иначе волки никогда бы не погнались за ним. Смотри, они бегут по его следу, как гончие!
Люсьен оказался прав: животное было ранено; в противном случае, волки никогда не пошли бы на такое безнадежное преследование. Как это ни странно, хитрые койоты могут определить, ранено ли животное, лучше, чем сами охотники, и очень часто преследуют и догоняют его, когда охотники думают, что животное убежало. Поэтому было ясно, что Базиль ранил антилопу, хотя и не смертельно, и волки теперь гнались за ней в надежде поймать.
Базилю пришла в голову новая мысль. Он подумал, что может еще подоспеть к тому времени, когда антилопа станет умирать; он подбежал к лошади, вытащил колышек, к которому она была привязана, и, вскочив на неоседланного коня, бросился в погоню. Скоро Базиль скакал уже во весь опор по прерии, не теряя из виду волков. Он видел антилопу, в которую стрелял, на некотором расстоянии впереди волков, но намного позади остального стада. Она бежала явно с трудом, преодолевая боль.
Юный охотник проскакал к этому времени пять миль, но вдруг, когда до волков оставалось всего полмили, увидел, что они поравнялись с раненой антилопой и повалили ее на землю. Базиль торопился изо всех сил, пустив своего Черного Ястреба самым быстрым галопом. Через несколько минут он подскакал к волкам и разогнал их. Но он опять опоздал: тело антилапы было разодрано в куски и наполовину съедено. В награду за долгую скачку Базилю достались только полуобгрызенные кости и клочья шкуры.
Разочарованный, охотник повернул лошадь и медленно поехал обратно, всю дорогу ругая про себя волков.
Когда Базиль вернулся, Франсуа присоединился к его проклятьям, так как ему надоела медвежатина и он был зол, что уже во второй раз их провели и опять не удалось получить на ужин что-нибудь свежее.
Люсьен, однако, уверил их обоих, что, как он слышал, мясо антилопы, в конце концов, не так уж вкусно. Это до некоторой степени успокоило мальчиков, и они приготовили тушеную медвежатину с «пастернаком» — сосновыми семенами. Люсьен сделал это по индейскому способу, и у них получился такой ужин, от которого никто бы не отказался.
Поев, юные охотники подвели своих лошадей ближе к лагерю, чтобы иметь их под рукой в случае необходимости, и, завернувшись в одеяла, легли, чтобы выспаться и отдохнуть.
Глава 27
ОХОТА НА СИММАРОНОВ
Но в эту ночь им не удалось поспать спокойно. Дважды или трижды лошади рвались с привязи, напуганные каким-то зверем, бродившим вокруг. Это могли быть волки, но собака Маренго, не обращавшая внимания на волков, выказывала признаки страха, по временам яростно ворчала и все время держалась поближе к лагерю. Жаннет тоже подошла поближе к огню, насколько ей позволяла веревка, и путешественники видели, что она дрожит, будто от страха перед каким-то хорошо известным врагом. Несколько раз среди завывания волков братья различали странный звук, совершенно не похожий на волчьи голоса. Он скорее напоминал протяжное рычание, издаваемое низким, ворчливым тоном; при этом звуке Жаннет каждый раз вздрагивала, а Маренго жался поближе к своим хозяевам. Может быть, это голос кугуара? Или, что еще страшнее, рычание гризли? Это было вполне возможно. Юные охотники теперь находились в районе, где встречаются эти свирепые животные, и как раз в таком месте, которое мог бы избрать себе для жительства один из медведей гризли.
Если бы юные охотники были уверены, что гризли действительно находятся поблизости, они сразу лишились бы сна. Однако это было лишь предположение. Тем не менее мальчики решили не спать все одновременно, а по очереди дежурить. Они подложили в костер нового хвороста, чтобы пламя дало им возможность далеко видеть вокруг, а затем двое из них легли спать, в то время как третий уселся сторожить с ружьем в руках, готовый к любому внезапному нападению. Каждый из мальчиков сторожил по два часа, пока не наступил рассвет, который положил конец их страхам, так как никакой зверь так и не появился.
Теперь наши охотники начали энергично действовать: отпустили лошадей пастись на траве, умылись в кристальной воде источника и приготовили завтрак. Мальчики обнаружили, что их запаса вяленой медвежатины хватит им не больше чем на два дня, так как во время последней стоянки порядочная порция мяса была унесена волками. Они забеспокоились насчет своего пропитания в будущем, так как в этой местности, по-видимому, не было никакой другой дичи, кроме антилоп, а они уже знали теперь по опыту, как мало шансов добыть этих животных. Стало быть, если они не встретят бизонов, им угрожает голодная смерть.
Эта мысль не покидала мальчиков, пока они приготовляли и ели завтрак, и они решили уменьшить свой рацион вполовину и строго экономить то немногое, что осталось.
После завтрака наши путешественники стали совещаться о том, куда ехать дальше. Ехать ли им на север, на юг, на восток или на запад от холма? Мнения их разделились, однако в конце концов все они сошлись на том, что, прежде чем принять то или иное решение, они взберутся на холм и, оглядев местность с его вершины, решат, куда лучше направиться. А может быть, они увидят оттуда бизонов: с этой возвышенности, несомненно, открывается вид на прерию во все стороны.
Вскинув ружья на плечи и оставив одеяла и все остальные пожитки у источника, юные охотники отправились пешком искать подъема на холм. Они стали обходить его с западной стороны, так как их лагерь находился у северо-восточного склона. Продвигаясь таким образом, мальчики стали опасаться, что им так и не удастся взобраться на холм. Казалось, со всех сторон склоны его поднимаются перпендикулярно. У подножия то тут, то там лежали осколки скал, должно быть, упавшие сверху. По склонам росли деревья, пустившие корни между пластами породы. По краям вершины высились сосны, простирая свои ветви над равниной; алоэ, юкки и кактусы придавали холму еще более живописный вид.
Когда наши путешественники достигли самой западной точки холма, их взорам представилась новая картина. Далеко на западе они увидели гряду утесов, или низких гор, которая тянулась с севера на юг насколько хватал глаз. Эта гряда утесов, похожих на их холм, являлась восточным склоном знаменитой Льяно Эстакадо, или «Столбовой равнины». Мальчики часто слышали, как охотники рассказывали об этом плато, и с первого взгляда узнали его. Холм, вокруг которого они путешествовали, был не чем иным, как несколько отдаленной от него частью этого замечательного образования прерии.
Полюбовавшись на утесы, наши юные охотники пошли дальше, огибая холм с южной стороны. Но и здесь скалы поднимались перпендикулярно, и не было ни одного склона, по которому можно было взобраться. Скалы казались даже выше с этой стороны, и в некоторых местах нависали темными выступами оползни, на которых росли, вытянувшись почти горизонтально, высокие деревья.
В одном месте мальчики остановились и стали глядеть вверх, как вдруг у края вершины над ними появилось несколько странных существ. Это были животные, но юные охотники никогда прежде не видели таких. Каждый из них был величиной с обычного оленя и почти такого же цвета — рыжеватый на спине и боках, а грудь, ляжки и вся нижняя часть туловища были белые. Строением тела эти животные походили на оленя, но были несколько толще. Формой головы и «выражением лица» они больше всего напоминали овец. Но самым замечательным были рога, и по ним наши охотники с первого взгляда определили, что это за животное. Это были симмароны, или дикие овцы Скалистых гор. По форме рогов они сильно отличались друг от друга, и на первый взгляд казалось, что тут две разные породы животных. У некоторых были короткие рога, не больше шести дюймов, поднимающиеся со лба и слегка загибающиеся назад. Между концами рогов расстояние было небольшое. Это были самки. Самцы же выглядели совсем по-другому благодаря огромным рогам. Их рога росли прямо над глазами, сначала загибаясь назад, а затем снова вперед, да так сильно, что их концы почти касались с обеих сторон челюстей животных. Рога некоторых из них были больше ярда длиной и полуярда в окружности у основания и имели глубокие кольцеобразные зарубки, как у обыкновенного барана. Эти огромные рога придавали животным какой-то особенный и внушительный вид, когда они стояли на краю пропасти, вырисовываясь на фоне синего неба. Всего их было около дюжины, самцов и самок, но самцов было лучше видно, так как они находились ближе к краю утеса и, глядя вниз, принюхивались.
Как только наши юные охотники пришли в себя от удивления, все трое вскинули ружья, приготовляясь выстрелить. Но симмароны, казалось, разгадали их намерение, ибо, едва на них направили ружья, они повернули и исчезли в мгновение ока.
Более четверти часа мальчики стояли, надеясь, что животные еще раз появятся над пропастью, однако те не возвращались: они удовлетворили свое любопытство и, будучи умнее антилоп, не хотели, чтобы оно вовлекло их в опасность. Поэтому наши охотники были вынуждены в конце концов уйти и продолжать поиски тропинки, которая привела бы их наверх.
Теперь они еще больше стремились достигнуть вершины холма. На нем было стадо диких баранов, и мальчики надеялись пополнить ими свой запас продовольствия. Продвигаясь, охотники тщательно приглядывались к каждой ложбине, к каждой расселине, которая могла бы привести их на вершину утеса, но на всем южном склоне нельзя было найти ни одной подходящей тропинки.
— Должен же быть какой-нибудь путь наверх! — сказал Франсуа. — Иначе как же могли попасть туда овцы?
— Может быть, они выросли там и никогда не спускались на равнину, ответил Базиль.
— Нет, этого не может быть, — сказал Люсьен. — Я думаю, что на плато вверху нет воды, а этим животным вода нужна так же, как всяким другим. Они должны время от времени спускаться к водоемам, чтобы напиться.
— Значит, здесь есть тропинка, — сказал Франсуа.
— Без сомнения, для них она есть, — ответил Люсьен, — но мы, возможно, и не будем в состоянии подняться по ней. Хотя у симмаронов копыта, как у овец, они могут карабкаться, как кошки, и прыгать, как белки. Поэтому они легко убегают от волков, кугуаров и других животных, которые охотно поживились бы ими.
— Я слышал, — сказал Базиль, — что они могут кинуться вниз на сто футов и больше, прямо на рога, и ни капельки не ушибиться. Это правда, Люс?
— Да, так говорят и индейцы и трапперы, и опытные путешественники верят им. Правда это или нет, натуралисты еще не выяснили. Известно, что дикие овцы могут спрыгнуть вниз с большой высоты на чрезвычайно узкий выступ над пропастью и не поскользнуться, что они в состоянии перепрыгивать через страшные ущелья и скакать по таким уступам, где не рискнет пройти собака или волк. Они даже как будто наслаждаются этим, точно им доставляет удовольствие играть с опасностью, подобно мальчикам, которые охотно идут на риск, лишь бы показать окружающим свою ловкость.
— Это те же самые животные, которых охотники называют «большерогами»? спросил Франсуа.
— Те же самые, — ответил Люсьен. — Имя «симмарон» им дали испанцы, первые исследователи этих районов. Натуралисты назвали их «аргали» — по их сходству с азиатскими дикими овцами. Однако это не тот же самый вид.
В это время восклицание Базиля, который шел на несколько шагов впереди, привлекло внимание братьев и положило конец разговору. Мальчики уже подошли к восточной стороне холма, которая в этом месте отличалась от других склонов. Глубокое ущелье прорезало здесь утес, и по нему вилась наверх тропинка. Это ущелье было заполнено большими обломками скал, вокруг которых росли кактусы и акации. Казалось, по этому склону легко подняться пешком. На дне лежало много камней, и из-под них выбивался ключ, еще более обильный, чем тот, у которого расположились лагерем наши охотники. Он тек на юго-восток, окаймленный с обеих сторон травой и ивами.
Когда мальчики подошли к месту, где ручей расширялся, их внимание привлекли какие-то следы на влажной земле. Следы были продолговатые и крупнее, чем след человека. Глубокие ямки от пяти больших пальцев с когтями на концах ясно показывали, кому они принадлежат. Это были следы медведя гризли, отпечатки больших лап стопоходящего животного, с углублениями от пальцев. В тех местах, где загнутые когти вошли в грязь на несколько дюймов, образовались ямки. Никакое другое животное не могло оставить такие следы, даже черный или бурый медведи, когти которых короче по сравнению с когтями чудовища гор гризли.
Несколько мгновений наши охотники колебались, встревоженные, но, так как животное, оставившее эти следы, не показывалось, их страхи немного улеглись, и они начали раздумывать, стоит ли идти по ущелью и постараться достигнуть вершины? Таков был первоначальный план, и они отправились бы, не колеблясь, вверх, если бы не обнаружили следы медведя. Однако теперь дело принимало другой оборот. Если здесь водились гризли — а это казалось бесспорным, — то именно в ущелье встреча с ними была наиболее вероятной. Густые заросли, значительное количество трещин, видневшихся по обеим сторонам, — все это любят гризли. Их логово могло быть в этом самом ущелье, и наткнуться на него по дороге было бы весьма опасно. Но наши юные охотники были преисполнены отваги. Им очень хотелось подняться на холм, отчасти из любопытства, отчасти — чтобы подстрелить большерога, и это желание взяло верх над благоразумием. Они твердо решили довести до конца начатое дело и стали подниматься. Базиль шел впереди.
Карабкаться было очень трудно. Мальчикам то и дело приходилось хвататься за ветки и корни. Но вот они увидели, что под ногами у них тропинка. Несомненно, ее протоптали большероги или какие-нибудь другие животные, проходя по ней вверх и вниз, хотя ее можно было заметить только потому, что здесь скалы слегка меняли свой цвет, а в некоторых местах земля была лучше утоптана, как бы копытами или ногами.
На полдороге наверх с одной стороны ущелья, возле тропинки, мальчики заметили трещину, похожую на вход в пещеру. Землистый цвет скал, отсутствие растительности и то, что земля в этом месте была притоптана, наводило на мысль, что какой-то зверь устроил себе здесь логовище.
Юные охотники прошли это место молча, карабкаясь как можно быстрее и со страхом оглядываясь. Через несколько минут мальчики достигли верхнего края холма. Они подтянулись на руках и выглянули. Перед ними открылся вид на всю вершину, ровную, как доска.
Вершина была, как они и предполагали, совершенно плоская, площадью в двадцать-тридцать акров; на ней росли редкие сосны, иногда попадались кусты акации. Между деревьями было много растительности, и большие метелки высокой травы, вперемешку с кактусами и алоэ, создавали своеобразный покров. Однако такая растительность имелась лишь в двух-трех местах, а в большей своей части поверхность холма была открытой.
Едва охотники поднялись над краем утеса, как увидели стадо большерогов. Животные находились у западного конца плато и, к удивлению мальчиков, прыгали по земле, как безумные. Они еще не заметили охотников, которые, выбравшись наверх, осторожно отползли за кусты. Животные скакали в разных направлениях, высоко взлетая в воздух.
Скоро мальчики заметили, что этим были заняты только те, у которых были большие рога, а остальные спокойно паслись рядом. Охотникам стало ясно, почему прыгают самцы: тут шло сражение, и сердитое фырканье и громкий стук рогов говорили о том, что противники сражаются всерьез. Самцы то пятились друг от друга, как обычно делают бараны, то кидались вперед и стукались головами с таким звуком, что, казалось, разлетаются черепа. Иногда это был поединок, а иногда сходились трое или четверо, будто не имело значения, кто является противником. Можно было подумать, что все они в равной степени враги друг друга. Как это ни странно, самки, по-видимому, совсем не беспокоились. Большинство из них невозмутимо щипали траву, а если они и поглядывали на своих сражающихся повелителей, то с безразличным, равнодушным видом, будто их совершенно не интересовал исход борьбы.
Наши охотники были уверены, что поймали в ловушку все стадо. Им нужно было только сторожить тропинку, по которой они сами поднялись, и затем можно было спокойно охотиться на большерогов. Поэтому мальчики договорились, что Люсьен с Маренго останутся на месте, а Базиль и Франсуа подкрадутся и выстрелят. Мальчики не стали терять времени. Они видели, что битва полностью завладела вниманием животных, и, пользуясь этим, Базиль и Франсуа поползли по земле, прячась насколько возможно, чтобы подобраться на расстояние выстрела. Они достигли этого одновременно, скрываясь за небольшой группой акаций, и по сигналу Базиля приподнялись, чтобы прицелиться. Тут они увидели, что один из баранов, который пятился, чтобы разбежаться, вдруг исчез за краем утеса. Юные охотники решили, что он упал, поскольку последним, что они видели, были его ноги. Но у них не было времени раздумывать над этим обстоятельством, так как оба они в этот момент спустили курки. Два симмарона упали, остальные кинулись прочь, к краю плато, и остановились.
Базиль и Франсуа вскочили и крикнули Люсьену, чтобы он был настороже. Но, к огромному их удивлению, симмароны, как будто еще более испуганные их криками, обнаружив, что отступление отрезано, прыгнули в пропасть и исчезли из виду.
«Они, должно быть, разбились насмерть», — подумали Базиль и Франсуа. Подозвав Люсьена, все трое побежали к тому месту, откуда прыгнули животные, и посмотрели вниз. Внизу мальчики увидели равнину — и никаких большерогов. Что с ними стало?
— Вон там! — закричал Франсуа. — Вон они бегут!
И он указал далеко в прерию, где по направлению к утесам Льяно Эстакадо летели, как ветер, какие-то рыжеватые существа.
Люсьен обратил внимание братьев на несколько узеньких выступов на скале ими-то животные и воспользовались при спуске и таким образом очутились внизу.
Как только симмароны исчезли из виду, охотники повернулись к тем двум, которых они подстрелили. Самец и самка лежали, вытянувшись на траве, мертвые.
Мальчики уже хотели начать свежевать их, когда Базиль и Франсуа вспомнили про первого симмарона: им было интересно узнать, действительно ли большерог свалился в пропасть случайно или прыгнул туда намеренно. Они подошли к самому краю, заглянули вниз и увидели, что росшее на откосе прямо под ними дерево сильно сотрясается, а в его ветвях — большое рыжее тело. Это был симмарон. Юные охотники с удивлением обнаружили, что он висит, зацепившись огромным рогом за ветку дерева. Все тело большерога висело в воздухе: он брыкался и извивался. Было ясно, что животное свалилось с утеса нечаянно и запуталось в ветвях сосны. Жалко было глядеть на бесплодные попытки бедного существа освободиться, но не было никакой возможности снять его с дерева, так как симмарон был вне пределов досягаемости. И Базиль, чтобы положить конец мучениям большерога, зарядил ружье и выстрелил ему в сердце.
Выстрел не изменил положения симмарона, поскольку его рог все еще был обвит вокруг ветки, но животное перестало биться. Ему суждено было оставаться там до тех пор, пока его не увидит издалека какая-нибудь хищная птица и не прилетит сюда, чтобы очистить от мяса этот раскачивающийся труп.
Глава 28
ОСАЖДЕННЫЕ МЕДВЕДЯМИ
Юные охотники отложили ружья, вытащили ножи и освежевали симмаронов с ловкостью заправских мясников. Затем они разрезали мясо так, чтобы было удобнее отнести его в лагерь. Шкуры им были не нужны, поэтому они так и оставили их лежать на земле.
Как только туши были разделаны, каждый мальчик взвалил на плечо по куску, и они понесли все это к ущелью, намереваясь потом вернуться и забрать остальное. Достигнув места, где тропинка поднималась на плато, они увидели, что им будет трудно спускаться с такой ношей, так как гораздо легче взбираться на скалу, чем спускаться с нее. Тут возник другой план: бросить куски мяса под гору, перед собой, чтобы те скатились вниз сами. Это было нетрудно сделать. Мясу это не повредит, так как они хотели его впоследствии разрезать, чтобы высушить, а грязь и песок потом можно будет легко отмыть в ручье.
Этот план был принят сразу, и, приподнимая кусок за куском, мальчики сбросили мясо вниз с утеса. Увидев, что оно лежит уже на дне между камнями, они вернулись к тушам, взяли новую порцию и опять направились к ущелью.
Когда наши охотники подошли ближе к краю, чтобы сбросить куски, их глазам представилось такое зрелище, которое заставило всех троих тут же выронить свою ношу.
Внизу, на дне ущелья, расхаживало между кусками мяса ужасное, громадное и безобразное животное. Его огромный рост, длинная, косматая шерсть серовато-коричневого цвета, а самое главное — свирепый вид, не оставляли у наших охотников сомнения в том, что это за животное. Страшное чудовище гор ни с кем нельзя было спутать — это был медведь гризли!
Он был почти вдвое больше обыкновенного медведя и в других отношениях также отличался от него. Уши его стояли прямее, чем у простого медведя, темно-желтые глаза сверкали еще больше и свирепее, голова и морда были шире; длинные изогнутые когти, выступающие из косматой шерсти лап, были ясно видны даже с вершины утеса. Медведь только разорвал когтями один из кусков и жадно пожирал его. Он был так занят, что не заметил мальчиков.
Все трое, как я уже сказал, выронили на землю свой груз и, взглянув вниз, кинулись опрометью за ружьями, схватили их и тщательно осмотрели. Ружья были уже заряжены.
Юные охотники осторожно подкрались к ущелью и снова заглянули вниз. К своему ужасу, они увидели, что там уже не один медведь, а целых три. Один, поменьше других, отличался от них и по цвету. Он был совсем черный, и его можно было бы принять за взрослого медведя черной породы, однако это был просто большой медвежонок, а двое других — его родители.
Все три медведя раздирали свежее мясо, явно очень довольные, и не задумывались над тем, откуда им привалило такое неожиданное счастье. Время от времени они громко рычали, как бы выражая удовольствие, а иногда, когда медвежонок мешал есть старому медведю, тот ворчал на него. Медведица, наоборот, раздирая на части мясо, клала самые лучшие куски перед своим черным детенышем и легкими ударами лапы как бы увещевала его, чтобы тот ел. Иногда медведи ели, стоя прямо, держа мясо передними лапами; иногда клали кусок на скалу и поедали его со всеми удобствами. Пасти и когти медведей покраснели от крови, остававшейся в разделанном наспех мясе, и это придавало всему трио еще более свирепый вид.
Наши путешественники глядели вниз на эту сцену с чувством крайнего ужаса, смешанного с интересом. Они слышали такие рассказы о медведях гризли, которые наполнили бы страхом и самое отважное сердце. Мальчики знали, что ни один охотник, если он пеший, никогда не решится напасть на гризли. Даже верхом и хорошо вооруженный, охотник отважится сделать это только в открытой местности, где он может спастись благодаря быстроте своего коня. Мальчики знали также, что медведь гризли, даже раненный несколькими пулями, частенько преследует охотников в прерии, ибо и двадцати пуль мало, чтобы свалить гризли.
Все эти факты мгновенно пришли на память нашим юным охотникам, и неудивительно, что они трепетали от страха.
Положение их было незавидное. Медведи занимали ущелье, и никакой другой тропинки, по которой мальчики могли бы спуститься к лошадям, не было. Во время своих утренних поисков они обошли вокруг почти всего холма и видели, что он был отвесный со всех сторон. Как им добраться до своего лагеря? Был только один путь — вниз по ущелью, но, стоит им попытаться пройти по нему, медведи обязательно нападут на них.
Мальчики, испуганно глядя друг на друга, переговаривались шепотом. Все трое хорошо понимали опасность положения. Уйдут ли медведи из ущелья, после того как насытятся? Нет. Пещера, которую заметили юные охотники, несомненно, служит логовом этим медведям. Даже если гризли войдут в нее, какая гарантия, что они не выпрыгнут оттуда, когда мальчики будут спускаться вниз? И тогда звери легко настигнут их среди камней и кустов. Если мальчики попытаются спуститься, кто-нибудь из них погибнет, а может быть, и все. Не выйдут ли медведи на равнину? Может быть, они отправятся к источнику, чтобы напиться, или еще за чем-нибудь? Но даже если гризли отойдут, они увидят, как мальчики будут спускаться, и могут легко нагнать их, прежде чем те достигнут лагеря или своих лошадей. Лошади пасутся на свободе и находятся сейчас далеко в прерии. В этих мыслях было мало утешительного, а еще меньше — в предположении, что свирепые звери не удовлетворятся съеденным и им придет в голову вскарабкаться на вершину и поискать, нет ли там еще мяса. Последнее было страшнее всего, так как мальчики знали, что на всем плато нет такого места, где можно было бы спрятаться надолго, а спуститься вниз, если медведи обнаружат их и будут преследовать, совершенно невозможно.
Одолеваемые этими страшными мыслями, мальчики стояли на коленях, пригнувшись и осторожно выглядывая из-за листвы алоэ, время от времени шепотом сообщали друг другу разные планы спасения, приходившие им в голову. Но все планы были основаны на слабой надежде, что медведи на некоторое время уйдут из ущелья и дадут братьям возможность спуститься. Никакого другого способа спастись мальчики придумать не могли.
Иногда Базилю приходило в голову хорошенько прицелиться и выстрелить в одного из этих огромных животных. Франсуа горячо приветствовал эту идею, а Люсьен решительно возражал. Он говорил, что это лишь разозлит медведей и сразу приведет их наверх, что одной пулей невозможно убить гризли, если только она не попадет ему в сердце или в мозг, а целясь из-за утеса, было очень мало надежды попасть с такой точностью. Даже если удастся убить одного, другие медведи будут мстить за смерть своего товарища. А одним залпом вряд ли можно будет убить их всех.
Доводы Люсьена восторжествовали, и менее благоразумные братья, оставив мысль о том, чтобы стрелять, продолжали молча сидеть на прежнем месте, глядя вниз.
Почти полчаса мальчики не двигались с места, наблюдая и выжидая. Медведи закончили трапезу, сожрав абсолютно все. Насытились ли они? Нет. Бараний окорок был каплей в море для прожорливых гризли и, казалось, лишь раздразнил их. Звери догадались, откуда пришел их завтрак: сверху, и надо было пойти туда и поискать, нет ли чего на обед. Они подняли морды и посмотрели наверх. Мальчики быстро спрятали головы в листве. Поздно! Медведи увидели их и через минуту уже мчались галопом наверх.
Первой мыслью наших охотников было бежать, и они все вскочили на ноги, но Базиль, вдруг рассердившись, решил попробовать задержать врагов выстрелом. Он навел ружье на ущелье, по которому бежали медведи, и выстрелил. Братья последовали его примеру. Франсуа выстрелил сразу из обоих стволов, которые были заряжены крупной дробью. Один из медведей — это был медвежонок покатился вниз по ущелью, но, после того как раздался залп, мальчики увидели, что самый большой медведь карабкается наверх, яростно рыча. Охотники, у которых не было времени перезарядить ружья, бросились бежать по плато, не зная даже, куда бежать.
Добежав до середины плато, все трое остановились и посмотрели назад. Первый медведь как раз поднимался на утес и в следующее мгновение кинулся за мальчиками. Они надеялись, что куски мяса привлекут внимание медведя и задержат его, но этого не случилось. Мясо лежало в стороне от тропинки; кроме того, зверь был в ярости. Его ранило выстрелом, и он желал отомстить.
Это был ужасный момент. Разъяренное чудовище находилось в трехстах ярдах от наших охотников. Через несколько секунд оно кинется на них, и кто-нибудь из братьев сделается его жертвой…
Но в критические минуты смелые умы находят выход из положения. Таков был Базиль. В других случаях он бывал опрометчив и часто неблагоразумен, но в минуты величайшей опасности становился спокойным и рассудительным даже больше, чем его склонный к философии брат Люсьен. Мысль, которая до сих пор почему-то не приходила в голову никому из них, сейчас, в минуту опасности, вдруг осенила его. Базиль вспомнил, что медведь гризли не умеет лазить на деревья, и, крикнув: «К деревьям! К деревьям!» — в то же мгновение обхватил одну из сосен и стал карабкаться вверх со всем проворством, на какое только был способен.
Люсьен и Франсуа последовали его примеру; каждый влез на ближайшее от него дерево, так как медведь был меньше чем в двадцати шагах от них и не было времени выбирать. Однако, прежде чем медведь приблизился, все трое уже сидели на соснах, забравшись как можно выше.
Медведь подбежал и, увидев, куда они залезли, стал бегать от дерева к дереву, рыча от ярости и досады. Он поднимался на задние лапы и пытался дотянуться до нижних веток передними лапами, точно хотел или подтянуться, или свалить дерево. Гризли набрасывался то на одно дерево, то на другое, яростно тряся их. Он рвал когтями кору деревьев, и она разлеталась в разные стороны большими кусками. Дерево, на котором прятался Франсуа, было совсем тонкое и так дрожало под могучими ударами зверя, что мальчик рисковал упасть на землю. Но страх заставил Франсуа напрячь все свои силы, и он мужественно держался, ободряемый криками Базиля и Люсьена. Вскоре, видя, что ему не удается свалить мальчика, медведь отошел и снова подступил к деревьям, где сидели Базиль и Люсьен. Но и эта попытка кончилась для него неудачей: он только содрал со стволов всю кору на уровне своего роста. Медведь так терзал стволы зубами и когтями, что мальчики боялись, не придет ли ему в голову перегрызть деревья. Он легко мог бы сделать это, но, по счастью, гризли не обладают способностью рассуждать, иначе мальчиков постигла бы ужасная судьба.
Когда наконец медведь понял, что не может ни сломать деревья, ни стряхнуть с них мальчиков, он оставил свои попытки и принялся расхаживать взад и вперед, как часовой, время от времени шумно втягивая в себя воздух и злобно рыча. В конце концов медведь растянулся на земле и, казалось, заснул.
Что случилось с самкой и медвежонком? Оба убиты? Никто из них не появлялся на вершине. Мальчики с деревьев могли видеть каждый дюйм поверхности плато. Стало быть, медведи все еще в ущелье, но неизвестно, живые или мертвые.
Маренго, руководствуясь мудрым инстинктом, не нападал на медведя, а убежал к краю плато и прижался там, дрожа от страха, стараясь не попадаться на глаза опасному врагу.
Теперь положение охотников стало еще хуже, чем раньше. Они не решались слезть с деревьев, так как неминуемо попали бы в пасть чудовища, а долго сидеть верхом на тонких ветвях сосен было очень неудобно. Кроме того, им хотелось пить, очень хотелось пить… Они не взяли с собой воды утром. Солнце невыносимо жгло, а еще разделывая туши, мальчики уже жаловались на отсутствие воды. Теперь они начали страдать от жажды больше, чем от чего-либо другого. Если медведь останется здесь надолго, что с ними станет? Или они упадут и будут растерзаны, или будут медленно погибать, сидя на деревьях. Было только два исхода.
Мальчики не знали, что предпринять. Ружья лежали на земле, там, где их впопыхах бросили. Как спуститься и подобрать их? Оставалось только ждать. Будто для того, чтобы усилить их муки, на равнине вдруг показалось то, что они искали, цель их экспедиции, — животные, которых они так жаждали встретить: бизоны! Далеко в прерии, к юго-западу, виднелось множество черных тел, точно толпы людей в темном одеянии. Они двигались взад и вперед, то сливаясь в одну массу, то разделяясь, как отряды беспорядочного войска. На много миль вокруг зеленая прерия была усеяна огромными темными телами животных, а в некоторых местах их было такое количество, что не было даже видно земли.
Бизоны, казалось, двигались к северу, по лугам, простирающимся между холмом и Льяно Эстакадо. Через несколько минут передние бизоны поравнялись о холмом, и наши юные охотники смогли различить косматые, точно львиные, тела быков, составлявших авангард «отряда». При других обстоятельствах это было бы отрадным зрелищем, но сейчас положение показалось мальчикам еще более невыносимым. Бизоны уходили на север… Если даже удастся как-то спастись, то все равно уже не догнать бизонов. Братья не могли разглядеть среди них ни одного белого, так как основная масса животных была далеко, но представлялось вполне вероятным, что в таком большом стаде можно найти одного или двух белых бизонов.
Вдруг Базиль издал возглас, или, верней, крик радости. Базиль находился на дереве, которое стояло поодаль от других, и благодаря этому ничто на загораживало ему вид на прерии к западу.
— Смотрите! Вон туда, туда! — кричал он. — Смотрите! В середину стада! Видите? Он сияет на солнце! Белый бизон, белый! Ура!
От волнения Базиль говорил несвязно, его трудно было понять, так же как и то, что кричали ему в ответ братья, когда увидели, на что он указывал. Все трое не сомневались, что это в самом деле и есть цель их долгой, трудной охоты — белый бизон. Мальчики громко кричали «ура» и на мгновение забыли об опасности положения. Их крики разбудили гризли, который, лениво поднявшись на ноги, снова принялся рычать и расхаживать между деревьями. Вид этого чудовища внизу сейчас же возвратил охотников к страшной действительности.
Глава 29
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МЕДВЕДЯ
Четыре часа сидели и мучились мальчики на деревьях, то глядя вниз на своего свирепого тюремщика, который неусыпно сторожил их, то на равнину, где темные стада все еще продолжали передвигаться. Четыре часа бизоны шли на север, пока заходящее солнце не окрасило их коричневые тела в красный цвет. Еще раза два мальчикам казалось, что они видели белых бизонов среди стада, но глаза их затуманились от напряжения, а боль во всем теле сделала их теперь безразличными ко всему, кроме собственных страданий. Отчаяние побороло надежду. Мальчики задыхались от жажды, и смерть, казалось, заглядывала им в глаза…
Через некоторое время медведь опять улегся и, прикрыв голову передними лапами, снова уснул. Базиль не мог больше выдержать и решил попытаться спастись. Во всяком случае, он хоть попробует как-то изменить их ужасное положение.
Предупредив братьев, чтобы они молчали, Базиль соскользнул с дерева и, крадучись словно кошка, пополз по земле, ища ружье. Вскоре мальчик нашел его и, вернувшись, снова забрался на свое дерево. Когда Базиль лез, ветви дерева заскрипели, и медведь проснулся. Он вскочил на ноги и побежал к дереву. Еще секунда — и Базилю бы несдобровать. Морда зверя, когда он встал на задние лапы под деревом, почти коснулась ног мальчика. Эта секунда спасла Базиля. В следующее мгновение Базиль уже сидел между ветвями, спокойно заряжая ружье.
Медведь, по-видимому, понял его движения. Будто догадываясь об опасности, он держался подальше от дерева и, расхаживая, теперь впервые нагнулся на остатки туш большерогов. Медведь принялся раздирать и пожирать мясо. Он все еще находился на расстоянии выстрела, но Базиль, который знал, что в случае необходимости сможет перезарядить ружье, решил заставить гризли или отойти дальше, или приблизиться, чтобы попасть в него наверняка. Юный охотник прицелился и выстрелил. Пуля ранила медведя; он повернул голову и стал рвать раненое плечо зубами, все время рыча от ярости и боли. Как это ни странно, он при этом продолжал поедать мясо.
Базиль снова зарядил ружье и выстрелил вторично. На этот раз он попал медведю в шею, и тот еще больше разъярился. Зверь выронил добычу и, кинувшись обратно к деревьям, стал хвататься то за одно, то за другое, опять пытаясь повалить их. Наконец он подошел к дереву, где сидел Базиль, поднялся и схватил ствол в свои яростные объятия. Это было как раз то, чего добивался юный охотник. Базиль быстро зарядил ружье и, когда медведь очутился прямо под деревом, наклонился, так что дуло его винтовки почти касалось морды зверя. Раздался выстрел. Сноп огня попал прямо в глаза медведю, затем последовал звук, будто что-то треснуло. Когда дым рассеялся, стало видно, что огромное тело бьется на земле. Свинцовая пуля сделала свое дело — она попала в мозг, и через несколько секунд косматое чудовище лежало неподвижно на земле.
Мальчики слезли с деревьев, Франсуа и Люсьен побежали за своими ружьями, и все трое, тщательно зарядив их, кинулись к ущелью. Юные охотники не остановились, чтобы осмотреть убитого врага. Жажда подхлестывала их, они думали только о том, чтобы добраться до родника внизу. Они надеялись, что медведица и ее детеныш убиты их первыми выстрелами и теперь дорога свободна.
Каково же было их разочарование, когда, поглядев вниз, в ущелье, они увидели, что медвежонок лежит, скорчившись, на дне, а старая медведица стоит над ним, как часовой! Медвежонок был явно мертв. Тем хуже — ведь мать теперь не покинет его ни на минуту, а оба они находятся прямо на тропинке. Медведица расхаживала взад и вперед, время от времени приближаясь к своему детенышу, подталкивая его тело носом и издавая низкий жалобный стон.
Охотники сразу поняли, что их положение не улучшилось. Отступление было отрезано разъяренной мамашей, которая неизвестно сколько времени будет оставаться здесь. Выстрелить в нее и еще раз попытаться спастись на деревьях? Мучительный опыт заставил мальчиков отвергнуть это решение. Что же тогда делать? Оставаться здесь до ночи и попытаться проскользнуть в темноте? Может быть, медведица уйдет в свою пещеру и дает им возможность пройти? Но они умирали от жажды!
В это время Люсьену пришла в голову счастливая мысль. Он увидел росшие поблизости кактусы. Тут были большие шары эхинокактусов. Он вспомнил, что кактусы часто утоляли жажду путников в пустыне, — ему приходилось читать об этом.
Юные охотники тотчас подошли к этим растениям и разрезали пополам их сочную массу. Они приложили к губам прохладные, влажные волокна и через несколько минут почувствовали облегчение. Жажда была почти утолена.
Медведица все еще занимала ущелье, а пока она оставалась там, не было никакой возможности попасть обратно в лагерь. Однако мальчики видели, что самое лучшее — это дождаться ночи: может быть, темнота поможет им.
Скоро настала ночь, но она оказалась лунной. Братья поняли, что спускаться по ущелью сейчас будет так же опасно, как днем. Они слышали рычание чудовища внизу и знали, что медведица все еще сторожит проход. Если охотники попытаются спуститься, она обнаружит их раньше, чем они сойдут вниз. Она может услышать, как они будут карабкаться в темноте меж кустов. Преимущество окажется на ее стороне, так как она может напасть на них, сама оставаясь незамеченной. Кроме того, даже если дорога будет свободной, трудно спуститься по такому крутому склону ночью. После долгих раздумий решено было дожидаться утра.
Всю долгую ночь мальчики не сомкнули глаз. Они слышали, как внизу ржали кони: бедные животные недоумевали, что случилось с их хозяевами. Крик Жаннет гулко отозвался в горах, ему ответил лай и вой степного волка. Эти звуки, вместе со страшным рычанием медведя, не давали уснуть нашим путешественникам. Они не решались заснуть иначе, как взобравшись на дерево, — ведь медведица в любой момент могла прийти на вершину. Но спать на тонких ветвях горной сосны не так-то приятно, и все трое предпочли бодрствовать.
Наконец стало рассветать, и юные охотники увидели, что косматый часовой все еще находился на посту. Медведица сидела на прежнем месте, как бы охраняя своего мертвого детеныша. Нетерпение мальчиков, особенно Базиля, начало возрастать. Они были голодны. Правда, оставалось немного мяса, но им хотелось еще и пить. Сок кактусов облегчил, но не утолил жажду. Мальчики мечтали о глотке прохладной воды. Бизоны ушли к северу, их теперь не догнать. Может быть, никогда больше не представится возможность добыть то, ради чего три брата перенесли столько лишений! Эти мысли беспокоили их всех, особенно Базиля. Необходимо было вырваться из плена и спуститься на равнину.
Базиль придумал такой план: раздразнить медведицу, выстрелив в нее. Она погонится за ними, убеждал он, как тот, первый, и судьба ее будет такова же. Это могло удаться, но эксперимент был опасным. Люсьен предложил двоим из них пойти по краю пропасти, чтобы исследовать ее более тщательно, в то время как третий будет сторожить медведя. Может быть, удастся все-таки найти какую-нибудь другую тропинку, которая ведет вниз. На это было мало надежды. Но на то, чтобы поискать, уйдет всего несколько минут, и поэтому предложение Люсьена было принято.
— Если бы только у нас была веревка, — сказал Франсуа, — мы спустились бы с утеса, и тогда старая гризли могла бы остаться там хоть навсегда, если ей так хочется.
— Подождите-ка! — воскликнул Базиль. Ему вдруг пришел в голову какой-то новый план. — Какие же мы глупцы! Почему мы раньше не подумали об этом? Бежим скорее! Я спущу вас в мгновение ока. Идемте!
С этими словами Базиль быстро зашагал туда, где они свежевали большерогов. Он вытащил свой охотничий нож, и, расстелив одну из шкур, стал разрезать ее на длинные ремни. Люсьен, сразу поняв его план, стал помогать ему. Франсуа был отослан к ущелью наблюдать за медведицей.
Через несколько минут братья разрезали обе шкуры, скоро вся земля вокруг них покрылась длинными ремнями. Юные охотники крепко связали их, вставляя в узлы поперек кусочки сосновых веток. Наконец у них получился канат из сырой кожи более сотни футов длиной.
Мальчики подошли к краю утеса, где росла сосна, и обвязали один конец каната вокруг ствола. К другому концу они привязали Маренго и три ружья (к этому времени Франсуа уже вернулся) и вместе со всем этим — большой камень, чтобы попробовать прочность каната, прежде чем кто-нибудь из них рискнет спуститься по нему. Все это было благополучно спущено и скоро лежало на земле внизу.
Теперь канат был туго натянут вверху, а вес камня, который был так тяжел, что Маренго не мог его сдвинуть, натягивал канат снизу. Франсуа соскользнул по канату первым. Это не составило для него особого труда, так как куски дерева в узлах создавали как бы ступеньки, которые не давали ему скользить слишком быстро. Затем последовал Люсьен и, наконец, Базиль, и меньше чем через полчаса все трое уже были в безопасности в прерии.
Мальчики не стали тратить времени даром, отвязали Маренго и поспешили к лошадям, поймали их и оседлали. Теперь, когда в любую минуту можно было вскочить на коней, наши охотники почувствовали себя в безопасности.
Однако они решили больше не оставаться у холма, а уехать от него тотчас, как только поедят. Они разожгли небольшой костер и наскоро изжарили кусок медвежатины.
Базиль хотел было верхом поехать обратно и напасть на медведицу в ущелье, но более благоразумный Люсьен отговорил его.
Держа лошадей наготове, наши путешественники уложили все лагерные пожитки, взвалили их на Жаннет и опять пустились в путь.
Глава 30
ГРИФЫ И ИХ КОРОЛЬ
Мальчики повернули лошадей на запад. Они намеревались ехать в этом направлении, пока не увидят следы бизонов, и тогда, повернув на север, поехать по следам и постараться нагнать большое стадо. Это был явно наиболее разумный план.
Когда охотники проезжали мимо западного склона холма, их внимание привлекла стая больших птиц. Это были грифы. Теперь мальчики вспомнили дикого барана, который упал с утеса, и, взглянув вверх, увидели, что его тело все еще раскачивается на дереве. Оно-то и привлекло грифов.
Их было много — больше сотни. Одни парили в воздухе, другие сидели на вершине утеса или на ветвях сосен, а несколько птиц кружили над телом большерога, время от времени садясь на его застывшие конечности. Они уже выклевали глаза животного, но не могли еще справиться с твердой шкурой.
Эти птицы были больше воронов и на расстоянии казались абсолютно черными, но при ближайшем рассмотрении можно было разглядеть примесь коричневатых перьев; у одних это больше бросалось в глаза, чем у других, потому что здесь были птицы двух разных пород — индюковый гриф и черный гриф.
Наши мальчики прекрасно знали их, так как обе эти породы встречаются в Луизиане и во всей южной части Соединенных Штатов. Невнимательный наблюдатель принял бы обе породы за одну, но в них есть различия, которые сразу бросились бы в глаза натуралисту. Индюковый гриф гораздо красивее и более грациозен как в воздухе, во время полета, так и на земле. Его крылья длиннее и их оперение ярче, а хвост более заостренный. Кожа его голой шеи и головы, а также ног красноватого или телесного цвета, у черного же грифа — серовато-черная от пуха, которым слегка заросла кожа. Этих птиц легко различить в воздухе. Черный гриф летит довольно тяжело, часто и быстро взмахивая крыльями, а затем держит их горизонтально в течение ста или больше ярдов, расправив непропорционально короткий хвост словно веер.
Индюковый гриф, наоборот, свободно держит крылья, не горизонтально, а слегка вверх. В этом положении он может парить четверть мили без единого взмаха крыльев и лететь при этом не вниз, как можно предположить, а по прямой или довольно часто даже вверх. Как он достигает этого движения вверх неизвестно.
Некоторые предполагают, что он обладает способностью подниматься на потоках нагретого воздуха; это дает ему возможность планировать вверх без помощи крыльев. В этой теории нет особой ясности, и еще требуется проверить ее на опыте. Другие говорят, что он двигается вверх по инерции, которую уже приобрел, предварительно спустившись с такой же или с еще большей высоты. Однако это неверно, так как можно часто видеть, как индюковый гриф поднимается таким образом после того, как долго летел по горизонтали.
Как бы то ни было, очень интересно наблюдать такую птицу, когда ее широкие крылья выделяются на фоне голубого неба и она плывет то кругами, то горизонтально, то взмывает вверх или описывает волнообразную кривую. Это прекрасное и волнующее зрелище.
Индюковый гриф — более благородная птица, чем черный гриф. В нем есть что-то общее с орлом. Правда, оба они питаются падалью, как все стервятники, но индюковый гриф питается и другой пищей: он охотится за змеями, ящерицами и мелкими четвероногими. Когда представляется удобный случай, он нападает и на маленьких ягнят или поросят. Черный гриф тоже проделывает все это, но не часто. Однако ни тот, ни другой не причиняют в этом отношении большого вреда: они питаются животными в порядке исключения, а не как правило. Они делают это, вероятно, движимые сильным голодом, когда нет никакой другой пищи. Обе породы живут общинами, хотя и не всегда появляются стаями. В особенности индюковых грифов часто можно видеть охотящимися в одиночку или парами, а иногда и втроем; но уклад жизни этих птиц заставляет их объединяться большими стаями. Они часто собираются вместе — индюковые и черные грифы, всего около сотни, — у одной какой-нибудь падали.
Индюковых грифов обычно бывает меньше, чем черных грифов, которые составляют примерно три четверти такой стаи. Индюковые грифы — более робкие птицы, они менее расположены к тому, чтобы держаться стаями. Говорят, что они не живут стаями, поскольку их часто видят высоко в воздухе в одиночку, однако вполне достоверно, что они не только устраиваются на ночлег вместе, но даже часто объединяются с черными грифами.
В большинстве стран гриф — привилегированная птица. Его рассматривают как дешевого и полезного «мусорщика», очищающего скелеты мертвых животных, которые иначе отравляли бы атмосферу. Это очень важно в жарких странах, и только в таких странах обычно встречаются грифы. Какой прекрасный пример совершенства законов природы! Когда вы попадаете в высокие широты и холодные страны, где воздух не так быстро заражается разлагающимися веществами, необходимости в таком «мусорщике» уже нет, и его можно редко встретить. Здесь большие стервятники уступают место обыкновенному черному ворону.
Грифы, как я сказал, — привилегированные птицы. В большинстве стран они охраняются законом. Так обстоит дело в Соединенных Штатах и в Латинской Америке, где за убийство грифа взимается штраф. В результате, их очень редко истребляют, и во многих местах эти птицы так привыкли к человеку, что позволяют подойти к себе на несколько футов. В городах и деревнях Южных штатов они садятся прямо на улицы и спят на крышах домов. То же самое происходит в городах Мексики и Южной Америки, где встречаются обе эти породы.
Как только наши юные охотники поравнялись с утесом, где находились грифы, они остановили лошадей и решили немного задержаться, чтобы понаблюдать за птицами. Мальчикам было любопытно посмотреть, как они расправятся с добычей, так неудобно расположенной: ведь труп симмарона висел над пропастью. Охотники не сошли с лошадей, а остались в седлах неподалеку от утеса. Грифы, конечно, не обращали на них внимания; они продолжали слетаться и усаживаться на край пропасти и на обломки скал у подножия, будто никого рядом не было.
— Как индюковые грифы похожи на индеек! — заметил Франсуа.
— Да, — ответил Люсьен, — поэтому их так и называют — индюковые грифы.
Замечание Франсуа было вполне естественным. Не существует двух других таких птиц, не принадлежащих к одному и тому же виду, которые были бы так похожи друг на друга, как индюковый гриф и обыкновенная домашняя черная индейка, которая, так же как гриф, имеет обычно коричневатый оттенок. Они так похожи, что на расстоянии ста ярдов я часто путал их. Однако это сходство не распространяется дальше внешнего вида. Почти во всех других отношениях они очень существенно различны.
— Кстати об индюковых грифах, — сказал Люсьен. — Я вспоминаю забавный рассказ о них.
— О, расскажи, пожалуйста! — попросил Франсуа.
— С удовольствием, — ответил Люсьен. — Этот рассказ является иллюстрацией того, насколько белые хитрее индейцев, и хорошим показателем честности и справедливости, которую часто проявляют индейцы в своих взаимоотношениях с белыми.
Вот эта история.
Белый и индеец поехали вместе на охоту. Они договорились, что вечером разделят всю свою дичь поровну, вне зависимости от того, кто убил больше. Во время охоты индеец подстрелил индейку, а белый охотник — индюкового грифа, и эти две птицы было все, что им удалось встретить за целый день. Результаты охоты сложили вместе, и теперь возникла трудность, как поровну разделить дичь.
Оба достаточно хорошо знали ценность хорошей, жирной индейки, и оба так же хорошо знали совершенную непригодность индюкового грифа, который действительно ничего не стоит, так как от него отвратительно пахнет.
Было очевидно, что единственно справедливый способ дележа — это разрезать индейку на две равные части и каждому взять по половине. Белый, однако, не соглашался: он предложил, что один из них возьмет индейку, а другой — грифа.
«Жалко, — говорил он, — портить птиц. Лучше каждый из нас возьмет по целой».
«Хорошо, — сказал индеец. — Будем тянуть жребий».
«Да нет, — ответил белый, — не стоит. Я поступлю с тобой по справедливости. Я возьму индейку и разрешу тебе взять индюкового грифа, или ты можешь взять грифа, а я возьму индейку».
Индеец понял, что в обоих случаях ему достается гриф; но он не умел доказать, в чем несправедливость предложения белого, и был вынужден, хотя и неохотно, принять его.
Итак, белый охотник взвалил на плечо индейку и отправился домой, оставив бедного индейца в лесу без ужина.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Франсуа. — Каким же простаком был, должно быть, этот индеец, раз его так легко обманули!
— Он был не единственный краснокожий, которого подобным образом обманул белый, — сказал Люсьен. — А сколько оловянных долларов получили эти простые сыны лесов в обмен на звериные меха и шкуры! Я слыхал, что один очень богатый торговец мехами, теперь уже умерший, заложил основу своего огромного состояния именно таким путем. Но мои подозрения не имеют доказательств, и поэтому я не могу утверждать это как факт.
Может быть, какой-нибудь историк в один прекрасный день будет критиковать даже одного «доброго» американца, который, как говорят, купил у индейцев три квадратные мили земли, но позаботился, чтобы ее отмерили в количестве трех миль в квадрате. Я надеюсь, что это неправда.
Но, как ты видишь, нечестность не принадлежит исключительно какому-нибудь одному веку или одной нации. Она существовала в прошлом и будет существовать в дальнейшем, до тех пор, пока люди, становясь все более и более образованными, не будут движимы в своей деятельности более высокими побуждениями, нежели жаждой наживы. Я верю, что в далеком будущем настанет такое время…
Разговор опять перешел на грифов. Их теперь собралось по меньшей мере две сотни, и количество их все возрастало. Когда прилетали новые, они некоторое время кружили в воздухе, затем снижались и садились на деревья или скалы. Некоторые сидели сжавшись, с опущенными крыльями, втянув головы так, что их длинные обнаженные шеи были совершенно скрыты в перьях «воротников», похожих на жабо. Другие стояли прямо, приподняв оба крыла, наполовину распустив их и «подбоченясь», как можно часто видеть орлов и как их обычно изображают на монетах и знаменах. Предполагают, что грифы и орлы распускают так крылья, чтобы охладиться, когда им жарко, или погреться на солнце, когда холодно, ибо они делают это как в холодную, так и в теплую погоду и в этом положении выглядят очень своеобразно и довольно красиво.
Грифы все прибывали.
Некоторые постепенно снижались с большой высоты. Они казались маленькими пятнышками в голубом небе, которые все росли и росли, пока огромные крылья не начинали отбрасывать тень на залитую солнцем поляну, когда птицы скользили по спирали вниз. Другие приближались по горизонтальному направлению; когда их впервые замечали издали, они казались не больше воробьев.
— Какое большое расстояние, должно быть, они пролетают, — заметил Франсуа. — И как, по вашему мнению, они узнают, куда лететь? Когда мы убили этих большерогов, ни одной птицы не было видно.
— Их привлек, конечно, запах, — ответил Базиль. — У грифов очень сильное чутье…
— Нет, брат, — прервал его Люсьен, — это одна из ошибок кабинетных натуралистов, которые распространяли подобное мнение, пока оно не вошло в поговорку. Как это ни странно, такое утверждение полностью ошибочно. Доказано, что грифы обладают чувством обоняния даже в меньшей степени, чем большинство других животных. Собаки и волки намного превосходят их в этом отношении.
— Как же они тогда обнаружили, например, эту падаль?
— При помощи зрения. Вот оно у них действительно развито в наивысшей степени!
— Но как же так, Люс? — спросил Базиль. — Посмотри, вон с запада летят несколько птиц. Если холм находится между птицами и большерогом, каким образом они могли увидеть мертвое животное?
— Я и не говорю, что они увидели его сами, но они увидели тех птиц, которые видели других, которые, в свою очередь, увидели третьих, а те уж действительно сами своими глазами видели падаль.
— О, я понимаю! Ты имеешь в виду, что кто-то один или несколько из них первые обнаружили тело барана, а когда летели сюда, их заметили издали другие, а за теми, которые последовали за ними, в свою очередь полетели другие, находящиеся еще дальше, и так далее.
— Вот именно. Это и объясняет фантастические рассказы о стервятниках, которые чувствуют падаль на расстоянии нескольких миль. Ни одна из этих историй не является правдой, они распространялись людьми, которые, может быть, никогда и не видели грифов в их родной стихии, но, чтобы сделать свои книги более развлекательными, с готовностью использовали преувеличенные рассказы каждого Мюнхгаузена[241], какого только доводилось встретить.
— Твоя теория, Люсьен, конечно, наиболее правдоподобна.
— Она верна. Это доказано многими опытами с грифами. Все такие опыты доказали, что эти птицы ни в коей мере не обладают острым чувством обоняния. Наоборот, оно у них исключительно слабое, и, я думаю, для них это очень хорошо, если принять во внимание, какой пищей они питаются.
— Эта стая, должно быть, слетелась со всех сторон, — заметил Франсуа. — Мы видели, что они летят и с севера, и с юга, и с запада, и с востока. Некоторые из них, очевидно, пролетели миль по пятьдесят…
— Возможно, что и все сто, — сказал Люсьен. — Такое путешествие для них сущий пустяк. Если бы я знал точно, когда первый из них увидел мертвого большерога, я мог бы сказать, какое расстояние пролетел каждый, то есть каждый из тех грифов, которые прилетели сюда на наших глазах.
— Но как же ты мог бы это сделать, брат? — спросили изумленные Базиль и Франсуа. — Пожалуйста, расскажи нам!
— Я бы вычислил так: прежде всего они все начали свой полет одновременно…
— Одновременно? — прервал его Базиль. — Как это может быть, если некоторые из них находились в сотне миль отсюда?
— Неважно, на каком расстоянии, — ответил Люсьен, — это все равно. Они все начали свой полет с разных мест, но почти одновременно. Непонятно? Эти птицы, выслеживая добычу, проделывают в воздухе огромные круги. Каждый из этих кругов захватывает большой участок земли внизу. Окружности приближаются друг к другу или пересекаются. Таким образом, вся земля внизу находятся под наблюдением птиц. Как только один из грифов во время полета обнаруживает своим зорким глазом падаль, он немедленно снижается и летит вниз. Его видит тот, который кружит близко от него, и, хорошо понимая, почему изменил направление товарищ, тотчас следует за первым, а за ним, в свою очередь, летит другой, и так далее, до конца цепи…
— Но как один может догадаться, что второй полетел к добыче? — спросил Франсуа, прерывая объяснение Люсьена.
— Допустим, ты увидел Базиля далеко в прерии, — разве ты не мог бы определить по его движениям, когда он обнаружил дичь и начал преследование?
— Да, конечно, я легко мог бы догадаться.
— Ну вот, грифы, у которых гораздо более острое зрение, чем у тебя, прекрасно понимают малейшее движение друг друга, поэтому они легко могут понять, когда один из них имеет на примете хороший обед… Я думаю, что мне удалось доказать, — продолжал Люсьен, — что все они начинают свой полет в одно и то же время, с разницей в несколько секунд; а так как они летят к намеченной цели почти по прямой, то если бы мы знали скорость их полета, нам оставалось бы только заметить время их прибытия, чтобы вычислить, какое расстояние они пролетели. Конечно, предполагается, что мы уже заметили время, когда прилетел первый из них. Если мы предположим, — сказал Люсьен, указывая на грифов, — что первый из этих грифов прилетел сюда два часа назад, и приблизительно возьмем скорость полета тридцать миль в час, мы можем с уверенностью сделать вывод, что некоторые из тех, которые сейчас прилетают, проделали в это утро путешествие в шестьдесят миль. Что вы думаете о моей теории?
— Она по меньшей мере очень интересна, — ответил Базиль.
— Но чего они теперь дожидаются? — поинтересовался Франсуа. — Почему они сразу же не принимаются пожирать большерога?
Вопрос Франсуа был вполне естественным. Большинство птиц, вместо того чтобы наброситься на труп, сидели, как мы уже видели, на скалах и деревьях некоторые из них с равнодушным видом, будто не были голодны и вовсе не собирались есть большерога.
Базиль попробовал объяснить.
— Несомненно, — сказал он, — они ждут, когда мясо начнет разлагаться. Говорят, что они предпочитают его в таком состоянии.
— И это, — заметил Люсьен, — является вторым утверждением, которое не имеет никакого основания. Грифы вовсе не предпочитают мясо а разложившемся виде — наоборот, они, конечно, гораздо больше любят свежую пищу и охотно едят ее, если представляется возможность
— А что же им теперь мешает? — спросил Франсуа.
— Им мешает толстая шкура. У этих птиц нет такой большой силы в когтях, как у орлов, иначе от большерога уже давно остался бы один скелет, Они выжидают, чтобы шкура стала мягче под действием гниения, и тогда они смогут разодрать ее.
Это было явно правильное объяснение, так как мальчики видели, что каждый из вновь прибывших налетал на труп, но, обнаружив, что ничего не может с ним поделать, отлетал прочь и спокойно усаживался на камни или деревья.
Однако за то время, пока мальчики наблюдали, некоторые птицы, наиболее жадные, обнаружили отверстие в шкуре животного в том месте, где в тело попала пуля Базиля, и теперь поспешно расширяли это отверстие. Другие, увидев это, начали слетаться поближе, и не прошло и пяти минут, как дерево все почернело от этих отталкивающих птиц, которые все сгрудились на его ветках. Несколько грифов уселись на ногах и рогах самого животного, и скоро не осталось ни одного свободного места.
Но тяжесть всех этих птиц вместе с тяжестью трупа дикого барана оказалась слишком большой для корней сосны. Послышался громкий треск, за которым последовал резкий крик грифов, поспешно взлетевших в воздух, и, когда сломанное дерево наклонилось, тело большерога полетело на землю и упало вниз, на камни.
Среди птиц произошло большое смятение, и на мили кругом можно было слышать, как они торопливо захлопали своими огромными крыльями; но их страх скоро прошел, и все они опять уселись около мертвого животного.
Случившееся, пожалуй, было им даже на руку. Уже начавшее разлагаться тело от падения с большой высоты на острые камни разбилось, и шкура треснула. Этим сейчас же воспользовались отвратительные птицы; сначала одна, потом другая подлетала к нему и начинала свою ужасную трапезу.
Через несколько секунд грифы уже все сгрудились над телом, шипя, как гуси, ударяя друг друга крыльями, клювом и когтями и демонстрируя такую картину волчьего голода и злобы, которую трудно описать.
Юные охотники решили остаться еще некоторое время и понаблюдать за птицами; они сошли с лошадей, чтобы дать им отдохнуть.
Теперь внимание мальчиков привлек новый интересный представитель пернатых. Его обнаружил Франсуа, который часто поглядывал вверх, наблюдая за грациозными движениями трех грифов, которые были еще в воздухе. Неожиданно он закричал:
— Белый гриф! Белый гриф!
Люсьен и Базиль посмотрели туда, куда указывал Франсуа. Они увидели действительно белую птицу; но какой она была породы, никто не мог понять. Она летела на большой высоте, явно выше, чем любой из грифов, но даже на такой высоте казалась крупнее всех их. Она тоже летела легко — ведь небо было ее родной стихией.
Когда мальчики заметили эту птицу впервые, она казалась величиной с чайку, и ее вполне можно было принять за чайку — ни одна другая белая птица обычно не летает на такой высоте; но если около нее было несколько грифов, которые, находясь явно ниже ее, все же выглядели не крупнее ласточек, то каков же должен быть размер этой птицы? Она была не только крупнее индюкового грифа она была раза в три больше любого из них.
Так рассчитал Люсьен, и его расчет был недалек от истины.
Следовательно, эта странная птица не могла быть чайкой.
Кто же это? Лебедь? Нет. Ее полет не напоминал ни короткие, быстрые взмахи крыльев лебедя, ни полет любой другой водоплавающей птицы. Может быть, это пеликан? Или белый ибис? Или белая цапля? Нет, ни одна из этих птиц. Любой из мальчиков сразу узнал бы медленный, тяжелый полет этих больших болотных птиц, так как юные охотники часто видели их парящими над реками Луизианы. Но эта птица летела совсем по-другому. Она взмахивала крыльями почти так же, как сами индюковые грифы или черные грифы; но, поскольку мальчики никак не могли предположить, чтобы так летала какая бы то ни было белая птица, они и недоумевали. Ее величина и характер полета заставляли их думать, что это орел, но цвет птицы опровергал такое предположение. Никто никогда не слышал о существовании белых орлов.
Я сказал, что, когда Франсуа впервые заметил эту странную птицу, она казалась величиной с чайку, но, пока юные охотники стояли и смотрели на нее, они увидели, что она постепенно становится все больше и больше. Поэтому они определили, что она спускается и, по всей видимости, прямо туда, где находились наши охотники и грифы. Все трое очень заинтересовались, что это за существо и надеялись, что птица снизится. Она, конечно, уже заметила их, и поэтому было бессмысленно пытаться спрятаться. Собственно говоря, если бы они и хотели этого, спрятаться им было некуда.
Так они стояли, наблюдая и поджидая, и вдруг все трое одновременно вскрикнули. Показалась еще одна белая птица! Она была еще высоко, как комочек снега в небе, но она тоже снижалась, следом за первой, и казалась той же породы. Скоро это стало ясно, поскольку вторая, спускаясь более вертикально, вскоре догнала первую, и обе продолжали снижаться по спирали.
Через несколько минут они были в двухстах ярдах от земли и теперь медленно кружили, глядя вниз.
Птицы находились непосредственно над тем местом, где были грифы, и так как день был очень ясный, мальчики получили возможность наблюдать двух самых красивых птиц, которых когда-либо видели. Птицы были не все белые, а только казались такими, если глядеть на них снизу, но, когда, кружа в воздухе, они слегка наклонялись вбок, можно было ясно разглядеть их спины. Тогда было заметно, что верхняя часть их тела была кремового цвета, перья крыльев блестящие коричневые, на хвостах черные пятнышки, а весь низ тела — белый как молоко. Но интереснее всего были головы и шеи птиц — совершенно голые до плеч, где шею окружало большое кольцо из перьев, которое выглядело, как палантин. Голая кожа головы и шеи отливала ярко-красным и оранжевым цветом. Эти цвета не были перемешаны: каждый принадлежал отдельной части кожи и имел отчетливые и правильные очертания. Клюв птицы был оранжево-красный, и вокруг него имелись выступы, похожие на петушиный гребешок. Зрачки глаз — темные, а радужная оболочка — белая, окруженная темно-красным кольцом; короче говоря, вся внешность этих красивых существ была такова, что, однажды увидев, их нельзя уже забыть.
— Я никогда не видел таких птиц раньше, — сказал Люсьен, — но мне нетрудно определить, кто это.
— Кто? — нетерпеливо опросили Базиль и Франсуа.
— Королевские грифы.
Птицы, которые, казалось, не обращали внимания на присутствие мальчиков, вдруг снизились к мертвому животному. Мальчики следили за ними взглядом; им было интересно, какое впечатление произведет прибытие новых птиц на грифов. Ко всеобщему удивлению, ни одного из них не было уже видно около трупа! Пока внимание охотников было направлено на королевских грифов, другие птицы тоже увидели их и, зная по опыту, что представляют собой эти огромные птицы, стремительно разлетелись и теперь сидели на скалах на почтительном расстоянии.
Королевские грифы, не обращая внимания на их присутствие, приблизились к трупу животного и начали раздирать его на части клювами. Через несколько минут эти существа, которые казались такими чистыми и красивыми — ибо королевские грифы так же гордятся своим оперением, как павлины, и обычно содержат его в полном порядке, — представляли собой такую отталкивающую картину, на которую было противно смотреть. Яркий оттенок их голов и шей сменился темно-кровавым, а белоснежная грудь забрызгалась кровью. Прожорливость хищников сделала их безразличными ко всему остальному.
— А не застрелить ли нам одного? — спросил Франсуа.
— Нет, — сказал Люсьен, — зачем лишать жизни бедное существо? Если ты хочешь посмотреть на них поближе, имей терпение, и твое желание будет удовлетворено без затраты пороха и свинца.
Слова Люсьена скоро подтвердились. Примерно через полчаса птицы наелись до отвала и, отяжелевшие, начали медленно расхаживать по земле. Мальчики выбежали теперь вперед и, увидев, что грифы не в состоянии подняться в воздух, после небольшой погони, в которой большую роль сыграл Маренго, поймали их обоих.
Но едва Франсуа, которому больше всех не терпелось схватить грифов, дотронулся до одного из них, как сейчас же отпустил птицу с восклицанием отвращения и побежал прочь быстрее, чем та от него.
Зловоние, которое распространяли птицы, было совершенно невыносимо для обоняния наших героев, и все трое были рады отпустить королевских грифов как можно скорее.
Возвращаясь к своим лошадям, юные охотники заметили, что грифы опять собираются вокруг останков большерога. К грифам присоединились несколько койотов, которые рычали и огрызались, то отгоняя птиц, то получая от них удары крыльями, что заставляло койотов рычать еще яростнее прежнего. Наши путешественники не стали дожидаться финала этой омерзительной сцены, а сели на коней и снова пустились в прерии.
Глава 31
ЕЩЕ О ГРИФАХ
По дороге от холма мальчики беседовали о грифах. Натуралист Люсьен мог много рассказать об этих интересных птицах, а любопытство Базиля и Франсуа было возбуждено появлением новой для них разновидности — королевскими грифами.
— Все грифы так схожи по внешнему виду и повадкам, что их можно рассматривать как один род, — рассказывал братьям Люсьен. — Грифы часто убивают свою добычу так же, как и орлы, и совершенно очевидно, что они не предпочитают ее в разложившемся состоянии. Орлы не всегда питаются свежей, убитой ими добычей, многие из них едят и падаль. Некоторые близкие родичи грифов, как, например, ягнятник, имеют почти такие же повадки, как орел. Известен интересный факт относительно этой птицы: она предпочитает определенные части костей животного его мясу.
Удивительно, какими точными сведениями располагал этот юный любитель природы! Мне самому рассказал об этом один из служителей прекрасной коллекции птиц в Регентском парке. Служитель обнаружил, что один молодой африканский ягнятник любит есть кости. Он также заметил, что в те дни, когда птица питается своей любимой пищей из костей, она выглядит более здоровой и находится в хорошем настроении.
— Возможно, — продолжал Люсьен, — что одно из наиболее существенных различий между грифом и орлом заключается в когтях. Когти грифа менее развиты, и их лапы не обладают такой силой, как лапы орлов. Поэтому грифы почти не способны убить животное или растерзать его труп. Кроме того, они не в состоянии поднять добычу, держа ее в когтях, и рассказы о том, будто грифы уносят оленя или взрослую овцу, — просто вымысел. Даже кондор, самый крупный из пернатых хищников, не может поднять на воздух больше десяти фунтов. Олень такого веса был бы уж очень маленьким, думается мне. Большинство удивительных историй о кондорах распространялось открывателями и завоевателями Испанской Америки — величайшими хвастунами, которых только знал мир. Мои слова полностью подтверждаются книгами, которые они оставили после себя, и я думаю, что их описания мексиканских и перуанских народов, порабощенных ими, нисколько не меньше преувеличены, чем рассказы о кондорах.
— Сколько видов грифов имеется в Америке? — спросил Франсуа, которого больше интересовало настоящее, чем прошлое, и который, как мы уже отмечали, был большим любителем птиц.
— Хорошо известно пять видов, — ответил Люсьен. — Они так не похожи друг на друга, что их нетрудно различить. Эти пять видов составляют два рода: саркорамфы и катарты.
Саркорамф имеет мясистый нарост над клювом, отсюда и название рода, которое состоит из двух греческих слов, обозначающих «мясо» и «клюв». Катарт, или «изрыгающий гриф», получил свое название от своеобразной привычки изрыгать пищу не только при кормлении птенцов, но и тогда, когда в период высиживания яиц они кормят друг друга.
Кондор — настоящий саркорамф; одним из характерных признаков этой птицы является мясистый хрящевой гребень, который увенчивает его голову и часть клюва. Однако это встречается лишь у самцов, а у самок гребней нет. Кондор, когда он в своем полном оперении, — белый с черным. Его тело снизу, хвост, основание крыльев, так же как их окаймление, — все это темного, почти черного цвета; но когда крылья сложены, он становится серовато-белым от спины до хвоста. Пушистое кольцо вокруг груди и шеи — молочно-белое, обнаженная морщинистая кожа шеи и головы — черновато-красная или бордо, ноги пепельно-голубые. Эти цвета кондор приобретает только по взрослом состоянии, в возрасте около трех лет, а до этого времени у него нет белого «воротника» вокруг шеи.
Птенцы еще много месяцев после того, как вылупятся, не имеют перьев, а покрыты мягким густым пухом, как гусята или молодые лебеди, и даже в два года еще не приобретают черно-белую окраску, а выглядят грязно-коричневыми.
Размах крыльев взрослого кондора обычно равняется восьми футам, но бесспорно существуют — и их видели путешественники — и такие, размах крыльев которых достигает четырнадцати футов и нескольких дюймов.
Кондор, как и другие стервятники, питается главным образом падалью; но когда он очень голоден, то убивает овец, викунью, молодых лам, оленей и других животных. С большими животными он расправляется, выклевывая им глаза могучим клювом, который является его основным оружием.
Если он может убить взрослую овцу или викунью, нет ничего удивительного, что он может сделать то же самое с пяти-шестилетним ребенком, и действительно, такие случаи имели место.
Почти каждый орел может убить ребенка и нападает на детей, если он голоден и видит детей, оставленных без присмотра.
Однако кондор — пожалуй, самая прожорливая из всех птиц этой породы. Известно, что один кондор в неволе съел за день восемнадцать фунтов мяса. Но то, что эта птица может подняться в воздух, держа в когтях крупных животных например, оленя или овцу, как утверждают некоторые французские и испанские писатели, — совершенная выдумка.
Кондор, в противоположность стервятникам большинства стран, не охраняется законом. Его хищные повадки в отношении ягнят, молодых лам и альпага скорее заставляют преследовать его, нежели охранять. Поэтому его убивают или ловят всякий раз, когда представляется такая возможность. Его мясо и перья мало на что пригодны, но, поскольку он представляет собой интерес, его нередко держат как домашнюю птицу чилийцы и перуанцы. Живых кондоров часто продают на базарах в Вальпараисо и других городах Южной Америки.
Туземное население при охоте на кондора применяет различные способы. Иногда охотники лежат в засаде около трупа животного и подстреливают птицу, когда та садится; но убивать их таким способом трудно, так как у кондоров очень плотное, густое оперение и они вообще чрезвычайно живучи — их можно убить, только если пуля попадет прямо в сердце. Поэтому данный способ применяется редко. Второй способ — это подождать, пока кондор насытится до предела, и тогда он, как большинство других стервятников, некоторое время не в состоянии взлететь. Охотники подъезжают к кондору на лошадях и кидают лассо или мешают птице взлететь, обвивая ей ноги при помощи «болас». Болас представляют собой длинные, узкие ремни со свинцовыми шарами на концах; если их ловко кинуть, они обвиваются вокруг ног кондора и не дают ему улететь. Третий способ еще более верный. Охотники строят большой загон, куда помещают много падали. Частокол, окружающий загон, делают таким высоким, что, когда птица наедается, она не в состоянии подняться в воздух и перебраться через загородку; тогда ее ловят или убивают дубинками. Индейцы убивают кондоров камнями, кидая их на большое расстояние при помощи пращи, — они необыкновенно ловко пользуются этим видом оружия.
Живых кондоров ловят капканами и силками; индейцы Сьерры применяют иногда несколько своеобразный, но отличный способ, заключающийся в следующем: охотник берет свежесодранную шкуру какого-нибудь животного, быка или лошади, на которой остался еще кусок мяса. С этим охотник выходит на открытое место, где кондоры, которые кружат высоко в небе, могут легко увидеть его. Выбрав подходящее место, охотник ложится на землю, а шкуру, мясом вверх, надевает на себя. Ему недолго приходится ждать: какой-нибудь из кондоров, зорким глазом обнаружив окровавленный предмет, спускается на землю. Ничего не подозревая, птица смело вспрыгивает на шкуру и начинает пожирать мясо. Охотник под шкурой осторожно нащупывает одну из ног птицы и крепко хватает ее, обмотав свободными складками шкуры. Запасшись предварительно длинной веревкой, он быстро завязывает ее вокруг ноги кондора и, взяв другой конец в руку, появляется из-под шкуры перед удивленным пленником. Конечно, во время всей этой операции кондор бьет крыльями и изо всех сил вырывается, и, если бы охотника не защищала шкура, он мог бы потерять глаз или вообще птица исклевала бы его своим сильным клювом.
Когда охотник уже как следует поймал добычу, он пропускает кожаный ремень через ноздри птицы и, хорошенько завязав его, ведет кондора с триумфом домой.
Таким же образом птицу можно держать на привязи столько времени, сколько потребуется. Сквозь ноздри пропускается веревка, другой конец которой закреплен на колышке, вбитом в землю, и пленник имеет возможность свободно ходить по кругу. Иногда, забыв, что он привязан, кондор пытается взлететь, но внезапный рывок возвращает его обратно, и при этом он всегда падает на голову.
— Но как же получается, — спросил Франсуа, — что они еще не истреблены, если на кондоров охотятся таким способом и так легко ловят их? Они такие громадные, всякий может видеть их на значительном расстоянии, и, мне кажется, к ним легко подойти; и все же существуют целые стаи этих птиц, не правда ли?
— Ты совершенно прав, — ответил Люсьен, — их еще много в Андах Чили и Перу. Мне думается, я могу объяснить это тебе. Это происходит потому, что у кондоров сеть безопасное место не только в то время, когда они выводят птенцов, но и в любое другое время, когда им только понадобится спрятаться. Многочисленные пики Анд, где живут эти птицы, возвышаются далеко за границей вечных снегов. Кондоры гнездятся на этих вершинах, среди голых, лишенных растительности скал. Никто никогда не помышляет о том, чтобы взобраться на эти горы, и действительно, на многие из этих вершин никогда не ступала нога человека. Там нет даже каких бы то ни было животных и птиц, за исключением самих кондоров. Кондор является единственным владыкой высокогорных районов. Поэтому, в противоположность большинству других существ, эти птицы обладают убежищем, куда не может проникнуть ни один враг, и они могут выводить птенцов и выращивать их в полной безопасности. Больше того, они имеют возможность отдыхать ночью без всяких тревог, за исключением шума снежных обвалов или громких раскатов грома, часто раздающихся в этих горных районах. Но кондор совсем не боится грозы и обвалов, он их и не замечает и спокойно спит, даже когда огненная молния сверкает вокруг его гнезда.
Итак, совершенно очевидно, что птицы, обладающие безопасным убежищем, где они могут выводить свое потомство или скрыться во время опасности, нелегко подвергаются истреблению. Такие же существа, как орлы и им подобные, встречаются теперь редко, потому что места, где они выводят птенцов и где они живут, доступны не только человеку, но и множеству других врагов. С кондором дело обстоит иначе. Эта порода птиц никогда не будет истреблена, пока существуют Анды, а они, будем надеяться, еще долго продержатся!
— Какие гнезда они строят? — спросил Франсуа.
— Кондоры не строят гнезд, — отвечал Люсьен, — они выбирают впадину в скалах или в земле около скал, кладут туда два больших белых овальных яйца и высиживают их так же, как другие хищные птицы. Как это ни странно, о жизни кондоров в их высоких убежищах очень мало известно, потому что жители Сьерры редко отваживаются подняться в районы, где живут эти птицы. Они знают о кондорах только то, что могут наблюдать, когда эти большие птицы спускаются утром и вечером на плато и в заселенные горные долины в поисках пищи. В середине дня кондор обычно сидит на какой-нибудь высокой скале и спит. Если наступает холод, они иногда прилетают к жарким берегам Тихого океана, но все же эти птицы явно переносят холод лучше, чем жару.
— Королевский гриф, — продолжал Люсьен, — следующий вид, который заслуживает нашего внимания. Он тоже саркорамф и единственный представитель этого рода, за исключением кондора. Королевский гриф во многом отличается от кондора. Он не так любит горы, а больше предпочитает низкие саванны и безлесные равнины. Он предпочитает жару холоду, и его редко можно встретить где-нибудь, кроме тропиков, хотя он иногда и посещает полуостров Флорида и северные равнины Мексики, но в этих местах он является редкой перелетной птицей. Питается королевский гриф в основном падалью и мертвой рыбой, оставшейся в пересохших болотах и озерах, но он также убивает и ест змей, ящериц и маленьких млекопитающих.
Некоторые натуралисты утверждают, что во Флориде королевский гриф появляется только после пожаров в саваннах: он летит низко над землей среди пепла, выискивая и поедая змей и ящериц, сгоревших во время пожара. Таким образом, эти ученые делают вывод, что пища королевского грифа должна состоять исключительно из жареных пресмыкающихся, но, поскольку грифу не всегда удается обеспечить себя уже приготовленным кушаньем, я думаю, мы можем смело сказать, что он не откажется съесть их в сыром виде.
Королевские грифы живут парами, как и орлы, хотя их часто видят и стаями, когда они слетаются к трупу животного. Эту птицу называют «раскрашенным» грифом — из-за блестящих красок на голове и шее, которые действительно выглядят как раскрашенные. Он приобрел название «королевский гриф» не потому, что обладает какими-нибудь особыми качествами, а из-за того, что он тиранит своих простых собратьев, не подпуская их к пище, пока сам не насытится лучшими кусками. В этом отношении название «королевский» — очень подходящее, поскольку подобное поведение представляет собой поразительную аналогию с тем, как большинство королей человечества обращаются с простым народом.
— Следующий за кондором по величине, — продолжал натуралист, — и, возможно, равный ему, — большой калифорнийский гриф, или «северный кондор». Он принадлежит к роду изрыгающих грифов, Эту птицу можно назвать черной, поскольку она почти вся такого оттенка, хота некоторые нижние перья крыла коричневые, а на концах — белые. Голая голова и шея у калифорнийского грифа красноватые, но у него нет гребня, как у кондоров и королевских грифов. Сзади на шее заостренные перья образуют что-то вроде кольца или воротника, как и у других птиц этой породы.
Калифорнийский гриф получил свое название от страны, где он обитает, большой цепи калифорнийских гор Сьерра Невада, которые тянутся почти сплошной цепью на протяжении двадцати градусов широты. Без сомнения, он часто посещает Скалистые горы и родственные им Кордильеры в Сьерра Мадре, в Мексике. Большая птица, которую иногда видят в этих горах и считают кондором, вероятнее всего, является калифорнийским грифом. В эту ошибку очень легко впасть, так как обе птицы почти одинаковы по величине. Один из пойманных экземпляров оказался длиной в четыре фута восемь дюймов, а размах крыльев его был девять футов восемь дюймов. Это превышает даже габариты обычного кондора, и поэтому вполне возможно, что некоторые калифорнийские грифы могут быть одинаковы по величине с самыми большими южноамериканскими птицами.
Калифорнийского грифа видели на тридцать девятой параллели северной широты. Он встречается в некоторых районах Орегона, где устраивает гнезда на верхушках самых высоких деревьев; он сооружает их из толстых колючих сучьев и веток и ежевики, так же как орлы. Многие большие ели и сосны в Орегоне и Калифорнии достигают трехсот футов высоты и двадцати футов в обхвате у основания, поэтому гриф на вершинах этих деревьев находится почти в такой же безопасности, как кондор на вершине горы. Чтобы еще более обезопасить себя, гриф всегда выбирает деревья, растущие над неприступными утесами или бурными реками. Самки кладут только два яйца, почти совсем черные и размером с гусиные. Птенцы, так же как птенцы кондора, в течение многих недель покрыты пухом вместо перьев. Как и у остальных стервятников, пищу этих птиц составляет падаль или мертвая рыба, но калифорнийский гриф часто преследует раненого оленя и других животных и начинает поедать их, как только те падают. Два десятка этих птиц могут съесть оленя, лошадь или мула за один час, оставив только хорошо очищенный скелет. Пока птицы едят, они настолько сильны и смелы, что отгоняют от себя волков, собак и других животных, пытающихся тоже поживиться.
Калифорнийский гриф — пожалуй, самая пугливая и осторожная птица из всего этого рода. Он никогда не подпустит охотника на расстояние выстрела, за исключением тех случаев, когда отяжелеет от еды. Даже и тогда калифорнийского грифа очень трудно убить из-за его плотного, густого оперения. Крылья калифорнийского грифа широкие и длинные, полет свободный и грациозный — такой же, как у его сородича индюкового грифа.
— Я сказал, — продолжал Люсьен, — что натуралисты различают пять видов американских грифов. Остальных двух — индюкового и черного грифа, или, как его еще иногда называют, «черную ворону», — мы уже наблюдали. Но я думаю, что на Американском континенте существует больше чем пять видов этих птиц. В Южной Америке есть птица, под названием «гавилучо», которая, по моему мнению, является стервятником, отличающимся от всех этих птиц; и я не думаю, что «красноголовый галлиназо» Южной Америки — то же, что индюковый гриф севера. Гораздо вероятнее, что он является самостоятельной разновидностью изрыгающего грифа, ибо, хотя он и напоминает индюкового грифа по размеру и очертаниям, его оперение, как мне кажется, более черное, а кожа головы, шеи и ног более красная и производит впечатление раскрашенной.
Вот что можно рассказать о хищных птицах Америки.
Глава 32
УЖИН ИЗ КОСТЕЙ
Наши юные путешественники подъехали теперь к широкой тропе бизонов. Не останавливаясь, они повернули лошадей вправо и поехали по ней. Тропа вела прямо к северу, и им было нетрудно ехать по следу, так как на несколько миль вокруг прерия была вытоптана копытами животных, а в некоторых местах, где земля была мягче и более глинистая, казалось, что ее перепахали плугом. Там, где прочный травяной покров все же оставался, трава была так притоптана, что следы были хорошо видны. Поэтому, уже не беспокоясь о направлении, маленький отряд быстро ехал вперед в надежде догнать бизонов.
Но их мечты сбылись не так скоро. Бизоны двигались на север, совершая свое ежегодное переселение, и, так как они все время шли очень быстро, почти не останавливаясь, чтобы отдохнуть или попастись, их было нелегко догнать. На ночь путешественники вынуждены были сворачивать с тропы, чтобы предоставить своим животным возможность пощипать траву, ибо на протяжении по меньшей мере четырех миль вокруг по пути следования бизонов не осталось ни травинки.
У отряда появилась теперь другая забота, которая лишала их спокойствия. В конце второго дня пути запас вяленого медвежьего мяса истощился — его не осталось ни унции, и мальчики легли спать голодные, без ужина. Еще больше беспокоило то, что они проезжали сейчас по такой местности, где совершенно отсутствовала дичь и где нельзя было встретить никаких других животных, кроме бизонов, иногда антилоп или вездесущих койотов. Это был район на редкость пустынный, хотя сухие равнины сплошь заросли знаменитой «бизоновой травой», которая является излюбленной пищей этого дикого скота. Что касается антилоп, они любят свое пустынное уединение, так как широкие просторы дают им возможность на своих необычайно быстрых ногах убежать от любого врага. Но в этих местах антилопы особенно робки, и, хотя несколько их попалось юным охотникам по дороге, мальчики тщетно пытались приблизиться к животным на расстояние выстрела.
Койотов они могли бы подстрелить, но наши путешественники еще не были доведены до такого состояния, чтобы утолять голод мясом этих грязных, похожих на лис существ. Не было сомнения, что по пятам стада бизонов следовали большие стаи койотов. Время от времени наши охотники видели доказательства этого в виде обглоданных скелетов бизонов, которые лежали на тропе. Мальчики знали, что это те бизоны, которые, заболев, отстали от стада. Подобные случаи происходят частенько во время переселения больших стад: или одного быка забодает другой, или бизон ослабеет от старости или болезни. Если бы не это, койоты никогда не следовали бы за стадами, потому что бизон, когда он здоров, может разогнать целую стаю этих жалких трусов.
Надежда на то, что старые и слабые отстанут от своих, что кто-нибудь из них завязнет в трясине илистой реки или утонет, переправляясь, что отстанет самка из-за своих телят или что сам теленок замешкается, остановившись пососать мать, — все это заставляет стаю койотов идти по пятам большого стада на протяжении сотен миль. Некоторые из койотов, видимо, не имеют даже постоянного места для оседлой жизни, а так и плетутся за бизонами в течение всей кочевки.
Я сказал, что на вторую ночь после того, как наши путешественники покинули холм, они легли спать без ужина. На третий день их уже сильно начал мучить голод. На диких, пустынных равнинах, которые расстилались перед ними без конца и края, не видно было ни зверя, ни птицы.
Около полудня, когда они пробирались сквозь заросли шалфея, перед ними появились две птицы — шалфейные петухи, или степные куропатки, самые крупные из всего семейства куропаток. Франсуа, у которого всегда было наготове ружье, выстрелил в них, но они были слишком далеко и быстро скрылись за холмами.
Вид куропаток только раздразнил неудачливых охотников, и муки голода стали невыносимы. Мальчики поняли, что у них нет никакой возможности добыть хоть какую-нибудь еду, пока они не настигнут бизонов. Это была их единственная надежда, и мальчики, снова пришпорив коней, поскакали со всей скоростью, на какую только были способны животные.
К ночи голод еще усилился, и глаза всех троих начали то и дело останавливаться на Жаннет и собаке Маренго. Юные путешественники стали подумывать о том, что одним из этих животных придется пожертвовать. Это был бы печальный выход из положения, поскольку на обоих — на мула и на собаку смотрели почти как на товарищей. Оба верой и правдой служили во все время экспедиции. Если бы не Маренго, может быть, они никогда не нашли бы Франсуа, а Жаннет, помимо того, что хорошо выполняла свой долг, спасла их от одного из кугуаров. Наши путешественники должны были забыть все заслуги своих животных перед угрозой голодной смерти и начали серьезно говорить о том, кем из двоих верных слуг придется пожертвовать.
Базилю не хотелось расставаться с собакой, которая много лет была его любимицей и стала дорога всем им после стольких приключений. Поведение Маренго, когда потерялся Франсуа, польза, которую он приносил, будучи сторожем у многочисленных одиноких костров, и другие полезные услуги — все это сильно привязало к Маренго его юных хозяев, и они скорее вытерпели бы самый страшный голод, чем пожертвовали бы собакой. А Жаннет была всего только мулом — правда, эгоистичным, злым, лягающимся мулом, — но для мальчиков она была полезным животным и никогда не обидела бы никого из них, хотя с удовольствием лягнула бы весь остальной мир. Все же к Жаннет они скорее питали чувство благодарности, чем любви; их отношение к Маренго было совсем иным.
Приняв во внимание эти соображения наших голодных охотников, легко догадаться о результате их раздумья. Приговор был наконец вынесен единогласный приговор: Жаннет должна умереть!
Бедная старушка Жаннет! Она и не догадывалась, о чем велись переговоры; она не догадывалась, что ее дни уже почти сочтены, что недалеко то время, когда она больше не будет возить поклажу. Она не подозревала, что скоро, может быть, ее копыта в последний раз застучат по прерии, что через несколько часов она истечет кровью и ее старые ребра будут жариться и трещать на костре!
Да, было решено, что Жаннет должна умереть! Но не решили еще, когда и где должна произойти эта трагедия. Конечно, во время первого привала. Но где его устроить? Юные охотники ехали еще долгие мили, не находя подходящего места для ночлега. Не видно было никакой воды, а без воды они не могли делать привал.
Рано утром путешественники очутились в какой-то новой местности, куда их привела тропа бизонов. Это место являлось частью прерии и представляло собой цепь низких холмов из чистого гипса. Холмы простирались вокруг насколько хватал глаз, и все сверкало белизной алебастра. Ничто не нарушало однообразия ландшафта: ни растение, ни деревце, ни малейший признак какой бы то ни было жизни. Куда бы юные охотники ни повернули, они видели лишь известковую поверхность холма или долины, молочная белизна которых резала глаза. Солнце, отражаемое этой белой поверхностью, пронизывало тела мальчиков и немилосердно палило, вызывая страшную жажду. Они дышали воздухом, наполненным гипсовой пылью, поднятой стадом бизонов. Гипс превратился в тончайший порошок, так и стоявший в воздухе. От этого еще больше хотелось пить, и уже трудно было сказать, от чего они страдали больше — от голода или жажды.
Охотники не могли представить себе, как далеко тянутся эти холмы. Люсьен слышал, что такие образования иногда простираются на многие мили. Если это так, то им никогда не пересечь эти холмы. И мальчики и их животные мучились жаждой и были совершенно изнурены. Юных охотников стали одолевать мрачные предчувствия. Пить хотелось даже больше, чем есть, так как муки жажды выносить еще труднее.
Держа направление по следам бизонов, наши путешественники мрачно продолжали свой путь, окруженные белым облаком, которое окутывало их на протяжении всего этого изнурительного пути. Им нетрудно было идти по следу. Густая пыль указывала, где прошло стадо, а попадавшиеся время от времени круглые углубления свидетельствовали о том, что это были «бизоновы ямы», где валялись бизоны.
Надежда, что эти животные, руководимые своим обычным инстинктом, идут по направлению к воде, до некоторой степени поддерживала наших путешественников в их трудном положении.
На землю спускались вечерние тени, и алебастровые холмы становились пепельно-синими, когда маленькая кавалькада выехала из пыльных гипсовых лощин и снова вступила в зеленую прерию. Местность по-прежнему оставалась холмистой, но они ехали по хорошо заметному следу, и их животные ступали бодрее, будто у них появилась новая надежда, после того как они увидели траву.
В ландшафте, который был перед ними, заключалось что-то такое, что заставляло верить в близость воды. Так оно и оказалось, ибо, поднявшись на гребень небольшого холма, по которому вела дорога бизонов, внизу, в долине, они обнаружили небольшой ручей. При виде ручья Жаннет и все три лошади навострили уши, напрягли последние силы и скоро стояли уже у подножия холма, по колено в воде.
По счастью, это оказался ручей с пресной водой. Если бы он был соленый — а такие часто встречаются в местностях с гипсовыми образованиями, путешественники уже не смогли бы двигаться дальше и все погибли бы на его берегах.
Но это была пресная вода, прохладная и чистая, и мальчики сначала напились сами, а затем стали купаться в ручье, пока не смыли с себя раздражающую гипсовую пыль. После этого они начали готовиться к ночлегу.
Мальчики вволю напились воды. Это до некоторой степени облегчило муки голода, и они стали подумывать, нельзя ли дать Жаннет небольшую отсрочку, хотя бы до утра. Раздумывая над этим, братья заметили, что Маренго куда-то исчез. Охотники огляделись, удивляясь, что с ним стало и куда он ушел. Они обнаружили собаку недалеко от ручья: Маренго был явно занят чем-то на берегу. Все трое побежали к нему. Подойдя ближе, они увидели, что Маренго возится со скелетом большого бизона. Бедное голодное животное могло только лизать скелет, так как волки не оставили на нем ни кусочка мяса. Даже куски изодранной шкуры, лежащие вокруг, были все изжеваны этими прожорливыми животными, а кости выглядели так, будто их обскоблили ножом. Если бы анатому велели приготовить скелет для музея, он не смог бы очистить его лучше.
Глядеть на скелет, ни на что не пригодный, было не очень весело, и мальчики уже собирались вернуться в свой лагерь, когда Люсьена осенила мысль, что из костей можно, по крайней мере, сварить суп.
Это была счастливая мысль. Без сомнения, из свежих и еще не высохших костей получится отличный бульон. Все трое сразу взялись за приготовления. Франсуа собирал пучки шалфея, чтобы развести костер, а Базиль вооружился маленьким томагавком Люсьена и принялся разрубать скелет. Люсьен, увидев на берегу ручья какие-то растения, спустился вниз, чтобы рассмотреть их как следует в надежде найти дикий лук или хлебный корень, а может быть, и какие-нибудь другие овощи, которыми можно будет приправить бульон.
Все трое занимались каждый своим делом, как вдруг внимание братьев привлекло восклицание Базиля. Это был крик радости, за которым последовал дикий смех, похожий на смех сумасшедшего.
Франсуа и Люсьен с испугом подняли глаза, думая, что случилось несчастье: они не могли понять, почему Базиль громко смеется в такое время, при таких мрачных обстоятельствах. Поглядев на него, они увидели, что он продолжает смеяться, размахивая над головой томагавком, будто торжествуя.
— Идите сюда, Франсуа, Люс! — кричал он. — Идите сюда! Ха-ха-ха! Вот ужин для трех голодных! Ха-ха-ха! Какие же мы бестолковые! Мы глупы, как осел, который предпочел есть сено, когда рядом лежал хлеб с маслом. Посмотрите сюда, и сюда, и сюда! Вот вам ужин! Ха-ха-ха!
Люсьен и Франсуа подошли к нему и, видя, что Базиль указывает на большую кость бизона и поворачивает ее во все стороны, сразу поняли причину его веселья: кости были полны мозга.
— Целые фунты мозга! — продолжал Базиль. — Самое лакомое из всего бизона! Его хватит на ужин дюжине таких, как мы, а мы собирались ложиться спать голодные или, еще того хуже, умереть от голода посреди изобилия! И мы ехали три дня среди таких сокровищ! Да мы заслуживаем того, чтобы умереть с голоду за такую глупость!.. Ну, помогите же мне отнести эти кости к костру — я покажу вам, как приготовить ужин.
В бизоне восемь мозговых костей, содержащих несколько фунтов этого вещества. Как Базиль слышал от старых охотников, костный мозг бизона считается самой вкусной частью животного, и его редко оставляют, убив бизона. Лучший способ приготовления — просто испечь мозг в кости, хотя индейцы и трапперы часто едят его и сырым. Желудки наших юных охотников были недостаточно крепки для этого, и две кости задних ног были брошены в костер и засыпаны горячей золой.
Через некоторое время было решено, что мозг достаточно испекся. Кости раскололи томагавком Люсьена, вынули оттуда вкусный мозг, съели его с большим удовольствием и запили холодной водой. Теперь у костра мальчиков-охотников жажда и голод рассматривались как дело прошлое. Жаннет была единогласно помилована.
Атмосфера бодрости и надежды снова окружила наших путешественников. В оставшихся костях было еще достаточно мозга, чтобы им хватило по меньшей мере на два дня, так как этот мозг — очень питательный продукт. Больше того, идя по следу бизонов, юные охотники наверняка обнаружат и другие скелеты этих животных, и братьям больше не надо волноваться, что им не хватит пищи. Их радостное настроение усилило еще одно открытие. Они сразу же, как только подошли к скелету, увидели, что кости свежие. Волки только что ушли следовательно, бизон был убит совсем недавно, и, значит, стадо недалеко.
Все это вселило в мальчиков бодрость, и некоторое время они сидели вокруг костра, делясь своими мыслями и обсуждая планы на будущее.
Затем они завернулись в одеяла и, несмотря на то, что начался проливной дождь, крепко уснули.
Глава 33
БОЙ БЫКОВ
На следующее утро мальчики встали едва рассвело. Они чувствовали себя освеженными и бодрыми. Их животные тоже были в хорошем состоянии, так как поели сочной травы. Жаннет прыгала, натягивая привязь, и все старалась брыкнуть Кошку — лошадку Франсуа, и обязательно сделала бы это, если бы ее не удерживало лассо. Жаннет и не подозревала, как близка она была недавно к тому, чтобы прекратить свои прыжки навеки; ей не приходило в голову, что эта печальная необходимость может возникнуть снова. Знай это, она, вероятно, вела бы себя более степенно, но Жаннет была в полном неведении относительно своей участи, и, сытно поев и вволю напившись, была шаловлива, как котенок.
Разожгли костер, и новая мозговая кость уже дымилась и шипела среди пылающих сучьев. Кость скоро вытащили из огня, разрубили, и ее богатое содержимое разделили и съели. Оставшиеся кости упаковали и навьючили на Жаннет. Оседлав лошадей, охотники вскочили в седла и весело поехали по следу.
Они проезжали сейчас по так называемой «холмистой прерии», то есть местности без деревьев, но далеко не ровной. Прерия вовсе не всегда представляет собой гладкую равнину, как предполагают некоторые. Наоборот, ее поверхность очень часто неровная, с высокими холмами и глубокими долинами. Слово «прерия» означает «открытая ровная местность», хотя вовсе не обязательно, что она должна быть абсолютно горизонтально ровной. В прерии встречаются холмы, долины и горные кряжи. Также вовсе не обязательно, чтобы прерия была совершенно лишена деревьев, ибо существуют «лесистые прерии», где деревья растут купами; иногда эти купы называют «островками», так как они напоминают покрытые лесом острова в море. Слово «прерия» употребляется, чтобы отличить широкие, похожие на луг участки земли от леса, горы и океана. Сами прерии носят различные специфические названия, в зависимости от того, чем покрыта их поверхность. Мы уже видели, что существуют «лесистые прерии» и «цветущие прерии». Простые охотники обычно называют «цветущие прерии» «сорняковыми». Обширные зеленые луга, поросшие бизоновой или какой-нибудь другой кормовой травой, называются «травяными прериями». Участки с солончаками, которые часто тянутся на десятки миль в длину и ширину, называются «солеными прериями», а несколько похожие на них пространства, где поверхность земли покрыта содой, называются «содовой прерией». Существуют и необъятные равнины без всякой растительности, если не считать кустов дикого шалфея. Это «шалфейные прерии»; в центральной части Северной Америки они простираются на сотни миль. Есть прерии «песчаные», есть «скалистые», где бесплодная земля покрыта обломками скал и галькой. Еще есть разновидность, которую называют «прериями, изрытыми свиньями», где на мили кругом поверхность земли неровная, как будто в далекие времена ее действительно рыли свиньи.
Большинство этих названий было придумано трапперами — истинными пионерами диких, неисследованных районов. Кто имеет равные с ними права! Ученые могут изучать прерии, топографы могут путешествовать по ним в безопасности, под охраной. Они могут объявить себя открывателями ущелий и равнин, гор и рек, фауны и флоры; на своих картах они могут давать им имена — сначала свои собственные, затем своих патронов, затем друзей и, наконец, своих любимых собак и лошадей. Они могут давать высоким горам и величественным рекам такие имена, как Смит и Джонс, Фремонт и Стансбюри. Но люди, которые мыслят справедливо, и даже сами простые, притесняемые трапперы будут насмехаться над таким научным самодовольством.
Я уважаю имена, которые дали трапперы этой далекой земле. Многие из этих имен, так же как и названия, данные индейцами, выражают самую природу, и немало рек, гор и равнин получило крещение кровью этих храбрых пионеров.
Мы сказали, что наши путешественники ехали теперь по «холмистой прерии». Поверхность земли представляла собой широкие кряжи и низины. Вы видели когда-нибудь океан после шторма? Знаете ли вы, что такое «мертвая зыбь»? Когда море вздымается огромными гладкими валами, без гребня или пены, а между ними разверзаются глубокие пропасти; когда буря перестала завывать и ветер больше не дует, но поверхность могучих глубин еще так неровна, так опасны эти гладкие волны, что корабли качает и швыряет во все стороны, мачты ломаются и суда терпят бедствие, — вот это матросы называют «мертвой зыбью». А теперь, если вы вообразите себе, что такое бурное море вдруг остановилось в своем движении и вода превратилась в твердую землю, покрытую зеленой травой, вы получите нечто похожее на «холмистую прерию». Некоторые предполагают, что, когда эти прерии образовывались, действительно происходило подобное волнообразное движение вследствие землетрясения и что земля вдруг перестала сотрясаться, остановилась и застыла. Это интересная тема для размышления ученого-геолога.
Кряжи прерии, по которой путешествовали наши охотники, тянулись с востока на запад, и долины, конечно, шли в этом же направлении. Путь мальчиков лежал на север, поэтому тропинка, по которой они ехали, представляла собой беспрерывные подъемы и спуски.
Жадно глядя перед собой, внимательно осматривая все долины и низины прерии при каждом новом подъеме, охотники ехали вперед, полные надежды, что они скоро увидят бизонов. Но они не были подготовлены к той картине, которая скоро предстала перед ними, — картине, которая, как можно было бы предположить, должна была обрадовать их, но которая, наоборот, возбудила в них чувство, близкое к ужасу.
Мальчики-охотники только что поднялись на один из кряжей, с которого открывался вид на долину внизу. Это была маленькая глубокая долина, почти круглая, покрытая зеленой травой. С одной стороны бил родник; его воды текли по краям долины почти по кругу и затем терялись в низинах прерии. Течение ручья можно было проследить по низким деревьям, тополям и ивам, обрамляющим его берега; таким образом, центральная часть долины представляла собой небольшой округлый луг, окаймленный деревцами.
На этом лугу перед глазами наших путешественников предстало такое зрелище, при виде которого они сразу остановились и стали глядеть вниз в необыкновенном волнении.
Там яростно сражались несколько животных. Их было не больше дюжины. То были крупные животные, свирепые и яростные; они так ожесточенно нападали друг на друга, что вся поверхность земли вокруг была взрыта их копытами. Эта беспорядочная борьба происходила на середине луга, на открытой местности; трудно было выбрать лучше место для такого спектакля, если животные хотели собрать большое количество зрителей. Сама долина, окруженная холмами, напоминала амфитеатр, а гладкая поверхность луга являлась как бы ареной для боя быков. Однако сражающиеся бились отчаянно не для того, чтобы развлечь праздную толпу; они и не предполагали, что здесь присутствуют зрители. Бой шел не на шутку. Злобный рев, когда противники наскакивали друг на друга, громкий стук, когда они сталкивались головами, — все доказывало, что борьба велась отчаянная.
Что животные эти бизоны, стало ясно с первого взгляда. Их огромный размер, львиная форма тела, а самое главное — мычание, которое напоминало рев разъяренных быков, убеждали наших юных охотников, что это старые быки-бизоны, проводившие один из своих грозных «турниров».
Я сказал, что наши охотники, взглянув на них, почувствовали страх. Но почему? Что было в этих бизонах, чтобы напугать мальчиков, раз они именно их и искали так давно? Злобное поведение животных или их громкой рев? Нет, не это, и мальчики чувствовали скорее не страх, а я сказал бы — благоговейный ужас: ведь это были белые бизоны!
Вы спросите, почему это должно было возбудить ужас? Разве не белый бизон является целью их экспедиции? Разве вид белого бизона не должен был скорее обрадовать, чем испугать охотников? Да, вид одного белого бизона обрадовал бы их, но вид многих, почти дюжины этих животных вместе — загадочное зрелище, неслыханная вещь! Вот что заставило затрепетать наших путешественников.
Прошло несколько минут, прежде чем все трое обрели дар речи и смогли вслух выразить свое изумление. Юные охотники сидели молча, глядя на долину. Они не верили своим глазам. Прикрыв ладонями глаза от солнца, мальчики все смотрели и смотрели. Наконец они увидели, что зрение не обманывает их: да, это бизоны и, кроме того, белые!
Не все были чисто белые, но большинство из них. Головы и ноги некоторых были темнее, но на боках виднелись широкие белые полосы, что делало их окраску пестрой. Однако основной цвет был беловатый, — и, как это ни странно, во всем стаде не было ни одного черного или бурого бизона. Ни одного бизона знакомой мальчикам обычной окраски! Это-то и производило впечатление загадочности.
Однако мальчики скоро овладели собой. Не оставалось сомнений, что они напали на стадо белых бизонов. Может быть, думали они, в конце концов нет ничего необычного в том, что такое количество белых бизонов объединилось вместе. Может быть, животные этого цвета, так редко встречающиеся, обычно собираются вместе и держатся отдельно от темных… Лучшего нельзя было и желать! Если братьям посчастливится убить одного из них, это будет все, что им надо. Цель их экспедиции будет достигнута, и им ничего больше не останется, как повернуть и кратчайшим путем ехать домой. Они стали ломать голову над тем, как подстрелить или поймать одного или нескольких бизонов из стада.
И вот план придуман. Бизоны, продолжая яростно сражаться, еще не заметили их и вряд ли заметят. Поэтому охотники решили, что двое из них останутся на лошадях, чтобы догнать животных, в то время как третий попытается приблизиться к ним пеший и, хорошенько прицелившись, выстрелит, прежде чем бизоны заметят его, а затем присоединится к погоне. Это было поручено Базилю. Сойдя с лошади и взяв свое верное ружье, он пополз в долину. Люсьен и Франсуа, не сходя с лошадей, оставались на гребне.
Базиль достиг зарослей ивняка незамеченным и, осторожно прокравшись вперед, оказался меньше чем в пятидесяти шагах от бизонов. Животные все еще носились туда и сюда, поднимая облака пыли, и яростно ревели, то расходясь, то снова сталкиваясь головами с таким треском, будто разбивались их черепа.
Охотник ждал, пока один из наиболее больших белых бизонов подойдет поближе, и затем, прицелившись ему под лопатку, выстрелил. Огромное животное упало. Остальные, услышав выстрел и почуяв присутствие врага, сейчас же кончили сражаться, кинулись через заросли, взобрались на кряж и побежали в прерию.
Даже не взглянув на подстреленного им бизона, Базиль побежал к своей лошади, которая по его зову прискакала к нему.
Франсуа и Люсьен уже преследовали убегающее стадо, и Базиль, поспешно вскочив в седло, понесся за ними. Через несколько минут три мальчика поравнялись с бизонами. Затрещали ружейные и пистолетные выстрелы. Скоро были выпущены все заряды. Но хотя ни одна пуля не миновала животных, они продолжали мчаться вперед, будто никто из них и не был ранен. Еще не успев перезарядить ружья, охотники с огорчением увидели, что все стадо уже далеко в прерии и мчится, не убавляя скорости бега.
Поняв, что им не догнать бизонов, мальчики повернули лошадей и поехали обратно, чтобы захватить хотя бы того, которого подстрелил Базиль раньше. Наши охотники знали, что бизон еще находится в долине. Все трое видели его распростертым на земле и были уверены, что, по крайней мере, этот бизон не уйдет от них. А больше им ничего и не нужно было.
Каково же было их изумление, когда, взобравшись на кряж над долиной, они увидели, что бизон снова на ногах, а его окружает около двадцати рычащих и щелкающих зубами волков! Волки наскакивали на него со всех сторон, а раненый бык изворачивался, все время стараясь отогнать их рогами. Несколько волков уже валялись на земле мертвые, но их товарищи продолжали атаку с неослабевающей яростью. Глаза бизона метали искры, и, поворачиваясь то вправо, то влево, он старался держать противников перед собой.
Однако было ясно, что волки одерживают верх и, если их предоставить самим себе, скоро свалят бизона. Наши охотники сначала думали дать им эту возможность, но вдруг сообразили, что волки могут испортить шкуру. Разъяренные, они изорвут шкуру в куски своими клыками. Мальчики поскакали вниз, в долину, и окружили бизона. Волки разбежались, и огромный бык, обнаружив новых врагов, стал наскакивать то на одного, то на другого, стремясь поддеть лошадей на рога. С большим трудом мальчикам удавалось избежать столкновения с ним, но в конце концов меткий выстрел Базиля попал в сердце животного. Тщетно стараясь удержаться на широко расставленных ногах и закачавшись из стороны в сторону, бык упал на колени и лежал неподвижно. Изо рта его текла струя крови. Через несколько минут он был мертв.
Убедившись в этом, наши охотники соскочили с лошадей, вытащили охотничьи ножи и устремились к своей жертве. Можете себе представить их изумление и отчаяние, когда, подойдя ближе, они обнаружили, что животное, которого они принимали за белого бизона, было совсем не белым, а черным и просто окрашенным в белый цвет! Да, именно так, сомнений в том не было. Все тело четвероногого великана было покрыто гипсовым слоем, и, когда они провели руками по длинной шерсти, на пальцах у них осталось белое вещество, напоминающее толченый мел.
Объяснение этому было очень скоро найдено. Мальчики вспомнили гипсовые холмы, которые проезжали накануне; вспомнили также, что ночью шел дождь. Бизоны находились среди холмов и, по своей привычке, катались и валялись в сырой пыли. Белая алебастровая пыль прилипла к их шкурам, придав им тот цвет, который обманул и озадачил наших охотников.
— Ну что ж, — воскликнул Базиль, толкая ногой тело мертвого бизона, — и черный бизон нам пригодится! По крайней мере, у нас будет свежее мясо на обед, и давайте пока этим и утешимся.
Сказав это, Базиль жестом пригласил братьев помочь ему, и все трое принялись свежевать тушу бизона.
Глава 34
ТАИНСТВЕННЫЙ МЕШОЧЕК
В тот день наши охотники впервые ели на обед свежее мясо бизона. После обеда они тоже не сидели без дела, а вечером сушили над огнем мясо. Они решили остаться на ночь здесь, а утром снова двинуться по следу. Поэтому они трудились до позднего вечера и заготовили себе продовольствия на несколько дней.
Близилась полночь, когда мальчики стали ложиться спать. Как и раньше, они решили по очереди дежурить, чтобы не подпустить волков к мясу.
Лагерь юных охотников был на открытой местности, недалеко от того места, где они разделывали тушу бизона. На некотором расстоянии паслись их животные. Волков собралось много, и степных и больших серых. Запах жарившегося мяса привлек их издалека, и всю ночь они завывали и бродили вокруг лагеря.
Франсуа дежурил первым, Люсьен — вторым, затем шла очередь Базиля, и он должен был дежурить до рассвета, а потом разбудить братьев, чтобы пораньше собрать вещи и пуститься в дорогу. Они не хотели терять ни минуты, так как знали, что с каждым часом стадо будет уходить от них все дальше и дальше и преследование тогда очень затянется.
Дежурство Базиля было долгим; так как они улеглись поздно, мальчик очень хотел спать и поэтому не был дружественно настроен по отношению к волкам, из-за которых ему приходилось теперь бодрствовать. По временам, когда Базиль видел, как волки мелькают в темноте, он не мог сдержать гневных восклицаний и решил, что, как только наступит утро, он разрядит ружье в одного из волков стаи, чтобы хоть как-нибудь дать выход своим чувствам.
После трехчасового дежурства Базиль наконец увидел на востоке первые лучи солнца.
«К тому времени, как мы приготовим завтрак, — подумал Базиль, — станет уже достаточно светло: можно будет отправляться в путь. Пора будить Франсуа и Люса. Для разнообразия дам-ка я им сигнал к подъему выстрелом. Вот сейчас выберу самого большого из этих подлых волков… Хоть одного из них навсегда отучу от того, чтобы не давать спать людям!»
Базиль приподнялся на коленях и оглянулся, намечая себе жертву.
Как ни странно, койоты будто догадались о его намерении и разбежались от костра. Но некоторых из них можно было еще видеть под деревьями. Базиль выбрал одного, который при слабом свете казался здоровенным серым волком, и, наведя ружье, выстрелил в него. Охотник не очень заботился о том, убьет он животное или нет, и стрелял небрежно.
Вслед за выстрелом послышался громкий крик, которому ответили десятки других голосов со всех сторон долины. Крик разбудил спящих Франсуа и Люсьена.
Братья вскочили на ноги. Это не был волчий вой, нет, это был крик совсем другого рода. Это был вопль человеческих голосов — военный клич индейцев!
Братья молча стояли, объятые ужасом, но, даже если бы они и могли говорить, у них едва ли хватило бы времени на то, чтобы вымолвить хоть слово, ибо почти тут же на мальчиков набросились какие-то темные фигуры, и в следующее мгновение их окружили пятьдесят высоких индейцев. Базиль, стоявший дальше других от костра, упал без чувств, оглушенный ударом, и в это время Люсьена и Франсуа, которые не успели и подумать о том, чтобы взяться за ружья, уже схватили и крепко держали мускулистые руки индейцев. По счастью, братья не сопротивлялись, иначе индейцы убили бы всех троих на месте. А теперь индейцы, казалось, были в нерешительности — оставить мальчиков в живых или убить, ведь это Базиль принял одного из них за волка и ранил, что, конечно, сильно рассердило их. Однако, приняв во внимание, что силы противника очень малы и что мальчики не оказали сопротивления, индейцы оставили мысль о том, чтобы убить их на месте, а связали им руки сзади, посадили на лошадей и, захватив их ружья и одеяла, повезли юных охотников из долины.
Вскоре индейцы достигли места, где были привязаны их собственные лошади. Здесь они на минуту задержались. Каждый из них вскочил в седло, и затем весь отряд вместе с пленниками быстро поскакал по прерии.
Примерно через час они подъехали к большому лагерю, расположенному на берегу широкой мелководной реки. На равнине стояло около сотни жилищ. На земле валялись рога и шкуры бизонов, а на шестах перед каждым жилищем висело много бизоньего мяса. Тут были и костры, и походные котелки, и всякая утварь, собаки и лошади, женщины и дети — все вперемешку двигались взад и вперед между шалашами.
Пленников бросили на землю перед лагерем, неподалеку от берега. Индейцы оставили их, но мальчиков сразу окружила толпа кричащих женщин и детей. Сначала они с любопытством рассматривали пленников, но, услыхав, что один из индейцев ранен, начали издавать ужасные, пронзительные крики и приблизились к пленникам, угрожая им взглядами и жестами. Они начали тянуть беззащитных мальчиков за волосы и за уши, колоть им руки и плечи остриями стрел. Затем несколько женщин схватили мальчиков, потащили их в реку и стали окунать в воду, долго держа головы пленников под водой. Бедные мальчики думали, что их хотят утопить, но так как они были связаны, то не могли даже сделать попытку высвободиться. Однако утопить их не входило в намерения женщин, они просто хотели попугать своих пленников и скоро снова вытащили мальчиков на берег и бросили их мокрых на траву.
Но что все это время делал Базиль? Разве он не обладал амулетом, который положил бы конец их мучениям и превратил бы индейцев из жестоких врагов в друзей? Бедный Базиль, он страдал больше всех! Я сейчас расскажу вам, как обстояло дело.
Когда на мальчиков напали индейцы, Базиля оглушили ударом томагавка по голове. Он упал без чувств и, хотя потом настолько пришел в себя, что мог ехать на лошади в индейский лагерь, окончательно очнулся лишь тогда, когда его погрузили в холодную реку. Как только сознание вернулось к Базилю, он вспомнил о том, что хранилось у него на груди. Братья все время напоминали ему об этом, горячо умоляя его применить секретное средство, о котором никто из них ничего толком не знал. Но все это время Базиль, оглушенный ударом, едва сознавал, что делал. Теперь он пришел в себя и старался дотянуться до шнурка и достать из-за ворота рубашки вышитый мешочек. Так как руки его были связаны сзади, он ничего не мог сделать. Базиль попробовал дотянуться до шнурка ртом; все его усилия были тщетны. Тогда Базиль повернулся к братьям, чтобы они помогли ему в этом. Но братьев уже не было рядом — женщины оттащили их далеко от него; ноги и руки Люсьена и Франсуа тоже были связаны, и они не могли сдвинуться с места. Базиль с отчаянием наблюдал все это. Судя по жестокому обращению, которому они подвергались, и по возбужденному, гневному поведению индейцев, он начал бояться худшего и сомневаться даже, поможет ли им амулет. Базиль напрягал все силы, чтобы достать мешочек, но у него ничего не получалось, и он стал делать знаки окружавшим его женщинам, кивая головой и указывая глазами себе на грудь. Однако они не поняли, что он имел в виду, и только смеялись над этой, с их точки зрения, комической пантомимой.
Во время всей этой сцены индейцы-мужчины стояли в стороне, разговаривая и явно раздумывая над тем, как поступить с пленниками. Некоторые индейцы были сердиты и возбуждены. Они говорили громко, сильно жестикулируя, время от времени указывая на ровную площадку против лагеря. Среди этих громко разговаривающих индейцев был и тот, кого ранил Базиль, — у него была перевязана рука. Это был некрасивый, свирепого вида индеец, и, хотя мальчики не понимали ни слова из всего, что говорилось, они догадались, что он настроен по отношению к ним враждебно. К своему ужасу, они вдруг увидели, что он и его приверженцы одержали верх, и все остальные, казалось, наконец согласились.
Какое же индейцы приняли решение? Неужели они собираются убить их?
Мучимые ужасными предположениями, братья с волнением наблюдали за малейшим движением в лагере.
Вдруг они увидели, что каждый индеец вооружился луком, а двое из них принесли большой столб и врыли его в землю. О Боже! Страшная истина стала очевидной: индейцы намеревались привязать пленников к столбу и использовать их в качестве мишени для стрел. Мальчики слышали, что это распространенный обычай среди индейцев по отношению к пленным.
У каждого из братьев вырвался крик ужаса, когда они поняли смысл страшных приготовлений. Они даже не могли крикнуть что-нибудь друг другу, их слова потонули в воплях женщин и детей, которые прыгали и танцевали вокруг в явном восторге от перспективы ужасного спектакля, на котором они должны были присутствовать.
По счастью, Базиль был избран первой жертвой. Ему, очевидно, отдали предпочтение потому, что он был крупнее и старше остальных. Два индейца грубо схватили его и потащили к столбу, на ходу стаскивая с мальчика одежду, так как обнаженное тело было лучшей мишенью.
Как только индейцы ослабили веревки на руках и стащили с Базиля рубашку, внимание их привлек вышитый мешочек. Один из них схватил его и вынул содержимое; это оказалась чашечка трубки из красной глины — знаменитого мыльного камня. Как только индеец увидел трубку, он издал непонятное восклицание и передал трубку своему товарищу. Тот взял ее в руки, издал такое же восклицание и побежал к толпе индейцев. Трубка стала переходить из рук в руки; индейцы разглядывали ее и говорили что-то. Один индеец, казалось, был взволнован больше других. Посмотрев на трубку, он поспешно подбежал к Базилю; остальные последовали за ним.
Этого-то и ждал Базиль. Когда индейцы остановились перед ним, указывая на трубку и будто ожидая объяснения, мальчик, руки которого были теперь свободны, тщательно и хладнокровно сделал несколько знаков, которым его научил отец. Индеец сразу понял эти знаки, кинулся вперед, развязал веревки, опутывавшие ноги Базиля, и, поставив его на ноги, обнял с дружелюбными восклицаниями. Остальные индейцы теперь подошли к мальчику и стали жать ему руки, а некоторые из них побежали к Люсьену и Франсуа и немедленно освободили их.
Всех трех братьев привели в один из шалашей, одели в сухую одежду и быстро приготовили им угощение. Таким образом, враги, которые минуту назад собирались подвергнуть юных охотников жесточайшей смерти, теперь, казалось, состязались друг с другом в том, кто окажет мальчикам больше почестей. Однако тот индеец, который больше всех заинтересовался чашечкой трубки, получил разрешение быть главным в обслуживании мальчиков, и в его-то шалаш и привели наших путешественников.
Вам, конечно, не терпится узнать, что же могло заключаться в простой трубке, что произвело такое внезапное и сильное впечатление на индейца. Я сейчас расскажу вам об этом, по возможности коротко.
Вы, разумеется, слышали о знаменитом вожде племени шауни — Текумсе, величайшем воине и замечательном индейском политическом деятеле. Вы, может быть, также слышали, что во время последней войны между Англией и Соединенными Штатами Текумсе, воспользовавшись разногласиями между этими странами, пытался поднять индейцев на всеобщее восстание, чтобы изгнать всех белых из Америки. У Текумсе был брат Элсветова, больше известный под именем «Пророк». Он, так же как и сам вождь, горел желанием осуществить их великий замысел и с этой целью посещал все племена индейцев западной части Америки. Это был человек, обладающий большим даром красноречия, и его везде принимали дружески. Дело, за которое он боролся, было дорого всем индейцам, и Элсветову, конечно, внимательно слушали.
Он выкуривал «трубку мира» с каждым племенем. И вот эта-то самая «трубка мира», которую курил Пророк во время всех своих странствий, и оказалась у Базиля. По причудливым узорам и иероглифам, вырезанным на ней, ее сразу узнали эти индейцы, которые были из племени оседжи; это племя принадлежало к числу тех, которые в свое время посетил Пророк.
Но вы спросите, как эта «трубка мира» попала к отцу Базиля и почему обладание ею обеспечивало нашим путешественникам таинственное покровительство? Это я тоже могу объяснить. Текумсе был убит в войне с американцами, а Пророк жил еще много лет. Полковник, отец наших мальчиков-охотников, вскоре после своей эмиграции в Америку, во время одной из экспедиций около Сент-Луиса повстречался с этим необыкновенным индейцем. Обстоятельства сложились так, что француз и индеец стали настоящими друзьями. Они обменялись подарками, и полковник получил красную «трубку мира».
Вручая ее, Пророк сказал полковнику, что, если ему когда-нибудь придется путешествовать среди индейских племен, она может пригодиться. Кроме того, индеец научил его определенным знакам, которыми тот мог в случае необходимости воспользоваться. Этим же знакам полковник научил Базиля, и мы уже были свидетелями впечатления, которое они произвели. Тот индеец, который лучше других понял эти знаки и которого они больше всех взволновали, был сам из племени шауни, то есть из того самого племени, к которому принадлежали и Пророк и Текумсе. От этого племени почти никого не осталось — большинство его воинственных сынов или умерли, или разбрелись по кочевым племенам, которые бродят теперь в великих прериях Запада.
Вот история красной «трубки мира», которая оказалась защитницей наших путешествующих охотников.
Скоро они уже могли объясняться с индейцами при помощи знаков, ибо ни один народ не понимает язык знаков лучше индейцев. Юные охотники объяснили индейцам, кто они и зачем отправились в прерии. Узнав о цели их путешествия, индейцы были очень удивлены и восхищены отвагой юных охотников. Они, в свою очередь, рассказали мальчикам, что сами охотятся на бизонов, что сейчас они преследуют большое стадо и предполагают, что видели одного или двух белых бизонов среди этого стада. Индейцы добавили, что, если мальчики останутся и несколько дней поохотятся с ними вместе, они приложат все старания, чтобы убить или поймать одного из этих животных, которого тут же предоставят в распоряжение своих юных гостей. Конечно, это приглашение было радостно принято.
Я мог бы описать еще много приключений, которые выпали на долю наших мальчиков-охотников, но боюсь, юный читатель, что ты уже устал от прерий. Достаточно сказать, что мальчики несколько дней охотились вместе с индейцами и белый бизон был наконец убит, а шкура его соответствующим способом снята и, после того как ее пропитали предохраняющим составом, который Люсьен привез с собой, тщательно упакована и погружена на седло Жаннет. И тут наши путешественники попрощались со своими индейскими друзьями и пустились в обратный путь.
Несколько индейцев проводили их до рубежей Луизианы, где они и расстались.
Вскоре мальчики-охотники достигли своего старого дома в Пойнт Купе, где я думаю, мне не надо об этом вам и говорить — были радостно и с любовью встречены как отцом, так и преданным Гуго.
Старый натуралист получил то, что хотел, и был несказанно счастлив. Он еще больше гордился теперь своими маленькими мужчинами, своими «юными Немвродами», как он теперь называл их. Сидя около уютного очага, старый полковник с удовольствием слушал рассказы сыновей об их приключениях во время поисков белого бизона.
Гудзонов залив (повесть)
Теперь уже вчетвером отважным героям приходится отправиться на северо-запад, в далекую страну мехов Северной Америки, за тысячи километров от родного дома.
Им предстоит познакомиться с удивительным миром тех мест, преодолевая многочисленные трудности и лишения…
Глава 1
СТРАНА МЕХОВ
Читатели, слышали ли вы о компании Гудзонова залива? Из десяти девять, наверное, носят какой-нибудь мех, доставленный этой компанией. Хотите знать что-нибудь о стране, откуда доставляется этот мех? Так как мы с вами старые друзья, то я отвечу за вас — да. Итак, отправимся вместе и пересечем эту страну мехов с юга на север.
Это будет длинное путешествие, в несколько тысяч миль. Мы не сможем пользоваться ни пароходами, ни железной дорогой, ни почтой; даже верхом нельзя будет нам ехать. Мы не найдем ни роскошных гостиниц, ни даже радушных постоялых дворов с заманчивой вывеской: «Чистые постели»; словом — никакого крова. Нашим столом будет камень или земля, жилищем — палатка, постелью — звериная шкура.
Это — лучшие условия, которых мы можем ожидать. Но вы все-таки согласны предпринять это путешествие? Вас не пугает эта перспектива?
«Нет», — слышу я ваш ответ. Вы примиритесь с такими лишениями.
Итак, вы отправляетесь со мной на северо-запад, в далекую страну мехов Северной Америки. Но прежде скажем несколько слов о стране, по которой мы будем путешествовать.
Взгляните на карту Северной Америки. Заметьте два больших острова: направо — Ньюфаундленд, налево — Ванкувер.
Соедините их линией. Она почти пополам разделит материк. На север от этой линии простирается обширная область.
Насколько простирается? Вы можете взять ножницы и выкроить из нее пятьдесят Англий! Там есть озера, в которых Англия могла бы утонуть или сделаться островком на них. Теперь вы имеете представление об обширности страны мехов.
Поверите ли вы мне, что вся эта страна в первобытном состоянии?
От севера до юга, от океана до океана, на всем протяжении этой обширной площади нет ни города, ни деревушки; тут трудно встретить что-либо достойное названия поселка.
Единственные признаки цивилизации — форты, промышленные пункты компании Гудзонова залива; и они очень редки, на расстоянии сотен миль один от другого. Здесь насчитывается не более десяти тысяч белых, служащих компании, а коренное население состоит из индейцев различных племен, рассыпанных небольшими группами, живущих охотой и голодающих, по крайней мере, треть каждого года. По правде сказать, эта страна с трудом может считаться обитаемой. На каждые десять миль не приходится и по одному человеку, а в некоторых местностях можно странствовать по несколько дней, не встретив ни одного лица — ни белого, ни красного, ни черного!
Природа, конечно, абсолютно дикая.
Она очень различается в разных частях страны. Особенно интересна одна область, которая была долго известна под именем Бесплодной земли.
Это очень обширная полоса, лежащая к северо-западу от берегов Гудзонова залива, близ реки Маккензи. Это страна холмов и долин, глубоких темных озер и стремительных потоков; лесов в ней нет; там не найти других деревьев, кроме низкорослых берез, ив да черных канадских сосен, хилых и маленьких. И те растут только в некоторых долинах. Обыкновенно почва покрыта песком и гравием — остатками гранитных и кварцевых скал, на которых не может произрастать ничего, кроме лишаев и мха. В одном только отношении эти пустыни не походят на африканские: они богаты водой. Почти в каждой долине есть озера, богатые рыбой. Иногда эти озера соединяются быстрыми потоками через узкие ущелья, и вереницы таких соединенных озер составляют большие реки.
Такова значительная часть территории Гудзонова залива. Большая часть полуострова Лабрадора имеет тот же характер, и такие же области встречаются западнее Скалистых гор в бывших русско-американских владениях.
Однако на этой бесплодной земле есть свои обитатели. Природа создала животных, наслаждающихся там жизнью, животных, которые не встречаются в более плодородных местностях. Два вида питаются мхами и лишаями, покрывающими холодные скалы: канадский северный олень и мускусный бык. Они, в свою очередь, являются пищей для хищников: волка — белого, серого, черного и пестрого; медведя — бурого, родственного серому, которого можно встретить только в этих местах, и большого полярного медведя, который, впрочем, является гостем на этих берегах, находя достаточно добычи в море. На болотистых прудах, попадающихся то тут, то там, «строится» мускусная крыса, подобно своему старшему двоюродному братцу — бобру. Она находит пропитание в воде, но ее естественный враг — росомаха — живет тут же по соседству. Полярный заяц питается листвой и ветками карликовых берез и в свою очередь «кормит» северную лисицу. Скудная трава также не пропадает даром. Семя падает на землю, но ему не суждено в ней прорасти; его сгрызают маленькие пеструшки и мыши-полевки, в свою очередь делающиеся добычей горностая и ласки. А у озерной рыбы разве нет врагов? Есть, и ужасный, это канадская выдра, а летом — пеликан и белоголовый орел.
Такова фауна Бесплодной земли.
Человек редко появляется в ее пределах. Единственные существа, живущие там, — это эскимосы, на берегах, а во внутренней части — индейцы, шипвеи, охотящиеся на оленей и питающиеся их мясом. Другие индейские племена приходят в эти места только летом, за дичью, и кочуют с места на место. Эти переходы так опасны, что многие нередко погибают в пути. Белых людей здесь нет.
Компания тут не имеет промыслов. Здесь нет фортов, потому что звери так редки, что охота не возместила бы расходов по содержанию этих промысловых пунктов.
Но совершенно иными являются лесные области страны мехов. Они лежат преимущественно в южной и средней части территории Гудзонова залива.
Здесь водится ценный бобр и охотящаяся на него росомаха, американский заяц и его враг канадская рысь, белка и великолепная куница, гоняющаяся за нею с ветки на ветку. Лисица встречается тут всех видов: и красная, и драгоценная серебристая, сверкающий мех которой ценится на вес золота. Тут же черный медведь «предлагает» свою шкуру для украшения зимних экипажей и мундиров гренадеров и драгун.
Здесь множество пушных зверей, множество и других, шкуры которых ценятся.
Но в стране мехов есть и полоса прерий, лугов. Большие прерии Северной Америки к востоку от Скалистых гор простираются также к северу по территории Гудзонова залива.
В этих прериях есть свои особенные обитатели: буйволы, рогатые антилопы, койоты и быстроногие лисицы. Это излюбленные места сурков и песчаных крыс, а также самого благородного животного — лошади, которая скачет здесь на свободе, в диком состоянии.
К западу от прерий местность носит совсем иной характер, переходя в область Скалистых гор. Эта цепь, часто называемая Андами Северной Америки, тянется через всю страну до самых берегов Полярного океана. Скалы нависают над его водами, отражаясь в них. Многие вершины, даже в южной широте, увенчаны вечными снегами. Иногда эта цепь раскидывается в ширину на многие мили. Глубокие долины рассекают ее, и во многие из них никогда не ступала нога человека. Некоторые долины голы и мертвы; другие представляют собою зеленые оазисы, чарующие путника, которому посчастливилось из диких скал попасть в этот сказочный уголок. Эти красивые места любят многие животные: аргали, или горный баран, с его завитыми рогами, и дикая коза скачут там по самым крутым скалам. Черный медведь бродит по лесистым склонам, и его свирепый родственник — серый медведь, самый страшный из всех зверей Америки — ходит, переваливаясь, по скалистым откосам.
Пересекая Скалистые горы, страна мехов простирается к западу до Тихого океана. Здесь голые, безводные, безлесные равнины чередуются с быстрыми глубокими реками в скалистых ущельях, а к востоку от горной цепи местность становится все более гористой и суровой. Воздух теплее, чем ближе местность к Тихому океану, и иногда здесь встречаются настоящие леса. В них живет большинство пушных зверей и вследствие более теплого климата встречаются крупные представители семейства кошачьих, которые здесь водятся гораздо севернее, чем на восточном берегу континента.
В лесах Орегона встречается кугуар и бобр.
Но мы не намереваемся переваливать через Скалистые горы. Наше путешествие будет совершаться по восточной стороне цепи — от границ цивилизованного мира до берегов Ледовитого океана.
Глава 2
ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
По северной части Красной реки, недалеко от ее истоков, плывет лодка. В этой маленькой утлой лодочке сидят четверо юношей; старшему из них не более девятнадцати, младшему — лет пятнадцать.
Старший почти мужчина, хотя фигура у него еще не такая мускулистая, как у взрослого. Цвет его лица темный, почти оливковый. Волосы черные, прямые и длинные, как у индейца. Глаза — большие, блестящие, черты лица резкие. В нем чувствуется смелость, твердость и решительность. Вместе с тем в его манерах, несмотря на его молодость, видна серьезность, причем не вследствие мрачности духа, а как выражение скромности, здравого смысла и опытности. Легко понять, что он энергичен и умен. В обращении его проявляется некоторая холодность и вместе с тем доверчивость. Вы чувствуете, что он видел опасности и не боится встретить их вновь. Впрочем, такое впечатление производят большинство охотников Дальнего Запада, живущих среди опасностей диких прерий. Наш юноша, не будучи профессиональным охотником, много охотился, и ему приходилось оказываться в очень опасных положениях в прериях и лесах запада. Он был знаком и с медведем, и с буйволом, и с дикой кошкой, и с кугуаром, и это наложило печать серьезности на его лицо.
Второй юноша производит совершенно иное впечатление. Белокурый, бледный, с шелковистыми вьющимися волосами, падающими на плечи, он не кажется сильным. У него хрупкое сложение, но это не болезненная хрупкость, потому что его движения доказывают здоровье и силу, хотя и не в той степени, как у первого юноши. В глазах его светится ум. Они у него голубые, взгляд мягкий, а форма лба указывает на привычку думать, размышлять. Этот юноша — студент с выдающимися способностями; ему всего семнадцать лет, но он уже хорошо знает естественные науки.
Третий юноша, младший в этой компании, отличается во многом от первых двух. В нем нет серьезности первого и духовного развития второго. Его лицо — круглое, полное, румяное — освещается открытой улыбкой. Он весело осматривается и все видит, все замечает. Его губы также все время в движении, потому что он или без умолку говорит, или улыбается и смеется. Из-под одетой набекрень шапочки выбиваются каштановые кудри и обрамляют его розовые щеки. Он олицетворяет собою здоровье и красоту. Его смех и веселый вид доказывают, что он не книжный мальчик. Он также не очень похож на охотника. И действительно, он ничем специально не занимается, будучи одной из тех легких натур, которые принимают жизнь такою, как она есть, целиком.
Все трое почти одинаково одеты. У старшего костюм охотника девственных лесов — длинная охотничья рубашка, панталоны, сапоги из оленьей кожи, красиво вышитые и украшенные бахромой. Костюм этот дополняется енотовой шапкой с висящим сзади, подобно перу на шлеме, хвостом зверя. На плечах два кожаных ремня, скрещивающихся на груди. На одном из них висит патронташ из блестящей на солнце зеленой шкурки лесной утки — самой красивой птицы этой породы, на другом — украшенный резьбою рог. Другие мелкие вещи висят на его кожаном кушаке, между прочими — огниво. На третьем ремне из кожи аллигатора висит пистолет и большой охотничий нож.
Костюм второго юноши, как мы уже сказали, был почти таким же, хотя не столь воинственным. Как у первого, у него был патронташ и пороховница, но вместо ножа и пистолета на ремне висит плетеный мешок, и если бы вы в него заглянули, то увидели бы в нем раковины, каменные обломки, редкие растения — ежедневная добыча геолога, палеонтолога и ботаника, которая рассматривалась и изучалась при вечернем бивуачном огне. На голове у юноши мягкая шляпа с широкими полями; панталоны его из синей бумажной материи, а обувь из непромокаемой кожи.
Костюм младшего больше напоминает одежду старшего спутника, но шляпа его из синего сукна. На всех троих цветные бумажные рубашки, наиболее подходящие для этих мест, где мыло драгоценно, а прачки не найти ни за какие деньги.
Как ни мало эти юноши похожи один на другого — они братья. Я хорошо их знаю. Я видел их года два тому назад, и хотя каждый вырос с тех пор на несколько дюймов, я без труда их узнал. Несмотря на то, что они находятся за две тысячи миль от тех мест, где я раньше их видел, я не мог ошибиться, признав их. Без всякого сомнения, это те же храбрые мальчики, которых я встретил в Луизиане и чьи подвиги видел в прериях Техаса. Это «мальчики-охотники»: Базиль, Люсьен и Франсуа. Я очень рад возобновить с ними знакомство.
Но куда они направляются теперь? Они на расстоянии двух тысяч миль от своего дома в Луизиане. Красная река, по которой они плывут — совсем не та Красная южная река, которая кишит аллигаторами. На берегах последней зреет рис и золотится сахарный тростник. Там цветет гигантский камыш, пальма и широколистная магнолия в белых цветах, и тропическая жара держится большую часть года.
Все другое на северной Красной реке. Правда, на ее берегах тоже производится сахар, но не из тростника, а из дерева — сахарного клена. Есть там и рис, обширные рисовые поля на его болотистых берегах, но это не жемчужное зерно юга. Это дикий рис, «водяной овес», питающий миллионы крылатых существ, а также тысячи людей. Три четверти года здесь солнце бросает лишь слабые лучи и освещает зимние картины. В продолжение долгих месяцев холодные воды скованы льдом, земля покрыта глубоким снегом, над которым поднимаются ветви хвойных — сосны, кедра и ели. Очень различны местности, по которым текут две Красные реки — северная и южная.
Но куда направляются наши юноши-охотники в своей утлой лодке?
Река, по которой они плывут, течет прямо на север и впадает в большое озеро Виннипег. Их уносит течением реки все дальше от родины. Куда?
Ответ навеет грустные мысли. Радость встречи с ними омрачится печалью. Когда мы их видели в последний раз, матери их уже не было в живых, но у них еще был жив отец. Теперь у них нет ни той, ни другого. Старый полковник, французский эмигрант, охотник-натуралист — их отец умер. Тот, кто научил их всему, что они знали: ездить верхом, плавать, нырять, бросать лассо, лазить по деревьям и скалам, кто приучал их спать на открытом воздухе, в темном лесу, в голой прерии, довольствоваться самой простой пищей, и одному из них передал свои знания по естественным наукам, особенно по ботанике, кто научил их отыскивать пищу там, где незнающий человек умрет от голода, добывать огонь, находить дорогу и сверх всего дал им сведения о географии диких пространств от Миссисипи до Тихого океана и до ледяных берегов полярных вод, тот, кто всему этому научил юношей, отец их, умер, и они остались круглыми сиротами на белом свете.
Немногим более года прожил отец после возвращения их из большой экспедиции в прерии Техаса. Он стал жертвой свирепствовавшей в тот год желтой лихорадки.
Гуго, бывший охотник и преданный слуга его, последовал за своим господином в иной мир.
Молодые охотники Базиль, Люсьен и Франсуа стали сиротами. Они знали о существовании одного только родственника, с которым отец поддерживал связь. Это был их дядя, и, как это ни покажется странным, он был шотландцем. В молодости он жил на Корсике, где и женился на сестре полковника. Впоследствии этот дядя переселился в Канаду и занялся торговлей мехами. Он был теперь главным управляющим, или фактором, в компании Гудзонова залива и жил в одном из самых отдаленных пунктов у берегов Ледовитого океана.
Но я все еще не ответил на вопрос, куда направляются юные охотники на своей лодке. Я думаю, вы уже догадались. Конечно, скажете вы, они на пути к своему дяде. Другая цель не могла бы привести их в эти труднодоступные места. Вы правы. Единственной целью их долгого, утомительного и опасного путешествия было посещение дяди-шотландца, который, узнав о смерти их отца, послал за ними. Он слышал об их подвигах в прериях. Любя приключения сам, он был в восторге от молодых удальцов и очень желал, чтобы они приехали и поселились у него. Сделавшись их опекуном, он мог потребовать, чтобы они жили с ним, но ему не пришлось к этому прибегать, так как юноши сами пламенно желали увидеть земли, в которые их звали, и с жаром приняли приглашение. Полдороги было уже пройдено. Они на пароходе отправились по Миссисипи до реки св. Петра и отсюда начали свое путешествие в пироге. Их любимые лошади и мул Жаннет остались дома. Это было необходимо, так как эти животные, полезные в прериях, не могли служить им в северных местностях. Там дорога пересекается реками и озерами, а пирога — самый удобный вид транспорта для такого путешествия в несколько тысяч миль.
Наши юные охотники счастливо проплыли по реке св. Петра и, перенеся лодку к верховьям Красной реки, отправились по ее течению на север. Им предстояло сделать еще около двух тысяч миль: спуститься еще по многим рекам, переправиться через многие стремнины, озера и пройти пространства, по которым пирогу надо будет нести на плечах.
Что же, читатель, последуем за ними? Удивительные картины, необычайные приключения, которые мы увидим, оплатят опасности этого путешествия.
Подождите! У нас будет еще один спутник. В лодке сидит и четвертый юный путешественник. Кто это? Он с виду одних лет с Базилем, так же крепок и высок и сложением похож на него. Но он белокурый, хотя волосы его не того оттенка, что у Люсьена, густые, вьющиеся, короткие. У него, что называется, свежий цвет лица, и воздух, на котором он, очевидно, проводит много времени, украсил его лицо загаром и румянцем. Глаза у него темно-синие и оттенены черными бровями и ресницами. В этом сказалась разная кровь его родителей.
Юношу можно назвать красивым, хотя он, может быть, грубее своих товарищей. Его ум меньше развит воспитанием, он меньше видел цивилизованное общество. Но черты его лица красивы; губы выражают добродушие и твердость; в глазах сверкает природный ум, лицо выражает столько искренности и честности, что кажется прекрасным. Можно уловить, правда, очень легкое сходство между ним и тремя его спутниками, то, что называется фамильным сходством. Они действительно родственники. Он двоюродный брат наших старых знакомых, единственный сын того дяди, к которому они едут. Он тот посланец, которого дядя отправил за ними. Вот кто четвертый путешественник.
Его костюм походит на костюм Базиля; но так как он сидит на носу, на ветру, то на нем канадский плащ из белого сукна с откинутым на спину капюшоном.
Но кроме них есть еще четвероногое, расположившееся на дне лодки. По размерам и красноватому цвету шерсти вы могли бы принять его за пантеру, кугуара. Но широкие висячие уши и черная морда доказывают, что это собака, помесь гончей с дворняжкой; это Маренго.
В лодке сложены одеяла, буйволовы шкуры, небольшая свернутая палатка, мешки с провиантом и кухонные принадлежности, топор и заступ, ружья, из которых одно — двуствольный карабин. Кроме того, рыболовная сеть, всякие приспособления и снаряжение, необходимые для подобного путешествия.
Нагруженная лодка низко сидит в воде и все-таки легко несется вниз по Красной реке — на север.
Глава 3
ЛЕБЕДЬ-ТРУБАЧ И ЛЫСЫЙ ОРЕЛ
Была весна, хотя уже довольно поздняя. Весь снег с холмов стаял и поднял воды. Течение было быстрым, и наши путешественники спускались, не работая веслами, а только направляя свою пирогу. Норман, — так звали их двоюродного брата-канадца, — сидел на носу челна, на самом ответственном месте. Люсьен занял место на корме и с карандашом и записной книжкой в руках делал заметки об окружающей природе. Берега Красной реки покрыты богатой растительностью. Она, конечно, имеет северный характер, но отнюдь еще не полярный. Люсьен увидел здесь и дикую яблоню, и малину, и землянику, и смородину. Внимание юного натуралиста привлек характерный для этой местности куст, известный в ботанике под именем viburnum oxycoccos, а индейцами называемый анепеминан от слова «непен» — лето и «минан» — ягода. Это разновидность калины, высотой в метр, с ягодами, как у клюквы, с листьями, напоминающими дубовые. Спелые плоды его похожи на вишни или больше, пожалуй, на бруснику, отличаясь той же горьковатостью, и часто заменяют бруснику в пирогах.
Люсьен рассказал, что знал об этом растении, своим спутникам. Норман с удивлением выслушал научные сведения, сообщенные ему родственником. Базиль также интересовался объяснениями брата, но Франсуа, мало склонный к наукам, был занят другими мыслями. Сидя в середине лодки с приготовленной двустволкой, он напряженно следил, не окажется ли на расстоянии выстрела одна из птиц, которые пролетали над рекой. Он уже подстрелил нескольких диких гусей и уток, но ему хотелось убить хоть одного из тех прекрасных лебедей, которые часто показывались, но всегда держались вдалеке.
— Оставь свои viburnum и oxycoccos, брат, — обратился Франсуа к Люсьену, — и расскажи нам лучше что-нибудь об этих лебедях. Смотри, вот один из них. Чего бы я ни дал, чтобы подстрелить его!
И Франсуа указал на большую белую птицу, отплывавшую от берега. Это был лебедь самой крупной породы — трубач. Заметив пирогу, он бросился на середину реки и, слегка подняв крылья, отдался быстрому течению. Он был ярдах в двухстах от пироги, и, в надежде его настичь, Франсуа попросил налечь на весла, а сам приготовился к выстрелу. В несколько минут пирога тоже вышла на середину реки, и началась гонка. Лебедь не улетал, сознавая, что полет потребует от него больших усилий, чем плавание; он знал — лебеди очень хорошо умеют рассуждать! — что его враги имеют два двигателя: весла и течение, а он три: весла, течение и паруса, которыми служили ему его поднятые крылья. И его расчет был верен. Расстояние между ним и его преследователями все увеличивалось, и они уже готовы были отступить, когда заметили, что ниже река делает поворот, за которым лебедь уже не будет пользоваться силой ветра. Это снова обнадежило их, и они опять налегли на весла. Действительно, лебедь за поворотом стал плыть медленнее и опустил крылья. Теперь он потерял преимущество на воде, и по его движениям юноши поняли, что он готов полететь; они приготовили ружья, как вдруг с одного берега раздался дикий крик, и ему ответил такой же крик, похожий на смех сумасшедшего, с другого берега. Все узнали крик белоголового орла.
Лебедь тоже его узнал. Он сразу изменил намерение: вместо того, чтобы подняться в воздух, он немедленно нырнул в воду.
Опять повторился дикий хохот, и один за другим с обоих берегов взлетели два орла.
На мгновение лебедь вынырнул, и едва показалась его голова, как один из орлов опустился над ним; но лебедь снова исчез под водой, и орел напрасно окунул свои лапы в воду. С криком разочарования поднялся он в воздух и стал кружить над рекой, выслеживая лебедя; тот снова вынырнул и снова исчез, раньше чем орел опустился на воду.
Каждый раз лебедь появлялся на поверхности реки все ближе к береговым тростниковым зарослям, очевидно, под водою направляясь к ним, чтобы в них скрыться.
Орлы кружили теперь над этими зарослями со злым криком. Даже своим острым глазом они не могли различить голову лебедя среди массы белых цветов в густом тростнике. Они, казалось, только теперь заметили пирогу и, поняв опасность, быстро полетели прочь, на некотором расстоянии опустившись на берег.
Маренго не был натаскан для охоты на водоплавающих, но немного приучен ко всему, и потому охотники спустили его с лодки среди тростников, чтобы спугнуть лебедя. Однако они спустили его слишком рано. Прежде чем пирога снова выбралась из тростников, послышался глухой шум, и белая птица поднялась ввысь раньше, чем охотники успели навести на нее ружья.
Маренго, исполнив свою задачу, подплыл к лодке и был в нее поднят, а лебедь все поднимался вверх. Лебеди могут летать на очень большой высоте, но, в противоположность диким гусям и уткам, всегда над водой, а не над сушей. Очевидно, и этот лебедь хотел улететь подальше от места, где пережил такую большую опасность. Поднявшись на несколько сот ярдов, он полетел, уже в горизонтальном направлении, над руслом реки. Иногда доносились вниз трубные звуки его радостного крика. Он считал себя, очевидно, вне опасности. Но несчастный ошибся. Он был услышан и замечен. Оба орла, с которыми мы уже познакомились, поднимались спиралями в вышину, и взмахи могучих крыльев приближали их к жертве. Заметив врагов, лебедь стал то вертикально подниматься, то опускаться, и его жалобный крик был слышен на реке. После нескольких маневров один из орлов, а именно орлица, бросился вперед, потом вниз и мигом вонзил свои когти в крыло лебедя. Оно тотчас же повисло, и, лишенный возможности лететь, лебедь стал медленно опускаться. Но орлы не хотели позволить ему упасть на воду. Как только орел, находившийся ниже, увидел, что лебедь ранен, он направился к нему и, когда раненая птица поравнялась с ним, схватил его в свои когти и бросил на берег. В следующее мгновение послышался треск ветвей в кустах, возвестив, что лебедь упал на землю.
Орлы направили туда же свой полет, но охотники их предупредили. Они причалили к берегу, и Франсуа, сопровождаемый Базилем и Маренго, выскочив на берег, увидел распростертую среди зелени белую мертвую птицу. Орлы же, которых спугнул Маренго, исчезли раньше, чем юноши могли подойти к ним на расстояние выстрела.
Был как раз полдень, и путешественники решили позавтракать лебедем, а во время приготовления этого лакомого кушанья Люсьен должен был кое-что рассказать своим спутникам об американских лебедях.
Глава 4
АМЕРИКАНСКИЕ ЛЕБЕДИ
— Хорошо, — отвечал Люсьен на это требование, — я вам расскажу о лебедях, хотя не особенно много о них знаю, так как дикие лебеди мало известны науке. Они так пугливы, что наблюдения над ними очень трудны, да к тому же как собрать сведения о птицах, обитающих в малонаселенных районах полярной области? Впрочем, некоторые породы водятся и в более умеренных поясах, и их привычки лучше известны.
Долгое время предполагали, что существует одна порода лебедей. Теперь знают, что их несколько, отличающихся одна от другой формой, цветом, голосом и повадкой. Выражение «белый, как лебедь» старо, как мир, а между тем оно показалось бы очень странным австралийцу, привыкшему видеть черных лебедей.
Согласно мнению Брема, внимательно изучившего этот вопрос, в Европе четыре породы лебедей. Все они белые, хотя у некоторых перо имеет красноватый или оранжевый оттенок между головой и шеей. Некоторые с наростом в верхней части клюва.
Одних Брем называет белоголовыми горбатыми лебедями, других желтоголовыми, они известны как немые и ручные. Две другие европейские породы Брем называет поющими, так как их крик слышен на большом расстоянии.
Черный австралийский лебедь привился и в Европе и очень распространен в Англии, где служит, благодаря своей величине и окраске, одним из лучших украшений местных прудов и рек.
Долгое время держалось мнение, что все американские лебеди принадлежат к одной и той же породе. Это неверно: три разных вида обитают в стране пушных зверей, на зиму улетая на юг. Наиболее известен из них кликун, или дикий лебедь. Полагают, что он тождествен европейскому поющему лебедю, хотя я лично с этим мнением не согласен, так как яйца американского лебедя зеленоватые, тогда как у его европейского собрата они белые с коричневыми пятнышками.
Дикие лебеди достигают длины четырех с половиной футов, самцы их иногда бывают даже больше. Они совершенно белые, за исключением верха головы и шеи, которые имеют бронзовый оттенок. Клюв и лапы черные. От угла клюва к глазу тянется небольшая оголенная ярко-желтая плева. Они, как и прочие лебеди, не любят соленой воды, и если встречаются на море, то только у самых берегов, где могут находить травы, которыми питаются. Не водятся они и на больших озерах. Это объясняется тем, что лебеди, питающиеся корнями водяных растений, не ныряют за ними, а вырывают их благодаря своим особо приспособленным длинным гибким шеям и, следовательно, должны жить там, где вода неглубока. Кроме корней, они питаются лягушками, червями и мелкими рыбками. В отличие от уток и гусей, они никогда не едят на берегу, а всегда на воде, плавая. На земле они очень неуклюжи, зато на воде чувствуют себя прекрасно, а летают так быстро, что убить их бывает очень трудно. Говорят, скорость их полета при попутном ветре достигает ста миль в час. Во время линьки, когда они не в состоянии летать, бывает очень трудно догнать их на пироге, так как с помощью своих широких лап и сильных крыльев они с огромной скоростью скользят по воде.
Они принадлежат к перелетным птицам. Почему они покидают родные места?
Наиболее вероятным объяснением кажется следующее: некоторые птицы улетают на зиму на юг, принуждаемые к тому холодом, некоторые — вследствие того, что реки и озера, на которых они проводят почти все время, сковываются льдом, и они лишаются своей обычной пищи.
Как только лед растает, они все радостно возвращаются на свой любимый север.
Дикие лебеди устраивают свои гнезда на островках многочисленных озер, покрывающих весь север Америки, на бугорках среди болот и мысах, выдающихся далеко в озера. Обыкновенно гнездо расположено так, что лебедь издалека может видеть приближающегося врага.
Так, они часто избирают для этой цели верхушки жилищ выхухоля. Эти домики обыкновенно находятся посреди непроходимых болот и обитаемы только зимой; с ранней весны они покидаются своими хозяевами и предоставляются в полную собственность лебедям, которые делают большое углубление на их вершине и выкладывают его травой.
Лебеди кладут от шести до восьми яиц и сидят на них в продолжение шести недель, по истечении которых из яиц вылупляются покрытые густым синевато-серым пухом птенцы. Во время высиживания мать чрезвычайно пуглива и осторожна; она обычно сидит головой в ту сторону, откуда больше опасается нападения; так, когда гнездо на мысу, то она постоянно смотрит на берег, как будто сознавая, что со стороны воды опасности не предвидится. С берега же, кроме человека, ей может угрожать нападение и росомахи, и рыси, и волка, и лисицы.
Индейцы иногда ловят лебедей тенетами. Они расставляют их у гнезда в отсутствие лебедя, с той стороны, с которой он обыкновенно возвращается. При этом необходима величайшая осторожность и чистота. Индейцы всегда предварительно моют руки, так как в противном случае лебеди, обладающие отличным обонянием, всегда заметят опасность и не только не вернутся в гнездо в этот момент, но иногда даже навсегда покидают свои яйца. Многие птицы поступают так же.
Однако довольно о диком лебеде; поговорим теперь о трубаче. Это самый большой из всех американских лебедей. Своим названием он обязан тому, что крик его очень напоминает звук отдаленной трубы. Он весь белый, с черным клювом и лапами, и также имеет оранжевый оттенок на макушке и шее; но желтой плевы, присущей дикому лебедю, у него нет. Несмотря на разницу в величине и крике, он очень напоминает своими повадками дикого лебедя, но живет стаями в шесть или восемь голов, тогда как дикий лебедь встречается только парами. Трубач прилетает на север раньше других перелетных птиц, за исключением орлов, случается, даже тогда, когда реки и озера еще покрыты льдом. Они устраивают свои гнезда не южнее 61-го градуса, чаще всего уже за полярным кругом. Их гнезда очень похожи на гнезда других лебедей, но яйца крупнее, так что одного яйца достаточно для насыщения человека даже без хлеба. Их чрезвычайно трудно убить, так как они очень осторожны и пугливы.
Третью разновидность американских лебедей составляют так называемые Бевиковы лебеди, по имени натуралиста Бевика. Они мельче предыдущих, не длиннее пятидесяти двух дюймов от головы до хвоста и весят не более четырнадцати фунтов, тогда как дикие часто весят более двадцати, а трубачи даже часто достигают тридцати и более фунтов. Цветом они очень похожи на кликунов, так что их часто путают друг с другом. Важнейшее различие этих трех разновидностей состоит, главным образом, в величине и числе их перьев в хвосте: у дикого лебедя их двадцать четыре, у трубача — двадцать, у Бевиковых — всего восемнадцать.
Эти последние позже всех других прилетают на север, но строят свои гнезда севернее других. Эти гнезда находятся обычно на островках Ледовитого моря и делаются из громадных куч торфа, длиной в шесть футов, при ширине в пять и высоте в два. На вершине устраивается круглое углубление почти двух футов в диаметре. Яйца их коричневато-белые с более темными пятнами.
Географическое распределение этих трех видов очень интересно. На побережье Тихого океана водятся лишь дикие и Бевиковы лебеди, причем последних почти в пять раз больше, чем первых. Внутри страны встречаются лишь дикие лебеди и трубачи, последние в гораздо большем числе. На восточном же берегу Америки преобладают дикие лебеди.
И индейцы, и белые охотники усиленно уничтожают этих красивых птиц, так как их пух и перья находят спрос. В несколько лет более десяти тысяч лебединых кож было вывезено из Америки и продано по шесть-семь шиллингов каждая. По большей части то были шкуры наиболее распространенного дикого лебедя.
— Теперь вы знаете о лебедях столько же, сколько и я. Поэтому я заканчиваю свою лекцию и советую вам обратить свое внимание на жареного лебедя, который как раз готов. Я уверен, вы найдете его менее сухим, чем мое повествование, — сказал Люсьен в заключение.
Глава 5
ОХОТА НА ЛЕБЕДЕЙ ПРИ ФАКЕЛАХ
Через несколько дней путешественники благополучно добрались до поселка реки Красной, в котором остановились на весьма короткое время. Пополнив там свои запасы, они отправились дальше к озеру Виннипег. Лебеди попадались им в громадном количестве, но были по-прежнему пугливы, так что все попытки Франсуа застрелить хоть одного из них оставались тщетными. Мальчики были уже в двадцати милях от озера, и было маловероятно, что им удастся еще раз, хотя бы с помощью орлов, полакомиться лебединым мясом.
Норман, видя, до какой степени Франсуа стремится убить хоть одну из этих птиц, решил помочь ему советом. Обрадованный Франсуа обещал подарить ему в случае успеха свой складной нож, который носил в сумке.
Нож представляет немалую ценность в стране пушных зверей. За него вы можете получить лошадь, палатку, целую тушу быка или, что еще более странно, даже жену. Для охотников в этих местах, отстоящих на тысячи миль от того места, где продаются ножи, они чрезвычайно ценны. Но нож Франсуа был особенно хорош, и Норман не раз с завистью поглядывал на него.
— Что ж, — сказал Норман, — нам придется сделать несколько миль ночью, и, я думаю, мы не один раз с успехом разрядим наши ружья.
— Вы согласны, братцы? Не правда ли? Подумайте, как это будет интересно! — обратился Франсуа к братьям.
Люсьен и Базиль сразу согласились. Базиль никогда не слыхал о способе приблизиться к этим пугливым птицам и был тем более заинтересован.
— В таком случае, отлично, — сказал Норман. — Я с удовольствием познакомлю вас со способом, используемым местными индейцами при охоте на лебедей. Я думаю, мы будем в состоянии выполнить наш план сегодня же: ночь безлунная, и небо покрыто тучами. Будет достаточно темно.
— Разве это так необходимо? — спросил Франсуа.
— Чем темнее, тем лучше, — отвечал Норман. — Однако нам предстоят некоторые приготовления. Закат уже близок, и нам нечего терять время. Скорее же, пристанем к берегу.
Пирогу повернули к берегу, но, не дойдя до него, ее остановили, так как прикосновение пироги ко дну могло испортить ее. Всегда при приставании и отчаливании требуются самые большие предосторожности: путешественники выходят из пироги прямо в воду и по воде добираются до берега, в то время как один или двое остаются в пироге и держат ее неподвижной, затем вынимается груз, а после него поднимают пирогу и осторожно несут на берег, где и ставят килем вверх для просушки. Пироги из бересты настолько хрупки, что при малейшем ударе могут совершенно распасться. Они также чрезвычайно валки, и стоять в них далеко не безопасно. Поэтому, раз усевшись, путешественники двигаются в них как можно меньше. На ночь пироги всегда вынимают из воды, так как в противном случае береста вбирает в себя много воды и не скользит с прежней легкостью. Это заметно по разнице в ее весе утром и вечером.
Выйдя на берег, мальчики первым делом разложили костер и стали готовить ужин, который в этот день должен был состояться ранее обыкновенного: они хотели скорее отправиться на охоту и вернуться в лагерь около полуночи. Люсьен занялся стряпней, а Норман с помощью Базиля и Франсуа готовился к охоте. Франсуа, наиболее заинтересованный из всех, не пропускал ни одного его движения.
Прежде всего Норман в сопровождении Франсуа отправился в лес, где остановился около березы, легко различаемой благодаря своей серебристой гладкой коре. Своим острым охотничьим ножом он сделал на ней два параллельных круговых надреза, футах в четырех друг от друга. Он соединил их вертикальным надрезом и, запустив нож под бересту, содрал ее с дерева. Береза имела около фута в диаметре, так что содранная береста была шириною около трех футов. Вы ведь знаете, что окружность круга или цилиндра всегда приблизительно в три раза больше его диаметра.
Взяв с собою бересту, они вернулись в лагерь и разложили ее на земле, не полностью распластав. Ее вогнутую часть, которой она прилегала к дереву, зачернили углем, приготовленным для этой цели Базилем. К одному концу бересты прикрепили шест, который затем приладили к корме пироги так, что нижний край бересты приходился на уровне сидений, и мальчики были совершенно скрыты за нею.
Приготовив эту ширму, Норман взял топор и снова отправился в лес. Он шел за наростами особой породы сосны. И он очень скоро указал Франсуа нужное дерево, около пятидесяти футов высоты и около фута в диаметре у корня. Его кора была очень толстая, темная, с многочисленными трещинами. Иглы имели около трех дюймов в длину и росли по три вместе. Шишки были немного короче, напоминая своей формой яйцо, и тоже были соединены в группы из трех или четырех. Дерево было очень ветвистым, так что в наростах не было недостатка. При этой причине сосны не употребляются при плотницких работах, но очень ценятся как дрова.
Франсуа предполагал, что Норман собирается срубить одну из сосен, но он ошибался. Его товарищ, убедившись, что это было действительно нужное ему дерево, пошел дальше, внимательно посматривая на землю. Он остановился около поваленной ветром и полусгнившей сосны той же разновидности, топором срубил большое количество смолистых наростов, сложил их в свою сумку и повернул обратно в лагерь, объявив, что все приготовления закончены.
Мальчики сели ужинать и с аппетитом уничтожили большое количество сушеного мяса, сухарей и кофе.
Закончив еду, они спустили пирогу в воду. Перед берестовой ширмой, укрепленной на носу, они приладили сковороду, на которой разложили сухие сосновые наросты, готовые вспыхнуть от первой искры. Им оставалось только ждать темноты.
Охота должна была увлечь их еще ниже по течению, но так как это было им по пути, то оставалось только радоваться, что таким образом удавалось одним выстрелом убить двух зайцев. Они аккуратно сложили в пирогу все свои запасы и, весело болтая, ожидали наступления ночи.
Наконец темнота наступила и, как рассчитывал Норман, не было видно ни зги. Мальчики осторожно заняли свои места в пироге и пустились вниз по течению. Норман сидел на носу, чтобы иметь возможность наблюдать за устроенным факелом. За ним Франсуа с заряженной дробью двустволкой. Затем сидел Базиль с ружьем, а позади всех миролюбивый Люсьен веслом направлял пирогу. Плыли мальчики в полнейшем безмолвии. Скоро Норман зажег свой факел, и красные лучи его осветили поверхность реки и прилегающие берега. От берестового прикрытия лучи расходились только полукругом, а мальчики, вследствие контраста, казались в еще большей темноте, чем раньше. Преимущество такого приспособления было всем очевидно: перед мальчиками лежало ярко освещенное пространство, на котором ни малейшая травинка, не говоря уже о большом трубаче, не могла укрыться от взоров. Сами же они за берестой были совершенно невидимы.
Оставалось еще два вопроса: встретятся ли им лебеди и позволят ли они приблизиться на расстояние выстрела? На первый вопрос Норман не был в состоянии ответить, так как это зависело от случая. Не было причины сомневаться в этом, так как еще накануне они встретили многих лебедей. На второй вопрос Норман дал положительный ответ: он не раз таким способом охотился на лебедей и был убежден, что они наверно приблизятся к ним. Лебеди либо спокойно подпустят к себе освещенную пирогу, либо даже поплывут ей навстречу, побуждаемые к тому любопытством. Этим же способом охотился Норман и на оленей и перебил их не одну сотню по берегам рек, пока они спокойно наблюдали за необычайным огнем.
Его товарищи охотно верили ему, так как сами таким же способом охотились на оленей в лесах Луизианы. Животные, как будто загипнотизированные, спокойно подпускали к себе охотника, не спуская глаз с факела, и падали, сраженные пулей.
Скоро собственный опыт убедил их в применимости этого способа и к лебедям. Пирога обогнула поворот реки, на поверхности которой мальчики увидели три белых предмета, сразу признав в них лебедей, которые при фантастическом освещении факела казались еще более громадными. Их длинные выгнутые шеи не оставляли в том ни малейшего сомнения, и мальчики направили пирогу прямо на них.
Заметив приближавшийся огонь, один из лебедей испустил свой странный крик, похожий на звук трубы, и повторял его не раз, пока пирога подплывала ближе.
— Я слыхал, что лебеди поют только перед смертью, — сказал Франсуа Базилю.
— Надеюсь, это вполне оправдается на сей раз. — И он тихо рассмеялся своей шутке.
Базиль и Люсьен тоже улыбнулись.
— Боюсь, что в крике его слишком мало пения, — возразил Базиль. — Вероятно, он еще долго будет трубить в свою трубу.
Мальчики снова рассмеялись, но смех их был так беззвучен, что можно было сказать, что они смеются шепотом.
Но дело становилось серьезным. Они были на расстоянии каких-нибудь двухсот ярдов от птиц, и следовало соблюдать возможно большую осторожность. Заранее было решено, что первым выстрелит Базиль, за выстрелом которого должен был последовать выстрел Франсуа по уже взлетевшей птице.
Наконец Базиль решил, что пирога подплыла достаточно близко, и, прицелившись, спустил курок. Птица взмахнула крыльями и почти тотчас распласталась на воде. Два других лебедя поднялись в воздух, когда выстрел двустволки Франсуа ранил одного из них в крыло. Тем не менее птица была поймана лишь после ожесточенной погони за ней и борьбы, во время которой она с большой силой ударила по руке Франсуа своим здоровым крылом. Наконец оба лебедя были благополучно втащены в лодку и оказались огромными экземплярами самца и самки трубачей.
Глава 6
НЕОЖИДАННАЯ КАТАСТРОФА
Конечно, звук выстрелов спугнул всех других лебедей, находившихся невдалеке. И было маловероятно встретить новую стаю их, по крайней мере, на известном расстоянии. Поэтому путешественники быстро помчались дальше. Не прошли они и полумили, как неожиданно снова показались лебеди. Мальчики приблизились к ним тем же способом и убили целых три штуки, причем Франсуа особенно отличился: он застрелил по лебедю из каждого ствола своего ружья. Немного дальше убили они дикого лебедя, а еще дальше нового трубача.
Эти семь больших птиц почти заполнили всю лодку и, казалось бы, должны были удовлетворить охотников. Но не так-то легко охотнику отказаться от дальнейшего кровопролития, и вместо того, чтобы прекратить его, мальчики продолжали охоту.
Проплыв немного от того места, где они убили последнего лебедя, и обогнув небольшой выступ берега, они вдруг услыхали громкий шум водопада. В первую минуту они несколько смутились и встревожились, так как, возможно, их несло прямо к водопаду. Норман не мог сказать ничего определенного, так как никогда не плавал по этой реке и не знал, есть ли на Красной реке водопады. В свои предыдущие путешествия на юг он придерживался другого пути, идя по реке Виннипег, через Дождливое и Лесное озера в Верхнее, так как этот путь наиболее известен промышленникам Компании Гудзонова залива.
Застигнутые врасплох, мальчики остановили пирогу. Шум доносился очень явственно, и, очевидно, пороги или водопад были поблизости. Но внимательно вслушавшись, они пришли к убеждению, что шум производился не самой рекой Красной, а каким-нибудь притоком ее, и потому снова двинулись вперед.
Их предположение оказалось совершенно верным: шум с каждой минутой усиливался, и вскоре они увидели быструю речку, впадавшую в Красную с правой стороны. Эта речка была покрыта белой пеной и пузырьками, из чего можно было сделать заключение, что она только что прошла стремнину или какой-нибудь уклон. И действительно, подплыв к самому устью ее, мальчики увидели ярдах в тридцати довольно значительный водопад. Вода скатывалась вниз по нескольким ступеням и превращалась внизу в быстрый, пенящийся поток. Они направили пирогу в самый поток и, увлекаемые его быстрым течением, сложили весла и с неимоверной скоростью понеслись вниз по реке.
Их внимание было скоро привлечено большой стаей лебедей, наиболее многочисленной из всех виденных ими до сих пор. Обыкновенно лебеди не держатся больше шести-семи вместе, чаще же встречаются парами. Мальчики решили выстрелить по ним залпом. Все вооружились ружьями, и даже Люсьен, до тех пор направлявший веслом пирогу, решил на этот раз попытать счастья. Пирогу направили так, что она сама по себе неслась к тому же месту, где находились лебеди.
Очень скоро охотники приблизились к птицам и ясно различали их длинные шеи, в удивлении повернутые в сторону факела. Мальчики не могли расслышать их крики за шумом водопада. Базиль и Норман выстрелили одновременно, почти сейчас же за ними раздались выстрелы Франсуа и Люсьена. Три лебедя были убиты наповал, четвертый, очевидно раненый, нырнул и затем понесся вниз по течению. Остальные поднялись в вышину и исчезли в темноте.
Пока все их внимание было обращено на охоту, пирогу, не управляемую веслом Люсьена, внезапно подхватил водоворот и повернул кормой вперед, так что факел не освещал более их пути. Впереди все было в полнейшем мраке. Раньше чем путешественники были в состоянии вернуть пирогу в прежнее положение, до их слуха донесся новый шум, заставивший некоторых из них вскрикнуть от ужаса. Этот шум был также шумом водопада, но не того, мимо которого они только что проплыли. Водопад должен был быть прямо перед ними, на самой реке, и к нему-то с неимоверной быстротой несло их течение.
Норман быстро приказал товарищам со всех сил налечь на весла, и сам поднялся в пироге, чтобы схватить весло. Мальчики были в полном отчаянии: валкая пирога почти переворачивалась от их быстрых движений. Новый водоворот снова повернул ее, и факел осветил пространство, к которому они неслись. Оно все было покрыто пенившейся и клубящейся водой, неистово бившейся о торчащие из воды утесы. Водопада, правда, не было, но пороги, на которые они неслись, были не менее опасны. Они забыли и думать о лебедях. Единственной мыслью их было как остановить пирогу, не доходя до порогов. Но все их усилия оставались тщетными: пирога была подхвачена сильным течением и неслась все быстрее и быстрее.
В несколько секунд пирога стрелой пронеслась через первые пороги. Посредине реки возвышалась громадная скала, о которую неистово бились волны. Пирогу несло прямо на нее, но так как факел снова был обращен в противоположную сторону, то мальчики заметили ее только тогда, когда пирога уже коснулась ее. Но даже и знай они о близкой опасности, они все равно были бы не в состоянии помочь: пирога совершенно вышла из их власти и неслась вперед по воле волн.
Несколько секунд, прибитая к скале водою, пирога оставалась неподвижной. Но бока ее скоро поддались напору волн, и вода начала вливаться в нее. Базиль, всегда сохранявший хладнокровие, сразу увидел, что пирога обречена на гибель и что во что бы то ни стало необходимо покинуть ее. Он бросил весло, схватил свое ружье и решительно приказал товарищам прыгать на скалу, что тотчас же и было исполнено. Маренго последовал их примеру.
Облегченная пирога снова была подхвачена течением и стрелой помчалась вниз. В следующее мгновение ее перебросило через другую скалу, вода быстро наполнила ее. Белые лебеди, платья, одеяла и прочие вещи поплыли по поверхности. Горевшие сучья с шипением гасли в воде, и скоро все погрузилось в непроницаемую тьму.
Глава 7
КОЖАНЫЙ МОСТ
Лодка погибла вместе со всем или почти со всем, что в ней было. Спасены были только ружья, ножи, рожки с порохом, то есть то, что люди имели на себе. Уцелела еще одна вещь: топор, выброшенный Базилем на скалу в последнюю минуту крушения. Все остальное — платье, одеяла, кухонная посуда и принадлежности, провизия: кофе, мясные консервы и прочее — было утрачено безвозвратно; все это или было унесено водою, или застряло между камней — словом, все пропало, и наши путешественники стояли на небольшой голой скале, окруженной стремниной, имея на себе только одежду и оружие. Они были столь ошеломлены поразившей их неожиданно бедой, что на несколько минут оцепенели и молчали. Они искали глазами лодку, но ничего не могли увидеть, окружавший их мрак как будто усилился с исчезновением света факелов. Только выделялась в темноте пена, белая, как убитые ими лебеди, и шум прибоя поражал их слух зловещим гулом.
Долго стояли они, угнетенные печальным положением, в которое поверг их слепой случай. А положение было поистине печально! Они находились на тесной скале среди быстрины реки, в дикой местности, вдали от всякого жилья, отделенные от него непроходимыми лесами и глубокими реками.
Но наши юные путешественники были людьми такого закала, что не поддавались отчаянию. Всякому из них и прежде случалось испытывать опасности большие, чем теперь. Как только они убедились, что судно их со всем имуществом погибло, первой их мыслью была мысль о том, как выпутаться из скверного положения.
В эту ночь они были беспомощны: нельзя было покинуть скалу, окруженную быстрым потоком; острые камни торчали из бурлившей вокруг них воды; в темноте невозможно было переправляться вплавь к невидимому берегу, борясь со стремительным течением — это было бы безумием. Не оставалось ничего другого, как дождаться утра, а потому они тесно уселись на скале и приготовились провести на ней ночь. Было слишком мало места, чтобы они могли лечь, и, истомленные, сидели они в полудреме, изредка перебрасываясь словами. Рев воды их оглушал, они зябли.
Правда, спасаясь из лодки, юноши не очень промокли, но они потеряли все верхнее платье, все одеяла и буйволовы кожи, которыми обыкновенно прикрывались, и хотя весна уже была на исходе, но в окрестностях озера Виннипег, даже и в это время года, ночи пронзительно холодны. Эта местность находится приблизительно под 50-м градусом широты, и если в Англии, лежащей на этой же параллели, весенние ночи не очень свежи, то не надо забывать, что линия равных средних температур — что на языке метеорологов зовется линией изотерм — лежит в Америке гораздо дальше от полюса, чем в Европе. При этом надо, кстати, заметить, что и на берегах Атлантического океана она под тою же широтою. Вообще климат западных побережий обоих континентов, то есть Старого и Нового Света, менее суров, чем климат стран на восточных их берегах.
Но обратимся к тому, что мы говорили о холоде в весеннее время на широтах озера Виннипег. Холодны только ночи, днем же там бывает так жарко, что можно вообразить себя в тропиках. Эти резкие перемены характерны для Америки, в особенности тех ее областей, которые удалены от западных берегов.
Наши путешественники прозябли до самых костей и были рады увидеть рассвет. Как только утренние лучи проникли к ним сквозь чащу окружавших реку деревьев, они стали соображать, как им добраться до этих деревьев. Хотя переплыть реку для каждого из них было пустяком, но тут дело осложнялось. Будь они на какой-нибудь отмели, им нетрудно было бы найти место, где течение не так сильно, но ведь вокруг скалы, на которой они приютились, ревел со всех сторон такой бурный, стремительный поток, что при попытке броситься вплавь человек мог быть унесен водой и разбиться о камни. Все это юноши поняли, когда сделалось совсем светло. Все их внимание, все умственные силы были сосредоточены на одной мысли: как добраться до берега?
Правый берег реки отстоял дальше, но достигнуть его казалось легче: течение было слабее и глубина как будто меньше на этой стороне реки. Базиль решил попытаться, но едва вошел в воду, как погрузился в глубину, вода его понесла, и он едва мог доплыть обратно до скалы. До правого берега было около ста ярдов, там и сям торчали из воды острые камни, и Люсьен заметил, что если бы у них была веревка, то, обернув ее вокруг скалы, они могли бы добраться до одного из этих камней, а от него до других с помощью той же веревки, и так далее, до самого берега. Мысль недурная, но откуда взять веревку? Все их веревки пропали, оставались только ремни и шнуры, на которых висели сумки, но они были ненадежны, да их бы и не хватило. Путешественники призадумались. Они глядели вопросительно друг на друга, не оставляя надежды изобрести что-нибудь. Базиль и Норман, по-видимому, нашли: оба разом, как будто сговорясь, расстегнули свои пояса и стали снимать с себя свои кожаные блузы и охотничьи рубашки. Другие два брата поняли их намерение и, ничего не говоря, последовали их примеру.
Все четверо взялись за работу: Люсьен и Франсуа держали блузы и рубашки в руках, а Базиль и Норман нарезали из них ножами узкие полосы. Через несколько минут ремни из козловой кожи шириною в два дюйма и около одного ярда длиной были накрепко связаны и образовали веревку около сорока футов длиной. На одном конце ее сделали отверстие и через него продели другой конец: получилась подвижная петля вроде индейского или мексиканского лассо. Теперь веревка была готова и отдана в распоряжение Базиля, когда-то упражнявшегося в обращении с лассо. Став на вершине скалы и взяв в правую руку петлю, а в левую свободный конец, он поднял самодельное лассо над головой. Товарищи его пригнулись, чтобы дать простор размаху веревки, которая после нескольких вращательных движений была удачно накинута на ближайший камень и обвила его. Громкое «ура» приветствовало этот успех.
Конец веревки прикрепили к скале таким образом, что она не могла сползти с нее, и теперь путешественники могли приступить к переправе. Каждый из них опоясался ремнем, пропустив через него длинную кожаную веревку, перекинутую между скалами, так что мог двигаться вдоль нее и в то же время свободно действовать руками. Базиль перебрался первым. Он был старше других и считал справедливым первым подвергнуться риску. Своеобразный кожаный мост действовал отлично, выдерживая тяжесть человека при всей силе течения. Действительно, течение относило смельчака, и веревка туго натягивалась, но, цепляясь за нее руками, Базилю удалось добраться до ближайшего камня и влезть на него. С боязливым вниманием следили за его усилиями товарищи и, как только он стал на ноги, радостно приветствовали его. Следующим переправился Люсьен, а за ним Франсуа, все время смеявшийся во время переправы, тогда как его братья не без опасения совершили ее. Вслед за ним был таким же способом переправлен Маренго. Последним переплыл Норман, и теперь все четверо со своей собакой стояли на камне, хотя едва помещались на нем.
Тут возникла новая трудность, о которой они до того не подумали: надо было переплывать вторую стремнину до следующего камня. Но как высвободить конец каната, прикрепленный к скале? Кто-нибудь из четверых мог бы переправиться обратно и отвязать конец, но как он снова вернется назад? Вот новая дилемма.
Надо сделать второй канат. Остались рубашка Франсуа и их сапоги, можно было их разрезать. Таково было мнение Франсуа и Нормана, и Люсьен, очевидно был с ними согласен.
Они уже хотели снимать сапоги, но возглас Базиля: «Стоп!» остановил их.
— В чем дело?
— Я думаю, что могу освободить тот конец. Во всяком случае, я попытаюсь это сделать.
— Каким образом?
— Потеснитесь-ка, вы! Освободите мне место — и увидите.
Став твердо на камне, Базиль взял в руки ружье, как бы намереваясь стрелять. Да это он и собирался сделать. Его братья не произнесли ни слова. Они сразу поняли его план и напряженно следили за находчивым юношей. Ремень представлял с той стороны, где стоял Базиль, удобную цель. Конечно, юноша не рассчитывал одним выстрелом порвать его, но надеялся это сделать хоть несколькими.
Раздался выстрел, и вслед за ним поднялась пыль в том месте скалы, куда целился Базиль.
Пока Базиль заряжал снова ружье, прицелился Норман, и хотя он не был таким стрелком, как Базиль — трудно было встретить второго такого же! — но тоже считался метким среди охотников, и его пуля также попала в цель. Ремень был более чем наполовину рассечен. Второй выстрел Базиля был также удачен, и едва он раздался, как ремень лопнул и упал в воду. Снова раздалось веселое «ура» Франсуа, и канат был вытянут на камень. Базиль, как в первый раз, перекинул петлю на следующий ближайший камень, ловко охватив его, и вторая переправа совершилась. Теперь уже больше не нужно было доставать конец каната. С этой скалы можно было достигнуть берега просто вплавь; оставив свой кожаный мост на месте, отважные, ловкие юноши бросились в воду и все четверо благополучно достигли берега.
Глава 8
ОБМАНУТЫЕ КОЗЫ
Избавившись от опасности, путники устроились у реки, но положение их нельзя было считать приятным. Они находились в пустынной местности, и у них не было ни лодки, ни лошади, на которых они могли бы выбраться из нее. Они лишились всего имущества, кроме топора и ружей. На широте, где холодное время года иногда так затягивается, что даже захватывает летние месяцы, двоим из них пришлось пожертвовать своим платьем и дрожать от холода. У них не было даже пищи: ни мяса, ни хлеба, ничего такого, чем можно было бы насытиться. С этого момента им оставалось надеяться только на свои охотничьи принадлежности, оставшиеся после катастрофы, чтобы отыскивать себе пропитание. Найти его было первой их задачей. Голод сильно давал себя чувствовать. Выйдя на берег, юноши, точно сговорившись, начали внимательно смотреть на деревья в надежде увидеть между ветвями хоть какое-нибудь четвероногое или птицу, пригодных для завтрака. Но не всегда действительность соответствует надеждам: лес, который, судя по внешнему виду, должен был скрывать в своей чаще множество дичи, казался необитаемым, и глаза проголодавшихся юношей ничего не находили в нем. Между большими деревьями росло много ягодных кустов и всякие растения со съедобными корнями, и наши путешественники не сомневались, что поблизости должна была в изобилии водиться дичь. Было решено, что Люсьен и Франсуа останутся на месте и разложат костер, а Базиль и Норман отправятся в чащу на охоту.
Не прошло и часу, как последний вернулся, неся на плечах животное, в котором Франсуа и Люсьен узнали старую знакомую — антилопу с рогами, похожими на вилы. Норман называл ее козою, говоря, что так называют этих животных промышленники, тогда как между канадскими путешественниками они известны как кебри. Люсьен, однако, отлично знал это животное; знал, что таких коз не существует и что это настоящая антилопа особого вида, единственная, встречающаяся в Северной Америке. Они живут только в прериях и в настоящее время совершенно не встречаются на востоке, где кончается степь, и на севере, где холод для них невыносим. В прежнее время, однако, лет двести тому назад, они, по-видимому, доходили до берегов Атлантического океана, так как отец Геннепен в описании своего путешествия говорит о козах, убитых близ Ниагары; это, по всей вероятности, и были вилорогие антилопы. Дикие козы Америки, встречающиеся в Скалистых горах, — совершенно другая порода.
Убитое Норманом животное было именно антилопой, хотя цветом и бородой, растущей у нее под мордочкой, она действительно очень напоминает обыкновенную европейскую козу.
Самцы, кроме того, имеют характерный козлиный запах, исходящий из двух маленьких желез в углах рта, где расположены пятна черновато-бурого цвета.
Люсьену и Франсуа уже не в первый раз приходилось убивать антилоп. Они не раз заманивали их во время своего первого странствия по прериям и бывали свидетелями того, как волки применяли в своей охоте на них тот же способ. Индейцы тоже хитростью заманивают антилоп; эти животные настолько любопытны, что достаточно какой-нибудь ярко окрашенной тряпки или другого необыкновенного предмета, чтобы заставить их приблизиться на расстояние выстрела.
Норман сказал, однако, что индейцы редко охотятся на них: шкуры антилоп не имеют особенной ценности, мясо не считается вкусным, да и водятся они в местности, изобилующей другими, более интересными и ценными животными — буйволами, лосями и оленями.
Поэтому антилоп преследуют и убивают только в крайнем случае, когда индейцы уж чересчур голодны и не имеют выбора.
Пока сдирали с антилопы шкуру, Норман рассказывал товарищам о том, как он ее убил. Ему удалось хитростью привлечь ее к себе. Пройдя с полмили по лесу, он вышел на большую поляну. Он находился, по-видимому, на опушке леса, тянувшегося по берегу реки, за которым начиналась степь с разбросанными кое-где группами деревьев. Действительно, местность, орошаемая Красной рекой, представляет собой прерию, простирающуюся вплоть до Скалистых гор и делимую лесами на отдельные поляны. Выйдя на открытое место, Норман увидел стадо антилоп, приблизительно штук десять или двенадцать. Конечно, он предпочел бы встретить лося или оленя, так как не более индейцев любил козлиное мясо, но голод давал себя знать, выбора не было — и он решил добыть хотя бы антилопу. Приблизиться к ним было нелегко: местность была ровная, без бугров или кочек, за которыми можно было бы спрятаться, и необходимо было придумать какую-нибудь хитрость. Он лег на спину и поднял вверх ноги. Маневр этот оказался как нельзя более удачным: антилопы скоро заметили их, любопытство их разгорелось, и они начали медленно, кругами приближаться к Норману; по-видимому, ужасно интересуясь необыкновенным предметом, они все же не решались подойти к нему вплотную. Круги все уменьшались, и стадо приближалось. Наконец один самец подошел так близко, что было немыслимо промахнуться. Норман быстро вскочил, прицелился и выстрелил. Животное упало мертвым, остальные разбежались во все стороны. Норман был так голоден, что не чувствовал в себе сил продолжать охоту; он взвалил убитую антилопу на плечи и быстро возвратился к ожидавшим его товарищам, даже не осмотрев внимательно свою добычу.
Тем временем Люсьен и Франсуа успели разложить костер и согревали около него свои мокрые ноги. Когда вернулся Норман, они вместе с ним принялись за приготовление завтрака. В один миг сняли они с антилопы шкуру, и тонкие куски мяса зашипели на огне. В воздухе пахло жареным мясом, костер весело пылал, все было как нельзя более привлекательно; недоставало только Базиля. Но тот все не являлся. Проголодавшиеся, как волки, мальчики не в состоянии были дольше ждать его, они сели вокруг костра и принялись за еду.
Братья совершенно не знали, где мог находиться Базиль; но было еще сравнительно рано, и, решив, что тот не хочет возвращаться с пустыми руками, они не беспокоились о нем.
Время, однако, шло, а Базиль все не возвращался, и его товарищи стали беспокоиться. Они совершенно не были знакомы с лесами, где находились, да и костюм Базиля был настолько легок, что нельзя было предположить, что он добровольно так долго отсутствует. Ими все более овладевала тревога.
Волнение их усиливалось и наконец сделалось совершенно невыносимым. Было решено отправиться на поиски. Они избрали разные направления, чтобы вернее найти брата. Норман отправился в лес, Люсьен и Франсуа пошли по берегу, предполагая с наступлением темноты возвратиться в лагерь.
Проблуждав несколько часов по лесу, Норман без всяких результатов вернулся обратно. Люсьен и Франсуа вернулись еще раньше. Удрученные, они решили, что Базиль неминуемо погиб: другого объяснения его долгого отсутствия они не находили. Он, должно быть, пал жертвой какого-нибудь хищного зверя, пантеры или медведя, или был схвачен индейцами и уведен в плен, может быть, убит на месте…
Наступила ночь. Все трое уселись вокруг костра и, понурив усталые головы, предались своим горестным мыслям. Несмотря на усталость, никому не приходило в голову лечь спать. Иногда они перекидывались несколькими словами относительно участи товарища, затем снова умолкали. Ночью нельзя было ничего предпринять, и они решили дождаться утра, чтобы с рассветом снова начать поиски.
Близилась полночь. Они молча сидели около костра, как вдруг Маренго поднялся и сердито зарычал. Из лесу раздался резкий свисток.
— Ура! — закричал Франсуа, вскакивая на ноги. — Это свисток Базиля, я среди тысяч других узнаю его, ура!
«Ура» Франсуа гулко пронеслось по лесу, и в ответ на него тотчас же прозвучало громкое приветствие Базиля:
— Удача, удача, друзья мои!
Через несколько мгновений показалась высокая фигура Базиля, освещаемая костром. Вся компания, возглавляемая Маренго, бросилась ему навстречу и с торжеством привела к костру. Базиль вернулся не с пустыми руками: в одной он держал мешок с тетеревами, или степными петухами, а на плече нес два больших буйволовых языка.
— Вот вам! — вскричал он, кидая мешок на землю. — Это на ужин, а это, — продолжал он, указывая на языки, — лакомый кусочек, который вы долго будете помнить. Принимайтесь же за дело; я так голоден, что готов их есть сырыми!
Предложение Базиля было сейчас же принято. В костер подбросили дров, смастерили вертела и поджарили тетеревов и один из языков. Несмотря на то что Люсьен, Франсуа и Норман уже поужинали, они подсели полакомиться новым блюдом. Базиль, конечно, был более других голоден, так как очень устал и решительно ничего не ел до этой минуты, не желая терять времени на приготовление еды из убитых им буйволов и еще более усиливать беспокойство товарищей.
Именно эти буйволы и были причиной его долгого отсутствия. Все жаждали узнать о его похождениях. За едой он начал свое повествование.
Глава 9
ПЛЯСКА КУРОПАТОК
— Выйдя из лагеря, — начал Базиль, — я направился в лес по диагонали от реки. Я не прошел и трехсот ярдов, как услышал глухой шум, который принял сначала за отдаленный раскат грома. Но прислушавшись, я узнал в нем полет стаи тетеревов и, конечно, поспешил по направлению шума, но сделал, пожалуй, не меньше мили, прежде чем увидел птиц. Их была огромная стая на открытом, гладком месте. Опустившись на землю, они бегали по кругу футов двадцати в диаметре и кружились в разных направлениях. Я понял, что передо мной происходит так называемая птичья пляска, и, несмотря на свой и ваш голод, мне захотелось понаблюдать за этим странным представлением. То и дело тот или другой тетерев, отделяясь от остальных, вскакивал на камень и красовался на нем, потряхивая хвостом и хохолком. Затем, взмахивая крыльями, издавал резкий крик. Это было сигналом, по которому выскакивал второй тетерев и вступал с первым в борьбу.
Я бы долго мог смотреть на эту картину, если бы голод не торопил меня. Не имея дроби, я должен был наметить определенную жертву для своей пули, что и сделал. Мой выстрел уложил на месте одного борца. Остальные птицы, переполошившись от выстрела, поднялись, но не отлетели далеко, а сели в двух сотнях ярдов на большое дерево. Подбираясь к ним, я проходил мимо повалившихся стволов, и каково было мое удивление, когда среди них увидел двух тетеревов, продолжавших яростно биться! Они были так увлечены борьбой, что не заметили моего приближения, и я смог схватить их руками, не тратя заряда. Свернув им шею, я погасил их пыл и направился дальше к стае, продолжавшей спокойно сидеть на дереве. Приблизившись, я спрятался за другим деревом и, прицелившись в одного тетерева, свалил его на землю. Остальные не тронулись с места. Конечно, я метил в сидевшего на нижней ветке, зная, что, застрели я одну из верхних птиц, ее падение спугнуло бы всех остальных.
Итак, я зарядил ружье и выстрелил, снова зарядил и выстрелил и так палил, пока не настрелял полдюжины этих птиц. Подойдя к дереву, чтобы подобрать настрелянную дичь, я с удивлением увидел спускавшийся с нижних ветвей конец веревки. Я оглянулся кругом, чтобы найти еще какие-нибудь следы, и увидел на земле место от костра, очевидно, давнего. Вероятно, несколько индейцев отдыхали здесь когда-то. Потянув веревку к себе, я увидел, что это не что иное, как лассо. Это была драгоценная находка, если вспомнить, что недавно такая вещь спасла нам жизнь. Повесив его себе на плечо и сложив убитую дичь в мешок, я хотел уже направиться к лагерю, как вдруг увидел нечто, изменившее мои намерения. Я был на опушке леса, и между стволов передо мной открывалось широкое, свободное пространство. Над ним стояло облако пыли, и в нем я различил двух движущихся огромных животных. Это были два дерущихся буйвола.
Тут рассказ Базиля был прерван интересным происшествием. Уже несколько раз он прерывался странными криками из лесу, криками, которые своими дикими звуками навели бы ужас на незнакомого с ними человека. Но наши друзья знали, что это голоса больших рогатых сов, и не обращали на них внимания. Теперь же Базиль остановился, увидя, что одна сова подлетела совсем близко к ним и опустилась на дерево шагах в двадцати от костра, освещавшего ее. Она издавала свои странные крики, сопровождая их такими необыкновенными движениями, что забавно было на нее смотреть. Франсуа схватил ружье, но раньше, чем он спустил курок, птица слетела с ветки, подошла еще ближе и, протянув свою лохматую лапу, схватила тетерева, лежавшего не дальше шести футов от костра! Захватив его когтями, сова поднялась на воздух и исчезла бы в темноте, но выстрел Франсуа прервал ее полет, и она упала наземь с тетеревом в когтях. Маренго бросился к сове, но та была только ранена, и, прежде чем с ней справиться, собака получила несколько изрядных царапин. Эта добыча была предоставлена Маренго, и он продолжал с ней возиться, в то время как Базиль продолжал рассказ.
Глава 10
БАЗИЛЬ И БУЙВОЛ
— Первой моей мыслью, когда я увидел буйволов, было подойти к ним поближе и выстрелить. Они вполне стоили пороха, и я решил, что, раздобыв хоть одного из них, мы на долгое время будем избавлены от голода. Я повесил охотничью сумку на ветку и стал осторожно приближаться. Ветер дул навстречу, и мне нечего было опасаться, что они почуют меня. Но местность была совершенно открытая, без малейшего кусточка, и я решил, что было бы бесполезно стараться достичь их ползком. Поэтому я просто пошел, стараясь ступать как можно легче, и через пять минут очутился от них на расстоянии выстрела. Они не видели меня, все их внимание ушло на борьбу. Морды их были покрыты пеной, ноздри раздувались; временами они вдруг расходились, чтобы с еще большей яростью наброситься друг на друга. Черепные кости трещали от страшных ударов. Лишь благодаря особенной крепости буйволовых черепов не разлетались они на куски. Когда на расстоянии шести шагов я выстрелил в голову одного из них, пуля только расплющилась и упала на землю. Буйвол удивленно посмотрел в мою сторону: до той минуты он и не подозревал обо мне.
Я недолго наблюдал их борьбу: меня она не интересовала. Я думал только о мясе и старался верно определить, который из двух был наиболее жирным. Затем я прицелился и выстрелил. Пуля точно попала в буйвола; как раз в момент, когда противник с яростью бросался на него, раненный мною буйвол упал на землю. Тот все же добежал до него и ударил упавшего в лобную кость с такой силой, что тот повалился на бок и скоро перестал шевелиться. Нападавший обернулся и, заметив неподвижно лежавшего соперника, в первое мгновение приписал себе всю честь победы. Он поднял голову и самодовольно захрапел. Меня он до этой минуты не замечал, весь отдавшись борьбе, но теперь, когда он поднял голову, то вдруг увидел меня. Я был уверен, что он бросится бежать, и потому торопился снова зарядить ружье. Второпях коробка с пистонами упала к моим ногам. Но в руках у меня уже был один пистон, и я не торопился поднимать коробку. Я уже прицелился в буйвола, как вдруг он неожиданно бросился на меня. Я выстрелил, но неудачно: пуля попала в морду и, нисколько не мешая его движениям, только еще более разъярила его. Мне некогда было снова заряжать ружье: буйвол был уже очень близко от меня; я еле успел отскочить в сторону, когда он промчался мимо меня, сотрясая почву своей тяжелою поступью.
Он разом повернулся и с новой силой бросился в мою сторону; я понял, что погиб, если он только коснется меня; рога его были выставлены вперед, и глаза горели свирепой решимостью. Я бросился к убитому буйволу в надежде, что смогу укрыться за ним от нападения. Так оно и случилось: буйвол запутался в конечностях убитого соперника, и я вторично избежал его рогов. Он снова бросился на меня с быстротой молнии. Неподалеку я заметил дерево, но не знал, успею ли вовремя добежать до него. В эту минуту я был особенно близко к нему и, опасаясь, что мне не удастся долго уклоняться от разъяренного животного, решил попробовать добраться до дерева. Со всех ног пустился я бежать, преследуемый моим врагом. Я хотел искать защиты за деревом, но, достигнув его, заметил, что первые ветки начинались очень низко от земли, и, схватившись за одну из них, быстро вскарабкался наверх.
Первой моей мыслью было зарядить ружье и застрелить вернувшееся животное. Буйвол продолжал ходить вокруг дерева, ударяя в него рогами и неистово мыча. Дерево было маленькое и сильно тряслось под его ударами, так что я начинал уже думать, что оно может свалиться. Наконец мне удалось вложить в ружье пулю, и я уже повернул его, чтобы заложить и пистон, как с отчаянием вспомнил, что коробка со всеми моими пистонами осталась на земле: внезапное нападение животного не позволило мне поднять ее. Итак, заряженное ружье мое было мне не полезнее железной палки. Я не смел слезать на землю, так как буйвол продолжал кружиться под моим деревом; достать пистоны было невозможно. Я начинал приходить в отчаяние. Будь у меня хоть один пистон, мне ничего не стоило бы убить буйвола, который, по-видимому, решил уничтожить меня: он был не далее трех футов от дула, но как мог я стрелять без пистона? Я уже думал воспользоваться трутом и полез за ним в сумку, как вдруг новая мысль осенила меня. Я ощупал лассо, которое продолжало висеть у меня через плечо, решив попробовать поймать им буйвола и привязать его к дереву.
Не теряя времени, я размотал веревку и укрепил один ее конец у дерева. Из другого конца я сделал петлю и, наладив ее как следует, держал ее в правой руке в ожидании удобного момента. Скоро он представился: буйвол продолжал кружиться подо мной. Бросать лассо для меня было делом привычным, и при первой же попытке я увидел, что веревка должным образом обвилась вокруг его шеи. Я затянул петлю, перекинул веревку через ветку и, получив таким образом нечто похожее на блок, со всей силы потянул книзу.
Буйвол, почувствовав этот неожиданный ошейник, сначала стал страшно биться, потом бросился бежать. Но скоро он натянул веревку во всю длину, и каждое новое его движение все больше затягивало петлю и душило его. Не будь шея его покрыта такой густой шерстью, он тут же и погиб бы. Но шерсть спасла его, и он продолжал отчаянно биться. Дерево сильно трещало и, опасаясь, что оно может сломаться, я соскочил на землю. Я побежал прямо к тому месту, где уронил коробку с пистонами, и быстро зарядил ружье. Осторожно добрался я до прежнего места и пулей прекратил страдания буйвола.
Было уже поздно: я знал, что вас будет беспокоить мое отсутствие. Поэтому я вырезал лишь буйволовы языки и, захватив убитых тетеревов, вернулся к вам. Над буйволами я оставил знак, так что надеюсь, что мы найдем их в целости завтра утром.
Базиль закончил свой рассказ. Мальчики добавили дров в костер, так что должно было хватить до утра: у них не было ни постелей, ни одеял, и огонь был им совершенно необходим. Базиль и Норман были даже в одних рубашках, и вся надежда их была на костер. Они легли рядом вокруг огня и довольно сносно провели ночь.
Глава 11
ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
На следующее утро они встали рано. Позавтракав остатками языка буйвола, тетерева и грудинки антилопы, они отправились за оставшимися буйволами. В несколько приемов перетащили они в лагерь все мясо и, отделив его от костей и разрезав на тонкие куски, развесили над огнем, чтобы высушить его.
Пока мясо сушилось, мальчики сели вокруг огня и стали обсуждать дальнейшие планы. Сначала они решили возвратиться в поселок Красной реки, чтобы раздобыть там другую пирогу и новые припасы. Но это было нелегко. На пути лежало несколько больших озер и болот, и проделать этот путь пешком, да притом еще возвращаясь назад, казалось им слишком грустным. Но что же им оставалось делать? Правда, на северном конце озера Виннипег находился форт Норвей, но как добраться до него пешком? Обойти же озеро — значило сделать, по крайней мере, четыреста миль. Нужно было бы перебираться через многочисленные реки, болота и непроходимые леса. На это ушло бы не менее месяца, и в Норвей-Гоузе они оказались бы так же далеки от цели их путешествия, как и теперь. Да и лежал этот форт совершенно в стороне от их прямого пути. Кумберланд-Гоуз, другая промышленная станция на реке Саскачеван, была первою остановкой, намеченной ими по уходе из селения Красной реки. Но добраться до него пешком было бы тоже трудно, так как и эта станция была в нескольких сотнях миль от них и по пути лежали также озера, болота и реки.
— Только бы не идти назад! — воскликнул Франсуа, всегда готовый на самые смелые предприятия. — Сделаем лодку и отправимся вперед.
— Легко сказать! — возразил Базиль. — А как ее сделать?
— Что же мешает нам срубить толстое дерево и выдолбить его? У нас есть топор и два маленьких топорика. Я убежден, что такая выдолбленная пирога отлично выдержит нас четырех. Что ты на это скажешь, Люс?
— Конечно, — отвечал тот. — Большая пирога выдержит нас. Но найдем ли мы здесь достаточно большое дерево? Ведь мы теперь не на Миссисипи.
— А какой величины дерево нужно вам? — спросил Норман, мало знакомый с подобными лодками.
— По меньшей мере, фута три в диаметре, — отвечал Люсьен, — и оно должно быть такой же толщины, а в длину футов около двадцати. Меньшая лодка не выдержит нас.
— Я уверен, что мы не найдем здесь подходящего дерева. Ни вчера, ни сегодня не встречал я таких деревьев, — отвечал Норман.
Базиль и Люсьен подтвердили его слова.
— Будь мы в Луизиане, — сказал Франсуа, — тогда на расстоянии пятидесяти футов нашлось бы не менее пятидесяти деревьев. Никогда не встречал я такую жалкую растительность, как здесь.
— Ты увидишь деревья еще меньше, прежде чем мы доберемся до цели нашего путешествия, — сказал Норман, отлично знавший, что с удалением на север деревья становятся все мельче, пока, наконец, не дойдут до высоты обыкновенных садовых кустарников. — Но, если мы не в состоянии построить пирогу из одного дерева, быть может, нам удастся сделать это из трех.
— Интересно было бы посмотреть, как это ты смастеришь лодку из трех деревьев! — воскликнул Франсуа. — Ты хочешь, вероятно, сказать, плот, а не лодку?
— Нет, именно лодку, и такую, которая прослужит нам до конца путешествия.
Базиль, Франсуа и Люсьен вопросительно смотрели на него.
— Что ж, вы предпочитаете возвращаться? — спросил их Норман, переводя глаза с одного на другого.
— Нет, нет, мы все хотим идти вперед! — воскликнул Базиль.
— Отлично, — сказал молодой промышленник. — Я берусь построить вам лодку, которая выдержит нас всех. На работу понадобится несколько дней и еще несколько дней пройдет в поисках необходимого дерева, но я уверен, мы найдем все нужное нам в этих лесах. Два дерева уже здесь, третье, по всей вероятности, найдется на тех холмах, которые мы видели сегодня утром.
И Норман указал на два дерева, которые росли среди других недалеко от мальчиков. Судя по их листьям и коре, они были совершенно разных пород. Ближайшее и наиболее заметное из них сразу заинтересовало южан. Люсьен узнал его по ботаническому описанию. Да и Базиль с Франсуа знали его по рассказам путешественников, хотя никогда прежде не видали, так как оно не растет в южных странах. Дерево это было из особой породы березы, как назвал ее Люсьен, бумажной березы, известной тем, что из ее коры делают тысячи пирог, на которых индейцы предпринимают длинные путешествия по озерам и рекам Северной Америки. Из этой же коры приготовляют они чашки, ведра и корзины; ею кроют свои вигвамы и даже мастерят миски и котлы для варки пищи. Наши молодые южане с любопытством рассматривали березу. Она имела около шестидесяти футов высоты и немного более фута в диаметре. Темно-зеленые листья своей формой напоминали сердце. Но что особенно выделяло ее между всеми другими деревьями, так это ее белая, серебристая кора, покрывавшая ее ствол и тонкие ветви. Эта кора была белой только на поверхности; срезав ее с дерева, вы увидели бы, что внутри она красноватая и имеет несколько пластов. Береза представляет отличное топливо и употребляется также для выделки мебели. Она достаточно прочна для обыкновенных потребностей, но на открытом воздухе подвержена быстрому гниению.
Эта разновидность березы не единственная на Североамериканском материке. Их встречается не менее полудюжины, все принадлежат к одной породе Betula (от кельтского слова batu, означающего «береза»). Есть белая береза, не имеющая никакой цены, так как она достигает всего лишь футов двадцати в высоту и менее шести дюймов в толщину. Она решительно ни на что не годится и растет на самой плохой почве. Есть еще вишневая береза, называемая так потому, что кора ее напоминает кору вишневого дерева. Ее называют также сладкой березой, так как раздавленные молодые ветки ее распространяют чудный запах. Иногда ее называют и черной березой. Она достигает высоты шестидесяти футов и употребляется на мебель, так как имеет тонкие волокна и легко полируется.
Желтая береза тех же размеров и называется так по цвету коры. Она тоже употребляется в столярных работах, хотя по качеству стоит ниже вишневой березы. Ее ветки и листья также имеют приятный запах, но не такой сильный, как у предыдущей. Она дает превосходное топливо и очень распространена в больших городах Америки. Кора ее почти так же хороша для дубления кожи, как и дубовая.
Другая разновидность, красная береза, достигает размеров бумажной березы и имеет длинные, тонкие и обвислые ветки. Из нее делают, главным образом, веники, употребляемые в Америке.
Есть еще карликовая береза, не больше куста, высотою дюймов в восемнадцать или фута в два. Она растет в холодных гористых местностях и является наиболее интересною из всех мелкорослых разновидностей.
Все эти сведения были сообщены Люсьеном, когда мальчики занялись рубкой берез. Пока же они только взглянули на них и перевели взоры на другое дерево, указанное Норманом и принадлежавшее к породе хвойных, что было ясно по шишкам, висевшим на нем, и по зеленым иглам.
Шишконосные деревья Америки делятся ботаниками на три главных семейства: сосновые, кипарисовые и тисовые.
Каждое семейство имеет нескольких представителей. Так, сосновые включают в себя такие деревья, как сосны, кедры, ели, пихты и лиственницы; к кипарисовым принадлежат кипарисы и можжевельник; семейство тисовых имеет меньшее число представителей.
Род сосны особенно богат. Изыскания последних лет открыли на западном склоне Скалистых гор и в местностях, граничащих с Тихим океаном, множество доселе неизвестных его разновидностей. Многие из них очень необычные и ценные. Некоторые, растущие в горах северной Мексики и в голых пустынях, где почти нет никакой другой растительности, имеют съедобные семена, которые в продолжение многих месяцев года составляют почти единственное пропитание туземных индейских племен. Американские испанцы называют их все пиньон, хотя их несколько сортов. Индейцы высушивают эти семена и изготовляют из них грубую муку, из которой пекут очень вкусный хлеб.
Они иногда прибавляют в него кузнечиков, предварительно высушенных, и этим еще улучшают его вкус.
Ламбертова сосна, названная так по имени ботаника Ламберта, растет в Орегоне и Калифорнии и справедливо считается одним из чудес света. Она часто достигает высоты в триста футов, а шишки ее, длиною восемнадцать дюймов, висят с ее веток наподобие сахарных голов. Испанское красное дерево — другое чудо Калифорнии. Оно достигает такой же высоты при диаметре в шестнадцать футов. Еще есть сосна — красная, употребляемая для палуб и мачт. Она достигает высоты шестидесяти футов, более мелкая сосна ценится как топливо и употребляется на дрова во многих американских городах. Веймутова сосна известна отличным качеством своего дерева. Она одна из самых крупных и наиболее распространенных и часто достигает полутораста футов. Чудные доски, получаемые из нее, хорошо известны плотникам. В одном только Нью-Йоркском штате ежегодно из нее получается не менее 700 000 000 футов строевого леса, что должно, согласно вычислению, обезлесить не менее 70 000 акров земли. Конечно, при таких условиях сосновые леса штата Нью-Йорк скоро совершенно исчезнут.
Есть желтая сосна, высотой футов в шестьдесят, используется для настилки полов; чудная бальзамическая сосна, которая широко распространена как декоративное растение в Европе, Америке и дающая известное лечебное средство — канадский бальзам. В благоприятных условиях это дерево достигает шестидесяти футов; но на холодных вершинах иногда не превышает и нескольких дюймов. Существует еще порода, кора которой употребляется для дубления кожи. Качество ее ниже качества дубовой коры, хотя кожа получается отличная. Из черной, или двойной сосны получают эссенцию, которая придает особый запах известному сорту пива. Кроме вышепоименованных, за последние годы открыты еще и другие разновидности сосны, все более или менее ценные.
Хотя сосны и ели не могут быть названы тропическими растениями, тем не менее некоторые разновидности их встречаются и в южных широтах. В обеих Каролинах смола и скипидар, как то, так и другое — продукты сосны, являются одним из главнейших предметов вывоза. И даже на экваторе высокие горы покрыты роскошными сосновыми лесами. Но преимущественно это северное дерево и с приближением к полярному кругу составляет самую характерную растительность. Одна из ее разновидностей является последним деревом, встречаемым путником на его пути к полюсу. Это — белая сосна, именно та, на которую указал Норман одновременно с березой.
Она была не выше тридцати-сорока футов, с коричневатым стволом толщиною около фута. Ее иглы были длиною около дюйма, очень тонкие и острые, синевато-зеленые. Шишки, в это время года еще очень молодые, были светло-зеленые. Достигнув полного своего развития, они становятся ржаво-коричневыми и достигают двух дюймов длины.
Ни Базиль, ни Франсуа не могли себе представить, чем могла эта сосна пригодиться Норману при постройке пироги. Люсьен только догадывался. Франсуа предполагал, что она пойдет на шпангоуты.
— Нет, — отвечал ему Норман, — для этого мне нужно другое дерево. Если мне не удастся найти его, придется обойтись и этим, хотя это будет несравненно труднее.
— Что же это за дерево? — спросил Франсуа.
— Мне нужен кедр.
— Ага! — сказал Франсуа. — Кедровое дерево легче других и отлично может служить для этой цели.
— На этот раз ты прав. Оно считается наиболее пригодным для шпангоутов.
— Ты полагаешь, мы найдем кедры на холмах, которые мы видели сегодня утром? — спросил Франсуа своего канадского кузена.
— Да, я издали видел что-то похожее на них.
— И я тоже видел темные деревья, — сказал Люсьен. — Во всяком случае, если нам суждено найти кедры, то, несомненно, там. Они обыкновенно растут на скалистых, бесплодных холмах, как те, которые мы видели.
— Давайте решим этот вопрос теперь же. Если мы решили строить пирогу, нам нечего попусту терять время. Отправимся сейчас же за кедрами.
— Отлично, отлично! — в один голос закричали мальчики и, взяв с собой ружья и топор, отправились на работу. На холме они сразу нашли нужные деревья. Вершина холма была покрыта густой рощей красного кедра. Их легко можно было заметить благодаря многочисленным горизонтальным веткам, покрытым короткими темно-зелеными иглами, придающими им тот темный тенистый оттенок, из-за которого так любят его некоторые породы сов. Прекрасная красноватая древесина была знакома мальчикам, как и всему цивилизованному миру. Каждый, кто употреблял карандаш, хорошо знает красный кедр, так как именно в эту древесину и вкладывается графит. Во всех частях Америки, где он растет, его употребляют на столбы и заборы, так как дерево это отличается чрезвычайной прочностью. Оно служит также отличной растопкой, потому что очень легко воспламеняется и зажигает более твердые породы, такие, как дуб и сосна.
Красный кедр обыкновенно достигает тридцати-сорока футов, а в благоприятных условиях бывает и больше. Он особенно любит каменистую и бесплодную почву и растет преимущественно на сухих бесплодных вершинах, в долинах между которыми виднеется совершенно другая растительность. Есть одна разновидность этого красного кедра, ползущая по земле, причем ветки ее, в свою очередь, пускают корни. Она скорее напоминает кустарник и часто свешивается с неприступных скал; в ботанике это растение известно под именем Luniperus prostrata.
— Теперь у нас есть все необходимое для постройки пироги, — сказал Норман, осмотрев деревья. — Нам нечего терять время, надо сразу приниматься за работу.
— Отлично! — отвечали ему товарищи. — Мы готовы помогать тебе. Говори только, что нам делать.
— Первым делом перенесем сюда наш лагерь, — сказал Норман. — Я вижу здесь все три нужные породы деревьев и даже лучшие экземпляры, чем на берегу. Смотрите, — и он указал на группу деревьев в долине, — вот прекрасные березы и много белой сосны. Мы гораздо скорее заготовим здесь весь материал, если перенесем сюда наш стан.
Все, конечно, согласились с ним и отправились назад к лагерю. Они скоро вернулись обратно с мясом и прочими вещами и, выбрав чистое местечко под развесистым кедром, разложили новый костер, развесили охотничьи рога и сумки на ветках и приставили ружья к стволам деревьев. У них не было палатки, но ведь она и не необходима для лагеря. У американских охотников достаточно разложить костер и провести ночь, чтобы это место само по себе сделалось бы лагерем.
Глава 12
ПОСТРОЙКА ПИРОГИ
Норман предполагал, что недели будет достаточно для постройки пироги. Чем раньше окончили бы ее, тем для них было бы лучше, и, не теряя времени, они принялись за работу. Первым делом нужно было заготовить ребра, или шпангоуты; они нарубили прямых кедровых ветвей, очистили их от сучьев и сделали одинаковой толщины с обоих концов. Затем ножом они придали им плоскую форму и, слегка расправив их, загнули так, что они стали похожи на воловье ярмо, обыкновенно употребляемое в Америке, или, вернее, на букву U. Согнутые таким способом ребра были неодинаковой крутости. Те, которые предназначались для средней части судна, имели около двух футов в поперечнике, следующие за ними в обе стороны делались все круче по мере приближения к корме или носу. Заготовленные ребра были вложены одни в другие, подобно блюдам различной величины, и крепко связаны друг с другом. В таком положении они должны были высохнуть, чтобы сохранить приданную им форму. Затем их следовало развязать и скрепить с килем.
Пока Норман был занят ребрами, его товарищи не оставались праздными. Базиль срубил несколько больших прямых берез, а Люсьен осторожно содрал с них бересту, которую очистил от наростов и других неровностей. Широкие полосы ее были высушены над огнем, и береста сделалась прочной и эластичной. Франсуа между тем набрал клейкой смолы, обильно выделяемой стволами местных сосен, крайне необходимой для постройки берестовой пироги. Она употребляется для заливки швов и всяких трещин в бересте, и без нее или какого-либо подобного ей вещества было бы трудно сделать пирогу непроницаемой для воды. Кроме этой смолы местная ель дает и другой необходимый для постройки материал: расколотые корни ее дают волокна, служащие для сшивания отдельных кусков бересты и прикрепления их к ребрам. Эти нити своею крепостью не уступают лучшим пеньковым веревкам и известны у индейцев под названием «ватап».
В местности, где трудно достать пеньку, ватап незаменим. Заменить его кожаными ремнями нельзя, так как ремни от сырости растягиваются, и швы разошлись бы в воде; ватап же нисколько не подвержен ее влиянию.
Мальчикам оставалось позаботиться о бортике и дне. Получить первый было легко. Два шеста, каждый длиной в двадцать футов, были согнуты наподобие лука и обращенными друг к другу вогнутыми частями крепко связаны на концах. Это и составило бортик. Сделать дно оказалось самым трудным, так как для него необходима доска, а пилы-то у них и не было. Им все же удалось с помощью топора обтесать бревно до нужной толщины и заострить его с обоих концов. Затем они срубили еще несколько длинных шестов и вставили их между ребрами и берестой для укрепления последней. Таким образом, весь материал был заготовлен, и оставалось подождать несколько дней до его окончательной просушки, а там приступить к сборке пироги.
В ожидании этого мальчики сделали весла, а Норман с помощью других приготовил «док» или «верфь», как в шутку называл он сам сооружение. Оно заключалось в земляной насыпи, напоминающей свежезасыпанную могилу, только в три раза больших размеров. Она была плоская сверху, с постепенно сливавшимися с землей сторонами.
Наконец было решено, что материал готов, и мальчики приступили к его сборке.
Первым делом развязали и отделили друг от друга согнутые и высохшие ребра. Затем их по порядку, то есть самые широкие посередине, прилаживали ко дну. К счастью, у Люсьена нашелся перочинный ножик с шилом, одним из необходимейших предметов при постройке пироги. С его помощью в нижней доске были проделаны дырки, и через эти дырки ребра прикреплялись ко дну прочными веревками из ватапа. Конечно, работа была не из легких, но с помощью Франсуа Норман все же справился с нею.
Затем киль был «введен в док». Мальчики подняли остов пироги на земляную насыпь. Внутрь, на днище, положили несколько больших камней, которые плотно прижали его к утрамбованной земле. Возвышение, на котором стояла пирога, позволяло работать стоя, почти не нагибаясь.
Уже готовый к постановке борт был привязан к концам шпангоутов; внутрь вставили прочные поперечные бруски, служившие не только распорками, но и сиденьем.
Само собой разумеется, что борт составлял верхнюю кромку пироги. Он был несколькими футами длиннее доски, составлявшей дно, и выдавался с обоих концов дальше ребер. От каждого конца днища к соответствующему концу борта был загнан прямой кусок доски для образования носа и кормы. После этого длинные шесты были прикреплены вдоль ребер с наружной стороны, и остов был закончен. Оставалось покрыть его берестой.
Ее уже нарезали на куски нужной формы и величины, то есть продолговатыми параллелограммами, и прикрепили вдоль ребер от днища к борту. Куски бересты были настолько велики, что четырех хватало на покрытие каждой стороны; следовательно, было достаточно одного поперечного и одного продольного шва, чтобы их скрепить вместе. Это обстоятельство было крайне важно, так как при многочисленности швов бывает очень трудно сделать пирогу непроницаемой для воды. Благодаря чудным березам, растущим в этой местности, нашим молодым строителям удалось достать отличнейшую бересту.
Оставалось лишь залить швы смолой. Ее предварительно сварили и смешали с жиром, так что получилось нечто похожее на воск. Буйволовый жир, имевшийся у мальчиков, пригодился как нельзя лучше, а маленькая жестяная чашечка, уцелевшая после их крушения, так как была прицеплена к патронташу Базиля, позволила им растопить смолу и еще горячей пустить ее в дело. Менее чем за час швы были залиты, и пирога была объявлена непроницаемой для воды, или, как выразился Франсуа, пригодной для морского плаванья.
Невдалеке под холмом был небольшой пруд. Франсуа первый заметил его.
— Живей, живей, товарищи, — вскричал он, — совершим спуск корабля!
Все согласились. Из пироги вынули камни. Базиль и Норман, один за нос, другой за корму, приподняли ее с «верфи» и, взвалив на плечи, отнесли к пруду. В следующий момент ее столкнули в воду, и радостный крик, к которому присоединился лай Маренго, приветствовал новое судно: пирога держалась на воде, как пробка. Залп из четырех ружей был достойным салютом. К довершению опыта, Франсуа схватил весло, прыгнул в пирогу и, не переставая испускать неистовые крики радости, оттолкнулся от берега. Сделав небольшой круг по пруду, он вернулся к мальчикам, которые с восторгом убедились, что в пироге не было ни капли воды. Поздравления и благодарности сыпались на Нормана со всех сторон. Вытащив затем пирогу из воды, веселые и счастливые, наши молодые путешественники отправились обратно в лагерь, где ожидал их специально приготовленный Люсьеном торжественный обед.
Глава 13
ЦЕПЬ ОЗЕР
Путешественники решили двинуться дальше. Пока Норман с помощью Франсуа строил пирогу, другие не оставались без дела. Базиль, хороший охотник, убил, кроме зайцев, гусей и перепелов, еще трех оленей, известных как лесные канадские олени. Люсьен занялся вялением мяса, и мальчики надеялись, что его хватит до Кумберланд-Гоуза, где они рассчитывали пополнить свои запасы. Шкуры оленей были также употреблены в дело: Люсьен очистил и высушил их и превратил вместе со шкурой антилопы в охотничьи рубашки для Нормана и Франсуа, которые, как известно читателю, разрезали свои на ремни.
На следующее утро пирогу спустили на воду ниже порогов, тщательно сложив сушеное мясо и другие вещи в ее кормовой части. Путешественники заняли в ней места, схватились за весла, и радостный крик ознаменовал возобновление их путешествия. Мальчики были в восторге от пироги: она стрелой разрезала воду и пропускала такое ничтожное количество воды, что, по выражению Франсуа, даже комар не мог бы утонуть в ней. Все заняли места, определенные на этот день общим советом. Норман был назначен передовым гребцом и сидел на носу. Это считается самым почетным местом у настоящих канадских путешественников, и передового гребца обыкновенно называют капитаном. Его обязанности очень сложны, в особенности на порогах, и требуют большого искусства и уменья. Быть кормовым гребцом тоже очень почетно и ответственно; эти два гребца, носовой и кормовой, получают обыкновенно большее жалованье, чем остальные гребцы, носящие название средних. На корме сидел Люсьен. Между ним и Норманом на веслах сидели Базиль и Франсуа. Таков был порядок, установленный на первый день; затем решено было сменять Базиля и Франсуа, но с условием, что при первых порогах или малейшей опасности они должны были возвращаться на свои места. Норман, естественно, был лучше своих товарищей, южан, знаком с плаванием по северным озерам и поэтому был признан капитаном. Франсуа, обращаясь к нему, и не называл его иначе. Люсьен тоже доказал свое право на второе место. Маренго не имел определенного места: он тихо лежал у ног Люсьена и прислушивался к общему разговору.
За несколько часов мальчики проплыли болотистую местность, лежащую в устье реки Красной, и вошли в озеро Виннипег, белая равнина которого терялась на севере за горизонтом. Норман, прежде бывавший на Виннипеге, был уже знаком с ним; спутников же его вид озера привел в немалое удивление. Вместо ожидаемого темного озера перед ними простиралась белесоватая, грязная пелена, и лишь изредка глаз отдыхал на живописной полоске берега. Берег казался низким и болотистым, каков он действительно и есть к югу от озера. Северный и восточный берега резко отличаются от южного; они так называемой первичной формации и, как таковые, состоят из неровных скал и утесов гранита, сиенита, гнейса и других пород. Западный берег — вторичной формации и состоит из слоистого известняка, часто встречающегося в прериях Америки. Собственно говоря, Виннипег является границей между первичной и вторичной формациями. По западному его берегу лежит плоская известковая местность, покрытая частью лесом, частью прериями, и простирающаяся до самых Скалистых гор, где первичная формация снова становится преобладающей. Длина Виннипега около трехсот миль, ширина весьма незначительна, от пятнадцати до пятидесяти. Озеро тянется почти прямо с севера на юг, с легким уклоном с северо-запада на юго-восток, и принимает несколько больших рек: Красную, Саскачеван и Виннипег. Эти реки под другими названиями вытекают из озера и впадают в Гудзонов залив. Существует мнение, что озеро Виннипег, подобно океану, имеет приливы и отливы. Мнение это ошибочно. Действительно, в нем наблюдаются подъемы воды, но они не повторяются периодически и происходят от сильного ветра, пригоняющего воду к тому или другому берегу. Озеро Виннипег замечательно тем, что, занимая центральное положение внутри американского материка, является центром речного судоходства. Отсюда можно проехать водою на северо-восток до Гудзонова залива, на восток до Атлантического океана, на юг до Мексиканского залива, на запад до Тихого океана и до Ледовитого моря на севере и северо-западе. Некоторые из этих путей достигают трех тысяч миль в длину, и ни один из них не требует длинного волока или переноски пироги; в некоторых же направлениях бывает даже возможно выбирать тот или другой маршрут.
Все эти сведения были сообщены Норманом, который хотя и мало интересовался первопричиной, но имел много практических знаний и был довольно хорошо знаком с путями сообщений и расстояниями. Некоторые из них были ему известны по предыдущим его путешествиям с отцом, о других он знал из рассказов промышленников. Он знал, что Виннипег полон грязи и тины, но нисколько не интересовался причиной этого. Знал также, что восточный гористый берег отличается от западного низменного, но не задумывался над его геологическим прошлым. Натуралист Люсьен высказал предположения относительно того, что озеро образовалось вследствие постепенного стирания скал в месте соединения двух формаций, вследствие чего получилась впадина, с течением времени наполнившаяся водой. Этой же причине приписывал он возникновение замечательной цепи озер, тянущейся почти от самого Ледовитого океана до границ Канады. Главными из них считаются Мартиново, Большое Невольничье, Атабаска, Уалластон, Оленье, Виннипег и Лесное. По объяснению Люсьена, всюду, где первичная формация выходит на поверхность, страна изобилует озерами, болотами, неровными, крутыми горами, разделенными глубокими долинами, короткими речками с многочисленными водопадами и порогами. С другой стороны, места, где преобладает вторичная система, в большинстве случаев представляют плоскую возвышенность, сухую и безлесную; примером могут служить американские прерии.
Все это рассказывал Люсьен своим спутникам, в то время как пирога скользила по озеру. Мальчики держали курс на запад, намереваясь добраться до устья Саскачевана. Они придерживались берега, по возможности сокращая путь. Еще более сократили бы они его, если бы решились плыть по середине озера, но благоразумие удерживало их; маленькое суденышко наших путешественников вряд ли могло бы бороться с сильными ветрами, часто поднимающимися на Виннипеге. Мальчики решили не рисковать напрасно и каждый вечер выходить на берег в удобном месте, раскладывать костер, готовить ужин и просушивать пирогу для продолжения путешествия.
Согласно этому расписанию, в первый же вечер, незадолго до заката, они сошли на берег и разбили лагерь. Они вынули припасы из пироги, осторожно вытащили ее из воды, перевернули вверх дном, чтоб дать воде стечь с нее и высохнуть. Разложили костер, сварили сушеное мясо, и все четверо, сев вокруг огня, принялись за еду с таким аппетитом, каким обладают только путешественники.
Глава 14
ВАПИТИ, ВОЛКИ И РОСОМАХА
Мальчики пристали к берегу в маленьком заливчике. Небольшие группы деревьев красиво выделялись на безлесном фоне местности. Около одной из них, ярдах в ста от воды, был разложен костер, и вся окрестность на несколько миль вокруг была перед мальчиками как на ладони.
— Смотрите! — вдруг воскликнул Франсуа, вскакивая со своего места. — Что это такое, капитан?
Капитан встал, рукою защитил глаза от солнца, посмотрел внимательно на равнину, на которую указывал Франсуа, и просто сказал:
— Это вапити.
— Это мне ровно ничего не объясняет, — сказал Франсуа, — пожалуйста, выразись яснее!
— Это олени, или, вернее, лоси.
— А, понимаю. Я так и предполагал; но они так далеко от нас, что я не был вполне уверен.
Люсьен тоже встал и, взглянув в свою маленькую подзорную трубку, подтвердил справедливость слов Нормана. Он ясно различал стадо лосей.
— Ну, Люс, — попросил его Франсуа, — расскажи-ка нам все, что знаешь о лосях. Это займет наше время. Норман говорит, что мы напрасно стали бы охотиться за ними на этой открытой безлесной равнине; они убегут раньше, чем мы подойдем к ним на ружейный выстрел.
— Меня нисколько не удивит, — прервал его Норман, — если они вскоре появятся и около нас, здесь, в кустарниках. Кажется, они обыкновенно пасутся здесь и, вероятно, придут к озеру на водопой.
— И отлично. А пока философ пусть расскажет, что о них знает.
Люсьен начал:
— Редкое животное имеет столько названий, как это. В каждой местности и каждый автор называют его по-своему. Лосем назвали его первые колонисты, потому что он напоминал им европейского лося, но самым верным из всех его многочисленных названий я считаю индейское «вапити», потому что одно оно точно обозначает именно эту породу оленей. Да и лучшие натуралисты последних годов называют его этим именем.
— По моему мнению, — продолжал он, — вапити самый благородный представитель оленьей семьи. По красоте он равен европейскому оленю, но почти на целую треть больше его. В грации он не уступит нашему, а сильные, большие рога придают ему в высшей степени величественный вид. Летом он красновато-коричневый, откуда и само название — красный зверь; но этот красноватый оттенок гораздо ярче и гуще у вапити, чем у его европейских сородичей. Как и прочие олени, вапити родятся весною, обыкновенно парами, самец и самочка. Самки не имеют рогов, у самцов же они достигают полного развития и силы лишь через несколько лет. В феврале или марте олени ежегодно сбрасывают их, и рога начинают снова расти через месяц или шесть недель.
В продолжение лета они остаются мягкими и бывают покрыты нежной кожицей, похожей на сероватый бархат, почему и говорят тогда, что «рога оленя в бархате». Удар по рогам в это время причиняет зверю большие страдания, так как кожица на них имеет нервы и кровеносные сосуды. С наступлением осени бархат слезает и рога становятся крепкими, как кость. Да это и необходимо, так как наступает сезон ожесточенных битв, и олени, сцепившись рогами, бьются друг с другом до полного изнеможения. Нередко случается, что, сцепясь рогами в разгаре битвы, они уже не могут расцепиться и погибают от голода или хищников, нападающих на беззащитных животных. Охотникам часто попадаются такие сцепленные рога, да и сами соперники становятся их легкою добычей.
Особенный крик вапити издали различается охотником и служит верным его проводником. Осенью крик самцов особенно неприятен и очень напоминает крик осла.
Вапити водятся небольшими стадами, редко превышающими пятьдесят голов, часто же ограничивающимися шестью и семью оленями. Раненые самцы, принужденные защищаться, становятся чрезвычайно опасными, и многим охотникам лишь с большим трудом удалось спастись от их рогов и копыт. Охотятся за ними так же, как и за обыкновенными оленями, хотя индейцы нередко ловят их в воде; вапити отлично плавают и в состоянии переплыть самые широкие реки и заливы.
Они питаются травой и молодыми побегами ив и тополей. Особенно же любят вапити разновидность дикой розы, растущую в тех местностях.
В былые времена вапити можно было встретить на большей части Северной Америки; рост поселений заставляет их удаляться в глубь страны. В настоящее время они встречаются, да и то нечасто, в отдаленных гористых местностях севера Соединенных Штатов. В Канаде они более многочисленны и попадаются вплоть до самого Тихого океана; в тропических странах не встречаются вовсе, также не заходят севернее 57-й параллели, так что, собственно, должны быть причислены к животным умеренного пояса.
В этом месте своего рассказа Люсьен был прерван восклицанием Базиля, продолжавшего наблюдать за вапити.
— В чем дело? — спросили мальчики.
— Смотрите, — отвечал Базиль, указывая на стадо. — Что-то испугало оленей. Одолжи-ка мне твою подзорную трубу, Люс.
Люсьен подал брату свою трубу, и тот стал внимательно вглядываться в стадо. Остальные тоже наблюдали за ними. Что-то обеспокоило животных. Их было всего шесть штук, и путешественники даже на этом расстоянии могли видеть, что это были самцы: самки в это время года удаляются в чащу лесов и там производят на свет потомство. Олени метались по прерии, возвращались по собственным следам, как бы играя или, вернее, как бы стараясь спастись от преследований. Но невооруженным глазом невозможно было различить что-либо, кроме самих вапити, и все с нетерпением ждали объяснений Базиля.
— На них напали волки, — минуту спустя сказал тот.
— Странно, — возразил Норман. — Волки редко нападают на взрослых вапити, разве что те ранены или обессилены чем-нибудь. Они, вероятно, страшно голодны. Какой породы эти волки?
Вам, читатель, этот вопрос, вероятно, покажется очень странным. Вы думаете, что волк есть волк, и никаких разных пород волков не существует. Это не совсем верно. В Америке существуют две совершенно различные их породы, из которых каждая подразделяется на множество разновидностей, до того резко отличающихся друг от друга цветом и другими признаками, что некоторые исследователи считают их даже разными породами. Мнения ученых расходятся на этот счет; бесспорно лишь существование двух пород, отличающихся друг от друга цветом, ростом и повадками. Одна из них — большой, или обыкновенный волк, и другая — лающий, или степной волк. Первые встречаются на всем американском континенте и особенно многочисленны в северной его части. Они занимают в Америке место обыкновенных европейских волков и хотя напоминают своих европейских родственников повадками, однако резко отличаются от них сложением и внешним видом. Существует много разновидностей этого волка, известных под характеризующими их названиями черного, пестрого, белого, темного и серого волка. Из них наиболее распространен серый волк. Но об этой породе я поговорю дальше, а теперь займемся второй, то есть степными волками.
Эти волки почти на целую треть меньше обыкновенных. Они отличаются большею быстротою и живут большими стаями. Детенышей своих производят на свет в норах среди открытой степи, а не в лесу, как другие. Из всех американских животных, включая и лисиц, степные волки самые хитрые; они никогда не попадаются в капкан, между тем как сами часто хитростью овладевают какой-нибудь слишком любопытной ланью или оленем. Стоит раздаться в прерии выстрелу, как со всех сторон появляются эти хищные животные в надежде воспользоваться хоть частью добычи. Волки никогда не преследуют легкораненое животное; если же оно ранено смертельно, волки с яростью набрасываются на него и моментально раздирают на части, так что охотник редко поспевает вовремя, чтобы самому воспользоваться убитой добычей. Стаи степных волков следуют за стадами буйволов и пожирают отставших маток и телят. Часто сражаются они со старыми животными, причем, конечно, победа обыкновенно обходится им очень дорого: прежде чем сдаться, буйвол убивает большое их количество.
Своей мастью они напоминают серого волка. Вой их совершенно своеобразен и заключается в коротком лае, заканчивающемся протяжным звуком. Отсюда и само название их — лающий волк.
Их шкуры составляют предмет торговли Компании Гудзонова залива. Мех одинакового качества с мехом других волков, с густым подшерстком. Шкуры их никогда не срезаются, как шкуры других волков, а сдираются, подобно шкурам кроликов, и затем выворачиваются. Вот и все, что касается степных волков.
— Вероятно, в стаде есть больное или раненое животное, или же волки очень многочисленны и надеются затравить одного из оленей, — сказал Норман. — Они это иногда проделывают.
— Стая действительно большая: их, вероятно, штук пятьдесят, — сказал Базиль, все еще наблюдавший за животными в подзорную трубу. — Смотрите, им удалось отделить от стада одного из оленей. Он бежит прямо на нас.
Мальчики заметили это одновременно с Базилем и схватились за ружья. Вскоре они могли отчетливо различить преследовавших вапити волков. Через несколько мгновений олень был уже так близко, что они ясно видели его горящие глаза и раздувающиеся ноздри. Это был превосходный экземпляр: рога его достигли полного развития, касались самых плеч, но были еще в бархате. Он бежал прямо на мальчиков и заметил дым костра и их самих только тогда, когда был шагах в ста от лагеря. Он круто повернул и скрылся в зарослях ив. Волки — их было не менее пятидесяти — бросились было за ним в чащу, но вдруг остановились, а затем даже повернули назад и, как будто чего-то испугавшись, обратились в бегство. В первую минуту мальчики объяснили их странное поведение своим присутствием, но, немного подумав, убедились в своей ошибке, так как все были хорошо знакомы с нравами степных волков и никогда раньше не наблюдали ничего подобного.
Но теперь им было не до волков. Олень был главной притягательной силой, и, сговорившись окружить рощу, они рассыпались в разных направлениях. Несколько минут спустя все стояли по местам и с нетерпением ожидали появления зверя.
Роща занимала не больше одного акра земли, но была чрезвычайно густа, так что оленя решительно не было видно. Он стоял неподвижно, так как не было слышно ни звука, да и макушки деревьев оставались совершенно спокойными.
Тогда мальчики отправили в рощу Маренго. Умная собака не успела еще войти в чащу, как послышалось громкое фырканье, сопровождаемое звуком борьбы и топотом, и в следующее мгновение вапити выскочил из рощи. Из маленького ружья Люсьена грянул выстрел, но пуля, очевидно, пролетела мимо, так как олень продолжал мчаться. Все бросились к тому месту, откуда он выскочил, и увидели, что какое-то животное сидело на его спине, мешая свободе его движений.
Охотники не верили своим глазам; коричневатое косматое существо лежало на плечах вапити, запустив в него когти. «Пантера!» — воскликнул Франсуа. Базиль в первое мгновение принял его за медведя, хотя оно и было слишком мало ростом. Норман, однако, более других знакомый с местностью, сразу признал в нем грозную росомаху. Головы ее нельзя было видеть, так как она была спрятана в плечах вапити, горло которого она старалась перекусить, но короткие широкие лапы, пушистый хвост, длинная косматая шерсть, выгнутая дугой спина и темно-коричневый цвет не оставляли ни малейшего сомнения.
При первом появлении животных мальчики были слишком удивлены, чтоб стрелять. Когда они пришли в себя, Франсуа и Базиль хотели снова начать преследование. Норман удержал их.
— Они все равно далеко не уйдут, — сказал он, — посмотрим, что будет дальше. Смотрите, олень бросается в воду.
Вапити, выскочив из кустов, сначала несся прямо перед собою, то есть параллельно озеру, но, заметив воду, круто изменил направление и помчался к ней, очевидно, намереваясь броситься в воду и таким образом освободиться от своей ужасной ноши.
В несколько прыжков достиг он берега, в этом месте достигавшего восьми футов, и, не колеблясь ни секунды, ринулся вниз. Раздался сильный всплеск, и вапити с росомахой исчезли под водой. Через несколько мгновений они снова появились на поверхности, но уже отдельно друг от друга. Очевидно, неожиданная ванна охладила пыл росомахи, беспомощно барахтавшейся в несвойственной ей стихии. Тем временем олень свободно и легко плыл к середине озера. Нашим охотникам, взобравшимся на скалу, с которой только что спрыгнуло животное, было чрезвычайно удобно целиться в росомаху, и Базиль и Норман тотчас же всадили ей по пуле в спину. Франсуа тоже попал в нее из своего ружья, и убитое животное погрузилось на дно. Они так занялись росомахой, что ни один не подумал стрелять в удалявшегося вапити. Им сначала казалось слишком жестоким преследовать животное, только что избавившееся от стольких врагов; но мысль полакомиться свежим мясом поборола их сострадание и, покончив с росомахой, они рассеялись по берегу с заряженными ружьями в ожидании возвращения оленя. Им было ясно, что животному не переплыть озера, противоположный берег которого скрывался за горизонтом, следовательно, ему оставалось либо вернуться назад, либо утонуть. Каково же было их удивление, когда они вдруг увидели, что, отплыв с полмили от берега, олень вдруг стал все больше и больше высовываться из воды, пока, наконец, совершенно не остановился. Он случайно попал на мель и, сознавая свою безопасность, не трогался с места.
Базиль и Норман бросились к пироге и через несколько минут неслись по направлению к мели. Вапити, казалось, понял безвыходность своего положения и, вместо того, чтобы снова броситься в воду, повернулся лицом к охотникам и с угрожающим видом наставил на них рога. Но это не испугало его преследователей: подъехав ярдов на пятьдесят, Норман, сидевший на веслах, остановил пирогу, и в следующее мгновение пуля Базиля уложила вапити на месте.
Мальчики за рога привязали его к корме пироги и таким способом отбуксировали к берегу, откуда перенесли в лагерь. Осматривая убитое животное, они увидели, что оно было ранено еще до нападения на него волков, росомахи и их самих. Конец стрелы торчал из его бедра, и по состоянию раны можно было заключить, что индейцы лишь незадолго перед этим преследовали его. Этим объяснялось и нападение волков, которые не решились бы атаковать совершенно здоровое животное. Да и росомаха редко нападает на таких крупных зверей, на этот раз легкость поживы, очевидно, прельстила ее. Волки со своей стороны, почуяли в роще присутствие росомахи, и их странное поведение сделалось понятным; хищники эти настолько же трусливы, насколько жестоки, и их страх перед росомахой может сравниться лишь с ужасом, внушаемым ими самими раненому оленю.
Глава 15
ДВА ИСКУСНЫХ ВОДОЛАЗА
Шкуру вапити осторожно содрали и высушили. Со времени катастрофы у наших путешественников ощущался большой недостаток в одежде. Трех шкур канадских оленей хватило лишь на две короткие охотничьи куртки, а шкуры буйволов были превращены в постели, из которых одна с общего согласия была отдана Люсьену, как наиболее слабому, а на другой спал Франсуа. Базиль же и Норман были вынуждены спать на голой земле, и, не поддерживай они всю ночь огонь, им приходилось бы очень страдать от холода. Даже и при костре бывало иногда невозможно уснуть без того, чтоб половина тела, не обращенная к огню, не окоченевала. Лучший способ согреться, практикуемый путешественниками на дальнем севере, состоит в том, чтоб ложиться ногами к огню: пока ноги не охладились, прочие части тела тоже не особенно мерзнут; если же и ноги окоченели — сон становится совершенно невозможен. Мальчики, конечно, следовали этому разумному обычаю, и их спящие фигуры составляли как бы четыре радиуса, расходящиеся от общего центра — огня. Маренго всегда укладывался около Базиля, считая его своим настоящим хозяином.
Несмотря на ворох травы и листьев, которые они ежедневно собирали на ночь, недостаток одеял сильно давал себя чувствовать, и шкура вапити была им как нельзя более кстати. Мальчики поэтому решили пожертвовать лишним днем, чтоб высушить ее и хоть слегка выделать. Кроме того, они хотели провялить мясо вапити, хотя оно менее вкусно, чем другая дичь. Оно очень сухое и имеет ту особенность, что жир его, как только его снимут с огня, сразу твердеет. Что же касается шкуры вапити, то она ценится дороже шкур других представителей этой же семьи. Выделанная по индейскому способу, то есть обработанная смесью из мозгов и жира самого животного, затем, вымытая, высушенная, очищенная и прокопченная, кожа эта становится мягкой, как лайка, и ее можно мыть и сушить без боязни, что она затвердеет, как другие кожи.
Пока Люсьен растягивал кожу, Базиль и Норман разрезали лучшие части мяса на тонкие куски и вешали их перед огнем.
— А о росомахе-то мы и забыли! — вдруг воскликнул Франсуа. — Ведь шкура у нее чудесная, отчего бы не достать и ее?
— Совершенно верно, — ответил Норман. — Но как же достать ее, ведь росомаха ушла на дно?
— Ее, конечно, следует вытащить, — ответил Франсуа. — Давайте-ка заострим конец этого шеста; ручаюсь, что я легко всажу его в росомаху и подниму ее на поверхность.
— Тогда нужно привести сюда пирогу: берег слишком высок, чтобы, стоя на нем, достать дно.
— Конечно, — согласился Франсуа. — Давайте ее сюда, а я тем временем приготовлю шест.
— Стойте! — воскликнул Базиль. — Я нашел более легкий способ. Маренго, сюда!
С этими словами Базиль подошел к месту, с которого они застрелили росомаху. Все последовали за ним, не исключая и Маренго, который радостно прыгал около них, точно чувствуя, что и на него будет возложено немаловажное поручение.
— И ты надеешься, что собака вытащит росомаху? — спросил Норман.
— Нет, но она поможет мне, — отвечал Базиль, — вот увидишь!
Он стал быстро раздеваться и вскоре оказался в костюме Адама.
— Я покажу вам, как мы умеем нырять, мы, жители Миссисипи, — сказал он, обращаясь к Норману.
Он подошел к самому краю скалы, внимательно вгляделся в то место, где погрузилась в воду росомаха, и, обращаясь к собаке, просто сказал:
— Ну, Маренго, ко мне!
Собака отвечала ему тихим повизгиванием и глядела на него с таким выражением, точно хотела доказать ему, что отлично понимает, что от нее требуется.
Базиль снова указал ей на воду и, сложив над головой вытянутые руки, подпрыгнул в воздухе и ринулся вниз головой.
Маренго с громким лаем бросился за ним, и они почти одновременно исчезли под водой. Собака первая появилась на поверхности, Базиль же оставался внизу так долго, что мальчики не на шутку встревожились. Наконец показались маленькие пузырьки, а затем черная голова Базиля, державшего в зубах росомаху, появилась над водою.
Маренго бросился к нему, освободил его от ноши и поплыл с нею следом за хозяином. Оба скоро благополучно достигли отлогой части берега, откуда росомаху перетащили в лагерь.
Трудно найти в Америке более уродливое животное, чем росомаха. Ее толстое туловище на коротких широких лапах, косматая шерсть и густой хвост, а в особенности ее громадные, крючковатые когти и собачьи челюсти, придают ей ужасающий вид. Она ходит медленно, как бы крадучись, ее следы напоминают следы медведя, так что охотники часто ошибаются, принимая одного зверя за другого. На задние лапы опирается она всей ступней; спина ее выгнута наподобие сегмента круга. Взгляд у нее смелый и злой. Она чрезвычайно кровожадна и прожорлива. Нет животного более хитрого и опасного для мелкой дичи. Она, впрочем, нападает и на более крупную дичь, если есть надежда на успех. Но, не отличаясь проворством, обыкновенно пускает в ход хитрость. Притаившись на дереве или на краю утеса, она поджидает свою жертву и сверху бросается на нее. Говорят даже, что для того, чтобы вернее заманить ее, она разбрасывает мох, которым та питается, нарочно в том месте, над которым сидит. Северная лисица, как уверяют, является ее верной союзницей, пригоняя дичь к месту засады. Все эти рассказы относятся, главным образом, к европейской росомахе, о которой рассказывают также, что она нажирается до такой степени, что еле может двигаться, и для освобождения желудка протискивается между двумя деревьями, близко стоящими друг от друга. Бюффон и другие натуралисты приводят подобные рассказы, но мы не ручаемся за их достоверность. Не подлежит, однако, сомнению, что это животное обладает большой сообразительностью и хитростью. Например, американские охотники, охотясь за куницами, расставляют западни, часто в пятидесяти и более милях друг от друга. Эти западни состоят из кусков дерева, найденного на месте, с приманкой из тетеревиных голов или кусков другой дичи, до которых куница большая охотница.
При малейшем прикосновении к приманке тяжелое полено падает на куницу и убивает ее или же удерживает в западне. Росомаха подходит к западне с задней стороны и, прежде чем схватить приманку, вышибает заднюю стенку, избегая таким образом падающего бревна. Мало того, по следам охотника она обходит все западни, расставленные им, и все их опустошает. Если перед тем в какую-либо из них попалась куница, она никогда не оставит ее в покое; не будучи охотницей до куньего мяса, она редко съедает ее, но, подкопав под нею землю, вытаскивает ее из западни, разрывает на куски и закапывает в снег. Лисицы, зная эту привычку росомахи и не имея достаточно сил, чтобы самим вытащить куницу из-под бревна, часто сопровождают росомах в их экскурсиях и после их ухода раскапывают снег и лакомятся свежим мясом куницы. Сами лисицы редко становятся жертвами росомах, так как несравненно быстрее их. Но и они попадаются в ловушки охотников или, вернее, бывают убиты из ружей, поставленных для этой цели с приманкой, прикрепленной веревкой к курку. Если охотник запоздает — росомаха уничтожает пойманную или застреленную лисицу так же, как уничтожает она в громадном количестве и молодых лисиц. Иногда, найдя их нору, она раскапывает ее и поедает всю семью. Молодые волки тоже нередко становятся жертвами росомах.
Вообще они злейшие враги как тех, так и других, и часто отнимают у хозяев только что доставшуюся им добычу. Особенно лакомы они до бобров, и, не имей те возможности спасаться в воде, росомахи очень скоро уничтожили бы всю их породу. Громадная сила и хитрость росомах позволяют им одерживать верх над почти всеми животными, как лесными, так и степными. Говорят, что они способны тягаться даже с пантерами и черными медведями.
Живут росомахи в расселинах скал или дуплах деревьев, в лесу и в степи. Их можно встретить на громадном пространстве и в плодородных, и в самых пустынных местностях, но они водятся преимущественно на севере. В южных частях Соединенных Штатов они теперь не попадаются, хотя не подлежит сомнению, что они водились и там. От 40-го градуса к северу их следы встречаются повсюду. Они любят одиночество и, как большинство хищников, охотятся ночью. Самка приносит зараз двух, трех, иногда четырех детенышей, которые родятся совершенно белыми и только с течением времени приобретают темно-коричневый или даже черный цвет. Мех их напоминает медвежий, но волос короче и ценится дешевле. Тем не менее и этот мех составляет предмет торговли Компании Гудзонова залива.
Канадские путешественники называют росомаху каркаджу, служащие компаний — квикхач. Оба эти названия, по всей вероятности, произошли от испорченного индейского слова «о-ки-ку-хау-джу», которым местные индейцы обозначают это животное. Вообще очень многие индейские названия вошли в употребление среди путешественников и промышленников.
Эти, так сказать, научные данные были сообщены Люсьеном. Норман же рассказал о нравах и привычках животного. Он знал росомаху как очень распространенное в лесах животное и сообщил о ней, кроме вышеприведенных сведений, известные среди охотников рассказы, в которых это животное играет не менее фантастическую роль, чем в трудах Олая Магнуса или Бюффона.
Глава 16
ВОСКРЕСНЫЙ ПИР
После однодневного отдыха путешественники продолжали свой путь, держа направление на северо-запад, так как берег озера немного уклонялся в ту сторону. Их план состоял в том, чтобы по возможности избегать изгибов берега, вместе с тем не выплывая слишком на середину озера, дабы не подвергать лишней опасности свое маленькое суденышко. Вечером они приставали к берегу или какому-нибудь островку. Когда ветер бывал встречным, они еле двигались вперед, но зато, когда он дул им в спину, они употребляли шкуру вапити вместо паруса и нагоняли потерянное время. Так однажды удалось им в один день пройти около сорока миль.
Будучи истинными христианами, они соблюдали воскресный день и всегда посвящали его отдыху. В их былые странствия по южным прериям они также придерживались этого правила и находили его очень полезным как в физическом, так и в моральном отношениях. Отдых был им необходим, да кроме того, не мешало им хоть раз в неделю хорошенько почиститься. Воскресенье бывало также днем их пиров. У них было больше времени заняться стряпней, и стол их в этот день отличался большим разнообразием. Что-нибудь особенное, добытое с ружьем в один из предыдущих дней, всегда приберегалось на воскресенье.
Первое воскресенье на озере Виннипег мальчики провели на каком-то маленьком островке, всего в несколько квадратных акров; он находился недалеко от берега и был густо покрыт всевозможными породами деревьев. Обыкновенно острова, лежащие среди больших озер, отличаются большим разнообразием флоры, так как волны и птицы приносят семена деревьев, растущих по берегам. Так было и в этом случае. У самой воды стояли ивы и виргинские тополя, характерная для степей, древесная порода; дальше виднелись березы и сахарные клены; на более возвышенной средней части острова растительность принадлежала к первичной формации, составлявшей восточный берег озера; там были сосны, ели, можжевельник и американские лиственницы, среди которых возвышались темные, конической формы красные кедры. Из низкорослых кустарников видны были кусты роз и дикой малины; встречались яблони и сливы и целые чащи пембины. Вряд ли можно найти другое место на земном шаре, где в большем изобилии росли бы в диком виде фруктовые деревья, чем на берегах Красной реки, и разнообразие это распространилось и на остров, к которому пристали наши путешественники.
Лагерь был разбит под роскошным такамагаком, или бальзамическим тополем. Это одно из самых красивых и выносливых деревьев Америки. При благоприятных условиях оно достигает высоты в сто пятьдесят футов и соответствующей толщины ствола; чаще же бывает всего пятидесяти или восьмидесяти футов. Листья его продолговатые и в начале желтые, потом ярко-зеленые. Его почки очень большие, желтые и покрыты густым соком, распространяющим чудное благоухание, откуда получил свое название и сам тополь.
Субботний день клонился к вечеру. Мальчики только что отобедали и сидели вокруг кедрового костра, дым которого легкими струйками пробивался сквозь зеленые ветви тополя. Приятный запах горящего кедра смешивался с ароматом тополя и наполнял воздух благоуханием. Мальчики, сами не сознавая причины, чувствовали себя особенно хорошо. Безмолвие природы только время от времени нарушалось голосами птиц, еще не успевших успокоиться на ночь. Слышался крик сойки, лазуревое крыло которой то здесь, то там мелькало среди листвы. Ярко-красный щур сверкал под лучами заходящего солнца, а стук неугомонного зеленого дятла доносился из глубины острова. Водяной орел реял в воздухе и высматривал в воде свою добычу; пара лысых орлов направлялась к соседнему берегу; с полдюжины индейских ястребов носились над берегом, куда волны только что выбросили какую-то рыбу или мертвечину.
Мальчики в глубоком молчании наслаждались окружающей природой. Франсуа, по обыкновению, первый заговорил:
— Послушай-ка, повар, что у нас будет завтра на обед?
Он обращался к Люсьену, который считался главным кухмистером.
— Жареное или вареное? — с многозначительной улыбкой спросил повар.
Франсуа расхохотался.
— Вареное! Хотел бы я видеть, что можно сварить в жестяной чашке. А как вкусно было бы полакомиться вареным мясом и тарелкой супа! Сухое жаркое уже чересчур надоело мне!
— Завтра на обед вы получите то и другое! — торжественно объявил Люсьен.
Франсуа снова недоверчиво засмеялся,
— Что ж, ты нам сваришь суп в своем сапоге?
— Нет, вот в этом.
И Люсьен показал товарищам сосуд, формой напоминающий ведро, который он сам смастерил накануне из бересты.
— Знаю, что оно выдерживает воду, но холодная вода несколько отличается от супа. Если тебе удастся сварить суп в этой посудине, я буду готов признать тебя колдуном. Знаю также, что разные ваши химические составы дают возможность проделывать любопытные вещи, но уж этот-то фокус тебе не удастся. Ведь дно сгорит прежде, чем вода хоть немного согреется. Какой уж тут суп!
— Ничего, Франк, подожди только. Ты, как и все люди, не веришь тому, чего не можешь понять. Налови мне только рыбы, а я берусь приготовить вам настоящий обед из пяти блюд — супа, рыбы, вареного, жареного мяса и десерта. Я убежден, что обед мне удастся.
— Ну, брат, тебе следовало бы быть поваром у Лукулла. Хорошо, я наужу тебе рыбы.
С этими словами Франсуа вынул из сумки лесу с крючком, насадил на него большого кузнечика, подошел к воде и закинул удочку. Поплавок скоро затанцевал и погрузился в воду. Франсуа потянул удочку и вытащил прелестную серебристую рыбку, очень распространенную в этих водах. Люсьен объявил, что она принадлежит к породе Hgodon. Он посоветовал насадить на крючок червяка и опустить приманку на самое дно — тогда при удаче можно было надеяться поймать осетра, рыбу гораздо больших размеров.
— Откуда ты знаешь, что здесь водятся осетры? — спросил Франсуа.
— Я уверен в этом, — ответил наш естествоиспытатель. — Осетры водятся по всему свету в северном умеренном поясе, как в соленой, так и в пресной воде. С удалением на юг они исчезают. Я убежден, что в этом озере их не одна разновидность. Опусти приманку на дно, где они обыкновенно держатся, так как, не имея зубов, они питаются мягкими веществами, находящимися на дне.
Франсуа послушался совета брата и через несколько минут вытащил на берег большую рыбу фута три длиной. Люсьен сразу признал в ней разновидность осетра, ни разу, однако, до сих пор ему не попадавшуюся. Это был Accipenser carbonarius, интересный экземпляр рыбы, живущей в этих водах. Он с виду не должен был быть вкусен, и потому Франсуа снова принялся за ловлю мелкой серебристой рыбки, которая, он знал, жареная очень вкусна.
— Я тоже должен внести мою долю в это пиршество, — сказал Базиль. — Посмотрим, какая дичь водится на этом острове.
Он взял ружье и удалился в чащу деревьев.
— Я тоже не буду считать себя вправе пользоваться чужими трудами, если сам не внесу своей части, — сказал Норман и пошел с ружьем в противоположную сторону.
— Вот и отлично! — воскликнул Люсьен. — Очевидно, мяса на обед у нас будет достаточно. Мне остается лишь позаботиться об овощах.
Он взял котелок и пошел вдоль берега. Один Франсуа остался в лагере и продолжал удить рыбу. Мы же последуем за собирателем трав и поучимся у него практической ботанике.
Он скоро набрел на что-то торчащее из воды, напоминавшее осоку. Стебли этого растения достигали восьми футов в высоту и имели гладкие светло-зеленые листья шириной в дюйм, длиной дюймов в двенадцать. Макушка его представляла собой метелку, наполненную зернами, несколько похожими на овес. Это был знаменитый дикий рис, очень ценимый индейцами и некоторыми породами зерноядных птиц, в особенности рисовками. Зерна его еще не поспели, но колосья уже налились, и Люсьен решил, что они пригодятся ему. Он храбро вошел в воду и срезал нужное количество колосьев.
— Рисовый суп уже обеспечен, — рассуждал он. — Но я надеюсь еще на лучшее. — Он продолжал свой путь по берегу и вскоре достиг густой чащи деревьев, росшей на болотистой плодородной почве. Пройдя по ней с сотню ярдов, он остановился и начал внимательно рассматривать землю.
— Здесь он непременно должен расти, — проговорил он. — Почва как нельзя более подходящая. А, да вот и он!
И он наклонился над растением, листья которого имели совершенно засохший вид. Верхняя часть луковицы его виднелась из земли. Это была луковица дикого порея. Молодые листья его достигают длины шести дюймов и ширины трех дюймов, но увядают очень быстро, раньше даже, чем растение успеет зацвести, и найти тогда луковицу становится очень трудно.
Люсьен имел превосходное зрение и за короткое время откопал несколько луковиц величиною с голубиное яйцо, которые и положил вместе с диким рисом. Теперь у него был и рис для заправки супа, и порей для придания ему аромата. Довольный своей удачей, Люсьен пошел обратно в лагерь.
Проходя по топкому месту, он обратил внимание на странное растение, стебель которого высоко поднимался над окружающей травой. Растение это достигало футов восьми в высоту и кончалось белыми цветочками, расположенными зонтиком. Листья были большие, зубчатые, а сам стебель с продольными бороздами имел больше дюйма в диаметре. Люсьен сразу узнал растение по его ботаническим признакам, хотя никогда прежде не встречал его. Это был большой борщевик. Стебель у него полый, суставчатый, и Люсьен слышал, что индейцы употребляют его для выделки своих первобытных музыкальных инструментов и дудок, которыми они подражают крику и приманивают некоторые породы оленей. Было еще одно применение этого растения, незнакомое Люсьену, поэтому радостный возглас Нормана, подошедшего к нему в эту минуту, очень удивил его.
— Чему ты так обрадовался, брат? — спросил он Нормана.
— Да ведь эти стебли как нельзя более помогут тебе сварить суп. Особенно вкусны молодые побеги. Индейцы и путешественники очень ценят их именно в супе.
— Так нарвем же их! — сказал Люсьен, и товарищи принялись собирать те из стеблей, которые еще были нежны и молоды. Нарезав их достаточное количество, они вернулись в лагерь, где нашли возвратившегося Базиля. Он принес убитую им степную курицу, а Норман белку. Таким образом, с наловленною Франсуа рыбой, Люсьен был в состоянии выполнить свое обещание.
Франсуа все еще не мог себе представить, как можно сварить суп в деревянном горшке. Норман отлично знал, как это делается, так как путешествовал среди индейцев, употребляющих такую посуду, и не раз присутствовал при варке пищи в ней как самими индейцами, так и путешественниками в тех случаях, когда нельзя было достать глиняной или металлической посуды.
На следующий день эта тайна объяснилась. Люсьен накалил докрасна собранные им большие камни, гладкие и твердые. Затем, налив в котел воду и опустив мясо, стал по очереди бросать туда же раскаленные камни, пока вода не закипела. Рис и коренья были своевременно положены в котел, и в самом непродолжительном времени получился отличный суп и вареная зелень. Жаркое было приготовлено на вертеле, а вяленая оленина, как и зелень, сварена в котле. Рыбу зажарили на горячей золе и съели ее по всем правилам гастрономии сразу после супа. По всей вероятности, Люсьен сумел бы при желании приготовить и сладкий пирог или пудинг, но в нем не чувствовалось недостатка, так как были поданы разнообразные ягоды — земляника, малина, особенно ароматная в этих краях, крыжовник и смородина. Но больше всех понравилась Франсуа маленькая темно-синяя ягода вроде черники, но слаще и ароматнее обыкновенной черники. Она растет на низких кустиках с несколько удлиненными листьями. Весной эти кустики сплошь покрываются белыми цветочками. Известно не менее четырех разновидностей этой породы, из коих две достигают двадцати и более футов. Французские канадцы называют их грушами.
Почти во всех остальных частях Америки они известны под общим названием рябины, хотя существуют и местные названия. Люсьен объявил это своим товарищам, с наслаждением уничтожавшим эти вкусные ягоды.
— Недостает только чашки кофе и рюмки вина, — сказал Франсуа, — и наш обед был бы безукоризнен!
— Мне кажется, что мы отлично можем обойтись и без вина, — возразил Люсьен. — Что же касается кофе, я не в состоянии угостить вас им, но зато легко добуду вам чашку чая. Дайте мне только время.
— Чай? — удивленно воскликнул Франсуа. — Да ведь ближе, чем в Китае, ты не найдешь ни листочка чая, да и за сахаром нужно отправляться за несколько сот миль!
— Вот увидишь, Франсуа, — сказал Люсьен. — Природа щедро одарила здешний край, включив в свои дары даже чай и сахар. Видишь эти большие деревья с толстыми темными стволами? Ведь это сахарные клены. Я надеюсь, что, несмотря на осень, нам удастся добыть из них достаточно сока, чтобы подсластить наш чай. Займись-ка этим, пока я пойду отыскивать чайное растение.
— Ну, Люс, ты, право, настоящий гастрономический склад! Давай-ка, Базиль, сделаем надрез на этом клене, а капитан пусть отправляется с Люсьеном.
Мальчики по двое разошлись в разных направлениях. Люсьен со своим спутником скоро нашли то, что искали, на том же самом месте, где раньше попался им борщевик.
Это был маленький ветвистый куст, не выше двух футов, с маленькими листьями, сверху темно-зелеными, снизу белесоватыми и как бы покрытыми пушком. Растение известно на территории Гудзонова залива как лабрадорский чай, так как часто заваривается вместо чая путешественниками. Оно принадлежит к семейству вересковых, к роду Ledum (багульник), хотя это и не настоящий вереск; как ни странно, во всей Америке настоящего вереска нет вовсе.
Известно два сорта чайного растения — широколистный и узколистный; из них последний дает наилучший чай, в особенности получаемый из его белых цветочков. Прежде чем заваривать, их необходимо хорошенько высушить, что можно сделать очень быстро на огне. Норман так и поступил, разбросав их на горячих камнях. Тем временем Базиль и Франсуа приготовили сладкую воду, а Люсьен чисто вымыл свой котел, еще раз раскалил камни и с их помощью приготовил напиток, который и был распит из жестяной чашки.
Норман уже и прежде был хорошо знаком с этим напитком, но его товарищам-южанам его аромат, напоминающий ревень, очень не понравился, хотя они не могли отрицать, что питье оказало весьма живительное и бодрящее действие на организм.
Глава 17
АМЕРИКАНСКИЕ СУРКИ
Из описания этого пиршества можно сделать заключение, что наши юные путешественники жили роскошно. Однако не все коту масленица, бывал и у них великий пост. Иногда по несколько дней приходилось им довольствоваться одной вяленой олениной; ни хлеба, ни пива, ни кофе, ничего, кроме вяленой дичи и воды. Конечно, этого вполне достаточно для утоления голода, но до роскоши очень и очень далеко. Иногда удавалось им застрелить дикую утку, гуся или лебедя, и это вносило приятное разнообразие в их стол. Рыба ловилась очень плохо, так как весьма часто эти капризные существа решительно отказывались от всех приманок, которые им предлагал Франсуа. Проплавав три недели вдоль берега Виннипега, мальчики добрались наконец до Саскачевана и, войдя в реку, направились прямо на запад. На Великих порогах, у устья этой реки, им пришлось перенести пирогу на расстояние трех миль, но чудные виды этой местности вполне вознаградили их за труды.
Саскачеван, одна из самых больших рек Америки, имеет около 1600 миль в длину, берет свое начало в скалистых горах и впадает под именем Нельсоновой реки в Гудзонов залив. В верховьях она протекает по песчаным прериям, изобилующим солеными озерами. Нередко эти прерии превращаются в настоящие пустыни, где на протяжении нескольких сот миль не встретишь ни капли воды. Ближе к озеру Виннипег прерии сменяются лесами. Но путь наших друзей пролегал не по этим местам: они намеревались, дойдя до Кумберланд-Гоуза, снова повернуть на север.
Однажды вечером, днях в двух пути до форта, они расположились лагерем на берегу Саскачевана. Местность была прелестная. Окружающие холмы были покрыты кустами ирги и диких роз, нежно-пунцовые цветы которых резко выделялись среди темно-зеленых листьев и наполняли воздух чудным ароматом. Земля была покрыта зеленым газоном, испещренным розовыми цветочками клеомы и более темными анемонами. В этот день мальчикам не удалось убить никакой дичи, и им предстояло ужинать вяленой олениной. Они чувствовали себя уставшими, разбитыми, так как весь день по очереди гребли против сильного течения и не находили в себе достаточно сил, чтобы отправиться на охоту. Они легли вокруг костра и ждали, а вяленое мясо жарилось на угольях.
Лагерь на этот раз был расположен у подножия довольно крутого холма, поднимавшегося недалеко от берега. Против них поднимался другой холм, более высокий, ясно видный с их места. Глядя на его склон, они заметили какие-то маленькие возвышения или горки, стоявшие на большом расстоянии друг от друга. Каждая имела около фута в высоту и представляла собой как бы усеченный конус, то есть конус с отрезанной или придавленной верхушкой.
— Что это? — спросил Франсуа.
— Я думаю, это домики сурков, — отвечал Люсьен.
— Совершенно верно, — подтвердил Норман. — Их очень много в этой местности.
— А, сурки! — сказал Франсуа. — Ты хочешь сказать, степные собачки, те, что мы встречали в южных прериях?
— Нет, — возразил Норман, — я думаю, это другая порода. Не так ли, Люсьен?
— Да, да, — ответил натуралист, — эти принадлежат к другой породе. Домиков здесь слишком малое количество для степных собачек, которые живут большими селениями. Да и видом своим их жилища отличаются от домиков сурков. У них всегда отверстие сверху или сбоку. Эти же, как вы можете сами убедиться, имеют вход внизу и перед ним находится холмик вырытой земли, как перед мышиными норками. Перед нами, без сомнения, сурки совершенно другой породы.
— Я слышал, что в Америке водится много видов сурков, — сказал Франсуа, обращаясь к Люсьену.
— Да, — отвечал тот. — Фауна Северной Америки особенно богата разновидностями этого странного животного. Натуралистам известно не менее тринадцати их видов; и некоторые из них имеют настолько резкие отличия, что свободно могут сойти за особую породу. Без сомнения, есть еще никем не описанные виды. Быть может, в целом их наберется до двадцати во всей Северной Америке. В населенных частях Соединенных Штатов до последнего времени знали всего один или два вида сурков и не предполагали возможности существования других. Натуралисты очень деятельно принялись за исследования, и ни одна порода животных не вознаградила их труды щедрее, за исключением разве что белок: ежегодно обнаруживается новая разновидность тех или других, большей частью на необитаемых просторах, лежащих между Миссисипи и Тихим океаном. Что касается сурков, то наши кабинетные натуралисты сделали изучение их весьма трудным, так как подразделили их по самым незначительным отличиям на бесконечное множество видов. Правда, некоторые из этих тринадцати видов значительно отличаются от других величиной, окрасом и иными признаками. Но столько общего в их привычках, пище, внешнем виде и образе жизни, что осложнять их изучение таким подразделением совершенно излишне. Все они — сурки, так зачем же называть их по-разному?
— Я совершенно согласен с тобою, Люс, — сказал Базиль, который, как почти все охотники, не был врагом естественной истории, но относился с величайшим презрением к кабинетным натуралистам, которых называл болтунами.
Люсьен продолжал.
— Я допускаю, что породы животных, имеющие много разновидностей с резкими отличиями, должны носить и разные названия. Но меня выводит из себя, когда почти совершенно похожие виды животных получают от этих кабинетных ученых длиннейшие названия, которые большей частью даже ничего не значат, так как являются лишь данью уважения или поклонения этих ученых какому-нибудь королю, принцу или меценату и служат лишь способом довести до их сведения об этом поклонении. Поймите меня, я нисколько не против латинских или греческих названий, позволяющих ученым разных стран понимать друг друга. Но я нахожу, что эти названия должны давать характеристику данному животному, а не быть пустым звуком, напоминающим о друге или покровителе описавшего его ученого. По-моему, — все более и более горячась, продолжал Люсьен, — это даже дерзость — соединять с прекраснейшими произведениями природы, ее цветами, животными и птицами, имена царей, принцев и других людей, которые случайно оказываются личными богами кабинетного натуралиста. Эти господа, спокойно сидя в своих креслах и не имея ни малейшего представления о действительных привычках и нравах животных, описываемых ими, до бесконечности умножают названия и дают бесконечные, никому не нужные мелочные градации, что и составляет их «науку». Конечно, я не включаю в их число человека, имя которого сейчас назову, — Ричардсона. Нет, этот был настоящим натуралистом, много попутешествовавшим и испытавшим, прежде чем заслужить ту великую известность, которой он теперь пользуется.
— Я во всем согласен с тобою, Люс, — сказал Базиль. — Прежде чем оставить наш дом, я прочел несколько книг по естественной истории, написанных известными учеными. И все сведения о полярных странах, то есть по крайней мере все то, что можно назвать таковыми, казались мне чем-то уже знакомыми. Подумав, я припомнил, что все это уже раньше читал у Херна, которого ученые признают лишь простым путешественником, недостойным имени естествоиспытателя. Херн еще в 1771 году побывал в Ледовитом море, и ему первому обязан свет сообщением, что южнее семидесятой параллели нет пролива, пересекающего материк Америки.
— Да, — сказал Люсьен. — Компания Гудзонова залива послала его в эту экспедицию с самыми скудными средствами, какими когда-либо располагал исследователь. Ему пришлось перенести невообразимые трудности и опасности, и тем не менее он оставил после себя такое верное и подробное описание обитателей и естественной истории полярных стран, что оно не только выдержало критику последующих наблюдений, но кабинетные ученые могли лишь весьма немногое прибавить к его труду. Некоторые из них, не будучи в состоянии сказать что-либо новое, ограничились повторением его рассказов, отдавая дань его наблюдениям, другие же только перефразировали его сочинения, ни одним словом не обмолвившись, откуда они почерпнули свои сведения. Вот это-то в особенности и возмущает меня.
— Это действительно возмутительно, — вставил Норман. — Мы все без исключения слыхали о Херне. Не подлежит сомнению, что он был замечательным путешественником.
— Итак, — продолжал Люсьен, успокоившись и возвращаясь к вопросу о сурках, — эти маленькие зверьки составляют как бы переходную ступень между белками и кроликами. Некоторые их разновидности мало чем отличаются в своих привычках от обыкновенных белок, другие напоминают скорее кроликов, а про две или три их разновидности можно смело сказать, что в них есть что-то крысиное. Некоторые, например, полевой кабан или лесной сурок Соединенных Штатов, величиною с кролика, другие не больше норвежской крысы. Некоторые имеют мешки за щеками, в которые могут при желании прятать запасы зерен, орехов и корней. Мешки эти бывают разной величины, это зависит от разновидности. Пища их тоже слегка различается в зависимости от условий, в которых они живут. Во всех случаях она растительная. Некоторые из них, как, например, луговые собачки, питаются преимущественно травами, другие — семенами, ягодами и листьями. Долгое время держалось мнение, что сурки, подобно белкам, делают себе на зиму запасы. Я не верю этому: сурки проводят зиму в глубокой спячке и, конечно, не нуждаются в питании. В этом случае мы лишний раз убеждаемся в мудрости природы, которая так удивительно приспосабливает свое создание к обстоятельствам.
В странах, где сурки особенно многочисленны, зимы настолько суровы и почва так непроизводительна, что этим зверькам было бы решительно невозможно в продолжение многих месяцев находить себе пропитание. И вот природа помогает им, усыпляя их на весь этот суровый период времени глубоким и, как мне кажется, приятным сном. Только когда снег растает под лучами солнца и зеленая травка и весенние цветочки появятся на поверхности земли, снова показываются маленькие сурки. Теплый воздух проникает в их подземные жилища и будит их от долгого сна к новой веселой летней жизни. Про этих зверьков можно сказать, что они не знакомы с зимой: вся их жизнь протекает при ярком летнем солнце.
Некоторые из них, как степные собачки, живут большими общинами; другие — небольшими поселками, а иные — парами или обособленными семьями. Почти все они живут в вырытых норках, и лишь очень немногие довольствуются расселиной в скале или устраивают свои жилища между камнями. Среди сурков есть и такие, которые лазают по деревьям, но делают они это только в поисках пищи и никогда не селятся на деревьях. Они очень плодовиты и нередко приносят зараз восемь или даже десять детенышей.
Сурки очень пугливы и осторожны. Отправляясь кормиться, они обыкновенно внимательно осматривают окрестность с высоты своих маленьких домиков, а не имеющие таких высоких домиков влезают для этой цели на ближайший пригорок. Почти все они имеют любопытную привычку ставить караульных на время кормежки. Эти караульные становятся на какое-либо возвышение и при приближении врага издают особенный предупреждающий звук. У одних этот крик похож на слог «сик», повторенный несколько раз и сопровождаемый шипением; у других он напоминает лай собачонок, третьи издают свист, отчего и получили свое популярное название — свистуны, под которым они известны промышленникам.
Тревожный этот крик слышен на очень далеком расстоянии и, услышанный другими сурками, тотчас же всеми подхватывается.
Индейцы и белые охотники употребляют в пищу сурков. Иногда их ловят, вливая воду в их норки. Но этот способ применим лишь ранней весной, когда земля еще не оттаяла и не позволяет воде просачиваться вглубь, а сурки только еще начинают просыпаться от зимней спячки. Иногда их стреляют, но если они не убиты наповал, то обыкновенно успевают спастись в своих норках и скрываются в них раньше, чем охотник успеет схватить их.
Глава 18
БАРСУКИ, КРАСНЫЕ И ЛЕОПАРДОВЫЕ СУРКИ
Быть может, Люсьен еще многое сообщил бы о сурках — он не сказал и половины того, что знал, — но в это мгновение сами сурки прервали его рассказ. Несколько сурков вдруг появилось у отверстий перед домиками. Они внимательно осмотрелись кругом с вершин своих холмиков и, набравшись храбрости, вскоре рассеялись по утоптанным дорожкам, соединявшим их жилища. В скором времени их можно было насчитать целую дюжину, бегавших взад и вперед, помахивавших своими хвостиками и издававших время от времени присущий им предупредительный сигнал.
Наши путешественники видели, что сурки эти принадлежали к двум совершенно разным породам, отличающимся окрасом, величиной и другими признаками. Те, которые побольше, были сверху серовато-желтые с оранжевым оттенком на горле и брюшке. Это красные сурки, иногда называемые полевыми белками, или свистунами. Другие принадлежали к наиболее красивой разновидности сурков. Они немногим меньше своих красных собратьев, но хвосты их больше и тоньше, что придает им более грациозный вид. Главная же красота заключалась в их окрасе и отметинах. Во всю длину они были покрыты чередующимися желтыми и шоколадными полосами, причем последние, в свою очередь, испещрены правильными рядами желтых пятен. Эти отметины придавали зверькам особенную красоту, присущую леопардам, что и дало повод назвать их леопардовыми сурками.
По их поведению можно было догадаться, что как те, так и другие чувствовали себя дома и что норки обеих разновидностей находились тут же. Так оно и было на самом деле. Норман сказал своим товарищам, что оба вида постоянно встречаются вместе, хотя и не живут в одних и тех же норах, а только являются соседями в общих селениях. Норки «леопардов» имеют гораздо более узкие входы и идут гораздо глубже перпендикулярно, прежде чем разветвиться в горизонтальном направлении. Прямая палка, опущенная в одну из таких норок, может углубиться в нее на целых пять футов, прежде чем достигнет колена. Норки красных сурков, напротив, разветвляются почти у самой поверхности и не идут так глубоко в землю. Этим объясняются и то обстоятельство, что красные сурки просыпаются на три недели раньше «леопардов». Солнечное тепло доходит до них раньше и будит их от глубокого сна.
Пока мальчики узнавали эти сведения, число сурков возросло до двадцати, они весело резвились на склоне холма. Расстояние, отделявшее их от путешественников, было слишком значительно, чтобы беспокоить их, но мальчики, со своей стороны, свободно могли следить за всеми их движениями. Вскоре они заметили, что сурки завязали между собой несколько жестоких драк. Это были не битвы между разными видами, а поединки между самцами каждой разновидности. Они сражались, как маленькие кошки, храбро и яростно; было заметно, что «леопарды» значительно более деятельны и злобны, чем их сородичи. Люсьен, наблюдавший их в подзорную трубу, заметил, что они часто хватали противника за хвост, и что у некоторых сурков хвосты были короче, чем у других. Норман объяснил, что это было последствием предыдущих битв и что вообще редкий из самцов мог похвастаться целым хвостом.
Пока длились эти наблюдения, внимание мальчиков было привлечено каким-то странным животным, которое ползком пробиралось из-за холма. Величиною оно было с обыкновенного сеттера, но гораздо толще его, ниже и более лохмато. Оно имело плоскую голову и короткие закругленные уши. Шерсть его была пятнистая, седовато-серая, переходящая в темно-коричневый цвет на лапах и хвосте. Последний, хотя и покрытый длинной шерстью, был короткий и торчал прямо вверх. На широких лапах зверя виднелись длинные загнутые когти. Его морда была острая, подобно морде борзой собаки, но не такая красивая, а белая полоса, ограниченная двумя черными полосками, шедшая с самого кончика морды через макушку, придавала морде животного совершенно особенное выражение. В общем, оно производило впечатление странного и злобного существа. Норман сразу признал в нем американского барсука. Прочие мальчики никогда прежде не видывали это животное, так как на юге, да и во всей населенной части Соединенных Штатов оно не водится, а то, что там иногда называют барсуком, не что иное, как полевая свинья или мэрилендский сурок. Долгое время существование барсуков в Северной Америке совершенно отрицалось; теперь ошибочность этого мнения доказана, хотя американские барсуки принадлежат больше к другой разновидности этого животного, чем его европейские одноплеменники. Американский барсук меньше европейского; мех его длиннее, тоньше и светлее; вместе с тем он значительно прожорливее и пожирает в огромных количествах мышей, сурков и других маленьких зверьков, питаясь и попадающейся падалью. Он водится в песчаных пустынных местностях и до такой степени перекапывает землю своими норами, что лошади нередко проваливаются и ломают ноги в этих норах. Пустые пространства в земле образуются не только от их жилищ, но и от расширения барсуками норок сурков; это они делают, чтобы добраться до самих зверьков и уничтожить их. Барсук, главным образом, добывает себе пищу именно таким способом; но так как зимой сурки засыпают, а земля под ними замерзает до полной окаменелости, барсукам приходилось бы очень плохо, не позаботься природа и о них: они также засыпают и только весной вновь возвращаются к жизни, чтобы снова начать свою вечную охоту на бедных, маленьких сурков. Особенно лакомы они до красных сурков и «леопардов» и являются их вечными, непримиримыми врагами.
Когда мальчики впервые заметили барсука, он крался, почти касаясь брюхом земли и горизонтально вытянув свою длинную морду, по направлению к жилищам сурков. Он намеревался неожиданно напасть на них. Время от времени он останавливался, осторожно осматривался и затем снова продолжал свой путь. Его план, очевидно, состоял в том, чтобы оказаться между сурками и их норками, захватить некоторых из них во время бегства и таким образом раздобыть себе пищу без лишнего труда, а не выкапывать их из норок. Его передние лапы и когти, впрочем, настолько крепки и сильны, что барсуку не составляет большого труда разрыть рыхлую землю, и он почти так же быстро, как крот, способен скрыться под нею.
Тихо и осторожно, с горящими злобой и жадностью глазами, барсук подошел шагов на пятьдесят к суркам и, вероятно, успел бы отрезать путь отступления некоторым из них, если бы в это мгновение филин, который до этого момента спокойно сидел на одном из пригорков, вдруг не поднялся и не начал кружиться над головой незваного посетителя. Это привлекло внимание караульных сурков, которые тотчас издали свой тревожный крик, и сурки со всех ног бросились по своим норкам.
Барсук, видя, что дальнейшие предосторожности излишни, поднялся и бросился за ними в погоню. Но было уже поздно: все сурки успели попрятаться, и их тревожное шипящее «сик-сик» доносилось из-под земли. Барсук на одно мгновение остановился, точно выбирал нору, затем рьяно принялся за дело и начал разрывать землю. В несколько секунд он вырыл такую глубокую яму, что наполовину ушел в нее, и лишь его хвост и задние лапы еще виднелись над землею. Он, по всей вероятности, скоро скрылся бы совершенно, если бы мальчики под предводительством Нормана не бросились на него и не схватили за хвост, стараясь вытащить. По очереди тащили они барсука, но, несмотря на все их усилия, — а Базиль и Норман были очень сильные юноши, — барсук не двигался. Норман предупредил их, чтобы они ни за что не выпускали хвост, так как в то же мгновение барсук исчез бы безвозвратно, и поэтому они держали его до тех пор, пока Франсуа не зарядил свое ружье. Затем выстрелил барсуку в лапу и хотя не убил, но принудил податься назад и высунуть голову из норы. Маренго моментально схватил его. Последовала отчаянная борьба, закончившаяся тем, что собака схватила барсука за горло и менее чем через четверть минуты задушила его. Шкура его, единственное, что имело какую-либо ценность, была содрана и отнесена в лагерь, тушка же оставлена на месте и скоро замечена сарычами и индейскими коршунами, которые через несколько минут уже спустились на нее.
Но это зрелище не было новостью для наших путешественников, и они скоро перестали интересоваться им, тем более, что другая птица приковала на короткое время их внимание. Это был большой ястреб, который, как определил Люсьен, принадлежал к разновидности, известной под названием сарыча. Этих сарычей в Северной Америке насчитывается несколько видов, и между ними и теми, которые только что спустились на тушку барсука, нет никакого сходства. Последние, обыкновенно называемые индейскими сарычами, настоящие ястребы и питаются преимущественно падалью, тогда как первые по внешнему виду и повадкам походят на соколов.
Тот, о котором идет здесь речь, был так называемый болотный сокол. Норман пояснил, что индейцы называют его змеиной птицей, потому что он особенно любит и преимущественно питается мелкими змейками, в изобилии водящимися по берегам Саскачевана.
Путешественники очень скоро убедились в точности индейского названия; этот народ, как и другие дикари, имеет хорошую привычку давать предметам названия, которые выражают какое-нибудь характерное качество описываемого предмета. Птица, их заинтересовавшая, кружилась в воздухе, очевидно, разыскивая себе добычу. Ее совершенно не было слышно, и, казалось, какая-то невидимая сила заставляла ее двигаться. Раз или два она пролетела над головами мальчиков, но только Франсуа хватался за ружье, как птица, точно понимая его намерения, стрелой поднималась ввысь и опускалась лишь по другую сторону лагеря, где продолжала свою разведку. Так продолжалось с полчаса, как вдруг она резко повернулась в воздухе, не спуская глаз с какого-то предмета в траве. В следующее мгновение она скользнула к земле и, на секунду остановившись над ее поверхностью, снова взвилась в воздух, держа в клюве маленькую извивавшуюся зеленую змейку.
Люсьен воспользовался этим происшествием, чтобы указать своим товарищам на характерную особенность ястребов и сарычей, по которой их всегда можно отличить от настоящих соколов. Эта особенность заключается в манере хватать свою добычу. Первые легко скользят горизонтально или по диагонали и хватают свою добычу на лету; настоящие же соколы бросаются на свою жертву перпендикулярно, камнем.
Он обратил их внимание также и на то, что у каждой породы хищных птиц величина крыльев и хвоста и другие особенности всегда соответствуют их способу добывания пищи; отсюда возник спор о том, чем считать это — причиной или следствием? Люсьену, однако, удалось убедить своих спутников, что это было лишь следствием их привычек, а не причиной. Наш натуралист был верным последователем теории постоянного совершенствования и изменения к лучшему всей природы.
Глава 19
СТРАННАЯ ПРИМАНКА
Через два дня после описанного происшествия с барсуком молодые путешественники добрались до Кумберланд-Гоуза, одного из значительнейших постов Компании Гудзонова залива. Начальник этой станции, живший на ней, был другом отца Нормана и, само собой разумеется, во время их пребывания в Кумберланд-Гоузе мальчиков старались как можно больше развлекать. Тем не менее они недолго пробыли у гостеприимных хозяев, так как желали окончить свое путешествие ранее наступления зимы, когда плавание на пирогах становится немыслимым. Зимой не только озера, но и самые быстрые реки замерзают на многие месяцы. Вся земля покрывается толстым слоем снега, и передвижение становится возможным лишь на лыжах или в санях, запряженных собаками. Этот способ передвижения употребляется как индейцами и эскимосами, так и немногочисленными в тех краях промышленниками и охотниками, когда им приходится перебираться с одного места на другое.
Путешествие в таких условиях не только затруднительно, но и в высшей степени опасно. Съестных припасов очень часто достать негде, дичь попадается очень редко, так как почти все птицы и четвероногие на зиму перебираются в более теплые места, и нередко случается, что целые группы путешественников и даже индейцев, которые, как известно, могут питаться решительно всем, чем угодно, погибают от голода и мороза.
Мальчикам все это было хорошо известно, и потому они очень торопились добраться до цели путешествия ранее наступления холодов. В форте они, конечно, получили новое полное снаряжение, но, помня, что им предстоит много волоков, взяли с собой лишь самое необходимое. Так как для переноски пироги необходимы были два человека, весь багаж, который могли нести два других мальчика, конечно, был весьма ограничен, ведь Франсуа был еще совсем ребенком, а Люсьен никогда не отличался большой силой. Самая значительная часть их багажа состояла в легком топорике, кой-каких кухонных принадлежностях с небольшим запасом провизии, и, конечно, в ружьях.
Покинув форт, они несколько дней продолжали плыть вверх по Саскачевану. Затем распрощались с ним и вошли в маленькую речонку, с севера впадающую в Саскачеван. Перенеся свою пирогу через небольшой волок, они достигли другой небольшой речки, текшей в другом направлении и впадавшей в один из рукавов Миссисипи. Плывя по ней и совершив еще несколько переносов пироги, они вошли в озеро Ла-Кросс, а затем последовательно в озеро Светлое, Буйволовое и Мети. После этого озера им пришлось нести пирогу на очень далекое расстояние, чтобы достичь верховья реки, известной под названием Ясной Воды, по ее течению спустились они до самого ее устья и вошли в Оленью реку, или Атабаску, одну из прекраснейших рек Америки. Они, в сущности, уже находились на самой Маккензиевой реке, так как Оленья река, пройдя озеро Атабаска, получает название Невольничьей реки, а по выходе из Большого Невольничьего озера называется Маккензиевой и под этим названием впадает в Ледовитый океан. Итак, попав, наконец, на главную реку, которую им предстояло проплыть, они со спокойными сердцами, полные надежд, поплыли по ней. Правда, перед ними лежало еще полторы тысячи миль пути, но мальчики представляли себе этот оставшийся путь очень легким, а так как у них оставалось еще около двух месяцев теплой погоды, то они не сомневались, что успеют добраться до цели их путешествия до начала зимы.
Так плыли они вниз по реке, наслаждаясь чудесными видами Оленьей долины; сама река своей шириной и покрытыми лесом островами напоминала скорее цепь озер, чем обычную реку. Часто отдавались они течению, иногда работали веслами, а чудная канадская песня лодочников звонко разносилась по окрестности, и припев ее повторяло эхо соседних берегов. Ни одна часть путешествия не оставила в них такого приятного воспоминания, как эта.
В провизии они также не испытывали недостатка: в реке водилось много семги и серебристых рыбок, которых местные жители называли дорэ. Они стреляли также уток и гусей, и жаркое из этих птиц стало их обычным обедом. Гуси попадались разных видов: были и снежные гуси, называемые так из-за их белоснежного оперения, и смеющиеся гуси, крик которых напоминает человеческий хохот. Индейцы приманивают этих гусей тем, что, произнося слог «уа», в то же время многократно ударяют себя ладонью по открытому рту. Мальчикам попадался также и гусь Брента, и канадский гусь, который и есть настоящий дикий гусь. Другая разновидность этого гуся, известная под именем казарки, также попадалась нашим путешественникам. Кроме этих разновидностей, по словам Люсьена, в северных широтах Америки водятся многие другие породы птиц, в высшей степени необходимые их обитателям: целые племена индейцев в продолжение многих месяцев в году питаются исключительно ими.
Что касается уток, то одна разновидность, особенно интересовавшая мальчиков, все не попадалась им. Это была знаменитая парусная утка, так справедливо прославляемая американскими гастрономами. Она неизвестна в Луизиане и водится только по берегу Атлантического океана, и мальчики никогда не пробовали ее. Норман, впрочем, слыхал, что она иногда попадается в Скалистых горах и в других частях страны пушных зверей, и они надеялись встретить ее на Атабаске. Люсьен, по обыкновению, имел представление о ней и мог бы легко узнать ее по виду; он предложил сообщить товарищам сведения, не только относящиеся к этой разновидности, но и вообще рассказать об этих интересных птицах.
— Парусная утка, — начал он, — по всей вероятности, самая знаменитая и ценная из всех уток вследствие замечательно нежного вкуса ее мяса. Это совсем небольшая птица, редко весящая более трех фунтов; оперение ее далеко не так красиво, как оперение некоторых других разновидностей. Голова красная или каштановая, грудь — блестяще-черная, а большая часть туловища сероватого цвета. По всей вероятности, этот серый оттенок, несколько напоминающий корабельный парус, и дал птице ее популярное название, хотя достоверно происхождение его неизвестно. Она очень напоминает красноголовку Европы и Америки, так что издали их даже трудно отличить друг от друга. Последняя разновидность водится всегда вместе с настоящими парусными утками и часто продается вместо них на рынках Нью-Йорка и Филадельфии; натуралисту, впрочем, легко отличить их по клюву и глазам. У парусной утки глаза красные, клюв зеленовато-черный и почти прямой; красноголовка же имеет глаза оранжево-желтые, клюв синеватый и по верхнему краю вогнутый.
Парусная утка известна в естественной истории под именем Anas Valisneria вследствие того, что питается корнями водяного растения, известного всем любителям аквариумов и называемого валиснериею, по имени итальянского ботаника Антонио Валиснери. Эта трава растет в медленно текущих реках и на морских отмелях, где вода лишь слегка солоновата. Вода, в которой она растет, обыкновенно не глубже пяти футов, а само растение поднимается из воды на два и более фута и имеет листья густого зеленого цвета.
Корни валиснерии белы и сочны и слегка напоминают сельдерей, отчего и все растение известно среди охотников на уток как дикий сельдерей. Парусная утка почти исключительно питается этими корнями, и они-то и придают ее мясу присущий ему особенный нежный вкус. Там, где в обилии растет валиснерия, как, например, в Чезапикском заливе или по реке Гудзон, водится и эта утка, весьма редко встречающаяся в других местностях. Она питается только корнями валиснерии, не трогая листьев, и для этого ныряет и вытаскивает их с большой ловкостью. Листья, лишенные корня, плавают по воде и в громадном количестве прибиваются к берегу.
Парусные утки ценятся очень высоко на американских рынках, и охота на них составляет прибыльное занятие для сотен охотников, живущих по берегу Чезапикского залива. Право охоты на них часто бывало поводом к столкновениям между охотниками различных штатов, лежащих вокруг этого залива, переходившим иногда в настоящие кровопролитные схватки. Наконец правительствам этих штатов удалось устранить недоразумения и урегулировать отношения ко всеобщему удовлетворению.
В эту минуту пирога обогнула колено реки, и свободное водное пространство открылось перед путешественниками. Они увидели, что другая река, с очень тинистой водой, впадала в ту, по которой они плыли; и около места впадения и на довольно большое расстояние ниже его вся поверхность реки была покрыта зеленой водяной травой, напоминавшей осоку. У края этой осоки и в той части ее, которая казалась менее густой, виднелась стая нырявших и плескавшихся диких птиц. Они были очень малы, очевидно, утки, но расстояние было еще слишком велико, чтобы рассмотреть, к какой разновидности они могли принадлежать. Единственный белый лебедь, трубач, виднелся на воде между стаей и берегом, медленно направляясь к последнему. Франсуа тотчас же зарядил один из стволов ружья лебяжьей или, вернее, козлиной дробью; Базиль тоже схватился за ружье. Об утках никто и не думал, все внимание было сосредоточено на трубаче. Люсьен вынул подзорную трубу и начал наблюдать за стаей. Мальчики не принимали предосторожностей по отношению к уткам, не намереваясь стрелять по ним, и потому пирога медленно продвигалась в их направлении. Но восклицание Люсьена заставило их переменить тактику. Он отдал приказание остановить пирогу, говоря им, что птицы, видневшиеся перед ними, были именно парусными утками, о которых они только что беседовали. Он нисколько в том не сомневался.
Это сообщение вызвало новое волнение: мальчики мечтали хоть одну из них застрелить и попробовать, а потому приняли все меры, чтобы достигнуть своей цели. Им было известно, что из всех водоплавающих эти утки наиболее пугливы и что приблизиться к ним можно только хитростью. Пока они кормятся, у них, по рассказам охотников, выставлены караульные. Насколько это справедливо, достоверно неизвестно, но неоспоримо то, что они никогда не ныряют все одновременно и что, пока некоторые находятся под водою, другие зорко осматриваются, точно остерегаясь возможных врагов. Норман поэтому предложил приладить к передней части пироги густые ветки так, чтобы скрыть и саму пирогу, и всех сидящих в ней. Мальчики одобрили этот план и пристали к берегу, где срезали несколько кустов, приделали их к борту, сами легли в пирогу и начали медленно подвигаться к уткам. Ружья были им ни к чему, и вся их надежда сосредоточивалась на двустволке Франсуа, который сидел на носу, готовый во всякое мгновение открыть огонь; остальные правили пирогой. Козлиная дробь была заменена более мелкой. О лебеде забыли и думать.
Приблизительно через четверть часа пирога, бесшумно скользя по реке вдоль густой травяной заросли, которая в этом месте состояла из валиснерий, подошла к уткам, и мальчики, глядевшие сквозь ветки, могли ясно различить птиц. Стая состояла из трех разных пород уток, пасшихся вместе: кроме самих парусных уток, были другие, очень на них похожие, но более мелкие — красноголовки. Затем были еще утки, совершенно не похожие ни на тех, ни на других; их головы были тоже красного, но более яркого цвета, с белой полосой, шедшей от самого клюва через макушку головы, что дало Люсьену возможность сразу определить их. Это были свищи. Но что наиболее заинтересовало наших путешественников, так это отношение этих трех пород друг к другу. Оказывалось, что свищи добывали себе пищу систематическим грабежом парусных уток. Последние, как уже сообщил Люсьен, питаются корнями валиснерий, но чтобы раздобыть их, они вынуждены нырять на глубину четырех или пяти футов и оставаться некоторое время под водой. Свищи также очень лакомы до сельдерея, но не принадлежат к числу хороших ныряльщиков и поэтому неспособны доставать себе эти корни. К какой же хитрости прибегают они, чтобы добыть себе любимое лакомство? Плавая как можно ближе к парусной утке, они ждут, пока та не нырнет. Свищ тогда бросается вперед, внимательно осматривает окружающую осоку (он всегда может точно определить по ее трепетанию, у каких корней работает утка) и ждет момента появления утки над поверхностью воды. Раньше, чем бедная птица будет в состоянии стряхнуть с глаз воду и открыть их, свищ бросается на нее, выхватывает из ее клюва добытый корень и исчезает вместе о ним. Иногда между ними возникают столкновения, но свищ, зная превосходство своего противника в силе, редко вступает в битву; обыкновенно он пользуется своей быстротой и спасается бегством. С другой стороны, и сама парусная утка редко преследует его, сознавая бесцельность погони. Она только с видом глубокого сожаления и укора смотрит ему вслед, а затем, очевидно, решив, что в воде осталось еще много других корней, снова ныряет на дно.
Красноголовка редко имеет столкновения с теми или другими, так как довольствуется листьями и стеблями, в изобилии плавающими на поверхности.
Пирога подплывала все ближе, и мальчики с большим интересом следили за утками. Они заметили, что трубач также подплыл к ним, на что утки не обращали ни малейшего внимания. Люсьена поразила внешность этого лебедя: его перья казались взъерошенными, и плыл он как-то слишком натянуто и ненатурально. Он совершенно не двигал головой, а держал ее опущенной почти до воды, с видом птицы, ищущей пищу на поверхности. Люсьен ни одним словом не заикнулся своим товарищам о своих наблюдениях, так как все они упорно молчали из боязни испугать уток; но Базиль и Норман тоже заметили странный вид и поведение лебедя; что же касается Франсуа, все внимание его сосредоточивалось на утках, и он не видел ничего другого.
Приблизившись к уткам, они заметили, что каждый раз, как лебедь подплывал к какой-либо из них, та тотчас же исчезала под водой и больше уже не показывалась на поверхности. Это обстоятельство сильно заинтересовало их. Они хотели уже сообщить друг другу о своих наблюдениях, но в эту минуту выстрел Франсуа отвлек их внимание, и все стали смотреть сквозь ветки, чтобы поскорее посчитать убитых им уток. Несколько уток лежали мертвыми на воде, несколько других продолжали еще биться; но мальчикам было не до их подсчета. Необъяснимое явление приковывало все их внимание: лебедь, поведение которого и раньше казалось им весьма странным, теперь вел себя еще более непонятно. Вместо того, чтобы взлететь после выстрела в воздух и исчезнуть, он вдруг затанцевал и занырял в воде, все время испуская крики, весьма похожие на человеческий голос. Затем он вдруг поднялся из воды и упал на спину на некотором расстоянии от прежнего своего места; а вместо него на поверхности воды показался темный круглый предмет, двигавшийся по направлению к берегу и все время испускавший все те же ужасающие крики.
Темный предмет был не чем иным, как затылком человека; река становилась все мельче, и голова все больше высовывалась из воды, так что скоро мальчики ясно различили блестящую шею и голые плечи индейца. Все объяснилось. Индеец вышел на охоту на уток и употребил чучело лебедя для своего прикрытия; отсюда и странное поведение птицы. Пирогу, скрытую ветвями, он не замечал, пока выстрел Франсуа не привлек его внимания. Этот выстрел и головы мальчиков, высунувшиеся из-за ветвей, испугали его больше, чем его появление испугало самих мальчиков: быть может, это были первые белые лица, которые он видел на своем веку. Как бы то ни было, он был чрезвычайно перепуган и, дойдя до берега, не останавливаясь и не оборачиваясь, бросился бежать со всех ног, точно преследуемый нечистой силой. Путешественники, ради интереса, забрали лебединую кожу; к застреленным Франсуа уткам они присоединили около двадцати уток, брошенных индейцем во время бегства и всплывших на поверхность. Все они были связаны друг с другом.
Забрав их в пирогу, мальчики очистили ее от ветвей и, снова взявшись за весла, стрелой полетели вниз по реке.
Глава 20
АМЕРИКАНСКИЕ УТКИ
Люсьен продолжал свою лекцию об американских утках.
— В водах Америки, — говорил он, — насчитывается не менее двух дюжин разновидностей уток. Ученые разделили их на целых восемнадцать классов. Легче выучить все, что когда-либо было написано о всех существующих утках, чем запомнить все восемнадцать специальных названий, которыми угодно было этим господам окрестить эти классы.
Истинный натуралист Вильсон провел больше оригинальных наблюдений над американскими утками, чем все последующие исследователи. Он описывает всех американских уток под общим названием anates, и, по-моему, его исследование и описание их оставляет далеко за собой все труды даже более счастливых и известных натуралистов.
Водоплавающие птицы Америки, — продолжал Люсьен, — то есть лебеди, гуси и утки, имеют громадное значений в тех широтах, по которым мы теперь путешествуем. В известные времена года они составляют единственное пропитание обитателей этих мест. Они все принадлежат к перелетным птицам; с замерзанием рек и озер улетают в более теплые края, а весной снова прилетают на север, где выводят птенцов и проводят лето. Быть может, они делают это потому, что эти пустынные места представляют им большую безопасность для выращивания птенцов и в период линьки. По моему мнению, впрочем, не это побудительная причина, так как и на юге встречается немало пустынных, необитаемых мест, а между тем они покидают и их ради холодного севера. «Их прилет в пушные страны, — пишет один известный натуралист, — знаменует собою начало весны и порождает между бродячими охотниками такую же радость, как уборка хлеба или сбор винограда в более мягком климате». Как индейцы, так и охотники, служащие в Компании Гудзонова залива, тысячами уничтожают лебедей, гусей и уток и едят их не только в свежем виде, но и солят их и таким образом сохраняют на зиму, когда невозможно бывает достать другой пищи. Добывают их всевозможными способами: и ружьем, и приманками, и путами, и сетями; но в этом отношении Норман сведущ более меня, быть может, он поделится с нами своими познаниями.
— Индейцы, — без промедления начал тот, — обыкновенно ловят их тенетами. С этой целью они устраивают под прямым углом к берегу ряды плетней ярдах в двух-трех друг от друга, куда и вплывает птица, направляясь к берегу за кормом. Между плетнями устанавливаются тенета, прикрепленные ко дну так крепко, что попавшаяся птица не в состоянии тащить их за собою. Тенета делаются из свитых вместе оленьих жил, а иногда из ремней. Наибольшую трудность представляет приготовление плетня. Иногда неоткуда бывает достать необходимые для их укрепления на дне шесты; особенно трудно переплетать их, сидя в маленькой валкой пироге. Нередко течение рек, в которых особенно много птицы, чрезвычайно быстро; в мелких реках и озерах работа, конечно, легче, и мне приходилось видеть такие маленькие озера с плетнями, тянущимися от одного берега до другого. В больших озерах в этом нет необходимости, так как лебеди, гуси и неныряющие утки должны выходить на берег за кормом и скорее попадаются у берегов, чем в открытых водах.
Индейцы часто расставляют тенета у самых гнезд уток, предварительно вымыв руки, так как думают, что в противном случае утки по запаху догадаются об опасности. Они уверяют также, что утки, как и большинство птиц, строящих свои гнезда на земле, входят в них с одной стороны, а выходят с другой. Зная это, индейцы всегда ставят силки со стороны входа, чтобы наверняка и поскорее поймать свою жертву.
Но кроме этого способа они употребляют и многие другие: ловят их и в гнездах, и на крючки с приманкой из какого-либо лакомства уток. Чтобы застрелить их, они пускают в ход всякие хитрости: ставят около гнезд подсадных уток, ветвями маскируют пирогу и под этим прикрытием подплывают к птицам, а во время линьки преследуют их на воде и бьют тысячами. Лебеди, обладающие сильными крыльями и большими перепончатыми лапами, часто успевают спастись, так как скользят по воде с большей скоростью, чем самая быстроходная пирога. Много других способов используют индейцы для поимки водоплавающих птиц, но я лично был свидетелем только тех, о которых уже рассказал.
Норман не любил говорить о вещах, с которыми был знаком лишь поверхностно. Люсьен продолжал дальнейшее описание американских уток.
— Одной из самых знаменитых уток бесспорно является гага, ценимая за свой тончайший и нежнейший пух, три фунта которого могут быть сжаты в кулаке и в то же время его достаточно для большого стеганого одеяла длиною в пять футов. Пух, собранный с живой птицы, ценится дороже собранного с убитой. Его достают из гнезд, которые самка густо устилает пухом, выщипанным из собственной груди. Когда она замечает пропажу, она снова выщипывает себе грудь; если и на этот раз пух исчезает, самец своим пухом выстилает гнездо; но, видя в конце концов бесполезность своих трудов, птицы навсегда покидают насиженное место. В одном гнезде бывает достаточно пуха для наполнения целой мужской шляпы, и все же вес его не превышает трех унций.
Гага величиной с настоящую дикую утку. Снизу она черная, сверху белая, с синевато-черным лбом. Она живет на морских берегах и только в виде исключения попадается в пресных водах. Питается преимущественно моллюсками, и мясо ее ценится только у жителей Гренландии. Держась большей частью в северных широтах, гаги иногда в жестокие зимы спускаются вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов, и тогда их под разными названиями продают на американских рынках. Некоторые утверждают, что гагу легко можно приручить, что было бы крайне выгодно; кажется, впрочем, что были уже сделаны опыты в этом направлении, но без успеха. Сбором гагачьего пуха занимаются на севере Европы; в Америке это занятие пока неизвестно.
Другая знаменитая разновидность называется королевской уткой, и пух ее не уступает в нежности гагачьему. Повадками они также напоминают гагу, но меньше ее.
Еще меньше утка-арлекин, обитающая на крайнем севере обоих материков и отличающаяся очень красивым оперением.
Но красивее их всех лесная утка, соперничающая красотой с мандаринкой, уткой, живущей в Китае, с которой она имеет много общего. Она называется лесной потому, что строит свое гнездо в дуплах деревьев, а иногда на ветках. Она водится в пресных водах и южных широтах и неизвестна в Европе в диком состоянии. Она очень легко приручается, и ее можно видеть в каждом зоологическом саду.
Кроме этих разновидностей, существует еще масса других, но, чтобы не слишком утомлять вас, я назову лишь те, которые отличаются какими-либо особенностями, как, например: свистун, названный так вследствие звука, производимого его крыльями при полете; или лопатник, формою своего клюва напоминающий лопату; а еще волшебник, или призрачная утка, которая с такой быстротой исчезает под водой, что застрелить ее бывает положительно невозможно. Есть еще так называемая ворчунья, все время гогочущая, точно бранится с кем-то. Ее крик очень известен в стране пушных зверей, и ему подражают во многих песнях путешественников. Много других уток водится на водах Америки, но перечислить их всех нет никакой возможности.
Приближение вечера, необходимость пристать к берегу и устраиваться на ночлег заставили Люсьена прервать свою лекцию, которая, по правде, уже очень утомила Франсуа.
Глава 21
СОРОКОПУТ И КОЛИБРИ
Живописные берега Оленьей реки, очевидно, были излюбленнейшим местопребыванием разнообразных представителей пернатого царства. Здесь путешественники наши познакомились не только с теми из них, которые улетают на зиму в более теплые края, но и с теми, что остаются круглый год в стране пушных зверей. В числе первых они наблюдали прелестную Вильсонову птицу, которая из-за своего незлобивого нрава пользуется в Америке такой же любовью, как малиновка в Англии. Им попадался и другой любимец местных фермеров, — каменный стриж, грациозно парящий в воздухе. А между зелеными листьями весело прыгали блестящие птички: ярко-красный шур, голубая сойка, шумная и болтливая, более редкий клест густо-красного цвета, и много других ярких птичек, оживляющих леса своим пением и красотою. Но более всех других интересовала мальчиков птица, не отличавшаяся ни красотой оперения, ни голосом, который был чрезвычайно неприятен и больше всего напоминал скрип заржавевшей петли; она была не больше дрозда, сверху светло-серая, снизу белая с черноватыми крыльями. Клюв ее напоминал ястребиный, ноги же были похожи на ноги дятла, и, вообще, она представляла как бы помесь этих птиц. Но не внешность ее, не пение интересовали наших путешественников, а ее совершенно своеобразные повадки. С ними им удалось отлично ознакомиться во время одного из их полуденных привалов, которые они позволяли себе, чтобы немного передохнуть и переждать самое жаркое время дня. В этот день мальчики находились на маленьком островке, поросшем кустарником, с несколькими старыми деревьями. Кустарники принадлежали к различным породам, но непосредственно около мальчиков рос куст цветущей жимолости, наполнявший воздух своим благоуханием.
Франсуа первым заметил присутствие в ней крохотных птичек, порхавших между ее цветами. Мальчики признали в них рубиновку — разновидность колибри, названную так из-за ярко-красного пятнышка на шейке самцов, отливающего на солнце чистейшим рубином. Спинки этих колибри золотисто-зеленые, и, за исключением коричневых колибри, они являются самыми мелкими птицами, залетающими в страну пушных зверей. Коричневые колибри, впрочем, встречаются только к западу от Скалистых гор, но зато попадаются вплоть до холодных и негостеприимных берегов залива Нутки. Излюбленнейшим местопребыванием колибри являются Мексика и тропические страны Америки, и долгое время даже не предполагали, что рубиновка в состоянии подняться севернее территории самой Мексики. В настоящее время достоверно известно, что кроме коричневых колибри еще две или три разновидности ежегодно предпринимают экскурсии в более холодные края.
Что же касается рубиновки, то она не только залетает в страну пушных зверей, но даже строит свои гнезда на берегах Оленьей реки, где и познакомились с нею наши мальчики.
В то время как они наблюдали за этими крохотными созданиями, порхающими по цветам, внимание их было привлечено другой птицей. Об этой-то птице мы и упоминали выше. Она сидела на дереве недалеко от жимолости, но время от времени соскакивала со своей ветки, бросалась вперед и, полетав немного между колибри, снова возвращалась на прежнее место.
Сначала этот маневр птицы не заинтересовал мальчиков. Им не в первый раз приходилось наблюдать подобное поведение птиц: сойки и многие другие птицы, питающиеся мошками, имеют ту же привычку. Но Люсьен, более внимательно наблюдавший за птицей, объявил товарищам, что та ловила колибри, что каждый раз, как она возвращалась на ветку, в ее когтях трепетала крохотная пташка и что только маленький рост последних не позволял мальчикам до сих пор самим заметить этого. Они стали наблюдать за птицей и вскоре убедились в правоте Люсьена: на их глазах птица схватила колибри в тот момент, когда малютка хотела влететь в венчик цветка. Такая жестокость глубоко возмутила Франсуа: он схватил двустволку и направился к дереву, куда птица, как и прежде, унесла свою последнюю жертву. Дерево принадлежало к породе акаций и, как водится, было покрыто большими колючками. Франсуа не обращал на них внимания; скрываясь в густом кустарнике, он подкрался к дереву, поднял ружье, прицелился, и птица, трепеща, упала с ветки. Франсуа подошел ближе, чтобы поднять ее и по просьбе Люсьена, желавшего ближе ознакомиться с птицей, отнести товарищу, и уже был готов возвращаться, когда взор его нечаянно упал на акацию. Изумленный возглас привлек к нему внимание остальных мальчиков, которые не менее его были поражены зрелищем, представившимся их глазам. Все дерево, как я уже сказал выше, было покрыто колючками; но одна ветка особенно поразила их: на ней было с дюжину колючек, торчавших вверх, и на каждой из них было насажено по рубиновке. Конечно, крохотные создания были уже мертвы, но они не только не были разорваны, но даже перья их не были взъерошены. Все они спинками вверх торчали на иглах дерева так аккуратно, как будто это было сделано человеком. При ближайшем исследовании мальчики увидели, что странная птица поступила так не только с колибри: несколько штук кузнечиков, пауков и других насекомых тоже торчало на колючках, а на другой ветке виднелись две полевые мыши.
Базилю, Норману и Франсуа все это казалось необъяснимым; Люсьен же отлично понимал, что все это значит. Эти жертвы были насажены на колючки именно той птицей, которую только что застрелил Франсуа, а именно сорокопутом, которого называют также мясником, именно вследствие только что описанной привычки. Люсьен не мог в точности объяснить причину такого поведения птицы, натуралисты и те сильно расходятся на этот счет. Некоторые утверждают, что сорокопут поступает таким образом с пауками и разными насекомыми с целью приманить к месту, где сам находится, мелких птичек, которыми он питается. Но это мнение опровергается тем, что он уничтожает преимущественно не насекомоядных птиц, и кроме того, сам большой охотник до кузнечиков и уничтожает их в громадном количестве. Наиболее правдоподобным объяснением этой странной на первый взгляд привычки является то, что сорокопут натыкает свои жертвы на иглы, чтобы уберечь их от земляных муравьев, крыс, мышей, енотов, лисиц и других хищников, как хорошая кухарка подвешивает мясо для того, чтобы кошка не утащила его. Таким образом колючки акации представляют собой кладовую сорокопута, в которой он сохраняет свои запасы, как вороны, сороки и сойки устраивают свои склады в трещинах стен или дуплах деревьев. То обстоятельство, что хищник иногда не возвращается к своим кладовым, не опровергает данной точки зрения, ведь лисицы и собаки часто поступают так же.
Под впечатлением только что увиденного путешественники вернулись в лагерь и тотчас же собрались в дальнейший путь.
Глава 22
СОКОЛ-РЫБОЛОВ
Несколько дней спустя новое происшествие, свидетелями которого были наши путешественники, познакомило их с нравами и обычаями другой весьма интересной птицы, водяного или морского орла, более известного в Америке под именем сокола-рыболова.
Водяной орел принадлежит к семейству соколиных, он один из самых крупных представителей его, достигает двух футов от клюва до хвоста, при размахе крыльев в шесть футов. Сверху он темно-коричневый, как почти все соколы, нижняя же его часть пепельно-белая. Лапы и клюв синие, а глаза — желто-оранжевые. Они водятся во всех частях Соединенных Штатов, где есть вода и рыба, которой он питается, но встречаются чаще по морским берегам, чем внутри страны, хотя обитают и в центральных частях материка, когда озера освобождаются от льда. Его редко можно видеть у тинистых рек, так как там мало возможности проследить в воде добычу. Он принадлежит к числу перелетных птиц и осенью улетает на юг, особенно любит берег Мексиканского залива. Весной морские орлы поднимаются на север и появляются на Атлантическом побережье, принося с собой радостную для рыбаков весть о скором появлении у их берегов громадных стай сельдей, бешенок и других рыб. Рыбаки считают их своими собратьями по ремеслу и никогда не убивают. В этом случае совершенно неприменимо общее мнение, что два соперника никогда не могут ужиться вместе. Фермер, приняв его за краснохвостого ястреба, на которого тот издалека несколько похож, иногда прицеливается в него, но, поняв свою ошибку, тотчас же опускает ружье и позволяет соколу беспрепятственно удалиться. Это странное поведение объясняется тем, что сокол-рыболов не только не трогает ни одной утки или курицы, но еще прогоняет от того места, где он устроит свое гнездо, всех ястребов, коршунов и сарычей, которые в ином случае опустошают птичьи дворы. С такими покровителями, понятно, рыбный орел — одна из самых распространенных птиц Америки и может спокойно высиживать свои яйца как «под дверью» фермера, так и около дома рыбака. В то время как самка сидит на яйцах, самец приносит ей пищу. Поэтому морской орел не является редкой птицей; наоборот, морские орлы встречаются гораздо чаще прочих разновидностей соколов, и гнезд их можно насчитать от двадцати до тридцати в одной и той же небольшой роще; а на каком-нибудь маленьком острове их можно увидеть до трехсот штук. Эти птицы строят свои гнезда преимущественно на деревьях, но не всегда на вершинах, а часто на развилках, футах в двадцати от земли. Гнезда их строятся из больших веток, соломы, сорных трав, сырого дерна, затем густо устилаются сухой морской травой. Все гнездо так велико, что заняло бы целую телегу, и настолько тяжело, что составило бы значительный груз для обыкновенной лошади. Гнезда видны на далекое расстояние, тем более, что дерево, на котором они находятся, обычно мертвое и лишено листьев. Некоторые исследователи говорят, что эти птицы нарочно выбирают для гнезда засохшее или умирающее дерево. Вернее, что это следствие, а не причина, и что дерево погибает отчасти из-за нагроможденной на него тяжести, отчасти от морской травы, рыбьего жира, экскрементов самих птиц и мертвой рыбы, гниющих вокруг корней: морской орел, уронив свою добычу, что часто случается с ним, никогда не поднимает ее, а предпочитает отправиться на новую охоту. Мальчишкам очень легко находить гнезда морских орлов, но если они захотели бы унести три или четыре яйца, которые обыкновенно находятся в нем (эти яйца величиною с утиные и покрыты коричневыми пятнами), то это оказалось бы несравненно труднее, и, по всей вероятности, маленькие воришки принуждены были бы отступить с выцарапанными глазами и окровавленными лицами; поэтому даже мальчики редко беспокоят гнезда морских орлов. Очень распространен следующий анекдот, за достоверность которого мы, однако, не ручаемся. Рассказывают, что какой-то негр отправился однажды за орлиными яйцами. Достигнув гнезда, он был атакован обоими хозяевами его, причем один из них, бросившись на голову негра, так увяз своими когтями в густой шапке его волос, которые, по народному поверью, растут обоими концами, что только тогда мог отцепиться, когда негр слез с дерева. Бесспорно, что орлы защищают свои яйца и птенцов с изумительной храбростью и яростью, и мы знаем не один пример, когда они тяжело ранили людей, пытавшихся разорить их гнезда.
Как уже известно, морской орел питается исключительно рыбой. Никогда не наблюдалось, чтобы орлы ели птиц или четвероногих, даже в тех случаях, когда случайно оказываются лишенными своей привычной пищи, что бывает, когда озера и реки, которые они рассчитывали найти уже свободными ото льда, запоздают со своим вскрытием. Другие птицы пользуются нередко великодушием морского орла и, не тревожимые им, устраивают гнезда между жердями его жилищ. Особенность в строении лап и пальцев морского орла указывает на его пищу и на способ ее добывания. Его лапы непропорционально длинны и сильны и почти до самых колен лишены перьев. Пальцы тоже очень длинные, а подошвы покрыты толстой, твердой чешуей, напоминающей зазубрины терки, что помогает птице крепко удерживать в лапах свою скользкую добычу. Когти тоже велики и загнуты полукругом, а самые кончики их остры, как иглы.
Итак, в одно из воскресений мальчики вышли на берег и разбили лагерь, чтобы провести на этом же месте и следующий день. Они причалили к мысу, врезавшемуся в реку, откуда могли видеть большую часть реки. Недалеко от них между двумя ветками большого тополя виднелось гнездо морского орла. Дерево, по обыкновению, было сухое, и головы маленьких орлят ясно виднелись на краю гнезда. Они имели вид совершенно оперившихся и взрослых птиц, но одна из особенностей морских орлов состоит в том, что молодые орлы остаются в гнезде и пользуются заботами своих родителей долгое время после того, как сами уже могли бы отыскивать себе пропитание. Уверяют даже, что старики наконец теряют терпение и ударами крыльев выгоняют своих детей из гнезда; но и после этого родители еще долгое время кормят их.
Люсьен передал это как народное поверье, но не ручался за его достоверность. Прошло немного времени, и они увидели полное его подтверждение.
По приезде путешественников на мыс старые птицы некоторое время спокойно оставались около гнезда, иногда спускаясь к тому месту, где находились мальчики, издавая при этом громкие крики и с шумом рассекая воздух ударами крыльев. Видя, что никто не думает причинять им вред, они наконец оставили эту демонстрацию силы и довольно долго спокойно сидели на краю гнезда. Потом сначала один, затем и другой орел вылетели и кругами начали подниматься в воздух, пока не достигли высоты ста футов над водою. Ничто по грандиозности не могло сравниться с их полетом. Они то скользили по воздуху, то останавливались неподвижно, то круто поворачивались и снова скользили в другом направлении. Все это они проделывали с полной непринужденностью, как будто вовсе не нуждаясь в помощи крыльев. Вот они снова остановились и точно всматриваются во что-то под водою. Быть может, это рыба, очень для них большая или ушедшая слишком глубоко.
Вот орлы снова летят, и вдруг один из них внезапно останавливается и, как камень из пращи, падает вниз на воду. Но прежде чем он успел достичь воды, рыба уже заметила его, нырнула в глубину и спряталась от своего врага, а орел, затормозив распростертыми крыльями и распущенным хвостом, снова поднимается в вышину и продолжает свой полет.
Это занятие продолжалось некоторое время, после чего большая из птиц, следовательно самка, оставила охоту и вернулась в гнездо. Там она сначала оставалась неподвижной, но вскоре, к великому удивлению мальчиков, вдруг начала бить крыльями своих птенцов, точно желая заставить их покинуть гнездо. Таково и было в действительности ее намерение. Быть может, ее последний неудачный опыт добыть им пищу навел ее на размышления и ускорил ее решение заставить их самих работать на себя. Как бы то ни было, она вскоре дотолкала их до края гнезда, а потом и вовсе столкнула вниз, заставив взлететь. Птенцов в гнезде было всего двое. И, достигнув своей цели, она тотчас же полетела через озеро.
В это самое мгновение самец стрелой бросился на воду и поднялся, держа в когтях рыбу. Он полетел прямо к одному из орлят и, встретив его в воздухе, разом перевернулся и подал ему рыбу. Орленок схватил ее с такой ловкостью, точно всю жизнь только этим и занимался, и полетел на соседнее дерево, где начал уничтожать пищу. Его поведение было замечено другим орленком, который последовал за ним и сел на ту же ветку с очевидным намерением разделить его обед. В несколько минут лучшая часть рыбы была уничтожена, и оба снова полетели в гнездо.
Там обоих орлят уже поджидали родители, приветствовавшие их громким криком, который, вероятно, должен был обозначать поздравление их с первым удачным полетом.
Глава 23
МОРСКОЙ ОРЕЛ
Отдохнув некоторое время с другими, старый самец решил снова отправиться на рыбную ловлю, вылетел из гнезда и начал кружиться над водой. Мальчики, не имевшие никакого другого занятия, следили за его движениями, обмениваясь мыслями о его повадках.
Люсьен сообщил им, что морской орел живет и в другом полушарии и его, преследующего стаи рыб, часто можно встретить на берегах Средиземного моря. В некоторых частях Италии его зовут свинцовым орлом, вследствие того, что он падает с высоты на воду подобно куску свинца.
Пока они так беседовали, орел раз или два бросался к воде, но каждый раз снова поднимался в воздух; очевидно, рыба, которую он собирался было схватить, заметив его, сумела скрыться. Но не всегда удавалось это. Мальчики скоро увидели, что орел на мгновение остановился в воздухе, затем вдруг сложил свои крылья и с быстротою молнии бросился вниз. Послышался свист рассекаемого воздуха, потом всплеск воды, ровная поверхность реки вдруг взволновалась, и белый столб брызг поднялся на несколько футов над водою. На мгновение птица скрылась под водой, и только пенившаяся вода указывала место, где она нырнула. В следующий момент она снова показалась на поверхности и несколькими взмахами крыльев поднялась в воздух, держа в своих когтях большую рыбу. Как и предыдущий раз, она держала рыбу головой вперед, из чего мальчики сделали заключение, что орел хватает свою добычу сзади. Поднявшись на некоторую высоту, птица, подобно собаке, отряхнула воду и полетела уже не с прежней легкостью по направлению к гнезду. Но когда она долетела до дерева, рыба вдруг зацепилась за ветки и выпала из ее когтей. Ничто не могло быть более кстати для мальчиков, так как за весь день Франсуа не удалось поймать ни одной рыбки, а свежая рыба на обед была большим лакомством. Франсуа и Базиль поспешили к дереву, чтобы поднять рыбу раньше орла, но Люсьен сказал, что опасение их напрасно, так как орел никогда не поднимает упавшую рыбу. Тогда они, не торопясь, пошли к дереву, подняли рыбу и как можно быстрее удалились, так как запах разлагавшейся рыбы, в огромном количестве гнившей у корней, был совершенно невыносим. Рыба, доставшаяся им, оказалась чудным лососем, не менее шести фунтов весом, следовательно, тяжелее самой птицы. Старые орлы издавали неистовые крики в то время, когда мальчики уносили рыбу, но вскоре успокоились и снова стали реять над водою, высматривая новую добычу.
— Какую массу рыбы они должны уничтожать? — сказал Франсуа. — Им это, по-видимому, не доставляет ни малейшего труда. Смотрите, вот орел опять поймал рыбу!
Орел, действительно, только коснулся воды, а в лапах его уже трепетала новая жертва.
— Им иногда приходится работать и на других, — заметил Люсьен, — например, на лысого орла.
Люсьена прервало гоготанье, которое тотчас же было признано принадлежащим именно той птице, чье название только что было произнесено. Все обратили взоры на противоположный берег реки, откуда доносился звук, и сразу увидели собирающегося слететь с дерева главного врага морского орла — белоголового орла.
— Сейчас мы будем свидетелями ограбления, — сказал Франсуа. — Вот приближается сам грабитель.
Мальчики с некоторым волнением стали наблюдать за птицами. Несколькими взмахами крыльев лысый орел приблизился к морскому орлу, но тот уже услыхал его гоготанье и, сознавая бесполезность попытки отнести рыбу в гнездо, спиралью поднялся вверх, в надежде хоть в этом направлении спастись от врага. Грабитель последовал за ним, в свою очередь преследуемый самкой, которая всеми силами старалась отвлечь его внимание от первой птицы. Но все старания ее были напрасны. Птицы достигли такой высоты, что более мелкий морской орел совершенно исчез из глаз. В отчаянии он выпустил рыбу, которая с плеском упала в воду. Лысый орел стрелой бросился за ней, но, не достигнув воды, вдруг распростер крылья, остановился и с криком разочарования полетел обратно на прежнее место. Морские орлы, скользя по спирали, тоже вернулись к своему гнезду, и их сердитые «разговоры», в которых принимали участие и птенцы, долго еще доносились до мальчиков.
— Удивительно, что орел упустил свою добычу, — сказал Люсьен. — Он в состоянии ринуться вниз с такой скоростью, что обыкновенно схватывает добычу ранее, чем она упадет. Быть может, самка была на его пути и помешала ему. В воде же он не схватил рыбу потому, что она ушла на дно.
— Как несправедливо, — сказал Франсуа, — что морской орел, вполовину меньший, чем лысый, должен еще своими трудами содержать этого грабителя.
— В этом случае они не хуже людей, — возразил Базиль. — Подумайте о том, как у нас в Америке белые заставляют трудиться негров. Но все же это лучше, чем в Европе. Здесь хотя бы меньшинство работает на миллионы, тогда как там миллионы работают на меньшинство.
Лысые орлы вынуждены так поступать. Дело в том, что рыба не всегда ловится на поверхности воды, и природа одарила морских орлов способностью нырять в глубину. Лысые же лишены этого дара и поневоле должны зависеть от первых в добывании пищи. Впрочем, они сами ловят рыбу, когда вода достаточно мелка или рыба держится около поверхности.
Лысые орлы никогда не убивают своих морских собратьев, так как слишком хорошо сознают их пользу. Случается иногда, что стая морских орлов соединенными силами прогоняет лысых. Это является как бы восстанием угнетенных.
На этом месте разговор был прерван новым происшествием. Морской орел, кружившийся над водою, вдруг бросился вниз и схватил большую рыбу. Лысый орел, заметив это, тотчас же бросился в погоню за ним и, прежде чем первый успел подняться на двести футов над поверхностью, догнал его. Видя, что спасения нет, тот выпустил из своих когтей рыбу, которая еще на лету была подхвачена лысым орлом. Добыв себе пищу таким образом, лысый орел бесшумно полетел к противоположному берегу и исчез между деревьями. Морской орел принял этот инцидент как нечто неизбежное и снова взялся за работу.
Между тем самка морского орла, за которой также наблюдали мальчики, казалось, была менее удачлива, чем ее супруг. Но вот и она, наметив свою жертву, камнем бросилась с высоты и исчезла под водою. Мальчики долго смотрели на то место, где она скрылась, но птица все не появлялась на поверхности. Она так и не появилась больше. Старый орел, не переставая, жалобно звал свою подругу, тоже, очевидно, не понимая причины ее исчезновения. Мальчики не могли понять происшедшего: ведь не потонула же она, не застряла ногами в морской траве, не разбила голову о подводный камень. О настоящей причине никто не догадывался, пока случай не открыл ее. Два дня спустя, отплыв на довольно значительное расстояние от места своей последней остановки, мальчики вдруг увидели какой-то странный предмет, плывший на поверхности. Они приблизились к нему и увидали, что то была большая мертвая рыба, рядом с которой плыл мертвый морской орел. Это и была исчезнувшая самка. Перевернув обоих, они, к своему удивлению, увидели, что когти птицы были глубоко запущены в мясо рыбы. Очевидно, та, вцепившись в слишком тяжелую для себя рыбу, была не в состоянии освободиться от нее, и рыба увлекла ее на дно, где обе и погибли.
Глава 24
ПРЕРВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
После десятидневного плавания вниз по Оленьей реке мальчики вошли в озеро Атабаску, одно из озер Америки, лежащих на границе между базальтовыми скалами и более плодородными известковыми отложениями на западе. Оно имеет почти двести миль с запада на восток при ширине всего около пятнадцати миль, а в иных местах и менее, так что при обилии островов более походит на широкую реку, чем на озеро. Берега его и некоторые из островов покрыты лесом и чрезвычайно живописны. Но путешественникам было не до этого. Общий любимец Люсьен заболел тяжким недугом — перемежающейся лихорадкой. Еще плывя по Оленьей реке, начал он жаловаться на недомогание, которое с каждым днем усиливалось, и наконец объявил, что не в силах двигаться дальше. Пришлось прервать путешествие, выбрать место и устроить лагерь, где можно было бы прожить до выздоровления товарища. Мальчики построили ему хижину, разложили для него самые лучшие шкуры и по его собственным рецептам приготовляли напитки из корней, фруктов и ягод. Франсуа ежедневно возвращался с охоты с парой голубей или тетеркой и варил из них суп, который был тем вкуснее, что в форту они запаслись солью, перцем и другими приправами. Они захватили с собой и настоящего китайского чая, но так как количество его было незначительно, то заваривался он исключительно для больного и приносил ему большую пользу.
К всеобщей радости, Люсьен скоро поправился, и они отправились дальше, придерживаясь берегов. Так достигли они Великой Невольничьей реки, которая соединяет Атабаску с Невольничьим озером, а затем и другой большой реки, называемой рекой Мира, впадающей в Невольничью немного ниже озера Атабаски и берущей свое начало на западном склоне Скалистых гор, и, следовательно, пересекающей эту горную цепь. Река Мира течет по глубоким ущельям, окруженным головокружительными утесами и снеговыми вершинами, и верховье ее переплетается с верховьями нескольких потоков, текущих к Великому океану, так что мальчикам представлялась возможность добраться отсюда в своей пироге до самого океана. Но это не входило в их планы, и они проплыли устье реки Мира и проследовали дальше к Невольничьему озеру. Они продолжали плыть по Оленьей реке, так как Невольничьею называется лишь часть той же реки между озерами Атабаска и Невольничье. Они двигались теперь по роскошной реке с чудными берегами. Тем не менее они не были счастливы; это происходило не из опасений за здоровье Люсьена, который чувствовал себя совершенно окрепшим; их страшила надвигающаяся зима, раньше которой, они в том были уверены, им не добраться до цели путешествия. Почти месячная остановка из-за болезни Люсьена расстроила все их расчеты, и они предвидели, что скоро появится лед на реках и озерах, и плавание их должно будет прекратиться. Идти дальше пешком будет чрезвычайно утомительно и опасно; при таком способе передвижения возможно будет взять с собой лишь самый незначительный запас провизии, так как и без того путнику тяжело от лишней одежды, необходимой, чтобы уберечься от холода. Дичь в это время года крайне редка, так как большая часть улетает на юг, а та, которая остается, очень пуглива. Снежные бури часто разражаются в этих местах, земля покрывается толстым слоем снега, по которому очень трудно передвигаться. Все эти обстоятельства, отлично известные мальчикам, были весьма неутешительного свойства.
Они достигли Невольничьего озера в конце августа, когда дни становятся уже короткими, и им поневоле приходилось сокращать время их ежедневного пути. По ночам бывали заморозки, но середина дня продолжала быть такой жаркой, что они даже страдали от жары. Тем сильнее чувствовался ночной холод, и все шкуры, имевшиеся у них, еле согревали замерзших мальчиков.
Озеро Невольничье, как и Атабаска, очень длинное и узкое. Оно тянется с востока на запад на 260 миль, но в самой широкой своей части имеет не более 30 миль. Его северные берега совершенно пустынны и скалисты, южные — другого характера. Там преобладает известняк. Озеро изобилует островами, покрытыми, как и южный берег, тополями, соснами, березами и многочисленными ивами. Оно богато разными породами рыб, а на некоторых островах в летнюю пору водится много дичи. Даже и зимой попадается ее немалое количество, но из-за снега охота очень затруднительна. Многие животные проводят зиму в спячке по своим норам или в самом снегу, и их тоже невозможно достать. Тем не менее мальчики, убедившись в невозможности окончить свое путешествие до зимы, решили обосноваться на берегу этого озера, так как здесь они имели хотя бы топливо в изобилии, которого в другом месте могло и не оказаться. Они стали подыскивать наиболее удобное место, продвигаясь к западному концу озера. Но это было не так-то легко, и, дойдя до того конца озера, где оно поворачивает на юг, Норман для сокращения пути предложил, не придерживаясь берега, отправиться напрямик к мысу на северной его стороне, известному под названием Невольничьего. Этот мыс известковой формации и, как слыхал Норман, изобилует лесом и дичью. На нем водятся даже буйволы, которые севернее уже нигде не встречаются. Это также самый северный пункт известковой формации, за которым начинаются базальтовые скалы. Все, конечно, согласились с Норманом и пустились в открытое озеро. К концу первого дня, после утомительной гребли против сильного ветра, они достигли маленького острова, покрытого лесом, почти на середине озера, где и разбили на ночь лагерь, намереваясь на следующий день пройти оставшийся путь.
Глава 25
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ ПОДО ЛЬДОМ
Проснувшись на следующее утро, мальчики, к большому удивлению, увидели, что за ночь озеро покрылось льдом. Положим, они этого и ожидали, так как ночь была холоднее, чем все до сих пор, и они провели ее почти без сна. Лед пока был очень тонок, но это лишь усугубляло их несчастье, так как ни в пироге, ни пешком они не могли двинуться с острова и оказались узниками на нем.
Открытие это повергло мальчиков в уныние. Единственным утешением служила им мысль о том, что они останутся на острове лишь до тех пор, пока лед либо растает, либо станет достаточно прочным, чтобы выдержать их тяжесть. А пока они принялись за устройство временного жилища на острове, стараясь сделать его по возможности уютным. Их опасения, впрочем, возобновились с прежней силой, когда по прошествии нескольких дней они убедились, что лед оставался таким же. По утрам, правда, он был достаточно крепок, чтобы выдержать их, но за день под солнечными лучами растаивал настолько, что казался пленкой на поверхности воды. Тревога наших путешественников все усиливалась. Запасы были почти на исходе, на острове дичь не попадалась — они осмотрели все кусты и не встретили ни одной пичужки. Они хотели было спустить на озеро пирогу и постараться пробиться в ней сквозь лед, но сознание трудности и опасности этого предприятия каждый раз останавливало их. До берега было около десяти миль, да и стоять в валкой пироге, не опрокинув ее, было совершенно невозможно. Даже перевеситься через нос пироги уже было опасно, так что мысль пробиться сквозь лед была окончательно оставлена. Что же оставалось им делать? Запасы подходили к концу, а лед все не делался более крепким, хотя у берега и выдержал бы их. Дальше же он был очень тонок, так как образовался значительно позднее. Отважиться идти по нему было бы безумием. С другой стороны, на острове им грозила неминуемая голодная смерть; решительно ничего съедобного не попадалось им. Они были уверены, что в воде была рыба, но каким образом добыть ее из-подо льда? Они пробовали было ловить ее на лесу, но в это позднее время года она не шла ни на одну приманку, и им не удалось поймать ни одной рыбки.
Они уже почти решились на отчаянное средство — пробиться сквозь лед, как вдруг Норману пришла мысль попробовать ловить рыбу сетью. Но ведь сети-то у них тоже не было, да и на сотни миль кругом не было ни одной сети! Но и это обстоятельство не остановило мальчиков. У них были две высушенные, но невыделанные шкуры канадского оленя, и из них-то Норман предложил смастерить сеть. Пусть только товарищи помогут ему разрезать шкуры на тоненькие ремешки. Базиль и Люсьен живо принялись за дело, а Франсуа стал помогать Норману связывать ремни вместе, а затем держал их, пока тот плел сеть. Через несколько часов чудная сеть, длиною почти в шесть ярдов, шириною по меньшей мере в два, была готова и, хотя довольно грубая, могла служить не хуже самой лучшей сети. Мальчики привесили к ней грузики и тотчас же понесли на берег. Трое южан в первый раз видели, как устанавливают сети подо льдом: в их краю лед бывает лишь в виде исключения и никогда не в состоянии выдержать человека. Они с особенным интересом ожидали дальнейших операций. Норман не раз видел и даже сам расставлял сети подо льдом и сразу принялся за дело.
Прежде всего он ползком переместился на двадцать или тридцать ярдов от берега, осторожно двигаясь по трещавшему под его тяжестью льду. Дойдя до места, где намеревался поставить сеть, он ножом проделал во льду несколько отверстий футах в шести друг от друга, расположив их по одной линии. При нем был шест около шести футов длиной с привязанной к одному концу веревкой. Другой конец веревки был прикреплен к углу сети. Норман опустил этот конец в первое отверстие и подо льдом направил другой конец шеста к следующей дыре. Здесь он снова схватил шест и таким образом, переправляя его от одного отверстия к другому, достиг последнего, вытянул веревку и с помощью ее ввел под лед всю сеть. Грузики, конечно, упали на дно и поставили сеть вертикально; на обоих верхних концах сеть прикрепили поверх льда. Теперь оставалось ждать, пока рыба добровольно войдет в сеть, чтобы с помощью веревки вытащить ее на лед, а затем таким же способом снова расставить сети.
Мальчики вернулись к костру и стали ждать результата, решив, в том случае, если он будет неблагоприятен, попробовать последнее средство и пробиться сквозь лед на пироге. Почти два часа терпели они, не осматривая сети; затем Норман и Базиль пробрались к отверстиям во льду и с замирающими сердцами стали осторожно вытаскивать ее.
— Что-то она тяжела, — сказал Базиль. — Ура! — закричал он, вытаскивая на лед чудную рыбу. Остальные подхватили его радостный возглас, который повторился еще раз, когда показалась другая рыба. Улов ограничился этими двумя рыбами. Их вынули из сети, которую снова тщательно расставили. Первая большая рыба оказалась форелью и весила не менее пяти фунтов; очень скоро она уже была уничтожена, и мальчики клялись, что никогда в жизни не приходилось им есть более вкусной рыбы. Но, принимая во внимание их волчий аппетит, мы допускаем, что они могли слегка преувеличить.
Они несколько поуспокоились, хотя мысль о будущем не переставала тревожить их. Они не были уверены, что и впредь их рыбная ловля будет успешна, а без этого они по-прежнему были бы в самом печальном положении. Но когда они во второй раз вытащили сеть, их опасения рассеялись. Они поймали целых пять рыбин, весивших вместе не менее двадцати фунтов, которых хватило бы на долгое время.
В эту самую ночь ударил сильнейший мороз, и к утру лед стал в фут толщиною. Они не боялись больше провалиться и, забрав с собой пирогу и все свои пожитки, пустились пешком по льду. Несколько часов спустя они благополучно достигли мыса, к которому стремились, и начали устраиваться на зимовку.
Глава 26
СТРАННАЯ ТРЕВОГА
Выбрав подходящее место для лагеря, мальчики первым делом занялись постройкой хижины, что для них, жителей девственных лесов Америки, было очень легко. Все отлично владели топором и быстро нарубили и обтесали нужные бревна, из которых построили маленькую хижину, покрыв ее тонкою дранкой. Из камней, лежавших по берегу, они сложили очаг, хотя и очень примитивный, но с превосходной тягой. Они очень нуждались в глине, но ее совершенно негде было достать: земля была настолько мерзлая, что не только нельзя было накопать глины или грязи, но даже кипяток, выплеснутый на открытом воздухе, через несколько минут превращался в лед. Отсутствие глины было для них очень ощутимо, так как в этом суровом климате достаточно малейшей щели для того, чтобы сделать весь дом холодным, и им необходимо было, во что бы то ни стало, чем-нибудь заполнить щели между бревнами. Им пришло в голову воспользоваться для этой цели травой, и Люсьен скоро принес целую охапку для пробы. Она оказалась вполне пригодной, и мальчики отправились собирать ее. Затыкая ею щели между бревнами, они вскоре заметили, что трава издавала чрезвычайно приятный аромат: это была так называемая ароматическая трава, растущая во многих местах территории Гудзонова залива, из которой индейцы часто делают свои постели, а также жгут, наслаждаясь ее благоуханием.
Первые два дня путешественники питались исключительно рыбой. Они, конечно, захватили с собой сеть и прежним способом расставляли ее около берега. В один улов они поймали пять разных пород рыбы. Особенно много ловилось белой рыбы, называемой натуралистами белым сигом, а между охотниками известной под названием титтамег. Эта рыба водится почти во всех озерах и реках той местности и очень ценится из-за своего нежного мяса. На некоторых станциях компании обитателям приходилось довольствоваться исключительно ею. Титтамег не достигает больших размеров и никогда не весит более восьми фунтов.
Другой рыбой, попавшейся нашим путешественникам и названной ими по ее цвету синей рыбой, был сиг породы Coregolus signifer. Она обитает в быстрых реках, где резвится и прыгает, подобно форели. Эти последние также встречаются и в Невольничьем озере и достигают иногда баснословного веса — восьмидесяти фунтов. Мальчики поймали несколько форелей, но не особенно больших. Им попадались также щуки и налим. Эта последняя рыба наиболее прожорливая из всего рыбьего царства и пожирает всех других рыб, которых только в состоянии проглотить. Она может также сожрать такое количество речных раков, что форма ее тела совершенно изменяется. Мальчики выбрасывали эту рыбу, так как знали, что мясо ее в высшей степени невкусно; зато Маренго не имел никаких предубеждений и в продолжение нескольких дней питался ею.
Но исключительно рыбный стол скоро наскучил мальчикам, и Базиль отправился на охоту. Товарищи его остались работать над хижиной, которая далеко еще не была окончена.
Базиль шел по берегу в восточном направлении и отошел не более мили, когда набрел на сухой песчаный кряж, густо поросший банксовою сосной. Деревья были не выше сорока футов и имели очень толстые стволы и гибкие ветки. Кругом не видно было никаких других деревьев, так как особенность этого дерева состоит именно в том, что оно монополизирует все пространство, где появляется. Проходя мимо, Базиль заметил, что многие из деревьев были лишены коры, куски которой валялись на земле, как будто какое-то животное содрало и сгрызло ее. Раздумывая о том, кто бы это мог быть, Базиль дошел до места, покрытого мелким песком и, к своему удивлению, заметил на нем следы как будто человеческих ног. Они походили на следы трех-четырехлетнего ребенка. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть их, и в это мгновение вдруг услыхал детский плач. Изумленный, он быстро поднялся и начал внимательно оглядываться, но не видел никого, несмотря на то, что ясно различал стволы деревьев на несколько сот ярдов кругом. Базиль начал тревожиться и наклонился, чтобы еще раз осмотреть следы, когда странный звук снова повторился. На этот раз он доносился сверху, с дерева, и был ближе. Базиль поднял голову и увидал в ветках какое-то странное и уродливое животное, которое ни разу до тех пор не попадалось ему. Оно было коричневого цвета, величиной с фокстерьера, с густой лохматой шерстью и так свернулось на ветке, что было трудно разобрать, где голова, а где хвост. Его вид и странный крик испугал бы всякого другого менее храброго охотника, да и у Базиля, по его словам, в первую минуту душа ушла в пятки, но он тотчас же признал в нем одного из безобиднейших существ — канадского ежа. Он-то и ободрал кору с дерева, так как большой ее любитель, и его-то следы, действительно, очень напоминающие следы ребенка, Базиль заметил на песке.
Первой мыслью Базиля было убить ежа, который вместо того, чтобы спасаться, оставался неподвижным и только жалобно покрикивал. Но подумав, что звук выстрела может спугнуть крупную дичь, он оставил свое намерение, со слов Люсьена зная, что всегда поспеет вернуться за ежом: это странное животное иногда целую зиму остается в одном и том же месте. Он решил, что, если не убьет никакой другой дичи, захватит ежа на обратном пути.
Базиль пошел дальше. Лес становился реже, появились кустарники. Деревья отстояли далеко друг от друга, а ивы росли кущами, так что перед глазами охотника было большое открытое пространство. Базиль шел тихо и осторожно. Он поднялся на небольшой пригорок и, стоя за стволом какого-то дерева, стал осматриваться. Пространство, простиравшееся перед ним, граничило с одной стороны с озером, с другой — с таким же лесом, как тот, через который он только что прошел. Там и сям стояли одинокие деревья, и взор на целую милю или более не встречал никаких препятствий. Кустарники виднелись лишь по берегу.
Недалеко от них Базиль вдруг увидел небольшую группу животных. Ему никогда до тех пор не приходилось видеть подобных. Большие развесистые рога, подымавшиеся на голове одного из них, доказывали, что это были какие-то олени, а громадная величина, неуклюжесть, длинные ноги, ослиные уши, огромная голова с отвислой губой, толстая шея с торчащей гривой и в особенности ширина самих рогов неоспоримо доказывали, что перед Базилем были американские олени, самые крупные и, по всей вероятности, самые неуклюжие из всей оленьей породы. Обладателем рогов был самец, остальные — самки и двое однолеток. Последние еще не вполне выросли и, подобно самкам, не имели рогов. Все были темного цвета, издалека казались даже черными, но старый олень был темнее всех.
Сердце Базиля усиленно забилось. Он много слышал об этих оленях, но никогда еще не встречал их, так как они не водятся на юге, не спускаются южнее северной границы Соединенных Штатов. На севере же они водятся до самого Ледовитого океана. Натуралисты не совсем уверены, что это то же животное, что и европейский лось. Они, конечно, чрезвычайно похожи друг на друга, но название «лось» дано в Америке совершенно другому животному — вапити. Американский олень питается преимущественно листьями и ветками деревьев, да и строение его тела таково, что не позволяет легко доставать траву, если она не очень высока или не растет по склону холма. Особенно любит он молодые побеги тополя, березы и ивы, из которых так называемая красная ива особенно ценится им. Он любит также водяные лилии, и летом его можно часто видеть стоящим в воде и жующим эти цветы. Входит он в воду и для того, чтобы освежиться и избавиться от разных насекомых и комаров, осаждающих его в жаркое время года, В этот период он делается доступнее; тогда индейцы охотятся на оленей в пирогах и копьями и стрелами убивают их. Но никогда не встречают они американских оленей большими стадами, так как те любят одиночество и только в известные времена года держатся парами или семьями, как их встретил Базиль. Зимой индейцы преследуют их на лыжах, которые дают им возможность передвигаться с большею быстротой, чем проваливающееся в снег животное. Тем не менее нередко случается, что оленю после погони, длящейся несколько дней, все же удается спастись. Иногда несколько оленей случайно сходятся вместе и так утаптывают снег, что вокруг образуется нечто вроде стен. Такие места охотники называют оленьим прудом и легко могут перебить всех оленей, которые в него забрались.
Базилю страшно хотелось застрелить хоть одного из этих животных, во-первых, потому, что это был бы первый американский олень, убитый им, во-вторых, для того, чтобы внести разнообразие в их стол. Он знал, что мясо оленя чрезвычайно вкусно, в особенности его отвислая нижняя губа. Да и шкура его была бы им весьма кстати, так как именно из кожи этих оленей делается наилучшая индейская обувь и лыжи, которые должны были в скором времени понадобиться мальчикам.
Базиль знал, что подойти к оленям очень трудно, так как в это время года они наиболее пугливы. Летом они так страдают от мошек, что не очень обращают внимание на окружающее, и охотнику легче приблизиться к ним. У них чрезвычайно развит слух, зрение и обоняние, и, кроме того, они очень хитры. Передвигаясь зимой по снегу и желая отдохнуть, они обыкновенно делают крюк и возвращаются для отдыха на прежние свои следы. Таким образом, они заранее знают о приближении охотника, идущего по их следам, и имеют возможность скрыться.
Все это было известно Базилю из рассказов старых охотников, и потому он принял величайшие меры предосторожности. Первым делом он вынул из своего мешка маленькое перышко и, воткнув его в дуло ружья, приподнял ружье кверху. Вскоре перышко понеслось по воздуху, и Базиль точно узнал направление ветра, что в этом случае крайне необходимо. К великой его радости, ветер дул вниз по озеру и почти прямо на него; но особенно было удачно то обстоятельство, что ивы, росшие по берегу, были расположены с подветренной стороны относительно оленей, и он знал, что они очень помогут ему приблизиться к животным. Поэтому, не теряя времени, он направился к ивам и под их прикрытием начал осуществлять свой план.
Целых полчаса употребил он на то, чтобы, то ползком, то крадучись, то на коленях, приблизиться к оленям на расстояние выстрела. Но Базиль, как истый охотник, знал, что труд и терпение в охоте, как и во многих других случаях, всегда вознаграждаются, и потому не торопился. Наконец ярдах в пятидесяти от себя он увидел грудь оленя и его высокие рога, возвышавшиеся над ивами, в листья которых тот запустил свою морду. Базиль видел и остальных трех животных, но все его мысли были сосредоточены на одном самце. В эту минуту он не думал о качестве мяса, иначе он выбрал бы одну из самок или теленка. Но он хотел убить их вожака.
Впрочем, остальные олени были от него дальше, чем самец, который и сам не представлял легкой цели. Он стоял прямо перед Базилем, и тот боялся, что пуля не в состоянии будет пробить его лобную кость, как это было с буйволом. Ему оставалось целить только в бок, и, улучив наиболее удобный момент, Базиль спустил курок. Он услыхал громкий топот испуганных самок и телят, убегавших по равнине. Самого же самца с ними не было, он остался там, где стоял, и, без сомнения, был убит.
Глава 27
СТОЛКНОВЕНИЕ С АМЕРИКАНСКИМ ОЛЕНЕМ
Базиль, уверенный в успехе, бросился вперед, не зарядив своего ружья, что для него было совершенно несвойственно; в несколько прыжков очутился он на открытом месте и увидал оленя, который, к его удивлению, был только ранен и стоял, подогнув передние ноги. Подойдя ближе, Базиль увидел след пули на шее животного, которое, как только заметило своего врага, сейчас же поднялось и с горящими, как у тигра, глазами и выставленными вперед рогами бросилось на охотника. Тот отскочил в сторону, но олень снова повернулся к нему и поднялся на дыбы, колотя перед собой острыми копытами. Базиль пробовал защищаться ружьем, но оно было моментально выбито из его рук. Охотник внимательно и быстро осмотрелся кругом и увидел дерево, к которому бросился, почти настигаемый разъяренным животным. Он едва успел забежать за дерево, как олень уже был по другую сторону его и рогами содрал кусок коры. Еще более выведенный из себя недоступностью противника, он обратил всю свою ярость на дерево и стал изо всей силы ударять в него рогами и передними копытами, дико храпя. Скоро вся кора футов на шесть от земли была содрана. Базиль тем временем оставался на противоположной стороне дерева, меняя свое положение сообразно с движениями оленя. К несчастью, дерево оказалось тополем, и Базиль не мог влезть на него, так как ветки начинались слишком высоко над землей, а само дерево было слишком толстым для того, чтобы влезть на него, держась за ствол.
Так продолжалось с час. Олень временами отдыхал, потом снова нападал с прежнею яростью. Рана его, к сожалению, не была смертельна, но чрезвычайно мучительна и только усиливала его злобу и жажду мщения. Базиль начинал не на шутку беспокоиться. Он устал и проголодался. Кто и когда освободит его? Когда, наконец, оставит его в покое разъяренное животное? На эти вопросы он не находил ответа. Он слыхал, что олени по несколько дней караулят охотников, спрятавшихся от них за дерево. Базиль был не в состоянии долго выдержать подобное напряжение и чувствовал, что скоро лишится сил, и олень тогда просто растопчет его. А раньше вечера товарищи не хватятся его, да и найдут ли они его? Тем более, что на твердой, как камень, земле следы его были совершенно не видны. Маренго, на этот раз оставленный в лагере, мог один найти его. Но Базиль уже переставал надеяться на счастливый исход. Маренго и тот мог легко сбиться, так как Базиль бесконечно блуждал вокруг холма в поисках добычи. Да и олени или другие звери могли с тех пор пройти по его следам и этим ввести собаку в еще большее заблуждение. Холод пугал мальчика, но до отчаяния все же было еще далеко. Перед ним лишь сильнее встало сознание необходимости предпринять что-нибудь. Он снова огляделся. Ружье лежало всего в каких-нибудь ста ярдах. Будь он только в состоянии схватить его и благополучно вернуться за дерево — он мог бы зарядить его и положить конец этой ужасной сцене. Но достать ружье было немыслимо: олень тотчас же бросился бы на охотника и, конечно, убил бы его.
С противоположной стороны от ружья Базиль увидел несколько деревьев, ближайшее из которых стояло от него не далее чем в двенадцати футах. Остальные росли на таком же расстоянии друг от друга. Базиль решил попробовать, перебираясь постепенно от дерева к дереву, добраться до леса, в котором, он думал, ему легче будет укрыться, а потом даже достичь лагеря. Он дождался момента, когда олень оказался между ним и деревом, к которому собирался бежать. На первый взгляд такой поступок трудно объясним, но Базиль рассчитал, что ему выгодно будет броситься бежать мимо неуклюжего животного, которому потребуется некоторое время, чтобы повернуться и броситься за ним. Этими минутами Базиль хотел воспользоваться, чтобы установить между собою и оленем некоторое расстояние.
Благоприятный момент вскоре настал, и Базиль со всех ног пустился мимо животного и обернулся только тогда, когда был за деревом. Олень подбежал к тому же дереву секундой позже, неистово пыхтя и храпя. Еще более разъяренный хитростью охотника, он напал на дерево, за которым, как и прежде, скрывался Базиль.
Таким же образом достиг Базиль и последующих деревьев, все время безуспешно преследуемый оленем. Он уже надеялся на благополучное окончание своего предприятия, как вдруг, к глубокому своему огорчению, увидел, что между ним и густым лесом лежало слишком большое открытое пространство, с очень редкими и тонкими деревьями, за которыми ему невозможно было бы укрыться. Это пространство имело добрых двести ярдов в ширину и тянулось вдоль всей опушки леса. Базиль не решался пуститься через него, зная, что не успеет добежать до середины, как олень настигнет его.
Стоя за последним деревом, он увидел, что ветки его начинались немного выше его головы, так что нетрудно было взобраться на дерево, что он и решил сделать. Там хоть на время будет он в безопасности и немного отдохнет. Он поднял руки, схватился за нижнюю ветку и, переходя от ветки к ветке, достиг удобного разветвления, где и устроился.
Олень бегал вокруг дерева, ударяя в него рогами и передними копытами. Когда он становился на дыбы, морда его была так близко от Базиля, что почти касалась его, и мальчик даже вытащил свой нож в надежде вонзить его в оленя. Вид ножа направил его мысли на другой путь. Он влез еще выше и, выбрав одну из самых длинных и прямых веток, срезал ее у ствола, очистил от листьев и веточек, так что она стала похожа на древко копья. К одному из ее концов ремнем, вырезанным из своей охотничьей сумки, он прикрепил рукоятку ножа и таким образом добыл себе грозное оружие. Скоро ему представилась возможность пустить его в дело. Он снова спустился на нижнюю ветку и постарался подманить оленя. Тот не заставил себя ждать и вскоре приблизился. Базиль со всей силой вонзил в него свой нож. Огромное животное зашаталось и с глухим стоном упало на землю. Через несколько мгновений молодой охотник с радостью убедился, что олень был мертв.
Он соскочил с дерева, возвратился к тому месту, где осталось его ружье, и старательно зарядил его. Затем, вернувшись к убитому оленю, он вставил ему в рот палку, отвязал нож от ветки, отрезал им губы и язык животного. Он положил их в сумку и готов уже был пуститься в обратный путь, когда новая мысль остановила его. Он опять вынул нож, подошел к туше и сделал надрез приблизительно около почек. Вынув пузырь, он осмотрелся кругом и вскоре нашел то, что искал: срезав стебель подходящей травы, он смастерил из него нечто вроде трубки и с ее помощью надул пузырь. Затем привязал его к ветке дерева над самой тушей, так что самое легкое дуновение ветра качало его. Все эти предосторожности были им приняты для того, чтобы оградить убитого оленя от волков, а потом при первой же возможности вернуться назад, чтобы взять с собой и остальное мясо.
Быстро вернулся он в лагерь, где олений язык был тотчас зажарен и уничтожен. Затем вся компания отправилась за оставшимся оленем. Он, благодаря колыхавшемуся над ним пузырю, был найден нетронутым, несмотря на то, что не менее дюжины громадных волков уже бродило поблизости. Как ни странно, эти хищники, отличавшиеся такой хитростью, что их почти невозможно бывает заманить в капкан, все же могут быть обмануты и напуганы видом надутого пузыря, подрагивающего на ветке.
Олень оказался одним из громаднейших представителей своей породы. Ростом он был с лошадь, и лопатообразные рога его весили более шестидесяти фунтов. Туша его весила не менее полутора тысяч фунтов, и путешественникам нашим удалось лишь в два приема перетащить ее в лагерь. Когда мальчики второй раз возвращались в лагерь, Франсуа захватил и ежа, которого нашел все на том же дереве, где оставил его Базиль.
Глава 28
ЖИЗНЬ В БРЕВЕНЧАТОЙ ХИЖИНЕ
К первому сентября хижина была вполне закончена. Это оказалось как нельзя более кстати, так как именно в этот день установилась настоящая зима. Ночью выпал глубокий снег, на целый фут покрывший землю, и лед на озере. Передвигаться по нему было очень затруднительно, и мальчикам предстояло позаботиться о лыжах.
Лыжи, изобретение индейцев, в северных широтах Америки совершенно необходимы. В продолжение шести, а иногда даже восьми или девяти месяцев земля бывает покрыта глубоким снегом, иногда, правда, таким твердым, что он в состоянии выдержать человека. Большей же частью, под влиянием таяния или только что выпавшего нового снега, он становится рыхлым, и идти по нему становится трудно и опасно.
Индейцы пользуются лыжами. Они в еще большей степени, чем прочие дикари, зависят от природы, и не имей они возможности ходить на охоту хотя бы в продолжение одного сезона, им всем пришлось бы погибнуть с голоду. Да и так многие из них умирают от голода, и вся жизнь их представляет постоянную борьбу за самое необходимое для существования. Летом у них всего в изобилии; они сотнями убивают буйволов и оленей, вырезая у них одни языки и оставляя все животное на съедение волкам. Зимой зато можно видеть целые их поселки без малейшего кусочка мяса, надеющиеся единственно на удачную охоту для продолжения существования.
Но вернемся к вопросу о лыжах, посмотрим, что это такое, и поучимся, как их делать. Каждый мальчик, ловивший зимой в западню воробьев, делал это посредством обруча, переплетенного нитками или тоненькими веревочками. Представьте себе этот же обруч, но продолговатой формы с частым переплетом из перевитых оленьих ремешков — и вы получите представление о настоящих индейских лыжах. Они обыкновенно имеют три-четыре фута в длину и около фута в ширину в самой широкой своей части, постепенно сужаясь к обоим концам. Рама делается из легкого, крепкого дерева и тщательно гнется и полируется ножом. Особенно пригодны для лыж ветви серой банксовой сосны, которая очень ценится при выделке шестов для вигвамов, ребер пирог и других необходимых индейцам принадлежностей. Индейцы употребляют так много этого дерева на приготовление стрел, что оно даже получило от канадских путешественников название стрелочного дерева.
Когда рама выгнута подобающим образом, в середине ее в нескольких дюймах друг от друга ставятся две поперечные распорки, назначение которых — служить опорой для ног и придать крепость всему сооружению; затем делается переплет, покрывающий все пространство между рамой, за исключением маленького местечка спереди для свободного движения носка ноги во время ходьбы. Переплет обыкновенно делается из ремней невыделанной оленьей кожи или же из свитых вместе кишок и очень напоминает переплет ракетки, употребляемой при игре в теннис.
Готовая лыжа прикрепляется к ноге ремнями. Пара их покрывает пространство в шесть и более футов, что совершенно достаточно, чтобы держать на рыхлом снегу самого тяжелого человека. Индейцы носятся на лыжах подобно конькобежцам.
Форма лыж не у всех индейских племен одинакова. Так, например, индейцы племени чипиева делают раму прямой с одной стороны, так что лыжа надевается всегда только на определенную, левую или правую, ногу. Чаще, впрочем, они годятся без различия для обеих ног.
Сознавая необходимость лыж, мальчики принялись за дело, намереваясь смастерить их не менее четырех пар. Главным и очень опытным руководителем был Норман. Он не хуже любой индианки умел выгибать раму и плести переплет. Другие, разумеется, помогали ему. Люсьен разрезал кожу американского оленя на тонкие ровные ремни; Базиль с трудом пробрался в лесок, в котором он нашел ежа, принес оттуда веток серой сосны для рам и вместе с Франсуа очистил их от хвои и веточек и распарил на горячих углях, прежде чем передать Норману.
Работа эта заняла несколько дней, но в конце концов каждый мальчик имел подходящую к его росту и весу пару лыж.
Следующей их заботой было заготовить себе запас мяса. Оленя им было достаточно на ближайшее время, но не могло хватить надолго, так как у них не было ни хлеба, ни чего-либо другого, чтобы есть одновременно с ним. Между тем люди в их положении нуждаются в гораздо большем количестве пищи, чем те, которые живут в больших городах и едят разнообразную пищу. Даже компании, занимающиеся пушным делом, выдают каждому своему охотнику такое количество пищи, которого при обыкновенных условиях хватило бы на целую семью. Так, например, в некоторых местностях территории Гудзонова залива каждый член промысловой партии получает в день по восемь фунтов буйволового мяса. Поэтому нельзя было рассчитывать, что оленя хватит на продолжительный срок, и нашим путешественникам предстояло позаботиться о заготовке на зиму достаточного количества сушеного мяса. Им надо было также подумать и об одежде, так как той, которой они были снабжены, было недостаточно для суровой зимовки на берегу Невольничьего озера. Следовательно, надо было убить много оленей и выделать шкуры для того, чтобы все имели новую одежду и меховые одеяла.
Как только лыжи были готовы, Базиль и Норман стали ежедневно отправляться на охоту, возвращаясь в лагерь лишь с наступлением вечера. Иногда приносили они с собой шкуру и лучшие части мяса канадского оленя. Этот олень больше своего родича — оленя Бесплодной Земли — и весит почти полтораста фунтов, но мясо его и шкура значительно худшего качества. Иногда убивали они более мелкую дичь, а несколько раз возвращались, не сделав ни единого выстрела. Однажды им особенно повезло, они перебили целое стадо американских оленей, состоявшее из пяти голов: старого оленя, молодого, рога которого не имели еще разветвлений, самки и двух телят. Они долгое время преследовали их, пока наконец не попали в долину с очень глубоким снегом, в котором олени и завязли. Накануне шел сильный дождь, подмерзшая за ночь вода образовала корку, которая до крови разрезала ноги оленей при каждом их шаге, так что их легко было выслеживать. Базиль и Норман, несясь по снегу на лыжах, скоро настигли их и уложили всех до единого. Они разрезали их на части и повесили шкуры и куски мяса на высокие ветки деревьев, чтобы сохранить их от волков и росомах. По окончании этой работы вся местность имела вид огромной бойни. На следующий день мальчики построили грубые санки и, придя на указанное место, перевезли на них мясо в лагерь. Около хижины разложили громадные костры и в продолжение нескольких дней разрезали и вялили добытое мясо. Будь наши путешественники уверены, что мороз продержится всю зиму, им не было бы нужды принимать такие предосторожности, так как мясо уже теперь было твердо, как камень. Но они знали, что внезапная оттепель испортит его, и не хотели рисковать.
Теперь у них был достаточный запас мяса, и охота продолжалась с меньшим рвением, единственно как средство раздобыть свежее мясо, которое, конечно, вкуснее сушеного. Охота также доставляла им развлечение и моцион, и то и другое необходимо было для их здоровья. Самым пагубным в их положении была бы праздность и лень, непременно ведущие за собой скуку и болезни. Впрочем, они не всецело избегали скуки. Иные дни бывали настолько холодны, что не было возможности выйти на воздух. Такие дни проводили они в хижине, сидя вокруг огня за чисткой ружей, починкой сетей и одежды и другими подобными занятиями. Люсьен делился с товарищами своими познаниями, Норман рассказывал о своих путешествиях по арктическим странам, присоединяя к ним много охотничьих рассказов. Франсуа вставлял шутки, Базиль был отличнейшим слушателем, что немало способствовало удовольствию от разговора, и наш квартет даже эти дни не находил скучными.
Но все хорошо в меру. С месяц или два они отлично переносили подобную жизнь, но мысль, что она продлится еще около шести месяцев, скоро начала угнетать их, и они жаждали перемен. Случаи на охоте, которые в другое время заинтересовали бы их, перестали казаться занятными; жизнь их была слишком монотонной. Почти все они имели деятельные характеры и были достаточно взрослыми, чтобы понимать цену времени. Такая отчужденность от цивилизованной жизни и невозможность заняться чем-либо полезным и интересным казалась им невыносимой, и они стремились изменить свое положение.
Однажды, рассуждая об интересовавшем их всех вопросе, Базиль высказал очень смелую мысль. Он предлагал бросить лагерь и продолжать путешествие. Остальные очень удивились его плану, но были в подходящем состоянии, чтобы обсуждать его… Франсуа сразу стал на сторону Базиля; Люсьен, более осторожный, не то чтобы противоречил ему, но подчеркивал трудности и опасности, с которыми сопряжено путешествие. Все обратились к Норману, сознавая, что он лучше других мог разрешить этот вопрос.
Норман признавал все опасности, указанные Люсьеном, но думал, что их можно побороть с помощью осмотрительности и осторожности. В общем, он одобрял план Базиля, который и был принят. Быть может, на этот раз обычная осторожность Нормана была несколько умерена естественным желанием поскорее добраться до дому. Он отсутствовал около двух лет и стремился скорее увидать отца и старых товарищей в форте. Кроме того, всеми руководило и честолюбие: они знали, что совершить подобное путешествие считалось очень трудным, и тем сильнее хотели проделать его. Опасность сама по себе имеет свою притягательную силу для таких, как Базиль. Решено было покинуть лагерь и продолжать путешествие.
Глава 29
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛЫЖАХ
Мальчики не теряли времени. Они уже имели почти все необходимое для дальнейшего пути: удобную одежду, лыжи, кожаные одеяла и меховые рукавицы. Из красного кедра сделали они себе снежные очки. Они состояли из двух маленьких тонких частей, соединенных ремешком, и каждая имела продолговатую щель, через которую можно было смотреть, не будучи ослепленным солнцем. Без этих очков или чего-либо подобного путешествовать в полярных странах очень мучительно, и путники иногда даже теряют зрение. Самая распространенная болезнь между индейцами и эскимосами этих стран — это потеря зрения или болезнь глаз, причиной которой является отражение солнечных лучей в кристаллах замерзшего снега. Во избежание этого Норман и смастерил очки. Из оставшихся шкур они приготовили маленькую палатку и положили ее на свои санки, которые должен был тащить Маренго. Им оставалось лишь связать свою провизию, так чтобы она имела возможно меньший объем, и этого они достигли, согласно обычаю страны приготовив пеммикан. Они истолкли сухое мясо в порошок, всыпали его в нарочно приготовленные для этого кожаные мешочки и залили горячим растопленным жиром. Смесь скоро замерзла и была готова к употреблению. Она могла храниться бесконечно долго, нисколько не боясь порчи. Мясо буйволов, оленей и всякого рода дичь легче всего переносить в таком виде, к тому же пеммикан имеет еще то преимущество, что не нуждается в дальнейшем приготовлении, что тоже очень ценно в этих местах, где часто на большом пространстве не встречается ни одного деревца.
Норман превзошел себя, приготовив пеммикан, и сделал его еще вкуснее, прибавив в него немного ягоды, о которой мы уже говорили, очень распространенной на берегах Красной и Оленьей рек, а именно ирги. Эти ягоды весьма различаются в разных частях Америки и носят разные названия. Даже ботаники по-разному называют их. Но не в имени дело. Важно то, что они чрезвычайно вкусны свежими, а в сушеном виде придают весьма приятный вкус пудингам и пеммикану.
Мальчики набрали их еще на берегах Оленьей реки до начала зимы и высушили, думая, что они могут им пригодиться. Они заготовили целых пять мешков пеммикана, каждый весом более тридцати футов, и положили один из них на санки вместе с палаткой, топором и некоторыми другими вещами. Остальные несли сами мальчики, что вместе с ружьями и одеждой составляло довольно большую тяжесть.
Закончив все приготовления, путешественники простились со своей бревенчатой хижиной, в последний раз посмотрели на свою маленькую пирогу, стоявшую у входа, и, взвалив на плечи ружья и мешки с пеммиканом, пустились по замерзшей поверхности снега.
Они предварительно обсудили направление, которого решили держаться, лишь после долгих препирательств придя к соглашению. Люсьен советовал идти по берегу до реки Маккензи, которая, конечно, была замерзшей. Русло ее служило бы им указателем, а в случае недостатка провизии он предполагал, что дичь вернее может попасться по этой реке, так как ее берега до самого моря покрыты лесом.
Совет Люсьена был хорошо обоснован, тем не менее Норман предложил держаться противоположного направления. Им пришлось бы слишком удалиться на запад, чтобы добраться до выхода реки Маккензи из озера, да и сама она была чрезвычайно извилиста, в иных местах делая почти полный круг. Следуя по ее течению, они, по мнению Нормана, почти удвоили бы свой путь. Гораздо ближе, — говорил он, — идти прямо на северо-запад и таким образом достичь реки Маккензи при впадении в нее другой большой реки, Горной.
Его мнение одержало верх, несмотря на протесты Люсьена. Норман сам не знал ничего наверняка относительно предлагаемого им пути, так как до того путешествовал по реке Маккензи летом и, конечно, в пироге с промышленниками или путешественниками. Он знал только, что этот путь несравненно короче другого. И хотя Люсьен и напоминал им пословицу «тише едешь — дальше будешь», другие не слушались его. Но еще до окончания путешествия мальчики убедились в ее справедливости, и урок, полученный ими, надолго сохранился в их памяти. Теперь же, не предчувствуя того, что их ожидает, они весело пустились в путь.
Первые три-четыре дня прошли без всяких приключений. Ежедневно проходили они около двадцати миль. Южане скоро освоились с лыжами и скользили по снегу со скоростью трех или четырех миль в час; Маренго и санки не задерживали их: хотя на санках было не менее шестидесяти фунтов, они не представляли большой тяжести для огромного пса, который без особых усилий тащил их за собой. На нем была аккуратно пригнанная сбруя, состоявшая из ошейника со спинным ремнем и постромками, сходящимися сзади у передка саней. В узде не было нужды, так как Маренго сам следовал за мальчиками. Сани состояли из трех гладких и легких досок, соединенных поперечными дощечками. Передок их был слегка загнут кверху, чтобы не закапывался в снег, и к нему-то и прикреплены были постромки. Вещи были так плотно уложены и привязаны к саням, что даже когда сани опрокидывались, они не разваливались и могли быть скоро приведены в порядок. Маренго шел по следам мальчиков, обходя деревья, кочки, камни и другие неровности. Когда путь его пересекал заяц или кролик, он не бросался за ним, понимая, что на него возложены более серьезные обязанности. Каждый вечер мальчики останавливались на берегу какого-нибудь озера или реки, где можно было разложить костер. Воду доставали они из маленькой проруби. Палатку разбивали в защищенном месте.
На пятый день их странствий лес стал редеть, а к вечеру они очутились в местности, где деревья попадались лишь отдельными небольшими группами и были мелкими и хилыми. На следующий день им попадалось еще меньше деревьев, и, когда настало время ночлега, они должны были довольствоваться одними ветками ивы для своего костра. Они были на границе громадной пустыни, Бесплодной земли, занимающей всю северную половину Американского материка от Невольничьего озера до Ледовитого океана на севере и Гудзонова залива на востоке. Название ее как нельзя более подходящее, потому что на всем земном шаре вряд ли найдется более бесплодное и пустынное место, не исключая африканской Сахары. Обе эти пустыни одинаково велики и опасны для путешественников, и как там, так и здесь, люди часто погибают, хотя и от разных причин. В Сахаре они гибнут от жажды, здесь — от голода. Воды здесь более чем достаточно, а где ее нет — снег вполне заменяет ее. Вся страна состоит из холмов и скал гранита, гнейса и других первичных пород, покрытых тощим мхом, лишаями, редкими ивами по берегам рек и низкорослыми березами, серыми соснами в несколько дюймов высотой, часто даже стелящимися по земле. Между скалами пролегают долины, в глубине которых непременно лежит озеро или протекает река, зимой трудно различимая под своим снежным покровом. Нигде не видно ни малейшего признака жизни. В воздухе ни звука; весь мир кажется вымершим и покрытым холодным саваном.
Среди такой природы и очутились наши путешественники на седьмой день своего странствования. Они не раз слыхали о Бесплодной земле, об опасностях и лишениях, которым подвергаются путешественники, попавшие туда, но действительность оказалась еще ужаснее. По мере удаления от лесных областей их опасения, вызванные видом безотрадной пустыни, все увеличивались. Они были серьезно озабочены, так как не имели понятия о величине этого бесплодного пространства, лежащего на их пути. Рассчитав свою провизию, они нашли, что запасов хватит им на месяц. Это отчасти успокоило их. Но мысль, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство или трудности путешествия могут задержать их, не переставала тревожить их. С каждым днем местность становилась более дикой и гористой. Им приходилось делать большие крюки, чтобы обойти попавшиеся на пути пропасти и горы. И теперь они делали в день не более пяти миль.
Несмотря на все эти трудности, они, по всей вероятности, благополучно перебрались бы через пустыню, если бы не неожиданный несчастный случай, который не только разбил все их расчеты и предположения, но подверг их самих серьезнейшей опасности.
Глава 30
БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Бесплодная Земля не вполне лишена жизни. Даже зимой, когда трудно представить себе, что какое-либо живое существо в состоянии найти там пропитание, тут есть свои обитатели. Природа отлично приспосабливает животных к окружающей среде, и те из них, которые обитают в пустыне, наверное, погибли бы в более благоприятных условиях. Мы видим нечто подобное и среди людей: переселите эскимоса из его снежных ледяных пространств в теплую, цветущую Италию — вряд ли будет он доволен переменой!
Вместе с некоторыми другими зверями волки остаются на зиму на Бесплодной земле. Чем они существуют, питаются — составляет загадку даже для натуралистов. Правда, иногда попадаются им какие-то животные, но встречаются волки и в тех местах, где нет ни малейшего следа какого-либо другого живого существа.
Волки — самые распространенные животные на земном шаре и водятся почти повсеместно. В Америке они встречаются во всех трех поясах, начиная с мыса Горн до самых северных пунктов, исследованных человеком. Они составляют обычное явление в тропических лесах Мексики и Южной Америки. Живут они и в лесах, и в долинах, и всюду чувствуют себя как дома. В Северной Америке известны две разновидности волков: степной, или лающий волк, о котором мы уже говорили, и обыкновенный, или большой волк. Этот последний, в свою очередь, подразделяется на многие разновидности, отличающиеся величиной, мастью и отчасти сложением. Нрав у всех общий, так что даже возникает вопрос, не являются ли эти отличия у волков случайными, а не постоянными. Некоторые отличия бесспорно случайные, так как в одной и той же семье иногда водятся волчата разной масти; но исследователи последнего времени нашли в Скалистых горах и около них одну или две разновидности, совершенно отличающиеся от обыкновенного американского волка; из них темный волк гораздо крупнее обыкновенного.
Последний, говорят, похож на европейского волка больше других американских волков, которые вообще очень отличаются от своих европейских собратьев. Волки северных широт Америки имеют более короткие уши, морда и лоб их шире, и вообще они крепче и сильнее европейских. Их мех тоньше, гуще и длиннее, хвосты пушистые, лапы более широкие. Европейский волк, наоборот, отличается худобой, имеет острую морду, длинные челюсти, высокие уши, длинные ноги и очень узкие лапы. Быть может, впрочем, различия в их сложении появились вследствие различия условий, в которых они живут. Так, более густая шерсть американских волков зависит от более сурового климата территории Гудзонова залива, где они обитают, а широкие лапы позволяют им лучше держаться на снегу. Волки, встречаемые в южной части американского материка, более походят на пиренейских волков, и автору самому случалось видеть в лесах мексиканских волков, имевших тот же худощавый и трусливый вид. Было бы крайне интересно сравнить волков северных частей Америки с волками Сибири и Лапландии и посмотреть, не обладают ли они одинаковыми особенностями; этот пункт еще не выяснен натуралистами, и, быть может, читатель сам как-нибудь займется этим.
Что касается масти, то волки обоих материков очень различаются в этом плане. В одной Северной Америке их насчитывают более полудюжины, как, например: серый волк, обыкновенный, белый, коричневый, темный, пестрый и черный. Есть также желтые, красные и кремовые. Смотря по местности, преобладает та или другая разновидность; черные волки водятся во многих местах в изобилии; белые встречаются большими стаями. Волки одной и той же масти бывают разной величины и, что особенно странно, смотря по величине, водятся в той или другой местности. Самые большие из них имеют около шести футов в длину, включая хвост, и около трех футов в холке, вместе с торчащим мехом. Хвост обыкновенно составляет около трети всей длины.
Характером и повадками американский волк очень похож на европейского. Он тоже хищник, пожирающий всех маленьких зверьков, которые только попадутся ему. Он нападает на оленей и лисиц, поедает даже индейских собак, несмотря на то, что это его близкие родичи, и их часто принимают за волков. Но и этого недостаточно: в крайности они пожирают даже друг друга. Они обладают лисьей хитростью и, подобно лисице, трусливы и хитры; но, понуждаемые голодом, становятся храбрыми, и были случаи, что они нападали даже на людей.
Американские волки живут в норах с несколькими выходами. Обыкновенно они имеют от пяти до восьми волчат.
За время путешествия по Бесплодной земле мальчики много раз наблюдали их. Это были преимущественно серые волки, очень крупные. Иногда их было сразу штук пять или шесть, и они, по-видимому, провожали мальчиков, так как каждый вечер, когда их вой раздавался невдалеке от лагеря, путешественники узнавали в них тех волков, которых видели днем. Наши герои не старались убить их, отчасти потому, что не нуждались в их мясе и шкурах, отчасти оттого, что их боевые запасы сильно уменьшились, и им нельзя было бесцельно тратить их. Волки поэтому подходили очень близко к лагерю и выли всю ночь напролет. Очевидно, они надеялись на будущее, так как в настоящем не было ничего, что бы могло их привлекать: с самого начала странствия мальчики не убили ни одного животного и не оставляли позади себя ни кусочка пищи.
Однажды вечером путешественники расположились лагерем у склона хребта, через который они только что перевалили. У них не из чего было разложить костер, и они просто выгребли снег с того места, над которым поставили палатку и разложили на земле шкуры. Так как палатка была очень маленькая, то сани с припасами всегда оставались снаружи, у входа, под охраной Маренго, что считалось достаточной гарантией от волков и других хищников, бродивших вокруг.
В описываемый вечер санки стояли на обычном месте, собака была отпряжена, и один или два мешка пеммикана лежали открытыми, так как мальчики еще не ужинали. Шагах в двухстах от них протекала маленькая речонка, к которой Базиль и Франсуа отправились за водой. Один захватил с собой топор, чтобы прорубить лед, другой нес ведро. Подойдя к берегу, они насторожились. На свежевыпавшем снегу видны были двойные линии маленьких точек, шедших в разных направлениях и имевших вид следов какого-то животного. Сначала они усомнились в этом, так как им никогда не приходилось видеть таких мелких следов: следы обыкновенной мыши раза в два больше их. Но, всмотревшись хорошенько, они различили отпечаток пяти маленьких пальцев с когтями на концах; не оставалось никакого сомнения, что какое-то крохотное живое создание недавно побывало в этом месте. Мальчики остановились и огляделись кругом: на всем снежном пространстве не было ни пятнышка, которое выдало бы присутствие зверька.
— Быть может, это была птица, — сказал Франсуа.
— Не думаю, — возразил Базиль, — следы не похожи на следы птицы. Вернее, это животное, ушедшее под снег.
— Но я не вижу ни малейшего углубления в снегу. Давай поищем его.
Они пошли по следам и вскоре наткнулись на стебель высокой травы, возвышавшейся над снегом. Вокруг него частью от ветра, частью вследствие таяния снега, образовалась маленькая ямка. Было очевидно, что зверек спускался вниз под снег около этого стебля. Мальчики заметили и другие следы, удалявшиеся от травы, что доказывало, что животное должно было таким же путем подниматься наверх. Очень заинтересованные своим открытием, они позвали Люсьена и Нормана, которые не замедлили явиться в сопровождении Маренго. Люсьен сразу объявил, что следы принадлежат крохотной землеройке, самому маленькому четвероногому, встречающемуся в Америке. Их, очевидно, было несколько штук, так как видны были другие точки на снегу, и верхушки многочисленных стеблей травы возвышались над поверхностью, каждый с ямкой у основания, через которую землеройки могли спускаться и подниматься.
Норман, и раньше видавший этих животных, посоветовал в полной тишине подождать некоторое время, надеясь, что какой-нибудь зверек выйдет на поверхность. Мальчики сбились в кучу и безмолвно и неподвижно наблюдали за стеблями. Скоро показалась головка не больше горошины, за ней последовало тельце, не превышавшее своим размером крупный крыжовник. Оно кончалось хвостиком длиною в дюйм, суживающимся к концу, как у мышей. Крохотное создание было покрыто густым гладким мехом, сверху коричневым, с боков и на брюшке более желтым. Сидя на ровной поверхности снега, землеройка представляла довольно своеобразное зрелище.
Мальчики шепотом совещались о том, как поймать ее, как вдруг Маренго, которого до тех пор сдерживал Базиль, неистово залаял и, вырвавшись от хозяина, бросился к лагерю. Все удивленно посмотрели ему вслед и, к своему ужасу, сразу поняли его странное поведение. Вокруг палатки и подле входа в нее виднелись волки. Они торопливо прыгали и тормошили что-то на земле. Это были мешки с пеммиканом, частью уже съеденным ими, частью рассыпанным по снегу.
Мальчики с неистовым криком бросились к палатке. Маренго уже был среди волков и вцепился в одного из них. Не подоспей мальчики вовремя, он, конечно, погиб бы. Но те были уже близко, и испуганные волки обратились в бегство. К ужасу мальчиков, каждый уносил в пасти по мешку пеммикана, что нисколько не замедляло их бег.
— Мы погибли! — воскликнул в отчаянии Норман. — Все наши запасы потеряны!
Он был прав. В следующее мгновение волки исчезли по ту сторону хребта и, несмотря на то, что мальчики схватили ружья и бросились за ними, они не настигли ни одного из них.
У них не оставалось ни крошки пеммикана, только то, что было разбросано по снегу пировавшими волками. Пришлось лечь спать без ужина, и голод, соединенный с неотступной мыслью о грозящей голодной смерти, совершенно лишил их сна.
Глава 31
КАМЕННЫЙ ЛИШАЙНИК
Они поднялись на рассвете. Тревога и голод одолевали их; у них не было ни кусочка съестного. Кругом — ни одного живого существа, ничего, кроме безбрежной снежной поверхности с торчащими кое-где голыми скалами. Даже волки, и те отстали, точно зная, что им нечем больше поживиться.
Положение путешественников было поистине ужасно: им предстояло, быть может, еще много дней идти по этой пустыне, не находя себе ни малейшего пропитания. Они сознавали, что не в состоянии выдержать и нескольких дней, так как уже теперь чувствовали мучительные приступы голода — уже сутки провели они без еды, волки накануне прервали их приготовления к обеду. Оставаться на месте было бесполезно. Они сложили палатку и немедля пустились в путь. Уменьшившаяся тяжесть их ноши мало утешала их. Они несли теперь только заряженные ружья, так что их шествие напоминало охотничью экскурсию. Они даже шли не прямо перед собой, а, завидев группу ив или какую-либо неровность почвы, делали крюк и осматривали ее в надежде найти хоть какую-нибудь дичь. Но за весь день им не удалось увидеть ни одного живого существа и пришлось и вторую ночь встретить голодными.
Человек может провести много дней без еды, не умирая с голоду, но никогда страдания не достигают той силы, как на третий или четвертый день. Потом голодающий делается все слабее, но уже не страдает так сильно. На третий день страдания мальчиков достигли высшей степени. Они начали жевать куски кожаной палатки и одеял. И хотя на время это как бы успокоило их голод, но сил им не прибавило.
И вот взоры всех все чаще обращались к Маренго. Верный пес не отличался особенной упитанностью: сани и скромные порции очень уменьшили его вес, так что легко можно было пересчитать ребра. Но, несмотря на то, что мальчики согласились бы многое вытерпеть прежде, чем принести его в жертву, голод становился все нестерпимее, и даже Маренго, собака старая и, вероятно, жесткая, начинал казаться им желанной пищей.
Было около полудня. Они поднялись так же рано, как и в предыдущий день. Усталые и ослабевшие, они медленно двигались вперед. Маренго еле тащил сани, так как ослабел не менее мальчиков. Базиль видел голодные взгляды, бросаемые его товарищами на Маренго, и, хотя никто и словом не обмолвился о том, что было у каждого на уме, он отлично понимал их. Он видел угнетенный вид обыкновенно веселого Франсуа, серьезность и сосредоточенность Нормана, бледные щеки и ввалившиеся глаза его любимца Люсьена, и долг его по отношению к товарищам поборол его привязанность к верному псу.
— Мы должны убить его, — сказал он, внезапно останавливаясь и указывая на Маренго.
Остальные тоже остановились.
— Это, пожалуй, единственное, что нам осталось! — сказал Норман, внимательно окидывая взором окрестности.
Франсуа тоже согласился.
— Лучше повременить, — сказал Люсьен. — Что касается меня, я свободно пройду еще миль пять.
И он сделал усилие, чтобы выпрямиться и казаться сильным и храбрым. Но Базиль отлично видел, что все это было вызвано лишь порывом великодушия.
— Нет, — сказал он, — нет, мой милый Люсьен, нам надо убить его. Ты совсем ослабел.
— Глупости, Базиль, ты ошибаешься, — возразил тот. — Я отлично могу идти дальше… Ну, хорошо: видите те скалы? Они милях в трех от нас и лежат на нашем пути. Давайте отсрочим смерть Маренго до них. Если мы и до тех пор ничего не найдем, тогда…
И Люсьен, взглянув на собаку, смотревшую ему в глаза, не мог закончить фразу. Она точно понимала, о чем шла речь, и жалобно переводила глаза с одного мальчика на другого. Все с радостью согласились на предложение Люсьена и, взвалив на плечи ружья, продолжали путь.
Люсьен нарочно сказал, что до скал три мили: их было полных пять, а мальчики увеличили их до десяти, так как, еще надеясь найти какую-нибудь дичь, осматривали все встречные кусты. После двух часов утомительного пути они достигли скал, не встретив ни птички, ни четвероногого.
— Мы пройдем эти скалы! — воскликнул Люсьен слабым голосом. — Скалы должны были быть границей, но ведь мы не определили, какая именно их сторона. Так перейдем их, они не должны далеко тянуться!
Подбодренные словами Люсьена, мальчики начали пробираться сквозь скалы по обледенелым тропинкам. Они не прошли и нескольких шагов, как радостный возглас Нормана заставил их остановиться. Не видно было никакого живого существа. А между тем и вид его, и голос свидетельствовали о большой радости.
— В чем дело? — спросили они его.
— Каменный лишайник! — отвечал он.
— Лишайник…
— Да, — ответил Норман, указывая на одну из скал прямо перед собой и в то же время быстро направляясь к ней. Остальные подошли к нему и поняли, о чем говорил Норман. Это было черное сморщенное вещество, очевидно, растительного происхождения, сплошь покрывавшее скалу. Люсьен, как и Норман, знал его, и радость озарила его черты. Что касается Базиля и Франсуа, они ожидали, чтобы товарищи объяснили им, каким образом какой-то лишай мог помочь им в их тяжелых обстоятельствах? Люсьен объявил им, что то, что они теперь видели перед собой, был лишайник такого вида, который в состоянии поддержать человеческое существование. Норман подтвердил его слова и прибавил, что не только индейцы и эскимосы, но и многие путешественники питались этим веществом в продолжение долгого времени и тем избавлялись от голодной смерти. Этих лишайников существует не менее пяти или шести разновидностей. Все они съедобны, но только один из них приятен на вкус. К сожалению, мальчики нашли другую разновидность, так как вкусный лишайник растет на скалах, покрытых лесом, и редко попадается на пустынных пространствах. Тем не менее она была съедобна, и мальчики с рвением начали отдирать ее от скалы. Затем возникло новое затруднение. Лишайник требует варки, а у них не из чего было развести огонь. Вокруг не видно было ни деревца, ни кустика. Итак, их положение нисколько не улучшилось. Что могут они поделать с сырой массой лишайника, который в сыром виде ничем не лучше сухой травы? Вдруг у них блеснула мысль воспользоваться санками. Конечно, костер будет очень маленький и дров хватит лишь на один раз; но и это было лучше, чем ничего. Маренго ничего не имел против того, чтобы мальчики сожгли его санки; всего за несколько часов до того они чуть не послужили для приготовления самого Маренго. Санки уже хотели было ломать, как возглас Базиля, перешедшего на другую сторону скалы, остановил их.
На некотором расстоянии от них он увидел группу ив, за которыми тотчас отправились Базиль и Франсуа. Норман же и Люсьен остались подготавливать лишайник к варке.
Посланные скоро вернулись с большими охапками веток, и мальчики раздули огонь. Лишайник вместе со снегом, так как поблизости не было воды, был положен в котелок и подвешен над огнем. После часовой варки он превратился в мягкую клейкую кашу, которую Норман по вкусу делал то гуще, то жиже, прибавляя лишайника или снега. Затем они сняли котелок с огня и с жадностью набросились на пищу. Несмотря на то, что смесь эта была не особенно вкусна, мальчики очень скоро уничтожили все, что было сварено. Аппетит их не был удовлетворен, но желудки наполнились, и состояние их перестало быть столь мучительным. Норман сказал, что вкус лишайника очень выигрывает, если добавить мяса, но ведь мяса неоткуда было взять. Индейцы варят его с рыбой, добавляют в него икру и очень любят это блюдо.
Путешественники решили провести хоть одну ночь под этими скалами и разбили палатку. Костра они не раскладывали, так как ив было очень мало и они хотели приберечь их для варки лишайника. Они постелили оленьи шкуры внутри палатки и, забившись в нее, старались по возможности согреть друг друга.
Глава 32
ПОЛЯРНЫЙ ЗАЯЦ И БЕЛАЯ СОВА
Разбуженные голодом, они поднялись рано. Снова раздули огонь и приготовили новую порцию лишайника, когда вдруг до их слуха долетел знакомый крик птицы. Они подняли головы и увидели на скале пепельную ворону, которая, несмотря на свое название, в сущности, есть не что иное, как сойка. Она наименее красивая из всех разновидностей сойки, бледно-серого цвета и очень неграциозна. Перья ее скорее похожи на волосы, а голос нисколько не искупает общей непривлекательности. Обыкновенно крик ее жалобный и пискливый, хотя иногда она подражает голосам других птиц. Она охотно посещает селения, и нет ни одной станции или форта на северной территории, где бы она не была известна. Но она далеко не желанный гость, так как, подобно своей родственнице, обыкновенной сороке, любит воровать и по целым дням следует за охотником, расставляющим свои капканы, для того чтобы, как только он удалится, похитить приманки. Она часто таскает из фортов и лагерей разные мелкие вещицы и притом настолько смела, что иногда входит в палатки и вытаскивает оттуда пищу и даже посуду, в которых та находится. Тем не менее путешествующие по этим негостеприимным местам очень любят ее: как только они расставят палатку, — серая ворона уж тут как тут, и посещение ее в стране, где все живое старательно избегает человека, особенно приятно одинокому путнику.
Путешественники наши уже не раз видели этих птиц у себя в лагере и всегда дружески принимали их. На этот раз, впрочем, радость их имела другое основание: птица была обречена на смерть. Франсуа уже схватился за ружье, но был остановлен Норманом. Он заметил другую ворону, прыгавшую недалеко от них, и боялся, что звук выстрела испугает ее, а ему хотелось застрелить обеих.
Скоро подоспела и та ворона, и обе, перебираясь с камня на камень, добрались до палатки. Одна уселась на ее верх, другая же села на край котелка, висевшего над огнем, и внимательно смотрела на него, точно желая разглядеть его содержимое.
Франсуа выстрелил сначала в сидевшую на палатке, затем уже на лету убил и вторую. Их сразу же ощипали и бросили в котел. Обе весили вместе не более шести-семи унций, но и это что-нибудь да значило в их положении; вороны вместе с лишайником составили неожиданно вкусный завтрак.
Лишайников больше не было видно; мальчики напрасно обыскали все окрестные скалы и нашли лишь такое ничтожное его количество, которого не хватило бы даже на один раз. Поэтому было решено, не теряя времени, двинуться дальше, и скоро они снова очутились среди снежной пустыни. Опять прошел целый день, а им не попалось ни единого живого существа, ничего съедобного, даже ни кусочка лишайника. Вечером они расположились лагерем на открытой равнине, без единого дерева или скалы, могущей защитить их.
Вопрос о Маренго был снова поднят на следующее утро. Как и в предыдущий раз, Люсьен вступился за него. Он опять предложил поискать счастья у видневшегося холма и лишь в случае неудачи пожертвовать Маренго. Остальные согласились с его мнением, и мальчики снова пустились в путь.
Дорога до холма показалась им чрезвычайно длинной и тяжелой: они все были утомлены и голодны. И до самого холма они не встретили ни одного живого существа.
— Скорее на холм! — вскричал Люсьен слабым голосом, подбадривая товарищей.
Они взобрались на холм. Маренго медленно плелся за ними, усталый и печальный. Он как будто предчувствовал свою судьбу.
Наконец они были наверху. Вершина холма представляла собой небольшое плоскогорье, приблизительно ярдов триста в диаметре, и была покрыта толстым слоем снега. Над ним кое-где высились головки засохших трав. Ничего живого не было видно: птицы и землеройки, и те не укрылись бы от взоров мальчиков на этой гладкой поверхности. Одного взгляда на нее достаточно было, чтобы убедиться в полнейшей необитаемости этой местности.
Они остановились, не будучи в силах продолжать путь. Маренго тоже добрел до вершины и стоял немного в стороне от них, запряженный в санки.
— Ты должен сделать это! — хрипло сказал Базиль Норману, не глядя на него. Люсьен и Франсуа подошли к краю холма и как будто смотрели вниз. У всех был удрученный вид, а Франсуа старался незаметно смахнуть со щеки слезу.
Норман взвел курок, и мальчики ждали выстрела, как вдруг в это самое мгновение темная тень, двигавшаяся по склону холма, привлекла их внимание. Их одновременный возглас остановил Нормана, готового уже спустить курок; он повернулся к ним и, следуя за их взглядами, увидел в воздухе огромную птицу, величиною с орла, оперением похожую на лебедя. Она была бела, как снег, над которым пролетала, и Норман сразу признал ее: ее толстая, короткая шея и большая голова, широкие белоснежные крылья не оставляли ни малейшего сомнения. Перед ними была белая большая сова полярных широт.
Ее появление сразу изменило намерения мальчиков, Норман опустил ружье и вместе с другими жадно следил за птицей.
Белая сова, пожалуй, самая красивая и в то же время одна из самых сильных птиц Америки. Она — птица полярных стран и среди зимы встречается в полярном поясе обоих материков, хотя в это время года спускается и южнее. Она водится и в полярной пустыне, и в лесах. В первой она садится прямо на снег, от которого отличить ее бывает очень трудно. Природа наделила ее всем необходимым для борьбы с холодом: ее перья густы и пушисты и покрывают ее сплошь; лапы величиной с лапы порядочной собаки. Даже клюв, и тот почти совершенно скрыт под массой перьев, покрывающих ее голову.
Сова считается обыкновенно ночной птицей, но в северных широтах этот эпитет не подходит к ней — она охотится днем, даже в самый полдень. Иначе как могла бы она существовать во время полярного лета, когда день продолжается несколько месяцев подряд?
По меньшей мере дюжина разновидностей сов посещает территорию Гудзонова залива. Самые большие из них — пепельные совы, размах крыльев которых составляет около пяти футов. Некоторые совы перекочевывают осенью на юг, другие остаются на севере, где питаются зайцами и другими маленькими четвероногими, тоже остающимися там.
Итак, мальчики следили за полетом совы. Франсуа держал ружье наготове, но птица держалась слишком далеко от них и вскоре исчезла с жалобным криком, напоминающим человеческий стон. С грустью смотрели ей вслед наши путешественники. Они заметили, что при первом своем появлении сова как будто только начинала свой полет. Следовательно, решили они, она должна была подняться с того холма, на котором они находились. Они внимательно огляделись кругом, но не нашли ни одного деревца, на котором она могла сидеть. Очевидно, она сидела прямо на снегу, и только ее цвет помешал им раньше заметить ее. Вдруг их взгляд упал на предмет, заставивший их еле сдержать восклицание и поднять ружья: на снегу лежало что-то похожее на ком снега. Но при более внимательном взгляде можно было различить два черных круга, а над ними два продолговатых темных пятна. Затем проступила форма всего животного, сидевшего скорчившись на снегу. Черные круги были его глазами, а пятна над ними — кончиками его длинных ушей. В животном нетрудно было узнать зайца.
— Тсс! — прошептал Норман. — Будьте осторожны, предоставьте его мне!
— Разве мы не можем помочь тебе? — спросил Базиль.
— Нет, — отвечал Норман. — Не трогайтесь с места и держите собаку. Я справлюсь с косоглазым, если он не слишком напуган криком совы. Я уверен, он не был в таком состоянии до появления совы. Быть может, мне удастся вовремя добраться до него. Хорошо еще, что солнце так высоко. Держите собаку наготове, но не спускайте ее раньше времени.
Он отдал эти приказания быстро и вполголоса и пошел прочь от товарищей. Но шел он не в сторону зайца, а скорее от него. Его путь, впрочем, скоро превратился в окружность, центром которой был заяц, а диаметром — ширина вершины. Он несколько раз совершил полный круг, все время не спуская глаз с притаившегося животного. Постепенно он уменьшал диаметр круга, по спирали приближаясь к зайцу. Тот внимательно следил за ним, любопытство боролось в нем со страхом. К счастью, как Норман уже сказал, солнце стояло высоко в небе, и его тень была очень маленькой. В противном случае заяц, испуганный ею, убежал бы гораздо раньше, чем Норман подошел бы к нему на расстояние выстрела.
Сделав четыре или пять кругов, Норман стал двигаться все медленнее и, наконец, остановился почти против товарищей. Те следили за ним с сильно бьющимися сердцами, так как знали, что их жизни и жизнь Маренго зависели от удачного или неудачного выстрела. Норман выбрал место с тем расчетом, что если бы заяц бросился бежать, то кто-нибудь из мальчиков мог легко застрелить его. Он уже готов был нажать курок, как вдруг на снегу снова показалась большая движущаяся тень и громкий человекоподобный крик рассек морозный воздух. Заяц вдруг вскочил и со всех ног бросился бежать. В то же мгновение сова круто повернула и полетела за ним.
Заяц бежал в сторону от мальчиков, но оказался на расстоянии выстрела от них. Сова все летела над ним. Не пробежал он и дюжины шагов, как раздался выстрел, заяц подскочил и, убитый наповал, свалился в снег. Второй выстрел последовал за первым, раздался дикий крик, и трепещущая громадная сова тоже свалилась на землю. Все взоры обратились на Франсуа, который, как маленький божок, стоял в облаке голубого дыма. Маренго бросился к сове, которая неистово щелкала на него своим клювом. Но тот не испугался, схватил ее за горло, и сова перестала трепетать. Грустная участь Маренго на время была отсрочена, и, казалось, он понимал это, так как с радостным лаем стал носиться по снегу.
Мальчики подбежали к зайцу, который оказался полярным зайцем, причем крупным экземпляром, не менее пятнадцати фунтов весом. Его мех, белый и нежный, как лебяжий пух, был в крови. Он был еще жив; сердце слабо билось, и прекрасные глаза его грустно блестели. Его и сову привязали на санках и тотчас же пустились в путь, так как намеревались остановиться под прикрытием скалы.
— Здесь неподалеку непременно должен быть лес! — сказал Норман. — Я никогда не встречал эту породу зайцев далеко от леса.
— Ты прав, — согласился с ним Люсьен. — Полярный заяц питается ивами, земляничником и лабрадорским чаем. По всей вероятности, какое-то из этих растений должно быть поблизости.
Меж тем они достигли противоположного склона холма и, к великой радости, увидели в открывавшейся их взорам долине несколько групп ив, тополей, берез и серых сосен, к которым и спустились. Тотчас застучал топор, и через несколько минут к небу потянулся дым, весело клубясь в ясном зимнем воздухе.
Глава 33
ПРЫГАЮЩАЯ МЫШЬ И ГОРНОСТАЙ
Как ни велик был заяц, мальчики сразу уничтожили бы его, если бы не доводы Люсьена, убедившего их ограничиться половиной и обещавшего приготовить из другой вкусную похлебку. Голова, лапы и другие негодные части достались Маренго. Сову приберегли на следующий день. Норман знал, что мясо ее почти так же бело, как ее перья, и чрезвычайно нежного вкуса.
Они решили не двигаться дальше до следующего утра, но было еще светло и, подкрепившись, они решили посвятить остаток дня охоте. Им было очень важно добыть еще дичи. Совы хватило бы еще на раз, а других запасов у них не было. Долина, в которой они находились, казалась оазисом среди бесплодной пустыни, и им необходимо было употребить все свои силы на пополнение запасов. Недалеко от лагеря виднелось небольшое озеро, окруженное ивами, тополями, серыми соснами и низкорослыми березами. На склоне холмов росли полярная толокнянка, ягоды которой являются излюбленной пищей многих животных, и лабрадорский чай, листья которого очень любимы полярными зайцами, так что путешественники не сомневались в том, что в этой местности должны водиться эти зайцы. На снегу нашли они следы этого и других животных, так как известно, что где водится одна порода, непременно найдутся и другие, связанные друг с другом борьбой за существование.
Люсьен скоро убедился в справедливости этого мнения. Он один остался у палатки, когда все отправились на охоту, и сидел перед кипящим котелком, в котором варилась заячья похлебка. На сковороде сушились собранные им листья чайного растения, напитком из которых он собирался угостить товарищей после обеда. Он посмотрел кругом, и внимание его было привлечено каким-то предметом, видневшимся на снегу на некотором расстоянии от него. Это было маленькое существо, мышка. Величиной она была с обыкновенную мышь, но резко отличалась от последней своим цветом. Верхняя половина ее была цвета светлого красного дерева, а нижняя вместе с лапками совершенно белая. Это была так называемая белоногая мышь, одна из самых красивых представительниц мышиной породы. Крохотное создание переходило от одного куста толокнянки к другому, очевидно, в поисках ягод, остающихся на них в продолжение всей зимы. Она то бежала подобно всякой другой мыши, то вдруг становилась на задние лапки и делала прыжок в несколько футов. Ей помогал хвост, которым она отталкивалась от снега. Вследствие этого своеобразного способа передвижения она получила название прыгающей мыши, или мыши-оленя, так как, по мнению индейцев, ее прыжки напоминают прыжки оленя. В Америке существуют и другие разновидности прыгающих мышей, прыжки которых еще больше.
Люсьен позволил ей безнаказанно удалиться, так как уже имел случай подробно ознакомиться с этой породой. Он, быть может, и совсем забыл бы о ней, если бы в эту минуту не заметил с противоположной стороны новое животное. Оно было совершенно другого разряда: туловище его было около фута в длину, хотя вряд ли толще мыши. Лапы короткие, но сильные, а передняя часть головы широкая и выпуклая. Хвост его составлял почти половину всей длины и к концу суживался. Он напоминал хорька, разновидностью которого он, собственно, и был.
Это был знаменитый горностай, так высоко ценимый за свой нежный и прекрасный мех, употребляемый для отделки торжественных одеяний. Мех был совершенно белый, за исключением конца хвоста, который был покрыт черными блестящими волосками. Конечно, горностай был в своем зимнем одеянии; летом цвет его мало отличается от цвета обыкновенного хорька.
Когда Люсьен впервые заметил его, тот бежал в том же направлении, что и мышь, временами останавливаясь, точно обнюхивая снег. Было ясно, что он бежит по следам мыши. Там, где мышь делала прыжок, горностай останавливался, внимательно обнюхивал все вокруг себя и, снова найдя ее следы, возобновлял преследование. Он вел себя совершенно так же, как собака на охоте.
Люсьен глазами отыскал мышку. Совершенно не подозревая, что ее злейший враг уже близко, она грызла веточку толокнянки. Лишь когда он был в нескольких футах от нее, заметила она его присутствие и в первый момент искала спасения в листьях растения. Но, видя бесполезность этого, сделала прыжок и попробовала спастись бегством. Однако и это не помогло: горностай с живостью кошки схватил ее. Раздался слабый писк, и головка мыши, подобно ореху, треснула под зубами горностая.
Глава 34
ПОЛЯРНАЯ ЛИСИЦА И БЕЛЫЙ ВОЛК
Люсьен схватил ружье, чтобы наказать горностая, который в сущности только повиновался закону природы. Но у мальчика была и другая цель: он хотел сравнить его с горностаями, виденными им на озере Виннипег, которые, как ему казалось, были значительно больше. Он хотел также сравнить его с обыкновенным хорьком, который в этих странах зимой мало чем отличается от горностая, так что охотники даже не делают между ними различия.
Люсьен уже поднимался на ноги, чтобы ближе подкрасться к горностаю, как взор его остановился на другом животном, показавшемся на снегу. Оно тоже было белого цвета, с длинной, пушистой шерстью, острой мордой, торчащими ушами и пушистым хвостом и очень напоминало лисицу своими движениями и осторожностью. Ничего удивительного в этом и не было, так как животным этим была прекрасная полярная лисица.
Принято думать, что в Америке есть всего две или три разновидности лисиц и что они только разновидности европейских пород. Это мнение ошибочно, так как в Северной Америке их не менее дюжины: есть полярная лисица, зимою совершенно белая и обитающая в северных странах; есть пепельная, отличающаяся от первой только цветом; есть так называемая американская, или красная лисица, которая долгое время считалась тождественной европейской. Но и это неправильно, так как они имеют много различий и, как ни странно, эти различия те же, что и между европейскими и американскими волками.
Крестовая лисица получила свое название от двух пересекающихся линий на плечах. Вследствие этой особенности, а также редкости, мех ее ценится дороже меха красной лисицы.
Еще более ценится чернобурая, или серебристая лисица. Мех ее оценивается в шесть раз дороже всех других мехов Америки, за исключением меха морской выдры. Они так редки, что за целую зиму их удается убить не более нескольких штук; и каждая шкура стоит от десяти до сорока гиней, в зависимости от качества. Замечательная шуба, принадлежащая русскому императору, была выставлена на Лондонской выставке 1851 года и оценена в 3400 фунтов стерлингов; вся она состояла из одних шеек лисиц, единственной совершенно черной части лисицы. Георг IV, король Англии, владел мехом чернобурой лисицы ценой в 1000 фунтов стерлингов.
Серая лисица водится южнее и обитает в умеренном поясе Америки, то есть в Соединенных Штатах, хотя попадается и в южной части Канады. В Соединенных Штатах она распространена более других пород, хотя здесь встречается и разновидность красной лисицы, немного отличающаяся от упоминавшейся выше; по всей вероятности, это и есть европейская лисица, завезенная в Америку первыми колонистами.
Кроме этих существует еще одна разновидность, быть может, наиболее интересная из всех и, бесспорно, самая маленькая. Это степная лисица, обитающая в прериях и копающая свои норки вдалеке от всякого леса. Она чрезвычайно пуглива и бегает быстрее всех животных, не исключая антилоп.
Люсьен, завидя лисицу, совершенно забыл о горностае, попятился назад и прильнул к земле в надежде застрелить ее. Он знал, что мясо ее очень ценится, особенно путешественниками в их положении, и надеялся удачным выстрелом увеличить свои запасы. Лисица бежала в его направлении, но не по прямой линии. Она, подобно опытному пойнтеру, старательно обнюхивала снег и, наконец напав на след горностая, с довольным визгом бросилась за ним. Несмотря на то, что след горностая привел ее почти к тому месту, где стоял Люсьен, тот не решался стрелять в нее, так как она бежала чрезвычайно быстро. Он решил дождаться, пока она остановится.
Лиса продолжала бежать по следам горностая, который заметил ее только тогда, когда она была уже в нескольких шагах от него. Он бросил полусъеденную мышь, поднялся на задние лапки и начал злобно плеваться, как настоящий хорек. Но мгновение спустя он переменил свою тактику, — лисица почти настигла его — быстро повернулся и бросился бежать. Через несколько шагов он вдруг остановился и нырнул головой в снег. Лисица стрелой бросилась за ним, и оба исчезли под снегом. Некоторое время поверхность снега около места, где они скрылись, волновалась, но вскоре все успокоилось, и не осталось никакого следа того, что здесь только что были два живых существа, если не считать их следов на снегу, и ямки, в которой они исчезли. Люсьен подбежал к ней, держа ружье наготове, так как был уверен, что лисица скоро выйдет из нее.
Так прождал он минут пять, как вдруг увидел, что снег начал шевелиться шагах в пятидесяти от него. Замерзшая корочка его начала подниматься, и скоро из-под снега показалась голова лисицы. В зубах она держала мертвого горностая. Люсьен уже хотел стрелять, но лисица вдруг заметила его и стрелой помчалась в противоположную сторону, унося с собой и свою жертву. Она скоро оказалась в безопасности, но вдруг круто повернула и побежала в другом направлении. Мальчик внимательно огляделся, ища объяснения этой перемене, и увидел выходящее из-за скалы животное, раз в пять больше лисицы, но в остальном мало чем отличающееся от нее. Оно тоже было совершенно белое, с длинной шерстью, пушистым хвостом, короткими торчащими ушами. Это был большой белый волк.
Он только что заметил лисицу и бросился за ней в погоню. Волк быстро нагонял лисицу и должен был скоро схватить ее. Этого только и ждал Люсьен, надеявшийся, что тогда волк остановится, и ему будет легче застрелить его. Но волк уже заметил приближавшегося Люсьена и, схватив в следующее мгновение лисицу, не останавливаясь и нисколько не замедляя бег, продолжал свой путь.
Лисица сначала билась в его пасти и визжала, подобно щенку, но с каждым мгновением борьба ее становилась слабее и слабее и скоро совершенно прекратилась.
Люсьен ясно видел, что будет бесполезно преследовать волка, и с некоторым разочарованием вернулся к костру. Здесь его ожидала новая неудача: за время его отсутствия листья чайного растения совершенно сгорели. Он все провожал глазами удалявшегося волка, продолжавшего держать в своей пасти мертвую лисицу. Вдруг тот остановился и упал на землю, не выпуская своей жертвы.
Люсьен в недоумении не знал, чем объяснить это; но в этот момент увидел синий дымок, подымавшийся из-за холма и сопровождавшийся звуком выстрела. Вслед за этим показалась и голова в меховой шапке, и Люсьен, узнав Базиля, бросился к нему навстречу. Они оба вскоре стояли над трупом волка и с величайшим удивлением рассматривали его. Большое тело волка было растянуто на снегу, поперек его пасти лежала унесенная им лисица, которая в свою очередь держала в зубах червеобразного горностая, в зубах которого была полусъеденная мышь. Это была яркая иллюстрация борьбы за существование! Человек, и тот, как только что доказал Люсьен, послушен тому же закону. Как бы мы ни философствовали, мы никогда не поймем, почему природа требует гибели одних существ для поддержания других. Но, не понимая причины, мы все же не должны слишком строго порицать самый факт и, по примеру некоторых, находить, что всякое истребление живых существ для своей надобности является преступлением. Те, которые так думают и вследствие этого придерживаются исключительно вегетарианской пищи, рассуждают весьма примитивно. Они не глубоко изучили природу, потому что иначе они знали бы, что каждый раз, когда они срывают пастернак или срезают салат, они так же причиняют боль и смерть. Насколько сильна эта боль, мы в точности не знаем, но можем бесспорно доказать, что растение чувствует. По всей вероятности, растение менее чувствительно, чем животное, и ощущения, испытываемые им, увеличиваются по мере приближения организма к высшим формам жизни. Но изучение этих вопросов, быть может, будет вам очень интересно, когда ваш ум окрепнет, молодой мой друг. Быть может, вам удастся прояснить какие-нибудь из них для общей пользы. Я всем сердцем желаю вам не только изучать природу, но и быть одним из выдающихся толкователей ее и далеко оставить позади себя автора этой маленькой книги, который будет вполне доволен сознанием того, что вы, далеко уйдя вперед по дороге знания, оглянетесь на него с благодарностью как на первого, кто указал вам эту дорогу.
Было ясно, что Базиль, убив волка, не первый раз спускал свой курок: из его сумки торчали когти и концы крыльев большой птицы. В одной руке нес он белого зайца, не полярного, а другую разновидность, гораздо более мелкую, но тоже обитающую в этих местах, а через плечо его была перекинута свирепая дикая кошка, или американская рысь. Птица в сумке была золотым орлом, одним из немногих, решающихся оставаться на зиму в этом суровом климате.
Базиль вернулся один, так как охотники, желавшие воспользоваться всеми преимуществами, разошлись в разные стороны. Скоро подошел и Норман, неся на плечах целого оленя, а через несколько минут раздалось и радостное «ура» Франсуа, выходившего из-за холма и нагруженного наподобие маленького осла двумя связками белоснежных птиц.
Лагерь теперь представлял радостный вид и мог поспорить с дворцовыми кладовыми: вся земля была покрыта всевозможными животными.
Заячья похлебка была готова. Люсьен насушил новых чайных листьев; плотно пообедав, мальчики расселись вокруг огня и начали по очереди рассказывать о своих дневных приключениях. Первым заговорил Франсуа.
Глава 35
КРЕЧЕТ И БЕЛЫЙ ТЕТЕРЕВ
— Как вы все можете убедиться, — начал он, — я застрелил птицу, но что это за птица, я решительно не знаю. Одна из них ястребиной семьи, но до сего дня мне никогда не приходилось встречать белого ястреба! Остальные, думаю, белые куропатки. Не так ли, Люс?
— Ты совершенно прав относительно первой, — отвечал тот, беря в руки принесенную Франсуа большую птицу, которая, за исключением нескольких коричневых пятен на спине, была совершенно белая. — Это действительно ястреб или, вернее, сокол. Ведь между ними есть разница.
— Какая же? — быстро спросил Франсуа.
— Главная заключается в строении их клюва. Клюв настоящего сокола гораздо сильнее и в верхней части имеет зуб, соответствующий выемке в нижней. Их ноздри также различны. Как тот, так и другой питаются животными, имеющими горячую кровь, и никогда не едят падали. Они всегда на лету хватают свою добычу, но разница состоит в том, как они это делают. Ястреб ловит свою жертву, пролетая мимо нее по горизонтальной или косой линии; настоящий же сокол бросается на нее сверху совершенно вертикально.
— В таком случае это настоящий сокол, так как я видел, что он схватил свою жертву, упав на нее сверху.
— Это сокол, и из всех разновидностей их, встречающихся в Америке — а их не менее двадцати — эта самая смелая и красивая. Немудрено, что ты в первый раз видишь его: белые соколы живут только на самом севере Америки и даже не доходят до северных границ Соединенных Штатов. Они попадаются в Северной Европе, Гренландии и Исландии и встречаются на севере всюду, куда только проникал человек. Он называется кречетом, а в зоологии известен под названием Falco Islandicus.
— Здешние индейцы, — сказал Норман, — называют его зимней птицей, по всей вероятности, потому, что он один из немногих пернатых остается в здешних краях всю зиму. Промышленникам он известен под именем пятнистого ястреба, так как они бывают более пестрыми, чем этот.
— Совершенно верно. Птенцы почти коричневые и лишь через год или два становятся пестрыми. Только несколько лет спустя делаются они совершенно белыми, хотя редкий сокол бывает без малейшей отметинки.
— Да, — продолжал он, — это несомненно кречет, а те птицы, которых ты называешь белыми куропатками, составляют их главную пищу. Но это не куропатки, а тетерева, так называемые ивовые тетерева.
Говоря это, Люсьен перебирал в руках птиц, которые, за исключением черных хвостов, были совершенно белы.
— Да их здесь две разновидности! — вдруг вскричал он. — Ты одновременно застрелил их, Франсуа?
— Нет, — отвечал тот, — одних я застрелил вместе с кречетом на открытом месте, других — в небольшой рощице. Но я не вижу в них никакой разницы.
— А я вижу ее, — возразил Люсьен, — хотя и признаю, что они похожи друг на друга. Они все имеют черные хвосты, клювы у них тоже черные, но если всмотреться внимательно, ивовые тетерева имеют более крепкий и менее приплюснутый клюв. Да они и крупнее других, горных тетеревов. У них похожие повадки, но ивовые тетерева живут преимущественно в рощах и лесах, тогда как горные держатся на открытых местностях. И те, и другие встречаются вплоть до самых границ исследованного севера.
— Совершенно верно, — сказал Франсуа. — Покинув вас, я пошел по долине и перебирался через высокое открытое место, когда вдруг увидел парившего в воздухе белого сокола. Я остановился и спрятался за скалой в надежде всадить в него пулю. Внезапно он остановился и, сложив крылья, стрелой упал на землю. Целая стая белых тетеревов с шумом поднялась с того места, на которое он опустился, тех тетеревов, которых ты называешь горными. Я видел, что сокол не поймал ни одного из них, и выстрелил им вдогонку. Птицы пролетели с сотню ярдов, затем разом бросились в снег и в одно мгновение исчезли под ним. Я был уверен, что буду в состоянии перестрелять их по мере того, как они будут выходить из-под снега, подошел к сделанным ими ямкам и остановился в ожидании. Недалеко от меня сокол продолжал кружиться в воздухе.
Я раздумывал, что мне предпринять: идти ли дальше или постараться выгнать птиц из-под снега, но вскоре заметил, что снег как раз на том месте, над которым летал сокол, задвигался. Сокол камнем бросился туда и сразу исчез под снегом. В это же мгновение снежная корочка сломалась в нескольких местах, тетерева один за другим выходили из-под нее и моментально улетали. Сокол еще не показывался, и я побежал вперед, чтобы убить его, как только он появится. Когда я был на расстоянии выстрела, он показался на поверхности, держа в своих когтях трепещущего тетерева. Я выстрелил, и оба пали мертвыми на снег.
Я подумал, что, быть может, мне удастся снова напасть на остальных; поэтому я пошел в том же направлении и достиг небольшой рощи, состоявшей из берез и ивы. Идя по ее опушке, я заметил иву, покрытую какими-то белыми предметами, которые я сначала принял за комья снега. Но мне показалось странным, что на других деревьях этих комьев не было. Когда я подошел ближе, то увидел, что один ком шевелится, и понял, что это были птицы, очень похожие на тех, которых я только что видел и которых разыскивал. Я осторожно подкрался и выстрелил. Результат перед вами.
Франсуа с торжеством указал на груду птиц и замолчал, предоставив Базилю рассказывать о своих похождениях.
Глава 36
ЗАЯЦ, РЫСЬ И ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ
— Франсуа, — начал тот, — назвал свое приключение птичьим. Я могу назвать свое таким же, потому что и в моем приключении замешана птица, самая благородная птица — орел. Я вам о нем расскажу.
Выйдя из лагеря, я, как вы знаете, направился в долину. Пройдя с четверть мили, я вышел на обширное открытое место, кое-где поросшее кучками карликовых берез. Так как Люсьен говорил, что они — любимая пища американских зайцев, я стал искать следы и действительно скоро напал на следы зайца. Держа Маренго на привязи, я пошел по ним, и они привели меня к кустарнику, но зайца там не было; следы уходили в противоположную сторону. Я был готов направиться туда же и вдруг увидел это животное. — Базиль указал на рысь. — С первого взгляда я принял его за нашу луизианскую дикую кошку, но потом увидел, что оно вдвое больше и что шерсть его более серая. Животное было от меня ярдах в ста. Крадучись, рысь направлялась почти наискось к заячьему следу и меня не замечала, так как я был скрыт от нее кустами. Я было хотел отпустить Маренго и сам броситься вперед, но потом решил подождать немного, рассчитывая, что рысь остановится и я смогу приблизиться к ней. Поэтому я остался за кустами и удержал Маренго у своих ног.
Наблюдая за кошкой, я заметил, что она идет не по прямой линии, а описывает круг. Круг этот имел не более ста ярдов в диаметре; в короткое время животное прошло по его окружности и вернулось к месту, где я его впервые увидел. Оно не остановилось, а пошло дальше, но не по старым следам, а по меньшему кругу. Но оба эти круга имели общий центр, и так как глаза животного были обращены к центру, то я был уверен, что там найду причину странного поведения зверя. Я посмотрел в этом направлении. Сначала я ничего не увидел, то есть ничего, что могло бы, казалось, привлечь хищника. Там рос очень низкий и редкий ивовый кустарник. Я ясно видел, что ни в кустарнике, ни около него не было ни одного живого существа. Снег покрывал корни ивняка, и даже мышонок с трудом мог бы укрыться между ними так, чтобы я его не заметил с того места, где стоял. И все-таки я не мог объяснить странные маневры рыси только близостью добычи; я опять внимательно осмотрел каждый дюйм земли. На этот раз я увидел, к чему стремился зверь. Подле куста выделялись на снегу две параллельные темные полоски; я бы не обратил на них внимания, если бы они не двигались в одном направлении. Я различил, что это были уши животного, а вглядевшись еще пристальнее, увидел и белую мордочку, но туловище животного было под снегом. На белой головке я увидел темные пятна — глаза. Сперва я подумал, что это полярный заяц, такой же, как мы только что убили, но виденные мною следы не могли принадлежать этому животному. Вспомнив, что кролик в этих местах тоже белеет на зиму, я решил, что его-то я и вижу.
Конечно, все эти соображения промелькнули у меня в одно мгновение. А рысь, все суживая круги, приближалась к намеченной жертве. Я вспомнил хитрость Нормана в охоте на полярного зайца; то же проделывало животное, которое, говорят, руководствуется только инстинктом. Наконец рысь остановилась, подобрала лапы, изогнула спину, как разозленная кошка, и прыгнула к своей жертве. Зверек едва успел опомниться, как вторым прыжком рысь наскочила на него. Я услышал детский писк кролика, но облако взвившегося снега скрыло от меня и рысь, и ее жертву, а когда оно рассеялось, беленький зверек, уже мертвый, висел в зубах хищника.
Я обдумывал, как бы мне поосторожнее и половчее подкрасться к рыси на расстояние выстрела, как вдруг услышал чей-то крик. В тот же момент тень легла на снег. Взглянув вверх, я увидел ярдах в пятидесяти от земли большую птицу. Я сразу же узнал орла, но сначала подумал, что это молодой белоголовый орел, — как вы знаете, у этой породы голова и хвост белеют, когда им уже несколько лет. Но огромные размеры птицы указывали, что я ошибся. Это должен был быть большой золотой орел Скалистых гор.
Увидя орла, я понял, что он тоже считал кролика своей добычей и, видя ее похищенной другим хищником, испустил крик разочарования и гнева.
К моему удивлению, орел не улетел, потеряв добычу, а с новым криком стремительно бросился на соперника.
Последний при первом крике орла остановился, выпустив жертву на землю. Он узнал в орле врага; его спина опять изогнулась, глаза засверкали…
Орел слетел с выпущенными вперед когтями и, ранив ими рысь, потому что она громко стала плеваться и рычать, взлетел вверх, но после нескольких кругов в воздухе снова бросился вниз. На этот раз рысь прыгнула ему навстречу: видимо, орел был так смят, что не мог уже взлететь, и борьба продолжалась на земле. Рысь старалась схватить зубами туловище орла, птица отчаянно сражалась крыльями, когтями и клювом. Клочья шерсти и перьев разлетались во все стороны, и взметавшийся снег иногда скрывал от меня соперников.
Сообразив, что самым удобным моментом приблизиться был для меня именно этот, когда ослепленное борьбой животное не заметило меня, я тихо пробрался к кустарнику и, удерживая Маренго на привязи, пополз дальше. У меня был всего один заряд, и так как я знал, что рысь вполне съедобна, но сомневался в пригодности орла для той же цели, то и выстрелил в рысь, уложив ее на месте.
Орел не улетел, его крыло действительно было сломано, но он был еще опасен и изрядно оцарапал Маренго, прежде чем тот с ним совладал. Рысь также оказалась сильно поврежденной, ее шкура была разорвана в нескольких местах, как вы это можете видеть.
Базиль закончил свой рассказ. После короткого промежутка подбросили еще топлива в огонь; Норман, в свою очередь, начал повествование о своих приключениях.
Глава 37
ВЕЩАЯ ПТИЦА И СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
— У меня, собственно, было мало приключений, — сказал он, — и я мог бы назвать их тоже только птичьими приключениями. Я застрелил в этот раз только оленя. Но, пожалуй, вам интересно будет выслушать, как я нашел его.
Первым делом, выйдя на охоту, я влез на этот холм. — Норман указал, на длинный холм по ту сторону озера. — Не видя никаких следов дичи, я хотел было повернуть налево и пойти по вершине в том же направлении, которого придерживался Франк, как вдруг услышал над собой крик птицы. Я поднял голову и увидел довольно странную птицу. Это было что-то вроде совы, но вместе с тем в ней было что-то соколиное.
— Нет сомнения, — перебил рассказчика Люсьен, — что это была одна из дневных сов северных стран; они по виду и повадкам очень напоминают соколов. Особенность эта зависит от долгих летних дней полярного круга, длящихся неделями, вынуждающих этих птиц охотиться за добычей на манер сокола: природа одарила их некоторыми особенностями соколов. У них большая голова и «ушки» настоящей совы, но уши не совиные, а как у всех остальных птиц. Маленькая сова — одна из птиц этой породы.
— Да, — продолжал Норман, — то, что ты говоришь, очень возможно; я знаю только, что эта маленькая птичка — не больше голубя — имеет странную привычку следовать за живым существом целыми часами, все время сопровождая его криком, почему индейцы и назвали ее вещей птицей. Нередко она оповещала их о приближении врагов и часто указывала следы оленя или мускусного быка.
То же случилось и со мной. Я понял по движениям птицы, что за скалами, над которыми она кружилась, что-то есть; поэтому я туда и направился. Стараясь не привлечь к себе внимание птицы, я тихо перебирался с камня на камень, но зоркое существо увидело меня и подлетело с криком ко мне. Чтобы избавиться от него, я подлез под нависшую скалу и подождал, пока птица не переключила свое внимание на тех, кто привлек его ранее меня. Через некоторое время она снова кружилась с криком ярдах в ста от меня, а когда я подошел к тому месту, то увидел на открывшемся передо мной пастбище стадо не менее, чем в пятьдесят оленей. Желая ближе заманить животных, я стал дулом ружья подражать движению оленьих рогов при взмахах головы животного; умея к тому же подражать их голосу, я подманил их на расстояние выстрела и без большого труда уложил на месте одно из наиболее любопытных животных. Остальные от выстрела разбежались. Так закончилось мое приключение, — сказал Норман, — если не считать того, что я протащил фунтов сто на плечах на всем обратном пути. И могу вас уверить, что это была самая неприятная сторона дела.
Этими словами Норман закончил свой рассказ.
Глава 38
НАПАДЕНИЕ ВОЛКОВ
На следующее утро юноши поднялись рано, на рассвете. День в это время длился всего несколько часов, так как стояла середина зимы и наши друзья находились всего на три-четыре градуса южнее полярного круга. Люсьен, по обыкновению, не оставался в бездействии. Нужно было снять шкуры с убитых животных и разрезать мясо для более удобной переноски. Ни солить, ни сушить его не было надобности, так как оно настолько проморозилось, что могло сохраняться целую зиму. С волка тоже была содрана шкура, но ради его меха; мясо не предназначалось в пищу, хотя день-два тому назад путешественники были бы рады поесть и волчьего мяса.
Очищая тетерева, Люсьен вдруг заметил промелькнувшую на снегу тень птицы. Подняв глаза, он увидел птицу величиной с орла, плавно описывавшую круги в воздухе. Она была пятнисто-коричневого цвета, короткая шея и большая круглая голова указывали на сову. Это была самая большая птица такого рода, какую когда-либо Люсьен видел, и действительно наиболее крупная из водящихся в Америке — именно серая сова.
Желая рассмотреть птицу, а для этого, следовательно, нужно было убить ее, наш натуралист составил план, как к ней приблизиться. Он бросил одного из убитых тетеревов ярдах в тридцати от костра. Тотчас же сова отбросила осторожность и направилась к приманке. Опустившись на землю, она схватила когтями тетерева, готовая его унести, но от выстрела Люсьена упала мертвой на снег.
Едва Люсьен отложил в сторону сову и уселся спокойно поближе к костру, как слух его поразил странный звук или, вернее, ряд повторявшихся звуков, напоминавших собачий лай. Он подумал сначала, что это лает Маренго, преследовавший поблизости оленя, но вслушавшись внимательнее, различил голоса нескольких животных и нашел, что они скорее принадлежат волкам, чем собакам. Так оно и было. Через мгновение на холме, по ту сторону озера показался олень и во весь опор пустился к воде.
Шагах в двадцати от него неслась с воем стая животных, очевидно, его преследовавших. Их было с дюжину, и Люсьен узнал в них волков. Большинство волков были пятнисто-серыми с белым, а некоторые — совершенно белыми.
Олень выиграл несколько шагов, достигнув откоса холма, спускавшегося к озеру. Принимая, без сомнения, черный лед за поверхность воды и рассчитывая на свое искусство пловца, несчастное животное, как все преследуемые олени, думало найти спасение в воде. Достигнув берега, оно без промедления бросилось вниз, готовое окунуться в воду, но вместо того его копыта коснулись твердого льда. Тем не менее олень устоял на ногах и по инерции покатился по льду вперед, но, очевидно, сознавая преимущество, которое на скользком льду оказалось на стороне волков, стал спотыкаться, скользить и раза два упал на колени. Голодные волки с каждым шагом настигали свою жертву, свободно галопируя по льду благодаря своим цепким когтям; через минуту зубы первого волка уже вонзились в бок оленя; он упал и мгновенно был окружен жадно набросившимися на добычу хищниками.
Это было приблизительно на середине озера. Как только олень сделал свой первый прыжок на лед, Люсьен, зарядив ружье, бросился ему навстречу. Увидя, что животное мертвым уже лежит на льду, он продолжил бег, надеясь отбить у волков добычу. Но когда, несколько приблизившись, охотник увидел, что жертва уже растерзана, а волки не смущены его появлением, он сообразил, что, пожалуй, ему самому грозит опасность. Но, может быть, выстрел разгонит волков? Недолго думая, Люсьен выстрелил. Один из волков упал замертво, но, к удивлению Люсьена, остальные не испугались, а немедленно бросились на убитого товарища и стали терзать и пожирать его так же, как перед тем оленя.
Это зрелище наполнило Люсьена тревогой, еще увеличившейся, когда несколько волков, оттесненных другими от павшего, повернулись в его сторону. Люсьен был посреди озера, на скользком льду. Бежать назад было опасно, так как волки нагнали бы его на полпути, а выказанный им страх вызвал бы большую дерзость с их стороны. Несколько мгновений прошло в колебаниях. Люсьен зарядил ружье, но не выстрелил, решив сберечь заряд для наиболее критического момента. Если бы только ему удалось достигнуть бивуака, расположенного подле деревьев, он мог бы на них спастись. Осторожно стал он пятиться к лагерю, не спуская глаз с волков. Не успел юноша сделать несколько шагов, как к своему ужасу увидел, что вся стая двинулась на него. Поняв, что, отходя, он манит зверей за собой, Люсьен остановился в угрожающей позе с поднятым ружьем. Ярдах в двадцати от него волки вдруг разделились на две группы и стали окружать его более тесным кольцом. Путь со всех сторон был отрезан!
Самое твердое сердце сжалось бы от ужаса в этом положении; дрогнуло и сердце Люсьена.
Он крикнул во весь голос, прицелился и убил ближайшего волка, но другие остались на месте, еще более рассвирепев. Люсьен сжал ружье и взмахнул им со всей силы, но ему угрожала опасность поскользнуться, и его силы иссякали. Он считал себя уже погибшим… Клыки его врагов приближались… Он опять с отчаянной силой замахнулся ружьем…
Долго это ужасное положение продолжаться не могло. Судьба Люсьена была решена. Но подоспела помощь! С холма раздался громкий крик, и Люсьен увидел сбегавшие вниз фигуры. Надежда придала ему энергии, он размахивал ружьем с новой силой, а волки, занятые атакой, не замечали вновь прибывавших, пока четырехкратный залп ружей не свалил нескольких на лед. Остальные с отвратительным воем разбежались, а Люсьен, полумертвый от изнеможения, упал в объятия своих избавителей.
Юноши получили в качестве трофея семь волков. Охотничья экспедиция тоже была удачна, так как были убиты три оленя, которых бросили на холме, когда юноши увидели Люсьена в опасности.
Теперь наши друзья отправились снова за ними и, принеся их в лагерь, принялись за вкусный обед. Люсьен быстро оправился и развлекал компанию подробным рассказом обо всем, что с ним случилось в последние часы.
Глава 39
КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ
Путешественники оставались на месте еще несколько дней, пока не запаслись новым пеммиканом — из мяса северных оленей, которых им удалось убить. Затем, приготовив все заново и взяв с собой несколько шкур, они отправились дальше.
Первые два дня были для них чрезвычайно трудными. Они шли по гористой местности без единого деревца, годного для костра, и страдали от холода больше, чем когда-либо. Франсуа и Люсьен отморозили себе лицо, но им помог Норман, который не позволял им подходить к огню, предварительно не натерев щеки снегом. Скалы, попадавшиеся на их пути, были во многих местах покрыты лишайниками разных сортов, но путешественники не обращали на них внимания, ведь у них имелся пеммикан, которого было такое количество, какое только мог нести каждый из них.
На третий день после ухода из их последнего лагеря перед ними открылась долина реки Маккензи, к северу и югу терявшаяся за горизонтом, покрытая лесом из сосен, тополей и других больших деревьев. Конечно, вид местности был вполне зимний, река была покрыта льдом, и деревья сами были белые от мерзлого снега. Но после Бесплодной земли все это казалось веселым и теплым. Им не грозила больше опасность остаться без огня. Да и дичь в большем количестве попадается в лесных местностях. Вид густого леса придал им бодрости, и в самом лучшем расположении духа они поставили свою палатку на берегу реки. Хотя им еще оставалось пройти несколько сот миль до цели, они решили немного отдохнуть и как можно скорее пуститься в дальнейший путь, непременно держась реки.
Дойдя до реки, мальчики остановились на один день, а затем пошли вниз по ее течению. Они шли по берегу, но иногда, для разнообразия, сходили на лед. Было совершенно безопасно идти по льду, так как он имел более фута в толщину и в состоянии был выдержать груженый фургон вместе с лошадьми.
Несколько ниже того места, где они подошли к реке Маккензи, они нашли зимний лагерь индейцев. Некоторые из них бывали в форте по торговым делам и, зная Нормана, приняли путников очень радушно. Они, чем только могли, помогли мальчикам, но что оказалось ценнее всего — индейцы снабдили их санями и собаками, четырьмя упряжками. Было решено, что в следующее свое посещение форта индейский вождь получит причитающуюся за них плату.
В Северной Америке индейцы и эскимосы не запрягают оленей, а употребляют для этих целей собак, пара которых способна везти взрослого человека со скоростью, превосходящей почти все другие способы передвижения, за исключением, конечно, пара. Когда путешественники отбросили лыжи и, завернувшись в шкуры, уселись в санки, — пятьсот миль, отделявших их от форта, показались им пустяком; и в один прекрасный день четверо саней с сидящими в них мальчиками, вместе с огромным псом, следовавшим за ними, приблизились к частоколу, окружавшему форт. Они не успели доехать до ворот, как все охотники, промышленники, путешественники и другие служащие бросились навстречу и окружили их. Это был поистине час всеобщей радости!..
Для меня же это час грусти, как, надеюсь, и для вас, мой дорогой читатель, — час, когда мы должны расстаться с нашими молодыми путешественниками, пережив с ними столько тревог и волнений.
Примечания
1
Монтесума — вождь ацтеков в Мексике. Убит во время завоевания Мексики испанцами в 1520 году.
(обратно)2
Анауак — южная часть мексиканского нагорья, область формирования союза ацтеков; по-ацтекски означает «страна у воды».
(обратно)3
«Писарро» — принадлежащий знаменитому английскому драматургу Р. Б. Шеридану перевод пьесы немецкого драматурга А. Ф. Коцебу (1761–1819) «Испанцы в Перу».
(обратно)4
«Пороховой заговор» — неудавшееся покушение католиков на английского короля Иакова I в 1605 году. В день открытия сессии парламента в подвале парламента инициаторы заговора собирались взорвать бочки с порохом. Заговор был раскрыт, а вожаки казнены. С тех пор долгое время в день раскрытия заговора, 5 ноября, по Лондону носили чучело Гая Фогса — вожака заговорщиков.
(обратно)5
Индульгенция — папская грамота об отпущении грехов; индульгенции продавались католической церковью за деньги.
(обратно)6
Асиендадо — владелец асиенды, крупного поместья.
(обратно)7
Ачупино — прозвище испанцев, переселившихся в Америку.
(обратно)8
Пеоны — сельскохозяйственные рабочие, находящиеся в полурабской зависимости от помещика.
(обратно)9
Кецалькоатль — бог толтеков, народа, жившего в долине Мексико. Изображался в виде пернатого змея.
(обратно)10
Город Семи Холмов — Рим, который, по преданию, был основан на семи холмах.
(обратно)11
Капитул — коллегия духовных лиц, состоящих при епископской кафедре; также — съезд приходских священников церковного округа.
(обратно)12
Бандола — род лютни.
(обратно)13
Траппер — охотник на пушного зверя в Северной Америке.
(обратно)14
Amigo — друг (исп.).
(обратно)15
Parbleu — черт побери! (франц.)
(обратно)16
Креолы — потомки первых европейских колонизаторов в странах Латинской Америки. Недовольные препятствиями, которые Испания создавала на пути экономического развития колоний, и засильем испанцев на высших должностях в колониальной администрации, они в первой половине XIX века восставали против испанских властей. Эти восстания привели к изгнанию испанцев и основанию самостоятельных республик в странах Латинской Америки.
(обратно)17
Конде Луи де Бурбон (1621–1686), прозванный Великим, — французский полководец.
(обратно)18
Испанский король Фердинанд V (1452–1515) и его жена Изабелла долгое время осаждали Гранаду — последний оплот мавров в Испании. В 1492 году Гранада пала. По преданию, Изабелла дала обет не менять рубашки, пока не будет завоевана Гранада.
(обратно)19
Де Сото Эрнандо (1500–1542) — испанский исследователь, которому приписывается открытие Миссисипи в 1541 году.
(обратно)20
Ибервиль Пьер (1661–1706) — французский исследователь Северной Америки, основавший в 1698 году французскую колонию Луизиану.
(обратно)21
Ла Салль Рене Робер Кавелье (1643–1687) — французский путешественник, первым проплывший по Миссисипи до самого устья.
(обратно)22
8 января 1815 года, уже после подписания Гентского договора, завершившего англо-американскую войну 1812–1814 годов, у Нового Орлеана произошло сражение, в котором малочисленная и плохо организованная американская армия нанесла поражение регулярным английским войскам.
(обратно)23
В Новом Орлеане существовал в то время клуб, объединяющий людей, которых дела задерживали в городе даже в самое жаркое время года. (Примеч. автора)
(обратно)24
Автор имеет в виду английского реакционного государственного деятеля Пальмерстона (1784–1865) — в течение долгих лет министра иностранных дел и премьер-министра Англии. Он был проводником колонизаторской политики, вдохновителем многих захватнических войн, в том числе Крымской кампании 1853–1856 годов, закончившейся подписанием 30 марта 1856 года Парижского мира.
(обратно)25
Автор называет выдающихся французских писателей и политических деятелей своего времени.
(обратно)26
Квартерон или квартеронка (от латинского слова «кварта» — четверть) — человек по деду или бабушке негритянского происхождения.
(обратно)27
Имеется в виду роман французского писателя Ф. Г. Шатобриана (1768–1848) «Аталла» (1801). Действие его происходит в девственных лесах Америки.
(обратно)28
Дю Пратц Ле Даж (умер в 1775 году) — французский путешественник по Америке, автор «Истории Луизианы» (1758)
(обратно)29
Майк Финк (1770–1822) — герой многочисленных легендарных рассказов. Был лодочником на реках Огайо и Миссисипи, славился как непобедимый драчун, меткий стрелок, хвастун и повеса.
(обратно)30
Пик — мелкая серебряная монета стоимостью в 6,25 цента.
(обратно)31
Рапп Георг (1757–1847) — немецкий эмигрант в США. В 1804 году основал колонию «Гармония», члены которой должны были соблюдать равенство, общность имущества и безбрачие. В 1823 году «Гармония» была продана знаменитому социалисту-утописту Роберту Оуэну. Взамен нее Рапп основал колонию «Экономия».
(обратно)32
Геслер Герман — ландфохт (наместник) швейцарских кантонов Швиц и Ури, посланный императором Альбрехтом, чтобы подчинить эти кантоны австрийскому владычеству. По преданию, был убит в 1307 году национальным швейцарским героем Вильгельмом Теллем.
(обратно)33
Мутис Хосе Селестино (1732–1808) — ботаник, исследователь флоры Южной Америки.
(обратно)34
Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769–1859) — знаменитый немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1799–1804 годах путешествовал по Америке.
(обратно)35
Стикс — в древнегреческой мифологии река подземного царства, через которую перевозчик Харон переправлял на челноке души умерших.
(обратно)36
Лета — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве. Ее вода заставляла души умерших забывать перенесенные на земле страдания.
(обратно)37
Вергилий (70–19 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт.
(обратно)38
Колумб Христофор (1451–1506) — знаменитый генуэзский мореплаватель, открывший в 1492 году Америку.
(обратно)39
Кортес Фернан (1485–1547) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики.
(обратно)40
Терпсихора — в древнегреческой мифологии одна из муз, покровительница танцев.
(обратно)41
Братец Джонатан — прозвище американцев, так же как дядюшка Сэм.
(обратно)42
Джон Буль — шутливое прозвище англичан.
(обратно)43
Букмекер — лицо, собирающее и записывающее денежные заклады от публики на конских состязаниях.
(обратно)44
Аболиционист — участник движения за освобождение негров от рабства.
(обратно)45
Гимен (Гименей) — в древнегреческой мифологии бог брака.
(обратно)46
Флорида была открыта в 1513 году испанским мореплавателем Хуаном Понсе де Леон.
(обратно)47
Роман «Оцеола, вождь семинолов» написан Майн Ридом в 1858 году.
(обратно)48
Покахонтас (ок. 1595–1617 гг.) — дочь индейского вождя Поухаттана. Ее настоящее имя было Матоака. «Покахонтас» по-индейски значит «веселая», «шутливая». В 1614 году она вышла замуж за англичанина Джона Рольфа. Брак имел политическое значение, так как с ним связывалось улучшение отношений между англичанами и индейцами. В 1616 году Покахонтас прибыла в Англию. Семейство Рэндольф из Роанока (штат Виргиния) действительно происходит от потомков Покахонтас.
(обратно)49
Метисы — потомки от смешанных браков между белыми и индейцами.
(обратно)50
Мулаты — потомки от смешанных браков между неграми и белыми.
(обратно)51
Самбо — потомки от смешанных браков между неграми и индейцами или мулатами.
(обратно)52
Квартероны — дети, родившиеся от смешанных браков белых с терцеронами — детьми белых и мулатов.
(обратно)53
Вендетта — обычай кровной мести (итал.).
(обратно)54
Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) — французский естествоиспытатель, автор «Естественной истории» в 36 томах.
(обратно)55
Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769–1859) — знаменитый немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1799–1804 годах путешествовал по Центральной и Южной Америке.
(обратно)56
Льяносы — равнины, покрытые травой, с отдельными группами деревьев и кустарников.
(обратно)57
Война 1818 года — захватническая война Соединенных Штатов с Испанией, предпринятая ради присоединения Флориды, принадлежавшей в то время Испании. Предлогом было то, что индейские племена криков и семинолов давали приют бежавшим с плантаций рабам. В 1818 году американские войска вторглись во Флориду и захватили ее. В 1819 году Испания вынуждена была уступить Соединенным Штатам Флориду за денежную компенсацию.
(обратно)58
Скваттеры — поселенцы, захватившие свободные, необработанные земли при колонизации.
(обратно)59
Лета — в древнегреческой мифологии река забвения в подземном царстве. Ее вода заставляла души умерших забывать перенесенные земные страдания.
(обратно)60
«Старик Хикори» — Эндрью Джексон (1767–1845), президент США в 1829–1837 годах. Проводил некоторые прогрессивные мероприятия в интересах мелких фермеров, ремесленников и рабочих. В то же время был ожесточенным врагом индейцев. «Xикори» — сорт американского орешника, отличающийся особой прочностью.
(обратно)61
Существующее положение (лат.)
(обратно)62
Асиенда — крупное поместье.
(обратно)63
Имеется в виду Э. Джексон (см. примеч. 15).
(обратно)64
Одно из прозвищ Э. Джексона.
(обратно)65
Форт Кинг назван так в честь одного из офицеров американской армии, отличившегося в боях. Таков был обычай при наименовании пограничных фортов. (Примеч. автора.)
(обратно)66
«Война Черного Ястреба» — В 1830 году при президенте Джексоне был издан закон об изгнании индейцев. Многие индейские племена вынуждены были оставить родные места и направиться на Запад. Но американцы-колонисты, решив захватить территорию, которая еще оставалась у племени саков, воспользовались отсутствием индейских воинов, которые ушли на ежегодную охоту, и заняли принадлежавшую индейцам землю. Вождь индейцев Черный Ястреб в 1832 году возглавил борьбу с белыми и одержал ряд побед. Но в конце концов он вынужден был вместе со своим племенем уйти на Запад.
(обратно)67
Адонис — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини любви Афродиты. Погиб на охоте от раны, нанесенной ему кабаном.
(обратно)68
Эндимион — в древнегреческой мифологии юноша, знаменитый своей красотой.
(обратно)69
Кир — могущественный древнеперсидский царь (царствовал в 558–529 годах до н. э.).
(обратно)70
Ксенофонт (ок. 430–355/4 годов до н. э.) — древнегреческий историк. Среди его сочинений имеется трактат «Киропедия» («Воспитание Кира»).
(обратно)71
Резервация — часть Флориды, отведенная для семинолов по договору в форте Моултри в 1823 году. Это большое пространство занимало центральную часть полуострова. (Примеч. автора.)
(обратно)72
Босс — хозяин или предприниматель. Это слово употребляется во всех Южных штатах. Оно происходит от голландского «baas» (Примеч. автора.)
(обратно)73
Сим, Иафет и Хам — по библейской легенде, сыновья патриарха Ноя. По библии, Сим и Иафет являются родоначальниками «белых» народов, а Хам — хамитов, к которым библия причисляет и негров.
(обратно)74
Путаница, недоразумение; буквально: один вместо другого (лат.)
(обратно)75
Эта особенность не врожденная, а развитая искусственно, начиная с колыбели. (Примеч. автора.)
(обратно)76
Завоеватель Перу Франсиско Писарро (1471–1541) — знаменитый испанский завоеватель, подчинивший Перу испанской короне.
(обратно)77
Амбразура — отверстие для стрельбы в оборонительных сооружениях: крепостных стенах, башнях и казематах.
(обратно)78
Гласис — насыпь впереди наружного рва укрепления. Возводилась для маскировки и для облегчения обстрела местности, лежащей впереди укрепления.
(обратно)79
Здесь имеется в виду захват Флориды Соединенными Штатами у Испании (см. примеч. 12).
(обратно)80
Скво — вошедшее в английский язык название индейских женщин.
(обратно)81
Маркитанты — продавцы съестных припасов и предметов солдатского обихода, сопровождавшие армию в походе.
(обратно)82
Вампум — мелкие бусы, вытачивавшиеся из раковин. Употреблялись в качестве украшения, а также служили вместо монет в торговых сношениях. Из вампума, переплетая его поперек нитями, делали пояса и перевязи.
(обратно)83
Соответствует историческим фактам (Примеч автора.)
(обратно)84
О времена! О нравы! (лат.)
(обратно)85
Из корней китайского шиповника семинолы приготовляют «конте» — нечто вроде желе, вкусное и питательное блюдо. (Примеч. автора.)
(обратно)86
Американская революция — война за независимость английских колоний в Северной Америке в 1775–1783 годах, закончившаяся подписанием 3 сентября 1783 года мирного договора, по которому Англия признала независимость Соединенных Штатов. Во время войны за независимость часть индейцев соблюдала нейтралитет, часть выступала на стороне восставших, но большинство сражались на стороне англичан.
(обратно)87
Одиссей (Улисс) — герой древнегреческого эпоса, мифический царь острова Итака, участник похода греков на Трою. В «Одиссее» Гомера описаны приключения Одиссея на его пути на родину после Троянской войны. Одиссей прославился своей отвагой, умом и особенно хитростью.
(обратно)88
Ребенок разделяет судьбу своей матери. Этот обычай существует не только у семинолов, но вообще у всех американских индейцев. (Примеч. автора.)
(обратно)89
Семинолы принадлежали сначала к огромному племени мускоги (крики). Отделившись от них по неизвестным причинам, семинолы ушли на юг, во Флориду, и получили от своих прежних родичей имя, которое они носят сейчас и которое на их языке означает «беглец». (Примеч. автора.)
(обратно)90
Майн Рид имеете виду Англию, где 14 августа 1834 года был принят закон о работных (рабочих) домах, в которых с призреваемыми безработными обращались как с каторжанами.
(обратно)91
Таллахасси — город во Флориде, столица штата. Первое поселение белых на этом месте было основано в 1818 году.
(обратно)92
Тампа — порт на западном побережье Флориды.
(обратно)93
Буквально: безумная женщина; от Hajo — безумный и Ewa, или Awah, — женщина. Филологи обратили внимание на сходство этого слова племени микосоков с еврейским именем, означающим «мать человечества». (Примеч. автора.)
(обратно)94
Восклицание удивления, обычно произносящееся протяжно. (Примеч. автора.)
(обратно)95
Буквально: «Да, да, да!» (Примеч. автора.)
(обратно)96
Читта-мико — «король змей»; так семинолы называют гремучую змею, самую удивительную змею в их стране. Они испытывают суеверный страх перед этим пресмыкающимся. (Примеч. автора.)
(обратно)97
Халвук — плохо.
(обратно)98
Хинклас — хорошо.
(обратно)99
Карахо — испанское ругательство.
(обратно)100
Окола-читта — зеленая змея.
(обратно)101
Нетле-хассе — «ночное солнце», то есть луна. (Примеч. автора.)
(обратно)102
Правительство Соединенных Штатов впоследствии неодобрительно отнеслось к этому необдуманному низложению вождей. Однако не подлежит сомнению, что Томпсон действовал в соответствии с тайными указаниями президента. (Примеч. автора.)
(обратно)103
Ви-ва — источник, пруд или вода. (Примеч. автора.)
(обратно)104
Киприда — в древнегреческой мифологии богиня любви Афродита. Слово «Киприда» озвачает «родившаяся на Кипре». Остров Кипр был центром культа Афродиты.
(обратно)105
Святой Патрик — легендарный покровитель Ирландии.
(обратно)106
Аполлон Бельведерский — знаменитая статуя бога Аполлона, изваянная древнегреческим скульптором Леохаром.
(обратно)107
Феб — одно из наименований бога Аполлона.
(обратно)108
Солон (около 638–559 гг. до н. э.) — политический деятель древних Афин, крупный законодатель.
(обратно)109
Сократ (469–399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.
(обратно)110
Сноб — прозвище людей, которые раболепствуют перед высшими, презирают низших и слепо преклоняются перед всем модным.
(обратно)111
В Соединенных Штатах Америки отряды добровольцев формируются самостоятельно. Когда состав отряда укомплектован и офицеры избраны, правительство должно дать согласие принять отряд на военную службу. Тогда офицеры и солдаты приносят присягу служить в течение определенного времени на точно таких же условиях, как и регулярные войска.
(обратно)112
Впервые револьвером Кольта был вооружен полк техасских стрелков. Первым испытанием кольта в военных действиях явилась стычка с партизанским отрядом (герилья) падре Харанта. 125 герильясов были выведены из строя этим эффективным оружием примерно в течение 15 минут. (Примеч. автора.)
(обратно)113
Лошади впервые были привезены во Флориду испанцами; отсюда возникло название этой породы. (Примеч. автора.)
(обратно)114
Согласно библейскому преданию, богатырь Самсон, взятый в плен филистимлянами, разрушил колонны в храме, где собрались враги, и погиб вместе с ними под обломками здания.
(обратно)115
Бушель — мера объема, равная 36,35 литра.
(обратно)116
В армии Соединенных Штатов эти две офицерские должности совершенно различны. Комиссару поручено наблюдение за моральным состоянием войск, а на обязанности квартирмейстера лежит забота о жилище, обмундировании, оружии и снаряжении. (Примеч. автора.)
(обратно)117
Ятикаклукко — красноречивый оратор. Здесь имеется в виду правительственный агент.
(обратно)118
Карл I — английский король, правивший в 1625–1649 годах. Проводил реакционную феодально-абсолютистскую политику, вызвавшую недовольство буржуазии и протест широких масс населения. Во время английской буржуазной революции XVII века был свергнут и казнен 30 января 1649 года. Калигула Гай Цезарь, римский император в 37–41 гг. н. э. — сумасбродный деспот, жестокий тиран. Был убит заговорщиками. Тарквиний — имя двух легендарных царей Древнего Рима. Майн Рид, вероятно, имеет в виду Тарквиния Гордого — последнего царя Рима (534–509 гг. до н. э.), который после тиранического правления был изгнан, а власть царей сменилась республикой.
(обратно)119
«Дядюшка Сэм» — ироническое прозвище США.
(обратно)120
Река Амазура у семинолов называется Уитлакутчи. (Примеч. автора.)
(обратно)121
Конкистадоры — испанские завоеватели Центральной и Южной Америки в XVI столетии.
(обратно)122
Вся политическая и военная карьера Скотта была рядом сплошных ошибок. Кампания, проведенная им в Мексике, не выдерживает никакой критики. Многочисленные промахи, которые он тогда совершил, привели бы к самым роковым последствиям, если бы они не были в какой-то мере исправлены офицерами, находящимися у него в подчинении, а также неукротимой доблестью солдат. Битва при Молина дель Рей и перемирие при Санта-Анне были военными ошибками, недостойными даже воспитанника, только что выпущенного из училища. Я беру на себя смелость утверждать, что каждый бой был сражением двух неорганизованных масс, причем результат зависел от чистой случайности, или, скорее, от отчаянной храбрости войск, с одной стороны, и позорной трусости — с другой. (Примеч. автора.)
(обратно)123
Огромные тучи шелкопряда, и особенно его личинки, развиваются под корой сосен, разъедают ствол и губят дерево в течение одного года. Во Флориде встречаются огромные пространства, покрытые мертвыми деревьями, погубленными этим насекомым. (Примеч. автора.)
(обратно)124
Тантал — в древнегреческой мифологии преступный царь, осужденный богами на пытку: стоя по горло в воде, он не мог напиться, так как вода уходила от его губ.
(обратно)125
Мароны — беглые рабы, сбегавшие с плантаций и жившие в лесах, горах и болотах. Маронов было много на Кубе, Ямайке, Гаити, в Бразилии и в странах Центральной Америки. Они были активными участниками восстаний рабов.
(обратно)126
Плутон — в древнегреческой мифологии бог подземного мира.
(обратно)127
Прозерпина — у древних римлян богиня подземного мира, супруга Плутона, символ растительных сил.
(обратно)128
Шлюп, шхуна, бриг — различные виды парусных судов.
(обратно)129
Ньюфаундленд, или водолаз, — одна из самых крупных пород собак; они прекрасно плавают и любят воду; названы по имени острова Ньюфаундленд в Северной Америке.
(обратно)130
Дюйм — мера длины, равная 2,5 сантиметра.
(обратно)131
Фут — мера длины, равная 30,4 сантиметра.
(обратно)132
Кабельтов — морская мера длины, равная 185,2 метра.
(обратно)133
Ярд — мера длины, равная 91,4 сантиметра.
(обратно)134
Серпентайн — небольшая искусственная речка в лондонском Гайд-парке.
(обратно)135
Английская сухопутная миля — мера длины, равная 1609,3 метра; здесь: морская миля равна 1852 метрам.
(обратно)136
Галлон — мера жидкости, равная 4,5 литра.
(обратно)137
Акр — мера земельной площади, равная 0,4 гектара.
(обратно)138
Морской еж — животное из отряда иглокожих; живет на песчаном морском дне, у берегов, под камнями.
(обратно)139
В старину на народных праздниках ставились столбы, вымазанные салом. Тому, кто первый добирался до вершины столба, выдавалась награда.
(обратно)140
Остров Мэн находится в двух часах езды от побережья Англии. Никаких чернокожих и удавов там нет и быть не может.
(обратно)141
На гербе острова Мэн изображены три ноги, соединенные вместе.
(обратно)142
Травить канаты — ослаблять, отпускать понемногу канаты.
(обратно)143
Трап — лестница по борту судна.
(обратно)144
Тали — система блоков для подъема тяжестей.
(обратно)145
Кастор — толстый, плотный шерстяной материал, из которого делают дорогие шляпы.
(обратно)146
Шканцы — часть палубы между грот-мачтой и бизань-мачтой, то есть между второй и третьей мачтами.
(обратно)147
Фальшборт — часть борта, выступающая над палубой и образующая перила.
(обратно)148
Шиллинг — английская монета; 20 шиллингов составляют 1 фунт стерлингов.
(обратно)149
Пенни (множественное число «пенсы») — мелкая английская монета; 12 пенсов составляют 1 шиллинг.
(обратно)150
Ванты — снасти, которые крепят мачту к бортам.
(обратно)151
Кок — корабельный повар.
(обратно)152
Брашпиль — горизонтальный ворот, употребляемый для подъема якоря.
(обратно)153
Кентербери — городок в Англии, славящийся своим старинным собором.
(обратно)154
Клюз — отверстие в борту судна для якорной цепи.
(обратно)155
Каботажные суда — суда, следующие из одного порта в другой вдоль берега; обычно бывают небольших размеров.
(обратно)156
Шпангоуты — ребра судна: изогнутые балки, идущие в обе стороны от киля; они служат основанием для накладки бортов.
(обратно)157
Бимс — поперечная балка между бортами.
(обратно)158
Тантал — в древнегреческих преданиях преступный царь, брошенный богами в подземное царство; стоя по горло в воде, он не мог напиться и вечно мучился от жажды.
(обратно)159
Бренди — английская водка.
(обратно)160
Кварта — мера жидкости, равная 1,13 литра.
(обратно)161
«Quod erat faciendum» (лат.) — «Что и требовалось сделать». В старинных учебниках математики обычная фраза, стоявшая в конце решения задачи.
(обратно)162
Старинные часы делались с крышкой, но без стекла. Таким образом, в темноте легко можно было нащупать стрелки пальцами.
(обратно)163
По старинному поверью, хамелеоны питаются воздухом, на самом деле они питаются насекомыми.
(обратно)164
Так называемая «норвежская крыса» на самом деле происходит не из Норвегии, а из Юго-Восточной Азии.
(обратно)165
Английский фунт равен 453,5 грамма.
(обратно)166
Эксцельсиор (лат.) — все выше.
(обратно)167
Мальвазия — сорт ликерного вина. Герцог Кларенс, брат английского короля Эдуарда IV, по преданию, был утоплен в бочке с мальвазией. На самом деле он был тайно казнен в 1478 году.
(обратно)168
Штирборт — правая сторона корабля, правый борт.
(обратно)169
«Обрасопить реи» (морской термин) — установить реи под прямым углом в отношении киля и мачты; в переносном смысле — «уладить дела», «привести дела в порядок».
(обратно)170
Линней Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, создатель основы научной классификации животного и растительного мира.
(обратно)171
Геккеровская шляпа — Геккер Фридрих (1811–1881) — немецкий буржуазный демократ, республиканец. Один из руководителей восстания в Бадене (1848).
(обратно)172
Блюхеровские сапоги — Блюхер Гебхард Лебрехт (1742–1819) — прусский фельдмаршал времен войн с Наполеоном.
(обратно)173
Немврод — по библейской легенде, основатель Вавилонского царства и знаменитый охотник.
(обратно)174
Саиб — господин, хозяин.
(обратно)175
Небесная империя — так в старину называли Китай.
(обратно)176
Кварта — мера сыпучих и жидких тел разной величины в некоторых странах, в Англии равняется 1, 14 литра.
(обратно)177
Брама, Вишну и Шива — три основных божества в браманистской (индусской) религии.
(обратно)178
Аргус — в древнегреческой мифологии стоокий великан, который охранял возлюбленную Зевса — Ио, превращенную в белую корову.
(обратно)179
Гекатомба — у древних греков — жертвоприношение богам из ста быков; позднее — всякое большое общественное жертвоприношение.
(обратно)180
Ройл и Гукер — английские ботаники, проводившие в первой половине XIX века ботанические исследования в Северной Индии.
(обратно)181
Колесница Джаггернаута — Джаггернаут (санскритск.) — одно из воплощений индусского бога Вишну; его статуя находится в Пури. Ежегодно эту статую вывозят из храма на колеснице, в которую впрягаются богомольцы.
(обратно)182
Троица браманистских богов — Брама, Вишну и Шива — три основных божества в браманистской (индусской) религии.
(обратно)183
Блонден — известный в свое время канатоходец, переходивший по канату Ниагару и другие реки.
(обратно)184
Леотар — французский гимнаст и цирковой артист, прославившийся в конце 50-х годов прошлого века воздушными полетами с одной трапеции на другую.
(обратно)185
«Птица Юноны» — Юнона-в древнеримской мифологии одно из верховных божеств, супруга Юпитера, покровительница женщин; она изображалась в скульптуре с павлином.
(обратно)186
«Птица Юпитера» — Юпитер-в древнеримской мифологии верховное божество; он изображался с орлом, который был его вестником.
(обратно)187
Меркурий — вестник олимпийских богов.
(обратно)188
Имеется в виду Рим.
(обратно)189
Симеон Столпник — по преданию, отшельник, проживший двадцать шесть лет на вершине колонны.
(обратно)190
У индусов река Ганг считается священной рекой.
(обратно)191
Морской коршун — альбатрос.
(обратно)192
Гандшпуг — род багра.
(обратно)193
Бугшприт — передняя мачта, лежащая горизонтально на носу судна.
(обратно)194
Каноэ — индейский челнок, у которого нет уключин, как в обычной лодке.
(обратно)195
Морфей — в древнегреческой мифологии бог сновидений, сын Сна и Ночи.
(обратно)196
Тантал — царь Лидии, согласно мифу, был осужден богами за убийство сына на вечный голод и жажду.
(обратно)197
Стадия — 1/8 английской мили, около 185 метров.
(обратно)198
Сезень — плетеная веревка.
(обратно)199
Кацики (касики) — индейские князьки (вожди) племен в эпоху открытия Америки.
(обратно)200
«Собачья вахта» — полувахта от 12 часов ночи до 4 часов утра.
(обратно)201
Кок — повар.
(обратно)202
Камбуз — кухня на корабле.
(обратно)203
Стюард — буфетчик.
(обратно)204
Катамараном называют в Индии особый вид плота. Этим же именем называются небольшие суда, состоящие из двух соединенных между собой корпусов, с парусом посередине.
(обратно)205
Шпигат — отверстие, куда стекает вода с палубы.
(обратно)206
Лига (морск.) — старая мера длины, равная 5,56 километра.
(обратно)207
Сэр Крессуэлл Крессуэлл — праведный судья из старинных английских легенд.
(обратно)208
Летучий Голландец — легендарный образ морского капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю и никогда не приставать к берегу.
(обратно)209
Степс (морск.) — гнездо для установки мачты.
(обратно)210
Крупье — банкомет в игорном доме.
(обратно)211
Изумрудный остров — поэтическое название Ирландии.
(обратно)212
Нактоуз (морск.) — шкафик для компаса.
(обратно)213
На английском языке слово «бур» (boor) означает «мужик», «деревенщина».
(обратно)214
Фельдкорнет — начальник бурского конного ополчения, созывавшегося в случае военной опасности или для набегов на негритянские территории.
(обратно)215
Ли — (англ. Leigh) — приморский город в северо-западной Англии.
(обратно)216
Бушель — мера сыпучих тел; содержит около 36,3 литра.
(обратно)217
Диссельбом (гол.) — дышло.
(обратно)218
Тректоу (гол.) — гуж.
(обратно)219
Фоорслаг (гол.) — бич.
(обратно)220
Тантал — в древнегреческих преданиях преступный сын Зевса, брошенный богами в подземное царство. Он стоял по горло в воде, но вода убегала, когда он хотел напиться, и он не мог дотянуться до плодов, висевших над его головой.
(обратно)221
Бедламом назывался известный дом для умалишенных в Лондоне.
(обратно)222
Квагга и дау (или бурчеллиева лошадь) — дикие животные из семейства лошадиных, близкие к зебре.
(обратно)223
Дальше некуда (лат.).
(обратно)224
Английский фунт — около 454 граммов.
(обратно)225
По общепринятой классификации к семейству лошадиных причисляют несколько ископаемых родов и один ныне существующий род — лошадь; этот род разделяют на два подрода: собственно лошадей и ослов.
(обратно)226
Нимврод — легендарный библейский царь и охотник.
(обратно)227
Гелиогабал — римский император с июня 218 года по март 222 года до н. э.
(обратно)228
Керн — каменная могильная насыпь у северных народов.
(обратно)229
Герпетология — наука о пресмыкающихся.
(обратно)230
Ватерлоо — селение в Бельгии, под Брюсселем; место исторического сражения (18 июня 1815 года), в котором Наполеон потерпел поражение от англо-голландских и прусских войск.
(обратно)231
Одюбон Джон Джеймс (1780–1851) — американский ученый — орнитолог.
(обратно)232
Траппер — охотник на пушного зверя в Америке, пользующийся чаще всего западнями.
(обратно)233
Скваттер — человек, поселившийся на государственной земле с целью ее приобретения.
(обратно)234
Коб — невысокая, коренастая лошадь.
(обратно)235
Карл Линней (1707–1778) — выдающийся шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира.
(обратно)236
Шпангоуты — балки, служащие основанием для накладки бортов корабля.
(обратно)237
Нагели — стержни для скрепления деревянных частей корабля.
(обратно)238
Гаучо — южноамериканские ковбои, смешанного испанского и индейского происхождения; ловкие наездники. В начале XIX века принимали активное участие в борьбе за независимость.
(обратно)239
Тантал (древнегреч. миф) — сын Зевса; за преступления против богов обречен был ими на вечные муки; мучаясь от голода и жажды, он должен был стоять по горло в воде под деревом с плодами, не будучи в состоянии достать ни воды, ни плодов.
(обратно)240
Галилео Галилей (1564–1642) — великий итальянский физик и астроном, один из основателей точного естествознания.
(обратно)241
Мюнхгаузен — персонаж ряда произведений немецких авторов; имя собственное, ставшее нарицательным: хвастун и враль.
(обратно)


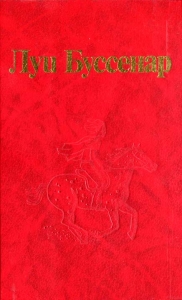


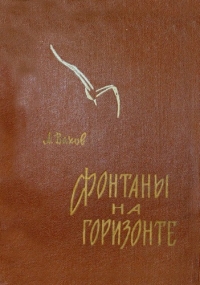
Комментарии к книге «Избранные произведения. Том I», Майн Рид
Всего 0 комментариев