Роберт Пёрсиг Дзэн и искусство ухода за мотоциклом
© Robert M. Pirsig, 1974, 1984
© Перевод, послесловие. М. В. Немцов, 2015
© Издание на русском языке АSТ Publishers, 2015
* * *
Моей семье
И что хорошо, Федр,
И что не хорошо, –
Просить ли, чтобы нам это объясняли?
Примечание автора
Особую благодарность я должен выразить Стюарту Коэну, который предоставил мне свой кабинет, чтобы я мог писать, и миссис Эбигейл Кеньон за критическую помощь с первыми главами.
То, что следует ниже, основано на подлинных событиях. Хотя многое пришлось изменить риторики ради, в сущности, к этой истории следует относиться как к факту. Тем не менее книгу никоим образом не следует включать в гигантский корпус фактической информации, касающейся практики ортодоксального дзэн-буддизма. Что же до мотоциклов, тут все тоже не слишком документально.
Часть I
1
Не отрывая ладони от левой рукоятки, на часах вижу, что уже половина девятого утра. Воздух даже при шестидесяти милях в час – теплый и душный. Если уже в полдевятого жарко и сыро, что же будет днем?
Ветер несет едкие запахи придорожных болот. Мы в той части Центральных равнин, где тысячи топей, где хороша утиная охота. Едем на северо-запад от Миннеаполиса к Дакотам. Эта дорога – старая двухполосная бетонка, по которой почти никто не ездит с тех пор, как несколько лет назад параллельно ей проложили новую четырехполосную трассу. Когда проезжаем очередное болото, воздух неожиданно холодеет. Когда же болото остается позади, теплеет снова.
Хорошо, что опять заехал сюда. Это некие далекие свояси – совершенно ничем не знаменитые, потому к себе и манят. На таких старых дорогах исчезают все напряги. Трясемся по избитой бетонке среди рогоза, лужаек, опять рогоза и болотной травы. Тут и там мелькает открытая вода, и, если вглядеться, на краю рогозовых зарослей различаешь диких уток. И черепах… Вон красноплечий трупиал.
Шлепаю Криса по коленке.
– Че? – вопит он.
– Трупиал!
Что-то отвечает, не слышу.
– Че? – ору я, не оборачиваясь.
Хватает меня за затылок шлема и вопит:
– Я их тучу видел, па!
– А-а! – ору я в ответ. Потом сам себе киваю. В одиннадцать лет красноплечие трупиалы не особенно впечатляют.
Для этого надо стать постарше. У меня тут примешиваются воспоминания, которых нет у него. Давние холодные утра, когда болотная трава бурела, а метелки рогоза мотались на северо-западном ветру. От жижи, взбаламученной высокими охотничьими сапогами, поднималась едкая вонь: мы готовились к восходу солнца и открытию утиного сезона. Или зимы, когда топи замерзали и мертвели, и можно было часами ходить по льду и снегу среди мертвых камышей и ничего не видеть, кроме серого неба, всякой дохлятины и мороза. Никаких трупиалов тогда не было. Но сейчас, в июле, они вернулись, и все очень даже себе живет, каждый квадратный фут этих топей гудит и щелкает, зудит и трещит, – целое сообщество миллионов живых тварей, у которых вся жизнь проходит в каком-то блаженном континууме.
Если отпуск проводишь на мотоцикле, видишь все совсем иначе. В автомобиле ты всегда в замкнутом купе, а поскольку привык, даже не сознаешь, что окно машины – тот же телевизор. Ты пассивный наблюдатель, и все скучно движется мимо в рамке.
На мотоцикле же такой рамки нет. Ты полностью в контакте со всем вокруг. Ты – в самом пейзаже, а не просто созерцаешь его, и собственное присутствие тебя ошеломляет. Бетон, что проносится в пяти дюймах под ногой, реален, по нему ходишь, вот он, мелькает так, что не разглядишь толком, однако можно опустить ногу и шкрябнуть по нему в любой момент. Все это вместе – единое переживание, которое все время непосредственно осознается.
Крис и я едем в Монтану с друзьями. Они – впереди, быть может, направляются еще дальше. Планы расплывчаты намеренно: цель – больше просто путешествовать, чем куда-то приезжать. Все в отпуске. Предпочитаем второстепенные дороги, лучше всего – мощеные проселки, только потом – однополосные шоссе. Скоростные трассы хуже всего. Конечно, хочется доехать хорошо и быстро, но главное сейчас – «хорошо», а не «быстро»: с таким смещением ударения меняется весь подход. Извилистые дороги среди холмов длинны только при счислении на секунды, а на мотоцикле гораздо приятнее: вписываешься в плавный поворот сам, а не болтаешься туда-сюда в каком-нибудь ящике. Приятнее всего дороги с небольшим движением; они еще и безопаснее. Лучше, если нет автостоянок и рекламных щитов, если рощи, луга, сады и полянки – чуть ли не у самой обочины, там проезжаешь мимо, и тебе машут дети, там люди с крылец вытягивают шеи рассмотреть, кто проехал, там останавливаешься узнать дорогу или еще чего, а ответ грозит затянуться так, что мало не покажется, и люди интересуются, откуда ты и долго ли уже в пути.
Моя жена, я и наши друзья пристрастились к таким дорогам несколько лет назад. Время от времени сворачивали на них для разнообразия или чтобы сократить путь до другого шоссе, и всякий раз пейзаж оказывался просто грандиозным, и с очередного проселка все съезжали успокоенные и радостные. Много раз так бывало, пока не стало окончательно ясно, хотя было очевидно с самого начала: эти дороги – вовсе не то что главные. И весь ритм жизни здесь другой, и те, кто вдоль них живет. Эти люди никуда не едут. Они не слишком заняты и потому любезны. О «здешности» и «сейчасности» вещей они знают все. Про такое напрочь забыли другие – те, кто переехал в города много лет назад, да их потерянные отпрыски. Это просто открыло нам глаза.
Я не понимал, отчего так долго не доходило. Видели, однако не замечали. Или скорее были натасканы не замечать. Может, нас обдурили, и все стали считать, будто подлинная жизнь происходит в метрополии, а остальное – просто скучное захолустье. Загадка прямо. Истина стучится в дверь, а ты говоришь: «Пошла прочь, я ищу истину». И она уходит. Непонятно.
Конечно, едва дорубило, ничто уже не могло согнать нас с этих дорог: по выходным, по вечерам, в отпусках. Стали подлинными мотоциклетными асами второстепенных дорог и поняли, что в пути, оказывается, можно кое-чему научиться.
Научились, к примеру, отыскивать годную дорогу на карте. Если линия петляет – хорошо. Холмы, значит. Если это единственная дорога из маленького города в большой – плохо. Лучшие дороги всегда соединяют какие-нибудь захолустья, а добраться побыстрее всегда можно другим путем. Если выезжаешь из большого города, скажем, на северо-восток, никогда не следует долго ехать прямо. Сразу отклоняйся к северу, потом к востоку, опять к северу – и скоро окажешься на второстепенной дороге, по которой ездят только местные жители.
Главное тут – не заблудиться. Поскольку дорогу знают только местные, которым и так известны все приметы, никто не жалуется, что никак не обозначены, к примеру, перекрестки. Это сплошь и рядом. А если обозначены – как правило, малюсенькой стрелкой, что ненавязчиво прячется в кустах. И все. Те, кто ставит стрелки на проселочных дорогах, редко повторяют дважды. Пропустил знак – твоя проблема, не их. Мало того, начинаешь понимать, что с грунтовками на картах автодорог зачастую все неточно. И твоя «грунтовая дорога» время от времени просто заводит сначала в две колеи, затем – в одну, а потом – на пастбище и там пропадает; или же приезжаешь на задний двор к какому-нибудь фермеру.
Поэтому перемещаемся в основном согласно мысленным прикидкам и дедуктивным выводам из тех ориентиров, которые удается распознать. У меня в кармане всегда есть компас – на случай облачных дней, когда не определишь направление по солнцу. На бензобаке в рамке закреплена карта, по которой можно подсчитать мили от последней развилки и узнать, чего искать дальше. С такими орудиями и без напрягов от мысли «куда-то непременно попасть» все получается просто отлично, и Америка почти в полном твоем распоряжении.
На День труда и День памяти[1] проезжаем по таким дорогам милю за милей, не встречая ни одной машины, потом пересекаем федеральную трассу и смотрим на автомобили – они бампер к бамперу выстроились до горизонта. Внутри – угрюмые физиономии. На задних сиденьях плачут дети. Все-таки хочется им что-то объяснить, но они хмурятся и вроде куда-то спешат, поэтому никак…
Я видел эти болота тысячу раз и всегда – по-новому. Неверно называть их «блаженными». С таким же успехом можно звать их жесткими и бесчувственными – они таковы тоже, но их подлинность опрокидывает любые скоропалительные концепции. Вот! Огромную стаю красноплечих трупиалов вспугнули наши моторы, птицы поднимаются из зарослей рогоза. Я еще раз хлопаю Криса по коленке… и вспоминаю, что он их уже видел.
– Че? – снова вопит он.
– Ничего.
– Чего?
– Проверяю: ты не потерялся? – ору я, и разговор прекращается.
Если не особенно любишь орать, содержательных бесед на мчащемся мотоцикле не получится. Вместо разговоров все время примечаешь окружающее и медитируешь на него. Виды и звуки, настроение погоды и то, что вспомнится, машина и местность вокруг – вот размышления на долгом досуге, без спешки, без малейшей мысли, что впустую тратишь время.
Поэтому давай так: раз время есть, поговорим о том, что взбредет на ум. Мы ведь почти всегда так спешим, что случая поговорить просто не выпадает. Сплошь бесконечная суета, изо дня в день, и много лет спустя только диву даешься: куда же ушло все это время, как жаль, что оно ушло. А теперь времени навалом, никуда не денется – вот я бы и хотел подробнее поговорить о важном.
Взбредает же мне на ум нечто вроде шатокуа[2] – только так я его и могу, пожалуй, назвать: вроде бродячих палаточных шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке – по этой Америке, в которой мы сейчас. Такие старомодные популярные беседы – они обучают и развлекают, развивают ум и несут культуру, просвещают уши и мозг слушателей. Более торопливые радио, кино и телевидение вытеснили шатокуа, но мне кажется, что эта перемена – не вполне к лучшему. Возможно, с нею поток национального сознания ускорился и расширился, но, по-моему, он все-таки измельчал. Старые русла уже не могут удержать его, а в поиске новых он несет своим берегам лишь больше хаоса и разрушений. В этом шатокуа мне бы не хотелось прокладывать новые русла сознания – просто глубже раскопать старые, забитые грязным илом застоявшихся мыслей и слишком часто повторяемых банальностей. «Что нового?» – интересный вопрос, он расширяет сознание, но если гоняться только за ним, он приведет лишь к нескончаемому параду пустяков и модных примочек, к илу завтрашнего дня. А мне бы хотелось интересоваться другим: «Что лучшего?» – этот вопрос не полосует, а вспарывает, и ответы на него смывают ил по течению. В человеческой истории есть эпохи, когда русла мысли прорезались слишком глубоко, и ничего поделать с ними было нельзя, не происходило ничего нового, а «лучшее» диктовалось догмой. Но сейчас все иначе. Поток нашего общего сознания теперь вроде как стирает свои берега, теряет основное направление, топит низины, разъединяет возвышенности – и все это без особой нужды, лишь бы зряшно дать выход собственному внутреннему импульсу. Похоже, надо углублять русло.
Впереди наши спутники – Джон Сазерленд и его жена Сильвия – съехали на стоянку для пикников. Пора бы размяться. Я подкатываю к ним, Сильвия снимает шлем и встряхивает волосами, а Джон ставит свой «BMW» на подножку. Все молчат. Вместе проехали уже столько, что с первого взгляда понимаем, каково остальным. Вот и сейчас – спокойны и просто осматриваемся.
На скамейках в такой час еще никого нет. Вся стоянка наша. Джон шагает по траве к чугунной колонке и качает питьевую воду. Крис убредает меж деревьев к ручейку за травянистым бугорком. А я гляжу по сторонам.
Немного погодя Сильвия садится на деревянную скамью и разминает ноги – поочередно задирает их, пригнув голову. От долгих пауз она унывает, и я ей что-то говорю. Поднимает взгляд на меня, потом опять смотрит в землю.
– Люди в машинах на трассе, – говорит она. – Первый был такой грустный. За ним еще один точно такой же, потом еще один, и еще – все одинаковы.
– Они просто ехали на работу.
Сильвия все отлично понимает, но ее замечание резонно.
– Знаешь, работа? – повторяю я. – Понедельник, утро. Полусонные. Кто в понедельник утром ездит на работу и скалится во весь рот?
– Но они же все такие потерянные, – говорит она. – Будто умерли. Как похоронная процессия. – Она опускает ноги на землю и больше не разминается.
Понимаю, о чем она, однако это логический тупик. Работаешь, чтобы жить, – этим они и занимаются.
– Я болота разглядывал, – говорю я.
Не сразу она поднимает голову и спрашивает:
– Что видел?
– Целую стаю красноплечих трупиалов. Когда мы проезжали, они вдруг разом взлетели.
– А-а.
– Хорошо было снова их увидеть. Они связывают все друг с другом – мысли и прочее. Понимаешь?
Задумывается, а потом улыбается, и за нею – темно-зеленые деревья. Сильвия знает тот особый язык, который не имеет ничего общего с произносимым. Дочка.
– Да, – говорит она. – Красивые.
– Последи за ними.
– Ладно.
Появляется Джон и проверяет багаж на мотоцикле. Подтягивает, потом открывает подседельную сумку и давай в ней копаться. Выкладывает что-то на землю.
– Если понадобится веревка, не стесняйся, – говорит он. – Господи, да у меня ее раз в пять больше, чем нужно.
– Пока не надо, – отвечаю я.
– Спички? – продолжает он. – Лосьон от загара, расчески, шнурки… шнурки? Зачем нам шнурки?
– Давай не будем, – говорит Сильвия. Они вперяются друг в друга каменными взглядами, потом оба поворачиваются ко мне.
– Шнурки могут порваться в любой момент, – серьезно говорю я. Они улыбаются – но не друг другу.
Вскоре возвращается Крис, можно ехать дальше. Пока он готовится и взбирается на мотоцикл, друзья выезжают, и Сильвия машет рукой. Снова на шоссе, и я смотрю, как они удаляются.
Много месяцев назад эта парочка вдохновила меня на шатокуа, что сейчас взбрел мне на ум; вероятно – хотя точно я не знаю, – он как-то соотносится с некой подводной дисгармонией между ними.
Надо полагать, дисгармония в любом браке – штука обычная, но в их случае это просто трагедия. Мне так, во всяком случае, кажется.
Здесь не столкновение личностей; между ними нечто иное, и никто в этом не виноват, но и решения ни у кого нет. У меня, видимо, его тоже нет – так, мысли разные.
Мысли начались с незначительной вроде бы разницы в наших с Джоном мнениях по совершенно пустячному поводу: как ухаживать за мотоциклом. Для меня естественно и нормально пользоваться инструментами, читать инструкции, которые прилагаются к каждой машине, налаживать и регулировать ее самому. Джон возражает. По нему выходит, что об этом должен заботиться компетентный механик, и тогда все будет правильно. Обе точки зрения совершенно нормальны, и это никогда бы нас так не развело, если б мы столько не путешествовали вместе и не сидели бы в придорожных кабаках за пивом, болтая о том, что взбредает на ум. А на ум взбредает обычно то, о чем думал последние полчаса с тех пор, как разговаривали в последний раз. Если на уме дорога, погода, люди, старые добрые времена или то, о чем пишут в газетах, беседа, вполне естественно, строится приятно. Но едва речь зайдет о работе машины – конец всякому строительству. Разговор тормозит. Виснет молчание, общая непрерывность ломается. Сидят, например, два старых друга, католик и протестант, пьют пиво, жизни радуются – и тут ни с того ни с сего в беседе всплывает контроль рождаемости. Все просто каменеют.
Если такое случается – это как нащупать зуб с выпавшей пломбой. Его же невозможно оставить в покое. Его надо щупать, тыкать вокруг, пихать его языком, думать о нем – и не потому, что тебе это нравится, а потому, что он нейдет из головы, хоть тресни. И чем больше я щупаю и пихаю тему ухода за мотоциклом, тем больше Джон раздражается, а от этого, само собой, я щупаю и пихаю еще пуще. Не подразнить его, а потому, что это его раздражение – вроде симптома: есть что-то глубже, под самой поверхностью, оно сразу не очевидно.
Когда толкуешь о контроле рождаемости, беседа ведь каменеет не от того, больше или меньше следует рожать детей. Это лишь поверхность. А вот под ней – конфликт убеждений: вера в эмпирическое планирование общества против веры в авторитет Бога, как учит католическая церковь. Хоть до потери пульса доказывай практичность заранее рассчитанной деторождаемости – это ни к чему не приведет, поскольку твой оппонент попросту не приемлет допущения, что все общественно практичное хорошо само по себе. Благо для него имеет иные источники, которые он ценит так же – если не выше, – как и общественную пользу.
Вот и с Джоном то же самое. Я могу проповедовать практическую ценность и достоинства ухода за мотоциклом до хрипоты – с него все как с гуся вода. После первой же пары фраз взгляд у него совершенно стекленеет, и Джон меняет тему или просто отворачивается. Не хочет об этом слышать.
Сильвия тут совершенно на его стороне. Вообще-то она гораздо выразительней.
– Это просто все… другое, – говорит она, если на нее нападает задумчивость. А если нет, отмахивается: – Как мусор.
Они хотят не понимать. Хотят не слышать. И чем упорнее я пытаюсь осознать, почему же механика так нравится мне, а им так досаждает, тем неуловимее это нечто. И выясняется, что в конечном итоге причина этой поначалу небольшой разницы мнений залегает глубже, намного глубже.
Их неспособность к механике исключается сразу. Оба они вполне сообразительны. Оба научатся отлаживать мотоцикл за полтора часа, если приложат ум и энергию, а сбереженными деньгами, нервами и временем за эти усилия отплатится стократно. Они это знают. А может, и нет. Трудно сказать. Я никогда не задаю им такой вопрос. Лучше просто смириться.
Но, помню, как-то раз перед баром в Сэвидже, Миннесота, на просто испепеляющей жаре я чуть было не сорвался. Мы просидели в баре с час, а когда вышли, машины так раскалились, что и не сядешь. Я уже завелся и готов ехать, а Джон все давит на дрочило. Бензином воняет так, будто рядом нефтебаза; я говорю ему об этом, думая, что он и так поймет – перекачал.
– Да, я тоже чувствую, – отвечает он и дрочит дальше. Дрочит и дрочит, дрочит и дрочит, и я уже не знаю, как еще ему сказать. Наконец, сам бесится, весь потный, сил жать на педаль больше нет – поэтому я предлагаю ему вытащить свечи, просушить их, проветрить цилиндры, а мы пока сходим и возьмем еще по пивку.
О бог ты мой, нет! Он не желает влазить во все это.
– Во что – «в это»?
– Ну, инструменты доставать… Чего ради ему не заводиться? Совсем же новая машина, а я все делаю по инструкции. Смотри – подсос на полную, как учили.
– Подсос на полную?
– Так в инструкции написано.
– Так то ж когда холодно!
– Но мы же там всего каких-то полчаса просидели, – недоумевает он.
Ну, это меня совсем…
– Сегодня жарко, Джон, – говорю я. – А им надо остывать дольше даже в мороз.
Он чешет голову:
– А почему тогда об этом в инструкции не пишут?
Закрывает воздухан, и мотоцикл заводится со второго пинка.
– Так вот в чем дело, наверное, – радостно говорит он.
Назавтра едем там же – история повторяется. Но я уже настроен ни слова ему не говорить, и когда моя жена просит сходить и ему помочь, я качаю головой. Говорю, что, пока он не прочувствует свою нужду, любую помощь будет просто отвергать. Поэтому мы отходим в сторону, садимся в тенечке и ждем.
Давя на дрочило, Джон был сверхвежлив с Сильвией, а это значило, что он просто в ярости. Сильвия же взирала на все это с гримасой «О боги!». Задай он хоть один вопрос, я бы тут же подскочил к нему и поставил диагноз, но Джон вопросов не задавал. Завелся, наверное, только четверть часа спустя.
Потом мы снова пили пиво у озера Миннетонка, и все за столом болтали, а он молчал, и я видел, что внутри его всего скручивает. Хотя уже столько времени прошло. Видимо, чтоб расслабиться, он наконец сказал:
– Знаешь… когда он не заводится вот так, это просто… я прямо зверем каким-то внутри становлюсь. Просто паранойя из-за этого. – После этих слов его, похоже, отпустило, и он добавил: – У них небось был только этот мотоцикл, понимаешь? Вот эта задрота. И они не знали, что с ним делать: то ли снова отослать на завод, то ли в металлолом сдать… И тут видят – я иду. С восемнадцатью сотнями в кармане. И они поняли, что их проблема решена.
Я этак нараспев повторил ему свой призыв к собственноручной регулировке, и он очень старался мне внимать. Иногда он правда старается. Но потом опять все закаменело, он отошел к бару за выпивкой для всех, и тема закрылась.
Он не упрям, не ограничен, не ленив, не глуп. Даже не объяснишь толком. Поэтому все так и зависло – прекращаешь разгадывать тайну, поскольку нет смысла ходить кругами в поисках ответа, которого все равно нет.
Мне пришло в голову: может, это я – странный? Но мысль отпала сама собой: большинство мототуристов знают, как регулировать свои машины. Владельцы автомобилей обычно не лазят в двигатель, но в каждом городе абсолютно любых размеров есть гараж с дорогими подъемниками, специальными инструментами и диагностическим оборудованием, которых не может себе позволить средний автомобилист. Автодвигатель гораздо сложнее и недоступнее мотодвигателя, потому и вот. А для мотоцикла Джона, «BMW R60», механик отсюда до Солт-Лейк-Сити вряд ли найдется. Если у Джона полетят контакты или свечи, ему хана. Я знаю, нет у него с собой комплекта запасных контактов. Ему неведомо, что такое контакты. Если мотоцикл подведет его на западе Южной Дакоты или в Монтане – прямо не знаю, что он будет делать. Хоть индейцам мотоцикл продавай. Вот сейчас я знаю, чем он занимается: старательно избегает вообще об этом думать. «BMW» знаменит тем, что в дороге не создает хозяину никаких проблем с механикой, как раз на это Джон и рассчитывает.
Сначала я думал, что так по-особому они относятся только к мотоциклам, но позже обнаружил, что и к другим вещам тоже… Сидел я как-то утром у них на кухне, ждал, когда они соберутся ехать, гляжу – течет кухонный кран; я вспомнил, что из него капало и в прошлый раз – вообще-то сколько я его помню, столько он и тек. Я что-то заметил на этот счет, а Джон ответил, что пытался поставить новую прокладку, но ничего не вышло. Вот и все. Подразумевалось, что вопрос исчерпан. Если пытаешься починить кран и починка не удается, значит, твоя судьба – жить с капающим краном.
Тут мне стало непонятно: не действует ли им на нервы это кап-кап-кап – неделю за неделей, год за годом? Но никакого раздражения, никакой озабоченности я в них не заметил, а потому пришел к выводу, что капающие краны их просто не волнуют. Есть такие люди.
Почему этот вывод изменился, я уже не помню… но по какому-то наитию однажды меня как озарило, может, из-за перемены в настроении Сильвии как раз в тот миг, когда кран капал особенно громко, а она что-то говорила. У нее очень тихий голос. И вот однажды она старалась перекричать капли, дети вбежали и перебили ее – и она вышла из себя. Злость на детей не была б, наверное, так сильна, если бы кран не капал. Ее взорвало капанье вкупе с детским шумом. Но меня особенно поразило вот что: она не винила кран, она нарочно не винила кран. Нет, она вовсе его не игнорировала! Она подавляла ярость на него, а этот распроклятый капавший кран едва ее не убивал! Но она почему-то не могла этого признать.
Зачем подавлять ярость на капающий кран? – удивился я тогда.
А потом это наложилось на уход за мотоциклом, у меня над головой вспыхнула такая электролампочка, и я подумал: ага-а!
Дело не в уходе за мотоциклом, не в кране. Они вообще не приемлют технику. Потом все потихоньку расставилось по местам – и я понял, в чем дело. Раздражение Сильвии, когда один приятель сказал, что считает компьютерное программирование «творчеством». На всех рисунках, картинах и фотографиях у них нет ничего технического. Конечно, к чему ей злиться на этот кран, подумал я. Всегда подавляешь единичные вспышки ярости на то, что ненавидишь глубоко и постоянно. Конечно, Джон устраняется, как только речь заходит о ремонте мотоцикла, – даже если очевидно, что он же от этого и страдает. Техника. Конечно же, естественно, очевидно. Так просто, когда видишь. Сбежать от техники в деревню, на свежий воздух, на солнышко – вот потому-то они и сели на мотоцикл. И тут я им напоминаю про технику – как раз в тот миг и в той точке, когда и где они думают, будто наконец от нее избавились. Обоих это вымораживает напрочь. Потому и беседа обрывается, стоит об этом заговорить.
И вот еще что. Лишь изредка – да и то наивозможнейшим минимумом вымученных слов – они говорят об «этом» или про «все это», как, например, во фразе: «От этого просто никуда не деться». И если я спрашиваю: «От чего – этого?» – ответ может быть: «От всего этого» или «От всего организованного так» или даже: «От системы». Сильвия однажды сказала, как бы оправдываясь: «Ну, ты-то знаешь, как с этим справиться», – от чего я так возгордился, что постеснялся спросить, с чем – «этим», а посему остался в легком недоумении. Сначала мне казалось, что дело не просто в технике – тут что-то совсем таинственное. Но теперь вижу, что это «это» в основном, если не полностью, и есть техника. Но и техника – не совсем оно. «Это» – некая сила, которая вызывает технику к жизни, нечто неопределенное, однако нечеловеческое, механическое, безжизненное, слепое чудовище, сила смерти. Нечто отвратительное – они бегут от него, но никогда не смогут его избежать. Я, пожалуй, слишком утрирую, но суть ровно такова, пусть не столь определенная и не такая явная. Где-то есть те, кто понимает такое и способны им управлять, но то – технари, и они, объясняя, чем именно занимаются, говорят на нечеловеческом языке. Все дело в деталях и взаимоотношениях чего-то неслыханного, что никогда не наполнится смыслом, сколько ни слушай. Их вещи, их чудовище жрет землю, загрязняет воздух и озера, и тут никак не отомстить, никак этого не избежать.
Прийти к такому отношению нетрудно. Проезжаешь городской промышленный район, а там сплошная техника. За высокими заборами с колючей проволокой, за воротами, за табличками ВХОД ВОСПРЕЩЕН в прокопченном воздухе – странные уродливые громады металла и кирпича, их предназначение неведомо, их хозяева невидимы. Ты не знаешь, зачем оно, никто тебе не скажет, почему оно здесь, – и ты отчужден, отвергнут, будто тебе здесь совсем не место. Владельцы и умельцы тебя здесь не хотят. Перед техникой ты почему-то и на родине – чужак. Сама ее форма, внешний вид и таинственность говорят: «Пошел вон». Ты понимаешь, что где-то все может объясниться, а то, чем техника занимается, как-то непрямо наверняка служит человечеству, но ты же не это видишь. Ты видишь одни таблички ВХОД ВОСПРЕЩЕН, ХОДА НЕТ, видишь не то, что служит людям, а этих людишек видишь, муравьев, что прислуживают странным непостижимым громадам. И думаешь: даже будь я здесь своим, а не чужаком – превратился бы в такого же муравья в услужении у этих громадин. Потому и остается одна враждебность; потому я и думаю, что в конечном счете именно она – основа такой позиции Джона и Сильвии, иначе не объяснимой. Всякие клапаны, валы и гаечные ключи принадлежат тому обесчеловеченному миру, а поэтому лучше про него вообще не думать. Они не хотят туда влазить.
Коли так, Джон и Сильвия тут не одни. Они идут на поводу у своих чувств, они вовсе не пытаются кому-то подражать – так вопрос даже не стоит. Многие другие тоже следуют зову души и не пытаются никому подражать, и зов душ огромного большинства людей звучит в унисон. Поэтому, если посмотришь на них коллективно, по-журналистски, получишь иллюзию массового движения, прямо-таки вал народного гнева на технику, целое левое политическое крыло восстает против техники, возникает ниоткуда и требует: «Остановите технику. Пусть она будет где-нибудь не здесь. Тут нам ее не надо». Тоненькая паутинка логики еще как-то их удерживает – подсказывает, что без фабрик не будет ни работы, ни уровня жизни. Но есть человеческие силы и посильнее логики. Всегда были, и если они достаточно окрепнут в своей ненависти к технике, паутинка может порваться.
Для антитехнарей, тех, кто против системы, изобрели клише и стереотипы – например, «битник», «хиппи»; такие ярлыки будут появляться и впредь. Но личностей не превратить в толпу простой чеканкой массового клейма. Джон и Сильвия – вне толпы, как и все остальные, кто идет своей дорогой. Они, похоже, как раз и не желают вливаться в толпу, они против. А поскольку чувствуют, что на те силы, которые пытаются впихнуть их в толпу, очень завязана техника, техника им и не нравится. Пока сопротивление в основном пассивно: побеги на природу, когда получается, и тому подобное, – но оно не обязательно останется пассивным.
Я не согласен с ними насчет ухода за мотоциклом – но не потому, что не сочувствую их отношению к технике. Мне просто кажется, что их бегство от техники и ненависть к ней их же самих разоружают. Будде, Верховному Божеству, так же удобно в платах цифрового компьютера или передачах трансмиссии мотоцикла, как и на вершине горы или в цветочных лепестках. Думать иначе – унижать Будду, а это значит – унижать себя. Вот об этом я и хочу поговорить в своем шатокуа.
Уже выехали из болот, но душно по-прежнему: можно не мигая смотреть на желтый круг солнца, будто небо затянуло дымом или смогом. Но теперь вокруг зелень. Домики фермеров чисты, белы и свежи. И нет ни дыма, ни смога.
2
Дорога разворачивается дальше… Останавливаемся передохнуть и пообедать и, немного поболтав, пускаемся в долгий перегон. Начинается дневная усталость, она уравновешивает возбуждение первого дня пути, и продвигаемся вперед равномерно – не быстро и не медленно.
Попадаем в струю ветра с юго-запада, и мотоцикл, противодействуя порывам, как бы сам по себе кренится им навстречу. Уже некоторое время в этой дороге чудится что-то необычное: она внушает некую опаску, будто за нами наблюдают или следят. Но впереди – ни машины, а в зеркальце далеко позади видны только Джон и Сильвия.
Дакоты еще не начались, но, судя по просторным полям, уже недалеко. Есть поля, сплошь голубые от цветущего льна: он колышется длинными волнами, словно поверхность океана. Изгибы холмов – круче прежнего, теперь горы высятся над всем остальным, кроме неба, а оно кажется еще шире. Фермы вдали – такие маленькие, что и не полюбуешься толком. Земля начинает раскрываться.
Не существует места или четкой линии, где Центральные равнины заканчиваются, а Великие – начинаются. Врасплох застает вот такая постепенная перемена. Будто выходишь в открытое море из гавани, тебя качает, потом смотришь – накат волн стал больше, оглядываешься – а земли уже не видать. Деревьев здесь меньше, и вдруг я понимаю: они уже не местные, их сюда привезли и высадили вокруг домов для защиты от ветра. Там же, где не сажали, ни подлеска, ни молодняка нет – одна трава, иногда дикие цветы и сорняки, но в основном – трава. Начинаются луга. Вот и прерия.
У меня предчувствие, что никто до конца не представляет, какими будут в этих прериях четыре июльских дня. Когда вспоминаешь, как ездил здесь на машине, в памяти всегда всплывают плоскость и огромная пустота, насколько хватает глаз, крайняя монотонность и скука, – а ты все едешь, час за часом, никуда не приезжая и не зная, сколько еще будет тянуться дорога: без единого поворота, без всяких перемен в пейзаже, что тянется до самого горизонта.
Джон волновался, что Сильвия не будет готова к таким неудобствам, и сначала хотел, чтоб она добралась до Биллингза в Монтане самолетом, но Сильвия и я его отговорили. Я доказывал, что физический дискомфорт важен, лишь когда у тебя не то настроение. Тогда цепляешься за то, от чего неудобно, это и будет причиной. Но если настроение в порядке, физический дискомфорт почти ничего не значит. А что касается настроений и чувств Сильвии, я не замечал, чтоб она жаловалась.
К тому же, добравшись до Скалистых гор самолетом, видишь их только в одном контексте – как красивенький пейзаж. А ехать много дней через прерии трудно, и в конце видишь их совершенно иначе: как цель, как землю обетованную. Если бы Джон, я и Крис приехали с таким вот чувством, а Сильвия – считая их «милыми» и «красивыми» – между нами возникло бы больше дисгармонии, чем из-за жары и монотонности Дакот. К тому же мне нравится с нею болтать, поэтому я думаю и о себе.
Глядя на эти поля, мысленно говорю ей: «Видишь?.. Видишь?..» – и, мне кажется, она видит. Надеюсь, потом как-нибудь заметит и почувствует в этих прериях то, о чем я уже перестал рассказывать другим: то, что здесь есть и заметно, поскольку нет всего прочего. Пожалуй, иногда ее подавляет монотонность и скука городской жизни, так что я думаю: может, в этой бесконечной траве и ветре она увидит то, что иногда приходит, если эти монотонность и скуку принимаешь. Оно есть здесь, но у меня нет для него названий.
Вот на горизонте вижу то, чего, по-моему, не заметили пока остальные. Далеко к юго-западу – видно только с вершины этого холма – у неба появился темный краешек. Идет гроза. Может, это меня и тяготило. Намеренно выпихивалось из головы, но все время осознавалось: с такой духотой и ветром гроза более чем вероятна. Плохо, что в первый день, но, как я уже сказал, на мотоцикле ты внутри действия, а не просто наблюдаешь, и грозы – его неотъемлемая часть.
Если заденет краешком или налетит прерывистыми шквалами, можно попробовать объехать, однако сейчас не тот случай. Длинный темный мазок без всяких перистых облаков впереди – холодный фронт. Холодные фронты свирепы, а когда идут с юго-запада – свирепы вдвойне. Часто несут с собой торнадо. Когда налетают, лучше просто спрятаться и переждать. Они непродолжительны, а в прохладе после грозы ехать приятнее.
Хуже всего – фронты теплые. Дожди могут идти целыми днями. Помню, Крис и я ехали в Канаду несколько лет назад; проехали миль 130 и попали в теплый фронт, о котором нас многое предупреждало, но втуне. Все пережитое было каким-то тупым и грустным.
Ехали на маленьком мотоцикле в шесть с половиной лошадей, перегруженные багажом и не слишком обремененные здравым смыслом. Мотоцикл делал всего около 45 миль в час при умеренном встречном ветре. Машина отнюдь не для туризма. В первый вечер добрались до большого озера в Северных лесах и разбили палатку под проливным дождем, зарядившим на всю ночь. Я забыл окопать палатку, и около двух к нам ворвался поток воды и насквозь промочил оба спальника. Наутро встали мокрые, подавленные и невыспавшиеся, но я решил, что, если просто поедем дальше, через некоторое время дождь сдастся. Дудки. К десяти утра небо потемнело так, что все машины зажгли фары. Тут-то и началось.
На нас были армейские плащи – ночью они служили палаткой. Теперь они распахнулись, как паруса, и тормозили нас до тридцати миль в час. Вода заливала дорогу на два дюйма. Вокруг сверкали молнии. Помню изумленное лицо женщины за стеклом встречной машины: как мы вообще оказались на мотоцикле в такую погоду? Я вряд ли смог бы ей ответить.
Скорость упала до двадцати пяти, потом до двадцати. Затем мотоцикл стал давать осечки, кашлять, стрелять и дребезжать; наконец, еле-еле тащась на пяти-шести милях в час, отыскали старую полузабытую бензоколонку возле лесосеки и заехали на стоянку.
В то время я, как и Джон, особого значения уходу за мотоциклом не придавал. Помню, держа плащ над головой, чтобы прикрыть бензобак, я потелепал мотоцикл между ног. Бензин вроде плещется. Я посмотрел на свечи и посмотрел на контакты, посмотрел на карбюратор и стал качать дрочило – и качал его, пока не выдохся.
Мы зашли на бензоколонку, оказавшуюся к тому же гибридом пивной и ресторана, и съели по обуглившемуся стейку. Потом я снова вышел и попытался завестись. Крис все время задавал дурацкие вопросы, и я начал злиться, поскольку он не понимал, насколько дело швах. В итоге я осознал, что все без толку, – сдался, и моя злость на сына прошла. Как можно бережнее я объяснил, что все кончилось. В этот отпуск никто никуда на мотоцикле не едет. Крис стал предлагать, например, проверить бензин – что я уже сделал – или поискать механика. Но механиков там никаких не было. Только обрубки сосен, кусты и дождь.
Я сидел с ним в траве на обочине дороги, разгромленный, таращился на деревья и кустарник. Терпеливо отвечал на все его вопросы, а потом Крис стал все реже их задавать. И когда наконец понял, что наше путешествие действительно завершилось, заплакал. Ему было лет восемь тогда, по-моему.
Добрались до нашего города стопом, взяли напрокат трейлер, прицепили к машине, приехали и забрали мотоцикл, доставили его домой и начали все сызнова – уже на машине. Но было уже не то. Как-то нерадостно.
Через две недели после того, как отпуск закончился, придя вечером с работы, я снял карбюратор посмотреть, что же тогда все-таки произошло, – но так ничего и не нашел. Чтобы убрать смазку, прежде чем поставить его на место, я повернул вентиль бензобака – слить горючее. И ничего не вылилось. В баке было пусто. Я глазам своим не поверил. Я до сих пор едва могу в это поверить.
Я сотни раз мысленно пинал себя за эту глупость и, наверное, никогда по-настоящему не оправлюсь. Очевидно, тогда плескалось горючее в запасном баке, который я так и не подключил. Я не проверил тщательно, поскольку допустил, что двигатель не работает из-за дождя. Тогда я еще не понимал, насколько глупы такие скороспелые допущения. Теперь у меня машина в двадцать восемь лошадей, и к уходу за ней я отношусь очень серьезно.
Внезапно Джон обгоняет меня, ладонь вниз, что означает остановку. Сбавляем скорость и ищем, где съехать на обочину. Край бетонки сильно выступает, гравий совсем не утрамбован, и мне такой маневр совершенно не нравится.
Крис спрашивает:
– Зачем мы остановились?
– Кажется, пропустили поворот, – говорит Джон.
Я оборачиваюсь и ничего не вижу:
– Я не заметил знака.
Джон качает головой:
– Здоровый, как амбарные ворота.
– Да?
Они с Сильвией кивают.
Джон наклоняется, всматривается в мою карту и показывает, где был поворот, потом – на путепровод за ним.
– Мы уже проехали эту трассу, – говорит он.
Я вижу, что он прав. М-да, неловко.
– Вперед или назад? – спрашиваю я.
Он прикидывает.
– Думаю, нет резона возвращаться. Хорошо, поехали вперед. Так или иначе, доедем.
И вот теперь, пристраиваясь им в хвост, думаю: с чего бы это? Я едва заметил поперечную трассу. А только что забыл сказать им про грозу. Как-то выбивает из колеи.
Край грозового облака вырос, но движется оно не так быстро, как я рассчитывал. Плохо, плохо. Когда тучи надвигаются быстро, они быстро и проходят. А когда подкрадываются медленно – как сейчас, – можно прилично застрять.
Зубами стаскиваю перчатку, наклоняюсь и щупаю алюминиевый бок двигателя. Температура в норме. Руку долго не подержишь – горячо, но не обожжешься. Ничего страшного.
Двигатели с воздушным охлаждением, как этот, от перегрева может «заесть». Эту машину заедало раз… нет, три. Время от времени я ее проверяю – как больного после сердечного приступа, пусть он уже вроде и поправился.
При заедании поршни расширяются от перегрева, становятся слишком велики для стенок цилиндров, застревают в них, иногда к ним привариваются, двигатель глохнет, заднее колесо замыкает, и мотоцикл бросает юзом. Когда так случилось в первый раз, головой я вылетел дальше переднего колеса, а мой пассажир оказался почти верхом на мне. При тридцати двигатель опять расклинило, и он заработал нормально, но я съехал с дороги посмотреть, что произошло. Пассажир мой только и мог вымолвить: «А это ты зачем так?»
Я пожал плечами, поскольку тоже не врубался. Стоял и пялился на мотоцикл, а мимо мчались машины. Двигатель так раскалился, что воздух дрожал вокруг, на нас пыхало жаром. Я коснулся кожуха мокрым пальцем – зашипело, как горячий утюг. Медленно поехали домой, а звук двигателя изменился: хлопки означали, что поршни не соответствуют цилиндрам, тут нужен капитальный ремонт.
Отвез мотоцикл в мастерскую, решив, что поломка не так серьезна, чтобы я влазил самостоятельно, придется ведь изучать все эти сложные детали, может, даже заказывать специальные инструменты и запчасти, на все это уйдет куча времени. Пусть уж лучше мотоциклом займется кто-нибудь другой, сделает все побыстрее – типа того, как к этому относится Джон.
Мастерская отличалась от тех, что я помнил. Если раньше все механики выглядели древними ветеранами, теперь они походили на обычных пацанов. У них вовсю орало радио, а они болтали, валяли дурака и меня, похоже, совсем не замечали. Вот один наконец подошел и, едва послушав хлопки поршней, сразу сказал:
– Ага. Толкатели.
Толкатели? Кабы знать тогда, во что это выльется.
Через две недели я заплатил им по счету 140 долларов и начал осторожненько ездить, переключая малые скорости, чтобы все в нем приработалось, а проехав с тысячу миль, врубил полный газ. На семидесяти пяти мотоцикл заело снова, а на тридцати отпустило, как и раньше. Когда я привез его обратно, в мастерской обвинили меня – мол, я неправильно ввожу его в режим, но после долгих споров все-таки согласились заглянуть внутрь. Снова провели капремонт и сами вывели на скоростные испытания.
На этот раз он заглох у них.
После третьего капремонта два месяца спустя они заменили цилиндры, поставили огромные жиклеры главного карбюратора, отрегулировали зажигание так, чтобы двигатель работал как можно спокойнее, и сказали мне:
– Только чересчур не гоняйте.
Мотоцикл был весь в смазке и не заводился. Я обнаружил, что свечи отсоединены, ввернул их и завел; вот теперь и впрямь стучали толкатели. Их не отрегулировали. Я сообщил об этом, пришел пацан с неправильно установленным разводным ключом и быстренько срезал обе алюминиевые головки, тем самым окончательно их загубив.
– Надеюсь, на складе еще есть, – сказал он.
Я кивнул.
Он принес молоток с зубилом и начал их расклепывать. Зубило пробило алюминий, и я увидел, как пацан вгоняет его прямиком в головку двигателя. Следующим ударом он промахнулся полностью и вместо зубила попал молотком по радиатору, отколов часть двух охлаждающих ребер.
– Ты погоди, – вежливо сказал я, как в кошмарном сне. – Ты мне только новые головки дай, и я его заберу, как есть.
Я дал оттуда деру: стучащие клапаны, пробитые головки, машина в смазке, лишь бы подальше – и на скорости выше двадцати машину затрясло. На обочине я обнаружил, что из четырех болтов, крепящих двигатель, недостает двух, а у третьего нет гайки. Весь мотор болтался на одном винтике. Болта верхнего кулачка натяжного устройства цепи тоже не было, а значит, регулировать клапаны все равно без толку. Ужас.
И чтобы Джон отдавал свой «BMW» в руки таким людям… Я никогда ему об этом не рассказывал. А надо бы.
Причину я нашел через пару недель – заело снова, на что и был расчет. Срезало маленький 25-центовый штифт во внутреннем маслопроводе, и он не пропускал масло в головку при больших скоростях.
На ум снова и снова приходит вопрос почему; из-за него мне и хочется выступить с этим шатокуа. Почему мне так искромсали мотоцикл? Они не бежали от техники, как Джон и Сильвия. Они сами технари. Перед ними стояла задача: сделать работу, – а делали они ее, как шимпанзе. Ничего личного. Никаких видимых причин. И я мысленно вернулся в ту мастерскую, в тот кошмар, и вспомнил, из-за чего все так вышло.
Радио – вот из-за чего. Нельзя одновременно думать о том, что делаешь, – и слушать радио. Может, они считали, что их работа не имеет отношения к мыслительной деятельности, чего там – ворочай себе гаечным ключом, а ворочать ключом под музыку всяко приятнее.
Еще одна причина – спешка. Они ляпали все лишь бы побыстрей, даже не глядя, лопухнулись или нет. Так выходит больше денег – если не тормозишь подумать, что обычно-то времени нужно больше или же получается хуже.
Но самое главное, видимо, какие у них были лица. Трудно объяснить. Добродушные, дружелюбные, свойские – и непричастные. Они были как зрители. Такое чувство, будто сами туда только что забрели, а им сунули в руки по гаечному ключу. Нет причастности к работе. Нет такого, мол: «Я – механик». Ровно в 17:00 или когда у них там заканчиваются их восемь часов, они отключаются – и больше ни единой мысли о работе. Они и на работе стараются о ней не думать. По-своему они достигли того же, что и Джон с Сильвией, – живут бок о бок с техникой, но не имеют с ней ничего общего. Вернее, что-то общее с ней у них таки есть, но их собственные «я» – где-то вне ее, отстраненны, удалены. Они работают, но им все равно.
Эти механики не только не нашли срезанный штифт; напротив, совершенно ясно, что именно механик и срезал его в свое время, неправильно надевая боковую крышку. Я вспомнил: бывший хозяин мотоцикла говорил, что его механик жаловался – крышка плохо садится. Вот и причина. Заводская инструкция предупреждала об этом, но, как и все прочие, пацан, видать, слишком торопился – или же ему было наплевать.
За работой я думал как раз об этом наплевательстве в инструкциях к цифровым компьютерам – я редактирую такие тексты. Одиннадцать месяцев в году зарабатываю на жизнь тем, что пишу и правлю технические инструкции, – и знаю, что в них полно ошибок, двусмысленностей, упущений и таких искажений информации, что приходится перечитывать по шесть раз, чтобы хоть что-то понять. Но теперь меня впервые поразило вот что: насколько эти инструкции согласуются с тем зрительским отношением, что я видел в мастерской. Эти инструкции – для зрителей. Они подобраны под такой формат. В каждой строчке сквозит идея: «вот машина, изолированная во времени и пространстве от всего остального во вселенной; она не имеет отношения к тебе, ты не имеешь отношения к ней, знай верти определенные ручки, поддерживай уровень питания, проверяй условия возникновения ошибки…» – и так далее. Вот в чем дело. Механики по своему отношению к машине ничем не отличались от отношения инструкции к машине или от меня, привезшего машину к ним. Мы все были зрителями. И тут меня осенило, что не существует инструкции по истинному уходу за мотоциклом, по самому важному аспекту. Неравнодушие к тому, что делаешь, либо считается несущественным, либо принимается как должное.
В нынешнем путешествии давай-ка такое подмечать, как-то любопытствовать, вдруг отыщутся в этом странном разграничении – то, что человек есть, против того, что он делает, – хоть какие-то намеки. Что же, к чертям, пошло не так в нашем двадцатом столетии? Я не хочу торопить события. Спешка сама по себе – отрава ХХ века. Если хочешь развязаться с чем-то побыстрее, значит, тебе нет больше до этого дела, и ты желаешь заняться чем-то другим. Я бы лучше приступил медленно, однако осторожно и тщательно – с таким же отношением, что возникло у меня перед тем, как я нашел срезанный штифт. Его нашло мое отношение, и ничто иное.
Вдруг замечаю, что земля сплющилась в евклидову плоскость. Ни холмика, ни бугорка. Значит, въехали в долину Ред-Ривер. Скоро будем в Дакотах.
3
Когда выезжаем из долины Ред-Ривер, грозовые тучи повсюду, чуть ли не окутывают.
В Брекенридже обсудили ситуацию с Джоном и решили ехать дальше, пока не остановимся.
Уже недолго. Солнце скрылось, ветер дует холодом, и вокруг – стена различных оттенков серого.
Она громадна, она подавляет. Прерия здесь огромна, но огромность серой массы, готовой опуститься сверху, пугает. Ты полностью в ее власти. Когда и где она обрушится, не тебе определять. Можно лишь наблюдать, как она придвигается все ближе.
Немного раньше – там, где самая темная часть серого сомкнулась с землей, – виднелся городок: какие-то домики, водокачка; теперь все исчезло. Скоро накроет. Больше не вижу никаких населенных пунктов, просто придется мчаться во всю прыть.
Подтягиваюсь к Джону и выбрасываю вперед руку: полный вперед! Он кивает и поддает газу. Даю ему небольшую фору и приноравливаюсь к его скорости. Двигатель реагирует прекрасно – семьдесят… восемьдесят… восемьдесят пять… вот теперь ветер настоящий, и я опускаю голову, чтоб уменьшить сопротивление… девяносто. Стрелка спидометра качается туда-сюда, но на тахометре – постоянные девять тысяч… под девяносто пять миль в час… и держим эту скорость… мчимся. Уже не до обочин… Щелкаю выключателем фары, безопасности ради. Все равно полезно. Слишком темно.
Несемся по открытой плоской равнине: ни единой машины, деревья лишь кое-где, но дорога гладкая, чистая, и двигатель работает «плотно», высокое число об/мин ясно говорит, что с ним все в порядке. Все темнее и темнее.
Вспышка и бу-бум-м-м! грома, одно сразу за другим. Вздрагиваю, а голова Криса прижата к моей спине. Несколько предупредительных капель дождя… при такой скорости они как иголки. Вторая вспышка-БАМ-М, и все сверкает… а затем, в ясности следующей вспышки – та ферма… та мельница… о господи, он был здесь!.. сбросить газ… это его дорога… забор и деревья… а скорость падает до семидесяти, потом шестьдесят, пятьдесят пять, на ней и остаюсь.
– Почему тормозим? – кричит Крис.
– Слишком быстро!
– Нет!
Киваю, что да.
Домик и водокачка промелькнули, вот небольшая дренажная канава и вбок к горизонту уходит дорога. Да… оно, думаю. Так и есть.
– Они уже далеко! – вопит Крис. – Догоняй!
Мотаю головой.
– Почему? – вопит он.
– Опасно!
– Они уехали!
– Подождут.
– Быстрее!
– Нет. – Я качаю головой. Смутное чувство. На мотоцикле им доверяешь, и остаемся на пятидесяти пяти.
Начинается дождь, но впереди огоньки города… Так и знал, что он здесь будет.
Когда подъезжаем, Джон и Сильвия уже ждут нас под первым деревом у дороги.
– Что с вами случилось?
– Сбросили скорость.
– Это мы поняли. Что-то не так?
– Нет. Давайте прятаться от дождя.
Джон говорит, что на другой окраине есть мотель, но я отвечаю, что мотель есть и получше – если повернуть направо по дороге, обсаженной тополями, через несколько кварталов отсюда.
Сворачиваем к тополям и проезжаем несколько кварталов – появляется небольшой мотель. В конторе Джон озирается и произносит:
– И впрямь недурно. Когда ты здесь бывал?
– Не помню, – отвечаю я.
– Откуда тогда про него знаешь?
– Интуиция.
Он смотрит на Сильвию и качает головой.
Сильвия уже сколько-то за мной наблюдает. Замечает, как у меня подрагивают руки, когда расписываюсь в книге регистрации.
– Ты ужасно бледный, – говорит она. – Это на тебя молния так?
– Нет.
– Ты как призрака увидал.
Джон с Крисом смотрят на меня, и я отворачиваюсь к двери. Льет по-прежнему как из ведра, но мы делаем рывок к комнатам. Наши пожитки на мотоциклах укрыты, и мы пережидаем грозу – потом заберем.
Дождь заканчивается, небо чуть светлеет. Но со двора мотеля вижу, что за тополями почти совсем сгустилась другая тьма – ночная. Идем в город, ужинаем, а когда возвращаемся, дневная усталость догоняет меня по-настоящему. Почти не шевелимся в металлических шезлонгах во дворе, медленно допиваем пинту виски, которую Джон принес из холодильника мотеля вместе с какой-то разбавкой. Виски льется внутрь медленно и приятно. Прохладный ночной ветерок постукивает листочками тополей у дороги.
Крис спрашивает, что будем делать дальше. Неугомонный парнишка. Новизна и странность обстановки возбуждают его, и он предлагает нам петь песни, как в лагере.
– Мы не очень хорошо поем песни, – говорит Джон.
– Тогда давайте рассказывать истории. – Крис задумывается. – О призраках знаете? Все пацаны у нас в домике рассказывали по ночам о призраках.
– Лучше ты нам расскажи, – просит Джон.
И Крис рассказывает. Слушать его истории довольно забавно. Некоторые я с его возраста не слышал. Говорю ему об этом, и он хочет послушать, о чем рассказывали мы, но я ни одной истории не помню.
Немного погодя спрашивает:
– Ты веришь в призраков?
– Нет, – отвечаю я.
– Почему?
– Потому что они не-на-уч-ны.
Джон улыбается моему тону.
– В них не содержится материи, – продолжаю я, – и нет энергии, а поэтому, согласно законам науки, они существуют только у людей в головах.
Виски, усталость и ветер в деревьях уже мешаются у меня в голове.
– Конечно, – прибавляю я, – законы науки тоже не содержат в себе материи и не имеют энергии, а потому существуют только у людей в головах. Лучше сохранить целиком научный подход ко всему и не верить ни в призраков, ни в научные законы. Так безопаснее всего. Вере тут делать нечего, но и это научный подход.
– Я не понимаю, о чем ты, – говорит Крис.
– Это у меня такая хохма.
У Криса опускаются руки, когда я так разговариваю, но он, по-моему, не обижается.
– Один пацан из Христианского союза молодежи говорит, что он верит.
– Он просто тебя дурачит.
– Ничего не дурачит. Говорит, что, если людей правильно не похоронили, их призраки возвращаются и преследуют людей. Он правда в это верит.
– Он тебя просто дурачит, – повторяю я.
– Как его зовут? – спрашивает Сильвия.
– Том Белый Медведь.
Мы с Джоном переглядываемся, вдруг понимая одно и то же.
– А-а, индеец! – говорит он.
Я смеюсь.
– Наверное, придется кое-какие слова взять обратно, – говорю я. – Я думал о европейских призраках.
– Какая разница?
Джон хохочет:
– Он тебя поймал.
На минуту задумываюсь и говорю:
– Ну, индейцы порой иначе на все смотрят – не скажу, что неправильно. Наука не входит в индейскую традицию.
– Том Белый Медведь сказал, что папа и мама не велели ему во все это верить. А бабушка шепнула, что это все равно правда, вот он и верит.
Крис умоляюще смотрит на меня. Ему действительно иногда хочется что-то знать. Хохмить еще не значит быть хорошим отцом.
– Еще бы, – отвечаю я, давая задний ход, – я тоже верю в призраков.
Теперь на меня странно смотрят Джон и Сильвия. Понимаю, что на сей раз мне так легко не отделаться, и собираюсь с духом перед долгим объяснением.
– Совершенно естественно, – говорю я, – считать невеждами европейцев, веривших в призраков, ну или индейцев. Научная точка зрения низвела все остальные точки зрения до какого-то примитивизма, стало быть, если человек сегодня говорит о призраках или духах, он считается невеждой – или же чокнутым. Почти невозможно представить себе мир, где на самом деле могут существовать призраки.
Джон кивает, и я продолжаю:
– Мое личное мнение: интеллект современного человека – не такое уж совершенство. Коэффициент его не сильно изменился. Индейцы и средневековые люди были не глупее нас, но мыслили в совершенно ином контексте. Призраки и духи в том контексте мышления так же реальны, как для современного человека реальны атомы, частицы, фотоны и кванты. Вот в этом смысле я верю в призраков. У человека современного тоже свои призраки и духи.
– Какие?
– Ну, законы физики и логики… система чисел… принцип алгебраической подстановки. Все это призраки. Просто мы верим в них так истово, что они кажутся реальными.
– По-моему, они и есть реальны, – говорит Джон.
– Не улавливаю, – говорит Крис.
И я продолжаю:
– Например, вроде бы совершенно естественно подразумевать, что гравитация и закон тяготения существовали до Исаака Ньютона. Только чокнутый решит, будто до XVII века гравитации не было.
– Конечно.
– Так когда начал действовать закон? Был всегда?
Джон хмурится, пытаясь понять, к чему я клоню.
– А веду я вот к чему, – говорю я. – До начала Земли, до того, как образовались Солнце и звезды, до самого первоначального порождения всего – закон тяготения существовал.
– Еще бы.
– Сидя в пустоте, без собственной массы, без собственной энергии, не находясь ни в чьем мозгу, потому что никого еще не было, ни в пространстве, потому что и пространства не существовало, нигде, – этот закон тяготения все-таки был?
Вот теперь Джон, кажется, уже не так уверен.
– Если закон тяготения существовал, – говорю я, – честное слово, я даже не знаю, что надо сделать, чтобы не существовать. Мне кажется, закон тяготения выдержал все испытания на несуществуемость, что только есть. Нельзя придумать ни единого качества несуществования, которого бы не нашлось у закона тяготения. И ни одного-единственного научного определения существования, которым бы он обладал. И все-таки «здравый смысл» заставляет верить, что он был.
Джон говорит:
– Пожалуй, тут надо подумать.
– Ну, тогда – с хорошей точностью – ты будешь думать над этим долго и в итоге начнешь ходить кругами, пока не придешь к единственно возможному, рациональному, разумному заключению. Закона тяготения и самой гравитации не существовало до Исаака Ньютона. Никакой больше вывод не имеет смысла… А это значит, – продолжаю я, не дав ему перебить, – это значит, что закон тяготения существует только в головах у людей! Это призрак! Мы все очень заносчивы и самонадеянны, когда черним чужих призраков, а к своим относимся так же невежественно, варварски и суеверно.
– Почему ж тогда все верят в закон тяготения?
– Массовый гипноз. В своей очень ортодоксальной форме, называемой «образование».
– В смысле, учитель гипнотизирует детей, чтобы те верили в закон тяготения?
– Конечно.
– Абсурд.
– Слыхали, как важен зрительный контакт в классе? Каждый педагог это подчеркивает. И ни один этого не объясняет.
Джон качает головой и наливает мне еще. Прикрывает рот ладонью и театрально шепчет Сильвии:
– Знаешь, он всегда производил впечатление вполне нормального парня.
Я парирую:
– Ничего нормальнее я за последние недели не сказал. Обычно я прикидываюсь таким же безумцем двадцатого века, как вы. Чтобы не привлекать к себе внимания… Но для вас повторю. Мы верим, что бестелесные слова сэра Исаака Ньютона сидели невесть где за миллиарды лет до его рождения, а он их магически открыл. Они были всегда – даже когда ни к чему не применялись. Постепенно возник мир, и они стали применяться к миру. Они-то и слепили мир. Это, Джон, смешно… Проблема, противоречие, на котором застряли ученые, – разум. Разум не обладает ни материей, ни энергией, но его господства над всем, что ученые делают, не избежать. Логика существует в уме. Числа существуют только в уме. Я не расстраиваюсь, когда ученые говорят, что призраки существуют в уме. Меня достает лишь вот это лишь. Наука тоже лишь у тебя в уме, только ее это не портит. И призраков не портит тоже.
Все просто смотрят на меня, поэтому я продолжаю:
– Законы природы человек придумал, как призраков. Законы логики, математики тоже человек придумал, как призраков. Всю эту лепоту придумал человек, включая само представление о том, что ничего этого человек не придумывал. Мир вообще никак не существует вне человеческого воображения. Он весь – призрак, в древности его таковым и считали, всю эту лепоту, в которой мы живем. Мир управляется призраками. Мы видим то, что видим, поскольку призраки нам это показывают – призраки Моисея, Христа, Будды, Платона, Декарта, Руссо, Джефферсона, Линкольна, снова и снова. Исаак Ньютон – очень хороший призрак. Один из лучших. Ваш здравый смысл – просто-напросто голоса тысяч таких призраков прошлого. Призраков, и только их. Призраков, что пытаются найти себе место среди живых.
Джон не отвечает – видать, задумался. А Сильвия распалилась.
– С чего ты все это взял? – спрашивает она.
Ответ готов сорваться у меня с языка, но я передумываю. По-моему, я уже и так перегнул палку, а то и вообще ее поломал. Хорошего понемножку.
Немного спустя Джон произносит:
– Отлично, что мы опять в горах.
– Да, неплохо, – соглашаюсь я. – За это по последней!
Мы допиваем бутылку и расходимся по номерам.
Крис идет чистить зубы, но душ обещает принять завтра – и я на сей раз спускаю ему с рук. По старшинству захватываю постель у окна. Когда свет погашен, Крис говорит:
– Теперь расскажи о призраках.
– Я же только что рассказал, во дворе.
– Нет, ты расскажи по-настоящему.
– Это была самая-пресамая настоящая история о призраках.
– Ты же меня понял. Другую расскажи.
Пытаюсь вспомнить что-нибудь попривычнее.
– В детстве, Крис, я помнил много, а теперь все забыл. Пора спать. Нам всем рано вставать завтра.
Тихо, если не считать сквозняка в щелях жалюзи. Меня успокаивает и убаюкивает эта мысль: вот ветер несется к нам по открытым равнинам прерий.
Ветер крепчает и слабнет, крепчает и вздыхает, и слабнет вновь… из такой дали прилетел.
– А ты сам знал призрака? – спрашивает Крис.
Я уже почти сплю.
– Крис, – отвечаю я, – у меня однажды был приятель, который всю свою жизнь только и делал, что охотился на призрака, и в итоге лишь зря потратил время. Поэтому спи.
Ошибку осознаю слишком поздно.
– А он его нашел?
– Да, Крис, он его нашел.
Хоть бы Крис слушал ветер, а не задавал вопросы.
– А потом что сделал?
– Проучил его хорошенько.
– А потом?
– А потом сам стал призраком.
Я с чего-то решил, что Криса это убаюкает, но нет, и я сам просыпаюсь.
– А как его зовут?
– Ты его не знаешь.
– Ну как?
– Не важно.
– Ну все равно – как?
– Поскольку, Крис, это не важно, его зовут Федр. Ты такого имени не знаешь.
– Это его ты видел на мотоцикле под дождем?
– С чего ты взял?
– Сильвия сказала, что ты увидел призрака.
– Это она так выразилась.
– Пап?
– Крис, пусть это будет последний вопрос, а то я рассержусь.
– Я просто хотел сказать, что так, как ты, вообще никто не говорит.
– Да, Крис, я знаю, – отвечаю я. – В том-то и загвоздка. Теперь спи.
– Спокойной ночи, пап.
– Спокойной ночи.
Через полчаса он уже сопит, ветер нисколько не утих, а у меня сна ни в одном глазу. За окном в темноте – холодный ветер овевает дорогу, теряется в деревьях, листья – мерцающие блестки лунного света: несомненно, Федр все это видел. Понятия не имею, что он тут делал. Вероятно, так никогда и не узнаю, зачем он поехал по этой дороге. Но он был здесь, вывел нас на этот странный путь и вел все это время. Выхода нет.
Вот бы сказать, что я не знаю, зачем он здесь, однако, боюсь, должен признаться – я знаю. Все, что я говорил о науке и призраках, и даже про неравнодушие и технику днем – все это не мои мысли. У меня уже много лет не бывает новых мыслей. Я их украл у него. А он наблюдает. Вот зачем он здесь.
Вот, признался – надеюсь, теперь он даст мне поспать.
Бедный Крис. «Истории о призраках знаете?» – спросил. Я мог бы рассказать ему одну историю, но даже мысль об этом пугает.
В самом деле пора спать.
4
Где-то в каждом шатокуа должен быть список ценных вещей, чтоб не забыть, – должен храниться в безопасном месте, чтобы при необходимости черпать в нем вдохновение. Детали. И вот пока остальные храпят, растрачивая это прекрасное утреннее солнышко… что ж… время-то все равно девать некуда…
У меня тут свой список ценностей: взять с собой в следующую мотопоездку по Дакотам.
Я проснулся на рассвете. На соседней кровати Крис еще крепко спит. Я стал перекатываться на другой бок поспать еще, но услышал петуха и вспомнил, что мы в отпуске, а потому спать нет смысла. За тонкой стенкой мотеля работает лесопилка Джона… если не Сильвии… нет, слишком громко. Прям чертова бензопила…
Я до того устал забывать вещи в такие поездки, что составил этот список раз и навсегда и положил дома в папку, чтобы проверять перед каждым выездом.
Большинство пунктов банальны и не требуют особых пояснений. Некоторые – только для мотоциклистов, их надо пояснить. Некоторые вообще дикие, их надо разъяснять особо. Список делится на четыре части: Одежда, Личные Вещи, Кухонное и Туристское Снаряжение и Мотоциклетные Принадлежности.
Первая часть – Одежда – проста:
1. Две смены белья.
2. Теплое белье.
3. Смена рубашки и брюк для каждого. Я обычно беру списанную армейскую форму. Она дешева, прочна, и на ней не видно грязи. У меня сначала был еще пункт «парадная одежда», но Джон напротив него дописал карандашом: «смокинг». Я же думал лишь о том, что можно носить за пределами автозаправки.
4. Каждому по свитеру и куртке.
5. Перчатки. Кожаные перчатки без подкладки лучше всего – предохраняют от солнечных ожогов, впитывают пот и остужают руки. Если выезжаешь на час-другой, такие мелочи не особенно важны, но когда едешь целый день, а то и не один, без них никак.
6. Мотоциклетные сапоги.
7. Что-нибудь от дождя.
8. Шлем и козырек от солнца.
9. Пузырь. От закрытого шлема у меня клаустрофобия, поэтому я надеваю его только в дождь; капли на большой скорости вонзаются в лицо, как иголки.
10. Очки. Я не люблю ветровых стекол – они тоже отгораживают от внешнего мира. У меня английские очки из многослойного стекла, очень хорошие. Под простые солнцезащитные забирается ветер. Пластиковые легко царапаются и сильно искажают.
Следующий список – Личные Вещи:
Расчески. Бумажник. Складной нож. Записная книжка. Ручка. Сигареты и спички. Фонарик. Мыло в пластиковой мыльнице. Зубные щетки и паста. Ножницы. Что-нибудь от головной боли. Средство от насекомых. Дезодорант (в конце жаркого дня на мотоцикле лучшим друзьям даже не придется тебе намекать). Лосьон от загара (на мотоцикле не замечаешь солнечного ожога, пока не остановишься, а тогда уже будет поздно; лучше намазаться заранее). Пластырь. Туалетная бумага. Мочалка (можно класть в пластмассовую коробку, чтоб больше ничего не промокло). Полотенце.
* * *
Книги. Не знаю других мотоциклистов, кто брал бы с собой книги. Занимают много места, но все равно сейчас у меня с собой их три. Внутрь вложены листки чистой бумаги для записей. Вот эти книги:
а. Заводская инструкция для этого мотоцикла.
б. Общий справочник неисправностей со всей технической информацией, что не держится в голове. У меня «Чилтоновский справочник неисправностей мотоцикла», написанный Оси Ричем; продается в магазинах «Сирз-Роубак».
в. «Уолден» Торо… его Крис еще никогда не слышал, а читать его можно сотни раз без устали. Я всегда стараюсь подобрать книгу намного выше его уровня и читаю, скорее чтоб нам было о чем поговорить, а не просто сплошняком. Читаю фразу-другую, жду, чтоб Крис налетел с тучей своих обычных вопросов, отвечаю, потом читаю фразу-другую дальше. Классика так читается хорошо. Она должна быть так написана. Иногда мы с ним целый вечер так читаем и беседуем, а в конце понимаем, что прочли всего две-три страницы. Так читали сто лет назад… когда были популярны шатокуа. Если не пробовал, и представить себе не можешь, как это приятно.
Крис спит – совсем расслабился, не напряжен, как обычно. Не стану его, наверное, пока будить.
Туристское Снаряжение:
1. Два спальных мешка.
2. Два армейских плаща и одна подстилка. Они превращаются в палатку, а также защищают багаж от дождя при езде.
3. Веревка.
4. Топографические карты района, по которому мы надеемся поездить.
5. Мачете.
6. Компас.
7. Фляга. Когда мы уезжали, я так и не смог ее найти. Наверное, дети куда-то задевали.
8. Два списанных армейских столовых набора – нож, вилка и ложка.
9. Разборная печка «Стерно» со средней банкой топлива. Экспериментальная покупка; я еще ею не пользовался. Под дождем или выше зоны лесов дрова найти – целая проблема.
10. Несколько алюминиевых банок с притертыми крышками. Для жира, соли, масла, муки, сахара. Много лет назад мы купили их в магазине для альпинистов.
11. «Брилло», чистящая паста.
12. Два станковых рюкзака.
Мотоциклетные Принадлежности. Стандартный набор инструментов прилагается к мотоциклу и хранится под сиденьем. Дополняется следующим:
Большой разводной ключ. Слесарный молоток. Слесарное зубило. Конусный пробойник. Пара монтировок. Набор для заклейки шин. Велосипедный насос. Аэрозольный баллон с дисульфидом молибдена для цепной передачи. (Очень хорошо проникает во внутренности каждого ролика, где это важно, а преимущества дисульфида молибдена как смазочного средства всем хорошо известны. Тем не менее, когда он высыхает, его надо разводить старым добрым машинным маслом SAE-30.) Силовая отвертка. Остроносый напильник. Толщиномер. Сигнальная лампа.
В запчасти входят:
Свечи. Дроссельный клапан, муфта сцепления и тормозные тросики. Контакты, предохранители, лампочки к фаре и габаритным огням, звено цепи с держателем, шплинты, трос. Запасная цепь (старая, уже изношенная, но хватит, чтобы добраться до мастерской, если полетит новая).
* * *
Вот, пожалуй, и все. Никаких шнурков.
Вероятно, естественно было б уже поинтересоваться, в каком трейлере все это поместится. Но занимает не так много места, как может показаться.
Боюсь, остальные герои проспят весь день, если им разрешить. Ясное небо снаружи искрится, стыдно тратить время зря.
Наконец решаюсь и трясу Криса. Глаза у него распахиваются, он подскакивает, ничего не соображая.
– Пора в душ, – говорю.
И выхожу наружу. Воздух бодрит. Хотя вообще-то – бож-же! – какая холодина. Колочу в дверь Сазерлендов.
– Уг, – доносится из-за двери сонный голос Джона. – Умгммммхгм. Угм.
Чувствуется осень. Мотоциклы мокры от росы. Дождя сегодня не будет. Но холодно! Градусов сорок[3].
Пока остальные собираются, проверяю уровень масла, шины, болты и натяжение цепи. Цепь провисает, достаю инструменты и подтягиваю. Скорей бы уж выехать, что ли.
Крис одевается потеплее, складываемся и едем. Еще как холодно. За несколько минут все тепло из одежды выдувает, и меня начинает трясти по-крупному. Бодрит.
Когда солнце поднимется выше, должно потеплеть. Еще полчаса – и будем завтракать в Эллендейле. По таким прямым дорогам сегодня надо успеть проехать как можно больше.
Если бы не этот дьявольский дубак, прогулка была бы просто роскошной. На полях лежит что-то вроде инея, на нем искрятся лучи низкого утреннего солнца, но это, по-моему, просто роса – блестящая и какая-то туманная. Повсюду рассветные тени, и местность уже не кажется такой плоской, как вчера. Все – только для нас. Похоже, никто еще даже не проснулся. На моих часах шесть тридцать. Старая перчатка над ними тоже вроде как заиндевела, но это скорее соль после вчерашнего дождя. Старые добрые ношеные перчатки от холода так задубели, что пальцы едва разгибаются.
Вчера я говорил о неравнодушии; эти ветхие мотоциклетные перчатки не безразличны мне. Улыбаюсь им – они летят рядом, их обдувает ветром, – потому что они со мной уже столько лет, они так стары, усталы, гнилы, что просто смешно. Пропитались маслом, потом, грязью, раздавленными жуками, и теперь, даже когда им не холодно, кладу их на стол – и они не хотят лежать плоско. У них своя память. Стоили всего три доллара, а штопались столько раз, что залатать их уже невозможно, однако я все равно трачу на починку много времени и усилий, ибо не могу представить на их месте никакую новую пару. Непрактично, но практичность – еще не главное с перчатками. Как и с чем угодно.
Машине тоже перепадает толика этого чувства. С намотанными 27 тысячами пробега она уже долгожитель, старичок, хотя множество машин и постарше еще на ходу. Но чем больше миль – думаю, большинство мотоциклистов со мной согласится, – тем яснее распознаешь в отдельной машине некий характер, свойственный только ей и никакой другой. Один мой друг с мотоциклом той же марки, модели и даже того же года выпуска привез его мне на ремонт, и когда я потом опробовал машину, трудно было поверить, что много лет назад она сошла с того же конвейера, что и моя. За все это время его мотоцикл приобрел свои ощущение, ход и звук, совсем не такие, как у моего. Не хуже, но другие.
Наверное, это можно назвать личностью. У каждой машины есть собственная, уникальная личность – она, видимо, определяется как общая интуитивная сумма всего, что ты знаешь о ней и к ней испытываешь. Личность эта постоянно меняется: обычно – к худшему, но иногда, на удивление, и к лучшему. Именно эта личность и есть подлинный объект ухода за мотоциклом. Новые машины начинают жизнь симпатичными незнакомцами, и в зависимости от того, как к ним относятся, либо быстро деградируют до скверно работающих ворчунов или даже калек, либо превращаются в здоровых, добродушных друзей-долгожителей. Мой, например, несмотря на убийственное обращение тех мнимых механиков, кажется, поправился и со временем требует все меньше ремонтов.
Вот он! Эллендейл!
Водокачка, дома, разбросанные по рощицам под утренним солнцем. Я только что сдался ознобу, который почти не прекращался всю дорогу. На часах семь пятнадцать.
Через несколько минут тормозим у старых кирпичных домов. Оборачиваюсь к Джону и Сильвии, подъехавшим сзади:
– Ну и холодина!
Смотрят на меня рыбьими глазами.
– Бодрит, говорю, а? – Никакого ответа.
Вот спешиваются, и я вижу, как Джон пытается развязать весь их багаж. Узел не поддается. Джон бросает, идем к ресторану.
Пробую еще раз. Иду перед ними спиной вперед, меня еще потряхивает после перегона, заламываю руки и смеюсь:
– Сильвия! Поговори со мною! – Ни улыбки.
Наверное, и впрямь замерзли.
Заказывают завтрак, не поднимая глаз от стола.
Доедаем, и я вопрошаю:
– Что дальше?
Джон отвечает нарочито медленно:
– Мы не тронемся с места, пока не потеплеет.
Он говорит тоном шерифа на закате, отчего, видимо, это и звучит окончательным приговором.
Поэтому Джон, Сильвия и Крис сидят и греются в вестибюле отеля, примыкающего к ресторану, а я выхожу погулять.
По-моему, они разозлились на меня: поднял их в несусветную рань и погнал по такому вот. Когда держишься с кем-то вместе так тесно, маленькие различия в темпераменте, видимо, просто не могут не вылезать. Вот задумался об этом – и припоминаю, что прежде никогда не выезжал с ними раньше часу или двух дня, хотя для меня лучшее время на мотоцикле – рассвет и раннее утро.
Городок чист, свеж и совсем не похож на тот, где мы сегодня проснулись. Кое-кто уже вышел на улицу, открывают лавки и говорят «доброе утро», беседуют и замечают, до чего сегодня холодно. Два термометра на теневой стороне улицы показывают 42 и 46 градусов. Тот, что на солнце, показывает 65.
Через пару-другую кварталов главная улица двумя наезженными грунтовыми колеями съезжает в поле мимо сарая из гофры, полного сельхозтехники и ремонтного инвентаря, и там, в поле, заканчивается. На поле стоит человек и смотрит на меня с подозрением: чего это я заглядываю в сарай? Я возвращаюсь на улицу, нахожу зябкую скамейку и принимаюсь разглядывать мотоцикл. Делать нечего.
Правильно, было холодно, но не настолько же. Как вообще Джон с Сильвией зимуют в Миннесоте? Какая-то вопиющая непоследовательность – это так очевидно, что к чему вообще о ней говорить. Если они терпеть не могут физического дискомфорта и не переносят техники, нужен хоть какой-то компромисс. Они одновременно зависят от техники и проклинают ее. Я уверен, что они это сознают, – и потому еще больше не любят. Они не представляют логический тезис, а просто сообщают, как и что. Но вот из-за угла в город въезжают три фермера в новеньком пикапе. У них-то наверняка все наоборот. Они будут хвастаться и этим своим пикапом, и трактором, и новой стиральной машиной, и у них найдутся инструменты для починки, если что-то вдруг сломается, и они умеют этими инструментами работать. Они ценят технику. И как раз им она нужна меньше всего. Если вся техника исчезнет – завтра же, – эти люди выкрутятся. Туговато придется, но они выживут. А Джон, Сильвия, Крис и я подохнем через неделю. Такая анафема технике – неблагодарность, вот что это.
Хотя – тупик. Если человек неблагодарен, и ему говоришь, что он неблагодарная скотина, – ладно, обозвал. Только ничего не решилось.
Через полчаса термометр у дверей отеля показывает 53 градуса. Компаньоны мои сидят в пустом зале ресторана, но им не сидится. Хотя, судя по лицам, настроение у них отменное, и Джон с воодушевлением говорит:
– Я надену все, что у меня есть, и тогда будет полный порядок.
Выходит к мотоциклам, потом возвращается:
– Конечно, очень не хочется все распаковывать, но и ездить, как в этот раз, я больше не хочу.
Сообщает, что в мужском туалете мороз, и, поскольку в ресторане больше никого, заходит у нас за спинами за стол, а я сижу, с Сильвией беседую, потом гляжу – стоит Джон, в полный рост выряженный в бледно-голубое теплое белье. До того глупо выглядит, что ухмыляется от уха до уха. Я бросаю взгляд на его очки, оставшиеся на столе, потом говорю Сильвии:
– Знаешь, минуту назад мы сидели и трепались тут с Кларком Кентом… видишь, вот его очки… а теперь вдруг… Лоис, ты думаешь…
Джон взвывает:
– СУПНЫЙ МЭН!
Скользит по натертому полу, как конькобежец, проходится колесом и скользит обратно. Поднимает руку над головой и чуть приседает, будто сейчас рванет в небо.
– Я готов, я иду! – Потом с грустью качает головой: – Ох, как не хочется портить этот славный потолок, но мое рентген-зрение подсказывает, что кто-то попал в беду.
Крис хихикает.
– Мы все попадем в беду, если ты что-нибудь не наденешь, – говорит Сильвия.
Джон смеется:
– Эксгибиционист, а? «Элленсдейлский разоблачитель»!
Он гуляет по залу в таком виде, потом принимается натягивать одежду со словами:
– О нет, о нет! Они этого не сделают. У Супного Мэна и полиции договоренность. Они знают, кто на стороне закона, порядка, справедливости, порядочности и честной игры для каждого.
Когда опять выезжаем на шоссе, еще прохладно, но уже не так. Проезжаем несколько городков, и постепенно, почти неощутимо солнце нас разогревает, и я сам вместе с ним теплею. Усталость выветривается полностью, ветер и солнце – уже хорошо, все по-настоящему. Вот оно, вот оно – солнце теплеет, и поэтому дорога, зеленые степные угодья и бьющий в лицо ветер сливаются в одно. И вскоре остается лишь прекрасное тепло, ветер, скорость и солнце на пустой дороге. От теплого воздуха тает последний утренний озноб. Ветер, и снова солнце, и снова гладкая дорога.
Так зелено это лето и так свежо.
В траве перед старой проволочной оградой – белые и золотые маргаритки, за ними – луг с коровами, а еще дальше, совсем вдали – мягкий подъем, и наверху что-то золотится. Трудно сказать что. А знать и не нужно.
Там, где дорога слегка идет в гору, гул мотора тяжелеет. Одолеваем пологий перевал, и перед нами снова разворачивается земля, дорога спускается, гул опять стихает. Прерия. Спокойная и отстраненная.
Позже останавливаемся, и у Сильвии в глазах слезы от ветра; она вытягивает руки и говорит:
– Так прекрасно. Так пусто.
Показываю Крису, как расстилать куртку на земле и делать подушку из запасной рубашки. Ему совсем не хочется спать, но все равно велю ему лечь: нужно отдохнуть. Расстегиваю свою куртку, чтобы самому вобрать как можно больше тепла. Джон вытаскивает камеру.
Немного погодя говорит:
– Такое снимать – труднее всего на свете. Нужен объектив на 360 градусов, что ли? Вот видишь что-то, потом смотришь в матовое стекло, а там какая-нибудь ерунда. Как только надеваешь границу, все исчезает.
– Из машины поди так не увидишь, – говорю я.
– Мне было лет десять, – говорит Сильвия, – и мы однажды вот так же остановились у дороги, и я наснимала полпленки. А когда она вернулась из проявки, я плакала. На снимках ничего не оказалось.
– Когда же мы поедем? – канючит Крис.
– Куда ты торопишься? – осаживаю его я.
– Просто хочу ехать.
– Впереди нет ничего лучше того, что у тебя перед носом.
Молчит, хмурится и опускает взгляд:
– А мы вечером будем ставить палатку?
Сазерленды нерешительно смотрят на меня.
– Будем? – настаивает он.
– Посмотрим, – отвечаю я.
– Почему посмотрим?
– Потому что я пока не знаю.
– А почему ты пока не знаешь?
– Ну, просто сейчас не знаю, почему я сейчас пока не знаю.
Джон пожимает плечами: все в порядке. Я говорю:
– Тут не очень удобно вставать лагерем. Негде укрыться и нет воды. – Но неожиданно добавляю: – Хорошо, вечером разбиваем лагерь. – Разговор об этом у нас уже был.
Поэтому едем дальше по пустой дороге. Не хочу ни владеть этими прериями, ни снимать их, ни менять их, ни останавливаться – даже двигаться дальше не хочу. Просто едем по пустой дороге.
5
Плоскость прерии исчезает, и земля начинает вздыматься крутыми волнами. Заборы все реже, зелень бледнеет… все признаки того, что мы близимся к Высоким равнинам.
Останавливаемся в Гааге заправиться и спрашиваем, можно ли как-то переправиться через Миссури между Бисмарком и Мобриджем. Служитель не знает. Уже припекает, и Джон с Сильвией куда-то уходят снять теплое белье. У мотоцикла меняют масло и смазывают цепь. Крис наблюдает за тем, что я делаю, с легким нетерпением. Нехороший признак.
– Глазам больно, – говорит он.
– От чего?
– От ветра.
– Поищем очки.
Все вместе заходим в магазин за кофе и булочками. Для нас все здесь новое, кроме нас самих, поэтому мы не болтаем, а больше смотрим по сторонам, ловим обрывки разговоров – похоже, люди тут давно знакомы и разглядывают нас, поскольку новенькие – мы. Потом в лавке дальше по дороге я нахожу термометр – чтоб был в багаже – и пластиковые очки для Криса.
Человек из скобяной лавки тоже не знает короткого пути через Миссури. Изучаем с Джоном карту. Я надеялся отыскать какую-нибудь неофициальную переправу – паром, пешеходный мост, что-нибудь такое, но на все девяносто миль, по всей видимости, ничего нет, поскольку на другой стороне добираться особо не к чему. Сплошная индейская резервация. Решаем ехать на юг к Мобриджу и переправиться там.
Дорога на юг ужасна. Извилистая, узкая, бугристая бетонка, неприятный встречный ветер; солнце в глаза и большие полуприцепы навстречу. На этих русских горках они поначалу разгоняются под уклон, потом сбрасывают скорость на подъеме, и заранее их не увидишь, сплошная нервотрепка. Первый меня напугал – я не был к нему готов. А теперь взял себя в руки и готовлюсь заранее. Не опасно. Просто бьет ударной волной. Здесь жарче и суше.
В Херрейде Джон исчезает выпить, а Сильвия, Крис и я находим в скверике тень и пытаемся отдохнуть. Не отдыхается. Что-то изменилось, и я не очень понимаю, что именно. Улицы в городке широки, гораздо шире, чем нужно, а воздух бледен от пыли. Пустыри меж домов заросли сорняками. Сараи из листового железа и водокачка – такие же, как в городишках раньше, только какие-то рассевшиеся. Все запущеннее и механистичнее; и раскидано как-то наобум. Постепенно до меня доходит. Здесь никому больше нет дела до аккуратности и экономности в пространстве. Земля больше не ценится. Это уже Запад.
В Мобридже обедаем гамбургерами с солодовым молоком в «Аллен-и-Райт», катим по главной улице с плотным движением и у подножия холма видим ее – Миссури. Странна вся эта движущаяся вода среди травянистых холмов, которым воды едва достается. Оборачиваюсь и кидаю взгляд на Криса, но ему, кажется, не особо интересно.
Спускаемся к берегу, лязгаем по мосту – и по ходу смотрим на реку сквозь ритмично мелькающие столбики ограждения; вот мы уже на другом берегу.
Долго, очень долго взбираемся по склону и попадаем в совсем иную местность.
Здесь вообще заборов нет. Ни кустов, ни деревьев. Скаты холмов так огромны, что мотоцикл Джона впереди похож на муравья, что ползет по зеленым укосам. На вершинах над головой нависают скалы – там на поверхность выходят горные породы.
Все это ухожено как-то естественно. Если б земли здесь бросили, вид у них был бы пожеванный и взъерошенный: бетонные бабы от старых фундаментов, обрывки крашеных листов железа и мотки проволоки, сорняки везде, где ради какой-то фигни взрыли дерн. А здесь ничего этого нет. Не прибрано – просто не изгажено. Наверное, так и было всегда. Резервация.
По ту сторону скал не будет дружелюбного механика, и я спрашиваю себя, готовы ли мы к этому. Не дай бог неполадка – мало не покажется.
Рукой проверяю температуру двигателя. Он успокаивающе прохладен. Выключаю сцепление и даю мотоциклу секунду катиться по инерции, чтобы послушать, как работает вхолостую. Звук какой-то не такой, и я повторяю процедуру. Вычисляю не сразу, что дело тут вовсе не в двигателе. Это эхо от утеса, стоит перекрыть дроссель. Забавно. Я проделываю такой финт раза два-три. Крис спрашивает, что случилось, и я даю ему послушать эхо. В ответ от него ни звука.
Наш старый двигатель звякает, как мелочь. Словно внутри монетки катаются. Ужас, но это просто клапаны лязгают, нормально. Как только привыкнешь и научишься ждать этого лязга, автоматически будешь слышать сбои. Если их не слышно – хорошо.
Я как-то пытался обратить на этот звук внимание Джона, только все без толку. Он слышал только шум, видел только машину и меня с перепачканными смазкой инструментами в руках – больше ничего. Не вышло.
Он на самом деле не видит, что происходит, и ему неинтересно ковыряться. Ему интереснее, что оно есть, чем что оно значит. Такой его взгляд – это важно. У меня ушло много времени, чтобы понять разницу, и для шатокуа имеет значение, что я эту разницу ясно понимаю.
Меня так ошарашил его отказ даже думать о всякой механике, что я все пытался навести его на эту тему, только не знал, с чего начать.
Хотел было подождать, пока что-нибудь не случится с его машиной: тут я и помогу ему ее починить, так его и втяну – но сам попал впросак, поскольку не понимал, насколько иначе он смотрит на мир.
У него начали соскальзывать рукоятки руля. Не сильно, сказал он, только если на них налегаешь. Я предупредил, чтоб он не вздумал затягивать гайки разводным ключом: нарушится хромовое покрытие и пойдут ржавые пятнышки. Он согласился взять мой набор метрических торцевых головок.
Когда он привез мотоцикл, я достал свои ключи, но заметил, что никаким подкручиванием гаек ничего не исправить, поскольку концы хомутиков накрепко защемлены.
– Надо расклинить их прокладкой, – сказал я.
– Что такое прокладка?
– Плоская тонкая полоска металла. Надо просто надеть ее на рукоятку под хомутик, чтоб можно было опять затянуть туже. Такими прокладками регулируют всякие машины.
– А-а, – сказал он. Заинтересовался: – Хорошо. Где их покупают?
– У меня есть, – злорадно сказал я, протягивая ему банку из-под пива.
Он сначала не понял. Потом переспросил:
– Что – банка?
– Конечно, – ответил я. – Лучший в мире склад прокладок.
Сам-то я считал, что это довольно умно. Сэкономить ему путешествие бог знает куда за прокладками. Сэкономить ему время. Сэкономить ему деньги.
Но, к моему удивлению, он не увидел тут ничего умного. К моему предложению отнесся как-то надменно.
А вскоре и вообще начал отлынивать, отмазываться – и не успел я понять, что он думает по этому поводу, он решил совсем не чинить никакие рукоятки.
Насколько я знаю, рукоятки болтаются до сих пор.
И сейчас мне кажется, что в тот день я его оскорбил.
У меня хватило дерзости предложить отремонтировать его новый «BMW» за восемнадцать сотен долларов, гордость полувекового германского совершенства, куском старой банки из-под пива!
Асh, du lieber![4]
С тех пор у нас с ним было очень мало разговоров об уходе за мотоциклом. Если точнее – совсем не было.
Чуть на него надавишь – и вдруг сам злишься, бог весть от чего.
В порядке объяснения должен сказать: алюминий от пивных банок мягок и липуч для металла. И тем совершенен. Не окисляется в непогоду – точнее, у него на поверхности всегда тонкий оксидный слой, поэтому дальше он не окисляется. Тоже неплохо.
Иными словами, любой истинный немецкий механик с полувековым стажем механического мастерства за плечами заключил бы, что вот это частное решение этой частной технической проблемы совершенно.
Некоторое время я думал: надо было потихоньку отойти к верстаку, вырезать из пивной банки прокладку, стереть краску, а потом вернуться и сказать, что нам несказанно повезло – у меня осталась последняя прокладка, специально импортированная из Германии. Это бы все и решило. Особая прокладка из личного запаса барона Альфреда Круппа, которому пришлось пойти на большие жертвы и ее продать. Тогда бы Джон точно умом тронулся.
Эта фантазия о прокладке от самого Круппа чуть поутешала меня, но затем испарилась, и я понял, что это я так мщу. На месте фантазии опять взошло старое ощущение, я уже говорил: будто дело тут не только в том, что лежит на поверхности. Следишь за такими несообразностями подолгу, а они иногда выводят к ошеломляющим откровениям. Со своей стороны я по наитию ощущал, что это мне не по плечу, если сперва не раскину мозгами, и потому я по обыкновению принялся извлекать причины и следствия, пытаясь увидеть, что же тут намешано – что заводит нас с Джоном в тупик различных взглядов на прекрасную прокладку. В механической работе вечно так. Завис. Просто сидишь, таращишься и думаешь, наобум ищешь новую информацию, уходишь и возвращаешься, а немного погодя возникают ранее не видимые факторы.
Вначале смутно, затем – с очертаниями все четче возникло такое объяснение: я видел эту прокладку интеллектуально, рационально, умозрительно – в расчет брались только научные свойства металла. Джон же рассматривал ее непосредственно, интуитивно, оттяжно. Я подходил к ней с точки зрения внутренней формы. Он – с точки зрения непосредственного внешнего вида. Я видел, что прокладка значит. Он – чем она является. Вот как я стал понимать эту разницу. А если видишь, чем прокладка является, в данном случае это угнетает. Кому понравится, что прекрасную, высокоточную машину чинят какой-то дрянью?
Кажется, я забыл упомянуть, что Джон – музыкант, барабанщик; играет с группами по всему городу и неплохо зарабатывает. По-моему, он обо всем думает так же, как об игре на ударных, – то есть не думает вообще. Просто делает. Просто существует с этим. На починку мотоцикла пивной банкой он отреагировал так же, как если бы кто-то запаздывал, когда он играет. У него внутри просто бухнуло, и все – он больше не хочет иметь с этим никаких дел.
Поначалу различие казалось довольно незначительным, но оно росло… и росло… и росло… пока я не понял, отчего проглядел его. Кое-что пролетает мимо потому, что крохотное, его просто не замечаешь. А чего-то не видишь, потому что оно огромно. Мы оба смотрели на одно и то же, видели одно и то же, говорили об одном и том же, думали об одном и том же, только он смотрел, видел, говорил и думал в абсолютно ином измерении.
На самом деле ему есть дело до техники. Просто в своем другом измерении он терпит крах и получает от нее отпор. Техника не хочет под него подстраиваться. Он же пытается подстроить ее под себя, предварительно ничего не обдумав, и только лажает и лажает, а потом лажи столько, что он сдается и проклинает все эти гайки-болты скопом. Не хочет или не может поверить, что не по всему на свете можно оттянуться.
Вот его измерение. Оттяжное. А поскольку я все время талдычу про механику, я ужасно квадратный. Сплошные детали, отношения, анализы, синтезы, надо постоянно что-то вычислять, а никакой механики здесь просто нет. Она где-то не здесь, она только думает, что здесь, а на самом деле – за миллионы миль отсюда. Вот в чем все дело. А Джон – прямо посередке этой разницы измерений, которая, я думаю, лежала в основе большинства перемен в культуре 60-х и до сих пор заново определяет то, как все мы смотрим вокруг. В результате возник «конфликт поколений». Из этой разницы проросли «бит» и «хип». А теперь понятно, что это измерение – не бзик, который исчезнет через год или пару лет. Оно тут надолго, потому что это серьезный и важный взгляд – он только выглядит несовместимым с разумом, порядком и ответственностью, а на самом деле нет. Вот мы и докопались до корней.
Ноги так онемели, что болят. Поочередно вытягиваю их и ворочаю ступнями вправо-влево, для разминки. Помогает, но устают те мышцы, что держат ноги на весу.
* * *
У нас тут конфликт видений реальности. Видимый мир у нас перед носом, здесь и сейчас – и есть реальность, чем бы ни считали его ученые. Таким его видит Джон. Однако мир, каким его являют научные открытия, тоже реальность, как бы он ни выглядел, и если люди в измерении Джона хотят удержать свое видение реальности, им придется постараться – тут не отмахнешься. Джон это поймет, едва подгорят его контакты.
Вот почему он так расстроился, когда не смог завести мотоцикл. То было вторжение в его реальность. В его оттяжном мировосприятии пробило дыру, а он не сумел принять вызов, поскольку под угрозой оказался весь стиль его жизни. В каком-то смысле Джон поддался тому же гневу, каким иногда пылали люди науки при виде абстрактного искусства. Ну или раньше пылали. Оно тоже не соответствовало их стилю жизни.
Вообще, конечно, здесь две реальности: одна – непосредственной художественной видимости, другая – внутреннего научного объяснения, и они не совпадают, не подходят друг к другу, и у них нет практически ничего общего. Вот так ситуация. У нас тут, можно сказать, проблемка.
На каком-то перегоне долгой заброшенной дороги видим одинокую бакалейную лавку. Внутри, в глубине устраиваемся посидеть на каких-то ящиках, пьем пиво из банок.
Уже сказывается усталость, болит спина. Я подталкиваю ящик к столбу, сажусь и расслабляюсь, откинувшись.
По лицу Криса видно, что ему погано. Долгий и трудный день. Еще в Миннесоте я сказал Сильвии, что на второй или третий день стоит ожидать спада в настроении – и вот пожалуйста. Миннесота… когда это было?
Женщина, в стельку пьяная, покупает пиво какому-то мужику, который остался в машине на улице. Никак не может выбрать марку, и жена хозяина уже злится. Тетка все равно ни на что не решается, но тут видит нас, подплывает, шатаясь, и спрашивает, не наши ли мотоциклы. Мы киваем. Она хочет покататься. Я устраняюсь, пусть разбирается Джон.
Он учтиво отнекивается, но тетка настырно лезет, предлагая за прогулку доллар. Я как-то пошучиваю, но не смешно, депрессия только хуже. Выходим, и снова – бурые холмы и жара.
В Леммон приезжаем уже совсем без сил. В баре слышим, что где-то южнее – стоянка для туристов. Джон хочет поставить палатки в парке прямо посреди города, – его заявление звучит странно и очень злит Криса.
Я так устал, что даже не помню, когда в последний раз со мной такое было. Остальные – тоже. Но тащимся через универсам, собираем какую-то бакалею – что приходит в голову – и с трудом укладываем все на мотоциклы. Солнце уже так низко, что засветло не успеем. Через час стемнеет. Мы никак не можем сдвинуться с места. Просто сачкуем, что ли?
– Давай, Крис, поехали, – говорю я.
– Не ори на меня. Я готов.
Уезжаем из Леммона по грунтовке, изможденные, едем, наверное, целую вечность, хотя долго быть не может: солнце по-прежнему над горизонтом. Лагерь пуст. Хорошо. Но осталось меньше получаса дневного света, а сил больше нет. Теперь самое трудное.
Пытаюсь распаковаться как можно быстрее, но от усталости так одурел, что бросаю все прямо у дороги, не замечая, насколько паршиво это место. Потом соображаю, что здесь слишком ветрено. Это ветер Высоких равнин. Тут полупустыня, все выжжено и сухо, если не считать озерка, большого пруда чуть ниже. Ветер дует от самого горизонта через озеро и лупит по нам резкими порывами. Уже прохладно. Ярдах в двадцати от дороги – какие-то чахлые сосенки, и я прошу Криса перенести все туда.
А он не слушается. Бредет куда-то к пруду. Переношу вещи сам.
Между ходками вижу, что Сильвия очень старательно устраивает нам кухню, хотя устала не меньше моего.
Солнце заходит.
Джон собрал валежник, но дрова такие большие, а ветер такой порывистый, что развести костер трудно. Надо порубить на щепки. Возвращаюсь к сосенкам и в сумерках пытаюсь найти в вещах мачете, но уже так темно, что ни черта не видно. Нужен фонарик. Ищу фонарик, но в темноте и его кошки съели.
Возвращаюсь, завожу мотоцикл и еду обратно искать фонарик при свете фары. Методично перерываю все. Далеко не сразу соображаю, что не фонарик мне нужен, а мачете, который у меня перед носом. Пока я ходил за мачете, Джон развел огонь. Все равно раскалываю несколько больших поленьев.
Появляется Крис. Фонарик – у него!
– Когда будем есть? – хнычет он.
– Как только, так сразу, – отвечаю я. – Оставь фонарик здесь.
Опять исчезает, прихватив фонарик.
Ветер задувает пламя, и оно не достает до жарящихся стейков. Собрав большие камни у дороги, мы пытаемся соорудить защитную стенку, но слишком темно. Подводим оба мотоцикла, и стройка освещается перекрестными лучами фар. Странный свет. Ветер раздувает пепел, который вдруг вспыхивает белым в лучах, а потом исчезает вовсе.
БАХ! У нас за спинами что-то громко взрывается. Потом я слышу, как хихикает Крис.
У Сильвии все валится из рук.
– Я нашел хлопушки, – говорит Крис.
Успеваю сдержаться и холодно говорю ему:
– Пора есть.
– Мне нужны спички, – отвечает он.
– Сядь и поешь.
– Сначала дай мне спички.
– Сядь и поешь.
Садится, и я пытаюсь разрезать стейк армейским столовым ножом, но мясо слишком жесткое, и я взамен достаю охотничий. На меня падает свет фары, поэтому когда я кладу нож на место, он попадает в тень, и я не вижу, где он.
Крис говорит, что у него тоже не получается разрезать, и я передаю ему нож. Протянув за ним руку, он вываливает все на брезент.
Никто не произносит ни слова.
Я не сержусь на то, что он все опрокинул, – я сержусь, что весь остаток поездки брезент будет в жире.
– Еще есть? – спрашивает он.
– Ешь это, – отвечаю я. – Это же брезент, а не земля.
– Все равно грязь, – говорит он.
– Значит, больше ничего нет.
Накатывает депрессия. Хочется просто уснуть. Но Крис злится, и я жду его обычных капризов. Дождался.
– Невкусно, – говорит он.
– Что поделать, Крис.
– Я ничего не хочу. Мне вообще здесь не нравится.
– Сам же придумал, – напоминает ему Сильвия. – Ты же хотел палатки ставить.
Лучше б она этого не говорила, но откуда ж ей знать? Заглатываешь его приманку, а он подбрасывает еще одну, потом еще и еще, пока, наконец, его не стукнешь, а на это он и напрашивался.
– Мне наплевать, – говорит он.
– И очень зря, – отвечает она.
– А все равно.
Близится взрыв. Сильвия и Джон смотрят на меня, но я сижу с каменным лицом. Очень жаль, что так получилось, но сейчас ничего поделать не могу. Любые споры только все усугубят.
– Я не хочу есть, – говорит Крис.
Никто не отвечает.
– У меня болит живот, – говорит он.
Взрыва не будет: Крис поворачивается и уходит в темноту.
Доедаем. Помогаю Сильвии вымыть посуду, а потом садимся ненадолго у костра. Фары выключаем, чтоб не сажать аккумуляторы – ну и все равно это не свет, а уродство. Ветер поутих, и костер слабо светит. Немного погодя глаза привыкают. Еда и злость несколько сняли сонливость. Крис не возвращается.
– Не думаешь, что так он тебя просто наказывает? – спрашивает Сильвия.
– Думаю, – отвечаю я, – хотя дело не в этом. – Немного поразмыслив, добавляю: – Это термин из детской психологии, а такой контекст мне не нравится. Давай лучше просто скажем, что он – отпетый мерзавец.
Джон посмеивается.
– Ладно, – говорю я, – хороший был ужин. Вы уж меня за сына извините.
– Да все в порядке, – отвечает Джон. – Только жалко, что он ничего не поест.
– Ему хуже не станет.
– Не боишься, что он заблудится?
– Нет, тогда он начнет орать.
Криса нет, делать нам нечего, и тут в меня проникает окружающее пространство. Нигде ни звука. Одинокая прерия.
Сильвия говорит:
– А у него, по-твоему, правда болит живот?
– Да, – несколько догматично отвечаю я. Скверно, что тема не заглохла, но они заслуживают объяснения получше. Вероятно, чувствуют: здесь кроется больше, чем сказано. – Уверен, что болит, – наконец произношу я. – Его уже раз десять проверяли. Однажды было так плохо, мы думали, что аппендицит… Помню, мы поехали в отпуск на север. Я только закончил составлять конструкторское предложение на пятимиллионный контракт – оно меня едва не прикончило. Там же совсем другой мир. Ни времени, ни терпения – и шесть сотен страниц информации, которые надо сдать за неделю кровь из носу. Я уже был почти готов убить трех разных людей – и вот мы решили, что лучше на некоторое время податься в леса… Уже не помню, куда именно мы приехали. Голова кругом шла от технических данных, а Крис просто криком кричал. До него дотронуться нельзя было, пока я наконец не сообразил, что надо быстро его хватать и везти в больницу. Где она была, я напрочь забыл, но у Криса там ничего не нашли.
– Ничего?
– Ничего. Но были и другие разы.
– И врачи так и не понимают? – спрашивает Сильвия.
– Весной поставили диагноз – симптомы душевной болезни, в зачатке.
– Что? – переспрашивает Джон.
Стемнело так, что не видно ни Сильвии, ни Джона, ни очертаний холмов. Хочется услышать хоть что-нибудь вдали, но ничего не слышу. Не знаю, что им ответить, поэтому не говорю ничего.
Если вглядеться, различишь звезды над головой, но из-за костра их разглядеть трудно. Ночь вокруг непроницаемая и густая. Сигарета дотлела до пальцев, и я ее гашу.
– А я и не знала, – произносит голос Сильвии. Все следы злости растаяли. – Мы все думали, почему ты взял с собой его, а не жену. Хорошо, что сказал.
Джон подталкивает головешки в костер. Сильвия спрашивает:
– Как ты думаешь, из-за чего это?
Джон резко выдыхает, словно бы одергивая ее, но я отвечаю:
– Не знаю. Причины и следствия тут, похоже, не применимы. Причины и следствия – результат мысли. А мне кажется, душевная болезнь наступает еще до мысли.
Для них в этом нет смысла, я уверен. И для меня-то смысла не очень много, а я слишком устал, не могу рассудить и потому бросаю, не договорив.
– А что думают психиатры? – спрашивает Джон.
– Ничего. Я все прекратил.
– Прекратил?
– Да.
– Так лучше?
– Не знаю. Рационально я не могу объяснить, почему так не лучше. Мой собственный рассудок не дает. Я об этом думаю – обо всех «за», планирую визиты к врачам и даже ищу номер телефона. А потом разум запирает – будто захлопнулась дверь.
– Здесь что-то не так.
– Вот-вот, все так считают. Меня, наверное, хватит ненадолго.
– Но почему? – спрашивает Сильвия.
– Не знаю я, почему… просто… Не знаю… Они ведь не сокровенные…
Удивительное слово, думаю я, никогда его раньше не употреблял. Не сокровенные… Звучит как-то по-крестьянски… не одной крови, не под одним кровом… корни похожи… здесь и сокровище, и родство, и откровенность… они не могут ему быть внутренне близки – они не сокровники ему… Вот как, точно, да.
Старое слово – такое древнее, что почти ушло на дно. Как же все переменилось в веках-то. Теперь любой может «писать кровью сердца». И предполагается, что каждый так умеет. Но тогда, давно, с этим потаенным сродством рождался – и без откровенности уже было никак. А теперь она обычно всего лишь панцирь – как у педагогов в первый день учебного года, они просто покровители. Но что о задушевной откровенности знают те, кто не единокровники?
В мыслях кружит и кружит… mein Kind – родное дитя, кровиночка, сокровище мое. Вот оно – на другом языке. Mein Kinder… Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind[5].
От этого странность.
– О чем ты думаешь? – спрашивает Сильвия.
– Об одном старом стихотворении. Гете. Ему уже лет двести, наверное. Мне его как-то пришлось выучить. Не знаю, чего вдруг я его сейчас вспомнил, вот только… – Странность возвращается.
– О чем оно? – спрашивает Сильвия.
Пытаюсь припомнить:
– Человек едет в бурю по берегу. Это отец, с ним – его сын, которого он крепко прижимает к себе. Он спрашивает сына, почему тот так побледнел, а сын отвечает: «Папа, разве ты не видишь призрака?» Отец пытается успокоить мальчика: мол, это всего лишь туман над водой да шелест листьев на ветру, но сын твердит, что это призрак, и отец скачет в ночи все быстрее.
– А чем заканчивается?
– Плохо… ребенок умирает. Призрак победил.
Ветер раздувает угли в костре, и я вижу, что Сильвия потрясенно смотрит на меня.
– Но то – другая страна и другое время, – говорю я. – Здесь же в конце – только жизнь, и призраки не имеют значения. Я в это верю. В это все я тоже верю, – продолжаю я, глядя в темную прерию, – хотя пока не уверен, что все это значит… Я в последнее время почти ни в чем не уверен. Может, поэтому так много болтаю.
Угли все тусклее. Курим по последней. Крис – где-то в темноте, но я не собираюсь бегать за ним по кустам. Джон старательно молчит, Сильвия тоже молчит, и вдруг все мы – порознь, одиноки в личных вселенных и никакой связи между нами нет. Мы заливаем огонь и возвращаемся в сосенки к спальным мешкам.
Обнаруживаю, что единственное наше убежище среди крохотных виргинских сосен, куда я положил спальники, – еще и приют от ветра для миллионов комаров с пруда. Репеллент не останавливает их вообще. Забираюсь поглубже в мешок, оставляю только дырочку для воздуха. Уже почти сплю, когда наконец появляется Крис.
– Там здоровая куча песка, – говорит он, хрустя ногами по хвое.
– Да, – отвечаю я. – Ложись спать.
– Ты бы видел. Завтра сходишь и посмотришь, ладно?
– У нас не будет времени.
– А утром можно там поиграть?
– Да.
Он никак не может раздеться и залезть в спальник. Наконец шорохи стихают. Затем начинает ворочаться. Потом все опять тихо, а потом опять ворочается. Окликает меня:
– Пап?
– Что?
– Как было, когда ты был маленьким?
– Да спи же, Крис! – Есть предел тому, что ты в силах выслушивать.
Слышу резкий всхлип – видимо, Крис плачет, – и не сплю, хоть и вымотан до предела. Несколько слов его бы утешили. Он старался. Но слова почему-то не приходят. Слова утешения – это больше для чужих, для больниц, не для единокровников. Такие эмоциональные пластырики – не для Криса, не они нужны… Не знаю, что нужно – ни ему, ни вообще.
Из-за сосен медленно выплывает полная луна, и по ее медленной, терпеливой дуге через все небо я отмеряю свой полусон, за часом час. Слишком устал. И луна, и странные сны, и комариный зуд, и обрывки воспоминаний беспорядочно мешаются в нереальном утраченном пейзаже, где сияет луна и в то же время лежит туман, а я скачу на лошади, и Крис со мной, и лошадь перескакивает ручей, бегущий где-то по песку к океану. А потом все ломается… И возникает вновь.
И в тумане является подобие фигуры. Она исчезает, если смотреть на нее прямо, но потом я ее опять вижу краем глаза. Я хочу сказать что-то, позвать ее, узнать ее; но осекаюсь, понимая, что признать ее хоть жестом – значит дать ей реальность, которой у нее быть не должно. Однако фигуру я узнаю, хоть и не даю себе признаться в этом. Федр.
Злой дух. Очень злой и безумный. Из мира без жизни и без смерти.
Фигура тает, и я давлю в себе панику… крепко… не спеша… пусть проникнет глубже… ни веря в нее, ни не веря… но волосы встают дыбом у меня на затылке… зовет Криса, что ли?.. Да?..
6
На часах девять. И спать уже слишком жарко. За пределами спальника солнце высоко. Воздух вокруг чист и сух.
Поднимаюсь, разлепляю глаза, все тело после ночи на земле ломит.
Во рту пересохло, губы потрескались, а лицо и руки все в комариных укусах. Болит какой-то вчерашний солнечный ожог.
За соснами – выжженная трава, глыбы земли и песок; все так ярко, что глаза режет. Жара, тишина, голые холмы и пустое небо – какое-то огромное, напряженное пространство.
Ни капли влаги в небе. Сегодня будет пекло.
Выхожу из сосен на полосу голого песка среди кое-какой травы и долго смотрю, размышляю…
Я решил: с сегодняшнего шатокуа начну исследовать мир Федра. Раньше-то я намеревался просто изложить некоторые его взгляды на технику и человеческие ценности, а про него самого не упоминать, но вчера вечером мысли и воспоминания вывели меня на другую тропу. Умалчивать о нем сейчас значило бы сбегать от того, чего бежать не следует.
Крис рассказывал о бабушке своего друга-индейца, а едва забрезжило серое утро, я вспомнил и мне кое-что стало ясно. Бабушка говорила, что призраки являются, если кого-то неправильно похоронили. Так и есть. Его не похоронили правильно, вот в чем загвоздка.
Немного погодя оборачиваюсь и вижу: Джон уже встал и недоуменно глядит на меня. Еще толком не проснулся, бродит кругами, чтобы очухаться. Сильвия вскоре тоже поднимается, а левый глаз у нее заплыл. Спрашиваю, что случилось. Комары искусали, говорит. Укладываю пожитки на мотоцикл. Джон тоже.
Когда все упаковано, разводим костер, а Сильвия разворачивает бекон, яйца и хлеб на завтрак.
Еда готова, и я иду будить Криса. Вставать он не хочет. Бужу еще. Отказывается. Хватаю низ спальника, мощно дергаю, как скатерть со стола, и Крис, хлопая глазами, вываливается прямо на хвою. Не сразу соображает, что произошло, а я пока сворачиваю спальник.
С оскорбленным видом он приходит завтракать, откусывает разок, говорит, что не голоден и у него болит живот. Показываю на озерцо под нами – странность посреди полупустыни, – но он не проявляет интереса. Только на живот опять жалуется. Пропускаю мимо ушей, Джон и Сильвия тоже не обращают внимания. Я рад, что они теперь знают про Криса. Иначе возникли бы трения.
Молча доедаем, и я, странное дело, умиротворен. Может, оттого, что решил, как поступить с Федром. Но дело, возможно, еще и в том, что футах в ста под нами озеро – смотрим поверх него в некие западные дали. Голые холмы, нигде ни души, ни звука. Что-то воодушевляет в таких местах и наводит на мысль: все, наверное, образуется.
Загружая остаток вещей на багажную раму, с удивлением замечаю, что задняя шина сильно изношена. Должно быть, сказались и скорость, и тяжелая поклажа, и вчерашняя жара на дороге. Цепь тоже провисает, достаю инструменты отрегулировать ее – и тяжко вздыхаю.
– Что случилось? – спрашивает Джон.
– В регуляторе цепи резьбу сорвало.
Вытаскиваю регулирующий винт и осматриваю нарезку:
– Сам виноват – сорвал, когда пытался подтянуть, не ослабив осевой гайки. А болт еще хороший. – Показываю. – Видимо, внутренняя резьба в раме сорвана.
Джон долго глядит на колесо.
– До города доедешь?
– Ну еще бы. Целую вечность продержится. Просто цепь будет трудно подтягивать.
Он внимательно смотрит, как я выбираю гайку задней оси, но пока не туго, подстукиваю ее молотком в сторону, чтобы цепь натянулась, потом затягиваю гайку изо всех сил, а то ось потом соскользнет вперед, и ставлю шплинт на место. В отличие от осевых гаек автомобиля, здесь это не влияет на тугую посадку подшипника.
– Как ты всему этому научился? – спрашивает Джон.
– Своим умом дошел.
– Я бы не знал, с чего начать.
Я думаю: да уж, всем проблемам проблема – с чего начать? Чтоб доехать до Джона, надо сдавать все дальше и дальше назад, и чем больше сдаешь, тем яснее видно, что осталось еще больше. Поначалу кажется пустячной проблемой понимания, а потом оборачивается огромным философским исследованием. Оттого, наверное, и шатокуа.
Пакую инструменты, закрываю боковые крышки и думаю: но до него доехать стоит.
Опять выезжаем, и воздух на дороге сушит испарину от этих цепных дел; некоторое время мне хорошо. Но когда пот опять высыхает, становится жарко. Уже, наверно, за восемьдесят.
По этой дороге никто не ездит, и движемся неплохо. В такой день хорошо путешествовать.
Обещанное я начну с того, что жил один человек. Больше его нет, но тогда ему было что сказать, и он это сказал, но ему никто не поверил или его по-настоящему не поняли. Забыли. Причины станут ясны позже, но я бы предпочел, чтоб о нем и не вспоминали, однако выбора нет, придется вновь открыть его дело.
Я не знаю его истории полностью. И никто никогда ее не узнает – только сам Федр, а он больше не говорит. Но по его записям, по чужим рассказам, по обрывкам моих же воспоминаний должно сложиться некое подобие того, о чем он говорил. Поскольку основные идеи для этого шатокуа были заимствованы у него, мы особо ничего не исказим – только расширим, и шатокуа станет понятнее, чем если излагать абстрактно. Цель расширения – не агитировать за Федра и, уж конечно, не превозносить его. Цель – похоронить его. Навсегда.
Когда мы в Миннесоте ехали по болотам, я упоминал о «формах» техники, о «силе смерти», от которой, похоже, бегут Сазерленды. Теперь я хочу двинуться прочь от Сазерлендов, навстречу этой силе – и в самое ее ядро. Так мы вступим в мир Федра – единственный мир, который он знал, где все понимание происходит через внутреннюю форму.
Мир внутренней формы обсуждать непривычно, поскольку сам он по сути – способ обсуждения. Ведь предмет описываешь по внешнему виду либо по внутренней форме, и когда пытаешься описать сами эти способы описания, возникает, можно сказать, базовая проблема. Нет базы, с которой можно их описывать, кроме самих этих способов.
Прежде я описывал его мир внутренней формы – или хотя бы один его аспект, называемый техникой, – лишь с внешней точки зрения. Теперь, по-моему, правильнее будет говорить об этом мире внутренней формы с точки зрения самого этого мира. Я хочу говорить о внутренней форме самого мира внутренней формы.
Для этого сперва необходимо противопоставление, но прежде, чем я смогу честно что-то противопоставлять, надо сдать назад и пояснить, чем оно, это противопоставление, является и что означает. А это само по себе долгая история. С задним ходом всегда так. Но вот сейчас я просто хочу противопоставить, а объяснять буду потом. Разделим человеческое понимание на два вида – классическое и романтическое. К истинному пониманию эта дихотомия вряд ли приблизит, но она вполне законна в рамках классического способа, которым открывают или создают мир внутренней формы. Федр употреблял понятия классический и романтический в таком смысле.
Классическое понимание видит внутреннюю форму мира. Романтическое – его непосредственный внешний вид. Если показать машину, механический чертеж или электронную схему романтику, вероятнее всего, он не увидит в них ничего особо интересного. Они его не притягивают, поскольку он видит реальность одной поверхности. Скучные сложные списки названий, линии и цифирь. Что тут занимательного? Но если показать тот же чертеж или схему, дать то же описание человеку классическому, он взглянет на него и проникнется его очарованием, поскольку увидит в линиях, формах и символах потрясающее богатство внутренней формы.
Романтический способ прежде всего вдохновляет, будит воображение, творчество, интуицию. В нем скорее доминируют чувства, а не факты. «Искусство», противопоставленное «Науке», зачастую романтично. Романтический способ не подчиняется разуму или законам. Он подчиняется чувству, интуиции и эстетическому сознанию. В культурах Северной Европы романтический способ обычно ассоциируют с женским началом, но это, конечно, не обязательно.
Классический способ, напротив, управляется разумом и законами, которые сами по себе – внутренние формы мышления и поведения. В европейских культурах это главным образом мужской способ, и сферы науки, юриспруденции и медицины, как правило, не привлекают женщин именно поэтому. Езда на мотоцикле романтична, а уход за мотоциклом чисто классичен. Грязь, смазка, требуемое владение внутренней формой – все это сообщает ему столь отрицательное романтическое влечение, что женщины и близко к нему не подходят.
Хотя в классическом способе понимания часто обнаруживается поверхностное безобразие, внутренне оно этому способу отнюдь не присуще. Есть и классическая эстетика, которую романтики часто не замечают, уж очень она тонкая. Классический стиль прямолинеен, неприкрашен, неэмоционален, экономичен и строго пропорционален. Цель его – не вдохновлять эмоционально, а из хаоса извлекать порядок и неизвестное делать известным. Он не лишен эстетики вовсе, не естественен. Он эстетически сдержан. Все под контролем. Его ценность измеряется умением поддерживать этот контроль.
Романтику классический способ часто кажется скучным, неуклюжим и безобразным – как само техобслуживание. Сплошь детали, части, компоненты и пропорции. Ничего не вычисляется, пока десять раз не пропустишь через компьютер. Все надо измерять и доказывать. Подавляет. Тяжко. Бесконечно серо. Сила смерти.
Тем не менее, на классический взгляд, и у романтика имеется портрет. Романтик фриволен, иррационален, рассеян, ненадежен, главное для него – удовольствия. Он мелок. Нет ничего за душой. Зачастую – паразит, не способный или не желающий ничего делать сам. Настоящий тормоз общества. Что – знакомые боевые позиции?
Тут-то собака и зарыта. Люди склонны думать и чувствовать лишь в одном режиме, а посему неверно понимают и недооценивают суть другого способа. Но никто не желает отказываться от собственного видения истины и, насколько мне известно, никто из ныне здравствующих не смог по-настоящему примирить эти два способа или же истины. Нет такой точки, где бы эти видения реальности сошлись.
Вот поэтому в последнее время мы видим, как образуется громадный разлом между классической культурой и романтической контркультурой: два мира все более отчуждаются, наполняются ненавистью друг к другу; а все в это время недоумевают: всегда ли дом будет разделен сам в себе[6]? Ведь на самом деле никто разлома не хочет, что бы там ни думали противники в другом измерении.
В этом контексте и важны мысли и слова Федра. Но в то время никто его не слушал: сперва считали, что он просто эксцентрик, затем – нежелательный элемент, затем – слегка повернутый, а потом решили, что он поистине спятил. Теперь никто, пожалуй, и не сомневается, что он был безумен, но по его тогдашним записям понятно, что эта враждебность и сводила его с ума. Необычное поведение отчуждает людей, а это, в свою очередь, усугубляет необычное поведение, ведущее к отчужденности, и так далее, круги подпитывают сами себя, пока не доходит до какой-то кульминации. У Федра все закончилось полицейским арестом по распоряжению суда и постоянной изоляцией от общества.
Вижу слева поворот на шоссе 12, и Джон съезжает с дороги заправиться. Останавливаюсь возле.
Термометр у дверей заправки показывает 92 градуса.
– Сегодня опять будет круто, – говорю я.
Когда баки наполнены, идем к ресторану через дорогу выпить кофе. Крис, конечно, проголодался.
Я говорю ему, что так и думал. Либо он ест со всеми вместе, либо не ест вообще. Не сердито говорю. Обыденно. Смотрит с упреком, но понимает, что так оно и будет.
Мимоходом замечаю, что Сильвия смотрит с облегчением. Очевидно, боялась, что дело затянется.
Мы допиваем и опять выходим наружу, а там жара такая яростная, что мы как можно быстрее заводимся и отваливаем. Снова миг прохлады, но он быстро заканчивается. Выгоревшая трава и песок от солнца ярки – надо щуриться, чтобы глаза так не резало. Это шоссе 12 – старое и плохое. Разбитый бетон весь в пятнах мазута и буграх. Дорожные знаки предупреждают, что впереди объезды. По обочинам изредка встречаются ветхие сараи, хижины и придорожные ларьки – они копились тут годами. Сейчас здесь ездят много. Вполне можно подумать о рациональном, аналитическом, классическом мире Федра.
С античных времен его тип рациональности отдалял человека от скуки и депрессии того, что вокруг. Сейчас трудно поверить, что раньше с ее помощью бежали от всего, – так хорошо получилось, что сама эта рациональность стала «всем тем», от чего нынче бегают романтики. Мир Федра так трудно разглядеть не потому, что он странен, а потому, что обычен. Знакомость тоже может ослеплять.
Когда он смотрит на предмет, рождается описание, которое можно назвать «аналитическим». Та же классическая база, разговор через внутреннюю форму. Федр был донельзя классическим человеком. А чтобы описать полнее, я хочу аналитически подойти к его подходу – проанализировать анализ. И начать с обширного примера, а уж потом рассекать на составляющие. Удачный пример – мотоцикл, поскольку мотоцикл изобрели классические умы. Значит, так.
В классическом рациональном анализе мотоцикл делится по составным агрегатам и по функциям.
Если по составным агрегатам, основное деление – на силовой агрегат и ходовую часть.
Силовой агрегат делится на двигатель и механизм передачи вращения. Сначала возьмем двигатель.
Двигатель состоит из картера, содержащего коробку передач, топливно-воздушную систему, систему зажигания, тормозное устройство и систему смазки.
Передача состоит из цилиндров, поршней, шатунов, коленчатого вала и маховика.
Компоненты воздушно-топливной системы – части двигателя – включают бензобак с фильтром, воздушный фильтр, карбюратор, клапаны и выхлопные трубы.
Система зажигания состоит из генератора переменного тока, выпрямителя, батареи, высоковольтной обмотки и запальных свечей.
Тормозное устройство состоит из цепи распределительного вала, самого распредвала, толкателей и распределителя.
Система смазки состоит из масляного насоса и каналов для распределения масла, проходящих через картер.
Механизм передачи вращения, сопутствующий двигателю, состоит из сцепления, трансмиссии и цепи.
Несущая конструкция, сопутствующая силовому агрегату, состоит из рамы, включая подставки для ног, сиденье и брызговики; рулевого управления; переднего и заднего амортизаторов; колес; рычагов управления и кабелей; фонарей и звукового сигнала; спидометра и одометра.
Это – мотоцикл, разделенный по компонентам. Чтобы знать, для чего предназначены компоненты, необходимо разделение по функциям.
Мотоцикл делится на обычные двигательные функции и особые функции, контролируемые водителем.
Обычные двигательные функции подразделяются на функции цикла впуска, сжатия, рабочего хода и выхлопа.
И прочая. Можно и дальше перечислять, какие функции идут за какими в каком порядке в каждом цикле, потом перейти к функциям, контролируемым водителем, и у нас получится очень общее описание внутренней формы мотоцикла. Оно будет крайне коротким и рудиментарным – как и все такие описания. Почти о любом упомянутом компоненте можно распространяться до бесконечности. Я прочел целый технический том по одним контактам – простой, маленькой, но жизненно важной детали распределителя. Существуют и другие типы двигателя – не одноцилиндровые двигатели Отто, описанные выше: двухтактные, многоцилиндровые, дизельные, двигатели Ванкеля, – но нам хватит и этого примера.
Такое описание охватывает «что» мотоцикла через его компоненты и «как» двигателя через функции. Ему еще очень понадобится анализ «где» – в виде иллюстраций, – а также анализ «почему» в виде технических принципов, которые привели к данной совокупности деталей. Но цель наша – отнюдь не утомительный анализ мотоцикла. Цель – дать начальную точку, такой способ понимания, который сам станет объектом анализа.
Конечно же, на первый взгляд в этом описании нет ничего странного. Похоже на вводный курс или первый урок профобразования. Необычное начинает проглядывать, когда описание перестает быть способом дискурса и становится объектом дискурса. Тут-то есть во что ткнуть пальцем.
Первое замечание настолько очевидно, что его лучше придержать, а не то утопит остальные наблюдения. Вот оно: да это скучнее стоячей воды в канаве. Бу-бу, бу-бу, бу-бу, бу, карбюратор, передаточное число, сжатие, бу-бу-бу-бу, поршень, свечи, впуск, бу-бу, бу, дальше, дальше и дальше. Таков романтический лик классического способа. Скучно, неуклюже и безобразно. Сквозь него продираются очень немногие романтики.
Но если придержать это самое очевидное наблюдение, замечаешь и кое-что еще – сначала этого не видно.
Во-первых, мотоцикл, описанный так, почти невозможно понять, если не знаешь, как он работает. Пропали поверхностные впечатления, жизненно необходимые для первичного понимания. Осталась лишь внутренняя форма.
Во-вторых, нет наблюдателя. В описании не сказано: чтобы увидеть поршень, надо снять головку цилиндра. В этой картинке нигде нет «тебя». Даже «водитель» здесь – какой-то безликий робот, который совершенно механически выполняет функции. В описании нет субъектов. Только объекты, независимые от наблюдателя.
В-третьих, отсутствуют слова «хорошо», «плохо» и любые их синонимы. Никаких оценочных суждений, одни факты.
В-четвертых, здесь работает нож. Причем смертоносный – интеллектуальный скальпель, столь острый и быстрый, что иногда незаметно, как он движется. Создается иллюзия, будто все эти детали просто есть, их просто называют. Однако назвать их можно иначе, да и расположить по-другому – смотря как нож пойдет.
Например, тормозное устройство: распредвал, цепь распредвала, толкатели и распределитель, – существует лишь потому, что этим аналитическим ножом проведен необычный разрез. Если придешь в отдел запчастей для мотоцикла и спросишь у них «тормозной механизм», тебя вообще не поймут. Как таковое они его не вычленяют. Все производители дробят его по-своему, нет двух похожих, и каждый механик знаком с этой проблемой: не можешь купить запчасть потому, что ее невозможно найти – производитель считает ее деталью совсем другого узла.
Важно видеть этот нож, каков он есть, а не доверчиво полагать, будто мотоциклы или что угодно таковы лишь потому, что ножу вздумалось так их покромсать. Важно сосредоточиться на самом ноже. Потом я еще покажу, как умение творчески и эффективно работать этим ножом решает проблемы раскола классического и романтического.
Федр владел ножом мастерски, кромсал ловко и мощно. Одним ударом аналитической мысли рассекал целый мир на части как хотел, затем рассекал части и фрагменты частей, все тоньше, тоньше и тоньше – пока не уменьшал мир до желаемого размера. Даже особое употребление понятий «классического» и «романтического» – пример его мастерского владения ножом.
Если б дело было только в его аналитическом мастерстве, я бы немедленно заткнулся. Но Федр употребил это мастерство неподражаемо, однако так значимо, что очень важно не затыкаться. Никто не понимал – я даже думаю, что не понимал и он сам. Может, это моя личная иллюзия, только нож его был, по-моему, скорее скальпелем хирурга-коновала, чем кинжалом наемного убийцы. А может, разницы нет. Но он увидел нечто гадкое, больное и стал резать глубоко – все глубже и глубже, лишь бы добраться до корня. Он что-то искал. Вот что важно. Он что-то искал и за нож взялся потому, что другого инструмента у него не было. Но Федр взвалил на себя так много и в итоге зашел так далеко, что пал собственной жертвой.
7
Жара уже повсюду. Не отмахнешься. Воздух раскален, как муфельная печь, и глазам под очками прохладнее, чем остальному лицу. Рукам тоже прохладно, но на перчатках проступают темные пятна пота с белыми ободками подсохшей соли.
Впереди на дороге ворона клюет какую-то падаль и медленно взлетает, когда подъезжаем. Кажется, на асфальте валяется ящерица – высохла и прилипла.
На горизонте появляются очертания зданий, они слегка мерцают. Сверяюсь с картой: должно быть, Боумен. Воды б со льдом да кондиционер.
Почти никого не встречаем на улицах Боумена, хотя стоит много машин – значит, все дома. Внутри. Въезжаем на изогнутую углом стоянку и резко разворачиваемся, чтобы без помех выехать обратно, когда соберемся. Одинокая пожилая личность в широкополой шляпе наблюдает, как мы ставим мотоциклы на подпорки, снимаем шлемы и очки.
– Не жарко? – спрашивает он. На его лице ничего не написано.
Джон качает головой:
– Бож-же!
Лицо под шляпой вроде как щерится.
– А сколько сегодня? – спрашивает Джон.
– Сто два, – отвечает тот, – когда смотрел последний раз. Должно до ста четырех дойти.
Спрашивает, сколько мы проехали, сообщаем, и он как-то одобрительно кивает:
– Много.
Потом заводит речь про машины.
Нас манят пиво и кондиционер, но пожилую личность мы не обламываем. Стоим на стодвухградусной жаре и с ним беседуем. Старик – скотовод, на пенсии, говорит, что в округе много пастбищ, а много лет назад у него был мотоцикл марки «хендерсон». Мне нравится, что ему обязательно хочется рассказать про этот «хендерсон» в стодвухградусном пекле. Еще немного с ним беседуем, нетерпение Джона, Сильвии и Криса растет, а когда наконец прощаемся, старик говорит, что рад был познакомиться, и хотя лицо его по-прежнему ничего не выражает, ясно, что он сказал правду. Уходит прочь с неким медлительным достоинством в эту стодвухградусную жару.
В ресторане пытаюсь что-то про него сказать, но никому не интересно. Джон и Сильвия, похоже, совсем ошалели. Просто сидят и впитывают кондиционированный воздух, вообще не шевелятся. Подходит официантка, и они чуточку встряхиваются, но заказывать не готовы, и она опять уходит.
– По-моему, я не хочу никуда отсюда уезжать, – произносит Сильвия.
Перед глазами снова встает человек в широкополой шляпе. Я говорю:
– Подумайте, каково здесь было до кондиционеров.
– Я об этом и думаю, – отвечает она.
– По таким раскаленным дорогам с лысой резиной на заднем колесе больше шестидесяти нельзя.
Никакой реакции.
А вот с Криса, похоже, как с гуся вода: он начеку и за всем наблюдает. Приносят еду, он сметает все и, не успеваем мы осилить и половины, просит добавки. Ему приносят, и теперь ждем, пока доест он.
Много миль спустя жара такая же зверская. Ярко так, что ни мотоциклетные, ни темные очки не спасают. Тут нужен щиток сварщика.
Высокие равнины ломаются на линялые, изрезанные холмы. На всем – яркий белесый налет. Ни травинки. Лишь стебли сорняков кое-где, камни, песок. На черную дорогу смотришь с облегчением, и я не свожу с нее глаз – она мелькает под ногой. Рядом левый выхлоп: труба аж поголубела, такого оттенка раньше не было. Плюю на кончики пальцев в перчатке, трогаю – слюна шипит. Нехорошо.
Теперь важно просто сжиться с этим, а не мысленно сражаться… контроль разумом…
Пора поговорить о ноже Федра. Может, станет понятнее то, о чем было выше.
Каждый применяет этот нож, делит мир на части и строит такое здание. Мы все время сознаем миллионы вещей вокруг: эти летящие силуэты, эти пылающие холмы, звук двигателя, полный газ, каждый камешек, сорняк, столб забора и куча мусора у дороги – мы сознаем все это, но не очень-то осознанно, если не замечаем ничего необычного или если все это не отражает того, что мы уже предрасположены в нем увидеть. Невозможно ко всему относиться осознанно и все запоминать, потому что иначе ум так переполнится бесполезными деталями, что мы просто не сможем мыслить. Из этого сознавания мы обязаны выбирать, и нами выбранное уже называется осознанием – оно никогда не равно сознаванию, поскольку в процессе выбора мутирует. Зачерпываем горсть песка из бескрайнего ландшафта сознавания и называем эту горсть песка миром.
Как только нам достается эта горсть песка – мир, который мы осознаем, – ее начинает обрабатывать разделение. Это и есть нож. Мы делим песок на части. Это и то. Здесь и там. Черное и белое. Теперь и тогда. Различение – это деление осознанной вселенной на части.
Горсть песка вначале выглядит однородной, но чем дольше мы вглядываемся, тем она разнообразнее. Все песчинки различны. Двух одинаковых нет. Одни схожи так, другие иначе, и мы можем разложить песок на кучки по сходствам и различиям. По оттенкам – по размерам – по форме – по подвидам форм – по степени прозрачности – и так далее, дальше и дальше. Казалось бы, процесс подразделения и классификации где-нибудь подойдет к концу, но он не приходит. Он только длится.
Классическое понимание занимается кучками песка, основанием для их сортировки и взаимоотношениями между ними. Романтическое направлено на горсть песка до начала сортировки. Оба они – правомерные взгляды на мир, хотя друг с другом непримиримы.
А насущно такое мировоззрение, которое не калечило бы ни того, ни другого понимания, а объединяло бы их. Такое единое понимание не станет отрицать ни сортировки песка, ни созерцания нерассортированного. Напротив, такое понимание обратится ко всему бескрайнему пейзажу, из которого взят песок. Как раз это и пытался делать Федр, бедный хирург.
Чтобы это понять, необходимо в самом пейзаже увидеть фигуру, которая раскладывает песок на кучки, понять, что она – часть пейзажа, неотделимая от него и требующая понимания. Видеть пейзаж, не замечая фигуры, – не видеть пейзажа вообще. Отрицать ту ипостась Будды, что анализирует мотоциклы, – вообще не замечать Будду.
Есть такой непреходящий классический вопрос: какая деталь мотоцикла, какая крупица песка в какой кучке и есть Будда? Очевидно, что задавать такой вопрос – значит смотреть не туда, ибо Будда – везде. Но столь же очевидно, что задавать такой вопрос – значит смотреть именно туда, ибо Будда – везде. Много уже говорилось о том, что Будда существует независимо от любой аналитической мысли; некоторые решили бы, даже слишком много, им сомнительны попытки что-либо к этому добавить. Но практически ничего не говорилось о том, что Будда существует в само́й аналитической мысли и задает ей направление; умолчанию этому есть свои исторические причины. Однако история длится дальше, и, наверное, не будет вреда – а может, будет и позитивное добро, – если прибавить к нашему историческому наследию чуток разговоров в этой дискурсивной сфере.
Когда аналитическая мысль – нож – применяется к опыту, что-то обязательно умерщвляется. Это всем относительно ясно – по крайней мере в искусствах. Вспомним Марка Твена: едва он овладел аналитическим знанием, необходимым для проводки судов по Миссисипи, река утратила свое очарование. Что-то всегда гибнет. Но гораздо меньше в искусствах заметно другое: нечто еще и всегда создается. Не стоит зацикливаться на смерти – гораздо важнее видеть рождение и рассматривать всю непрерывность жизни-смерти, которая ни хороша, ни плоха – она просто есть.
Проезжаем городок под названием Мармарт, но Джон не останавливается даже на перекур, и мы едем дальше. Опять жара, как в печке, какие-то изрытые пустоши – и вот уже пересекаем границу Монтаны. Об этом гласит щит у дороги.
Сильвия машет руками, и я в ответ жму на клаксон, однако на щит гляжу без радости. Надпись вдруг напрягает меня внутри – с Сазерлендами такого быть не может. Откуда им знать, что мы сейчас там, где жил он.
Пока вся эта болтовня о классическом и романтическом понимании в описании самого Федра наверняка похожа на некий странный объезд, но к сути ведет лишь этот окольный путь. Описывать физическую внешность Федра или его биографические данные – скользить поверх, это заведет нас не туда. Идти же к нему напрямик – только навлечь беду.
Он был безумен. А когда смотришь на безумца прямо, видишь лишь отражение собственного знания того, что он безумен; человека не видишь вообще. Чтобы его увидеть, надо видеть то, что видел он, а в охоте на видение безумца самое действенное – объезд. Иначе дорогу перекрывают твои собственные мнения. К Федру есть только один проход, и нам еще ехать и ехать.
Я погрузился во все эти анализы, определения и иерархии не просто так, а чтобы заложить фундамент понимания того, куда шел Федр.
Тогда ночью я сказал Крису, что Федр всю жизнь гнался за призраком. Так оно и было. Призрак, за которым он гнался, – внутренний призрак всей техники, всей современной науки, всего западного мышления. Призрак самой рациональности. Я сказал Крису, что когда Федр его нашел – хорошенько отдубасил. Говоря фигурально, это правда. Федр при этом нечто приоткрыл, и я надеюсь извлечь это на свет, пока мы едем. Теперь такие времена, что, может, еще кому пригодится. А тогда никто не желал замечать призрака, за которым гнался Федр, но сейчас, мне кажется, его видит все больше и больше народу, либо же он мелькает в скверные моменты. Этот призрак называет себя рациональностью, однако снаружи он бессвязен и бессмыслен, и даже самые нормальные повседневные поступки выглядят чуточку ненормальными, поскольку ни с чем не соразмерны. Это призрак нормальных повседневных допущений – он объявляет, что конечная цель жизни, оставаться живым, недостижима, однако не перестает быть конечной целью жизни. Великие умы сражаются с болезнями, чтобы люди жили дольше, и только безумцы спрашивают: на фига? Дольше живут для того, чтобы жить дольше. Другой цели нет. Так говорит призрак.
* * *
В Бейкере останавливаемся, термометры показывают 108 в тени. Снимаю перчатки – бензобак так раскален, что не дотронуться. Двигатель зловеще потрескивает от перегрева. Очень плохо. Задняя шина тоже сильно стерлась, и я, приложив ладонь, чувствую, что она горячая, как бензобак.
– Придется ехать медленнее, – говорю я.
– Что?
– Думаю, не следует выжимать больше пятидесяти.
Джон смотрит на Сильвию, а та на него. Между собой они уже явно обсудили мою медлительность. Похоже, еще немного – и с обоих хватит.
– Побыстрей бы доехать, – высказывается Джон, и они идут к ресторану.
Цепь тоже раскалилась и пересохла. В правой седельной сумке нашариваю баллончик со смазкой, завожу двигатель и брызгаю на движущуюся цепь. Она еще не остыла, и раствор испаряется почти мгновенно. Выпускаю струйку масла, пусть двигатель немного поработает, затем выключаю. Крис терпеливо ждет, а потом идет за мной в ресторан.
– По-моему, ты говорил, что большой упадок наступит на второй день, – говорит Сильвия, когда мы подходим к кабинке, где они с Джоном уже расположились.
– На второй или на третий, – отвечаю я.
– Или на четвертый и пятый?
– Может быть.
Они с Джоном снова переглядываются с тем же видом. Кажется, это значит: «Третий лишний». Может, хотят поехать быстрее и дождаться меня в каком-нибудь городке впереди. Сам бы предложил, но если они поедут сильно быстрее, ждать меня в городке им не придется. Ждать меня они будут в кювете.
– Не знаю, как местные это терпят, – говорит Сильвия.
– Здесь трудно, знаешь ли, – отвечаю я с некоторым раздражением. – Они знают, что здесь трудно, еще не приехав сюда, и они к этому готовы… Если кто-то жалуется, – прибавляю я, – остальным становится еще труднее. У них есть стойкость. Они умеют не останавливаться.
Джон и Сильвия не очень разговорчивы; Джон быстро допивает кока-колу и отходит к бару за рюмашкой. Выхожу и снова проверяю багаж: при последней упаковке вещи немного ужались, и я выбираю слабину и все перевязываю снова.
Крис показывает нам термометр на солнце, и мы видим, что столбик зашел далеко – за 120.
Еще не выехали из города, а я уже опять взмок. На ветру высыхаю меньше чем за полминуты.
Жара припечатывает. Даже в темных очках надо щуриться. Вокруг лишь пылающий песок и бледное небо – такое яркое, что трудно смотреть. Все раскалилось добела. Преисподняя.
Джон разгоняется впереди все быстрее. Ладно, черт с ним – я сбрасываю скорость до 55. Если не хочешь в такую жару неприятностей, не станешь терзать покрышки на 85. Лопнет на таком участке шина – и кранты.
Видать, они решили, что я дал им отповедь, но я и не собирался. Мне в такую жару ничем не лучше, но залипать не имеет смысла. Весь день, пока я вспоминал и говорил о Федре, они, должно быть, думали о том, как все плохо. Вот что их изнашивает. Мысль.
О Федре как личности тоже есть что сказать.
Знаток логики, классической «системы систем», описывающей правила и процедуры систематического мышления, которым структурируется и взаимоувязывается аналитическое знание. Федр был в этом так спор, что его коэффициент интеллекта Стэнфорда – Бине – по сути, запись навыков аналитической манипуляции – доходил до 170, а такой показатель встречается у одного из пятидесяти тысяч.
Федр был систематичен, но утверждать, будто он думал и действовал, как машина, – это неверно понимать природу его мысли. Не поршни, колеса и шестерни, что движутся одновременно, массивно и согласованно. Скорее – лазерный луч, одинокая игла света столь ужасающей энергии и столь концентрированный, что направишь его на Луну – и он отразится на Землю. Своей яркостью Федр не пытался ничего освещать. Он выискивал конкретную далекую мишень, целился в нее и попадал. Все. Освещать эту пораженную мишень досталось мне.
Одинок он был так же, как и умен. Нет данных о том, что у него были близкие друзья. Он путешествовал один. Всегда. Даже в обществе он был совершенно один. Иногда люди это чувствовали, их это отталкивало, и они Федра не любили, однако их неприязнь была ему безразлична.
Больше всего, пожалуй, страдали жена и семья. Жена утверждает, что, если кто-то пытался проникнуть за барьеры его сдержанности, им открывалась пустота. По-моему, они тянулись к теплу, но он никогда не грел.
Никто его по-настоящему не знал. Очевидно, этого он и добивался, и ему удалось. Возможно, интеллект и породил одиночество. Или оно породило интеллект. Но они всегда шли бок о бок. Жуткая одинокая разумность.
Эти рассуждения тоже ни к чему не приводят: и они, и образ лазерного луча создают впечатление, будто Федр был абсолютно холоден и бесстрастен, а это не так. В погоне за тем, что я назвал призраком рациональности, он был фанатиком.
Сейчас особенно ярко всплывает один случай в горах: солнце уже полчаса как скрылось за вершиной, и в ранних сумерках деревья и даже скалы стали почти зачерненными тенями синего, серого и бурого. Федр сидел здесь без еды уже три дня. Еда закончилась, но он так глубоко задумался, у него начались такие видения, что уходить не хотелось. Дорога недалеко, он про нее знал и потому не спешил.
По тропе спускались сумерки, и он заметил какое-то движение – вроде собака подходит, крупная овчарка, но вероятнее – лайка. Что делать собаке в такой глуши в такой поздний час? Собак Федр не любил, но животное подходило так, словно предвидело его нелюбовь. Казалось, пес наблюдает за ним, оценивает. Федр долго и пристально смотрел ему в глаза – и вдруг вроде бы что-то в нем признал. А потом пес исчез.
Много позже Федр понял: то был лесной волк – и долго еще помнил об этой встрече. Думаю, потому, что увидел свое подобие.
Фотография являет физический образ, в котором время статично, а зеркало – физический образ, в котором время динамично, но, мне кажется, на горе Федр увидел совершенно иное: тот образ не был физическим и вовсе не существовал во времени. И однако это был образ – потому-то Федр и поймал себя на узнавании. Я все это помню так живо до сих пор, потому что опять видел этот образ вчера ночью – как лик самого Федра.
Подобно тому лесному волку на горе, в Федре была некая животная отвага. Федр шел своим путем, не заботясь о последствиях, – это его наплевательство тогда часто ошеломляло людей, а рассказы о нем ошеломляют меня и сейчас. Он нечасто отклонялся влево или вправо. До этого я докопался. Но отвага его происходила вовсе не из идеалистического самопожертвования, а лишь из упорства его погони, и в этой отваге не было ничего благородного.
Думаю, он охотился за призраком рациональности потому, что хотел ему отомстить, – чувствовал, что это призрак его таким и сделал. Хотел освободиться от собственного образа. Хотел его уничтожить, поскольку призрак был тем, чем был он сам, а ему хотелось освободиться от уз собственной личности. Хоть и странным манером, этой свободы он добился.
Кажется, наверное, что эти воспоминания «не от мира сего», но самая запредельная их часть нам еще предстоит. Мои отношения с Федром. Раньше я их отодвигал и затемнял, однако рассказать нужно.
Я впервые обнаружил Федра много лет назад путем умозаключений из одной странной цепи событий. Как-то в пятницу я отправился на работу, перед выходными сделал довольно много, обрадовался и поехал на вечеринку, где разговаривал со всеми слишком долго и громко, а выпил гораздо больше, чем следовало. Потом ушел в заднюю комнату ненадолго прилечь.
Проснувшись, я увидел, что проспал всю ночь, потому что уже рассвело, и подумал: «Господи, я даже не знаю, как зовут хозяев». Неловко ведь будет. Комната не походила на ту, где я прилег, но когда я заходил, было темно, а я к тому же нализался до помутнения рассудка.
Я встал и увидел, что на мне другая одежда. Не та, что вечером. Я вышел за дверь, но, к моему удивлению, снаружи оказались не комнаты, а длинный коридор.
Я шел по нему, и, по-моему, все на меня смотрели. Трижды незнакомые люди останавливали меня и спрашивали, как я себя чувствую. Полагая, что они имеют в виду мое вчерашнее состояние, я отвечал, что у меня даже нет похмелья. Один на это расхохотался было, но осекся.
В конце коридора я увидел стол, и вокруг него что-то происходило. Я сел поблизости, надеясь, что меня не заметят, а я тем временем разберусь, что к чему. Но подошла женщина в белом и спросила, знаю ли я, как ее зовут. Я прочел имя на большом значке, прицепленном к блузке. Женщина не заметила, как я читал, поразилась и поспешно отошла.
Вернулась она с мужчиной, и тот уставился на меня. Подсел и спросил, знаю ли я, как зовут его. Я ответил и сам удивился не меньше их.
– Для такого еще очень рано, – сказал он.
– Похоже на больницу, – сказал я.
Те кивнули.
– Как я сюда попал? – спросил я, думая о пьяной вечеринке. Мужчина не ответил, а женщина опустила взгляд. Почти ничего и не объяснили.
Больше недели я размышлял, наблюдал и в итоге сделал вывод: до моего пробуждения все было сном, а после – реальностью. Никаких различий меж ними нет, только громоздилось все больше новых событий, говоривших, казалось, против того пьяного происшествия. Всякие мелочи, например запертая дверь, а я, насколько помню, никогда не видел, что снаружи. И бумажка из наследственного суда, где утверждалось, что такой-то признан невменяемым. Это они про меня?
Наконец мне объяснили: «Теперь у вас новая личность». Но и это ничего не объясняло. Лишь сильнее озадачивало, поскольку никакой «старой» личности я за собой не помнил. Скажи они: «Вы теперь другая личность», – стало б гораздо понятнее. Все вернулось бы на свои места. Они ошиблись, полагая, будто личностью можно владеть, как костюмом. Но что в человеке вообще есть, кроме личности? Немного костей и мяса. Быть может, набор юридических данных, но это, конечно, не человек. Кости, мясо и юридические данные – одежды личности, не наоборот.
Но кем была та старая личность, которую они знали и чьим продолжением считали меня?
Таков был первый намек на то, что много лет назад был какой-то Федр. Шли дни, недели и годы, и я узнавал о нем больше.
Он умер. Его уничтожили по распоряжению суда – пропустили переменный ток высокого напряжения через доли его головного мозга. Сила тока около 800 миллиампер, продолжительность от 0,5 до 1,5 секунды – и так 28 раз, что составило процесс, технически известный как «электрошоковая терапия». Личность без остатка ликвидировали технически безупречным действием, и с тех пор начались наши с Федром отношения. Лично я его никогда не встречал. И никогда не встречу.
Но все же странные пряди его памяти вдруг накладываются на эту дорогу и совпадают с ней – и со скалами в пустыне, и с добела раскаленным песком вокруг; происходит некое чудно́е слияние, и я знаю, что он все это видел. Он здесь был, иначе я бы этого не знал. Точно был. Наблюдая внезапные сращения взгляда, вспоминая странные обрывки мыслей, невесть откуда взявшихся, я похож на ясновидца, на медиума, что принимает послания из мира иного. Вот как оно все. Смотрю и собственными глазами – и его. Когда-то мои глаза принадлежали ему.
Эти ГЛАЗА! Вот в чем весь ужас. Руки в перчатках, на которые я сейчас смотрю, – они ведут мотоцикл по дороге, – когда-то были его руками! Понимаешь это – поймешь и подлинный страх. Страшно знать, что бежать некуда.
Въезжаем в неглубокое ущелье. Немного спустя возникает придорожная стоянка – я ее ждал. Пара скамеек, домик, зеленые деревца со шлангами, подведенными к основаниям стволов. Джон – господи ты боже мой – уже у другого выхода, готов ехать дальше.
Не обращаю внимания и останавливаюсь у домика. Крис спрыгивает, ставим машину на подпорку. От двигателя такой жар, будто загорелся, и тепловые волны искажают все вокруг. Краем глаза вижу, что второй мотоцикл возвращается. Подъезжая, оба яростно смотрят на меня. Сильвия говорит:
– Мы просто… вне себя!
Пожимаю плечами и шагаю к питьевому фонтанчику.
– Ты же нам о стойкости пел? – спрашивает Джон.
Гляжу на него – и впрямь сердится.
– Я боялся, что ты заслушаешься, – отвечаю я и отворачиваюсь. Пью воду – она щелочная и отдает мылом, но все равно пью.
Джон заходит в домик намочить рубашку. Проверяю уровень масла. Колпачок масляного фильтра так раскалился, что жжет пальцы даже сквозь перчатки. Много масла двигатель не потерял. Протектор задней шины стерся чуть больше, но еще послужит. Цепь натянута, но подсохла, и я на всякий пожарный лишний раз ее смазываю. Все важные болты затянуты.
Подходит Джон – с него капает – и говорит:
– Теперь ты поезжай вперед, а мы за тобой.
– Я быстро не поеду, – отвечаю я.
– Хорошо, – говорит он. – Все равно доберемся.
И вот я еду впереди, не торопимся. Дорога по ущелью не бежит гладко по той же равнине, как я рассчитывал, а забирает в гору. Сюрприз.
Вот она то немного петляет, то вообще ведет не туда, куда надо, то опять возвращается на нужный курс. Вскоре немного поднимается, потом – еще немного. Зигзагами движемся по каким-то щелям, но выезжаем вверх, с каждым поворотом – все выше и выше.
Появляются кустарники. Деревца. Дорога ведет все выше, в травы, затем – в огороженные луга.
Над головой возникает тучка. Может, дождь? Может. Лугам нужен дождь. А на этих – цветы. Странно, как все изменилось. По карте не скажешь. Воспоминания тоже вроде исчезли. Должно быть, Федр здесь не ездил. Но другой дороги нет. Странно. Продолжаем подъем.
Солнце подается к туче, которая уже расползлась до самого горизонта: там деревья, сосны и холодный ветер несет аромат хвои. Цветы на лугах волнуются от ветра, мотоцикл чуть кренится – и вдруг становится прохладно.
Смотрю на Криса, а он улыбается. Я тоже улыбаюсь.
И тут на дорогу рушится дождь – обалдеть, как пыль пахнет землей, которая ждала этого дождя слишком долго, и первые капли пятнают обочины.
Все так ново. И он так нужен, этот новый дождь. Одежда намокает, очки забрызганы, знобит, восхитительно. Туча выходит из-под солнца, сосновый лес и луга снова сияют, поблескивая там, где капельки ловят свет.
Высыхаем еще до перевала, но теперь прохладно; останавливаемся и глядим на огромную долину и реку внизу.
– Кажется, приехали, – произносит Джон.
Сильвия с Крисом уже бродят по лугу среди цветов, под соснами, за которыми виднеется дальний край долины – вдали и внизу.
Теперь я первооткрыватель, а подо мной – земля обетованная.
Часть 2
8
Около десяти утра, и я сижу возле мотоцикла на прохладной кромке тротуара в тенечке за гостиницей, которую мы обнаружили в Майлз-Сити, Монтана. Сильвия с Крисом в прачечной-автомате стирают всем белье. Джон где-то ищет козырек себе на шлем. Ему показалось, что он заметил такой в витрине мотомагазина вчера, когда въезжали в город. А я собираюсь немного подработать двигатель.
Сейчас мне хорошо. Приехали днем и сразу нацелились выспаться. Молодцы, что остановились. Мы так одурели от измождения, что сами не понимали, насколько вымотались. Когда Джон пытался зарегистрироваться, даже не смог вспомнить, как меня зовут. Девушка за стойкой поинтересовалась, не наши ли это «клевые сказочные мотоциклы» за окном, и мы оба так заржали, что она испугалась, не ляпнула ли чего лишнего. Но то был тупой смех от усталости. Бросить бы их просто на стоянке да прогуляться пешком для разнообразия.
И вымыться. В прекрасной старой ванне из эмалированного чугуна, что присела на львиных лапах посреди мраморного пола, дожидаясь нас. Вода была такой мягкой, что, казалось, я никогда не смою с себя мыло. Потом мы гуляли взад-вперед по центральным улицам, прямо как семья…
* * *
Я так часто регулировал машину, что это уже ритуал. Не надо раздумывать как. Главное – искать необычное. У двигателя появился шум, похожий на стук разболтанного толкателя, но, может, это и что похуже, – настроим и поглядим, исчезнет или нет. Толкатели надо подгонять в остывшем двигателе, а это значит, что где бы вечером ни оставил машину, там и придется работать наутро. Вот почему я сейчас сижу в тени на тротуаре за гостиницей в Майлз-Сити, Монтана. Воздух в тени прохладен – не нагреется еще с час, пока солнце не выйдет из-за деревьев, – и это хорошо, когда работаешь с мотоциклами. Очень важно не регулировать их на солнце или под вечер, когда мозги уже засорены, потому что, даже если делал это сотни раз, нужно быть все время на стреме, чтобы ничего не пропустить.
Не все понимают, насколько это рациональный процесс – уход за мотоциклом. Считается, что это некая «сноровка» или «склонность к машинам». Это правда, но сноровка – почти в чистом виде рассудочный процесс, а большинство неприятностей – от, как называли его в старину радисты, «замыкания между наушниками», неумения включать голову. Мотоцикл функционирует в полном соответствии с законами разума, и исследование искусства ухода за мотоциклом – по сути, исследование искусства рациональности в миниатюре. Вчера я говорил, что Федр гонялся за призраком рациональности и тот довел его до помешательства, но чтобы понять это, нельзя отрываться от земли, от примеров самой рациональности, чтоб не улететь в обобщения, которых больше никто не поймет. Разговор о рациональности может сильно сбивать с толку, если не говорить о том, с чем рациональность имеет дело.
И вот мы стоим у барьера между классическим и романтическим; по одну сторону видим непосредственный мотоцикл снаружи – и это важно, так видеть, – а по другую уже различаем в нем внутреннюю форму, как механик, и это тоже важный способ смотреть. Вот, например, инструменты – гаечный ключ, – у них своя романтическая красота, но цель всегда чисто классическая. Они созданы, чтобы изменять внутреннюю форму.
Фарфор в первой свече сильно потемнел. И классически, и романтически это безобразно, поскольку означает, что в цилиндре слишком много топлива и недостаточно воздуха. Молекулам углерода в бензине не хватает кислорода для связи, и они просто сидят, засоряя свечу. Вчера при въезде в город холостой ход был неравномерным – это симптом.
На всякий случай проверяю второй цилиндр. То же самое. Достаю складной нож, беру из канавы какую-то палочку и обстругиваю кончик, чтобы вычистить свечи, пытаясь разгадать, из-за чего они так засорились. Дело не в шатунах и не в клапанах. И карбюратор редко так барахлит. Главные жиклеры слишком большие, поэтому при больших скоростях засоряются, но раньше свечи с теми же самыми жиклерами были намного чище. Загадка. Вечно вокруг загадки. Но если попробуешь решить их все сразу, машину никогда не починишь. Ответа сразу не бывает, поэтому я оставляю вопрос.
Первый толкатель в порядке, регулировки не надо, и я перехожу к следующему. У меня куча времени, пока солнце не выйдет из-за деревьев… Я всякий раз будто в церкви, когда занимаюсь этим… Щуп – икона, и я вершу святой обряд. Он входит в набор, называемый «инструменты для точного измерения», что в классическом смысле имеет очень глубокое значение.
В мотоцикле точность поддерживается не ради романтики или перфекционизма, а просто потому, что огромные силы тепла и взрывного давления в двигателе можно контролировать лишь точностью, которую предоставляют эти инструменты. Каждый взрыв гонит соединительный шатун на коленвал с поверхностным давлением во много тонн на квадратный дюйм. Если шатун соответствует валу точно, взрывная сила распределяется плавно, и металл ее выдерживает. Но если есть зазор хотя бы в несколько тысячных дюйма, сила ударит внезапным молотом, и шатун, подшипник и поверхность коленвала вскоре станут плющиться, создавая шум, который сначала будет похож на стук разболтанных толкателей. Вот почему я это сейчас и проверяю. Если и впрямь разболтался шатун и я попытаюсь доехать до гор без капитального ремонта, вскоре стук станет громче, а потом шатун вырвется, ударит во вращающийся коленвал и уничтожит двигатель. Иногда сломавшиеся шатуны пробивают картер, и все масло выливается на дорогу. После этого остается только идти пешком.
Но все это можно предотвратить подгонкой на несколько тысячных дюйма, с точностью, которую дают измерительные инструменты, и в этом их классическая красота: не то, что видишь, а то, что они означают, на что они способны в смысле контроля внутренней формы.
Второй толкатель в порядке. Перебираюсь на ту сторону, что ближе к улице, и принимаюсь за другой цилиндр.
Точные инструменты предназначены для достижения идеи – пространственной точности, а ее совершенство невозможно. Не бывает совершенно сделанной детали мотоцикла и никогда не будет, но если приблизишься к совершенству, насколько это позволят точные инструменты, произойдет нечто замечательное – ты полетишь по земле с силой, которую можно считать волшебством, но она абсолютно и всесторонне рациональна. Тут главное – понимать эту рациональную интеллектуальную идею. Джон смотрит на мотоцикл и видит разнообразно выгнутую сталь, у него к этим стальным формам неприятие, и он отключается полностью. А я смотрю на эти формы стали и вижу идеи. Он думает, что я работаю с деталями. Я же работаю с понятиями.
Я упоминал об этих концепциях вчера: мотоцикл делится по компонентам и по функциям. Сказав это, я вдруг создал набор квадратиков, размещенных так:
А когда я сказал, что далее компоненты подразделяются на силовой агрегат и ходовую часть, квадратиков вдруг стало больше:
Видишь, всякий раз, когда я подразделяю, появляется все больше квадратиков, пока из них не складывается пирамида. В итоге становится понятно, что, деля мотоцикл на все более мелкие части, я строил его структуру.
Эта структура понятий формально называется иерархией, и с древних времен на ней покоилось все западное знание. Королевства, империи, церкви, армии – все структурировано в иерархии. Современный бизнес структурируется так же. Оглавления справочного материала – тоже, механические агрегаты, компьютерные программы, все научное и техническое знание так структурировано; вплоть до того, что в некоторых областях знания, например, в биологии, иерархия «тип – порядок – класс – род – вид» стала почти каноном.
Квадратик «мотоцикл» содержит квадратики «компоненты» и «функции». «Компоненты» содержат «силовой агрегат» и «ходовую часть» – и так далее. Есть много других структур, произведенных другими операторами, например «служить причиной». Здесь образуется длинная цепь: «А служит причиной Б, которое служит причиной В» – и так далее. Эта структура берется для функционального описания мотоцикла. «Существует», «равняется» и «подразумевает» деятеля дают уже другие структуры. Они обычно взаимосвязаны такими сложными и разветвленными узорами и тропами, что никому не под силу за всю жизнь понять их целиком – разве что часть. Общее название для этих взаимодействующих структур, род, в котором иерархия содержания и структура причинности всего лишь виды, – система. Мотоцикл – система. Настоящая система.
Говорить о правительстве и общественных институтах как о «системе» – это верно, поскольку они основаны на тех же структурных понятийных отношениях, что и мотоцикл. Они поддерживаются структурными взаимоотношениями, даже когда потеряли иное предназначение и смысл. Люди приходят на завод и без вопросов с восьми до пяти выполняют абсолютно бессмысленное задание, поскольку этого требует структура. Нет никакого негодяя, никакого «мерзкого типа», требующего, чтобы они жили бессмысленной жизнью, – этого желает структура, система, и никому неохота взваливать на себя невыполнимую задачу – изменить структуру лишь потому, что она бессмысленна.
Но снести завод, взбунтоваться против правительства или отказаться чинить мотоцикл потому, что это система, значит нападать на следствия, а не на причины; когда же нападают на одни следствия, никакая перемена невозможна. Подлинная система, настоящая система – нынешнее строение нашей систематической мысли, самой рациональности, и если завод снесен до основания, а рациональность, породившая его, осталась, она просто создаст еще один завод. Если революция уничтожает системное правительство, а системные шаблоны мышления, создавшие правительство, остаются, эти шаблоны воспроизведут себя в последующем правительстве. О системе так много болтают. И так мало понимают ее.
Вот и весь мотоцикл – всего лишь система понятий, сработанных в стали. В нем нет ни единой детали, ни единой формы, не порожденных чьим-то умом… толкатель номер три тоже в порядке. Остался один. Только бы загвоздка была в нем… Я заметил, что люди, никогда не имевшие дела со сталью, не способны увидеть того, что превыше прочего мотоцикл – явление умственное. Для них металл – это данные раз и навсегда формы: трубы, стержни, балки, орудия, детали, закрепленные и незыблемые; для них это в первую очередь явление физическое. Но тот, кто занимается механикой, литьем, ковкой или сваркой, видит, что «сталь» вообще не имеет формы. Она может быть любой формы, какую захочешь, если у тебя достаточно навыков, и любой формы, кроме желаемой, если у тебя их нет. Формы – как вот этот толкатель, к примеру, – суть то, к чему приходишь, что придаешь стали сам. В стали не больше формы, чем вот в этом комке грязи на двигателе. Все эти формы – из чьего-то ума. Вот что важно увидеть. Сталь? Черт, даже сталь – из чьего-то ума. В природе нет стали. Спроси у людей бронзового века. В природе есть лишь потенциал стали. И ничего больше. Но что такое «потенциал»? Он ведь тоже сидит у кого-то в уме!.. Призраки.
Вот что имел в виду Федр, утверждая, что все – в уме. Звучит безумно, если просто подскакиваешь и ляпаешь такое без всякой конкретики – например, без двигателя. Но если привяжешь высказывание к частному и конкретному, безумие скорее всего уйдет, и поймешь: Федр, пожалуй, говорил что-то важное.
Четвертый толкатель действительно слишком разболтан, так я и думал. Регулирую. Проверяю опережение-запаздывание и вижу, что здесь пока все в порядке, контакты еще не изъедены коррозией, поэтому их не трогаю, прикручиваю крышки клапанов, ставлю на место свечи и завожу двигатель.
Стук исчез, но это еще ничего не значит: масло пока холодное. Пусть поработает вхолостую, а я сложу инструменты; затем сажусь и еду в мотомагазин, который нам вчера вечером показал мотоциклист на улице: может, отыщутся звено регулятора цепи и новая резина для подножки. Крису, должно быть, не сидится – его подножки стираются быстрее.
Проезжаю пару кварталов – стука нет. Неплохо звучит, надеюсь, шума больше не будет. Хотя наверняка можно будет сказать только миль через тридцать. А до тех пор – и прямо сейчас – солнце светит ярко, воздух прохладен, у меня ясная голова, впереди – целый день, мы уже почти в горах, в такой день хорошо жить. Разреженный воздух тому причиной. Всегда так, если забираешься повыше.
Высота! Вот почему двигатель работает так натужно. Конечно же, наверняка из-за этого. Мы уже на высоте 2500 футов. Лучше перейти на стандартные жиклеры, их можно поставить за пару минут. И немного подрегулировать холостой ход. Дальше будет только выше.
Под тенистыми деревьями нахожу «Мотомастерскую Билла» – а самого Билла нет. Прохожий сообщает, что тот, «может, рыбу где-то ловит», а магазин оставил открытым. Мы и впрямь на Западе. В Чикаго или Нью-Йорке лавку бы так никто не бросил.
Захожу и вижу, что Билл – механик школы «фотографического ума». Все валяется где ни попадя. Ключи, отвертки, старые детали, старые мотоциклы, новые детали, новые мотоциклы, рекламные брошюры, камеры навалены так густо, что не видно верстаков. Я бы не смог работать в таких условиях, но это потому, что я – не механик фотографического ума. Вероятно, Билл поворачивается и вытаскивает из этой мешанины любой инструмент, не задумываясь. Я видел таких механиков. Спятить легче, наблюдая за ними, но работают не хуже остальных – а иногда и быстрее. Однако стоит сдвинуть хоть один инструмент на три дюйма влево – и такой механик будет искать его несколько дней.
Появляется Билл, чему-то ухмыляется… Конечно, у него есть жиклеры для моей машины, и он точно знает, где они лежат. Хотя придется секундочку обождать. Ему на заднем дворе надо завершить сделку по деталям к «харлею». Я иду с ним в сарай и вижу, что он продает по деталям целый «харлей» – кроме рамы, которая у покупателя уже есть. Все за 125 долларов. Недурная цена.
По пути назад замечаю:
– Чтобы собрать это, он кое-что узнает про мотоциклы.
Билл смеется:
– А иначе ничему и не научишься.
У него есть жиклеры и резина для подножки, но нет звена регулятора цепи. Ставит резину и жиклеры, регулирует холостой ход, и я возвращаюсь в отель.
Когда подъезжаю, Сильвия, Джон и Крис только спускаются с вещами. Судя по лицам, у них тоже хорошее настроение. Идем по главной улице, находим ресторан и заказываем стейки.
– Клевый городок, – говорит Джон, – очень клевый. Не думал, что такие еще остались. Я утром все облазил. У них тут есть бары для скотоводов, высокие сапоги, пряжки из серебряных долларов, «ливайсы», «стетсоны» и прочее… и все настоящее. Не ширпотреб… Утром в баре через квартал отсюда со мной заговорили так, будто я всю жизнь тут живу.
Берем по пиву. Вывеска с подковой на стене подсказывает, что мы на территории пива «Олимпия», поэтому заказываю его.
– Наверняка подумали, что я с ранчо или типа этого, – продолжает Джон. – А один старикан все твердил, как он ничего не оставит этим проклятым мальчишкам, – очень по кайфу было слушать. Ранчо отойдет к девчонкам, потому что проклятые мальчишки спускают все до цента у Сюзи. – Джон захлебывается от смеха. – Жалеет теперь, что вообще их вырастил, ну и так далее. Я думал, такого нет уже лет тридцать, а оно все живет.
Приходит официантка со стейками, и мы кромсаем их ножами. От возни с мотоциклом разыгрался аппетит.
– И вот еще кое-что интересное, – произносит Джон. – В баре говорили о Бозмене, куда мы едем. Губернатор Монтаны составил список из пятидесяти радикальных преподавателей тамошнего колледжа, которых собрался увольнять. А потом погиб в авиакатастрофе[7].
– Это было давно, – отвечаю я. Стейки очень хороши.
– Я и не знал, что в этом штате столько радикалов.
– В этом штате всякие есть, – говорю я. – Но то была просто правая политика.
Джон тянется к солонке.
– Здесь проезжал журналист из вашингтонской газеты, и вчера вышла его колонка, где он это упомянул, поэтому сегодня столько разговоров. Президент колледжа подтвердил.
– А список напечатали?
– Не знаю. Ты кого-то знал?
– Если там пятьдесят имен, – говорю я, – мое наверняка тоже есть.
Оба смотрят на меня с некоторым удивлением. На самом деле я не знаю об этом почти ничего. То был, конечно, он, и потому с изрядной долей фальши я объясняю, что «радикал» в округе Гэллатин, штат Монтана, несколько отличается от радикала в других местах.
– В том колледже, – рассказываю я, – вообще-то запретили жену президента Соединенных Штатов – из-за того, что она «слишком своеобразна».
– Кого?
– Элеанор Рузвельт.
– Боже мой, – смеется Джон, – вот это дикость.
Они хотят, чтоб я еще что-нибудь рассказал, но мне трудно. Потом вспоминаю кое-что:
– В такой ситуации настоящий радикал прикрыт идеально. Он может делать что угодно, и все ему будет сходить с рук, поскольку оппозиция уже выставила себя ослами. На их фоне он по-любому будет хорошо смотреться, что бы ни говорил.
На выезде минуем городской парк: я заметил его вчера вечером – и пряди памяти сплелись. Просто видение – смотрю вверх, в кроны деревьев. Однажды он спал на скамейке в этом парке на пути в Бозмен. Вот почему я не узнал вчера этого леса. Он ехал ночью – ехал в бозменский колледж.
9
Мы пересекаем Монтану по Йеллоустоунской долине. Среднезападные кукурузные поля сменяют западную полынь и наоборот – все зависит от речного орошения. Иногда поднимаемся на кручи, куда вода не доходит, но обычно стараемся держаться у реки. Проезжаем знак, где написано что-то про Льюиса и Кларка[8]. Кто-то из них поднимался сюда при вылазке, отклонившись от Северо-Западного перехода.
Приятно звучит. Как раз для шатокуа. У нас сейчас тоже что-то вроде Северо-Западного перехода. Снова проезжаем поля и пустыню, а день клонится к вечеру.
Я хочу пойти дальше за призраком, которого преследовал Федр, – за само́й рациональностью, за этим скучным, сложным, классическим призраком внутренней формы.
Утром я говорил об иерархиях мысли – о системе. Сейчас хочу поговорить о том, как искать пути через эти иерархии, – о логике.
Пользуются двумя видами логики: индуктивной и дедуктивной. Индуктивные умозаключения начинаются с наблюдений за машиной и ведут к общим выводам. Например, мотоцикл подскакивает на ухабе и двигатель дает сбой зажигания, потом мотоцикл подскакивает на другом ухабе, и двигатель дает сбой, потом опять подскакивает на ухабе, и опять сбой, потом мотоцикл едет по длинному гладкому отрезку пути, и сбоев нет, а потом снова подскакивает на ухабе, и двигатель пропускает зажигание снова. Тут можно логически заключить: причиной сбоев зажигания служат ухабы. Это индукция – рассуждение от конкретного опыта к общей истине.
Дедуктивные умозаключения – наоборот. Начинают с общих знаний и предсказывают частный случай. Например, если из чтения иерархии фактов о машине механик знает, что клаксон мотоцикла питается исключительно электричеством от аккумулятора, он может логически заключить, что, если аккумулятор сел, клаксон работать не будет. Это дедукция.
Проблемы, слишком сложные для здравого смысла, решаются длинными цепочками смешанных индуктивных и дедуктивных умозаключений: они вьются туда-обратно между наблюдаемой машиной и мысленной иерархией машины, которая есть в инструкциях. Верная программа этого плетения формализуется в виде научного метода.
Вообще-то в уходе за мотоциклом я никогда не встречал проблемы, которая требовала бы применять полноценный формальный научный метод. Ремонт не очень сложен. При мысли о формальном научном методе на ум иногда приходит образ гигантского джаггернаута, громадного бульдозера – медленного, нудного, неуклюжего, прилежного, но неуязвимого. Ему требуется вдвое, впятеро, может, даже вдесятеро больше времени, чем умениям неформального механика, но с ним знаешь, что в конце все-таки получишь результат. Ни одна проблема определения неисправности в уходе за мотоциклом против него не устоит. Натыкаешься на загвоздку, пробуешь все, ломаешь голову и ничего не получается – тогда понимаешь, что на сей раз Природа решила капризничать, и говоришь: «Ладно, Природа, не хочешь по-хорошему – будем по-плохому». И включаешь формальный научный метод.
Для этого заводишь лабораторный журнал. И туда все записываешь – формально, чтобы постоянно знать, где находишься, где был, куда идешь и куда хочешь попасть. В научной работе и электронике это необходимо, поскольку иначе проблемы так запутаются, что в них потеряешься, заплутаешь, забудешь, что знал и чего не знал, и придется все бросить. В уходе за мотоциклом все не так сложно, но когда начинается путаница, неплохо как-то ее придержать – формальность и точность помогают. Иногда простое действие – запись проблем – направляет мозги в нужную сторону, и понимаешь, в чем, собственно, проблема.
Логические утверждения, вносимые в журнал, делятся на шесть категорий: (1) постановка проблемы, (2) гипотезы о причине проблемы, (3) эксперименты для проверки каждой гипотезы, (4) предсказанные результаты экспериментов, (5) наблюдаемые результаты экспериментов и (6) выводы из этих результатов. Ничем не отличается от формальной организации лабораторных тетрадей в колледжах и старших классах, но цель здесь – не артель напрасный труд, а точное руководство мыслями. Оно не принесет успеха, если записи будут неточны.
Подлинная цель научного метода – удостовериться, что Природа не направила тебя по ложному пути, не внушила, будто ты знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Не бывает таких механиков, ученых и вообще технарей, которые бы от этого не страдали, поэтому все инстинктивно оберегаются. Вот главным образом почему так часто научная и механическая информация скучна и опаслива. Допустишь небрежность, вздумаешь романтизировать научную информацию, добавляя там и сям завитушки, – и Природа вскоре выставит тебя круглым дураком. Она и без того так поступает нередко, даже если не даешь ей повода. В делах с Природой нужны крайняя осторожность и строгая логика: один логический промах – и рушится вся научная доктрина. Одно ложное дедуктивное заключение о машине – и зависаешь на неопределенное время.
В Части Первой формального научного метода, при постановке проблемы, главное умение – категорически утверждать не более того, в чем убежден. Гораздо лучше записать: «Решить Проблему: почему не работает мотоцикл?» – что звучит тупо, но является верным, – чем «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?» – хотя ты не уверен абсолютно, в электричестве ли дело. Нужно вписывать: «Решить Проблему: что случилось с мотоциклом?», а потом уже вносить первый пункт в Часть Два: «Гипотеза Номер Один: Неполадка в системе электропитания». Перечисляешь столько гипотез, сколько приходит в голову, затем разрабатываешь эксперименты, чтобы проверить их и понять, какие истинны, а какие ложны.
Такой осторожный подход к изначальным вопросам не дает свернуть радикально не туда, от чего на работу может уйти много лишних недель, а то и зависнешь вовсе. Именно поэтому научные вопросы с виду часто выглядят тупыми – их задают, чтобы в дальнейшем избежать тупых ошибок.
Часть Три – ту часть формального научного метода, которую называют экспериментированием, – романтики нередко принимают за саму науку, ибо только у нее большая визуальная поверхность. Романтики видят кучу пробирок, хитрое оборудование и людей, которые бегают вокруг и делают открытия. Эксперимент для романтиков не входит в более обширный интеллектуальный процесс, и они часто путают эксперименты с демонстрациями, очень похоже. Тот, кто проводит сенсационный научный показ на франкенштейновском оборудовании стоимостью полсотни тысяч долларов, не совершает ничего научного, если заранее знает результат. Напротив, мотомеханик, жмущий на клаксон проверить, работает ли аккумулятор, неформально проводит подлинный научный эксперимент. Он проверяет гипотезу, ставя Природе вопрос. Ученый из телепостановки, который печально бормочет: «Эксперимент не удался, мы не достигли того, на что надеялись», – в основном страдает от плохого сценариста. Эксперимент никогда не бывает неудачным лишь потому, что не достигает предсказанных результатов. Эксперимент неудачен, только если им не удается адекватно проверить гипотезу – если его данные ничего не доказывают.
Вот тут все мастерство – в том, чтобы эксперимент проверял лишь гипотезу под вопросом, не меньше и не больше. Если клаксон клаксонит и механик заключает, что вся электрическая система исправна, у механика большие неприятности. Он пришел к нелогичному выводу. Действующий клаксон говорит лишь о том, что работают только клаксон и аккумулятор. Чтобы разработать эксперимент как подобает, механику придется очень строго думать о том, что служит непосредственной причиной чего. Это нам уже известно из иерархии. Не клаксон приводит мотоцикл в движение. И не аккумулятор, разве что очень опосредованно. Но есть точка, где непосредственной причиной зажигания в двигателе служит электрическая система, – свечи зажигания, и если не проверить здесь, на выходе электрическую систему, никогда и не поймешь, электрическая у тебя неисправность или нет.
Чтобы проверить все как подобает, механик вынимает свечу и кладет ее у двигателя так, чтобы корпус свечи заземлился на двигатель, нажимает на рукоятку стартера и смотрит, появится ли в искровом пространстве свечи голубая искра. Если ее нет, он может сделать один из двух выводов: а) неполадка в электросистеме, б) эксперимент небрежен. Если механик опытен, он попробует еще несколько раз, проверит все контакты, пытаясь любым мыслимым способом зажечь свечу. Но если все-таки не удается, он наконец приходит к тому, что вывод «а» верен: в электросистеме неисправность, эксперимент окончен. Механик доказал, что его гипотеза верна.
В последней категории, в заключениях, главное – утверждать не более того, что доказал эксперимент. Он, к примеру, не доказал, что после ремонта электрической системы мотоцикл заведется. Неполадки могут быть и в другом. Но механик знает, что мотоцикл не поедет, пока не заработает электричество, поэтому ставит следующий формальный вопрос: «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?»
После чего формулирует и проверяет новые гипотезы. Задавая нужные вопросы, выбирая нужные тесты и делая правильные выводы, механик прокладывает себе путь сквозь эшелоны мотоциклетной иерархии, пока не находит точную конкретную причину или причины неполадки двигателя; затем он изменяет их так, чтобы они больше не приводили к неисправности.
Нетренированный наблюдатель видит лишь физический труд, и у него часто создается впечатление, что механик только им и занят. На самом деле физический труд – мельчайшая и легчайшая часть того, что делает механик. Гораздо бо́льшая часть его работы – тщательное наблюдение и точное мышление. Поэтому иногда механики так неразговорчивы и так глубоко уходят в себя при испытаниях. Им не нравится, если с ними разговаривают, потому что они сосредоточены на мысленных образах, иерархиях и вообще не смотрят ни на тебя, ни на физический мотоцикл. Для них эксперимент – часть программы расширения их собственной иерархии знания о неисправном мотоцикле и сравнения ее с правильной иерархией у них в уме. Они смотрят на внутреннюю форму.
Навстречу нам едет автомобиль с трейлером – и не успевает вернуться на свою полосу движения. Мигаю фарой, чтоб он нас точно заметил. Он-то заметил, но съехать не может. Обочина узкая и бугристая. Свалимся, если выедем на нее. Жму на тормоза, сигналю, мигаю. Боже всемогущий, он паникует и целит на нашу обочину! Я упорно держусь края дороги. ВОТ он! В последний миг отруливает и проходит в нескольких дюймах от нас.
Впереди по дороге катается картонная коробка, еще издали видно. Свалилась с чьего-то грузовика, очевидно.
Вот теперь нас пробивает. Ехали бы в машине – столкнулись бы лоб в лоб. Или свалились бы в канаву.
Въезжаем в городок – он как посреди какой-нибудь Айовы. Вокруг высокая кукуруза, в воздухе тяжелый дух удобрений. Ставим мотоциклы и заходим в огромное старое заведение с высокими потолками. На сей раз к пиву я заказываю все закуски, что у них только есть, и мы устраиваем запоздалый обед: арахис, попкорн, соленые крендельки, картофельные чипсы, сушеные анчоусы, какая-то копченая рыбка с кучей мелких косточек внутри, «тощие Джимы» и «длинные Джоны», пепперони, «фрито», «пивные орешки», колбасный паштет, шкварки и кунжутные крекеры с наполнителем, чей вкус я не могу определить.
Сильвия произносит:
– Меня до сих пор трясет.
Почему-то решила, что наш мотоцикл превратился в картонную коробку и мотыляется по всей трассе.
10
А в долине, куда выезжаем, небо видно только меж утесов по берегам реки, но теперь они ближе, чем утром, – и друг к другу, и к нам. Долина сужается, чем ближе мы к верховьям.
Помимо прочего, мы доехали до некой отправной точки. Вот здесь и можно наконец повести рассказ об отрыве Федра от основного течения рациональной мысли в погоне за призраком самой рациональности.
Он читал одну вещь – и повторял про себя столько раз, что текст сохранился в целости. Начинается так:
Храм науки – строение многосложное. Различны пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы.
Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и Других: плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях. Если бы посланный Богом ангел пришел в храм и изгнал из него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то храм катастрофически опустел бы. Все-таки кое-кто из людей как прошлого, так и нашего времени в нем бы остался… Если бы существовали только люди, подобные изгнанным, храм не поднялся бы, как не мог бы вырасти лес из одних лишь вьющихся растений… Но обратим вновь свой взгляд на тех, кто удостоился милости ангела. Большинство из них – люди странные, замкнутые, уединенные; несмотря на эти общие черты, они в действительности сильнее разнятся друг от друга, чем изгнанные.
Что привело их в храм? Нелегко на это ответить, и ответ, безусловно, не будет одинаковым для всех… Желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей. Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. Эту причину можно сравнить с тоской, неотразимо влекущей горожанина из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух и наслаждается спокойными очертаниями, которые кажутся предназначенными для вечности.
Отрывок из речи, произнесенной в 1918 году молодым немецким ученым по имени Альберт Эйнштейн[9].
Федр окончил свой первый курс университетской науки в пятнадцать лет. Его областью уже тогда была биохимия, и он намеревался изучать взаимодействие органического и неорганического миров, известное теперь как молекулярная биология. Он не считал это карьерой, не думал о личном продвижении. Он был очень молод, и это стало для него некой благородной идеалистической целью.
Душевное состояние, способствующее такому труду, подобно религии или влюбленности: ежедневное старание проистекает не из какого-то намерения или программы, а из непосредственной потребности.
Вступи Федр в науку в угоду амбициям или пользы ради, ему, возможно, никогда бы не пришло в голову задавать вопросы о природе научной гипотезы как сущности в себе. Но он их задал, и ответы его не удовлетворили.
Возникновение гипотез – самая таинственная категория научного метода. Никто не знает, откуда они берутся. Человек сидит, занимается своим делом и вдруг – бац! – понимает то, чего не понимал раньше. Пока гипотеза не проверена, она не истинна. Ибо происходит она не из тестов. Ее источник – в чем-то другом.
Эйнштейн сказал:
Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной… На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни… Высшим долгом… является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта благожелательная интуиция…
Интуиция? Благожелательная? Странные слова для происхождения научного знания.
Ученый помельче Эйнштейна, возможно, сказал бы: «Но научное знание отталкивается от природы. Это природа снабжает нас гипотезами». Эйнштейн же понимал, что это не так. Природа снабжает нас только экспериментальными данными.
Меньший ум, вероятно, затем сказал бы: «Ну, тогда гипотезы дает человек». Но Эйнштейн и это отвергал. «Никто, – говорил он, – из тех, кто действительно углублялся в предмет, не станет отрицать, что теоретическая система практически однозначно определяется миром наблюдений, хотя никакой логический путь не ведет от наблюдений к основным принципам теории».
Федр пошел на прорыв, когда, накопив лабораторный опыт, заинтересовался гипотезами как сущностями в себе. Снова и снова замечал он в своей лабораторной работе: казалось бы, придумать гипотезу в науке сложнее всего, однако это неизменно легче всего. Гипотезы вроде как выдвигались в самом акте формальной записи, точной и ясной. Когда Федр проверял экспериментально гипотезу номер один, в уме возникал поток других гипотез; пока проверял их, в голову приходили еще, а когда начинал проверять эти, гипотез появлялось еще больше. Пока не становилось до боли очевидно, что, если и дальше проверять гипотезы, снимая или подтверждая их, число гипотез не уменьшится. По ходу дела их количество только растет.
Сначала его это забавляло. Он изобрел закон, который с юмором закона Паркинсона утверждал, что «количество рациональных гипотез, способных объяснить любое данное явление, бесконечно». Федру нравилось не испытывать недостатка в гипотезах. Даже когда все возможные методы экспериментальной работы вроде бы заводили в тупик, он знал, что, если просто сядет и повозится с работой еще сколько-то, новая гипотеза возникнет неизбежно. И она всегда возникала. Только через много месяцев у Федра зародились сомнения насчет юмора или полезности придуманного им закона.
Если закон этот истинен, то он – не просто незначительный просчет в научном мышлении. Он отрицает все. Он – катастрофическое логическое опровержение всей ценности научного метода!
Если цель научного метода – выбор из множества гипотез, а количество гипотез растет быстрее, чем с ними справляется экспериментальный метод, ясно, что всех гипотез никогда не проверить. Если всех гипотез никогда не проверить, результаты любого эксперимента недоказательны, а весь научный метод не достигает своей цели – установления доказанного знания.
Об этом Эйнштейн сказал: «История показала, что из всех мыслимых построений в данный момент только одно оказывается преобладающим», – и на этом все. Федр считал, что это неописуемо слабый ответ. Его просто потряс оборот «в данный момент». Эйнштейн, выходит, полагает, что истина – функция времени? Утверждать такое – уничтожать самое основное допущение всей науки!
Но вот же она – вся история науки, ясный сюжет вечно меняющегося и всякий раз нового объяснения старых фактов. Временны́е периоды постоянства совершенно произвольны, порядка в них Федр не видел. Одни научные истины держатся веками, другие – меньше года. Научная истина – не догма в аккурат для вечности, а временная количественная сущность, которую можно изучать как что угодно.
Он изучил научные истины и расстроился еще больше, заподозрив причину их недолговечности. Похоже, временные периоды научных истин обратно пропорциональны интенсивности научного усилия. Так научные истины ХХ века, судя по всему, живут меньше истин века прошлого, ибо научная деятельность теперь значительно активнее. Если в следующем веке научная активность возрастет в десять раз, срок жизни любой научной истины, возможно, еще в десять раз сократится. Жизнь существующей истины укорачивается объемом гипотез, призванных ее заменить; чем больше гипотез, тем короче срок жизни истины. А количество гипотез в последние десятилетия растет из-за самого́ научного метода. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Не выбираешь одну истину из множества, а увеличиваешь множество. Логически это значит, что, пока стараешься двигаться к неизменной истине посредством научного метода, на самом деле ты вовсе к ней не движешься. Движешься от нее! И под воздействием твоего научного метода она меняется!
Федр своими глазами наблюдал явление, глубоко характерное для истории науки, но долгие годы его заметали под ковер. Прогнозируемые результаты научного исследования и его действительные результаты диаметрально противоположны, и на это, похоже, никто не обращает внимания. Цель научного метода – выбрать единственную истину из множества гипотетических. Вся наука главным образом к этому и сводится. Однако исторически наука занималась как раз обратным. Через умножение фактов, информации, теорий и гипотез она ведет человечество от единственных абсолютных истин ко множественным, неопределенным и относительным. Сама наука есть основной производитель общественного хаоса, неопределенности мысли и ценностей, которые должно упразднить рациональное знание. Федр видел это в тиши собственной лаборатории много лет назад, а теперь в мире современной техники оно повсюду. Научно произведенная антинаука – хаос.
Сейчас можно чуть вернуться и понять, почему эта личность важна в контексте разделения классической и романтической реальностей и их непримиримости. В отличие от множества романтиков, обеспокоенных хаотическими переменами, которые навязывают человеческому духу наука и техника, Федр со своим научно тренированным классическим умом мог не просто смятенно заламывать руки, убегать или облыжно бранить ситуацию, не предлагая никаких решений.
Если помнишь, в конце концов он предложил несколько решений, но проблема оказалась настолько глубока, внушительна и сложна, что никто не понял всей серьезности того, что он решал, а потому никто и не понял – ни правильно, ни даже неправильно – того, что он говорил.
Причина нынешнего общественного кризиса, сказал бы он, – генетический дефект в природе самого разума. И пока этот дефект не исправят, кризисы не прекратятся. Теперешние наши режимы мышления не продвигают общество к лучшему миру, а уводят все дальше от него. Эти режимы работают с Возрождения. И будут работать, пока доминирует нужда в пище, одежде и крове. Но теперь, когда для огромных масс людей нужды эти больше не затмевают всего остального, вся структура разума, доставшаяся нам в наследство от древности, уже неадекватна. Ее все больше ценят по номиналу – как эмоционально полую, эстетически бессмысленную и духовно пустую. Вот к чему она пришла сегодня и вот какой еще долго пребудет.
У меня перед глазами стоит непрерывно бушующий общественный кризис, чьей глубины никто по-настоящему не понимает – не говоря уж о том, что ни у кого нет решений. Я вижу людей типа Джона и Сильвии – потерянных и отчужденных от всей рациональной структуры цивилизованной жизни, они ищут решения за пределами этой структуры, но не находят ни единого по-настоящему удачного и долговечного. И потом у меня перед глазами встает одиночка Федр и его ни к чему не привязанные лабораторные абстракции: они – все о том же кризисе, но произрастают из другой точки и движутся в другую сторону. А я пытаюсь собрать их воедино. Непосильная задача, поэтому иногда кажется, что я сбиваюсь с темы.
С кем бы Федр ни разговаривал, явление, что его так озадачивало, не беспокоило больше никого. Собеседники будто бы говорили: «Мы знаем, что научный метод действен, – так зачем ставить его под сомнение?»
Федр не понимал такого отношения, не знал, что с ним делать, и – поскольку науку он постигал не в личных или утилитарных целях, – это вырубило его полностью. Точно созерцаешь этот безмятежный горный пейзаж Эйнштейна, как вдруг горы раскалывает трещина, провал в чистое ничто. И медленно, мучительно, чтобы объяснить эту расщелину, Федр вынужден был признать, что горы, вроде бы выстроенные на века, может, и не горы вовсе… а просто глюки его собственного воображения. Вот это его и вырубило.
И вот так Федр, в пятнадцать лет окончивший первый курс, в семнадцать вылетел из университета за провал на экзаменах. Официальными причинами назвали незрелость и недостаточное прилежание.
Что уж тут поделаешь – ни предотвратить, ни поправить. Университет не стал бы держать его ценой полного отказа от своих норм.
Ошеломленный Федр пустился в долгий боковой дрейф, который и привел его на дальнюю орбиту разума, но постепенно вернул к дверям самого университета тем маршрутом, которым мы сейчас едем. Завтра попробую двинуться по этому пути.
В Лореле, где наконец видно горы, останавливаемся на ночлег. Вечерний ветерок прохладен. Спускается от снегов. Хотя солнце исчезло за горами где-то с час назад, небо хорошо освещается из-за хребта.
Сильвия, Джон, Крис и я идем по длинной главной улице в сгущающихся сумерках и присутствие гор ощущаем, даже говоря совсем о другом. Я счастлив, что мы здесь – и все же как-то грустно. Иногда лучше ехать, чем приезжать.
11
Просыпаюсь в недоумении: мы у гор, но я об этом знаю, потому что помню – или потому что здесь что-то неуловимое? Мы – в прекрасном старом номере, облицованном деревом. Солнце освещает темную полировку сквозь жалюзи, но даже с закрытыми окнами чувствую, что горы – рядом. В этой комнате горный воздух, он прохладен, влажен и почти благоухает. Один глубокий вдох уже готовит меня к следующему, потом еще к одному, и с каждым глубоким вдохом я готов все больше, пока не спрыгиваю с кровати, не поднимаю штору и не впускаю внутрь солнце – блистательное, прохладное, яркое, резкое и ясное.
Растет желание подойти и растолкать Криса, растрясти его, чтоб он все это увидел, но из доброты – а то и уважения – ему дозволяется поспать еще немного. Поэтому с мылом и бритвой в руке иду в общую умывальню на другом конце длинного коридора из того же темного дерева, и на всем пути под ногами скрипят половицы. В умывальне кипяток пари́т и булькает в трубах: сначала бриться слишком горячо, а потом мешаю его с холодной водой – и просто прекрасно.
За окном, что над зеркалом, вижу открытую веранду на заднем дворе и, закончив, выхожу постоять там. Веранда на одном уровне с верхушками деревьев вокруг гостиницы, и на них этот утренний воздух, похоже, действует так же, как на меня. Ветви и листва колышутся от каждого легкого дуновения, словно все время его ждали.
Крис вскоре тоже встает, а Сильвия выходит из номера и говорит, что они с Джоном уже позавтракали, он где-то гуляет, а она проводит нас с Крисом в ресторан.
Сегодня мы во все влюблены, и на солнечной улице по дороге болтаем о чем-то хорошем. Яйца, горячие кексы и кофе – божественны. Сильвия и Крис вполголоса беседуют о его школе и друзьях, о чем-то личном, а я их слушаю, глазею из огромного ресторанного окна на витрину магазина через дорогу. Как не похоже на тот одинокий вечер в Южной Дакоте. За домами – горы и снежные равнины.
Сильвия говорит, что Джон узнавал у кого-то в городе про другую дорогу в Бозмен – южнее, через Йеллоустоунский парк.
– Южнее? – переспрашиваю я. – Через Ред-Лодж?
– Наверное.
Возвращается память о равнинах, заснеженных в июне.
– Эта дорога идет намного выше границы лесов.
– Это плохо? – спрашивает Сильвия.
– Будет холодно. – Перед глазами возникают мотоциклы посреди снежных равнин – это мы сами на них едем. – Но просто великолепно.
Встречаемся с Джоном и все решаем. Вскоре после короткого тоннеля под железной дорогой уже едем по извилистому асфальту по полям к горам. Здесь постоянно ездил Федр, и проблески его воспоминаний вспыхивают у меня в голове, куда ни гляну. Впереди вырастает высокий, темный хребет Абсарока.
Едем вдоль реки к ее истоку. Вода в ней, вероятно, еще час назад была снегом. Поток и дорога пересекают зеленеющие и каменистые поля, каждое чуть выше предыдущего. Под таким солнцем все очень насыщенно: темные тени, яркий свет. Густо-синее небо. Солнце яркое и жаркое, когда выезжаем из тени, но стоит снова заехать под придорожные деревья, становится холодно.
По пути играем в салки с маленьким синим «поршем»: то мы его, бибикнув, обгоняем, то он нас, и так раз за разом, через поля с темными осинами и яркой зеленью трав и горных кустарников. Все это помнится.
Он ездил этой дорогой на высокогорья, чтобы потом с рюкзаком уйти прочь от дороги на три, четыре или пять дней, затем опять вернуться за провизией и опять уйти; эти горы были ему нужны почти физиологически. Цепь его абстракций стала такой длинной и запутанной, что ему требовались здешние тишина и пространство, чтобы ее не терять. Будто строишь что-то много часов подряд, а стоит чуть отвлечься – и вся постройка разлетится вдребезги. Даже до безумия это не походило на размышления других людей. Он мыслил на том уровне, где все смещается и изменяется, установленные ценности и истины исчезают и ничто тебя не поддерживает – только сила духа. Самая первая неудача полностью освободила его: он больше не обязан был думать по правилам, и мысли его уже обрели независимость, с какой мало кто знаком. Федр понимал, что институты – школы, церкви, правительства и политические организации всех видов – стремились направить мысль на цели, отличные от истины: на увековечение собственных функций и контроль над теми, кто эти функции обслуживает. Свою начальную неудачу он счел счастливым отрывом, случайным побегом из расставленной ловушки; все оставшееся время он чутко вынюхивал такие ловушки установленных истин. Сначала, однако, он этого не видел и так не думал – это началось потом. Что-то я сбился с курса. Все это пришло гораздо позже.
Сначала истины, за которыми погнался Федр, были боковыми: не фронтальные истины науки, не те, на которые указывает дисциплина, а те, что видишь боковым зрением, краем глаза. В лаборатории, когда вся процедура сметана на живую нитку, когда все идет не так, или неопределенно, или так испорчено неожиданными результатами, что ты не в силах разобраться, – начинаешь смотреть вбок. Так Федр потом описывал рост знания – оно не движется вперед, как стрела в полете, а расширяется в стороны, будто стрела в полете увеличивается. Или же стрелок соображает, что хоть он и попал в яблочко и получил свой приз, но голова его лежит на подушке, а в окно струится утренний свет. Боковое знание является с совершенно неожиданной стороны – ты вообще не осознаешь, что это направление, пока оттуда в тебя не вторгается знание. Боковые истины указывают на фальшь аксиом и постулатов, на которых покоится чья-то уже существующая система поисков истины.
Казалось бы, он просто плыл по течению. Он и вправду просто плыл по течению. Воле течения отдаются, когда смотрят на боковые истины. В поисках причины Федр не мог следовать ни одной известной методике, потому что сами методики поисков были испорчены. Вот он и плыл по течению. Только это и оставалось.
Течение привело его в армию, армия отправила в Корею. Остался обрывок его воспоминания: стена через туманную гавань – ее видно с бака корабля, она ярко сверкает, подобно вратам небесным. Должно быть, Федр очень дорожил этим обрывком и часто о нем думал: картинка очень яркая, ослепительно яркая, хотя ни к чему больше не привязана; я и сам много раз к ней возвращался. Похоже, она символизирует что-то очень важное, какой-то поворотный пункт.
Его письма из Кореи сильно отличаются от всего написанного раньше – и это знак того же поворота. Они просто взрываются эмоциями. Страницу за страницей он заполняет крохотными деталями увиденного: рынки, лавки с раздвижными дверями, шиферные крыши, дороги, хижины, крытые соломой, все. Когда в диком энтузиазме, когда подавленный, когда рассерженный, а когда и с юмором, он всегда напоминает некое существо, нашедшее выход из клетки, которой оно раньше даже не замечало, и теперь этот зверь в восторге блуждает по окрестностям и зрительно поглощает все, что попадется на глаза.
Впоследствии он подружился с корейскими рабочими, которые говорили немного по-английски, но хотели выучить больше, чтобы их наняли переводчиками. После службы он проводил время с ними, а взамен они на выходных брали его с собой в долгие походы по холмам, показывали ему свои дома и друзей, переводили образ жизни и мысли другой культуры.
Вот он сидит у тропы на прекрасном, продуваемом ветрами склоне холма, обращенном к Желтому морю. На террасе под тропою рис уже вырос и побурел. Вместе с Федром друзья смотрят на море и видят острова вдалеке. Обедают по-походному и беседуют друг с другом и с ним, а тема разговора – идеографы и их отношение к миру. Федр отмечает, как удивительно, что все во Вселенной можно описать двадцатью шестью их письменными знаками. Друзья кивают, улыбаются, едят что-то из консервных банок и любезно говорят «нет».
Он смущен кивком – «да» – и ответом – «нет» – и повторяет опять. И снова – кивок, означающий «да», и ответ – «нет». На этом отрывок кончается, но, как и о стене, он часто об этом думает.
Последний яркий отрывок воспоминаний об этой части света – отсек военного транспорта. Федр возвращается домой. Здесь пусто и необжито. Федр один, на полотняной койке, привязанной к железной раме и похожей на батут. Таких в ряду пять, и они ряд за рядом заполняют весь пустой воинский отсек.
Это передний отсек корабля, и натянутое полотно на соседних рамах вздымается и опускается, а желудок при этом екает, будто едешь в лифте. Федр созерцает такую картину и, слушая гулкий грохот по стальным пластинам обшивки, осознает: лишь картина эта и говорит ему, что весь отсек массивно возносится в воздух, а потом обрушивается вниз, снова и снова. Может, потому и трудно сосредоточиться на книге. Нет, просто книга трудная. Текст по восточной философии, труднее он ничего не читал. Он рад одиночеству и скуке в пустом отсеке для перевозки войск – иначе он бы ее никогда не осилил.
В книге утверждается, что есть некий теоретический компонент человеческого существования – в основном западный (и это соответствует лабораторному прошлому Федра), – и некий эстетический компонент, который легче увидеть на Востоке (и это соответствует его корейскому прошлому). Компоненты эти, судя по всему, никогда не смыкаются. Эти понятия – «теоретический» и «эстетический» – более или менее совпадают с тем, что Федр позднее назвал классическим и романтическим способами существования реальности и, видимо, повлияли на его терминологию больше, чем Федр сознавал. Разница в том, что классическая реальность в первую очередь теоретична, но обладает и своей эстетикой. Романтическая реальность в первую очередь эстетична, но и у нее есть своя теория. Разрыв теоретического и эстетического есть разрыв между компонентами одного мира. Разрыв классического и романтического – разрыв между мирами. Книга по философии, которая называется «Встреча Востока и Запада» Ф. С. К. Нортропа[10], предлагает лучше познавать «неопределенный эстетический континуум», из которого уже возникает теоретический.
Федр этого не понял, но, приплыв в Сиэтл и демобилизовавшись, целых две недели просидел в гостиничном номере, поедая огромные вашингтонские яблоки и размышляя; потом еще поел яблок и еще подумал, а потом, после всех этих обрывков воспоминаний и раздумий, вернулся в университет изучать философию. Боковой дрейф закончился. Началась погоня.
* * *
Встречный порыв ветра вдруг лупит хвойным запахом, потом еще и еще, и на подъездах к Ред-Лодж меня уже знобит.
В Ред-Лодж дорога идет почти вплотную к подножью горы. Темная грозная масса нависает над самыми крышами главной улицы. Ставим мотоциклы и достаем из багажа теплое. Мимо лыжных магазинов идем в ресторан, где по стенам висят огромные фотографии пути, который еще предстоит. Выше и выше, по одной из высочайших мощеных дорог в мире. Я несколько волнуюсь, но тревожиться неразумно, и я пытаюсь прогнать беспокойство, рассказывая о дороге остальным. Оттуда невозможно свалиться. Мотоцикл проедет надежно. Но смутное воспоминание: где-то можно бросить камень, и тот пролетит тысячи футов, пока куда-нибудь не упадет, – какая-то связь этого камня с мотоциклом и ездоком.
Допив кофе, потеплее одеваемся, снова все пакуем и вскоре доезжаем до первого поворота серпантина, что петляет по склону.
Дорожное покрытие намного шире и безопаснее, чем помнится. На мотоцикле ехать просторно. Джон и Сильвия закладывают чрезвычайно острый вираж впереди и с улыбками едут навстречу у нас над головой. Вскоре и мы сворачиваем и опять видим их спины. Затем у них еще поворот, и мы с хохотом встречаемся вновь. Трудно, если прикидывать заранее, – и легко, когда просто делаешь.
Я говорил о боковом дрейфе Федра, который привел его в дисциплину философии. Федр рассматривал философию как высочайший эшелон всей иерархии знания. Среди философов это убеждение так распространено, что стало почти банальностью, а для него было откровением. Федр обнаружил, что наука, которую он некогда считал целым миром знания, – всего лишь ветвь философии, а та – гораздо шире и общее. Его вопросы про бесконечные гипотезы науке неинтересны, ибо ненаучны. Наука не может изучать научный метод, не влезая в замкнутую на саму себя проблему, которая уничтожает ценность ответов на себя. Его вопросы были выше уровня науки. Так Федр обнаружил в философии естественное продолжение вопроса, который и привел его к науке в свое время: что все это значит? Какова цель?
На развороте останавливаемся, фотографируемся – доказательство, что были здесь, – а потом идем по короткой тропинке на край утеса. Мотоцикл на дороге под нами не виден отсюда. Укутываемся потеплее и продолжаем подъем.
Лиственные деревья исчезли вовсе. Остались только сосенки. Многие перекручены, чахлые на вид.
Скоро и сосенки пропадают, мы на альпийских лугах. Ни единого дерева, везде одна трава, густо усыпанная очень яркими пятнышками розового, голубого и белого. Цветы – повсюду! Жить здесь могут только они, травы, мхи и лишайники. Мы достигли высокогорий – тех, что выше границы лесов.
Я оглядываюсь через плечо – в последний раз увидеть ущелье. Будто смотришь на дно океана. Люди проводят всю жизнь в низинах, не сознавая, что существует эта высокая страна.
Дорога сворачивает вглубь, прочь от ущелья, в снежные поля.
Двигатель яростно чихает от недостатка кислорода и грозит заглохнуть. Но до этого не доходит. Вскоре оказываемся между старыми снежными сугробами – как после оттепели ранней весной. Повсюду ручейки сбегают в мшистую грязь, а подо мхом – в недельную травку, в дикие цветочки – крошечные розовые, голубые, желтые и белые, они будто выскакивают, солнечно-яркие, из темных теней. Так – везде. Крохотные точки красочного света выстреливают навстречу с мрачного темно-зеленого и черного фона. Темное небо сейчас – и холодное. Кроме тех мест, куда попадает солнце. На солнечной стороне моей руке, ноге и боку под курткой жарко, а темная сторона – уже в глубокой тени – очень замерзла.
Снежные поля здесь массивнее и расступаются обрывистыми берегами там, где прошли снежные плуги. Сугробы – четырех, потом шести, потом двенадцати футов в вышину. Движемся меж двух одинаковых стен, почти в снеговом тоннеле. Затем тоннель вновь раскрывается навстречу темному небу, и, вынырнув из него, мы видим, что уже на вершине.
А дальше – совсем другая страна. Внизу – горные озера, сосны и снежные поля. Над ними и за ними, насколько хватает глаз – заснеженные горные хребты. Высокая страна.
Мы останавливаемся на повороте, где уже фотографируются, озирают окрестности и друг друга туристы. Из седельной сумки на багажной раме Джон достает фотокамеру. Я из своей машины достаю набор инструментов, раскладываю его на сиденье, беру отвертку, завожу двигатель и отверткой регулирую карбюратор, пока звук холостой работы не меняется от очень плохих сбоев до плоховатых. Удивительное дело: на всем пути вверх он осекался, фыркал, дергался и всеми способами давал понять, что вот-вот заглохнет, но так и не заглох. Раньше я не регулировал его просто из любопытства – посмотреть, что с ним сделают одиннадцать тысяч футов высоты. Теперь я ничего не чищу и оставляю плоховатый звук, потому что скоро немного спустимся к Йеллоустоунскому парку, и если он не будет грязным, позднее пересохнет, а это опасно, поскольку грозит двигателю перегревом.
На пути вниз двигатель чихает еще порядочно – машина тащится на второй передаче, – но потом, когда мы спускаемся ниже, шум стихает. Возвращаются леса. Мы теперь едем среди скал, озер и деревьев, вписываясь в прекрасные повороты и изгибы дороги.
* * *
Теперь я хочу поговорить о другой высокой стране, стране в мире мысли, и она – мне по крайней мере – кажется несколько параллельной этой стране или вызывает сходные чувства. Назовем ее высокой страной ума.
Если все человеческое знание, все известное считается гигантской иерархической структурой, высокая страна ума располагается в высочайших пределах этой структуры – в самых общих, самых абстрактных соображениях.
Немногие здесь путешествуют. От скитаний по этим краям нет никакой реальной выгоды, и все же, подобно высокогорью реального мира, что вокруг нас сейчас, она обладает своей суровой красотой, которая, видимо, компенсирует некоторым тяготы путешествия.
В высокой стране ума необходимо привыкнуть к разреженному воздуху неопределенности, к невообразимой огромности задаваемых вопросов и к ответам, что на эти вопросы предлагаются. Простор заводит все дальше и дальше – разум таких далей уже не охватывает, и сомневаешься, стоит ли даже приближаться. Вдруг затеряешься в этом просторе и никогда не выберешься?
Что есть истина и как узнать, она ли у тебя в руках?.. Как мы вообще что-либо узнаем? Есть ли какое-то «я», «душа», которая знает, или же эта душа – просто клетки, координирующие чувства?.. Изменяется ли реальность по своей сути – или она фиксирована и постоянна?.. Когда говорят: «Это значит то-то», – что это значит?
По этим высоким хребтам много троп проложено и забыто с начала времен; ответы, принесенные с этих троп, претендовали на постоянство и универсальность, однако цивилизации меняли выбранные тропы, и у нас теперь множество разных ответов на одни и те же вопросы, и все их можно считать истинными в их собственном контексте. Даже внутри одной цивилизации старые тропы постоянно заваливает и расчищаются новые.
Иногда утверждают, что подлинного прогресса нет; что цивилизацию, которая убивает толпы людей в массовых войнах, отравляет землю и океаны отходами, которых все больше, уничтожает достоинство личностей, подвергая их насильственному механизированному существованию, едва ли можно считать шагом вперед по сравнению с более простыми охотой, собирательством и земледелием доисторических времен. Этот аргумент романтически привлекает, однако несостоятелен. В первобытных племенах существовало гораздо меньше индивидуальной свободы, нежели в современном обществе. Древние войны были гораздо менее морально оправданы, чем современные. Техника, производящая отходы, способна отыскать – и отыскивает – способы от них избавляться, не нарушая экологического баланса. И картинки из школьных учебников, изображающие первобытного человека, иногда опускают некоторые минусы его первобытной жизни – боль, болезни, голод, тяжкий труд исключительно выживания ради. Движение от этой агонии гольного существования к современной жизни может быть трезво описано только как прогресс, и единственный деятель этого прогресса – сам разум, это вполне ясно.
Видишь, и неформальный, и формальный процессы – гипотеза, эксперимент, умозаключение – век за веком повторялись на новом материале, возводили иерархии мысли, которые уничтожали бо́льшую часть врагов первобытного человека. Рациональность крайне эффективно выводит человека из первобытных условий – здесь отчасти и залегают корни романтической анафемы рациональности. Рациональность – столь мощный агент цивилизованного человека, что практически затмила собой все остальное и теперь доминирует над самим человеком. Тут и зарыта собака недовольства.
Федр скитался по этой высокой стране – вначале бесцельно, по каждой тропе, по каждому следу там, где кто-то побывал до него, временами по неким косвенным признакам замечая, что вроде бы движется вперед, однако ничто впереди не подсказывало, куда идти.
Через громоздящиеся вопросы реальности и знания проходили великие фигуры цивилизации; некоторые – Сократ, Аристотель, Ньютон, Эйнштейн – известны почти каждому, но большинство – нет. Их имен Федр никогда прежде не слышал. И его завораживала их мысль – да и весь способ их мышления. Он тщательно шел по их следу, пока тот не остывал совсем, а затем оставлял эту тропу. В то время его работа едва ли отвечала академическим стандартам – но вовсе не оттого, что он не работал или не думал. Он размышлял слишком напряженно, а чем напряженнее размышляешь в этой высокой стране ума, тем медленнее идешь. Федр читал скорее научно, чем литературно, проверяя каждую фразу, отмечая сомнения и вопросы, оставляя их разрешение на потом, и мне повезло – у меня остался целый чемодан этих его заметок.
Поразительнее всего, что в них уже есть почти все сказанное им много лет спустя. Одно расстройство видеть, как он в то время совершенно не осознавал значимости того, что говорил. Будто человек перебирает одну за другой части головоломки, а тебе известно решение, и хочешь подсказать ему: «Смотри, это подходит сюда, а это – сюда» – но не можешь. А он слепо бродит, меняя тропы, подбирая одну часть за другой, не зная, что с ними делать, и ты скрипишь зубами, когда он идет по ложному следу, – и вздыхаешь с облегчением, когда он возвращается, пусть и обескураженным. «Не переживай, – хочешь сказать. – Давай дальше!»
Но он до того нерадивый студент, что и экзамены-то сдает лишь по доброте преподавателей. Он предвзят к каждому философу. Он всегда вмешивается и навязывает собственный взгляд изучаемому материалу. Он никогда не играет честно. Он всегда пристрастен. Он хочет, чтобы каждый философ шел неким путем, и впадает в ярость, когда тот не идет.
Сохранился фрагмент воспоминания: он сидит в комнате в три-четыре утра со знаменитой «Критикой чистого разума» Иммануила Канта – изучает ее, как шахматист изучал бы дебюты гроссмейстеров, пытаясь испробовать линию защиты против собственного суждения и опыта, ища противоречий и несообразностей.
Федр – человек эксцентричный, если сопоставлять со среднезападными американцами ХХ века, но когда видишь его за Кантом, он не так уж и странен. Немецкого философа XVIII века он уважает – не из согласия с ним, а потому, что ценит ту внушительную крепость, которой Кант окружил свои позиции. При восхождении на эту огромную заснеженную гору мысли – вопрос, что в уме, а что вне ума, – Кант всегда великолепно методичен, настойчив, правилен и дотошен. Для современных скалолазов этот пик – среди высочайших, и теперь хотелось бы увеличить этот портрет Канта и показать, как думал он, и как Федр думал о нем, – чтобы пейзаж высокой страны ума несколько прояснился; так мы подготовимся к пониманию мыслей Федра.
В этой стране Федр и разрешил всю проблему классического и романтического понимания, и если не понимать, как эта высокая страна ума соотносится с прочим существованием, значение и важность нижних уровней сказанного Федром недооценят и поймут неверно.
Чтобы следовать за Кантом, нужно понимать и кое-что про шотландского философа Дэвида Юма. Ранее Юм предложил вот что: если для определения истинной природы мира следовать строжайшим правилам логической индукции и дедукции, неизбежно придешь к неким выводам. Его доводы следовали по дорожкам, которые проложили бы ответы на такой вопрос: предположим, родился ребенок, лишенный всех ощущений; у него нет зрения, слуха, осязания, обоняния, вкусовых ощущений – нет ничего. От внешнего мира он ничего не получает. Предположим, это дитя кормят внутривенно и по-всякому за ним ухаживают, и в таком вот состоянии он доживает до восемнадцати лет. Спрашивается: имеет ли этот восемнадцатилетний человек мысль в голове? Если да, откуда она взялась? Как он мог ее получить?
Юм ответил бы, что у этого восемнадцатилетнего никаких мыслей нет, – и тем самым определил бы себя как эмпирика, того, кто верит, что все знание развивается исключительно из ощущений. Научный метод экспериментирования – тщательно контролируемая эмпирика. Здравый смысл сегодня – тоже эмпирика, ибо подавляющее большинство согласилось бы с Юмом, даже если в других культурах и в другие времена большинство имело бы другое мнение.
Первая проблема эмпирики – если в нее верить – касается природы «субстанции»[11]. Если все наше знание – от чувственных данных, какова же та субстанция, что производит сами чувственные данные? Если попробуешь ее вообразить – исключая то, что ощущается, – поймешь, что думаешь вообще ни о чем.
Поскольку все знание дается чувственными впечатлениями и не существует чувственного впечатления самой субстанции, логически следует, что не существует и знания субстанции. Мы ее просто воображаем. Она полностью у нас в уме. Мысль о том, что снаружи есть нечто и оно производит воспринимаемые нами свойства, – лишь одно из тех понятий здравого смысла, что сходны с детскими здравыми представлениями о том, что земля плоская, а параллельные линии никогда не сходятся.
Во-вторых, если начинать с посылки, что все знание приходит к нам через ощущения, следует спросить: из каких чувственных данных получено наше знание причинности? Иными словами, какова научная эмпирическая основа самой причинности?
Ответ Юма: «Никакой». В наших ощущениях нет свидетельства причинности. Как и субстанцию, причинность мы воображаем, когда одно неоднократно следует за другим. Реально ее в наблюдаемом мире не существует. Если принять посылку, что все знание поступает к нам через ощущения, говорит Юм, следует логически заключить, что и «Природа», и «Законы Природы» – плоды нашего воображения.
Эту мысль – что весь мир заключен в уме – можно было бы отбросить как абсурдную, если бы Юм высказал ее мимоходом, просто рассуждения ради. Но он тщательно законопатил всю постройку.
Выводы Юма следовало выкинуть, однако, к несчастью, он пришел к ним таким манером, что их вроде бы невозможно выкинуть без отрицания самого эмпирического разума и возвращения к какому-то его средневековому предшественнику. Кант так делать не хотел. Поэтому именно Юм, сказал Кант, стал «средством пробуждения разума от его сладкого догматического сна» и заставил Канта написать то, что ныне считается одним из величайших философских трактатов всех времен – «Критику чистого разума», которой часто посвящают целый университетский курс.
Кант пытается спасти научную эмпирику от последствий ее же всепожирающей логики. Сперва он идет по тропе, проложенной для него Юмом. «Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта», – говорит Кант, однако вскоре сходит с этой тропы, отрицая, что все компоненты знания даются нам в ощущении в тот миг, когда принимаются чувственные данные. «Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта».
Сперва кажется, будто он выискивает блох, но это не так. В результате такого разграничения Кант по самой кромке обходит пропасть солипсизма, куда ведет тропа Юма, и ступает на иную, совершенно новую тропу, свою собственную.
Кант говорит, что существуют аспекты реальности, не подкрепленные непосредственно ощущениями. Их он называет априорными.
Пример априорного знания – «время». Время не видишь. Также его не слышишь, не обоняешь, не можешь попробовать и потрогать. Оно не присутствует в чувственных данных при их приеме. Время – это то, что Кант называет «интуицией»[12], которую должен предоставить разум, принимая чувственные данные.
То же истинно и для пространства. Пока мы не применим понятия пространства и времени к получаемым впечатлениям, мир остается неразборчив – просто калейдоскопическая мешанина красок, узоров, шумов, запахов, боли, вкусов безо всякого значения. Предметы мы ощущаем неким образом потому, что применяем априорные интуиции, пространство и время, но сами не создаем эти предметы из воображения, как утверждали бы чистые философские идеалисты. Формы пространства и времени применяются к данным при их получении от предмета, что их произвел. Априорные представления рождаются человеческой природой – они не обуславливаются ощущаемым предметом, не вызывают его бытие, но выполняют функцию некоего фильтра: мы решаем, какие чувственные данные будем принимать. Например, когда глаза моргают, чувственные данные говорят нам, что мир исчез. Но это фильтруется и никогда не доходит до нашего сознания, поскольку в уме у нас есть априорное представление: мир непрерывен. То, что мы считаем реальностью, есть непрерывный синтез элементов закрепленной иерархии априорных представлений и вечно изменчивых чувственных данных.
Теперь остановимся и применим некоторые понятия, выдвинутые Кантом, к этой странной машине – к этому творению, что влечет нас сквозь время и пространство. Посмотрим, в каком мы сейчас с ним отношении, как это нам открывает Кант.
Юм, в сущности, говорил, что все известное мне об этом мотоцикле приходит в ощущении. Иначе не может быть. Нет другого способа. Если я говорю, что мотоцикл сделан из металла и других субстанций, он спрашивает: что такое металл? Если я отвечаю, что металл тверд, блестящ, прохладен на ощупь и деформируется, не ломаясь, под ударами материала потверже, Юм отвечает, что все это – видимости, звуки и ощущения. Субстанции нет. Скажи мне, что такое металл вне этих ощущений. И тут я, конечно, застреваю.
Но если нет субстанции, что мы можем сказать о воспринимаемых чувственных данных? Если я склоню голову влево и гляну на рукоятки руля и переднее колесо, на подставку для карты и бак для горючего, у меня получится один расклад чувственных данных. Если я склоню голову вправо, расклад выйдет слегка иным. Эти углы зрения различны. Отличаются изгибы плоскостей и кривые металла. На них по-разному падает свет. Если нет логической основы субстанции – нет логической основы и для заключения, что эти две картинки произвел один мотоцикл.
Тут у нас подлинный интеллектуальный тупик. Наш разум, который вроде бы должен лучше различать предметы, различает их хуже, а когда разум не оставляет камня на камне от самого́ своего предназначения, что-то надо менять в структуре самого разума.
Нам на выручку приходит Кант. Он говорит: сам по себе тот факт, что мы никак не можем непосредственно ощутить «мотоцикл» вне красок и форм, им производимых, вовсе не доказывает, что мотоцикла не существует. У нас в уме есть априорный мотоцикл, и он непрерывен во времени и пространстве и способен менять свой внешний вид, когда кто-то двигает головой; стало быть, получаемые чувственные данные ему не противоречат.
Мотоцикл Юма – тот, что вообще лишен смысла, – будет иметь место, если нашего гипотетического лежачего больного – у которого нет никаких ощущений – вдруг на секунду подвергли воздействию чувственных данных о мотоцикле, а затем снова лишили ощущений. По-моему, тогда у него в уме будет мотоцикл Юма, который не предоставит ему совершенно никаких доказательств для таких понятий, как причинность.
Но, говорит Кант, мы – не такой больной. У нас в уме есть весьма реальный априорный мотоцикл, сомневаться в его существовании нет причин, а его реальность можно подтвердить когда угодно.
Этот априорный мотоцикл строился у нас в уме многие годы из массы чувственных данных и при поступлении новых данных постоянно меняется. Некоторые изменения этого конкретного априорного мотоцикла, на котором я еду, очень быстры и мимолетны: его взаимоотношения с дорогой, например. За ними я постоянно слежу и корректирую их на изгибах и поворотах шоссе. Как только информация перестает быть ценной, я ее забываю, потому что нужно следить за поступающей новой информацией. Другие перемены априори медленнее: в баке исчезает топливо; резина стирается с поверхности шин; слабнут болты и гайки; меняется зазор между тормозными колодками и барабанами. Иные аспекты мотоцикла меняются так медленно, что кажутся постоянными: слой краски, подшипники колес, тросы управления – но и они тоже меняются. Наконец, если мыслить действительно большими промежутками времени, даже рама слегка меняется под действием толчков на дороге, перепадов температуры и внутренней усталости, свойственной всем металлам.
Да, этот априорный мотоцикл – машина что надо. Чуть подумаешь – станет видно, что это главное. Чувственные данные это подтверждают, но чувственные данные – не он сам. Я априорно верю, что вне меня есть мотоцикл, – так же, как я верю, что в банке у меня лежат деньги. Приди я в банк и попроси мне эти деньги показать, на меня посмотрят странно. У них нет «моих денег» ни в каком маленьком ящичке, который можно открыть и продемонстрировать. «Мои деньги» – лишь какие-нибудь магнитные домены, ориентированные с востока на запад или с севера на юг, в каком-нибудь окисле железа на катушке ленты в компьютерном хранилище. Но мне этого довольно, поскольку у меня есть вера: если мне понадобятся вещи, на которые потребны деньги, банк своей чековой системой мне их предоставит. Точно так же, даже если мои чувственные данные никогда не приносили никакой, условно говоря, «субстанции», мне довольно будет, что в этих чувственных данных заложена способность к достижению того, что должна делать субстанция, а чувственные данные будут и дальше соответствовать априорному мотоциклу у меня в уме. Удобства ради я говорю, что у меня есть деньги в банке, и ровно так же говорю, что мотоцикл, на котором я еду, состоит из субстанций. Основная часть кантовской «Критики чистого разума» касается того, как добывается и применяется это априорное знание.
Кант назвал свой тезис – наши априорные мысли независимы от чувственных данных и фильтруют то, что мы видим, – «отвагой Коперника». Под этим он имел в виду заявление Коперника, что Земля движется вокруг Солнца. Этот переворот ничего не поменял, но изменилось все. Или, если говорить по-кантовски, не поменялся объективный мир, производящий наши чувственные данные, однако наизнанку вывернулось наше априорное понятие о нем. Ошеломительно. Современного человека от его средневековых предшественников отличает именно принятие отваги Коперника.
Коперник взял существовавшее априорное понятие мира – представление о том, что мир плосок и зафиксирован в пространстве, – и выдвинул альтернативное априорное понятие мира – он сферичен и движется вокруг Солнца. И показал, что обе эти априорные концепции удовлетворяют существующим чувственным данным.
Кант полагал, что сделал то же самое в метафизике. Если допускаешь, что априорные концепции в наших головах независимы от того, что мы видим, и фильтруют то, что мы видим, получается вот что: берешь старое аристотелевское понятие о человеке науки как пассивном наблюдателе, «чистой дощечке»[13] – и выворачиваешь его наизнанку. Кант и миллионы его последователей утверждали, что эдакий переворот дает нам более удовлетворительное понимание того, как мы познаем.
Я углубился в некоторые детали этого примера, отчасти чтобы чуть ближе показать некий район этой высокой страны, но в основном – подготовить вас к тому, что Федр сделал потом. Он тоже совершил переворот Коперника и в результате достиг решения: мир оказался разложен на классическое и романтическое понимания. А мне еще кажется, что так станет понятнее и совокупный смысл этого мира.
Метафизика Канта сначала вдохновляла Федра, но потом стала нудной, и он не понимал, отчего так. Подумал и решил, что, быть может, причина кроется в его восточном опыте. У него тогда возникло ощущение, что он сбежал из тюрьмы интеллекта, а теперь вот – опять тюрьма, да еще крепче прежнего. Он читал эстетику Канта с разочарованием, потом – в гневе. Сами идеи насчет «прекрасного» казались ему безобразными, причем безобразие это было так глубоко и всепроникающе, что Федр не имел ни малейшего понятия, откуда начинать на него наступление или как его обойти. Казалось, оно вплетено в саму ткань кантовского мира – настолько основательно, что выхода нет. Не простое безобразие XVIII века и не «техническое» безобразие. Федр замечал его у всех философов. Весь университет, в который он ходил, смердел тем же безобразием. Оно было везде – в аудиториях, в учебниках. И в самом Федре оно было – и он сам не знал, как или почему. Безобразен был сам разум, и от этого, казалось, никак не освободиться.
12
В Кук-Сити Джон и Сильвия счастливы – такими я не видел их много лет, – и мы выгрызаем из горячих сэндвичей с говядиной огромные куски. Я счастлив, что слышу и наблюдаю их высокогорное буйство, но почти ничего им не говорю, просто ем.
В широкое окно ресторана видны огромные сосны за дорогой. Под ними в парк ездит много машин. Опустились уже намного ниже границы лесов. Здесь теплее, но случайная низкая туча над головой готова пролиться дождем.
Наверное, будь я романистом, а не лектором шатокуа, попытался бы «развить характеры» Джона, Сильвии и Криса сценами действия, которые заодно являли бы «внутренние смыслы» Дзэна, а может, и Искусства, а может даже – и Ухода за Мотоциклом. Вышел бы всем романам роман, но я отчего-то не горю желанием его писать. Они – друзья, не персонажи, и как однажды сказала Сильвия: «Мне не нравится быть предметом!» Поэтому я не вдаюсь в подробности, которые мы знаем друг о друге. Ничего плохого, но и ничего значимого для шатокуа. С друзьями так и надо.
В то же время, я думаю, из этого шатокуа можно понять, отчего я, должно быть, кажусь им таким сдержанным и отчужденным. Время от времени они задают вопросы, на которые вроде как надо отвечать – разъяснять, какого черта я всегда такой задумчивый, но стоит проболтаться, что именно у меня на уме – скажем, априорное допущение временно́й непрерывности мотоцикла, – причем не ссылаясь на всю идею шатокуа, – они очень удивятся и спросят, что со мной случилось. А мне интересна эта непрерывность – и то, как мы о ней говорим и думаем; поэтому я выпадаю из обычных застольных ситуаций – отсюда и отчужденность. Тут и загвоздка.
Проблема нашего времени. Сегодня диапазон человеческого знания настолько велик, что все мы – специалисты, а дистанции между специализациями так огромны, что, если хочешь вольно бродить меж ними, окружающим придется отойти в сторонку. Все это застольное «здесь и сейчас» – тоже специализация.
Крис вроде бы понимает мою отстраненность лучше Джона и Сильвии – быть может, больше привык к ней, и его это больше касается, таковы у нас отношения. Иногда в лице его я читаю тревогу – или по крайней мере беспокойство; спрашиваю себя почему, и выясняется, что это я злюсь. Не обрати я внимания на его лицо, может, сам бы и не понял. В другой раз он бегает и скачет вокруг, я опять недоумеваю, а оказывается, это потому, что я в духе. Теперь я вижу, что он нервничает и отвечает на вопрос, который Джон, очевидно, задал мне. О людях, к которым мы приезжаем завтра, – о ДеВизах.
Я толком не разобрал вопрос, но добавляю:
– Он художник. Преподает изобразительное искусство в тамошнем колледже. Абстрактный импрессионист[14].
Меня спрашивают, как мы с ним познакомились, и приходится ответить, что я не помню; выходит уклончиво. Я не помню о нем ничего – кроме отдельных фрагментов. Они с женой, очевидно, дружили с друзьями Федра – так он с ДеВизами и познакомился.
Им не очень понятно, что́ я, технический писатель, могу иметь общего с художником-абстракционистом. И снова приходится говорить, что не знаю. Я мысленно перебираю фрагменты воспоминаний, но ответа не нахожу.
Личности у них явно разные. На снимках того периода Федр отчужден и агрессивен – кто-то с его факультета полушутя назвал его лицо «подрывным», – а тогдашние фотографии ДеВиза являют лицо вполне пассивное, почти умиротворенное, только в глазах легкий вопрос.
У меня в памяти сохранился фильм о шпионе в Первую мировую войну – он изучал поведение пленного немецкого офицера (тот был его вылитой копией) через одностороннее зеркало. Изучал много месяцев, пока не научился имитировать каждый его жест и оттенок речи. Затем притворился этим офицером, сбежавшим из плена, чтобы внедриться в командование германской армии. Помню свое напряжение и возбуждение: шпиону предстоит первое испытание, встреча со старыми друзьями офицера. Разгадают те обман или нет? Вот и мне теперь также: ДеВиз, само собой, будет полагать, что я тот человек, которого он когда-то знал.
Снаружи мотоцикл весь в росе от легкого тумана. Из седельной сумки достаю пластиковый пузырь и цепляю к шлему. Скоро въедем в Йеллоустоунский парк.
Дорога впереди – в тумане. Будто облако навалилось на долину, которая и не долина вовсе, а длинный горный проход.
Я не знаю, насколько хорошо его знал ДеВиз и каких общих воспоминаний он ждет от меня. Я уже проходил это с другими людьми, и мгновения неловкости обычно удавалось заполировать. Наградой всякий раз служили новые знания о Федре, которые немало помогали мне и дальше играть его роль. За много лет я накопил основную массу той информации, которую здесь излагаю.
Судя по обрывкам моих воспоминаний, Федр высоко ценил ДеВиза, поскольку не понимал. Непонятное сильно интересовало Федра, а реакции ДеВиза всегда были пленительны. Реагировал он как будто от фонаря. Федр говорил что-нибудь, по его мнению, смешное, а ДеВиз смотрел озадаченно – или же принимал его всерьез. В другой раз Федр говорил что-нибудь очень серьезное, что глубоко его волновало, а ДеВиз принимался хохотать, словно услышал умнейшую шутку на свете.
Например, остался отрывок воспоминания об обеденном столе, у которого отстала полировка. Федр приклеил шпон на место, а чтобы тот держался, пока не застынет клей, обмотал весь стол целым клубком бечевки.
ДеВиз увидел и спросил, что все это означает.
– Моя новая скульптура, – отвечал Федр. – Тебе не кажется, что весьма продуманно выстроена?
Но ДеВиз не рассмеялся, а взглянул на него с изумлением; потом долго разглядывал стол и наконец спросил:
– Где ты научился такому?
Секунду Федр думал, что ДеВиз подхватил его шутку, но тот был серьезен.
В другой раз Федр расстроился из-за студентов, провалившихся на экзамене. Они с ДеВизом возвращались домой под кронами деревьев, и Федр что-то сказал, а ДеВиза удивило, что тот принял провал так близко к сердцу.
– Я тоже не понимаю, – ответил Федр и озадаченно добавил: – Наверное, потому, что каждый учитель склонен завышать оценки тем ученикам, которые больше напоминают его самого. Если сам пишешь экономно, считаешь, что и для ученика это важнее прочего. Если любишь трескучие фразы, тебе понравятся ученики, которые к ним расположены.
– Ну да. А что здесь такого? – спросил ДеВиз.
– Понимаешь, тут что-то не так, – ответил Федр. – Те студенты, которые мне больше всех нравятся, настоящие родственные души – все они проваливаются!
Тут ДеВиз расхохотался в голос, чем совсем вывел Федра из себя. Тот увидел некое научное явление, которое может подсказать ключи к новому пониманию, а ДеВизу, видите ли, смешно.
Сначала Федр думал, что ДеВиз смеялся просто над своим нечаянным оскорблением. Но что-то не срасталось: ДеВиз вовсе не любил унижать людей. Позднее Федр понял: то был некий смех больше правды. Лучшие студенты всегда проваливаются. Это знает каждый хороший учитель. Смех ДеВиза уничтожал напряжение невозможной ситуации, и Федру смех тоже бы не помешал, ибо в то время Федр был чересчур серьезен.
Эти загадочные реакции ДеВиза и навели Федра на мысль, что у художника есть доступ к огромному массиву скрытого понимания. Казалось, ДеВиз всегда о чем-то умалчивает. Он что-то скрывал от Федра, и тот не мог вычислить, что именно.
Затем – отчетливый фрагмент: в тот день Федр понял, что ДеВиз также недоумевает по его поводу.
У ДеВиза в студии не работал выключатель, и художник спросил Федра, что здесь может быть не так. На лице его играла слегка смущенная, слегка озадаченная улыбка – будто меценат беседует с художником. Меценат смущен тем, что приходится признавать, насколько он несведущ, но улыбается в предвкушении узнать больше. В отличие от Сазерлендов, которые ненавидят технику, ДеВиз был так от нее далек, что не ощущал особой угрозы. Вообще-то ДеВиз был техническим энтузиастом, меценатом техники. Он ее не понимал, но знал, что именно ему нравится, и всегда с удовольствием узнавал новое.
Он наивно полагал, что все дело в проводе около самой лампочки, поскольку чуть тронешь выключатель – свет гаснет. Если же что-то сломалось в выключателе, полагал он, неполадка сказалась бы на лампочке лишь через некоторое время. Федр не стал спорить, а перешел дорогу, купил в хозяйственном магазине выключатель и через пару минут его установил. Свет, конечно, немедленно зажегся, озадачив и расстроив ДеВиза.
– Откуда ты знал, что сломан выключатель? – спросил он.
– Он работал прерывисто, когда я его трогал.
– А-а… а разве не могло дергаться в проводе?
– Нет.
Самоуверенность Федра разозлила ДеВиза, и он заспорил:
– Откуда ты все это знаешь?
– Это очевидно.
– Ну а почему тогда я этого не видел?
– Это нужно немножко знать.
– Тогда это уже не очевидно, правда?
ДеВиз всегда спорил под таким странным углом, что отвечать ему было невозможно. Потому Федр и заподозрил, что ДеВиз от него что-то скрывает. Но лишь под конец своего пребывания в Бозмене Федр аналитически и методически понял, кажется, какую именно перспективу этот угол зрения открывал.
У въезда в парк останавливаемся и платим человеку в шляпе смотрителя. Он вручает нам однодневный пропуск. Впереди пожилой турист снимает нас кинокамерой, и я улыбаюсь. Из его шортов к городским гольфам и башмакам спускаются белые ноги. Супруга одобрительно за ним наблюдает, и у нее ноги такие же. Проезжая, машу им рукой, и они машут в ответ. Мгновение на много лет останется на пленке.
Федр презирал этот парк, толком не понимая, отчего, – может, оттого, что не сам его открыл, но скорее всего не поэтому. Тут что-то другое. Его злило, что смотрители промышляют экскурсионным туризмом. Туристы ведут себя как в Бронксском зоопарке, и это еще отвратительнее. То ли дело высокогорья вокруг. Парк казался огромным музеем с тщательно наманикюренными экспонатами – они создают иллюзию реальности, но отгорожены красивыми цепочками, чтобы детишки ничего не сломали. Люди входят в парк и становятся вежливыми, любезными и фальшивыми друг с другом, ибо такова здешняя атмосфера. Федр жил всего в сотне миль от парка, но заезжал в него от силы пару раз.
Однако я сбился. Не хватает участка длиной лет в десять. Федр не прыгнул от Иммануила Канта сразу в Бозмен, Монтана. За эти десять лет он успел долго пожить в Индии, где изучал восточную философию в Бенаресском индуистском университете.
Насколько я знаю, никаких оккультных секретов он там не постиг. Ничего особенного не случилось – только встречи. Он слушал философов, посещал религиозных деятелей, впитывал и думал, потом впитывал и думал опять – вот и все. Письма его полны сильного смятения от противоречий, несообразностей, расхождений и исключений из всех правил, что он формулировал насчет наблюдаемого. Он приехал в Индию ученым-эмпириком и уехал из Индии ученым-эмпириком – ненамного мудрее, чем раньше. Тем не менее он со многим познакомился, и в нем затаился некий образ, который позже проявился в сочетании со многими другими скрытыми образами.
Некоторые из этих скрытых состояний надо рассмотреть – потом они будут важны. Федр понял, что различия в доктринах индуизма, буддизма и даосизма и рядом не стоят с различиями доктрин христианства, ислама и иудаизма. Из-за первых не ведутся священные войны, ибо слова, описывающие реальность, никогда не принимаются за саму реальность.
Во всех восточных религиях крайне ценна санскритская доктрина Tat tvam asi – «То ты еси». Она утверждает: все, что ты считаешь собой, и все, что ты считаешь постигаемым тобой, – неразделимо. Целиком постичь эту нераздельность и значит стать просветленным.
Логика подразумевает отделение субъекта от объекта; следовательно, логика не есть мудрость в последней инстанции. Иллюзия отделения субъекта от объекта лучше всего стирается исключением физической, умственной и эмоциональной деятельности. Для этого есть множество дисциплин. Одна из самых важных – санскритская дхьяна; по-китайски она неправильно произносится «чань» и еще раз неправильно произносится по-японски – «дзэн». Федр так и не увлекся медитацией, поскольку не видел в ней смысла. Все то время, что он жил в Индии, «смысл» оставался логической постоянной, и Федр не знал честного способа отказаться от веры в него. Это, по-моему, делало ему честь.
Но однажды в классе преподаватель философии жизнерадостно распространялся про иллюзорную природу мира – уже в пятидесятый, наверное, раз, – и Федр поднял руку и холодно спросил, считается ли, что атомные бомбы, упавшие на Хиросиму и Нагасаки, были иллюзорными. Преподаватель улыбнулся и ответил: «Да». Этим дебаты завершились.
В традициях индийской философии такой ответ, может, и верен, но для Федра – как для всех, кто регулярно читает газеты и кого парит массовое уничтожение людей, – он был безнадежно неадекватен. Федр бросил занятия, бросил Индию, бросил все.
Вернулся на свой Средний Запад, получил практичную степень по журналистике, женился, жил в Неваде и Мексике, работал от случая к случаю – репортерствовал, пописывал о науке, сочинял промышленную рекламу. Зачал двоих детей, купил ферму, лошадь для верховой езды, две машины и стал обрастать жирком. Он бросил гоняться за так называемым «призраком разума». Это чрезвычайно важно понять. Он сдался.
А поскольку сдался, с виду жизнь стала удобной. Работал Федр в разумных пределах прилежно, с ним легко было иметь дело, и если б не случайные проблески внутренней пустоты, что сквозили в некоторых его рассказах того периода, дни его проходили вполне обычно.
Что встряхнуло его и привело в эти горы – неясно. Жена, во всяком случае, не знает до сих пор, но я догадываюсь: виной могло быть внутреннее осознание неудачи – и надежда, что он опять выйдет на след. Федр стал гораздо зрелее – будто забвение внутренних целей поторопило его старость.
Выезжаем из парка в Гардинере, где, похоже, дожди редки – в сумерках на склонах видны только трава и шалфей. Мы решаем остановиться здесь на ночь.
Городок лежит на высоких берегах по обе стороны моста через реку, которая стремительно льется по гладким и чистым валунам. За мостом подъезжаем к мотелю – здесь уже включили свет, но даже при искусственном освещении из окон я вижу, что вокруг каждого домика аккуратно высажены цветы, и шагаю осторожно, чтобы не наступить.
В домике я тоже кое-что замечаю – и показываю Крису. Все окна двойные, а скользящие рамы утяжелены грузилами. Двери закрываются плотно. Вся фурнитура идеально подогнана. Ничего претенциозного – просто хорошо сделано, и что-то мне подсказывает, что делал все это один человек.
Когда возвращаемся из ресторана, в садике у конторы мотеля, наслаждаясь вечерним ветерком, сидит пожилая пара. Мужчина подтверждает, что все домики построил сам; он доволен, что это заметили, и его жена, которая за ним наблюдает, приглашает всех нас присесть.
Неторопливо беседуем. Здесь самый старый въезд в парк. Через него ездили еще до появления автомобилей. Старики говорят о переменах за все эти годы, прибавляя еще одно измерение к тому, что мы видим вокруг, и все выстраивается в нечто прекрасное: этот городок, эта пара и годы, что здесь прошли. Сильвия кладет ладонь на руку Джона. Шумит река внизу, пахнет ночной ветер. Жена хозяина знает все запахи и говорит, что так пахнет жимолость; ненадолго замолкаем. Меня охватывает приятная дрема. Крис уже почти спит, когда решаем идти на боковую.
13
Джон и Сильвия завтракают горячими блинчиками и пьют кофе – у них вчерашнее настроение еще не выветрилось, мне же ничего не лезет в горло.
Сегодня мы должны приехать в школу – туда, где много чего слилось воедино, – и я уже весь внутренне напрягся.
Помню, однажды читал об археологических раскопках на Ближнем Востоке: каково было археологу впервые за тысячелетия открывать забытые гробницы. Теперь я и сам как тот археолог.
Ущелье ведет к Ливингстону, и шалфей в нем тот же, что отсюда до Мексики.
Солнце утром – как вчера, только теплее и мягче, потому что мы опять спустились ниже.
Ничего необычного.
Если б не это археологическое чувство, будто спокойствие окружающего что-то скрывает. Дом с призраками.
Очень не хочу туда ехать. Лучше поскорее развернуться и ехать обратно.
Видимо, просто напряжение.
Оно совпадает с обрывком воспоминаний: много раз по утрам напряжение было таково, что Федра рвало еще перед первым занятием. Противно появляться перед аудиторией и говорить. Абсолютное насилие над всей его одинокой, замкнутой жизнью. Вообще-то Федр жутко боялся сцены, только по нему этого не было видно. Скорее казалось, что он до ужаса интенсивен во всем, что бы ни делал. Студенты говорили его жене, что воздух искрил. Едва он входил в класс, все глаза обращались к нему и следовали за ним, пока он шел к кафедре. Все разговоры стихали, даже если до начала занятия оставалось несколько минут. Весь урок студенты не сводили с него глаз.
О нем заговорили, он стал «спорной фигурой». Большинство студентов избегали его семинаров как чумы. Слишком много историй ходило.
Заведение условно называлось «учебным колледжем». В таком только учишь, учишь и учишь – нет времени на исследования, на размышления, никаких внешних дел. Сплошной твердеж – пока ум не притупляется, творческие способности не пропадают, а сам не становишься автоматом, повторяющим одни и те же глупости снова и снова бесконечным волнам простодушных студентов, которые не понимают, отчего ты такой тупой; они теряют к тебе уважение и разносят свое презрение по всей школьной общине. Причина твердежа в том, что это очень умный способ управлять колледжем, не напрягаясь, но сообщая заведению ложную видимость подлинного образования.
Несмотря на это, Федр называл школу именем, которое не имело особого смысла – вообще-то оно звучало отчасти нелепо в свете ее подлинной природы. Но для него это имя много значило, он твердил его и чувствовал – до того, как уехал, – что втемяшил его в некоторые головы достаточно крепко. Федр называл школу «Храмом Разума», и понимай люди, что он имел в виду, – может, и не относились бы в нему с таким недоумением.
В штате Монтана в то время наблюдался всплеск ультраправой политики – вроде того, что был в Далласе, штат Техас, перед покушением на президента Кеннеди. Известному всей стране профессору Университета Монтаны в Мизуле запретили выступать в студгородке на основании того, что он «вызовет волнения». Преподавателям велели все публичные выступления предварительно согласовывать в отделах внешних связей.
Академические стандарты были уничтожены. До этого учебным заведениям по закону запретили отказывать в праве на поступление любому абитуриенту старше 21 года – вне зависимости от того, есть у него аттестат о среднем образовании или нет. Теперь же приняли закон, по которому все колледжи штрафовались на восемь тысяч долларов за каждый провал на экзаменах, – буквально приказ тянуть всех подряд.
Новоизбранный губернатор по личным и по политическим мотивам пытался уволить президента колледжа. Тот был не просто врагом губернатора – он был демократом; губернатор же был не просто республиканцем. Руководитель его избирательной кампании координировал работу Общества Джона Берча[15] в штате. Этот самый губернатор составил список пятидесяти подрывных элементов, о котором мы слышали несколько дней назад.
И вот, раз пошла такая вендетта, колледжу урезали фонды. Необычайно большую долю бюджетных сокращений президент отвел факультету английской словесности, где работал Федр, а преподаватели не стеснялись выступать по вопросам академической свободы.
Сдавшийся Федр писал письма Северо-Западной региональной аккредитационной ассоциации – не разберутся ли они с этими нарушениями требований к аккредитации. Кроме этой частной переписки он публично призвал начать расследование всего положения в школе.
И тут несколько студентов на занятии ядовито спросили Федра, означают ли его попытки остановить аккредитацию, что он пытается помешать им получить образование.
Нет, ответил Федр.
Тогда один студент – очевидно, клеврет губернатора – рассерженно заявил, что об аккредитации колледжа позаботится закон.
Федр спросил как.
Студент ответил, что для этого установят полицейский пост.
Федр поразмыслил и понял, насколько студент не понимает, что такое аккредитация.
В тот вечер, готовясь к завтрашней лекции, он составил подробное обоснование своих действий. То была лекция о Храме Разума – в отличие от его обычных тезисов, очень длинная и тщательная.
Начинается она с пересказа газетной статьи о здании деревенской церкви с неоновой рекламой пива прямо над входом. Здание продали, и новые владельцы устроили в нем бар. Тут, как легко догадаться, в классе раздались смешки. Колледж был хорошо известен студенческими попойками, образ смутно узнали. В статье говорилось, что люди пожаловались церковным властям. Церковь была католической, и священник, которому поручили ответить на критику, отвечал весьма раздраженно. Ему стало ясно неописуемое невежество касаемо того, что же такое церковь. Они что, считают, будто церковь – это кирпичи, доски и стекло? Или форма крыши? Здесь под видом благочестия выступает пример того самого материализма, который отвергаем церковью. Здание не есть святая земля. Его секуляризовали. Вот и все. Реклама пива висит не над церковью, а над баром, и если не понимаешь разницы, все дело в тебе.
С Университетом, говорил Федр, – такая же путаница, и поэтому так трудно понять утрату аккредитации. Настоящий Университет не материален. Не группа зданий, которые можно защищать полицией. Он объяснял, что, если колледж теряет аккредитацию, никто не приходит и его не закрывает. Нет никаких взысканий по закону, штрафов или тюремных сроков. Занятия не прекращаются. Все идет, как прежде. Студенты получают то же образование, какое получали бы в школе с аккредитацией. Состоится, говорил Федр, просто официальное признание уже существующего состояния. Это как отлучение от церкви. Просто настоящий Университет, которому ничего не может диктовать никакой закон и который нельзя определить никаким расположением кирпичей, досок или стекла, объявит, что это место – больше не «святая земля». Настоящий Университет исчезнет, останутся лишь кирпичи, книги и материальные проявления.
Должно быть, всем студентам это показалось странным, и я представляю, как долго Федр ждал, пока до них дойдет, – а затем, вероятно, ждал вопроса: что же вы считаете настоящим Университетом?
В ответ на этот вопрос его заметки утверждают следующее:
Настоящий Университет, сказал Федр, не имеет определенного местоположения. Не владеет собственностью, не выплачивает жалований, не принимает материальных взносов. Настоящий Университет – состояние ума. Великое наследие рациональной мысли, донесенное к нам сквозь века, не существует где-то. Это состояние ума возобновляется в веках сообществом людей, которые по традиции несут профессорские звания, но даже эти звания – не Университет. Настоящий Университет – непрерывный поток самого разума, никак не меньше.
А дополняет это состояние ума, этот «разум», некая юридическая сущность, и она, к несчастью, называется тем же словом, а на деле – нечто совершенно иное. Это некоммерческая корпорация, государственное учреждение с определенным адресом. Она владеет собственностью, способна платить жалованье, принимать деньги и отзываться на законодательное давление.
Но этот второй университет, юридическая корпорация, не может обучать, не производит нового знания и не оценивает идей. Это вовсе не настоящий Университет – лишь здание церкви, декорация, место, где создали благоприятные условия для подлинного храма.
Те, кто не способен увидеть эту разницу, пребывают в постоянном смятении, говорил Федр. Они считают, будто контроль над церковными зданиями и есть контроль над Церковью. Преподавателей они видят наемными служащими второго университета: когда велят, те должны отречься от разума, не пререкаться и выполнять приказы, как служащие других корпораций.
Такие люди видят второй университет, но не способны увидеть первого.
Я помню, как читал все это впервые и отмечал мастерство анализа. Федр не делил Университет на области науки или факультеты и не желал работать с результатами такого деления. Он избегал и традиционного расклада на студентов, преподавателей и администрацию. Если делишь так, выходит скукотища, которая ни о чем тебе не скажет: все это можно прочесть в рекламном буклете колледжа. Федр же делил Университет на «храм» и «место», а едва эта граница проведена, довольно тупое и несообразное заведение со страниц брошюры вдруг воспринимается с ранее недостижимой ясностью. Из этого разделения Федр вывел иные объяснения некоторых аспектов университетской жизни, которые сбивают с толку, однако нормальны.
Объяснив это, он вернулся к аналогии с религиозной церковью. Граждане, ее построившие и оплачивающие ее содержание, возможно, мыслят, что делают это для общины. Хорошая проповедь наставит прихожан на путь истинный на всю неделю. Воскресная школа поможет детям вырасти приличными людьми. Священник, читающий проповедь и управляющий воскресной школой, осознает эти задачи и обычно соглашается с ними, однако знает также, что его первоочередная задача – отнюдь не служение общине. Его главная цель – всегда служить Богу. Как правило, конфликта интересов не случается, но временами он тихонечко возникает: например, опекуны не согласны с проповедями и грозят сокращением фондов. Бывает.
Подлинный священнослужитель в подобных ситуациях должен действовать так, будто не слышал угроз. Его цель – служить не членам общины, а исключительно Богу.
Первоочередная цель Храма Разума, говорил Федр, – та же, что всегда была у Сократа: истина в ее вечно изменчивых формах, какой ее выявляет рациональность. Все остальное подчинено этой цели. Обычно истина не противоречит цели места – улучшению общества, – но иногда возникают конфликты, как было с самим Сократом. Конфликт вспыхивает, когда опекуны и законодатели, вложившие в место много времени и денег, становятся на точки зрения, противоположные лекциям или публичным выступлениям преподавателей. Опекуны могут опираться на администрацию, угрожая сократить фонды, если преподаватели не станут говорить того, что опекуны хотят услышать. Такое тоже бывает.
Подлинные служители храма в подобных ситуациях должны действовать так, будто не слышали угроз. Их цель – ни в коем случае не служить прежде всего общине. Их первоочередная цель – посредством разума служить истине.
Вот что Федр подразумевал под Храмом Разума. Вне всяких сомнений, он глубоко прочувствовал это понятие. Федра считали смутьяном, но никогда не порицали пропорционально той смуте, что он заваривал. Против него никто не ополчался, ибо, с одной стороны, Федр не лил воду на мельницу противников колледжа, а с другой – коллеги неохотно признавали, что все его смутьянство в конечном счете происходит из лучших побуждений и мотивировано мандатом, от которого никто из них не мог отречься: мандатом на изречение рациональной истины.
Заметки к его лекции почти исчерпывающе объясняют, почему он поступал именно так, но кое-что все равно непонятно – его фанатичное упорство. Можно верить и в истину, и в процессы разума, направленные на ее постижение, и в сопротивление государственному законодательству – но зачем же сжигать себя за эту истину день за днем?
Мне предлагались разные психологические объяснения – и все неадекватны. Не могут такие усилия из месяца в месяц держаться на страхе сцены. Другое объяснение тоже звучит как-то не так: мол, он пытался искупить свою прошлую неудачу. Нигде нет свидетельств тому, что он считал свое изгнание из университета неудачей, – для него это была просто загадка. Объяснение, к которому пришел я, возникает из несоответствия его неверия в научный разум в лабораторных условиях – и его фанатичной веры, выраженной в лекции о Храме Разума. Я как-то думал об этом несоответствии, и меня вдруг осенило: это ведь вовсе не оно. Федр не верил в разум и поэтому был так фанатично ему предан.
Не бывает преданности, если полностью уверен. Никто истошно не вопит, что завтра взойдет солнце. Все знают, что оно завтра взойдет. Люди фанатично преданы политическим или религиозным верованиям – или же любым иным догмам или целям, – всегда из-за того, что догмы или цели ставятся под сомнение.
Скажем, воинственность иезуитов, которых он иногда напоминал. Исторически их рвение проистекает не из силы Католической церкви, а из ее слабости перед лицом Реформации. Именно из-за неверия в разум Федр стал таким фанатичным учителем. Вот так смысла в этом больше. И гораздо больше смысла в дальнейшем.
Вероятно, поэтому он ощущал столь глубокое сродство со множеством неуспевающих студентов на задних скамьях аудиторий. Их презрительные мины отражали его собственные чувства ко всему рациональному, интеллектуальному процессу. Единственная разница в том, что их презрение проистекало из непонимания. А Федра презрение переполняло от того, что он понимал. Раз не понимали они, им оставалось только завалить учебу и всю оставшуюся жизнь вспоминать об этом с горечью. Он же, напротив, фанатично верил, что обязан это как-то исправить. Потому так тщательно и готовил свою лекцию о Храме Разума. Федр говорил им: нужно верить в разум, потому что больше ничего нет. Но сам он был лишен этой веры.
Не стоит забывать: то были пятидесятые годы, а не семидесятые. Битники и ранние хиппи уже роптали насчет «системы» и квадратного интеллектуализма, который ее поддерживал, но едва ли кто-то догадывался, сколь глубоко сомнительна вся доктрина. И вот является такой Федр, фанатичный защитник учреждения – Храма Разума, в котором никто – во всяком случае, в Бозмене, Монтана, – не имел причин сомневаться. Эдакий Лойола до Реформации. Воинствующий фанатик, уверяющий всех, что завтра взойдет солнце, хотя никто и не переживал. Все просто удивлялись ему.
А теперь между ним и нами пролегло бурное десятилетие, когда разум атаковали снова и снова, превосходя самые дерзновенные убеждения пятидесятых. И мне кажется, в этом шатокуа, основанном на открытиях Федра, станет чуточку понятнее, о чем он говорил… явится какое-то решение… только б оно оказалось истиной… так много утрачено, что и не узнать.
Может, потому я и чувствую себя археологом. И так напряжен. У меня лишь обрывки воспоминаний и кусочки, рассказанные другими, мы все ближе, а я до сих пор не понимаю: не лучше ли вообще не распечатывать некоторые гробницы?
Вдруг на ум приходит Крис; он сидит позади – много ли он знает, хорошо ли помнит?
Доезжаем до перекрестка, где дорога из парка вливается в главное шоссе с востока на запад, тормозим и сворачиваем. Минуем низкий перевал и въезжаем в сам Бозмен. Дорога теперь идет вверх, на запад, и я вдруг с нетерпением жду того, что впереди.
14
Выезжаем из горного прохода на зеленую равнинку. Сразу к югу видны поросшие хвойным лесом горы, на вершинах снег – с прошлой зимы. Вокруг горы пониже и подальше, но такие же ясные и четкие. Открыточный пейзаж смутно совпадает с воспоминаниями, но я не уверен. Широкого шоссе между штатами, по которому сейчас едем, тогда, видимо, еще не проложили.
В голове застряла максима «лучше ехать, чем приезжать». Ехали-ехали, а теперь вот приедем. У меня всегда депрессия, когда я достигаю такой вот промежуточной цели и надо переориентироваться на другую. Через день-два Джону и Сильвии возвращаться, а нам с Крисом решать, что делать дальше. Все надо реорганизовывать.
Главная улица городка мне примерно знакома, но я теперь здесь турист, и вывески – для меня, туриста, а не для местных. Вообще-то городок не такой уж и маленький. Люди перемещаются слишком быстро и слишком независимо друг от друга. Население в таких городках от пятнадцати до тридцати тысяч, и они не совсем городишки, но и не вполне крупные города – поди разбери, что именно.
Обедаем в стеклянно-хромированном ресторане, которого я вообще не помню. Наверное, построили уже после Федра, и здесь, как и на главной улице, тоже не заметно ничего своего.
Беру телефонную книгу и ищу номер Роберта ДеВиза – но не нахожу. Набираю справочную, но телефонистка о таком абоненте не слыхала и номера сообщить не может. Подумать только! Это что ж – все призраки воображения? На миг взбухает паника, но я вспоминаю, что на мое письмо о том, что мы приезжаем, они ответили, и успокаиваюсь. Воображаемые люди писем не пишут.
Джон предлагает позвонить на факультет изобразительных искусств или каким-нибудь знакомым. Перекуриваю и пью кофе, а когда успокаиваюсь окончательно, так и поступаю – и выясняю, как добраться. Не техника страшна. Страшно то, что она делает с отношениями людей – например, абонентов и операторов.
Из города по долине до гор не наберется и десяти миль, и мы едем по грунтовкам, через густую и высокую зеленую люцерну, готовую к покосу, – такую густую, что на вид через эту чащобу и не проберешься. Поля тянутся до самых подножий, где ввысь вдруг возносится более темная зелень сосен. Там и живут ДеВизы. Где встречаются светлая зелень и темная. Ветер напоен светло-зелеными ароматами свежескошенного сена и запахами скота. В какой-то миг въезжаем в полосу холодного воздуха, где запах меняется на хвойный, а потом опять попадаем в тепло. Солнце, луга и близкие горы.
Чем ближе к соснам, тем глубже гравий на дороге. Переключаемся на первую скорость, притормаживаем до 10 миль в час, а я снимаю обе ноги с подножек, чтобы выправлять мотоцикл, если зароется в гравий и начнет падать. Сворачиваем и неожиданно въезжаем в клинообразное ущелье с отвесными склонами, где в соснах прямо у дороги стоит большой серый дом с огромной железной абстракцией, приделанной к стене. А под скульптурой какие-то люди и, откинувшись на спинку стула, сидит живое подобие ДеВиза с банкой пива в руке, машет нам. Прямо как на старых снимках.
Я занят тем, чтоб не упасть вместе с мотоциклом, не могу оторвать рук от руля и машу в ответ ногой. Живое подобие ДеВиза ухмыляется.
– Нашел-таки, – говорит он. Расслабленная улыбка. Счастливые глаза.
– Давненько было, – отвечаю я. Я тоже счастлив, хотя странно видеть, как ожившая фотография движется и разговаривает.
Слезаем с мотоциклов, снимаем экипировку, и я вижу, что терраса, на которой они сидят с гостями, недостроена и не отделана. ДеВиз стоит там, где она возвышается над дорогой с нашей стороны всего на несколько футов, но стены ущелья так круты, что под дальним ее краем – спуск футов в пятнадцать. Еще полусотней футов ниже и чуть сбоку от дома, среди деревьев и высокой травы – ручей; там, полускрытая от глаз, не поднимая головы, пасется лошадь. Надо задирать голову, чтобы увидеть небо. Вокруг тот самый темно-зеленый лес, что мы видели на подъезде.
– Какая красота! – говорит Сильвия.
Ожившая фотография ДеВиза улыбается ей сверху.
– Спасибо, – отвечает он, – я рад, что вам нравится.
Вся его интонация – здесь и сейчас, совершенно спокойная. Хотя передо мной и подлинный образ самого ДеВиза, сам он – абсолютно новая личность, он обновлялся беспрестанно, и мне придется узнавать его заново.
Поднимаемся на террасу. Между половицами – щели, как у жаровни. Внизу видна земля. Таким тоном, будто хочет сказать: «Даже не знаю, как полагается в таких случаях», – ДеВиз с улыбкой всех знакомит, но имена влетают в одно ухо и вылетают из другого. Никогда не запоминаю имен. У него в гостях школьный учитель рисования в роговых очках и его жена, которая застенчиво улыбается. Должно быть, новенькие.
Помаленьку болтаем: ДеВиз главным образом рассказывает, кто я такой, а потом оттуда, где терраса сворачивает за угол, вдруг появляется Дженни ДеВиз с банками пива на подносе. Она тоже художник, и я вдруг понимаю, что она все схватывает на лету, – и вот уже мы улыбаемся друг другу: как экономятся художественные средства, если пожимать не руку, а пивную банку. Дженни тем временем говорит:
– Сейчас соседи приходили с тазиком гольца на ужин. Так приятно.
Раздумываю, что тут прилично сказать, но в итоге только киваю.
Рассаживаемся; я – на солнце, откуда не видно даже другого края террасы в тени.
ДеВиз смотрит на меня, кажется, намерен сказать, как я выгляжу, – должно быть, я сильно изменился с последней нашей встречи, – но что-то его отвлекает, и он поворачивается к Джону и спрашивает, как прошло путешествие.
Джон отвечает, что все было просто замечательно – как раз то, что им с Сильвией вот уже много лет было нужно.
Сильвия поддерживает:
– Просто побыть на открытом воздухе, на этом просторе.
– В Монтане очень просторно, – задумчиво произносит ДеВиз. Они с Джоном и учителем погружаются в беседу пока еще малознакомых людей о различиях между Монтаной и Миннесотой.
Лошадь мирно пасется под нами, а за ней в ручье искрится вода. Разговор перешел на землю ДеВиза в этом ущелье, сколько он здесь прожил и каково преподавать живопись в колледже. Джон мастерски ведет светские беседы – я никогда так не умел, поэтому слушаю и помалкиваю.
Немного погодя становится так жарко, что снимаю свитер и расстегиваю рубашку. А чтобы не щуриться, достаю и надеваю темные очки. Так лучше, но теневой стороны не видно совсем – лица едва различимы, и я становлюсь как-то визуально отстранен от всего, кроме солнца и залитых солнцем склонов ущелья. Прикидываю, не распаковаться ли нам, но вслух сказать не решаюсь. Они знают, что мы остаемся у них, – у них все интуитивно идет, как идется. Сначала расслабимся, потом распакуемся. Куда спешить? От пива и солнца моя голова превращается в зефир. Очень мило.
Не знаю, сколько времени спустя Джон высказывается насчет «вон той кинозвезды», и я понимаю, что он про меня и мои очки. Смотрю поверх очков в тень и различаю, что ДеВиз, Джон и учитель рисования мне улыбаются. Надо поучаствовать в разговоре, наверное, что-то насчет проблем в пути.
– Они спрашивают, как бывает, если механика подведет, – говорит Джон.
Пересказываю им историю про то, как Крис и я попали в грозу, а двигатель заглох, – история хорошая, но какая-то бессмысленная, соображаю я, не отвечает на вопрос. Последняя фраза про то, что бензин кончился, вызывает, как и полагается, общий стон.
– А я ведь даже сказал, чтоб он посмотрел, – вставляет Крис.
И ДеВиз, и Дженни отмечают, как Крис вырос. Он смущается и слегка краснеет. Его расспрашивают про маму и брата, и мы оба отвечаем как можем.
Жара наконец становится невыносима, и я передвигаю стул в тень. От резкого озноба весь зефир улетучивается, и через пару минут уже надо застегиваться. Дженни это замечает:
– Как только солнце скроется вон за тем хребтом, похолодает по-настоящему.
Щель между солнцем и хребтом узка. Я прикидываю: хотя сейчас лишь середина дня, осталось меньше получаса прямого света. Джон спрашивает про горы зимой, и они с ДеВизом и учителем обсуждают лыжные горные походы. Можно сидеть так целую вечность.
Сильвия, Дженни и жена учителя рисования говорят о доме, и вскоре Дженни приглашает их внутрь.
Невольно задумываюсь о том, что Крис растет не по дням, а по часам, – и вдруг я как в гробнице. Я лишь косвенно слышал о том, как Крис жил здесь, а им всем кажется, что он только-только уехал. Мы обитаем в разных временны́х структурах.
Разговор перескакивает на то, что сейчас актуально в живописи, музыке и театре, и удивительно слышать, насколько хорошо Джон разбирается в вопросе. Мне по сути не очень интересно, что там нового, и он, возможно, знает это, потому-то со мной никогда об этом не разговаривает. Уход за мотоциклом, только наоборот. Интересно, у меня взгляд сейчас такой же стеклянный, какой бывает у него, когда я говорю о поршнях и клапанах?
Общего же у них с ДеВизом по-настоящему только одно – Крис и я. И вот здесь, начиная с подколки про кинозвезду, воцаряется забавная неловкость. Добродушный Джонов сарказм насчет старого собутыльника и мотоциклетного партнера слегка остужает ДеВиза, и тот говорит обо мне как-то уважительно. Такой тон, похоже, лишь разжигает Джонов сарказм, оба это чувствуют и отруливают от меня к какой-нибудь общей теме, а потом возвращаются, но неловкость не проходит, и они снова отруливают на другую приятную тему.
– В общем, – говорит Джон, – этот тип сказал, когда мы подъезжали, что нас тут ждет разочарование, и мы от такого «разочарования» до сих пор не оправились.
Я смеюсь. Не хотел его так настраивать. ДеВиз тоже улыбается. Но потом Джон поворачивается ко мне и говорит:
– Слушай, а ведь ты, должно быть, совсем свихнулся – то есть надо быть вообще чокнутым, чтоб отсюда уехать. И наплевать, какой здесь колледж.
Замечаю, что ДеВиз смотрит на него потрясенно. Потом сердито. Бросает взгляд на меня, и я отмахиваюсь. Возникает какой-то тупик, но я не знаю, как из него выбраться.
– Тут красиво, – вяло отвечаю я.
ДеВиз уходит в глухую защиту:
– Пожил бы тут немного – увидел бы и обратную сторону.
Учитель кивает.
В тупике рождается молчание. Примирение невозможно. Реплика Джона не была недоброй. Он добрее многих. Мы с ним знаем кое-что, а ДеВиз не знает: от человека, о котором они оба говорят, сейчас осталось немного. Типичный представитель среднего класса, средних лет, живет себе дальше. В основном беспокоится за Криса, а так – ничего особенного.
Но того, что знаем мы с ДеВизом, не знают Сазерленды: кто-то был на месте этого человека – кто-то жил здесь когда-то, творчески горел идеями, о которых раньше не слыхали. А потом случилось необъяснимое и неправильное, и ДеВиз не знает, как или почему; я тоже не знаю. Причина тупика, нехорошее чувство – оттого, что ДеВиз считает, будто этот человек сейчас здесь. И я никак не могу сказать ему, что это не так.
На миг высоко на кромке хребта солнце дробится стволами, и нас осеняет ореол света. Расширяется, озаряя все внезапной вспышкой, вдруг захватывает и меня.
– Он видел слишком много, – говорю я, по-прежнему думая о тупике, но ДеВиз вроде как озадачен, а Джон вообще пропускает мимо ушей, и я осознаю бессвязность слишком поздно. Вдалеке жалобно кричит одинокая птица.
Солнце неожиданно исчезает за горой, и все ущелье погружается в тусклую тень.
Как же это непрошенно было. Не делают таких заявлений. Выходишь из больницы с пониманием, что так – нельзя.
Из дома появляются Дженни с Сильвией и предлагают нам распаковаться. Соглашаемся, Дженни ведет нас в комнаты. На кровать мне положили тяжелое лоскутное одеяло, чтобы не замерз ночью. Прекрасная комната.
За три ходки к мотоциклу и обратно переношу все. Потом иду в комнату Криса посмотреть, не нужно ли чего разложить ему, но он бодр, взросл, и помощь ему не нужна.
Смотрю на него:
– Как тебе здесь?
– Здорово, но совсем не похоже на то, что ты вчера вечером рассказывал.
– Когда?
– Перед тем, как спать. В мотеле.
Не понимаю, о чем он. Крис прибавляет:
– Ты сказал, что здесь одиноко.
– Чего ради мне такое говорить?
– Я-то откуда знаю?
Мой вопрос раздражает его, и я оставляю тему. Должно быть, ему приснилось.
Когда спускаемся в гостиную, чую аромат рыбы, что жарится на кухне. В углу ДеВиз присел у камина – подносит спичку к газете под растопкой. Мы наблюдаем.
– Топим камин все лето, – объясняет он.
Я отвечаю:
– Странно, что здесь так холодно.
Крис говорит, что и он замерз. Я отсылаю его за свитером и прошу захватить мой тоже.
– Это вечерний ветер, – говорит ДеВиз. – Дует по ущелью с высоты – вот там действительно холодно.
Пламя вдруг вспыхивает, гаснет, вспыхивает опять – тяга неровная. Должно быть, ветрено; я выглядываю в огромные окна, во всю стену гостиной. В сумерках на той стороне ущелья вижу резкие кивки деревьев.
– Но правильно, – говорит ДеВиз. – Ты же сам знаешь, как там холодно. Постоянно наверх уходил.
– Припоминаю, – говорю я.
Всплывает обрывок: порывы ночного ветра вокруг лагерного костерка – меньше того, что сейчас перед нами в камине, защищен камнями, чтоб не задувало, потому что деревьев вокруг нет. Рядом кухонная утварь и рюкзаки – лишнее укрытие от ветра, – и канистра с талой водой. Воду надо собирать загодя, потому что выше границы лесов снег не тает после заката.
ДеВиз говорит:
– Ты сильно изменился. – Испытующе смотрит на меня. Будто спрашивает лицом, запрещенная это тема или нет, – и по моему виду догадывается, что да. Добавляет: – Как и все мы, наверное.
Я отвечаю:
– Я вообще не тот человек. – От этого ему вроде бы полегче. Знай он буквальную правду, легче б ему не было. – Много чего произошло, – говорю я. – Случилось такое, что важно распутать – хотя бы в голове. Потому-то, среди прочего, я сюда и приехал.
Он ждет, что еще я скажу, но к камину приходят учитель рисования с женой, и мы замолкаем.
– Воет так, что ночью, похоже, будет буря, – говорит учитель.
– Вряд ли, – отвечает ДеВиз.
Возвращается Крис со свитерами и спрашивает, живут ли в ущелье призраки.
ДеВиз удивленно смотрит на него:
– Нет, но есть волки.
Крис задумывается и спрашивает:
– А эти что делают?
– Скотоводам кровь портят, – хмурится ДеВиз. – Режут телят и ягнят.
– А на людей охотятся?
– Не слыхал, – отвечает ДеВиз и, заметив, что Крис разочарован, добавляет: – Но могут.
За ужином голец идет под шабли из округа Бэй. Сидим порознь в креслах и на диванах по всей гостиной. Окна с одной стороны выходят на ущелье, но сейчас снаружи темно, и в них отражается лишь огонь в камине. С его теплом мешается внутреннее тепло от вина и рыбы, и мы почти не разговариваем, только одобрительно бормочем.
Сильвия вполголоса просит Джона приглядеться к большим горшкам и вазам, что расставлены по комнате.
– Я оценил, – реагирует Джон. – Здорово.
– Работы Питера Вулкаса[16], – говорит Сильвия.
– Да ты что?!
– Он учился у мистера ДеВиза.
– Ну ничего себе! А я чуть было одну не опрокинул.
ДеВиз смеется.
Потом Джон что-то бормочет себе под нос, поднимает голову и объявляет:
– Это – все… для нас это – просто все… Теперь можно возвращаться на Колфэкс-авеню, 26–49, еще на восемь лет.
Сильвия скорбно произносит:
– Давай не будем об этом.
Джон останавливает взгляд на мне:
– Если у человека друзья могут устроить такой вечер, он вряд ли может быть плохим. – Серьезно кивает. – Все, что я о тебе думал, – неправильно.
– Все?
– Ну, кое-что.
ДеВиз с учителем улыбаются, неловкость отчасти рассасывается.
После ужина приезжают Джек и Уилла Барснесс. Снова ожившие фотографии. Джек в гробничных фрагментах запечатлен как хороший человек, он пишет и преподает в колледже английский. Затем приезжает скульптор с севера Монтаны – он зарабатывает тем, что пасет овец. ДеВиз представляет его так, что я догадываюсь: раньше мы не были знакомы.
ДеВиз сообщает, что пытается убедить скульптора пойти работать к ним на факультет, а я говорю:
– А я попробую его отговорить. – И подсаживаюсь к нему, но то и дело беседа подмерзает от неловкости. Скульптор крайне серьезен и насторожен: очевидно, потому, что я – не художник. В его глазах я похож на следователя, который шьет ему дело, и лишь когда выясняется, что я занимаюсь сваркой, он со мной примиряется. Уход за мотоциклом открывает странные двери. Он говорит, что варит металл примерно потому же, почему и я. Когда наберешься опыта, сварка дает огромную власть над металлом. Можно сделать все. Скульптор вытаскивает фотографии своих работ: прекрасные птицы и звери с текучей металлической текстурой поверхностей, ни на что не похоже.
Потом я пересаживаюсь и беседую с Джеком и Уиллой. Джек уезжает – его назначили руководить кафедрой английской филологии в Бойси, Айдахо. О местной кафедре он говорит как-то сдержанно, но, в общем, отрицательно. Оно понятно: иначе бы и не уезжал. Припоминаю, что он в основном писал прозу, английский преподавал между прочим, а наукой систематически не занимался. Кафедра была издавна расколота этими направлениями, и отчасти из этого раскола пророс – ну, или ускорился им – дикий букет идей Федра, о которых никто раньше не слыхал. Джек поддерживал Федра, хоть и не вполне понимал его, – но видел, что прозаику там есть с чем поработать, это вам не лингвистический анализ. Раскол старый. Как между искусством и историей искусства. Один делает, другой говорит о том, как это делается, – и разговор, кажется, с делом никогда не совпадает.
ДеВиз приносит какую-то инструкцию по сборке жаровни и просит меня оценить ее с точки зрения профессионального технического писателя. На сборку хреновины он потратил весь день, чтоб эта инструкция провалилась.
Но я ее читаю, и это вполне себе инструкция, прямо не знаю, к чему придраться. Конечно, вслух говорить этого нельзя, и я старательно ищу какую-нибудь зацепку. Нельзя сказать, правильная инструкция или нет, пока не проверишь на аппарате или процессе, который она описывает; а здесь я вижу лишь разбивку по страницам – она мешает чтению, приходится скакать от текста к иллюстрациям, это всегда плохо. Принимаюсь пинать этот недостаток, и ДеВиз поощряет каждый мой пинок. Крис берет инструкцию посмотреть, о чем я.
Но пока я ее пинаю, описываю муки непонимания от плохо составленных перекрестных ссылок, у меня возникает подозрение, что ДеВизу трудно их понять вовсе не поэтому. Инструкции недостает гладкости и непрерывности – вот что его оттолкнуло. ДеВиз не способен понимать, если стиль изложения безобразный, рубленый, с нелепыми фразами, что свойственны инженерным и техническим текстам. Наука имеет дело с ломтями, обрывками и кусками, непрерывность лишь подразумевается; ДеВиз же работает только с непрерывностями, где подразумеваются ломти, обрывки и куски. Вообще-то он хочет, чтоб я предал анафеме недостаток художественной непрерывности, на которую инженеру глубоко наплевать. Обвинять тут – как и во всем, что касается техники, – можно классико-романтический раскол.
Крис же тем временем берет инструкцию и складывает ее так, как мне не приходило в голову: иллюстрация теперь укладывается рядом с текстом. Я примеряюсь раз, затем другой – и чувствую себя героем мультфильма, который только что шагнул с края утеса, но еще не упал, ибо не понял, что с ним случилось. Киваю, наступает молчание – и тут я осознаю, что со мной такое, и все взрываются долгим хохотом, он эхом раскатывается по всему ущелью, а я луплю Криса по макушке. Хохот утихает, я говорю:
– Ну, все равно… – Однако хохот начинается по новой. – Я вот к чему, – наконец встреваю я. – У меня дома есть инструкция, которая открывает необозримые горизонты для улучшения технического письма. Начинается она так: «Сборка японского велосипеда требует огромного душевного покоя».
Хохот возобновляется, но Сильвия, Дженни и скульптор смотрят на меня с пониманием.
– Отличная инструкция, – говорит скульптор. Дженни кивает.
– Потому-то я ее и сохранил, – отвечаю я. – Сначала смеялся, вспоминая велосипеды, которые собирал, – и, разумеется, из-за того, что авторы нечаянно опустили всю японскую промышленность. Но в этом утверждении бездна мудрости.
Джон опасливо смотрит на меня. Гляжу на него с такой же опаской. Смеемся оба. Он говорит:
– Профессор сейчас нам разъяснит.
– Душевный покой, на самом деле, вовсе не эфемерен, – разъясняю я. – В нем все дело. Он возникает при хорошем уходе, а нарушается при плохом. То, что мы называем работоспособностью машины, – просто объективация этого душевного покоя. Последнее испытание – всегда твой собственный покой. Если его нет в начале работы, а ты все равно продолжаешь, тогда, скорее всего, вмонтируешь личные проблемы в саму машину.
Они смотрят на меня, задумавшись.
– Концепция непривычная, – продолжаю я, – но ее подтверждает привычный разум. Материальный объект наблюдения, будь то мотоцикл или жаровня, не может быть правильным или неправильным. Молекулы есть молекулы. Они не следуют этическим кодексам – за исключением тех, что придают им люди. Испытание машины – то удовлетворение, что она тебе приносит. Других не бывает. Если машина вселяет в тебя покой, это правильно. Если она беспокоит тебя, это неправильно, пока не изменится либо машина, либо твой ум. Испытание машины – всегда твой собственный разум. Другого испытания нет.
ДеВиз спрашивает:
– А если машина неправильная, а я все равно умиротворен?
Смех.
– Ты себе противоречишь, – отвечаю я. – Если тебе и впрямь плевать, ты и не узнаешь, что она неправильна. Такая мысль не придет тебе в голову. Само произнесение того, что она неправильна, – уже неравнодушие… Чаще бывает, – прибавляю я, – что тебе неспокойно, даже если она правильна, и я думаю, что сейчас у тебя как раз тот случай. Если тебе неспокойно, это неправильно. Это значит, что машину недостаточно тщательно проверили. В любой производственной ситуации непроверенная машина – «отрубленная» машина, ею нельзя пользоваться, даже если она идеально работает. Твое беспокойство насчет жаровни – из той же оперы. Ты не выполнил окончательного требования – достичь душевного покоя, поскольку тебе кажется, что инструкция слишком сложна и ты мог ее не понять, как нужно.
– Ну, а как бы ты ее улучшил? – спрашивает ДеВиз. – Чтоб я достиг душевного покоя?
– Тут надо поизучать – я сейчас не особо вникал. Корни очень глубокие. Эти инструкции к жаровням касаются лишь техники. А с моим подходом так узко не препарируешь. Вообще, конечно, в этих инструкциях злит одно: там подразумевается, что жаровню можно собрать лишь одним способом, их. Это начисто стирает все творчество. На самом деле есть сотни способов собрать жаровню, а если тебе навязывают только один, не показывая проблемы в целом, инструкция становится невыполнимой без ошибок. Теряешь всякий вкус к работе. И вот еще: маловероятно, что тебе сообщили лучший способ.
– Но инструкция же с завода, – говорит Джон.
– Я сам с завода, – отвечаю я, – и знаю, как пишут такие инструкции. Выходишь на конвейер с магнитофоном, и мастер посылает тебя поговорить с тем парнем, который ему сейчас меньше всего нужен, с самым большим придурком. То, что он тебе расскажет, и станет инструкцией. Кто-нибудь другой, может, рассказал бы нечто совершенно иное и гораздо лучше, но он слишком занят.
Все удивлены.
– Мог бы и догадаться, – выдавливает ДеВиз.
– Дело в формате, – говорю я. – Ни один писатель против него не попрет. Техника подразумевает, что есть лишь один верный способ что-нибудь делать, хотя так не бывает. И если это подразумеваешь, инструкция, разумеется, описывает только жаровню. Но если выбираешь из бесконечного количества способов ее сборки, надо учесть отношение машины к тебе и отношение вас с машиной к остальному миру, потому что выбор из множества вариантов, искусство работы так же зависит от твоего ума и духа, как и от материала машины. Вот почему необходим душевный покой… На самом деле мысль не так уж странна, – продолжаю я. – Посмотри как-нибудь на рабочего-новичка или на плохого рабочего и сравни его лицо с лицом мастера, чью работу считаешь превосходной. Сразу увидишь разницу. Мастер никогда не смотрит в инструкцию. Он принимает решения по ходу дела. И потому работа его поглощает, он внимателен к тому, что делает, даже если ничего специально не изобретает. Его движения соразмерны движениям машины. Он не работает по инструкции, поскольку его мысли и движения определяет природа подручного материала, и одновременно он меняет эту природу. Материал и его мысли изменяются вместе, последовательно, пока его ум не успокаивается – в тот миг, когда материал становится правильным.
– Похоже на искусство, – замечает учитель рисования.
– Это и есть искусство, – отвечаю я. – Разрыв искусства и технологии совершенно неестественен. Он просто уже такой давний, что лишь археолог раскопает, где они впервые разлучились. Вообще-то сборка жаровни – давно утраченная ветвь скульптуры, ее отъединили от корней века неверных интеллектуальных поворотов. Теперь даже рядом их поставить – уже смешно.
Они теряются – может, это я их разыгрываю. ДеВиз спрашивает:
– В смысле, когда я собирал жаровню – на самом деле, я лепил скульптуру?
– Еще бы.
Он ворочает эту мысль в уме, улыбаясь все шире и шире.
– Знал бы, – произносит он. Все смеются.
Крис говорит, что не понял меня.
– Нормально, Крис, – говорит Джек Барснесс. – Мы тоже. – Опять смех.
– Мне обычная скульптура милее, – говорит скульптор.
– А мне – мое рисование, – говорит ДеВиз.
– А я, наверно, и дальше буду барабанить, – изрекает Джон.
Крис спрашивает:
– А ты за что держаться будешь?
– За пистолеты, парень, за пистолеты, – отвечаю я. – Таков закон Запада.
Все смеются над этим очень сильно, и мое речеизвержение, похоже, прощено. Когда в голове шатокуа, очень трудно не навязывать монологи невинным людям.
Беседа распадается на группки, и я провожу остаток вечера за беседой с Джеком и Уиллой о происходящем на отделении английской филологии.
А когда все заканчивается и Сазерленды с Крисом уже ушли спать, ДеВиз вспоминает мою лекцию.
– Ты интересно рассказывал про инструкцию к жаровне, – серьезно произносит он.
Дженни тоже серьезно добавляет:
– Будто ты долго об этом думал.
– Я думал об основах двадцать лет, – отвечаю я.
За креслом передо мной в каминную трубу взмывают искры, ветер вытягивает их наружу – он теперь сильнее прежнего.
Я добавляю – как бы не самому себе:
– Смотришь, куда идешь и где находишься, – и не находишь смысла. А потом оглядываешься – и вроде какой-то порядок возник. Если спроецируешь его вперед, бывает, к чему-нибудь и придешь… Все разговоры про искусство и технику – часть порядка, возникшего, видимо, из моей жизни. Эдакое преодоление того, что, наверное, пытаются преодолеть и многие другие.
– Как это?
– Ну, тут же не просто искусство и техника. Это какое-то несращение разума и чувства. Техника неправильна потому, что она никак по-настоящему не связана с духом и сердцем. Потому она вполне случайно, вслепую творит безобразное, и за это ее ненавидят. Раньше не обращали особого внимания, поскольку людей в основном заботили пища, одежда и кров для каждого, а техника это предоставляла… Но теперь все это гарантируется, и безобразие замечают все больше. Уже спрашивают, обязательно ли нам страдать духовно и эстетически, чтобы удовлетворить материальные потребности. В последнее время это почти национальный кризис – марши против загрязнения, антитехнические коммуны, альтернативные стили жизни и все такое.
И ДеВиз, и Дженни все это понимают давным-давно, стало быть, пояснять не нужно, и я продолжаю:
– Порядок моей жизни был таков, что я убедился: причина кризиса – в неспособности существующих форм мысли справиться с ситуацией. Проблема неразрешима рациональными средствами, ибо корень зла в самой рациональности. Решают ее только на личном уровне – посылают к чертям всю «квадратную» рациональность и следуют одним лишь чувствам. Вот как Джон и Сильвия. И миллионы других таких же. По-моему, и так нельзя. Видимо, я вот к чему: проблема решается не посылом рациональности к черту, а расширением природы рациональности до появления решения.
– По-моему, я ничего не поняла, – говорит Дженни.
– Ну, это как тянуть себя за волосы из болота. Похоже на тот завис, что случился у сэра Исаака Ньютона, когда тот хотел решить проблемы мгновенных скоростей изменения. В его время неразумно было думать, будто что-то может изменяться в нулевое количество времени. Однако математически необходимо работать с другими нулевыми величинами – например, точками в пространстве и времени, а их никто не считал неразумными, хотя вообще-то никакой разницы нет. Потому Ньютон по сути и сказал: «Допустим, существует некое мгновенное изменение, – поглядим, можно ли определить, что это такое в различных рименениях». Результат этого допущения – отрасль математики, называемая «исчисление», им ныне пользуется каждый инженер. Ньютон изобрел новую форму размышления. Расширил разум, чтобы он справлялся с бесконечно малыми изменениями. По-моему, сейчас необходимо такое же расширение разума, чтобы он мог иметь дело с техническим безобразием. Беда в том, что это расширение должно производиться в корне, а не в ветвях, а поэтому увидеть его очень трудно… Мы живем в вывернутое время, и мне кажется, что причина – в неспособности прежних форм мысли справиться с новым опытом. Говорят, истинное познание получается только из «зависов», когда не расширяешь ветви того, что уже знаешь, а притормаживаешь и некоторое время дрейфуешь вбок – пока не наткнешься на такое, что даст тебе расширить корни уже известного. С этим все знакомы. Думаю, то же происходит с цивилизациями, когда в корнях необходимо расширение… Оглядываешься на последние три тысячи лет и задним умом полагаешь, будто видишь аккуратные порядки и цепи причин и следствий, которые произвели то, что мы имеем. Но если пойти к изначальным источникам, к литературе некой эпохи, обнаружишь: эти причины вовсе не были очевидны в те времена, когда, по-твоему, действовали. В периоды корневого расширения все казалось таким же перемешанным, вывернутым и бесцельным, как сейчас. Считается, что все Возрождение пошло от вывернутого ощущения после того, как Колумб открыл Новый Свет. Открытие встряхнуло людей. Вывернутость того времени видна по всем документам эпохи. В ветхо- и новозаветных взглядах на плоскую землю этого открытия ничто не предвещало. Однако люди не могли отрицать того, что открыл Колумб. Принять это можно было, лишь полностью отказавшись от средневекового мировоззрения и начав новое расширение мышления… Колумб стал настолько букварным стереотипом, что уже почти невозможно представить его живым человеком. Но если придержать наше нынешнее знание о последствиях его путешествия и представить себя на его месте, станет ясно, что сегодняшнее освоение Луны – простое чаепитие по сравнению с тем, через что пришлось пройти ему. Освоение Луны не есть подлинное корневое расширение мысли. У нас нет причин сомневаться, что нынешние формы мысли с этим справятся. Это лишь ответвление того, что сделал Колумб. Поистине новое освоение сродни Колумбову должно идти в совершенно ином направлении.
– Типа?
– Типа сфер за пределами разума. Мне кажется, сегодняшний разум подобен плоской земле Средневековья. Дескать, зайдешь слишком далеко – можешь упасть. В безумие. Люди этого очень боятся. По-моему, эта боязнь безумия вполне сравнима со страхом упасть с края мира. Или с боязнью еретиков. Очень похоже… Но с каждым годом наша плоская старушка-земля привычного разума все менее способна справиться с тем опытом, что у нас копится, а оттого все и ощущают вывернутость. В результате все больше народу уходит в иррациональные сферы мышления – оккультизм, мистику, наркотические изменения сознания и тому подобное. Эти люди ощущают неспособность классического разума справиться с тем, что, по их убеждению, и есть реальный опыт.
– Я не совсем понял, что такое классический разум.
– Аналитический, диалектический. Университет иногда считает, что этот разум – и есть вообще все понимание. Это никогда не надо было понимать. Он всегда терпел поражение перед абстрактным искусством. Нерепрезентативное искусство входит в тот корневой опыт, о котором я говорю. Некоторые осуждают его до сих пор, поскольку оно не имеет «смысла». Только здесь не искусство неправильное, а «смысл», классический разум, который не способен его постичь. Люди по-прежнему ищут такие ветвления разума, что охватили бы новейшие события в искусстве, но ответы – не в ветвях, они у корней.
Яростно налетает порыв ветра с горы.
– Древние греки, – говорю я, – которые изобрели классический разум, соображали, что не стоит для предсказания будущего применять только его. Они слушали ветер и будущее предсказывали по нему. Сейчас это похоже на безумие. Но чего ради изобретателям разума быть безумцами?
ДеВиз прищуривается:
– А как они предсказывали будущее по ветру?
– Не знаю – может, как художник способен предсказать будущее картины, глядя на чистый холст. Вся наша система знания произрастает из их результатов. Нам еще предстоит понять методы, приведшие к этим результатам. – Я на минуту задумываюсь, потом спрашиваю: – Когда я был здесь в последний раз, я много трепался о Храме Разума?
– Довольно-таки.
– А я упоминал некоего Федра?
– Нет.
– Кто это? – спрашивает Дженни.
– Древний грек… ритор… в свое время специализировался в «основах письма и риторике». Один из тех, кто присутствовал при изобретении разума.
– Ты никогда о нем не рассказывал – я не помню.
– Должно быть, он возник позже. Риторы Древней Греции были первыми учителями в западной истории. Платон поносил их во всех своих трудах, они у него были мальчиками для битья, и с тех пор мы знаем о них почти исключительно от Платона. Они уникальны потому, что выстояли, проклятые всей историей, а им даже не дали толком высказаться. Храм Разума возведен на их костях. Даже сегодня на них держится. А зароешься в фундамент поглубже – наткнешься на призраков.
Смотрю на часы. Третий час.
– Долгая история, – говорю я.
– Тебе надо бы все это записать, – говорит Дженни.
Киваю:
– Я тут задумал серию лекций-эссе – что-то типа шатокуа. Пытался кое-что прикинуть, пока мы сюда ехали… Может, поэтому сейчас так и подкован. Это все необъятно и трудно. Как ходить по этим горам пешком… Беда в том, что эссе обязательно звучат так, будто Господь Бог лепит нетленку, а этого на самом деле не бывает никогда. Люди должны видеть, что какой-то человек просто обращается к ним из конкретной точки во времени, пространстве и обстоятельствах. Иначе и не бывает, но в эссе это передать невозможно.
– Все равно надо, – говорит Дженни. – Не пытаясь достичь совершенства.
– Наверное, – отвечаю я. ДеВиз спрашивает:
– А это увязывается с тем, что ты делал с «Качеством»?
– Его непосредственный результат. – Я кое-что припоминаю и смотрю на ДеВиза: – Ты же вроде советовал мне бросить?
– Я только сказал, что в этом еще никто не преуспел.
– А ты думаешь, преуспеть можно?
– Не знаю. Поди пойми. – Он переживает, видно по лицу. – Сейчас многие научились слушать. Особенно молодые. Слушают по-настоящему… не просто так – они вслушиваются… в тебя. Огромная разница.
Ветер со снежных полей наверху долго разносится по всему дому. Стон его все громче и выше, словно ветер надеется вымести весь дом, всех нас – прочь, в никуда, чтобы в ущелье все стало как раньше, но дом стоит, и ветер снова замирает, побежденный. Затем возвращается, наносит легкий отвлекающий удар с дальней стороны и тяжким порывом обрушивается на нашу стену.
– Я еще слушаю ветер, – говорю я. – Пожалуй, когда Сазерленды уедут, мне и Крису надо забраться туда, где он зарождается. По-моему, Крису пора лучше увидеть эти края.
– Можете начать прямо отсюда, – говорит ДеВиз, – и пойти назад, вверх по ущелью. Там нет дороги на семьдесят пять миль.
– Тогда здесь и начнем, – отвечаю я.
Наверху я снова рад теплому одеялу. Похолодало, оно понадобится. Быстро раздеваюсь, ныряю поглубже – там тепло, очень тепло – и долго думаю о снежных полях, ветрах и Христофоре Колумбе.
15
Два дня Джон, Сильвия, Крис и я бездельничаем, болтаем и ездим в старый шахтерский городок и обратно – и вот уже Джону с Сильвией пора возвращаться домой. Теперь мы едем в Бозмен из ущелья вместе в последний раз.
Сильвия впереди уже трижды оборачивалась – очевидно, убедиться, что с нами все в порядке. Последние два дня была очень тихой. Вчера показалось, что она глядит на Криса и меня с опаской, чуть ли не со страхом. Чересчур волнуется за нас.
В баре Бозмена пьем по последнему пиву и обсуждаем с Джоном маршруты возвращения. Потом произносим ни к чему не обязывающие слова о том, как все хорошо было, как мы скоро увидимся, и вдруг становится очень грустно вот так разговаривать – будто случайные знакомцы.
На улице Сильвия поворачивается к нам с Крисом, секунду молчит и произносит:
– У вас все будет хорошо. Не о чем волноваться.
– Еще бы, – отвечаю я.
Снова тот же испуганный взгляд. Джон заводит мотоцикл и ждет ее.
– Я тебе верю, – говорю я.
Она отворачивается, садится позади Джона, и вместе они наблюдают за встречным движением, чтобы выбрать момент и выехать на трассу.
– Увидимся, – говорю я.
Она снова бросает на нас взгляд, теперь – пустой. Джон подгадывает и выезжает. Потом Сильвия машет нам, как в кино. Машем ей в ответ. Их мотоцикл растворяется в густом потоке транзитных машин. Я долго за ним наблюдаю.
Смотрю на Криса, а Крис смотрит на меня. Ничего не говорит.
Утро проводим сначала в парке – на скамейке с надписью «ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА», – затем покупаем еду и меняем шину и звено регулятора цепи на заправочной станции. Звено надо подгонять, поэтому ждем и гуляем подальше от центральной улицы. Подходим к церкви, садимся на газон перед нею. Крис укладывается на траву и накрывает лицо курткой.
– Устал? – спрашиваю я.
– Нет.
Между нами и краем гор к северу воздух подрагивает от жары. На травинку рядом с ногой Криса цепляется жучок с прозрачными крылышками. Расправляет их, а меня с каждой минутой все больше одолевает лень. Тоже укладываюсь поспать, но не засыпаю. Толкает какое-то беспокойство. Поднимаюсь.
– Давай пройдемся, – предлагаю я.
– Куда?
– К школе.
– Пошли.
Идем под тенистыми деревьями по очень аккуратным тротуарчикам мимо опрятных домиков. Удивительно – на этих улицах многое узнается. Припоминаем по тяжелой. Он ходил тут много раз. Лекции. Он готовился к лекциям, как настоящий перипатетик, бродя по улицам, как по академии.
Предмет, который его пригласили здесь преподавать, назывался риторика – письмо, второе из трех начал школьной программы, между чтением и счетом. Он должен был вести углубленный курс технического письма и немного начальный курс английского.
– Помнишь эту улицу? – спрашиваю я Криса.
Он оглядывается по сторонам и говорит:
– Мы здесь ездили на машине, тебя искали. – Он показывает через дорогу: – Смешная крыша вон – ее помню… Кто первым тебя увидит – тому монетка. А потом останавливались, сажали тебя назад, а ты с нами даже не разговаривал.
– Я тогда очень сильно думал.
– Мама тоже так говорила.
Он и впрямь думал сильно. Сокрушающее бремя преподавательства скверно само по себе, но для него гораздо хуже было то, что своим точным аналитическим путем он приходил к пониманию: предмет, которому он учит, без сомнений, самая неточная, неаналитическая, аморфная область во всем Храме Разума. Потому-то он и думал так сильно. Для методичного, лабораторно натренированного ума риторика совершенно безнадежна. Похожа на громадное Саргассово море застоявшейся логики.
В большинстве курсов риторики для начинающих у нас так: прочтешь очерк или рассказик, обсудишь, как писатель добился неких эффектиков некими штучками, а потом задаешь студентам писать очерки или рассказики в подражание – посмотреть, умеют ли они те же штучки. Федр пытался так снова и снова, но никогда ничего не вытанцовывалось. В результате этой тщательно просчитанной мимикрии студенты вообще редко добивались хоть отдаленного сходства с моделями, которые он им давал. Гораздо чаще их стиль только портился. Будто каждое правило, которое он честно пытался с ними открыть и выучить, настолько полнилось исключениями, противоречиями, оговорками и путаницей, что хоть вообще в него не смотри.
Какой-нибудь студент всегда спрашивал, как это правило применимо к неким особым обстоятельствам. У Федра в таких случаях имелся выбор: прогнать дурочку, что-нибудь наскоро придумав про то, как оно работает, – или пойти на самопожертвование и сказать, как он считает на самом деле. А считал он так: правило приляпано к написанному после того, как написанное написали. Правило существует post hoc, после факта, а вовсе не до него. Федр убедился: все писатели, которым студенты якобы должны подражать, писали вообще без всяких правил – записывали то, что правильно звучало, затем перечитывали и проверяли, по-прежнему ли оно правильно звучит, и что-то меняли, если звучало неправильно. Бывали и такие, кто явно писал с заранее рассчитанным намерением, – так выглядел их результат. Однако такой подход Федра не устраивал. В нем есть свой сок, как выразилась однажды Гертруда Стайн, но он не брызжет[17]. Но как же обучать тому, что не обдумано заранее? Это же невозможно. Федр просто брал текст, комментировал его, ничего заранее не обдумывая, и надеялся, что студенты все равно что-то выудят. Но не удовлетворяло.
Вот оно, впереди. Мы ближе, и бьет напряжение, а желудок екает.
– Помнишь это здание?
– Ты тут раньше преподавал… Зачем мы туда идем?
– Не знаю. Просто хотел взглянуть.
Народу вокруг немного. Конечно, с чего бы? Летняя сессия. Огромные и странные щипцы над старым темно-коричневым кирпичом. Вообще, конечно, здание красивое. Оно одно здесь кажется уместным. Старая каменная лестница к дверям. Ступени с ложбинкой, протертой миллионами шагов.
– Зачем мы идем внутрь?
– Ш-ш-ш. Помолчи пока просто.
Открываю огромную, тяжелую дверь и вхожу. Внутри – опять лестницы, потертые и деревянные. Скрипят под ногой и пахнут сотней лет подметания и вощения. На полпути вверх останавливаюсь и слушаю. Вообще никаких звуков.
Крис шепчет:
– Зачем мы пришли?
Я лишь качаю головой. Снаружи проезжает машина. Крис шепчет:
– Мне тут не нравится. Тут жутко.
– Тогда выйди на улицу, – говорю я.
– Ты тоже.
– Потом.
– Нет, сейчас.
Он смотрит на меня и видит, что я остаюсь. У него такой испуганный взгляд, что я уже почти передумываю, и тут лицо его ломается, он разворачивается, сбегает по лестнице и выскакивает на улицу, а я не успеваю броситься за ним.
Внизу хлопает входная дверь, и я остаюсь совсем один. Жду какого-то звука… Чьего?.. Его?.. Слушаю долго.
Половицы мрачно скрипят, когда я иду по коридору; жуткая мысль, что это идет он. Здесь он реальность, а я призрак. Я вижу, как его рука ложится на дверную ручку, медлит, потом медленно поворачивает ее и толкает дверь в класс.
Комната притаилась – такая же, как помнится, – будто он здесь. Он и есть сейчас здесь. Осознает все, что вижу я. Все озаряется и вибрирует воспоминанием.
Длинные темно-зеленые доски по обеим сторонам облупились, нужно чинить – как и раньше. Мел – мела никогда нет, лишь тупые огрызки в желобе. За доской – окна, в них видны горы, на которые он смотрел в раздумье, когда студенты писали. Он садился у батареи отопления с кусочком мела в руке и смотрел в окно на горы, изредка отзываясь на вопрос студента: «А нам надо?..» Тогда он оборачивался и отвечал, и возникало единение, которого он не знал прежде. Здесь его принимали – как его самого. Не того, кем он мог или должен быть, а его самого. Здесь отзывались – слушали. Он все отдал. Не один класс – тысяча, каждый день они менялись вместе с бурями, снегами и узорами облаков на горных склонах, с каждой группой, даже с каждым студентом. Каждая пара не похожа на другую, извечная тайна – что принесут следующие…
Я забылся во времени – и тут услышал скрип шагов в коридоре. Все громче, вот замер у дверей. Ручка поворачивается. Дверь открывается. Заглядывает женщина.
У нее суровое лицо – словно кого-то собиралась здесь поймать. На вид около тридцати, не очень симпатичная.
– Мне показалось, я кого-то видела, – говорит она. – Я думала… – У нее на лице недоумение.
Заходит в класс и приближается ко мне. Вглядывается. Суровость исчезает, медленно сменяется изумлением. Она поражена.
– О господи… – говорит она. – Это вы?
Я ее совсем не узнаю. Совсем.
Называет меня по имени, и я киваю: да, это я.
– Вы вернулись?
Я качаю головой:
– Заглянул на минутку.
Женщина таращится на меня, пока не становится неловко. Она тоже это понимает и спрашивает:
– Можно присесть?
Робко – видать, была его студенткой.
Садится на стул в первом ряду. Рука без обручального кольца дрожит. Я и впрямь призрак.
Теперь и ей неловко.
– Вы надолго?.. Нет, я уже спрашивала…
Я заполняю паузу:
– Я на несколько дней остановился у Боба ДеВиза, потом еду на Запад. Вот задержался в городе, решил на колледж взглянуть.
– Ой, я рада, – говорит она. – Тут все изменилось… мы все изменились… сильно – с тех пор, как вы уехали…
Еще одна неловкая пауза.
– Мы слышали, вы были в больнице…
– Да, – отвечаю я.
Снова молчание. Она не продолжает, очевидно, зная причину. Колеблется, подыскивая, что бы сказать. Невыносимо.
– Где вы преподаете? – наконец спрашивает она.
– Я больше не преподаю, – отвечаю я. – Бросил.
Она смотрит недоверчиво:
– Вы бросили? – Хмурится и опять смотрит на меня: мол, с тем ли человеком говорю? – Не может быть.
– Может.
Не веря, она качает головой:
– Только не вы!
– Тем не менее.
– Почему?
– Хватит с меня. Я теперь занимаюсь другим.
Мне по-прежнему интересно, кто она; женщина, похоже, в таком же недоумении.
– Но это же просто… – Фраза обрывается. Она пытается заново: – Вы совсем… – Но и эта фраза неудачна.
Дальше должно быть «безумие» или «с ума сошли». Но оба раза она осекается. Что-то понимает, закусывает губу – в полном ужасе. Я бы сказал что-нибудь, кабы мог, но начинать неоткуда.
Я уже почти собрался признаться, что не знаю ее, но она встает и произносит:
– Мне пора.
Наверное, видит, что я ее не помню.
Она подходит к двери, прощается торопливо и формально, а когда дверь закрывается, по коридору стучат ее торопливые шаги, она почти бежит.
Наружная дверь хлопает, и в классе повисает тишина. Как и прежде. Только женщина оставила за собой некий психический вихрь, и комната преобразилась. Остался лишь отголосок присутствия, а то, за чем я сюда пришел, исчезло.
Вот и хорошо, думаю я, вставая снова, я рад, что зашел сюда, но вряд ли мне захочется снова увидеть этот класс. Лучше уж буду чинить мотоциклы – один такой как раз меня ждет.
Выходя, я безотчетно открываю другую дверь. И на стене вижу такое, от чего по загривку бегут мурашки.
Это картина. Я ее не помнил, но теперь знаю, что он ее купил и повесил сюда. И вдруг знаю, что это вообще-то не картина, а репродукция – он выписал ее из Нью-Йорка, и ДеВиз еще нахмурился: репродукции лишь воспроизводят искусство, а сами не оно. Этой разницы он в то время не понимал. Но репродукция «Церкви миноритов» Фейнингера[18] нравилась ему тем, что не имела отношения к искусству: сюжет – некий готический собор, воссозданный полуабстрактными линиями, плоскостями, цветами и тенями, – словно отражал его мысленный образ Храма Разума. Потому-то он ее и повесил здесь. Вот все и возвращается. Здесь был его кабинет. Находка. Вот какую комнату я ищу!
Вхожу – и на меня обрушивается лавина памяти, высвобожденная толчком репродукции. На нее падает свет жалкого узенького оконца в примыкающей стене, откуда Федр смотрел на долину, на хребет Мэдисон за ней, наблюдал, как наступают грозы, и сейчас, глядя на долину вот в это окно, вот… все началось, началось безумие, вот прямо здесь! То самое место!
А эта дверь ведет в кабинет Сары. Сара! Обрушивается! Она пробегала из двери в дверь, из коридора к себе со своей лейкой и на бегу сказала: «Я надеюсь, вы учите своих студентов Качеству». И это все жеманным, певучим голоском дамы, которой год до пенсии, и она сейчас будет цветочки поливать. Тогда-то все и началось. То было зерно кристалла.
Зерно кристалла. Возвращается мощный фрагмент воспоминания. Лаборатория. Органическая химия. Он работал с чрезвычайно перенасыщенным раствором, и случилось нечто похожее.
Перенасыщенный раствор – это когда точка насыщения, при котором вещество больше не растворяется, уже позади. Бывает, если точка насыщения растет при нагревании раствора. Когда растворяешь вещество при высокой температуре, а потом остужаешь раствор, вещество иногда не кристаллизуется, потому что молекулы не умеют. Им нужно за что-нибудь зацепиться – зерно кристалла, пылинка, можно даже резко царапнуть или постучать по стеклу сосуда.
Федр пошел к крану остудить раствор, но так и не дошел. Прямо у него на глазах в растворе возникла звездочка кристаллического вещества – и тут же вдруг игольчато выросла, заполнив собой весь сосуд. Он видел, как она растет. Была прозрачная жидкость – стала массой настолько твердой, что переверни сосуд, и из него ничего не выльется.
Он услышал одну фразу: «Я надеюсь, вы учите своих студентов Качеству», – и всего за несколько месяцев, с такой скоростью, что этот рост был зрим, появилась огромная, запутанная, высокоструктурированная масса мысли, точно по волшебству.
Я не знаю, что он ответил, когда она это сказала. Может, и ничего. Она сновала туда-сюда за его креслом много раз на дню по пути к себе в кабинет, иногда останавливалась, словом-другим извинялась за беспокойство, иногда сообщала какую-нибудь новость, и он к Саре привык – часть кабинетной жизни. Помню, она зашла еще раз и спросила:
– А вы действительно преподаете Качество в этой четверти? – и он кивнул и, на секунду выглянув из-за спинки кресла, ответил:
– Безусловно!
Она потрусила дальше. Федр писал тогда тезисы лекции и пребывал в полнейшем унынии.
В уныние приводило то, что перед ним лежал один из самых рациональных учебников по риторике, что только есть, и все же в нем что-то казалось не так. Более того, Федр всегда мог поговорить с его авторами – они работали на том же отделении. Он спрашивал, слушал, беседовал, соглашался с их ответами – рационально, – однако ответы эти как-то его не удовлетворяли.
Учебник начинался с посылки, что, если риторику вообще преподавать в университете, ей следует учить как ответвлению разума, а не мистическому искусству. Стало быть, подчеркивалось: для понимания риторики необходимо овладеть рациональными основами коммуникации. Вводилась элементарная логика, привносилась теория элементарных стимулов-реакций, а отсюда выстраивалась прогрессия к пониманию того, как написать сочинение.
В первый год преподавания Федра эта схема удовлетворяла. Он чувствовал, что в ней что-то не так, однако неправильность эта не лежала в области применения разума к риторике. Неправильность жила в старом призраке его грез – в самой рациональности. Та же неправильность, признавал он, тревожила его много лет, и решений у него не было. Он только чувствовал, что ни один писатель никогда не учился писать согласно этому приквадратненному, по-порядку-номеров-рассчитайскому, объективному, методичному подходу. Однако рациональность предлагала только это – тут уж ничего не поделаешь, не впав в иррациональность. С полным правом в Храме Разума Федр может только одно: быть рациональным; и тему пришлось пока оставить.
Сара протрусила мимо несколько дней спустя, притормозила и высказалась:
– Я так рада, что вы даете Качество в этой четверти. Нынче мало кто это делает.
– Ну, вот я и делаю, – ответил он. – И жирно это подчеркиваю.
– Хорошо! – сказала она и потрусила дальше.
Федр вернулся к заметкам, однако совсем немного погодя ход его мысли прервался воспоминанием о ее странном замечании. О чем она вообще толковала? Качество? Ну разумеется, он учит Качеству. А кто нет? Он писал тезисы дальше.
Еще в уныние его повергала предписывающая риторика; считалось, что с ней покончено, а она никуда не делась. Барахло в духе «шлепать по пальцам, если у тебя глаголы рассогласованы по видам и временам». Правильное правописание, правильная пунктуация, правильная грамматика. Сотни мелочных правил для мелочных людишек. Все равно никто не помнит эту дребедень, когда пытается что-нибудь написать. Сплошь застольные манеры, рожденные не добротой, порядочностью или гуманностью, а лишь эгоистическим стремлением выглядеть не хуже леди и джентльменов. Леди и джентльмены прилично ведут себя за столом, говорят и пишут грамматично. Это и определяет принадлежность к высшим классам.
В Монтане, тем не менее, не действовало. В Монтане так определялась лишь принадлежность к чванливым ослам с Восточного побережья. На отделении существовал некий минимум требований предписывающей риторики, но Федр, как и другие преподаватели, тщательнейше старался не защищать предписывающую риторику перед студентами и объяснял ее «школьными требованиями».
Вскоре поток мысли прервался снова. Качество? В этом вопросе что-то раздражало, даже злило. Он подумал об этом, еще немного подумал, выглянул в окно, а потом немного подумал опять. Качество?
Четыре часа спустя он по-прежнему сидел, задрав ноги на подоконник, и смотрел в потемневшее небо. Зазвонил телефон: жена справлялась, не случилось ли чего. Он ответил, что скоро придет, но забыл и про это, и про все остальное. И только в три часа ночи устало признался, что у него нет ни малейшего понятия о том, что есть Качество, взял портфель и отправился домой.
Большинство людей забыло бы о Качестве или оставило бы вопрос нерешенным: они ведь ни к чему не пришли, а им есть чем заняться. Но Федра так подавляла собственная неспособность обучать тому, во что сам верит, что он плевать хотел на свои обязанности, и когда он наутро проснулся, Качество уже пялилось ему в лицо. Три часа сна, он так устал, что ясно – лекцию читать он не в силах; к тому же, тезисы он так и не дописал. Поэтому он вывел на доске: «Сочинение, 350 слов – ответ на вопрос: что есть качество в мысли и утверждении?» После этого уселся у батареи и, пока все пишут, стал думать о Качестве сам.
К концу часа не закончил никто, и Федр разрешил взять работы на дом. В этой группе у него занятий не было два дня – оставалось еще время подумать. На переменах он встречал студентов, кивал им, а ему отвечали испуганными и злыми взглядами. Собратья по несчастью, догадался он.
Качество… знаешь, что это такое, – и в то же время не знаешь. Но ведь это противоречие. Однако есть же вещи лучше других – иными словами, в них больше качества. А когда пытаешься сказать, что же такое Качество – ну, если не перечислять то, что им обладает, – все это – фук! – лопается. Не о чем говорить. Но если не можешь сказать, что такое Качество, откуда ты знаешь, что оно вообще есть? Если никто не знает, что это такое, с любой точки зрения его не существует. Но с любой точки зрения оно есть. На каком еще основании ставят оценки? Почему еще люди платят целые состояния за одно, а другое выбрасывают на помойку? Очевидно, некоторые вещи лучше других… но что такое эта «лучшесть»?.. Вот так, по кругу, раз за разом прокручивая мысленные колеса и нигде не находя сцепления. Что такое, к дьяволу, это Качество? Что это такое?..
Часть 3
16
Выспались неплохо, а утром я тщательно уложил рюкзаки, и вот уже около часа мы поднимаемся по склону горы. Лес у дна ущелья по большей части сосновый, но встречаются осины и широколиственные кустарники. Крутые стены вздымаются над головой по обе стороны. Временами тропа выводит на клочок солнечного света и травки на берегу ручья, но вскоре вновь заходит в глубокую тень сосен. Земля покрыта мягкой и пружинящей хвойной подстилкой. Здесь очень спокойно.
Такие горы и путешественники, а также события, что с ними происходят, найдутся не только в дзэнской литературе, но и в сказках всех основных религий. Легко и естественно аллегорически заменить физической горой духовную, что стоит между каждой душой и ее целью. Подобно людям в долине у нас за спиной, большинство стоит в виду у духовных гор всю свою жизнь – и никогда на них не восходит, довольствуясь рассказами тех, кто там побывал, и эдак вот избегая трудностей. Кто-то идет в горы с опытным гидом – гид знает лучшие и наименее опасные маршруты, которыми можно достичь назначения. Другие, неопытные и недоверчивые, пытаются проложить собственные тропы. Удается немногим, но кое-кто иногда одной лишь волей, удачей и милостью божьей достигают цели. Попав туда, они яснее прочих осознают, что не бывает ни единственного маршрута, ни постоянного числа этих маршрутов. Путей столько, сколько отдельных душ.
Теперь я хочу рассказать, как Федр изучал термин Качество, – поговорить об исследовании, которое сам он считал маршрутом через горы духа. Насколько я сумел разгадать, в этой работе было две четкие фазы.
В первой фазе Федр не пытался дать строгое, систематическое определение того, о чем говорил. То была счастливая, творческая и плодотворная фаза. Она длилась, покуда он преподавал в школе – там, в долине у нас за спиной.
Вторая проросла из нормальной интеллектуальной критики этого отсутствия определения. В этой фазе он вывел систематические, строгие утверждения о Качестве и разработал огромную иерархическую структуру мысли для их поддержки. Ему буквально пришлось сдвинуть небо и землю, чтобы прийти к такому систематическому пониманию, и, свершив это, он почувствовал, что его объяснение бытия и нашего осознания бытия – лучше прежних.
Если то и впрямь был новый маршрут через гору, его, само собой, очень не хватало. Старые маршруты, обычные для этого полушария, вот уже больше трех веков размывались и едва ли не полностью стирались естественной эрозией и тектоническими сдвигами горы, которые производила научная истина. Первые скалолазы проложили свои тропы по твердой земле – они были доступны и привлекательны для каждого, – но сегодня западные маршруты почти полностью закрылись из-за догматической негибкости перед лицом перемен. Сомневаясь в буквальном значении слов Иисуса или Моисея, ты навлекаешь на себя вражду большинства, но признаемся: явись Иисус или Моисей сегодня инкогнито и с теми же словами, что и много лет назад, их душевное здоровье поставили бы под сомнение. Не потому, что их слова – неправда, и не потому, что современное общество заблуждается, а лишь потому, что маршрут, избранный ими для других, утратил значимость и вразумительность. «Небеса наверху» теряют смысл, когда сознание космической эры интересуется: «А «наверху» – это где?» Но если из-за окоченения языка старые маршруты теряют свое повседневное значение и закрываются, это вовсе не значит, что гора исчезла. Она есть и будет, пока существует сознание.
Вторая метафизическая фаза Федра сокрушительно провалилась. До того как к голове его подключили электроды, Федр потерял все вещественное – деньги, собственность, детей; даже его гражданские права отняли постановлением суда. У него осталась лишь сумасшедшая одинокая мечта о Качестве, карта маршрута через гору, ради которой он пожертвовал всем. А когда подключили электроды, он и ее потерял.
Я никогда не узнаю всего, что происходило тогда у него в голове, – и никто не узнает. Остались одни обрывки: мусор, разрозненные заметки. Их можно сложить вместе, но огромные белые пятна остаются необъясненными.
Впервые обнаружив весь этот мусор, я себя почувствовал каким-то крестьянином в пригородах, скажем, Афин, который случайно и не особо удивившись выпахивает плугом камни со странными узорами. Я понимал, что они остались от некоего старинного орнамента побольше, но тот выходил далеко за пределы моего понимания. Сперва я намеренно избегал их, не обращал внимания – знал, что камни эти повлекли за собой некую беду, а мне ее не надо. Но даже тогда я видел, что они входят в огромную структуру мысли; втайне она была мне любопытна.
Затем изнутри проросло больше уверенности: я неуязвим, несчастье не грозит мне – и я заинтересовался этим мусором в более позитивном смысле. И начал хаотически кое-что набрасывать. То есть безотносительно формы – в том порядке, как эти обрывки ко мне поступали. Многие аморфные утверждения подбрасывали друзья. Таких тезисов теперь тысячи, и хотя лишь малая часть подходит для этого шатокуа, он, без сомнений, покоится на них.
Вероятно, все это очень далеко от того, что думал Федр. Я пытаюсь дедуктивно воссоздать весь орнамент по отрывкам и неизбежно совершаю ошибки и вношу противоречия, в чем вынужден повиниться. Часто фрагменты двусмысленны; из них можно вывести несколько разных заключений. Если что-то не так, ошибка гораздо вероятнее не в том, что он думал, а в моей реконструкции, и потом удастся найти более удачную версию.
Раздается шорох, и в деревьях скрывается куропатка.
– Видел? – спрашивает Крис.
– Да, – отвечаю я.
– Что это было?
– Куропатка.
– Откуда ты знаешь?
– Они в полете вот так покачиваются взад-вперед. – Я не уверен, но звучит правдоподобно. – И держатся у земли.
– А-а-а, – тянет Крис, и мы продолжаем турпоход. Лучи пробиваются сквозь сосны так, будто мы в соборе.
Так вот, сегодня я хочу заняться первой фазой его путешествия в Качество, неметафизической, и это будет приятно. Хорошо начинать путешествие с удовольствием – даже если знаешь, что закончится скверно. Школьные тезисы Федра будут мне справочным материалом, и по ним я хочу реконструировать, как именно Качество стало для него рабочей концепцией в преподавании риторики. Вторая фаза – метафизическая – была скудна и умозрительна, а вот первая, когда он просто учил риторике, во всех отношениях оказалась цельна и прагматична. Возможно, судить ее следует и вне зависимости от второй фазы.
Федр активно вводил новшества. Ему было непросто со студентами, которым нечего сказать. Вначале он думал, что это просто лень, но позже стало очевидно, что дело не в ней. Они просто не могли придумать, что сказать.
Одна такая девушка в очках с толстыми стеклами хотела написать сочинение в пятьсот слов о Соединенных Штатах. У Федра уже давно внутри все опускалось от подобных заявлений, и он деликатно предложил ей сузить тему до города Бозмена.
Пришла пора сдавать работу, но девушка ее не сделала и довольно сильно расстроилась. Она честно пыталась, но не смогла придумать, что сказать.
Федр уже справлялся о ней у ее прежних преподавателей, и те подтвердили его впечатления. Очень серьезная, дисциплинированная и прилежная, но крайне скучная. Ни искры творчества. Глаза под толстыми стеклами были глазами ишака. Она не отмазывалась – она действительно не могла ничего придумать и расстраивалась из-за собственной неспособности сделать то, что задали.
Федра это просто ошарашило. Теперь и он не мог придумать, что сказать. Повисло молчание, за ним – неожиданный ответ:
– Сузьте до главной улицы Бозмена. – По наитию просто.
Девушка послушно кивнула и вышла. Но перед следующим занятием пришла снова – теперь уже в слезах: беспокойство, видать, копилось долго и прорвалось. Ей по-прежнему ничего не приходило в голову, и она не могла сообразить, почему у нее должно получиться с одной улицей Бозмена, если она ничего не способна придумать про весь город.
Федр пришел в ярость.
– Вы не смо́трите! – сказал он. Вспомнил, как его самого выгоняли из университета – за то, что ему всегда находилось чересчур много чего сказать. На каждый факт приходится бесконечное число гипотез. Чем больше смотришь, тем больше видишь. А она даже не смотрела и сама этого не понимала.
Он сердито сказал:
– Сузьте до фасада одного дома на главной улице Бозмена. До Оперы. Начните с верхнего кирпича слева.
Ее глаза под толстыми линзами расширились.
Девушка пришла на следующее занятие с озадаченным видом и протянула тетрадь с сочинением в пять тысяч слов о фасаде Оперы на главной улице Бозмена, штат Монтана.
– Я села в закусочной напротив, – рассказала она, – и стала писать о первом кирпиче, о втором кирпиче – а с третьего все пошло само, я уже не могла остановиться. Там подумали, что я спятила, прикалывались, но я все сделала. Ничего не понимаю.
Федр тоже не понимал, но в долгих прогулках по улицам думал об этом и пришел к выводу: очевидно, девушку останавливал тот же запор, что парализовал и его в первый день преподавания. В сочинении она пыталась повторять то, что уже слышала, – как он в первый день занятий пытался повторять то, что уже решил сказать заранее. Она не могла придумать, что сказать о Бозмене, поскольку на ум не шло ничего такого, что стоило бы повторять. Странное дело – она не осознавала, что сама бы могла посмотреть и увидеть что-то свежим взглядом. И написать, не опираясь на то, что говорилось прежде. Сужение темы до одного кирпича уничтожило запор, поскольку ей очевидно пришлось посмотреть самой, оригинально и непосредственно.
Он продолжал экспериментировать. В одной группе заставил всех целый час писать о тыльной стороне большого пальца. Вначале студенты на него странно посматривали, но работу выполнили все, и не поступило ни единой жалобы, что «нечего писать».
В другой группе он сменил тему: взял не палец, а монету и получил от каждого часовое сочинение. В остальных классах происходило то же самое. Кое-кто спрашивал: «А писать про обе стороны?» Как только врубались в непосредственное самостоятельное видение – сразу понимали: не бывает пределов тому, что можно сказать. Видимо, этим заданием укреплялась и уверенность: сочинения, даже самые, казалось бы, тривиальные, были их собственным творчеством, а не подражанием. Те группы, где Федр давал упражнение с монетой, всегда оказывались менее норовистыми и более заинтересованными.
В результате экспериментов он пришел к заключению: подлинное зло – имитация, сначала ее нужно сломить, а уже потом учить риторике по-настоящему. Имитация вроде бы навязывалась извне. У малышей ее нет. Она появляется потом – возможно, как результат школьного образования.
Федр счел, что здесь есть здравое зерно, и чем больше о нем думал, тем вернее оно казалось. Школы учат подражать. Если не подражаешь тому, чего хочет учитель, тебе ставят плохую оценку. Здесь, в колледже все, конечно, изощреннее: ты подражаешь учителю, но пытаешься убедить его, что не подражаешь, а берешь самую суть его наставлений и продолжаешь самостоятельно. Тогда ставят пятерки. С другой стороны, оригинальность может принести, все что угодно, от пятерок до колов. Против нее – вся система оценок.
Федр поговорил об этом с соседом, преподавателем психологии – учителем весьма изобретательным. Тот сказал:
– Ну да. Уничтожьте систему оценок – тогда и будет настоящее образование.
Федр задумался. Через пару недель одна очень способная студентка не смогла придумать тему своей курсовой работы, а он по-прежнему думал об оценках и потому задал ей это как тему. Ей сначала не понравилось, но она все же согласилась.
Через неделю она разговаривала об этом со всеми, а через две подготовила превосходную работу. Группа, перед которой она читала свой доклад, двух недель на размышление не имела, поэтому к самому замыслу отменить оценки отнеслась враждебно. Это ничуть не смутило студентку. В ее голосе зазвучало религиозное рвение – Федр давно такого не слышал. Она умоляла студентов выслушать, понять, что это правильно.
– Я говорю не для него, – она взглянула на Федра, – а для вас.
Ее мольба, ее религиозный пыл произвели на него большое впечатление – вкупе с тем, что по результатам вступительных экзаменов она попала в голову класса. В следующей четверти при изучении темы «Методы убеждения» он выбрал эту тему «образцом» – небольшим сочинением, которое писал сам, день за днем, прямо на занятиях и с помощью группы.
Федр взял образец, чтобы не болтать о принципах композиции, в которых сам глубоко сомневался. Казалось, честнее самому показывать ученикам пример – со всеми опасениями, тупиками и подчистками. Всяко лучше, чем тратить время на придирки к законченным студенческим работам или устраивать студентам турниры подражательства классикам. Теперь Федр развивал довод в пользу того, что следует уничтожить всю систему оценки знаний. А чтобы студенты на себе прочувствовали то, что слышат, он на эту четверть упразднил все оценки.
Прямо на вершинах хребта над нами уже виден снег. Хотя если пешком, до него много дней пути. На эти заснеженные скалы так просто не вскарабкаешься, особенно с тяжелым грузом, как у нас, а Крис еще не дорос до крючьев и веревок. Нам с ним надо перейти лесистый хребет, к которому мы приближаемся, войти в другое ущелье, дойти до конца и вернуться, поднимаясь вдоль хребта. Три дня трудного пути к снегу. Четыре дня – легкого. Если не вернемся через девять, ДеВиз начнет нас искать.
Мы останавливаемся отдохнуть и садимся под дерево, чтобы не опрокинуться под весом рюкзаков. Немного погодя достаю из-за плеча мачете – он в рюкзаке сверху – и протягиваю его Крису.
– Видишь вон две осины? Прямые такие? На краю? – показываю я. – Сруби где-то в футе от земли.
– Зачем?
– Пригодятся – будут палки для ходьбы и шесты для палатки.
Крис берет мачете, привстает, но усаживается снова.
– Лучше сам сруби, – говорит он.
Поэтому я беру мачете, иду и режу палки. Обе аккуратно срубаются одним ударом, остается лишь полоска коры, которую я рву тыльной стороной мачете. Наверху в скалах палки помогают держать равновесие, а тамошние сосны для палок не годятся; осины дорастают лишь досюда. Но я немного досадую: Крис отлынивает от работы. В горах это скверно.
Короткий отдых – и мы идем дальше. К такой поклаже надо привыкать постепенно. На всякий вес реагируешь отрицательно. Но дальше нагрузка станет естественнее…
На довод Федра в пользу отмены оценок почти все студенты отреагировали отрицательно или растерялись: с первого взгляда им показалось, что это уничтожит всю университетскую систему. Одна студентка ляпнула с невинной прямотой:
– Ну нельзя же не ставить оценок. Иначе мы здесь зачем?
Совершенная правда. Думать, будто большинство студентов посещают университет ради образования вне зависимости от оценок – легкое лицемерие, которое никому лучше не разоблачать. Кое-кто иногда в самом деле поступает ради образования, но в зубрежке и механике самого учебного заведения их идеализм вскоре притупляется.
Образец Федра пытался доказать, что упразднение оценок уничтожит это лицемерие. Федр описывал не общие места, а конкретную судьбу воображаемого студента, более или менее типичного для их колледжа: он заточен только для работы на оценку, а не на знание, кое оценка вроде как лишь представляет.
Такой студент, предполагалось в образце, придет на первое занятие, получит первое задание и, возможно, выполнит его по привычке. На второе и третье, вероятно, тоже придет. Но в конце концов новизна курса сотрется, студент не только академической жизнью живет, давление иных обязательств или желаний создаст обстоятельства, при которых очередное задание он рано или поздно не выполнит.
Оценок же не будет – значит не будет и наказания. Потом он потихоньку перестанет понимать лекции, что как-то отталкивались от выполненного задания, и это осложнение, в свою очередь, ослабит его интерес – до того, что следующее задание окажется совсем трудным, и его студент также не выполнит. И снова никакого наказания.
Со временем все более слабое понимание предмета приведет ко все большим трудностям в учебе. В конце концов студент поймет, что ничему толком не учится; и под непрерывным давлением внешних обстоятельств он учебу вообще прекратит. Ему будет стыдно, он перестанет ходить на занятия. И снова не понесет никакого наказания.
Что же произошло? Студент – без чужого злого умысла – сам взял и провалился. Отлично! Так и должно было случиться. Он же сюда шел не образование получать, а оценки, ему здесь нечего делать. Сэкономили много денег и усилий, клейма неудачи и прогула нет, остаток жизни мучиться он не будет. Не сожжено никаких мостов.
Величайшая проблема такого студента – рабская ментальность, встроенная годами кнуто-пряничной системы оценок, ментальность мула: «Если ты меня не отстегаешь, не буду работать». Его не отстегали. Он не работал. И телега цивилизации, которую он якобы обучался тянуть, просто скрипит себе дальше, только чуть медленнее без него.
Однако трагедия здесь – только если допускать, что телегу цивилизации, «систему», тянут мулы. Такова обыденная, профессиональная, «привязанная к месту» точка зрения; в Храме же иное отношение.
Храм полагает, что цивилизация, или «система», или «общество», или как угодно ее назови, лучше всего обслуживается не мулами, но свободными людьми. Цель упразднения оценок – не наказать мулов, не избавиться от них, а создать такую среду, где мул превратится в свободного человека.
Гипотетический студент, все еще мул, немного подержится на плаву. Получит какое-нибудь другое образование, столь же ценное, как и брошенное, в так называемой «трудной школе жизни». Не будет тратить деньги и время как мул с высоким статусом, а вынужден будет работать мулом с низким статусом – скажем, механиком. Хотя подлинный его статус повысится. Для разнообразия он будет делать что-то полезное. Вероятно – всю оставшуюся жизнь. Может, он нашел свой уровень. Только не стоит на это рассчитывать.
Со временем – через полгода, пять лет, все равно – скорее всего, что-то начнет меняться. Тупая повседневная работа в мастерской будет удовлетворять его все меньше. Его творческий разум был придушен в колледже избытком теории и оценок, теперь же скука мастерской его подстегнет. После тысяч часов разбора утомительнейших механических проблем он станет больше интересоваться конструкцией машины. Ему понравится конструировать машины самому. Он задумается, не заняться ли ему чем-нибудь получше. Попробует модифицировать пару машин, у него получится, он захочет еще большего успеха, но не сможет преодолеть запор, поскольку не хватит теоретической информации. Он поймет, что прежде чувствовал себя дураком, потому что теория его не интересовала, но теперь нашел область теории, которую очень уважает, а именно машиностроение.
И тогда он вернется в нашу школу без оценок – но с одной разницей. Он больше не будет замотивирован на оценки. Он будет замотивирован на знание. Для учебы ему не понадобятся внешние толкачи. Он будет приводиться в движение изнутри. Он станет свободным человеком. Не нужно особой дисциплины для такой лепки характера. Вообще-то если назначенные преподаватели расслабятся, скорее всего, это он их будет лепить, задавая грубые вопросы. Он придет чему-то учиться, он будет платить за то, чтобы чему-то научиться, и тут уж лучше пойти ему навстречу.
Пустив прочные корни, такая мотивация станет яростной силой, и в учебном заведении без оценок и степеней, где окажется наш студент, на вызубренной механической информации он не остановится. Он заинтересуется физикой и математикой, ибо поймет, что они ему нужны. Металлургией и электромеханикой. И при интеллектуальном созревании, пришпоренном этими абстрактными науками, он скорее всего начнет вторгаться и в другие области теории – непосредственно не связанные с машинами, но уже необходимые для его новой, более крупной цели. Эта цель не будет имитацией образования в сегодняшних университетах, замазанного и отлакированного степенями и оценками, от которых только шум, похожий на работу. Она будет подлинной.
Таков был образец Федра, его непопулярный довод, и Федр разрабатывал его всю четверть. Выстраивал и усовершенствовал его, спорил, защищал. Всю четверть работы возвращались к студентам с комментариями, но без оценок, хотя в журнал оценки и ставились.
Я уже говорил: сначала все как-то смутились. Большинство, вероятно, прикинуло, что им попался некий идеалист, считающий, будто отмена оценок их осчастливит и заставит работать прилежнее, хотя очевидно же, что без оценок все будут просто бездельничать. Многие студенты с пятерками в прежних четвертях сначала презирали Федра и злились, однако приобретенная самодисциплина толкала их вперед, и они все равно выполняли задания. Хорошисты и твердые троечники сначала пропускали некоторые задания или работали небрежно. Многие глухие троечники и двоечники даже не показывались в классе. Тут другой преподаватель спросил Федра, что тот собирается делать с этой глухой защитой.
– Пересидеть, – ответил Федр.
В нем не было жесткости, и сначала это озадачивало студентов, а потом они заподозрили неладное. Кое-кто начал задавать саркастические вопросы. На них давались мягкие ответы, а лекции и семинары шли как обычно, только без оценок.
Потом стало происходить то, на что Федр надеялся. На третью или четвертую неделю кое-кто из отличников стал нервничать и готовить превосходные работы, задерживаться после занятий и задавать вопросы, дабы выудить у него хоть намек на то, как у них дела. Хорошисты и твердые троечники начали это замечать, сами принялись пахать, и качество работ у них повысилось до обычного уровня. Глухие троечники, двоечники и будущие отстающие стали приходить на занятия просто посмотреть, что творится.
Во второй половине четверти началось то, чего Федр ждал еще больше. Отличники сбросили всю нервозность и стали активными участниками происходящего. Причем доброжелательными – такого не дождешься в классе, получающем оценки. Тут ударились в панику хорошисты и троечники – и пошли сдавать работы, над которыми, судя по всему, мучительно корпели не один час. Двоечники и отстающие выполняли задания удовлетворительно.
В последние недели четверти – когда все обычно уже знают свои четвертные оценки и дремлют на занятиях, – группа Федра работала так, что не могли не заметить другие учителя. Хорошисты и троечники объединились с отличниками в свободных товарищеских дискуссиях. Занятия смахивали на удачные вечеринки. Только двоечники и совсем отстающие безучастно сидели в абсолютной внутренней панике.
Это спокойствие и дружелюбие Федру потом объяснила пара студентов:
– Многие собирались после занятий и вычисляли, как перехитрить вашу систему. Решили так: проще всего допустить, что у вас все равно ничего не получится, а потому лучше плыть по течению и делать, что можешь. После этого отпустило. Иначе же крыша поедет!
Студенты прибавили, что как только привыкнешь, все не так плохо – больше интересуешься предметом, – но подчеркнули, что привыкнуть было нелегко.
В конце четверти студентов попросили написать сочинение с оценкой нововведений. Своих четвертных оценок никто еще не знал. Пятьдесят четыре процента были против. Тридцать семь – за. Девять процентов воздержались.
По принципу простого голосования система оказалась очень непопулярна. Большинство явно желало назад свои оценки. Но стоило Федру раскрыть журнал и разложить мнения по успеваемости – логично вытекавшей из прежних годов обучения и результатов вступительных экзаменов, – получилась совсем иная картина. Отличники высказались в пользу реформы в соотношении 2 к 1. Хорошисты и троечники разделились поровну. А двоечники и неуспевающие единодушно выступили против!
Этот удивительный результат поддерживал давнее подозрение Федра: способные и серьезные студенты меньше всего хотят получать оценки – вероятно, потому, что больше заинтересованы в самом предмете. А тупые или ленивые желают оценок больше прочих – скорее всего потому, что оценки подсказывают им, как они справляются.
ДеВиз так и говорил: отсюда на юг можно идти семьдесят пять миль по лесам и снегам, не встречая дорог, хотя к западу и востоку дороги есть. Я устроил так, что, если к концу второго дня станет плохо, мы окажемся вблизи дороги, по которой можно будет быстро добраться обратно. Крис об этом не знает, а если ему сказать, это больно заденет его бойскаутскую любовь к приключениям. Конечно, поброди по диким местам вдоволь – и бойскаутская жажда приключений сойдет на нет, поймешь, что лучше не рисковать понапрасну. А здесь может быть опасно. Один неверный шаг из миллиона, подвернется лодыжка – тут и поймешь, как далеко цивилизация.
В такую даль по этому ущелью, очевидно, редко забираются. Еще час – и мы видим, что тропа почти исчезла.
Если судить по заметкам Федра, он считал, что отказ от оценок – это хорошо, но не придавал ему научной ценности. В подлинном эксперименте сохраняешь постоянными все условия, какие можешь придумать, кроме одного, а потом смотришь на последствия изменения одного этого условия. В классе так сделать невозможно. Знания студентов, отношение студентов к учебе, отношение учителя – все меняется от всяческих причин, неконтролируемых и по большей части вообще неизвестных. К тому же наблюдатель в данном случае – сам условие, ему нипочем не оценить собственное воздействие, не меняя его. Поэтому Федр и не пытался делать жесткие выводы, а просто шел вперед и делал то, что ему нравилось.
К исследованию Качества он вообще двинулся из-за одного зловещего аспекта системы оценок, который проявила ее отмена. На самом деле оценки скрывают неумение обучать. Плохой преподаватель может за всю четверть не оставить в головах учеников ничего запоминающегося, подвести итог по результатам ничего не значащей контрольной работы и оставить впечатление, будто кто-то чему-то научился, а кто-то нет. Но если оценки отменить, класс волей-неволей начнет каждый день задаваться вопросом: а чему они учатся на самом деле? Чему нас учат? С какой целью? Как этой цели отвечают лекции и задания? Такие вопросы зловещи. Упраздни оценки – узришь огромную и пугающую пустоту.
И все равно, что же Федр пытался сделать? Чем дальше, тем насущнее вопрос. Ответ, казавшийся верным, когда он начинал, все больше терял смысл. Федр хотел, чтоб его студенты стали творцами – самостоятельно решали, как писать хорошо, а не все время спрашивали у него. Оценки им не ставили для того, чтоб они заглянули в себя – только там найдется истинный ответ.
Теперь же все это утратило смысл. Если они уже знают, что хорошо и что плохо, у них нет причин и браться за его курс. Но студенты сидят перед ним – значит, они не знают, что хорошо и что плохо. Это он, преподаватель, должен рассказать им, что хорошо и что плохо. Одна мысль об индивидуальном творчестве и выражении в стенах класса глубоко противна всей идее университета.
С упразднением оценок многие студенты попали в кафкианскую ситуацию: они понимают, что их непременно накажут, если они чего-то не сделают, но никто не хочет говорить, что именно от них требуется. Они смотрели в себя и ничего не видели; смотрели на Федра и ничего не видели; а потому они беспомощно сидели и не знали, что делать. Пустота была смертоносной. У одной девушки случился нервный срыв. Нельзя отменить оценки и сидеть, создавая бесцельную пустоту. Придется задавать классу некую цель, ради которой нужно работать, чтобы эту пустоту заполнить. А Федр этого не сделал.
Не мог. Он не мог придумать ни единого способа сказать им, к чему они должны стремиться в работе, – сказать и при этом самому снова не провалиться в ловушку авторитарного, дидактического преподавания. Но как нарисовать мелом на доске таинственную внутреннюю цель каждой творческой личности?
В следующей четверти он плюнул на свой замысел и вернулся к системе оценок – обескураженный, в смятении чувствуя, что прав, но у него почему-то ничего не вышло. Когда в классе возникало нечто спонтанное, индивидуальное и поистине оригинальное, происходило это вопреки инструкции, а не согласно ей. Вот в этом смысл был. Федр порывался уйти в отставку. Преподавать тупую шаблонность студентам, которые его ненавидят, – нет уж, увольте.
Ему рассказали, что в Ридском колледже в Орегоне отменили оценки вплоть до выпуска, и на летних каникулах он туда съездил. Но там ему сообщили, что мнения о ценности этой реформы на факультете резко разделились и никто особо не доволен. На все оставшееся лето Федр впал в глубокую апатию и лень. Они с женой часто ходили в походы по этим горам. Жена то и дело спрашивала, почему он все время молчит, а он не мог ей ответить. Его взяли и остановили. Он ждал. Того недостающего кристалла мысли, от которого все вдруг затвердеет.
17
Крису, похоже, худо. То он держался далеко впереди, а теперь сидит под деревом и отдыхает. На меня не смотрит, и поэтому я знаю, что ему худо.
Сажусь рядом; лицо у него чужое. На щеках румянец, и я вижу, что парень выдохся. Сидим и слушаем ветер в соснах.
Я знаю, в конце концов он встанет и пойдет дальше, но этого не знает он сам – и боится того, что подсказывает ему страх: вдруг он вообще не сумеет залезть на гору. Вспоминаю, что об этих горах писал Федр, и рассказываю Крису.
– Много лет назад, – рассказываю я, – мы с твоей мамой дошли до границы лесов недалеко отсюда; разбили лагерь у озера, а с одной стороны там было болото.
Он не поднимает головы, но слушает.
– Где-то перед рассветом слышим: падают камни. Должно быть, зверь, решили мы. Только звери так не гремят. Потом слышу – в болоте что-то плеснуло. Тут мы проснулись окончательно. Я тихонько вылезаю из спальника, достаю из куртки револьвер, присаживаюсь за деревом.
Крис как-то встрепенулся.
– Еще всплеск, – продолжаю я. – Ну, думаю, городские пижоны верхами ломятся – но не в такой же час. Еще раз – плюх! А потом как бухнет! Какая там лошадь! Еще – БУХ! и снова – БУ-БУХ!.. И вот вижу – в этом предрассветном сумраке ко мне по болотной грязи бредет огромнейший лось, в жизни такого не видел. Рога широченные – в рост человека. Опаснее него в горах только гризли. А кое-кто говорит – не опаснее.
Глаза Криса вновь загораются.
– БУХ! Я взвожу курок, а сам думаю: тридцать восьмой «особый» лося-то, пожалуй, не свалит. БУ-БУХ! Он меня не ВИДИТ! БУ-БУХ! Я у него прямо на дороге. И твоя мама в спальнике у него на дороге. БУ-БУХ! Да такой ЗДОРОВЫЙ! БУ-БУХ! Десять ярдов! БУ-БУХ! Я встаю и прицеливаюсь. БУ-БУХ!.. БУ-БУХ!.. БУ-БУХ!.. И вот он – В ТРЕХ ЯРДАХ от меня… заметил и встал. Мушка – у него между глаз… Стоим оба.
Тянусь к рюкзаку и достаю сыр.
– А потом? – спрашивает Крис.
– Подожди, сыру отрежу.
Вытаскиваю охотничий нож и беру сыр за обертку. Отрезаю ломоть в четверть дюйма, протягиваю Крису.
Берет.
– А потом что?
Жду, пока откусит.
– Этот лось пялился на меня секунд, наверное, пять. Потом глянул вниз, на твою маму. Потом – опять на меня, на револьвер под самым носом. А потом улыбнулся и медленно ушел.
– А-а-а, – тянет Крис. Он разочарован.
– Обычно, когда им вот так переходят путь, они нападают, – говорю я. – А он подумал: такое хорошее утро, мы это место уже заняли, к чему устраивать драку? Вот и улыбался.
– А они могут улыбаться?
– Нет, но было похоже. – Я убираю сыр и добавляю: – Потом в тот день мы прыгали с валуна на валун вниз по склону. Я уже нацелился на один, огромный и коричневый, а он вдруг вскочил и убежал в лес. Тот же лось… Наверное, мы его в тот день сильно допекли.
Помогаю Крису подняться.
– Ты шел быстрее, чем надо, – говорю я. – Теперь склон будет круче, надо идти медленней. Когда идешь слишком быстро, сбивается дыхание, а от этого кружится голова, а это ослабляет дух, и ты думаешь: все, не могу. Значит, притормаживай.
– Буду держаться за тобой, – говорит он.
– Ладно.
Мы отходим от ручья и очень полого начинаем взбираться по склону.
По горам надо ходить с наименьшими усилиями – и ничего не желая. Скорость определит твоя природа. Не идется спокойно – разгонись. Начал задыхаться – сбавь шаг. На гору надо восходить в равновесии нетерпения и измождения. И когда уже больше не способен планировать заранее, каждый твой шаг перестает быть средством продвижения вперед, а становится уникальным событием. Вот у листика зубцы. Этот камень ненадежен. Отсюда снег видно хуже, хоть и ближе. Такое никак не упустишь. Жить ради будущей цели – мелко. Жизнь поддерживают склоны горы, а не ее вершина. Это на склонах все растет.
Но, само собой, без вершины не будет и склонов. Вершина определяет стороны. Вот мы и идем… идти нам еще долго… спешить некуда… шаг за шагом… а для развлечения – небольшой шатокуа… Размышлять про себя гораздо интереснее телевизора, жаль, что на этот канал редко переключаются. Вероятно, все считают, что там ничего важного не передают, а так никогда не бывает.
Есть большой отрывок о первом занятии Федра после того, как он дал это задание – «Что есть качество в мысли и утверждении?». Атмосфера накалилась. Злились почти все: их, как и Федра, этот вопрос раздражал.
– Откуда мы знаем, что есть качество? – говорили они. – Это вы нам расскажите!
Он сказал, что и сам не может вычислить, а узнать очень хочется. Вот и задал такую тему – авось у кого-нибудь найдется пристойный ответ.
Тут-то и бахнуло. Комнату сотряс рев негодования. Какой-то учитель даже сунулся посмотреть, в чем дело.
– Все в порядке, – сказал Федр. – Мы тут случайно споткнулись о настоящий вопрос, и от шока пока трудно оправиться.
Кое-кто с любопытством прислушался, и шум постепенно стих.
Тогда Федр взял быка за рога и ненадолго вернулся к своей теме «Разложение и загнивание в Храме Разума». Вот мера разложения, сказал он: студенты негодуют, если их пытаются использовать для поисков истины. Обычно эти поиски симулируются, имитируются. А искать истину – ну вот еще, здрасьте.
А если по правде, говорил Федр, сам он действительно хочет знать, что они думают, – не ради оценки, а потому что хочет.
Они смотрели непонимающе.
– Я просидел всю ночь, – сказал один.
– Так разозлилась, что хоть плачь, – призналась девушка у окна.
– Предупреждать же надо, – произнес кто-то еще.
– Как я мог вас предупредить, – спросил Федр, – если понятия не имел, как вы это воспримете?
Кое-кто из удивленных начал что-то понимать. Федр их не разыгрывал. Он действительно хотел знать.
Очень странная личность.
Потом кто-то поинтересовался:
– А вы что думаете?
– Я не знаю, – ответил он.
– Но что вы думаете?
Повисла долгая пауза.
– Я думаю, Качество существует, но едва попытаешься его определить, все идет прахом. И не получается.
Одобрительное бормотание.
Федр продолжал:
– Почему так, я не знаю. Я рассчитывал найти какие-то мысли в ваших работах. Просто не знаю.
Теперь класс молчал.
Другие группы в тот день шумели примерно так же, но по паре-тройке студентов в каждой отвечали благожелательно: очевидно, в обеденный перерыв занятие первой группы широко обсуждалось.
Через несколько дней Федр сформулировал собственное определение и записал его на доске для потомства. Определение было таково: «Качество – свойство мысли и утверждения, признаваемое немыслительным процессом. Поскольку определение суть продукт жесткого, формального мышления, качество определить нельзя».
На самом деле, «определение» было отказом определять, но это не вызвало комментариев. У студентов еще не имелось формального образования, которое подсказало бы им, что утверждение Федра в формальном смысле иррационально. Если не способен что-либо определить – не можешь и формально, рационально знать, что оно существует. Да и рассказать кому-нибудь, что это такое, тоже не можешь. Формальной разницы между неспособностью дать определение и глупостью фактически нет. Если я говорю: «Качество нельзя определить» – на самом деле я формально утверждаю: «В Качестве я дурак».
К счастью, студенты этого не знали. Выступи они с такого рода возражениями, Федр еще не смог бы им ответить.
Однако под определением на доске он написал: «Но хотя Качество нельзя определить, вы знаете, что это такое!» – и буря поднялась снова.
– Нет, не знаем!
– Нет, знаете!
– Нет, не знаем!
– Нет, знаете, – сказал он: у него под рукой был кое-какой демонстрационный материал.
Для примера он выбрал два студенческих сочинения. Первое было хаотично и бессвязно, с интересными мыслями, которые ни к чему не приводили. Второе было великолепной работой студента, который и сам не знал, отчего получилось так хорошо. Федр прочитал оба, затем попросил поднять руки тех, кто считал лучшим первое. Поднялось две руки. Он спросил, кому больше понравилось второе. Двадцать восемь рук.
– Как ни назови, – сказал Федр, – но то, что заставило подавляющее большинство поднять руки за второе сочинение, – вот это «что-то» я и считаю Качеством. Значит, вы знаете, что это.
Наступило долгое глубокомысленное молчание, и Федр не стал его нарушать.
Он знал, что в интеллектуальном смысле это возмутительно. Он больше не учил – он внушал. Воздвиг воображаемую сущность; определил ее как не способную быть определенной; несмотря на протесты студентов, сказал, будто они знают, что это такое; и продемонстрировал это столь же логически запутанно, сколь запутан и сам термин. Ему сошло с рук, поскольку всем его студентам, вместе взятым, попросту не хватило бы таланта логически его опровергнуть. После этого Федр все время нарывался на опровержения, но опровержений не поступало. И он импровизировал дальше.
Дабы укрепить мысль, что они уже знают о Качестве, он разработал такой порядок: в классе зачитывались четыре студенческие работы, а Федр задавал всем ранжировать их по Качеству на листке. То же проделывал сам. Собирал листки, подбивал итог на доске и выводил среднее мнение класса. После чего объявлял собственные оценки – и они почти всегда оказывались близки к средним классным, если не совпадали полностью. Расхождения возникали, только если примерно совпадало качество работ.
Сначала группы увлеклись, но со временем заскучали. Что Федр считал Качеством – ясно. Студенты тоже вполне очевидно знали, что это, поэтому слушать им стало неинтересно. Теперь их вопрос звучал так: «Ладно, мы знаем, что такое Качество. Как нам его добиться?»
Вот наконец и пригодились стандартные учебники риторики. Те принципы, что в них разжевывались, больше не выглядели правилами, против которых надо бунтовать; сами по себе они перестали быть истинами в последней инстанции и превратились в навыки, трюки для производства того поистине важного, что не зависело от технических навыков, – Качества. Была ересь, отколовшаяся от традиционной риторики, – стало прекрасное введение в нее.
Федр вычленял аспекты Качества: единство, наглядность, авторитетность, экономия, внимание к оттенкам, ясность, выделение главного, гладкость, напряжение, яркость, точность, пропорциональность, глубина и так далее; давал им такие же скверные определения, как и Качеству, но демонстрировал их тем же способом – чтением в классе. Показывал, как аспект Качества, называемый «единством», цельность повествования, можно улучшить применением навыка под названием «составление плана». Авторитетность довода можно усилить методом «примечания», дающего отсылку к авторитету. Планы и примечания – дело обычное, этому учат еще на первом курсе, но теперь они – инструменты улучшения Качества, у них есть задача. И если студент сдает кипу невнятных ссылок или небрежный план ради галочки, ему теперь можно говорить: ваша работа вроде бы отвечает букве задания, однако очевидно, что цели Качества она не отвечает, стало быть, она не имеет ценности.
Теперь в ответ на вечный студенческий вопрос: «Как мне это сделать?» – который раздражал Федра так, что хоть в отставку подавай, он мог ответить: «Без разницы как! Делай хорошо». Упорствующий студент спрашивал в классе: «Но откуда нам знать, что хорошо?» – однако не успевал вопрос смолкнуть, понимал, что ему уже ответили. И кто-нибудь произносил: «Это просто видишь». А если тот стоял на своем: «Нет, не вижу», – ему отвечали: «Нет, видишь. Он доказал». И студенту – никуда не денешься – приходилось самостоятельно выносить суждения о Качестве. Именно это – и только это – учило его писать.
Прежде академическая система вынуждала Федра говорить, что он хотел, – хоть он и знал, что от этого студенты вынуждены подчиняться искусственным формам, которые уничтожают их творчество. Студентов, принимавших его правила, потом осуждали за неспособность творить – или за то, что их работы не соответствуют их личным меркам того, что хорошо.
Теперь же с этим было покончено. Вывернув наизнанку основное правило – все, чему надо учить, сначала следует определить, – Федр нашел выход. Он не совал студентам под нос ни принципов, ни правил хорошего письма, ни теорий – но вместе с тем показывал нечто весьма реальное, чью реальность они не могли отрицать. Пустота, созданная отменой оценок, вдруг заполнилась позитивной целью, Качеством, и все встало на места. Изумленные студенты приходили к нему в кабинет и говорили: «Я раньше просто ненавидел английский. А теперь только им и занимаюсь». И не один-два – многие. Понятие Качества было прекрасно. Получилось. Качество было таинственной личной, внутренней целью каждой творческой личности. И его наконец обозначили на доске.
Оборачиваюсь – как там дела у Криса? По лицу видно – устал.
– Как ты себя чувствуешь?
– Нормально, – отвечает он, но голос злой.
– Можно когда угодно встать лагерем, – предлагаю я.
Он мечет в меня свирепый взгляд, и я больше ничего не говорю. Вскоре замечаю, как он пытается обойти меня по склону. Трудно ему – но вырывается. Идем дальше.
Со своим Качеством Федр зашел так далеко, потому что намеренно отказывался смотреть за пределы школьной аудитории. Тут уместно изречение Кромвеля: «Никто не забирается так высоко, как тот, кто не знает, куда идет»[19]. Федр не знал, куда шел. Он знал только, что у него получается.
Со временем, однако, он стал задаваться вопросом, почему у него получается – уже ведь ясно, что это иррационально. Почему работает иррациональный метод, когда все рациональные – такая дрянь? В Федре крепло интуитивное ощущение: он наткнулся отнюдь не на диковину. Тут все не так просто. А вот насколько непросто, Федр не знал.
Так началась кристаллизация, о которой я уже говорил. Окружающие недоумевали: «Чего он так переживает из-за этого «качества»?» Но видели они лишь слово и его риторический контекст. И не ведали былого отчаянья Федра от абстрактных вопросов самого существования, которые он, сдавшись, бросил.
Спроси кто угодно: что такое Качество? – это был бы просто вопрос. Но когда спрашивал он, само его прошлое разносило этот вопрос одновременно во все стороны кругами волн – то была не иерархическая структура, а концентрическая. Волны из центра пускало Качество. Пока эти волны мысли расходились, я уверен, Федр ожидал, что каждая достигнет некоего берега существующих порядков мысли и сам он вольется в эти мыслительные структуры. Но ни до какого берега ничего не докатывалось – вплоть до самого конца. Да и особого берега не возникло. Лишь вечно разбегающиеся волны кристаллизации. Я теперь как смогу попробую за ними проследить – это вторая фаза его исследования Качества.
Впереди Крис каждым своим движением показывает, как он утомился и сердится. Спотыкается, не отгибает ветви – они по нему хлещут.
Жалко это видеть. Видимо, отчасти тут виной бойскаутский лагерь, где он пробыл две недели до нашего отъезда. Из того, что он мне рассказывал, ясно: они там все эти выходы на природу превратили в сплошное выпячивание собственного «я». Докажи, что ты взрослый. Крис начал с низшего звена, и его тыкали носом: в низшем звене быть довольно позорно… первородный грех. Затем ему дали себя проявить длинной цепочкой свершений – плавать, вязать узлы… он перечислил десяток, но я их забыл.
Я уверен: если перед пацанами в лагере ставят цели «эго», они преисполняются и энтузиазмом, и духом товарищества, но в конечном счете такая мотивация разрушительна. Любое усилие с самовосхвалением в конечной точке неминуемо завершится катастрофой. И вот мы за это платим. Если взбираешься на гору, чтобы доказать, какой ты большой, вершины почти никогда не достигнешь. А если и взойдешь, победа окажется пустой. Чтобы добиться победы, придется проявлять себя вновь и вновь другими способами, опять и опять, вечно стремиться наполнять пустой образ – с неотступным страхом, что образ ложен и рано или поздно кто-нибудь это поймет. Так не годится.
Из Индии Федр написал письмо о паломничестве на святую гору Кайлас – к истоку Ганга и обители Шивы, высоко в Гималаях. Он ходил туда с одним святым и его последователями.
Федр так и не дошел до горы. На третий день он в изнеможении сдался, и паломники ушли дальше без него. Он писал, что физическая сила у него была, но ее недостаточно. Интеллектуальная мотивация тоже была, но и это не все. Он не считал себя самонадеянным, но шел в паломничество, чтобы расширить собственный опыт, достичь понимания ради себя. Он пытался использовать гору в своих интересах – да и паломничество тоже. Воображал неизменной сущностью себя – не паломничество и не гору, а потому оказался не готов. Другие паломники, размышлял он, – те, что дошли до горы, – вероятно, ощущали ее святость так сильно, что каждый шаг для них был актом преданности, покорности этой святости. Святость горы вселилась в них самих и давала им силы вынести гораздо больше того, что мог вытерпеть он, несмотря на бо́льшую физическую силу.
Со стороны эгоистическое карабканье в гору и самоотверженное восхождение кажутся одинаковыми. И те скалолазы, и другие передвигают ноги. И те, и другие вдыхают и выдыхают воздух с равной частотой. Останавливаются, когда устанут. Идут вперед, когда отдохнут. Но разница, разница! Эго-скалолаз подобен инструменту со сбитой калибровкой. Он переставляет ногу на секунду раньше или позже, чем нужно. Скорее всего, не увидит прекрасных лучей солнца, пронизывающих кроны. Он продолжает идти, даже когда небрежность шага показывает, что он устал. Отдыхает, когда не надо. Пытается разглядеть, что его ждет выше по тропе, хоть и знает, что там, ибо смотрел секунду назад. Он идет чересчур быстро или медленно, а говорит всегда о других местах, о другом. Он здесь, но его здесь нет. «Здесь» он отрицает – оно не приносит ему радости, он хочет быть где-то дальше на тропе, а когда доходит – опять несчастен, потому что это снова «здесь». Искомое, желаемое – вокруг него, но он его не желает, потому что оно – вокруг. Каждый шаг – усилие и физически, и духовно, ибо для него цель внешня и отдаленна.
Вот в чем, похоже, сейчас беда Криса.
18
Определением Качества занята целая ветвь философии. Ее называют «эстетикой». Она задает вопрос: что означает прекрасное? – и вопрос этот уходит корнями в античность. Но Федр, изучая философию, яростно открещивался от этой ветви знания. Чуть ли не нарочно провалил единственный курс по ней, на который ходил, и написал несколько рефератов, где обрушивался и на преподавателя, и на его материал с возмутительными нападками. Федр ненавидел и поносил все.
Так он относился не к одному конкретному эстетику. Ко всем вместе. Его бесила не чья-то конкретная позиция в эстетике, а то, что Качество должно подчиняться вообще какой-либо позиции. Интеллектуальный процесс порабощал Качество, проституировал его. Сдается мне, от этого Федр и злился.
В одной работе он написал: «Эти эстетики полагают, что их предмет – некая мятная карамелька, а у них привилегия обсасывать ее своими жирными губами; ее можно поглощать, можно интеллектуально разделывать, насаживать на вилку и отправлять ложкой в рот, кусок за куском, с подобающе гурманскими замечаниями, – блевать тянет. Они обсасывают гниль с того, что сами давно убили».
Вот первый шаг в процессе кристаллизации: Федр увидел, что, если Качество не метить определениями, напрочь стирается целая сфера под названием «эстетика»… лишается прав на существование… капут. Отказавшись определить Качество, Федр полностью вывел его за аналитический процесс. Не можешь определить Качество – не подчинишь его никакому интеллектуальному правилу. Эстетикам больше нечего сказать. Вся их наука – определение Качества – исчезла.
Эта мысль привела его в восторг. Будто он открыл средство от рака. Никаких больше толкований, что есть искусство. Никаких замечательных критических школ, где знатоки живут ради того, чтобы рационально определять, в чем композитор преуспел, а что ему не удалось. Всем, вплоть до распоследнего всезнайки, придется наконец заткнуться. Это уже не просто интересная мысль. Это мечта.
По-моему, в начале никто и не разглядел, на что он нацелился. Все видели интеллектуала, который пытается донести до них нечто облаченное в рациональный анализ преподавания. Никто не заметил, что цель Федра была совершенно противоположна всему, что им привычно. Он не развивал рациональный анализ. Он его блокировал. Обращал метод рациональности против него же, против своих же – в защиту иррационального понятия, неопределенной сущности, называемой Качеством.
Он писал: «(1) Каждый преподаватель английского знает, что есть Качество. (Любому преподавателю, который этого не знает, следует сей факт тщательно скрывать, ибо это непременно послужит доказательством его некомпетентности.) (2) Любой преподаватель, который полагает, будто качество письма может и должно быть определено прежде, чем его преподавать, пускай возьмет и его определит. (3) Всем, кто чувствует, что качество письма существует, но его нельзя определить, а обучать ему следует все равно, окажется полезен следующий метод обучения чистому качеству в письме – но без определения Качества».
И дальше Федр описывал некоторые методы сравнения, которые разрабатывал в классе.
Сдается мне, он надеялся, что кто-нибудь клюнет, кинется оспаривать и попробует дать определение Качества. Но никто не рискнул.
Тем не менее уже от вводного замечания: мол, неспособность определить Качество – доказательство некомпетентности – некоторые брови на отделении удивленно поползли вверх. В конце концов, Федр – младший преподаватель, никто не ждет, что он станет учить старших коллег работать.
Его право говорить, что вздумается, ценили, и старшим коллегам вроде бы пришлась по душе его независимость мышления, они поддержали его как и полагается в храме. Но, вопреки убеждениям многих противников академической свободы, храмовое отношение никогда не подразумевало, что учителю позволено болтать что ни вздумается вообще без всякой ответственности. Храм просто полагает, что ответственность должна быть перед Богом разума, а не перед идолами политической власти. Федр оскорблял людей – этот факт не имел отношения к истинности или ложности того, что́ он говорил, и сразить его за это этически было невозможно. Но его готовы были сразить – этически и со смаком – за любое отсутствие смысла. Он мог делать что угодно, пока оправдывал это с точки зрения разума.
Но черт возьми, как оправдать отказ давать определение? Определения – основа разума. Без них нельзя рассуждать. Можно некоторое время сдерживать нападки причудливыми диалектическими кренделями и оскорблениями по части компетентности и некомпетентности, но рано или поздно придется выдвигать кое-что посущественней. Попытка Федра предложить что-то существенное вызвала дальнейшую кристаллизацию за традиционными границами риторики – она уже уводила в царство философии.
Крис оборачивается, измученно глядит на меня. Уже недолго. Еще до выхода наблюдались признаки того, что это случится. ДеВиз сказал соседу, что я знаю горы, и глаза у Криса восхищенно блеснули. Вот это да! Скоро он выдохнется, тогда и остановимся на ночевку.
О-оп! Вот так. Упал. Не встает. На редкость аккуратно упал, не очень случайно. Вот смотрит на меня с болью и злостью, думает, буду осуждать. А я нет. Сажусь рядом и вижу, что он почти сдался.
– Ну, – говорю я, – можем остановиться здесь. Или идти дальше. Или вернуться. Чего ты хочешь?
– Все равно, – говорит он. – Не хочу…
– Чего не хочешь?
– Мне все равно! – зло бросает он.
– Ну, раз тебе все равно, идем дальше. – Я поймал его на слове.
– Мне не нравится этот поход, – говорит он. – Неинтересно. Я думал, будет интересно.
Злость и меня чуть не застает врасплох.
– Может и так, – отвечаю я, – но ты б лучше подумал, прежде чем такое говорить.
Страх мелькает у него в глазах, и он поднимается.
Идем дальше.
Небо над другой стеной ущелья затягивает тучами, а ветер в соснах становится холодным и зловещим.
По холоду идти хотя бы легче…
Я говорил о первой волне кристаллизации за пределами риторики, которая пошла с отказа Федра определять Качество. Следовало ответить на вопрос: если не можешь его определить, откуда ты знаешь, что оно есть?
Федр взял старый ответ – его дала философская школа, называемая реализм. «Нечто существует, – говорилось в нем, – если мир без него не может нормально функционировать. Если мы способны показать, что мир без Качества функционирует ненормально, мы тем самым покажем, что Качество есть, определено оно или нет». И Федр принялся вычитать Качество из описания известного нам мира.
Первой жертвой подобного вычитания, говорил он, падут изобразительные искусства. Если в искусстве не можешь отличить плохое от хорошего, искусство исчезает. Нет смысла вешать на стену картину, если голая стена тоже смотрится неплохо. Нет смысла в симфониях, когда шорох царапин пластинки или гудение проигрывателя тоже ничего звучит.
Исчезнет поэзия: смысл в ней бывает далеко не всегда, а практической ценности никакой. Интересно, что пропадет комедия. Все перестанут понимать шутки, поскольку разница между чувством юмора и его отсутствием – Качество в чистом виде.
Затем исчез спорт. Футбол, бейсбол, всевозможные игры – испарятся. Счет больше не будет осмысленным мерилом, останется пустой статистикой, как количество камней в куче гравия. Кто будет ходить на матчи? Кто будет играть?
Потом он вычел Качество из системы рыночных отношений и предсказал грядущие перемены. Поскольку качество вкуса смысла иметь не будет, в магазинах останутся лишь самые основные крупы – рис, например, кукурузная и прочая мука и соевые бобы; возможно, какое-нибудь неопределенное мясо, молоко для грудных детей, а также витаминные и минеральные добавки для восполнения недостатка в питательных веществах. Алкогольные напитки, чай, кофе и табак пропадут. Равно как танцы, кино, театры и вечеринки. Все будем ездить общественным транспортом. Все будем носить армейские сапоги.
Очень многие останутся без работы, но это скорее всего временно – пока не переориентируемся на рудиментарный труд без Качества. Прикладная наука и техника изменятся в корне, а вот чистая наука, математика, философия и особенно логика изменений не претерпят.
Вот это последнее до крайности заинтересовало Федра. Чисто интеллектуальные занятия менее всего пострадают от вычитания Качества. Откажешься от Качества – неизменной останется лишь рациональность. Странное дело. С чего бы?
Федр не знал, но понимал вот что: если вычесть Качество из картины известного нам мира, понятие это окажется велико и важно – он поначалу и не подозревал, насколько велико и важно. Мир может функционировать без Качества, но жизнь будет так скучна, что хоть вообще не живи. Да и не стоит. Слово стоить – понятие Качества. Жизнь просто будет проживаться без ценностей и без целей.
Он оглянулся: вот куда завела его эта линия мысли, – и решил, что еще как доказал свою точку зрения. Раз очевидно, что мир без Качества нормально не функционирует, Качество есть, определено оно или нет.
Вызвав это видение мира без Качества, Федр вскоре обратил внимание: он же читал о похожих социальных раскладах. На ум пришли Древняя Спарта, коммунистическая Россия и ее сателлиты. Красный Китай, «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Да Федр и сам встречал людей, которые только радовались бы этому миру без Качества. Например, те, кто заставлял его бросить курить. Они требовали от него рациональных причин: почему он курит? А когда таковых не отыскивалось, вели себя очень надменно, будто он перед ними опозорился. Им подавай причины, планы и решения для всего. Сородичи его. Вот на кого он сейчас нападает. И Федр долго шарил в поисках подходящего имени, которое полностью бы их характеризовало, – лишь бы как-то постичь этот мир без Качества.
В первую очередь, мир этот интеллектуален, но покоится не на одной разумности. Еще есть некое подспудное мировосприятие, отношение к тому, каков этот мир, – презумптивное видение того, что он работает по законам, разумно, а совершенствуется человек главным образом через открытие этих законов разума и применение их к удовлетворению собственных желаний. Эта вера все и связывает. Сощурившись, Федр поразглядывал картину такого мира без Качества, проработал некоторые детали, подумал, затем поглядел еще немного и еще немного подумал – и наконец, вернулся к тому, с чего начал.
Квадратность.
Вот этот взгляд. Вот полное описание. Квадратность. Вычитаешь Качество – получаешь квадратность. Отсутствие Качества – суть квадратности.
Федр вспомнил своих приятелей-художников, с которыми как-то путешествовал по Штатам. Те были неграми и все время сетовали на эту Бескачественность, которую он описывал. Квадратный. Их слово. Тогда его еще не подхватили СМИ, не запустили в национальное употребление белыми, а приятели Федра уже называли интеллектуальное барахло квадратным и не хотели иметь с ним ничего общего. И у них с Федром в разговорах и отношениях воцарилась фантастическая мешанина: он служил первоклассным примером этой квадратности. Чем упорнее он пытался их на чем-то подловить, тем туманнее они изъяснялись. А теперь у него это Качество – и он сам, похоже, говорит то же самое и так же смутно, хотя оно жестко, ясно и плотно, как любая рационально определенная сущность, с которой он когда-либо имел дело.
Качество. Вот о чем они все время говорили. Федр вспомнил, как один его приятель сказал: «Чувак, ты уж будь добр, врубись, а эти свои чудненькие семидолларовые вопросы придержи, а? Если все время спрашивать, что это, не хватит никакого времени узнать». Душа. Качество. Одно и то же?
Волна кристаллизации катила дальше. Федр видел сразу два мира. С интеллектуальной – квадратной – стороны он теперь понимал: Качество – термин разъединения. Его ищет каждый интеллектуал-аналитик. Берешь аналитический нож, суешь кончиком прямо в понятие «Качество», постукиваешь – не сильно, легонько, – и весь мир раскалывается, расщепляется ровно на две части: хипповый и квадратный, классический и романтический, технический и гуманитарный. Раскол чистый. Нет путаницы. Нет грязи. Нигде ни малейшей двусмысленности – может, так, а может, и эдак. Не просто умелый разлом, а очень удачный разлом. Иногда и лучшие аналитики, ведя пальцем по самым очевидным линиям раскола, постукают так, что лишь куча мусора останется. Однако вот оно, Качество; крошечная, едва заметная линия дефекта; трещинка алогичного в нашем понятии вселенной; а постукал по ней – и вселенная распалась, да так аккуратно, что почти не верится. Был бы жив Кант. Старик бы оценил. Искусный гранильщик алмазов. Он бы увидел. Не определять Качество. Вот в чем секрет.
У Федра забрезжила мысль: он, видимо, занимается неким интеллектуальным самоубийством. Он писал: «Квадратность можно сжато и в то же время исчерпывающе определить как неспособность видеть качество до того, как оно интеллектуально определено, то есть изрублено на слова… Мы доказали, что качество, хоть и не определенное, есть; его существование можно эмпирически удостоверить в классе и продемонстрировать логически – показать, что без него мир не может существовать в известном нам виде. Остается убедиться, проанализировать не качество, а странные привычки мышления, называемые «квадратностью», которые иногда мешают нам его видеть».
Вот так тщился он отразить нападение. Предметом анализа, пациентом на столе, было уже не Качество, а сам анализ. Качество здорово и в хорошей форме. Это с анализом что-то не то, раз он не видит очевидного.
Оглядываюсь: Крис сильно отстал.
– Пошли! – кричу я.
Не отвечает.
– Пойдем же! – кричу я снова.
Он заваливается на бок и садится в траву на склоне. Я оставляю рюкзак и спускаюсь. Склон так крут, что приходится слезать боком. Когда я подхожу, Крис плачет.
– Я ногу подвернул, – говорит он и не смотрит на меня.
Когда эго-скалолазу надо оберегать собственный образ, он, естественно, лжет. Но видеть такое отвратительно, и мне стыдно, что я это допустил. Мне уже не хочется идти дальше – желание разъели его слезы, я заразился его внутренним поражением. Сажусь, свыкаюсь с этой мыслью, не отбрасывая ее, поднимаю рюкзак Криса и говорю:
– Я понесу рюкзаки по очереди. Сейчас этот подниму туда, где лежит мой, а ты останешься там ждать, чтоб мы его не потеряли. Свой отнесу дальше и вернусь за твоим. Так ты отдохнешь. Будет медленнее, но дойдем.
Однако я поторопился. В моем голосе еще звучат отвращение и негодование – Крис это слышит, и ему стыдно. Видно, что он злится, но ничего не говорит – боится, что снова придется взваливать на себя рюкзак; он лишь хмурится и не обращает на меня внимания, пока я перетаскиваю рюкзаки наверх. Теперь надо таскать за двоих, но досаду я вытесняю, осознав, что на самом деле работы не больше, чем раньше. Работа бывает лишней только в смысле достижения вершины, а это у нас цель номинальная. В смысле же подлинной цели это нескольких лишних хороших минут, тик-так – выходит то же самое; и даже лучше. Медленно карабкаемся вверх, негодование испаряется.
Следующий час мы медленно перемещаемся все выше и выше; я по очереди переношу рюкзаки к истоку ручейка, который давно заметил. Посылаю Криса принести воды в котелке; он уходит. Вернувшись, спрашивает:
– Почему мы остановились? Пошли дальше.
– Это, наверное, последний ручей, Крис, дальше их долго не будет. К тому же я устал.
– А почему ты устал?
Он хочет разозлить меня? Удалось.
– Я устал, Крис, потому что несу рюкзаки. Если ты спешишь, бери рюкзак и иди вперед. Я догоню.
У него в глазах снова проблеск страха. Потом Крис садится.
– Мне это все не нравится, – произносит он почти в слезах. – Ненавижу. Жалко, что пошел. Зачем мы вообще сюда поперлись? – Он плачет. И сильно.
Я отвечаю:
– Ты и меня заставляешь об этом пожалеть. Лучше съешь что-нибудь.
– Ничего я не хочу. У меня живот болит.
– Как угодно.
Он отходит, срывает травинку и сует в рот. Потом садится, уронив голову на руки. Я готовлю себе обед, ложусь отдохнуть.
Когда я просыпаюсь, он по-прежнему плачет. Некуда уйти ни мне, ни ему. Делать нечего, придется лечить ситуацию. Но честное слово, я не знаю, какова она, эта ситуация.
– Крис, – наконец говорю я.
Не отвечает. Я повторяю:
– Крис.
По-прежнему нет ответа. Наконец он агрессивно произносит:
– Чего?
– Я хотел тебе сказать, Крис, – не нужно ничего мне доказывать. Понимаешь?
Его лицо озаряет вспышка подлинного ужаса. Он яростно дергает головой. Я говорю:
– Ты не понимаешь, о чем я, да?
Он все так же не смотрит на меня и не отвечает. В соснах стонет ветер.
Ну, я не знаю. Просто не знаю, что это. Не только угроза бойскаутскому самомнению так его расстраивает. На нем плохо отражается какая-то мелочь, и это конец света. Пытается что-то сделать, не выходит – и тут же взрыв или слезы.
Я ложусь на траву, отдыхаю еще. Может, мы оба сдаемся, потому что нет ответов. Я не хочу идти вперед: впереди, похоже, ответов тоже нет. И позади нет. Просто боковой дрейф. Вот что между нами. Дрейфуем вбок, ждем чего-то.
Позже я слышу, как он шарит в рюкзаке. Я переворачиваюсь, а он зло смотрит на меня.
– Где сыр? – спрашивает он. По-прежнему агрессивно.
Но я не поддамся.
– Угощайся сам, – говорю я. – Обслуживать тебя не собираюсь.
Роется в мешке, находит сыр и крекеры. Я протягиваю ему охотничий нож – намазать сыр.
– Я думаю, Крис, нужно сделать так: я положу все тяжелое к себе, а легкое – тебе. Так не придется ходить туда-сюда с двумя рюкзаками.
Он согласен, настроение улучшается. Кажется, для него этим что-то решилось.
Мой рюкзак теперь, должно быть, фунтов сорок – сорок пять, и через некоторое время устанавливается равновесие: где-то вздох на шаг.
Мы подходим к подъему еще круче, и оно меняется: уже два вздоха на шаг. На каком-то участке склона доходит до четырех. Огромные шаги, почти вертикальные, надо цепляться за корни и ветки. Вот дурак – надо было предвидеть. Вот и пригодились осиновые палки – с палкой Крису идти интереснее. С тяжелым рюкзаком шагаешь неустойчиво, а посох не дает опрокинуться. Ставишь ногу, ставишь посох, РЫВКОМ подтягиваешься вверх, делаешь три вдоха, ставишь другую ногу, ставишь посох, РЫВОК вверх…
Не знаю, хватит ли меня еще на шатокуа. Обычно днем, примерно в это время у меня путаются мысли… ладно, еще один обзор, и на сегодня довольно…
Давным-давно, когда мы только начинали это странное путешествие, я говорил, что Джон и Сильвия вроде как бегут от некой таинственной силы смерти, которая для них воплощена в технике, – и таких, как они, много. Говорил я и о том, что кое-кто из «технарей» тоже вроде стремится ее избежать. Внутренняя причина такой беды вот в чем: они рассматривают технику из некоего «оттяжного измерения», где главное – видимость, а меня больше заботит внутренняя форма. Стиль Джона я назвал романтическим, свой – классическим. На жаргоне шестидесятых, его был «хипповый», мой – «квадратный». После чего мы углубились в этот квадратный мир, чтоб разобраться, как он работает. Говорили о данных, классификациях, иерархиях, причинах-следствиях и анализе – и где-то по ходу завязался разговор про горсть песка – сознаваемый нами мир, – взятую из бескрайнего пейзажа осознания. Я сказал, что с этой пригоршней начинает работать процесс различения – который и делит ее на части. Классическое, квадратное понимание касается кучек песка, природы песчинок и основы для их сортировки и взаимосвязей.
Отказ Федра определять Качество через эту аналогию был попыткой сломать хватку классического способа просеивать песок, попыткой отыскать точку общего понимания между классическим и романтическим мирами. Такой точкой вроде бы и стало Качество, элемент раскола между хипповым и квадратным. Оба мира пользуются этим понятием. Оба знают, что это такое. Разница лишь в том, что романтический его не трогает и ценит как есть; классический же старается превратить в набор интеллектуальных кубиков для строительства чего-то другого. А когда определение заблокировано, классический ум вынужден рассматривать Качество романтически – не искаженным мыслительными структурами.
Я сильно раздуваю эти классико-романтические различия, а Федр нет. Его не интересовали сплавы различий между двумя этими мирами. Он искал другого – свой призрак. И в погоне за ним достигал более широких значений Качества, а те увлекали его дальше и дальше, до самого конца. Но у меня-то нет ни малейшего намерения доходить до этого конца. Федр лишь прошел по этой территории – и раскрыл ее. Я намерен здесь остаться, возделывать ее и смотреть, не вырастет ли чего.
Думаю, референтом этого понятия, способного расколоть мир на хипповый и квадратный, классический и романтический, технический и гуманитарный, является сущность, что способна воссоединить мир, уже расколотый по этим линиям. Подлинное понимание Качества не просто служит Системе, не побеждает ее, даже не бежит от нее. Подлинное понимание Качества пленяет Систему, укрощает ее и заставляет приносить кому-то личную пользу, а этот кто-то меж тем совершенно свободен следовать своей внутренней судьбе.
Мы уже высоко на стене ущелья, можно оглянуться и посмотреть вниз на другую сторону. Такая же отвесная, как эта: темная подстилка черно-зеленоватых сосен до самого хребта. Визированием можно измерить, сколько прошли, надо только прикинуть азимутальный угол.
Сдается мне, разговоров о Качестве на сегодня хватит, и слава богу. Я не против Качества, просто классические разговоры о нем – не оно само. Качество – лишь точка, а вокруг нее двигают всякую интеллектуальную мебель.
Останавливаемся передохнуть и смотрим вниз. Настроение у Криса получше, но я боюсь, что это снова играет его «я».
– Смотри, как много мы прошли, – говорит он.
– А идти нам еще дальше.
Потом Крис орет – слушает эхо, – и швыряет вниз камни – смотрит, куда упадут. Уже почти самонадеян, поэтому я подстегиваю темп ходьбы, дышу раза в полтора чаще прежнего. Это его несколько отрезвляет, и мы лезем дальше.
Около трех часов дня ноги у меня становятся резиновыми, пора останавливаться. Я не в лучшей форме. Если с таким резиновым ощущением идти дальше, потянешь мышцы, и назавтра будет мука смертная.
Выходим на плоское место – из склона выпирает бугор. Я говорю Крису, что на сегодня все. Он вроде доволен и весел; может, сегодня я с ним чего-то и достиг.
Я готов вздремнуть, но в ущелье собрались тучи – видимо, к дождю. Они так набили собой ущелье, что не видно дна, а хребет напротив проглядывает еле-еле.
Открываю рюкзаки, вытаскиваю части палатки, армейские плащи, пристегиваю их друг к другу. Беру веревку и натягиваю между деревьев, потом набрасываю на нее половинки укрытия. Из стволов кустарника вырезаю колышки, вбиваю, плоским концом мачете выкапываю неглубокую канавку вокруг палатки – отводить дождевую воду. Едва успеваем затащить все внутрь, падают первые капли.
Крис дождю рад. Мы растягиваемся на спальниках, смотрим, как льет, и слушаем глухой стук по палатке. Лес – как в дымке, мы оба впадаем в созерцательность и наблюдаем, как листочки вздрагивают от капель, – и сами вздрагиваем, когда грохочет гром; но мы довольны – вокруг мокро, а мы сухие.
Немного погодя лезу в рюкзак за книжкой Торо, выуживаю и щурюсь, чтобы почитать Крису при сером свете дождя. По-моему, я уже объяснял: раньше мы так читали и другие книги, «серьезные», сам бы он в них не разобрался. Делается так – я читаю фразу, он встревает с длинной серией вопросов, а когда его любопытство удовлетворено, я читаю следующую.
Мы так читаем Торо, но через полчаса я, к своему удивлению и разочарованию, соображаю: Торо не доходит. Крис отвлекается, я тоже. Структура языка не годится для горного леса вокруг нас. Такое ощущение, по крайней мере. Книга кажется ручной и запертой в темницу – никогда б не подумал так о Торо, а вот поди ж ты. Он разговаривает с другой ситуацией, с другим временем, открывает для себя лишь зло техники, а не решение его. Он не с нами говорит. Я неохотно убираю книгу на место, и мы оба молчим и размышляем. Только Крис, я, лес и дождь. Никакие книги уже не могут вести нас за собой.
Котелки, выставленные наружу, наполняются водой, а когда набирается достаточно, мы сливаем ее в один, добавляем кубики куриного бульона и варим на маленькой печке «Стерно». Как любая еда или питье после трудного подъема в горы, бульон – вкусный.
Крис говорит:
– А с тобой ходить в поход лучше, чем с Сазерлендами.
– Обстоятельства другие, – отвечаю я.
Допиваем бульон, я достаю банку свинины с бобами и вываливаю ее в котелок. Разогревается она долго, но нам торопиться некуда.
– Вкусно пахнет, – говорит Крис.
Дождь перестал, лишь случайные капли стучат по палатке.
– Наверное, завтра будет солнце, – говорю я.
Мы передаем друг другу котелок, отъедая с разных сторон.
– Пап, о чем ты все время думаешь? Ты всегда все время думаешь.
– Ох-х-х-х… обо всем.
– О чем?
– Ну-у… о дожде, обо всяких возможных гадостях, обо всем.
– О чем – всем?
– Например, как тебе будет, когда ты вырастешь.
Ему интересно:
– А как будет?
Но в его глазах зажигается огонек эгоизма, поэтому ответ выходит замаскированный:
– Не знаю, – говорю я. – Я об этом думаю, и все.
– А завтра мы дойдем до вершины?
– Конечно, не так уж много осталось.
– Утром?
– Думаю, да.
Потом он засыпает, и влажный ночной ветер слетает с хребта, а от него вздыхают сосны. С ним вместе плавно качаются контуры древесных верхушек. Подаются и возвращаются на место, потом опять со вздохом гнутся и выпрямляются – их беспокоят силы, что вне их природы. Бок палатки трепещет от ветра. Я встаю и укрепляю плащ колышком, потом немного брожу по влажной пружинящей траве, заползаю обратно в палатку и жду, когда придет сон.
19
Хвойная подстилка у самого носа, освещенная солнцем, медленно подсказывает, где я, и сон рассеивается.
Во сне я стоял в комнате, выкрашенной белым, и смотрел на стеклянную дверь. С другой стороны были Крис, его брат и мама. Крис махал мне из-за двери, а брат улыбался, но у его матери в глазах стояли слезы. Потом я заметил, что улыбается Крис стыло и натянуто – на самом деле он сильно испуган.
Я шагнул к двери, и его улыбка потеплела. Он показал, чтобы я открыл дверь. Я уже почти собрался – но не открыл. Страх возвратился, но я отвернулся и ушел.
Этот сон мне раньше снился часто. Его смысл очевиден, он под стать моим вчерашним мыслям. Крис пытается установить со мной связь и боится, что не получится. Здесь, наверху, все гораздо яснее.
За пологом палатки от хвои к солнцу уже тянутся пары тумана. Воздух влажен и прохладен, и пока Крис спит, я осторожно выбираюсь, распрямляюсь и потягиваюсь.
Ноги и спина одеревенели, но не болят. Несколько минут я делаю гимнастику, чтоб их растормошить, затем резко рву бегом с бугра к соснам. Так-то лучше.
Хвойный запах сейчас густ и влажен. Сажусь на корточки и смотрю сверху на утренний туман в ущелье.
Потом возвращаюсь к палатке; изнутри доносится шорох – значит, Крис проснулся, – и когда я заглядываю туда, он сидит и молча озирается. Просыпается он долго, лишь минут через пять мозги у него прогреются, и он заговорит. Пока же просто щурится на свет.
– Доброе утро, – говорю я.
Нет ответа. С сосны падают несколько капель.
– Хорошо поспал?
– Нет.
– Жалко.
– Почему ты так рано встал? – спрашивает он.
– Уже не рано.
– Сколько?
– Девять, – отвечаю я.
– Мы часов до трех, наверно, не спали.
До трех? Если он не спал, ему сегодня придется туго.
– Ну, я, например, спал, – говорю я.
Он странно смотрит на меня:
– Ты мне спать не давал.
– Я?
– Разговаривал.
– В смысле – во сне?
– Нет, про гору!
Тут что-то не так.
– Я ничего не знаю про гору, Крис.
– Ну, ты про нее всю ночь говорил. Сказал, что на вершине горы мы увидим все. Сказал, что мы с тобой там встретимся.
Мне кажется, ему приснилось.
– Как же мы можем с тобой там встретиться, если мы уже вместе?
– Не знаю. Это ты сказал. – Вроде как расстроен. – Ты говорил, как будто пьяный.
Он еще не совсем проснулся. Пусть лучше просыпается себе мирно. Но я хочу пить – и тут вспоминаю, что канистру мы не взяли, рассчитывая, что воду найдем по пути. Тупица. Теперь завтрака не будет, пока не перевалим хребет и не спустимся на другую сторону до ручьев.
– Собираемся, идем, – говорю я, – если хотим найти воду для завтрака. – Снаружи потеплело, а днем, видимо, и жарко будет.
Палатка сворачивается легко, я доволен, что ничего не намокло. Через полчаса все упаковано. Только трава чуть прибита, а в остальном тут как будто и не было никого.
Предстоит еще много карабкаться, но, выйдя на тропу, мы понимаем, что сегодня уже легче. Выбираемся на пологий верх хребта, склоны тут не так круты. Сосны, похоже, здесь никогда не рубили. Солнечный свет до земли не доходит, подлеска никакого. Лишь пружинящий хвойный пол – открытый, просторный, по нему легко ходить…
Пора продолжать шатокуа: вторая волна кристаллизации, метафизическая.
В ответ на бессвязную болтовню Федра о Качестве бозменские преподаватели английского, проинформированные о собственной квадратности, задали ему закономерный вопрос: «Есть ли это ваше неопределенное «качество» в том, что мы наблюдаем? Или же оно субъективно и существует лишь в наблюдателе?» Простой, вполне нормальный вопрос, и с ответом его никто не торопил.
Ха. Тут и не поторопишься. Сокрушающий удар, сбивающий наземь, нокаут, перо под ребра – не оправишься.
Ибо если Качество существует объективно, нужно объяснить, почему это научные инструменты не способны его обнаружить. Надо предложить такие инструменты, которые его найдут, – ну или сжиться с объяснением: инструменты его не засекают, поскольку вся твоя концепция Качества, как бы это повежливее, просто большая куча белиберды.
С другой стороны, если оно субъективно и существует лишь в наблюдателе, это Качество, из которого ты делаешь такого большого слона, – всего лишь хитрое название для чего угодно.
Отделение английского в колледже штата Монтана предъявило Федру древнюю логическую конструкцию, известную как дилемма. Дилемма – «две посылки» по-гречески – уподоблялась передней части разъяренного нападающего быка.
Если Федр принимал посылку, что Качество объективно, он насаживался на один рог дилеммы. Если принимал другую посылку, что Качество субъективно, – насаживался на другой. Качество либо объективно, либо субъективно, стало быть, Федр повисает на рогах независимо от ответа.
Он заметил, что некоторые преподаватели одаривают его добродушными улыбками.
Тем не менее Федр был натаскан в логике и сознавал: каждая дилемма позволяет не два, но три классических опровержения. Также он знал несколько не столь классических, а потому в ответ тоже улыбался. Он мог взяться за левый рог и опровергнуть идею, что объективность подразумевает научное обнаружение. Или же взяться за правый рог и опровергнуть идею, что субъективность подразумевает «что угодно». Или пойти между рогов и отрицать, что субъективность и объективность – единственный выбор. Будьте надежны, он испробовал все три.
Помимо трех классических есть несколько алогических, «риторических» опровержений. Будучи ритором, Федр их тоже имел под рукой.
Швырнуть быку в глаза песком. Федр уже так делал, утверждая, что недостаток представления о Качестве есть признак некомпетентности. Старое правило логики: компетентность говорящего не имеет отношения к истинности того, что он утверждает, поэтому весь разговор о некомпетентности – чистый песок. Величайший дурак в мире может сказать, что светит солнце, но солнце от этого не погаснет. Сократ, древний враг риторического спора, за это размазал бы Федра по стене, сказав: «Да, я принимаю вашу посылку, что в Качестве я некомпетентен. А теперь будьте любезны, покажите некомпетентному старику, что же такое Качество. Иначе как мне стать лучше?» Федру бы дали потомиться на медленном огне, а затем его бы расплющили вопросами и тем самым доказали бы: он тоже не знает, что такое Качество. Стало быть, по его же меркам, тоже некомпетентен.
Попытаться убаюкать быка. Федр мог бы сказать своим допросчикам, что ответ на эту дилемму – за пределами его скромных способностей, решить он ничего не может, но тот факт, что он не способен отыскать ответ, логически не доказывает, что ответа нет. У них опыта побольше, вот пусть и помогут ему найти ответ, а? Но колыбельные петь уже поздно. Ему бы просто ответили: «Не-ет, мы слишком квадратные. Пока не придумаешь ответ, держись, пожалуйста, программы, чтоб нам не пришлось проваливать твоих замороченных студентов, когда они придут к нам в следующей четверти».
Третья риторическая альтернатива дилемме – и, по-моему, наилучшая – отказаться выходить на арену. Федр мог просто сказать: «Попытка классифицировать Качество как субъективное или объективное есть попытка его определить. А я уже сказал, что оно неопределимо», – и тему не развивать. Полагаю, именно так ему в свое время советовал поступить ДеВиз.
Не знаю, почему Федр пренебрег этим советом и предпочел отвечать на дилемму логически и диалектически, – убежать в мистику было легче. Но могу предполагать. Во-первых, сдается мне, он считал, что весь Храм Разума нерушимо воздвигся на арене логики, и если ты выведешь себя за границы логические дебаты, академики на тебя и не взглянут. Философский мистицизм – мысль о том, что истина неопределима и постижима лишь нерациональными средствами, – существовал с начала истории. Это основа дзэнской практики. Но не академический предмет. Академия, Храм Разума занимается лишь тем, что можно определить, а если хочешь быть мистиком, твое место в монастыре, а не в университете. В университетах все надо раскладывать по полочкам.
Мне кажется, Федр вышел на арену и по эгоистическим соображениям. Федр считал себя довольно умелым логиком и диалектиком, гордился этим, а дилемма о Качестве бросала вызов его навыкам. Я теперь думаю, что эти крупицы эготизма и стали началом всех его бед.
Впереди, ярдах в двухстах от нас, и чуть выше в соснах идет олень. Показываю Крису, но когда тот поднимает голову, олень уже ушел.
Первый рог дилеммы Федра был таков: если Качество существует в вещи, почему научные инструменты не могут его обнаружить?
Подлый рог. Федр с первого взгляда понял, как этот рог смертоносен. Объявив себя сверхученым, способным различать Качество, которое не могут засечь другие ученые, лишь подтвердишь, что ты псих, дурак или и то и другое. В сегодняшнем мире идеи, несовместимые с научным знанием, не летают.
Федр вспомнил утверждение Локка, что ни одна вещь – научная или иная – не познаваема, кроме как по ее качествам. Эта неоспоримая истина вроде бы подсказывала, что рациональные ученые не способны обнаружить Качество в вещах, поскольку засекают в них только Качество. «Вещь» – интеллектуальный конструкт, дедуктивно выведенный из качеств. Такой ответ – если он правомерен, – конечно, вдребезги разносит первый рог дилеммы, и некоторое время он сильно радовал Федра.
Но оказалось, что он ложен. Качество, наблюдавшееся Федром и его студентами в классе, совершенно отличалось от качеств цвета, теплоты или твердости, наблюдаемых в лаборатории. Физические свойства можно измерить инструментами. Его Качество – «совершенство», «ценность», «благо» – не есть физическое свойство, и измерить его нельзя. Федра смутила двусмысленность понятия качество. Он спросил себя, зачем такая двусмысленность нужна, сделал мысленную заметку покопаться в исторических корнях слова качество, после чего занялся другим. Рог дилеммы никуда не делся.
Федр обратился к другому рогу – тот казался более многообещающим в смысле опровержения. Значит, Качество – просто что угодно? Досадно. Великие художники истории – Рафаэль, Бетховен, Микеланджело – все они просто выдавали то, что было угодно народу. У них не было иных целей – только пощекотать чувства по-крупному, так, что ли? Зла не хватает; а больше всего злит, что Федр не видит, как это логически препарировать. И он принялся тщательно изучать это утверждение – так же, как всегда изучал предмет, прежде чем на него нападать.
И увидел. Вытащил нож и вырезал всего одно слово, от которого фраза так его злила. Слово было – «просто». Почему Качество должно быть просто тем, что угодно? Почему «что угодно» должно быть «просто»? Что это «просто» в данном случае значит? Рассмотрев фразу независимо, Федр ясно понял, что на самом деле «просто» в данном случае ни черта не значит. Чисто уничижительный термин, с нулевым логическим вкладом во фразу. Теперь, без этого слова, она стала такой: «Качество – что угодно», – и ее значение совершенно поменялось. Фраза стала безобидным трюизмом.
Интересно, подумал Федр, почему она так злила его поначалу. Такая вроде бы естественная. Почему столько времени ушло на то, чтобы понять: на самом деле она утверждала «То, что тебе угодно, – плохо или по крайней мере неуместно»? Что стояло за наглым предположением: то, что тебе нравится, – плохо или по крайней мере не важно в сравнении с чем-то другим? Это же квинтэссенция квадратности, с которой он боролся. Маленьких детей учат не делать «только того, что им угодно», а делать… что?.. Ну конечно! То, что угодно другим. А кому – другим? Родителям, учителям, руководству, полиции, судьям, чиновникам, королям, диктаторам. Любой власти. Если обучен презирать «только то, что тебе угодно» – разумеется, станешь послушным слугой, хорошим рабом. Когда научишься не делать «только того, что тебе угодно», Система тебя возлюбит.
Но предположим, ты делаешь только то, что тебе угодно. Значит ли это, что ты непременно пойдешь двигаться героином, грабить банки и насиловать престарелых дам? Советуя не делать «только того, что тебе угодно», человек сообщает нечто примечательное о том, что может быть угодно ему самому. Похоже, он не сознает: банки грабить не обязательно, ибо люди рассмотрели последствия и решили, что им это не угодно. Он не видит, что банки существуют главным образом потому, что «угодны людям» – к примеру, дают ссуды. Непонятно, с чего это все считают, будто анафема «тому, что тебе угодно» – такой уж легитимный аргумент.
Вскоре Федру открылось и нечто большее. Когда говорят: «Не делай только того, что тебе угодно», – не просто имеют в виду: «Подчиняйся власти». Имеют в виду кое-что еще.
Это «кое-что еще» явилось Федру просторами классического научного убеждения: «то, что тебе угодно» – не важно, поскольку состоит из твоих иррациональных эмоций. Он долго изучал этот довод, а затем разрезал его на две группы поменьше и назвал их научным материализмом и классическим формализмом. Эта парочка часто обнаруживается в одном человеке, сказал он, хотя логически они раздельны.
Научный материализм, распространенный больше среди непрофессиональных последователей науки, чем среди самих ученых, утверждает: все состоящее из материи или энергии и измеряемое инструментами науки – реально. Все прочее – нереально или по крайней мере не важно. «То, что тебе угодно» не может быть измерено, стало быть, оно нереально. «То, что тебе угодно» может быть фактом, а может – галлюцинацией. Угодность их не различает. Научный метод для того и существует, чтобы правомерно различать в природе истинное и фальшивое, исключать субъективные, нереальные, воображаемые элементы, добиваться объективной, истинной картины реальности. Когда Федр сказал, что Качество субъективно, все просто услышали, что Качество – воображаемо, а значит, если рассматривать реальность всерьез, его можно игнорировать.
С другой стороны, есть классический формализм, и он настаивает, что не понятое интеллектом не понято вообще. Качество не важно, поскольку оно – эмоциональное понятие и не постигается интеллектуальными составляющими разума.
Из этих двух основных источников словечка «просто», полагал Федр, первый – научный материализм – гораздо легче разделать как бог черепаху. По своему прежнему образованию он знал, что материализм – наука наивная. За него он и взялся для начала, пользуясь reductio ad absurdum. Такая аргументация покоится на истине, что, если неизбежные выводы из набора посылок абсурдны, логически следует, что по крайней мере одна посылка абсурдна. Давайте рассмотрим, сказал Федр, что́ следует из допущения, будто любое нечто, не состоящее из массы-энергии, не реально или не важно.
Для затравки он взял число ноль. Это, первоначально индийское число, в Средние века принесли на Запад арабы. Древние греки и римляне его не знали. Это как? – спросил Федр. Неужто природа так хитро спрятала ноль, что все греки и все римляне – миллионы – не могли его отыскать? Ведь казалось бы, вот он, ноль, перед носом, на виду. Федр показал, насколько абсурдны попытки вывести ноль из любой формы массы-энергии, а потом риторически спросил: означает ли это, что число ноль «ненаучно»? Если так, значит ли это, что цифровые компьютеры, которые работают только с единицами и нолями, для научной работы надо перевести на одни единицы? Абсурд налицо.
Затем Федр перешел к другим научным представлениям – брал их одно за другим и показывал, что они никак не могут существовать независимо от субъективного рассмотрения. Закончилось все законом тяготения – тем примером, который я привел Джону, Сильвии и Крису в первый вечер путешествия. Если субъективность исключить как не имеющую значения, сказал Федр, вместе с ней придется исключать и всю науку.
Это опровержение научного материализма, тем не менее, вроде как перевело его в лагерь философского идеализма – к Беркли, Юму, Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю, Брэдли, Босанкету[20]. Хорошая компания, логичная до последней запятой, но ее настолько трудно оправдать на языке «здравого смысла», что при защите Качества все они могли только повредить Федру. Довод «весь мир – в уме» может быть прочной логической позицией, но для риторики не годится. Слишком скучен и труден для начального курса по композиции. Слишком «притянут за уши».
Субъективный рог дилеммы вдохновлял не больше объективного. А стоило присмотреться к доводам классического формализма, все стало только хуже. Крайне мощные доводы типа: нельзя поддаваться непосредственным эмоциональным импульсам, не рассмотрев всю рациональную картину.
Детям говорят: «Не трать все карманные деньги на жевательную резинку [непосредственный эмоциональный импульс] – потом тебе захочется купить что-нибудь еще [рациональная картина]». Взрослым говорят: «Может, эта бумажная фабрика ужасно воняет даже при лучших очистных сооружениях [непосредственные эмоции], но без нее рухнет экономика всего города [рациональная картина]». Посредством нашей старой дихотомии вообще-то говорится вот что: «Не решайте ничего по приятной романтической видимости, не рассмотрев внутренней классической формы». С этим Федр вроде бы соглашался.
Под возражением «Качество – просто что угодно» классические формалисты подразумевали: то субъективное неопределенное «качество», которому учил Федр, – лишь приятная романтическая наружность. Ну да, конкурс популярности в классе может определить, привлекательно ли сочинение, но Качество ли это? Качество «просто видишь»? Или оно тоньше – настолько тоньше, что сразу не разглядишь и нужно очень долго вглядываться?
Чем больше Федр рассматривал этот довод, тем солиднее тот ему казался. Похоже, именно он и разнесет всю его постройку.
Звучало так зловеще оттого, что довод, казалось, отвечал на вопрос, часто возникавший в классе, – и Федру всегда приходилось отвечать на него какой-то казуистикой: если все знают, что такое качество, почему же вокруг него столько разногласий?
Казуистика Федра сводилась к тому, что хотя чистое Качество для всех одно, вещи, которым, по мнению людей, присуще Качество, для всех разные. Пока он не определял Качество, с этим не поспоришь, но Федр знал – и знал, что студенты знали: попахивает фальшью. Вообще-то это не ответ.
Возникло иное объяснение: люди не приходят к согласию насчет Качества, поскольку одни слушаются непосредственных эмоций, а другие включают общее знание. Федр понимал, что в любом конкурсе популярности среди преподавателей английского этот последний довод, укрепляющий их авторитет, завоюет всеобщее одобрение.
Но за этим доводом оставалась выжженная земля. Вместо единственного и единого Качества вроде бы появлялось два: романтическое «просто видишь» – оно было у студентов; и классическое общее понимание – оно было у учителей. Хипповое и квадратное. Квадратность – не отсутствие Качества; это классическое Качество. Хипповость – не просто наличие Качества; это романтическое Качество. Раскол хиппового и квадратного, обнаруженный Федром, никуда не делся, но Качество уже не оставалось на одной стороне разлома, как он предполагал раньше. Качество раскололось на два – по одному на сторону. Такое простое, аккуратное, прекрасное, не определенное Качество начинало усложняться.
Федру не понравилось, куда ветер дует. «Раскол» должен был объединить классический и романтический взгляды, но сам раскололся надвое и больше ничего не объединял. Попал в аналитическую мясорубку. Нож субъективности-объективности разрезал Качество надвое и убил его как рабочую концепцию. Если ее спасать, нельзя подпускать к ней нож.
И впрямь: Качество, о котором он говорил, не было классическим или романтическим Качеством. Оно располагалось за пределами обоих. И ей-богу, не было оно также ни субъективным, ни объективным – оно превосходило и обе эти категории. Вообще-то несправедлива сама дилемма субъективности-объективности, разума-материи применительно к Качеству. Это отношение разума-материи веками оставалось интеллектуальным зависом. Его ставили на макушку Качества – и Качество тонуло. Как же Федру утверждать, что Качество – разум или материя, если изначально нет логической ясности в том, что есть разум и что есть материя?
А потому Федр отвел левый рог. Качество не объективно, сказал он. Оно не обитает в материальном мире.
Затем Федр отвел правый рог. Качество не субъективно, сказал он. Оно не обитает лишь в уме.
И наконец, по тропе, которой, насколько он знал, за всю историю западной мысли никто не ходил, Федр двинулся прямо меж рогов объективно-субъективной дилеммы и сказал, что Качество не является ни частью разума, ни частью материи. Оно – третья сущность, не зависимая от прочих двух.
В коридорах и на лестницах Монтана-холла слышали, как он тихо, почти неслышно напевал себе под нос: «Святая, святая, святая… благословенная Троица».
И еще есть слабый-слабый обрывок воспоминания – быть может, ложный, быть может, это я его сочинил, – из которого следует, что Федр оставил всю эту мысленную структуру как есть на много недель и дальше ее не развивал.
Крис голосит:
– Когда мы дойдем до вершины?
– Вероятно, еще далеко, – отвечаю я.
– А мы много увидим?
– Наверное. Ищи в деревьях чистое небо. Если его не видно, знай, что еще далеко. Свет пробьется через кроны ближе к вершине.
Вчерашний дождь промочил мягкую хвойную подушку, и по ней теперь удобно идти. Иногда на таком склоне очень сухо, хвоя скользит, и ноги приходится ставить боком, чтоб не съезжать.
Я говорю Крису:
– Здорово, когда нет кустов, да?
– А почему их нет?
– Наверное, здесь лес никогда не валили. Когда такой лес не трогают несколько веков, деревья перекрывают рост всему подлеску.
– Как в парке, – говорит Крис. – Хорошо все видно.
Настроение у него вроде бы лучше вчерашнего. Может, отныне будет хорошим путешественником. Лесное молчание полезно любому.
* * *
Теперь мир, по Федру, состоял из трех компонентов: разума, материи и Качества. Он не установил между ними отношений, но сначала это его нисколько не волновало. Если из-за отношения разума с материей воевали столько веков и до сих пор не разрешили конфликт, чего ради он за пару недель должен выдвигать окончательное толкование Качества? И Федр бросил. Положил на полку в уме, куда складывал всякие вопросы, на которые не было немедленного ответа. Федр знал: рано или поздно метафизическую троицу «субъект, объект и Качество» придется связать взаимоотношениями, – но он не спешил. Такой кайф, что тебе уже не грозят рога; он успокоился и наслаждался, покуда мог.
А потом все же рассмотрел вопрос пристальнее. Хотя метафизической троице, этой трехглавой реальности и нет логического возражения, такие троицы не очень привычны и не особо популярны. Метафизик обычно стремится либо к монизму – например, к Богу, объясняющему природу мира как проявление единого; либо к дуализму – например, к разуму-материи, объясняющим все парно; либо же оставляет плюралистическую картину: все есть проявление неопределенного количества вещей. Три – число неудобное. Так и хочется спросить: а почему три? Как они друг с другом соотносятся? Необходимость расслабиться постепенно убывала, и Федр заинтересовался, что ж там у них за отношения.
Хотя обычно Качество ассоциируешь с вещами, отмечал он, ощущение Качества иногда возникает и без всякой вещи. Это поначалу и привело его к мысли, что, возможно, Качество полностью субъективно. Но под Качеством он понимал не одно лишь субъективное удовольствие. Качество уменьшает субъективность. Качество вынимает тебя из тебя самого, заставляет осознавать мир вокруг. Качество противоположно субъективности.
Не знаю, сколько он думал, пока не пришел к этому, но в конечном счете он увидел: Качество не бывает независимо связано ни с субъектом, ни с объектом, а найти его можно только в их отношениях друг с другом. Качество – точка встречи субъекта и объекта.
Уже теплее.
Качество – не вещь. Это событие.
Еще теплее.
Это событие, при котором субъект осознает объект.
А раз без объектов не бывает субъекта, раз субъект осознает себя только через объекты, Качество – это событие, при котором осуществляется осознание и субъектов, и объектов.
Горячо.
Вот теперь он знал: уже близко.
Это значит, что Качество – не просто результат столкновения субъекта и объекта. Из события Качества выводится само существование субъекта и объекта. Событие Качества – причина субъектов и объектов, которые затем ошибочно считаются причинами Качества!
Вот теперь он держал эту чертову дилемму за глотку. Прежде она несла в себе мерзкое предположение, которому не было логического оправдания: Качество – следствие субъектов и объектов. А вот и нет! Федр достал нож.
«Солнце качества, – писал он, – не вращается вокруг субъектов и объектов нашего существования. Оно не только пассивно освещает их. Оно никоим образом не подчиняется им. Оно их создало. Это они подчинены ему!»
И записав это, он понял, что достиг некой кульминации мысли – это к ней он так долго бессознательно стремился.
– Небо! – орет Крис.
Вот оно, в вышине – узкий лоскут синевы меж древесных стволов.
Шагаем быстрее, и синие кляксы между деревьями все крупнее, а вскоре мы видим, что деревья редеют – вершина же и вообще лысая. До нее остается ярдов пятьдесят, я говорю:
– Пошли! – и рву вперед изо всех сбереженных сил.
Выкладываюсь полностью, но Крис нагоняет меня. Потом, хихикая, обгоняет. С тяжелой поклажей и на такой высоте здесь не до рекордов, но мы несемся вперед на всех парах.
Крис добирается первым – я еще только выламываюсь из деревьев. Вскидывает руки и кричит:
– Победа!
Эготист.
Мне так тяжело дышать, что я, добравшись до него, и говорить толком не могу. Мы просто сбрасываем рюкзаки и ложимся к камням. Почва на солнце высохла, но под твердой коркой еще грязь после вчерашнего дождя. На много миль ниже, за лесистыми склонами и полями простирается долина Гэллатин. В одном ее углу – Бозмен. С камня подпрыгивает кузнечик и улетает от нас прочь, вниз над вершинами.
– Получилось, – говорит Крис. Он очень счастлив.
Я еще не успел перевести дух и ничего ему не отвечаю. Стаскиваю сапоги и носки, мокрые от пота, ставлю на камень сушиться. И задумчиво гляжу, как пар от них поднимается к солнцу.
20
Очевидно, я заснул. Солнце жарит. По моим часам – без пары минут полдень. Я выглядываю из-за камня, на который опираюсь, и вижу, что Крис крепко спит на другой стороне. Высоко над ним лес обрывается, там лишь голые серые скалы, потом пятна снега. Можно взобраться по тыльной стороне этого хребта прямо туда, но чем ближе к вершине, тем опаснее. Некоторое время я смотрю на вершину. Что там я сказал Крису ночью? – «Увидимся на вершине горы»… нет… «Встретимся на вершине горы».
Как можно с ним встретиться на вершине, если я уже и так с ним? Очень странно все это. Он сказал, что я ему как-то ночью говорил кое-что еще: здесь одиноко. Но не в это я, на самом деле, верю. Я вовсе не считаю, что здесь одиноко.
Где-то падает камень, и я смотрю на склон. Ничего не движется. Совершенно тихо.
Все в порядке. Оползни тут постоянно.
Хотя оползни эти не всегда маленькие. С таких подвижек начинаются лавины. Если ты над ними или рядом, за ними интересно наблюдать. Но если они над тобой, помощи не жди. Остается только смотреть, как налетает.
Во сне люди произносят странные вещи, но с чего мне говорить, что мы с ним встретимся? И с чего бы ему думать, что я не сплю? Нет, здесь что-то не то, чувствуется очень скверное качество, только я не знаю, из-за чего. Сначала чувствуется, потом уже вычисляешь.
Вот Крис зашевелился, озирается.
– Где мы? – спрашивает он.
– На вершине хребта.
– А, – говорит он. Улыбается.
Я распаковываю обед: швейцарский сыр, пепперони и крекеры. Тщательно разрезаю сыр, за ним колбасу на аккуратные ломтики. В тишине все делаешь правильно.
– Давай построим здесь хижину, – говорит он.
– Ох-х-х-х, – стону я. – И карабкаться к ней каждый день?
– Конечно, – издевается он. – Разве трудно?
Вчера в его памяти – это давно. Я передаю ему сыр и крекеры.
– О чем ты все время думаешь? – спрашивает он.
– О тысячах вещей, – отвечаю я.
– Каких?
– Боюсь, большинства ты просто не поймешь.
– Типа?
– Типа, почему я тебе сказал, что мы встретимся на вершине.
– А, – говорит он и опускает голову.
– Ты сказал, голос у меня был, как у пьяного? – переспрашиваю я.
– Нет, не как у пьяного, – отвечает он, не поднимая головы. Так старается не смотреть на меня, что волей-неволей усомнишься, не врет ли.
– Тогда какой?
Не отвечает.
– Какой, Крис?
– Просто другой.
– Какой?
– Ну, я не знаю! – Он искоса глядит на меня, в глазах мелькает страх. – Каким ты обычно давно говорил, – добавляет он и снова смотрит вниз.
– Когда?
– Когда мы жили здесь.
Я держу под контролем лицо, чтобы он не заметил перемены в выражении, затем осторожно поднимаюсь, отхожу и методично переворачиваю носки на камне. Давно высохли. Я иду с ними назад, а Крис по-прежнему смотрит на меня. Как ни в чем не бывало произношу:
– Я и не знал, что говорил иначе.
Он на это не отвечает.
Я натягиваю носки, обуваюсь.
– Я хочу пить, – говорит Крис.
– Нам не так уж далеко спускаться к воде, – говорю я, вставая. Смотрю на снег, потом спрашиваю: – Готов?
Он кивает, и мы надеваем рюкзаки.
Идя по гребню к началу оврага, слышим стук еще раз – теперь камень падает громче. Я оглядываюсь: где это? По-прежнему ничего.
– Что это было? – спрашивает Крис.
– Подвижка камней.
Оба секунду стоим тихо, вслушиваемся. Крис спрашивает:
– Наверху кто-то есть?
– Нет, я думаю, это снег тает и высвобождает камни. Если в начале лета жара, таких подвижек слышно много. Иногда больших. Так снашиваются горы.
– Я не знал, что горы стираются.
– Не стираются – снашиваются. Округляются, становятся покатыми. Эти горы еще не сношены.
Теперь все склоны вокруг покрыты черноватой зеленью леса. Издали похоже на бархат. Только вершины лысые.
Я говорю:
– Вот смотришь на эти горы, и они кажутся такими постоянными и мирными, но они меняются все время, и эти перемены – мирные далеко не всегда. Внизу, вот сейчас у нас под ногами – силы, которые могут разорвать эту гору в клочья.
– А они так делают когда-нибудь?
– Что?
– Разрывают гору в клочья?
– Да, – отвечаю я. Потом вспоминаю: – Недалеко отсюда под миллионами тонн скал мертвыми лежат девятнадцать человек. Все удивились, что лишь девятнадцать.
– А что случилось?
– Простые туристы откуда-то с востока; остановились на ночевку в лагере. Ночью вырвались на волю подземные силы, спасатели наутро увидели, что произошло, и лишь покачали головами. Даже не пытались раскапывать. Вгрызешься в сотни футов скалы, найдешь тела – и тут же их придется закапывать снова. Вот их там и оставили. До сих пор лежат.
– А откуда узнали, что девятнадцать?
– Соседи и родственники сообщили, что они пропали.
Крис смотрит на вершину впереди:
– Это без предупреждения?
– Не знаю.
– Ну было же какое-то наверняка.
– Может, и было.
Мы идем туда, где хребет загибается внутрь, к началу оврага. Наверное, там-то мы воду и найдем. Потихоньку принимаю вниз.
Сверху еще немного постукивают камни. Мне вдруг страшно.
– Крис, – говорю я.
– Что?
– Знаешь, что я думаю?
– Нет. Что?
– Я думаю, мы будем большими умниками, если пока бросим эту верхушку к черту и попробуем взойти на нее как-нибудь в другой раз.
Он молчит. Потом произносит:
– Почему?
– У меня нехорошие чувства.
Он долго ничего не говорит. Наконец спрашивает:
– Например?
– Ох, я просто думаю, что там запросто можно попасть в бурю или оползень – или еще что-нибудь, будут большие неприятности.
Снова молчание. Я поднимаю голову – у него на лице неописуемое разочарование. По-моему, он знает, что я не договариваю.
– Ты об этом подумай пока, – говорю я. – А доберемся до воды и пообедаем – решим.
Продолжаем спуск.
– Ладно? – спрашиваю я.
Наконец уклончиво соглашается:
– Ладно…
Спускаться легко, но дальше склон будет отвеснее. Здесь все еще открыто и солнечно, а скоро опять зайдем под деревья.
Я не знаю, что и думать о наших зловещих разговорах по ночам – кроме того, что это нехорошо. Для нас обоих. Видимо, сказывается напряжение: мотоцикл, походы, шатокуа, прежние места, – а по ночам вылезает. Хочется убраться отсюда, и как можно скорее.
Наверное, и для Криса все не как раньше. Я теперь пугливый и не стыжусь в этом признаться. А он никогда ничего не боялся. Никогда. Вот в чем разница между нами. Вот почему я жив, а он нет. Если он где-то наверху, некая духовная сущность, призрак, допельгангер, ждет нас, бог знает как… ну, долго ему придется ждать. Очень долго.
Эти проклятые высоты со временем жуть нагоняют.
Я хочу вниз, далеко вниз; совсем, далеко, вниз.
К океану. Да, правильно. Где медленно накатывают волны, где всегда шум и никуда не упадешь. Ты уже там.
Снова входим под деревья, и вершину закрывают кроны. Вот и слава богу.
К тому же, по-моему, в этом шатокуа мы зашли по тропе Федра дальше некуда. Ее теперь лучше оставить. Я отдал тому, что он думал, говорил и писал, всю дань, какую мог, и теперь хочу сам развить кое-какие мысли, которыми пренебрег он. Заголовок этого шатокуа – «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом», вовсе не «Дзэн и искусство лазать по горам», а на горных вершинах не бывает мотоциклов; Дзэна там, по-моему, тоже маловато. Дзэн – «дух долины», а не горной вершины. На вершинах найдешь только тот Дзэн, который сам же туда и принесешь. Давай выбираться отсюда.
– Хорошо спускаться вниз, а? – говорю я.
Нет ответа.
Боюсь, нам придется немножко поссориться.
Лезешь-лезешь на вершину, а получаешь там лишь огромную, тяжеленную каменную скрижаль, на которой нацарапана куча правил.
Вот и с ним примерно так же.
Решил, что он мессия хренов.
Вот уж дудки, парень. Пашешь без продыху, а платят совсем с гулькин нос. Пошли. Пошли…
Вскоре я уже подпрыгиваю вниз по склону каким-то идиотским галопом… тыг-дык, тыг-дык, тыг-дык… а потом Крис вопит:
– ПОДОЖДИ! – и я, оглянувшись, замечаю, что он отстал на пару сотен ярдов и маячит в деревьях.
И вот я торможу и жду его, но немного погодя соображаю, что он нарочно тащится позади. Разочарован, конечно.
Видимо, в этом шатокуа следует кратко наметить курс, которым двигался Федр, – но безоценочно, – а затем уже гнуть свое. Честное слово, если мир рисуется не двойственностью разума и материи, а тройственностью Качества, разума и материи, искусство ухода за мотоциклом, как и другие искусства, приобретает такие измерения смысла, каких раньше за ним не наблюдалось. Призрак техники, от которого бегут Сазерленды, из зла становится позитивным кайфом. И демонстрировать это – задача долгая и кайфовая.
Но прежде чем уволить этого призрака, я должен сказать вот что.
Быть может, Федр лег бы на тот курс, которым сейчас двинусь я, заземлись наконец эта вторая, метафизическая волна кристаллизации на то, на что я буду ее заземлять, – на повседневный мир. По-моему, метафизика хороша, если улучшает повседневную жизнь; иначе ну ее на фиг. Но Федр, к несчастью для него, ее не заземлил. Она ушла в третью, мистическую волну кристаллизации, от которой он так и не оправился.
Он размышлял об отношениях Качества к разуму и материи, и определил Качество как родителя разума и материи, то событие, что их порождает. Этот Коперников переворот отношения Качества к объективному миру звучал бы загадочно, если подробно не объяснять, но Федр не хотел загадок. Он просто имел в виду, что на режущем лезвии времени, перед тем как различить вещь, должно быть нечто вроде внеинтеллектуального осознания, которое он называл осознанием Качества. Не осознаешь, что увидел дерево, пока не увидишь дерево, и между мигом видения и мигом осознания должен быть временной зазор. Мы иногда не придаем ему значения. Но думать, будто он и впрямь не имеет значения, нет оснований – никаких.
Прошлое существует лишь в наших воспоминаниях, будущее – лишь в наших планах. Настоящее – наша единственная реальность. Дерево, осознаваемое интеллектуально, – всегда в прошлом из-за этого крохотного временного зазора, а стало быть, всегда нереально. Любой интеллектуально постигаемый предмет – всегда в прошлом, а стало быть, нереален. Реальность – всегда момент видения перед тем, как начнется интеллектуализация. Другой реальности нет. Федр догадывался, что эту доинтеллектуальную реальность он верно определил как Качество. Поскольку из этой доинтеллектуальной реальности возникают все интеллектуально определяемые вещи, Качество – родитель, источник всех субъектов и объектов.
Федр подозревал, что интеллектуалам обычно труднее всего увидеть это Качество именно потому, что они с такой поспешностью и категоричностью вгоняют все в интеллектуальную форму. Легче видеть это Качество маленьким детям, необразованным и культурно «обделенным» людям. Они меньше прочих предрасположены к интеллектуальности, почерпнутой из культурных источников и меньше прочих формально натасканы для того, чтобы привить ее себе глубже. Вот почему, чувствовал Федр, квадратность – такое уникальное интеллектуальное заболевание. Он ощущал, что случайно развил в себе иммунитет против него – или по крайней мере вылет из школы сломал ему привычку к квадратности. После вылета он уже не мог идентифицироваться с интеллектуальностью – и мог с пониманием исследовать антиинтеллектуальные доктрины.
Квадратные, говорил он, из-за своего пристрастия к интеллектуальности обычно считают, что Качество, доинтеллектуальная реальность, не имеет значения – для них это простой и бессобытийный переходный период между объективной реальностью и субъективным восприятием ее. Поскольку у них уже сложились представления о его незначительности, они и не стремятся понять, отличается ли оно от их интеллектуального представления о нем.
Отличается, сказал Федр. Едва слышишь это Качество, смотришь на эту корейскую стену, эту неинтеллектуальную реальность в чистой форме – и хочется забыть всякое словесное барахло: ты наконец видишь, что Качество где-то не здесь.
Теперь, вооруженный новой, сплетенной во времени метафизической троицей, он остановил раскол романтико-классического Качества, что угрожал его погубить. Качество уже никому не препарировать. Теперь можно сидеть и в свое удовольствие препарировать их. Романтическое Качество всегда соотносилось с мгновенными впечатлениями. Квадратное Качество всегда составлялось из множества соображений, которые растягивались во времени. Романтическое Качество – настоящее, «здесь и сейчас» вещей. Классическое Качество всегда занималось не только настоящим. Отношение настоящего к прошлому и будущему рассматривалось всегда и всеми. Если постиг, что в настоящем содержатся и прошлое, и будущее, – ух, вот это оттяг; значит, живешь ради настоящего. И если мотоцикл работает, чего париться? Но если считаешь, что настоящее – просто миг между прошлым и будущим, мимолетное мгновенье, то пренебрегать прошлым и будущим ради настоящего – это и впрямь скверное Качество. Мотоцикл, может, и работает, но когда ты последний раз проверял уровень масла? Мелочная суета с романтической точки зрения, но добрый здравый смысл – с классической.
И вот у нас два разных типа Качества, но они больше не раскалывают само Качество. Они просто два разных временны́х аспекта Качества, краткий и долгий. Раньше требовалась лишь метафизическая иерархия, выглядевшая так:
Взамен он им дал такую метафизическую иерархию:
Качество, которому он обучал, было не просто частью реальности – оно было ею целиком.
Затем через эту троицу он ответил на вопрос: почему все видят Качество по-разному? До сих пор на него приходилось отвечать уклончиво-благовидно. А теперь Федр говорил: «Качество бестелесно, бесформенно, неописуемо. Видеть тела и формы – значит интеллектуализировать. Качество независимо от любых тел и форм. Имена, тела и формы, которые мы придаем Качеству, лишь частично зависят от него. Также они частично зависят от априорных образов, которые мы накапливаем в памяти. Мы постоянно стремимся отыскать в событии Качества аналоги нашего предыдущего опыта. Без этого мы не способны действовать. Мы выстраиваем язык через эти аналоги. Мы выстраиваем через эти аналоги всю нашу культуру».
Люди видят Качество по-разному, говорил он, потому что приходят к нему с разными наборами аналогов. Федр приводил примеры из лингвистики: для нас буквы хинди da, d.а и dha звучат идентично, поскольку у нас нет для них аналогов и мы не чувствуем разницы. А большинство говорящих на хинди не различают da и the, поскольку нечувствительны к этому различию. Индийские селяне сплошь и рядом видят призраков. Но вот закон тяготения им увидеть трудновато.
Это, говорил он, объясняет, почему целая группа первокурсников на занятии по композиции приходит к одинаковой оценке Качества того или иного сочинения. У них всех сравнительно одинаковое прошлое и одинаковые знания. Но приведи группу иностранных студентов или, скажем, возьми средневековые поэмы, не входящие в программу, – и способность студентов оценить Качество, возможно, будет уже не так хороша.
В каком-то смысле, говорил он, самого студента определяет его выбор Качества. Во мнениях о Качестве люди расходятся не потому, что Качество различно, а потому, что различен опыт этих людей. Если бы два человека обладали идентичными априорными аналогами, прикидывал Федр, они бы всякий раз идентично видели и Качество. Но этого никак не проверишь, поэтому прикидка чисто спекулятивна.
В ответ своим коллегам по школе он писал:
«Любое философское объяснение Качества будет и ложным, и истинным именно потому, что оно – философское объяснение. Процесс философского объяснения – аналитический, это процесс разламывания на субъекты и предикаты. То, что под словом качество имею в виду я (и прочие), нельзя разломать на субъекты и предикаты. Не потому, что Качество загадочно, а потому, что оно так просто, прямо и непосредственно.
Простейший интеллектуальный аналог чистого Качества, понятный людям в нашей среде, таков: «Качество – реакция организма на окружающую среду» [Федр взял этот пример, ибо его главные допросчики, похоже, смотрели на мир в свете теории поведения «стимул-реакция»]. Поместить амебу на поверхность воды, капнуть рядом разбавленной серной кислотой – и амеба будет отодвигаться от кислоты (я думаю). Могла бы говорить – сказала бы, ничего не зная про серную кислоту: «У этой среды дурное качество». Будь у нее нервная система, она бы преодолевала дурное качество среды гораздо более сложным путем. Искала бы аналоги, то есть образы и символы из предыдущего опыта, чтобы определить неприятную природу своей новой окружающей среды и тем самым «понять» ее.
В нашем высокосложном органическом состоянии мы, развитые организмы, реагируем на свое окружение изобретением множества замечательных аналогов. Изобретаем землю и небеса, деревья, камни и океаны, богов, музыку, искусства, язык, философию, механику, цивилизацию и науку. Мы называем эти аналоги реальностью. Они и есть реальность. Во имя истины мы завораживаем наших детей: знайте, они и есть реальность. А не приемлешь этих аналогов, – в дурдом. Но изобретать аналоги нас заставляет Качество. Качество – тот непрерывный стимул, которым среда вынуждает нас созидать мир, где мы живем. Полностью. До последней частицы.
А вот взять то, что вынудило нас создать мир, и вставить его в мир, нами созданный, явно невозможно. Поэтому Качество нельзя определить. И если мы все же определим его, получится нечто меньше самого Качества».
Я помню этот фрагмент ярче любого другого, вероятно, потому, что он – самый важный. Написав это, Федр вдруг испугался и уже было вычеркнул слова: «Полностью. До последней частицы». В этом безумие. Видимо, он это понимал. Но у него не было логической причины вычеркивать, а малодушничать поздновато. Федр отмахнулся от предупреждения и оставил все как было.
Положил карандаш и тут… почувствовал, как что-то отпустило. Будто внутри что-то слишком напряглось – и не выдержало. А потом стало слишком поздно.
Он увидел, что сместился со своей начальной позиции. Он говорил уже не о метафизической троице, но об абсолютном монизме. Качество – источник и суть всего.
В голову хлынул новый поток философских ассоциаций. Гегель с его Абсолютным Разумом тоже так говорил. Абсолютный Разум тоже независим – как от объективности, так и от субъективности.
Гегель говорил, что Абсолютный Разум – источник всего, а потом исключил из этого «всего» романтический опыт. Абсолют Гегеля был полностью классическим, рациональным и упорядоченным.
Качество не таково.
Федр вспомнил, что Гегеля считали мостом между философиями Запада и Востока. Веданта индуистов, Путь даосов, даже Будда – все описывалось как абсолютный монизм, сходный с философией Гегеля. Но Федр тогда сомневался, взаимообратимы ли мистические Некто и метафизические монизмы: мистические Некто не следуют никаким правилам, а метафизические монизмы – следуют. Его Качество было метафизической сущностью, а не мистической. Или как? В чем разница?
Он ответил себе, что разница – в определении. Метафизические сущности определены. Мистические Некто – нет. Потому Качество – мистическое. Нет. Вообще-то и то, и другое. Хотя Федр до сих пор в чисто философском свете считал его метафизическим, всю дорогу он отказывался его определять. Отсюда и мистическое. Неопределимость освобождала его от правил метафизики.
Потом Федр, сам не зная зачем, подошел к книжной полке и вытащил синюю книжицу в картонном переплете. Он сам переписал и переплел ее много лет назад, когда не мог найти в продаже. Ей было 2400 лет – «Дао дэ цзин» Лао Цзы. Федр вчитывался в строки, читанные уже множество раз, но сейчас изучал их, чтобы понять, сработает ли некая подстановка. Читал и интерпретировал прочитанное одновременно.
Он читал:
Качество, которое может быть выражено словами, не есть Абсолютное Качество.
И он то же самое говорил.
Имена, которые могут быть названы, не есть Абсолютные имена.
Безымянное есть начало неба и земли.
Обладающее именем – мать всех вещей.
Именно.
Качество (романтическое Качество) и его проявления (классическое Качество) – одного и того же происхождения. В классическом проявлении они с разными названиями (субъекты и объекты).
Романтическое качество и классическое качество вместе называются «мистическими».
От одного глубочайшего к другому – дверь к таинству всей жизни[21].
Качество – пусто.
Но, действуя, оно кажется неисчерпаемым.
О, глубочайшее!
Оно кажется праотцом всех вещей…
Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться явно существующим.
Я не знаю, чье оно порождение.
Оно предшествует предку явлений[22].
…бесконечно как существование и действует без усилия…[23]
Смотрю на него и не вижу… слушаю его и не слышу… пытаюсь схватить его и не достигаю… эти три необъяснимы, поэтому они сливаются воедино.
Его верх не освещен,
Его низ не затемнен.
Оно бесконечно
И не может быть названо.
Оно снова возвращается к небытию.
И вот называют его формой без форм,
Образом без существа.
Поэтому называют его неясным и туманным.
Встречаюсь с ним и не вижу лица его,
Следую за ним и не вижу спины его.
Держась древнего качества…
Можно познать древнее начало.
Это называется нитью качества[24].
Федр читал строку за строкой, стих за стихом, видел, как они подходят, совпадают, становятся на место. Именно. Вот что он имел в виду. Вот что он все время говорил – только бедно, механистично. А тут не было ничего смутного или неточного. Книга донельзя точна и определенна. Ровно это он и говорил – только на другом языке, с другими корнями и началами. Из другой долины он видел то, что есть в этой, только теперь это не чужие ему рассказали, а оно живет в его долине. Он видел все.
Он разгадал код.
Федр читал дальше. Строку за строкой. Страницу за страницей. Ни единого несоответствия. Он все время твердил о Качестве – здесь это было Дао, великая творящая сила всех религий, восточных и западных, прошлых и настоящих, всего знания, всего.
Тогда мысленным взором он обратился вверх и узрел собственный образ, и понял, где он был и что видел, и… я не знаю, что случилось на самом деле… но сейчас его пробуксовка, внутренний раздрай его ума, вдруг набрал скорость – будто камни на вершине горы. Он не успел остановить – внезапно совокупная масса осознания стала расти и расти, обратилась в лавину мысли, вышла из-под контроля; с каждым лишним наростом рушащейся всевырывающей массы стократно высвобождался ее собственный объем, а затем эта масса опять выкорчевывала себя в стократном объеме, а тот – еще стократно; дальше и дальше, все шире и глубже; пока не осталось ничего.
Вообще ничего больше.
Все ушло из-под ног.
21
– Ты не очень храбрый, да? – спрашивает Крис.
– Не очень, – отвечаю я и счищаю зубами кожицу с салями, – но ты удивишься, до чего я умный.
Мы уже прилично отошли от вершины, сосны гораздо выше и перемешаны с лиственным кустарником – все здесь как-то закрытее, чем на другой стороне ущелья на этой же высоте. Очевидно, сюда попадает больше дождя. Делаю большой глоток воды из котелка, который Крис наполнил в ручейке. Смотрю – Крис явно смирился со спуском, нет нужды спорить или читать лекции. Заканчиваем обед конфетами из кулька, запиваем еще одним котелком воды и укладываемся отдохнуть. Вода из горного ручья – самая вкусная в мире.
Немного погодя Крис говорит:
– Я теперь могу нести больше.
– Уверен?
– Еще б не уверен, – слегка заносчиво отвечает он.
Благодарно перекладываю кое-какие тяжести ему, и мы, извиваясь, влезаем в лямки, потом встаем. Разница в весе есть. Крис умеет быть внимательным, когда в настроении.
Похоже, спуск будет медленным. На этом склоне лес, очевидно, валили, здесь много кустарника выше человеческого роста; потому и медленно. Надо идти в обход.
Теперь в шатокуа мне хочется уйти от интеллектуальных абстракций крайне общего порядка и взяться за более серьезное, практическое, повседневное. Я не очень уверен, с какого конца подступить.
Обычно умалчивают, что первопроходцы, все без исключения – по своей природе пачкуны. Рвутся вперед, перед глазами лишь их благородная далекая цель, и никогда не замечают мерзости и мусора, остающихся за спиной. Убирать за ними приходится другим, а это не очень блистательная или интересная работенка. Не подавишь себя – не возьмешься. А как вгонишь себя в натуральный депрессняк – не так уж и плохо.
Открывать метафизические взаимоотношения Качества и Будды на вершине личного опыта – целое зрелище. Весьма никчемное. Если б весь мой шатокуа только к нему и сводился, меня следовало бы гнать поганой метлой. Здесь важно лишь значение такого открытия для долин этого мира, для нудных и тупых занятий, скучных лет, что всех нас в них ожидают.
В первый день Сильвия знала, о чем говорила, – когда заметила тех, кто ехал нам навстречу. Как она их назвала? «Похоронной процессией»? Теперь надо вернуться к этой процессии, сильно расширив понимание.
Перво-наперво следует сказать: я не знаю, истинно ли утверждение Федра о том, что Качество и есть Дао. Не знаю ни единого способа проверить его истинность – Федр просто сравнил свое понимание одной мистической сущности с другой. Он, само собой, считал, что это одно и то же, однако, быть может, не вполне понимал, что такое Качество. Хотя вероятнее – не понимал Дао. Не мудрец, чего уж там. А в книге много полезного для мудрецов, ему бы тоже пригодилось.
Больше того: по-моему, все его метафизическое скалолазание абсолютно ничего не дало нашему пониманию ни Качества, ни Дао. Ничегошеньки.
Офигеть, да? Я как будто отрицаю все, что он говорил и думал, но нет, дело не в этом. Наверняка он и сам бы со мной согласился, ибо любое описание Качества есть некое определение, а стало быть – мимо кассы. Полагаю, он мог бы даже сказать: утверждения, бьющие мимо цели, – вроде его собственных, – еще хуже, чем полное отсутствие утверждений, ибо их легко принять за истину, и понимание Качества замедлится.
Нет, он не сделал ничего ни для Качества, ни для Дао. Выиграл только разум. Федр показал, как разум можно расширить, чтобы он включал в себя те элементы, что нельзя было ассимилировать раньше, от чего они и считались иррациональными. Сдается мне, именно потому, что эти иррациональные элементы, требующие ассимиляции, подавляют своим присутствием, и создается настоящее скверное качество, а дух ХХ столетия так хаотичен и расхристан. Потому и надо взяться за эти элементы как можно упорядоченнее.
Мы на крутом склоне, покрытом скользкой грязью, очень трудно держать равновесие. Хватаемся за ветки и кусты. Я делаю шаг, потом прикидываю, куда ступать дальше, шагаю и снова смотрю.
Кустарник скоро так густеет, что придется сквозь него прорубаться. Я приседаю, а Крис достает мачете из рюкзака у меня на спине. Передает мне, и я, рубя и срезая ветки, углубляюсь в заросли. Медленно. На каждый шаг надо срезать две-три ветки. Это может затянуться.
Первый шаг прочь от мысли Федра, что «Качество есть Будда», таков: если это суждение верно, оно дает рациональную основу для объединения трех сфер человеческого опыта, которые у нас нынче разъединены. Эти три сферы – Религия, Искусство и Наука. Если можно показать, что Качество – центральный член всех трех и что это Качество – не разных видов, а лишь одного, следовательно, у трех разъединенных сфер есть основа для слияния.
Отношение Качества к сфере Искусства я довольно утомительно демонстрировал, рассказывая о том, как Федр стремился понять Качество в Искусстве риторики. По-моему, тут больше анализировать нечего. Искусство – предприятие высокого качества. Только это и надо сказать. Ну, или если надобно еще что-нибудь помпезное: Искусство – божество, явленное в трудах человека. Отношения, установленные Федром, проясняют, что два эти такие разные на слух суждения вообще-то идентичны.
В области Религии рациональные отношения Качества к божеству надо устанавливать тщательнее – я надеюсь сделать это позднее. Пока же можно помедитировать на том, что санскритский корень слов «бог» и «постижение Качества» – Buddha и Bodhi – одинаков.
А дальше я хочу сосредоточиться на области Науки – с ней разобраться сложнее всего. Придется отказаться от заявления, мол, Наука и ее отпрыск техника «свободны от ценностей», то есть «свободны от качества». Это «свобода от ценностей» усиливает действие силы смерти, о которой говорилось в начале шатокуа. Завтра и начнем.
Остаток дня переползаем через серый бурелом и выписываем зигзаги вниз по крутому склону.
Доходим до утеса, бредем по краю – ищем тропу вниз; в конце концов перед нами возникает узкая щель, по которой можно спуститься. Она выводит в каменистую лощину, где течет крохотный ручеек. Вся лощина в кустах, камнях, грязи и корнях огромных деревьев, обмытых этим ручейком. Издалека несется рев потока побольше.
Переправляемся через речку по веревке, которую там же и бросаем, а на дороге за речкой натыкаемся на других туристов; они и подбрасывают нас до города.
В Бозмене уже поздно и темно. Чем будить ДеВизов и просить нас подобрать, снимаем номер в главной гостинице города. В фойе на нас пялятся отдыхающие. Я в старой армейской форме, с посохом, двухдневной щетиной и в черном берете – похож, должно быть, на кубинского революционера в партизанском рейде.
В номере изможденно сбрасываем все на пол. Я вытряхиваю в урну камешки из сапог – начерпал при форсировании речки, – потом ставлю обувь на холодный подоконник, чтоб медленно просыхала. Ни слова не говоря, мы рушимся спать.
22
Наутро уезжаем из гостиницы отдохнувшими, прощаемся с ДеВизами и по дороге общего пользования из Бозмена едем на север. ДеВизы хотели, чтобы мы остались, но верх одержал странный зуд двигаться дальше, на запад – и размышлять. Сегодня я хочу поговорить о человеке, про которого Федр никогда не слыхал, а я проштудировал много его работ, когда готовился к этому шатокуа. В отличие от Федра, человек этот стал известен всему миру в тридцать пять, в пятьдесят восемь был живой легендой, а Бертран Рассел характеризовал его как «по общему мнению, самого выдающегося ученого своего поколения». Он был астроном, физик, математик и философ в одном лице. Его звали Жюль Анри Пуанкаре.
Мне всегда казалось невероятным – и до сих пор, наверно, кажется, – что по той линии мысли, вдоль которой поперся Федр, до него никто никогда не ходил. Ну кто-то где-то же должен был обо всем этом думать, а Федр был настолько скверный ученый, что вполне мог повторить общие места какой-нибудь знаменитой философской системы, не утруждая себя проверками.
И вот я больше года читал очень длинную и порой очень скучную историю философии – искал идеи-дубли. Но историю философии так читать увлекательно – и вот случилось то, чего я до сих пор не очень понимаю. Философские системы, вроде бы полностью противоречащие друг другу, – обе, судя по всему, утверждали нечто очень близкое тому, что думал Федр; ну, с мелкими вариациями. Всякий раз я думал, что нашел, кого он повторял, – но всякий раз из-за крохотных различий Федр ложился на совершенно другой курс. Гегель, например, на которого я уже ссылался, вообще отрицал индуистские системы философии – говорил, что это не философия. А Федр вроде бы ассимилировал их – или сам ассимилировался ими. Без всяких противоречий.
В конце концов я пришел к Пуанкаре. У него мало что повторялось, зато открылось нечто иное. Федр идет по длинной извилистой тропе к высочайшим абстракциям, уже вроде бы готов спуститься, как вдруг останавливается. Пуанкаре начинает с самых основных научных истин, разрабатывает их до тех же абстракций – и тоже останавливается. Обе тропы с разных сторон доходят до одной точки! Если б шли дальше, продолжили бы друг друга. Если живешь под сенью безумия и вдруг возникает другой разум, говорящий и думающий так же, как ты, – это какое-то прямо благословение. Будто Робинзон Крузо нашел следы на песке.
Пуанкаре жил с 1854 по 1912 год, преподавал в Парижском университете. Носил бороду и пенсне – и смахивал на Анри Тулуз-Лотрека, который жил в Париже тогда же и был всего на десять лет моложе.
При жизни Пуанкаре начался удручающе глубокий кризис в основах точных наук. Много лет научная истина не ставилась под сомнение; логика науки была непогрешима, а если ученые и ошибались иногда, считалось, что это они просто недопоняли ее правила. Уже нашлись ответы на все великие вопросы. Миссия науки теперь сводилась к тому, чтобы оттачивать эти ответы. Правда, были и необъясненные пока явления – радиоактивность, прохождение света сквозь «эфир» и странные взаимоотношения магнитных и электрических сил; но и они, судя по прошлым прецедентам, неминуемо должны были пасть. Едва ли кто-то догадывался, что всего через несколько десятков лет уже не останется ни абсолютного пространства, ни абсолютного времени, ни абсолютной материи, ни даже абсолютной величины; классическая физика, научная «твердыня вечная»[25], станет «приблизительной»; самый трезвый и уважаемый астроном станет говорить человечеству, что если оно долго будет смотреть в мощный телескоп, то увидит собственный затылок[26]!
Основы Теории Относительности, сокрушившей прежние основы, понимали пока очень немногие, и среди них – Пуанкаре, самый выдающийся математик своего времени.
В «Основах науки»[27] Пуанкаре писал, что предпосылки кризиса в основах науки очень стары. Долго и безрезультатно добивались, говорил он, демонстрации аксиомы, известной как пятый постулат Евклида; этот поиск и стал началом кризиса. Постулат Евклида о параллельных, утверждающий, что через данную точку нельзя провести больше одной линии, параллельной данной прямой, мы обычно изучаем в школьном курсе геометрии. Это один из основных кубиков, из которых выстроена вся математика геометрии.
Остальные аксиомы казались очевидными, чего в них сомневаться, а вот эта – нет. И все же от нее невозможно было избавиться, не уничтожив огромных кусков математики, а упростить вроде и не упростишь. Трудно вообразить, сколько усилий потратили впустую в химерической надежде это сделать, говорил Пуанкаре.
Наконец, в первой четверти XIX века венгр и русский – Бойяи[28] и Лобачевский – почти одновременно и неопровержимо установили, что доказать пятый постулат Евклида невозможно. Они размышляли так: был бы способ свести постулат Евклида к другим, более определенным аксиомам – стало бы заметно нечто другое: переворот постулата Евклида создаст логические противоречия в геометрии. Вот они и перевернули постулат.
Лобачевский допускает, что через данную точку можно провести две параллели к данной прямой. И сохраняет остальные аксиомы Евклида. Из этих гипотез он выводит серию непротиворечивых теорем и выстраивает геометрию, чья безупречная логика ни в чем не уступает логике евклидовой геометрии.
Стало быть, собственной неспособностью найти противоречия он доказывает, что пятый постулат несводим к аксиомам попроще.
Но тревожило не доказательство. И его, и все остальное в математике вскоре затмила рациональная побочка этого доказательства. Математика, краеугольный камень научной определенности, вдруг стала неопределенной.
У нас появились два противоречащих друг другу видения непоколебимой научной истины, которая истинна для всех во все времена безотносительно чьих-либо личных пристрастий.
Вот что и стало основой глубокого кризиса, который подорвал научное самодовольство позолоченного века. Откуда нам знать, какая из геометрий верна? Если нет основания, если геометрии никак не отличить друг от друга, вся наша математика допускает логические противоречия. Но математика, допускающая внутренние логические противоречия, – вообще не математика. Выходит, что неевклидовы геометрии применимы не более бессмысленной бредятины колдуна, где вера поддерживается лишь самой верой!
И, само собой, раз двери открылись, едва ли можно было ожидать, что противоречащие друг другу системы непоколебимой научной истины ограничатся двумя. Появился немец по фамилии Риман – с еще одной непоколебимой системой геометрии, которая швыряет за борт не только постулат Евклида, но и первую аксиому, утверждающую, что через две точки можно провести лишь одну прямую. Снова нет внутреннего противоречия – есть только несовместимость с геометриями Евклида и Лобачевского.
По теории относительности лучше всего описывает наш мир геометрия Римана.
У Три-Форкс дорога врезается в узкий каньон, где скалы покрыты беловатым налетом, и проходит мимо пещер Льюиса и Кларка. К западу от Бьютта преодолеваем долгий и трудный подъем, пересекаем Великий континентальный раздел и спускаемся в долину. Затем минуем огромную трубу плавильного завода в Анаконде, заворачиваем в сам городок и находим отличный ресторан со стейками и кофе. Потом долго поднимаемся по дороге, что ведет к озеру в хвойных лесах, едем мимо рыбаков, сталкивающих на воду лодчонку. Дорога опять сворачивает в сосны, и я по солнцу определяю, что утро уже почти на исходе.
Проезжаем через Филлипсберг и выбираемся на луга в долине. Встречный ветер резче, и я сбавляю скорость до пятидесяти пяти, чтобы не так дуло. Едем сквозь Мэксвилл, а когда приближаемся к Холлу, нам уже очень нужно отдохнуть.
У дороги находим погост и останавливаемся. Поднялся сильный ветер и стало зябко, но солнце греет, и мы кладем шлемы и расстилаем куртки с подветренной стороны церквушки. Здесь очень открыто и одиноко, но прекрасно. Когда вдалеке горы или даже холмы – есть простор. Крис утыкается лицом в куртку и пытается заснуть.
Теперь, без Сазерлендов, все иначе – одиноко. Прости, но я еще немного поговорю, пока не пройдет одиночество.
Чтобы разрешить проблему математической истины, говорил Пуанкаре, сначала надо спросить себя, какова природа геометрических аксиом. Это синтетические априорные суждения, как говорил Кант? То есть существуют ли они как фиксированная часть человеческого сознания, вне зависимости от опыта и не созданные опытом? Пуанкаре считал, что нет. Они бы тогда навязались нам с такой силой, что ни вообразить противоположного предположения, ни построить на нем теоретическую доктрину. Тогда бы не возникло неевклидовой геометрии.
Значит, надо заключить, что аксиомы геометрии – экспериментальные истины? Пуанкаре и так не считал. Они бы тогда по мере поступления новых лабораторных данных подвергались непрерывному изменению и пересмотру. А это противоречит природе самой геометрии.
Пуанкаре пришел к выводу, что аксиомы геометрии – условности; наш выбор из всех возможных условностей направляется экспериментальными фактами, но остается свободным и ограничивается лишь необходимостью избегать любого противоречия. Таким образом, постулаты могут оставаться строго истинными, даже если экспериментальные законы, определявшие их приятие, всего лишь приближенны. Аксиомы геометрии, иными словами, – просто замаскированные определения.
После чего, установив природу геометрических аксиом, он обратился к вопросу, какая геометрия истинна – Евклида или Римана?
И ответил: вопрос лишен смысла.
С таким же успехом можно спросить: является ли метрическая система мер истинной, а аптекарская – ложной? является ли картезианская система координат истинной, а полярная – ложной? Одна геометрия не может быть истиннее другой. Она может быть только удобнее. Геометрия не истинна, она выгодна.
Затем Пуанкаре перешел к демонстрации условностной природы других понятий науки, вроде пространства и времени; он показывал, что нет способа измерять эти сущности, который был бы истиннее другого. Если что-то всеми принято, оно просто-напросто удобнее.
Наши понятия пространства и времени – тоже определения, их выбрали за удобство обращения с фактами.
Тем не менее столь радикальное понимание основных научных концепций далеко не полно. Тайну пространства и времени это, может, и объясняет чуть понятнее, но теперь поддерживать порядок вселенной должны «факты». Что такое факты?
Пуанкаре подошел к фактам критически. Какие факты вы собираетесь наблюдать? – спросил он. Их бесконечное множество. Недифференцированное наблюдение фактов может стать наукой с той же вероятностью, с какой мартышка за пишмашинкой сочинит «Отче наш».
То же самое и с гипотезами. «Какие гипотезы? – писал Пуанкаре. – Если явление допускает одно полное механическое толкование, оно допустит и бесконечное множество других, которые так же неплохо будут описывать все особенности, выявленные экспериментом». Это суждение Федр вынес в лаборатории; с ним возникал вопрос, из-за которого его выперли из школы.
Будь у ученого в распоряжении неограниченное время, утверждал Пуанкаре, ему надо было бы только сказать: «Смотри и замечай хорошенько». А поскольку видеть все времени нет и лучше не видеть вообще, чем видеть неверно, ученому необходимо делать выбор.
Пуанкаре разработал кое-какие правила: есть иерархия фактов.
Чем более общ факт – тем он дороже. Те, что могут послужить много раз, – лучше тех, у которых мало шансов всплыть вновь. Биологи, например, не знали бы, как строить науку, будь у них в наличии только особи, без видов, и не делай наследственность детей похожими на родителей.
Какие факты возникают снова и снова? Простые. Как их узнать? Выбирай те, что кажутся простыми. Либо эта простота реальна, либо в ней неразличимы сложные элементы. В первом случае мы скорее всего встретим этот простой факт снова – либо сам по себе, либо как элемент сложного факта. Второй случай тоже запросто может возникнуть снова, ибо природа не конструирует такие случаи наобум.
Где находится простой факт? Ученые искали его в двух крайностях – в бесконечно большом и бесконечно малом. Биологов, к примеру, инстинктивно подводили к мысли о том, что клетка интереснее целого животного, а после Пуанкаре уже считали, что белковая молекула интереснее клетки. Впоследствии стало ясно, что такой подход мудр: клетки и молекулы различных организмов более сходны, чем сами организмы.
Как тогда выбрать интересный факт – тот, что происходит снова и снова? Метод – именно выбор фактов и есть; стало быть, сначала надо создать метод; их навыдумывали много, поскольку ни один нам не навязывается. Начинать следует с регулярных фактов, но как только правило несомненно установлено, факты, ему соответствующие, наскучивают, ибо не учат нас ничему новому. Тогда важным становится исключение. Мы ищем не подобий, но различий и выбираем из них наиболее выраженные, поскольку они самые показательные и поучительные.
Сначала ищем такие случаи, где правило скорее всего не сработает; зайдя подальше в пространстве или времени, можно обнаружить, что наши правила полностью перевернуты, и эти перевороты важны – они позволяют лучше видеть те мелкие перемены, что могут происходить ближе к нам. Но целиться лучше не на удостоверение сходств и различий, а на узнавание подобий, скрытых под кажущимися расхождениями. Сначала кажется, будто отдельные правила не согласуются, но глянешь пристальнее – и поймешь, что в общем они сходны; различные в сущности, они похожи по форме, порядку своих частей. Посмотришь на них под таким углом – заметишь, как они растут, а то и включают в себя все. Вот поэтому некоторые факты ценны: они завершают картину и показывают, что та верно изображает другие известные картины.
Нет, заключал Пуанкаре, ученые не выбирают наблюдаемые факты наобум. Ученый стремится сконденсировать много опыта и мысли в томик потоньше; вот почему в маленькой книжке по физике так много прошлого опыта и в тысячу раз больше – возможного опыта, чей результат известен заранее.
Затем Пуанкаре дал иллюстрацию того, как обнаруживается факт. Описал, как ученые приходят к фактам и теориям, а затем уже конкретнее изложил собственный опыт с математическими функциями, которыми и прославился.
Пятнадцать дней, рассказывал Пуанкаре, он пытался доказать, что никаких таких функций не может быть. Каждый день усаживался за стол, сидел час или два, перебирал массу комбинаций – и безрезультатно.
Затем однажды вечером наперекор всегдашней привычке выпил черного кофе и не смог уснуть. Идеи возникали толпами. Пуанкаре ощущал, как они сталкиваются, пока, образуя устойчивые комбинации, не начали замыкаться пары.
Наутро оставалось записать результаты. Случилась волна кристаллизации.
Пуанкаре описал, как вторая волна кристаллизации, которую вели за собой аналогии с установленной математикой, произвела на свет то, что он позднее назвал «тета-фуксовыми функциями». Он уехал из Кана в геологическую экспедицию. В путешествии он и думать забыл о математике. Собирался войти в автобус – и едва поставил ногу на ступеньку, к нему пришла идея, причем без всякой связи с тем, о чем он думал в тот момент: трансформации, которые он брал для определения фуксовых функций, идентичны трансформациям неевклидовой геометрии. Эту мысль он проверять не стал, рассказывал Пуанкаре, а продолжал себе автобусный разговор; но ни на миг не усомнился. А потом на досуге проверил результат.
Еще одно открытие случилось, когда он гулял над морем по обрыву. Пришло точно так же – кратко, внезапно и крайне уверенно. Другое крупное открытие случилось, когда он шел по улице. Люди превозносили этот его процесс мышления: мол, таинственная гениальность, – однако Пуанкаре не довольствовался таким поверхностным объяснением. Он пытался глубже промерить то, что произошло.
Математика, говорил он, как и вся наука, – не просто вопрос применения правил. Она не просто комбинирует что-то с чем-то применением неких установленных законов. Полученные так комбинации будут весьма многочисленны, бесполезны и громоздки. Подлинное дело изобретателя – выбирать из этих комбинаций, исключая бесполезные, – или, скорее, стараясь не вырабатывать их вообще, а правила, которые должны направлять выбор, крайне тонки и хрупки. Почти невозможно установить их точно; их надо скорее чувствовать, а не формулировать.
Затем Пуанкаре выдвинул гипотезу: выбор делается неким, по его выражению, «подсознательным я», сущностью, которая в точности соответствует тому, что Федр называл «доинтеллектуальным осознанием». Подсознательное я, говорил Пуанкаре, смотрит на множество решений проблемы, но сфере сознания навязываются только интересные. При выборе математических решений подсознательное я исходит из «математической красоты», гармонии чисел и форм, геометрической элегантности. «Таково подлинное эстетическое чувство, знакомое всем математикам, – говорил Пуанкаре, – но непосвященные о нем настолько не осведомлены, что их часто подмывает улыбнуться». Однако именно эта гармония, эта красота и есть центр всего.
Пуанкаре совершенно ясно дал понять: он говорит не о романтической красоте видимостей, которая трогает чувства. Он имеет в виду классическую красоту, возникающую из гармоничного порядка, доступную чистому разуму, – она придает структуру романтической красоте, без нее жизнь была бы смутна и мимолетна – сон, неотличимый от сновидений, поскольку нет основы для такого различения. Поиск этой особой классической красоты, ощущение гармонии космоса заставляет нас выбирать те факты, чей вклад в гармонию больше. Не факты, но отношение вещей приводит к универсальной гармонии, а она и есть единственная объективная реальность.
Объективность нашего мира гарантируется тем, что мы в нем живем с другими мыслящими существами. Сообщаясь с другими людьми, мы получаем от них готовые гармоничные рассуждения. Мы знаем, что эти рассуждения исходят не от нас, и в то же время признаем в них – они же гармоничны – работу разумных существ, подобных нам. И поскольку эти рассуждения вроде как соответствуют миру наших ощущений, мы, наверное, можем сделать вывод: эти разумные существа видели то же, что и мы; так и понимаем, что нам это не приснилось. Вот эта гармония, это качество, если угодно, и есть исключительная основа для единственной реальности, которую мы можем познать.
Современники Пуанкаре отказывались признать, что факты отобраны заранее, ибо считали, что отбирать факты заранее – это подрывать вескость научного метода. Они подразумевали, что «отобранные заранее факты» означают, будто истина – это «все, что тебе угодно», и называли идеи математика «конвенционализмом». Рьяно игнорировали одну истину: их собственный «принцип объективности» сам по себе наблюдаемым фактом не является, а стало быть, по их же критериям, его жизнедеятельность надо прекратить.
Они понимали: при ином отношении вся философская подпорка науки рухнет. Пуанкаре не предлагал им решений. Для этого он недостаточно углубился в метафизику. Он забыл сказать, что выбор фактов перед тем, как их «наблюдаешь», – «то, что тебе угодно» лишь в дуалистической, метафизической системе «субъект-объект»! Когда в картине возникает Качество, третья метафизическая сущность, предварительный выбор фактов перестает быть произвольным. Он теперь основан не на субъективном, капризном «что тебе угодно», а на Качестве, которое есть сама реальность. И тупика больше нет.
Федр как будто складывал собственную головоломку, но не хватило времени, и он бросил целую сторону незаконченной.
Пуанкаре же работал над своей головоломкой. Его суждение о том, что ученый выбирает факты, гипотезы и аксиомы на основании гармонии, также оставляло незавершенный зазубренный край. Если постановить, что пускай научный мир считает источником всей научной реальности просто-напросто субъективную, капризную гармонию, – значит решать проблемы эпистемологии, не сложив тот край головоломки, что примыкает к метафизике, и потому эпистемология становится неприемлема.
Но из метафизики Федра мы знаем: гармония, о которой говорил Пуанкаре, не субъективна. Она – источник субъектов и объектов и существует с ними в отношениях предшествования. Она не капризна, она – сила, противоположная капризности; упорядочивающий принцип всей научной и математической мысли, который уничтожает капризность, без него не может развиваться никакая научная мысль. Я буквально прослезился, когда понял, что эти незавершенные края идеально совпадают в той гармонии, о которой говорили и Федр, и Пуанкаре, – они образуют завершенную структуру мысли, способную объединить раздельные языки Науки и Искусства в один.
Склоны по обе стороны задрались ввысь, и длинная узкая долина меж ними вьется до самой Мизулы. Встречный ветер утомляет, я устал с ним бороться. Крис постукивает меня по плечу и показывает на высокий холм с большой нарисованной буквой М. Киваю. Утром мы уже видели такое на выезде из Бозмена. Всплывает обрывок воспоминания: каждый год первокурсники каждой школы лазят туда и подновляют букву.
На заправке с нами заговаривает человек на трейлере с двумя аппалузами. Лошадники по большей части против мотоциклов, а этот нет, задает кучу вопросов, и я отвечаю. Крис все просит меня подняться к букве М, но я и отсюда вижу, что дорога туда крута, разъезжена и ухабиста. А у нас машина шоссейная, груз тяжелый – чего рисковать? Разминаем затекшие ноги, прогуливаемся и устало выезжаем из Мизулы к перевалу Лоло.
В памяти ворочается, что еще не так давно эта дорога была сплошь грунтовкой, петляла, сворачивала у каждой скалы и в каждой горной складке. Теперь она заасфальтирована, а повороты широки. По ней все ездят, очевидно, на север, в Калиспелл или Кер-д’Ален, поскольку сейчас на дороге почти никого. Мы едем на юго-запад, ветер в спину, и нам хорошо. Дорога загибается к перевалу.
Восток здесь уже не чувствуется – по крайней мере я так себе воображаю. Дождь нагоняют сюда тихоокеанские ветры, а реки и ручьи возвращают его обратно в Тихий океан. У океана мы будем дня через два-три.
На перевале видим ресторан и останавливаемся рядом со старым ревуном-«харлеем». Сзади у него самодельная корзина, а пробег – тридцать шесть тысяч. Настоящий бродяга.
Внутри наедаемся пиццей с молоком; доев, сразу уходим. Скоро начнет темнеть, а искать место для лагеря в потемках трудно и неприятно.
Уже выходя, видим у мотоциклов этого бродягу с женой и здороваемся. Он из Миссури; у жены лицо умиротворенное – значит, путешествие удалось.
Мужчина спрашивает:
– Вы тоже продирались через ветер до Мизулы?
Киваю:
– Миль тридцать-сорок в час.
– Как минимум, – откликается он.
Немного беседуем о ночлеге, и они жалуются на холодину. В Миссури ни за что б не подумали, что летом будет так холодно, даже в горах. Пришлось докупать одежду и одеяла.
– Сегодня очень холодно быть не должно, – говорю я. – Мы же всего где-то на пяти тысячах.
Крис говорит:
– А ночевать мы будем у дороги.
– На стоянке?
– Не-а, съедем с дороги, и все, – говорю я.
Пара не проявляет желания к нам присоединиться, поэтому чуть погодя жму на стартер, и мы уезжаем.
Тени деревьев на склонах уже вытянулись. Через пять-десять миль видим поворот на лесосеку и заезжаем.
Дорога песчаная, поэтому включаю первую передачу и выставляю ноги, чтоб не упасть. В стороны от главной лесосеки уходят боковые дороги, но я держусь главной просеки, пока где-то через милю не натыкаемся на бульдозеры. Значит, они тут еще валят лес. Разворачиваемся и едем по боковой просеке. Примерно через полмили дорогу перегораживает упавший ствол. Хорошо. Дорогу бросили.
Я говорю Крису:
– Приехали. – И он слезает. Мы на склоне, с него нетронутый лес виден на много миль.
Крису охота побродить вокруг, а я так устал, что желаю лишь одного – отдохнуть.
– Иди сам, – говорю я.
– Нет, пошли вместе.
– Крис, я правда устал. Посмотрим утром.
Развязываю рюкзаки и расстилаю спальники на земле. Крис уходит. Я вытягиваюсь – руки и ноги налиты усталостью. Безмолвный, прекрасный лес…
Немного погодя Крис возвращается и говорит, что у него понос.
– Ох… – Я поднимаюсь. – Надо белье поменять?
– Да. – Ему неловко.
– Возьми в мешке у переднего колеса. Переоденься, достань мыло из сумки. Сходим на речку и постираем.
Он так смущен, что с радостью подчиняется.
Уклон дороги покат, и, спускаясь к речке, мы сильно топаем. Крис показывает камешки – он их собрал, пока я спал. Везде густой хвойный дух леса. Холодает, солнце уже очень низко. Тишина, усталость и закат угнетают, но я помалкиваю.
После того как Крис отстирал белье дочиста и отжал, пускаемся в обратный путь. Поднимаемся, а на меня вдруг наваливается мысль, что я иду по этой просеке всю жизнь.
– Пап!
– А?
С дерева впереди вспархивает птичка.
– Кем я должен быть, когда вырасту?
Птица исчезает за дальним хребтом. Не знаю, что сказать.
– Честным человеком, – наконец отвечаю я.
– В смысле, кем работать?
– Кем хочешь.
– Почему ты сердишься, когда я спрашиваю?
– Я не сержусь… Я просто думаю… Не знаю… Я очень устал и не думается… Не имеет значения, что ты будешь делать.
Такие дороги сужаются, мельчают, а потом прекращаются вовсе.
Не сразу замечаю, что Крис отстал.
Солнце уже за горизонтом, опускаются сумерки. Поодиночке мы бредем обратно по просеке, а дойдя до мотоцикла, забираемся в спальники и без единого слова засыпаем.
23
Вот она в конце коридора – стеклянная дверь. А за нею – Крис, и с одной стороны его младший брат, а с другой – его мать. Крис держится руками за стекло. Узнает меня и машет. Я машу в ответ и иду к двери.
Как тихо все. Будто смотришь кино с испорченным звуком.
Крис поднимает голову и улыбается матери. И та ему улыбается, но я вижу, что за улыбкой таится горе. Она очень расстроена чем-то, но не хочет, чтобы заметили дети.
Вот теперь я вижу, что это за стеклянная дверь. Крышка гроба – моего.
Не гроба – саркофага. Я в огромном склепе, мертвый, а они отдают последние почести.
Такие добрые, пришли сюда ради этого. Могли бы и не приходить. Я им благодарен.
Крис зовет меня открыть стеклянную дверь склепа. Ему явно хочется поговорить со мной. Наверняка, чтоб я рассказал, какова она – смерть. Меня так и подмывает сделать это – рассказать. Так хорошо, что он пришел и помахал мне, – возьму и расскажу ему, что все не так уж плохо. Только одиноко.
Я тянусь к двери, но темная фигура в тени знаками приказывает мне дверь не трогать. Палец поднесен к губам, которых я не вижу. Мертвым не позволено говорить.
Но они хотят, чтобы я говорил. Я еще нужен! Он что, не видит? Это какая-то ошибка. Он не видит, что я им нужен? Я умоляю фигуру – мне надо с ними поговорить. Еще не кончено. Надо им рассказать. Но тот, в тени, и виду не подает, что услышал меня.
«КРИС! – ору я через дверь. – МЫ УВИДИМСЯ!» Темная фигура грозно движется на меня, но я слышу голос Криса, далекий и слабый: «Где?» Он меня услышал! А темная фигура в ярости набрасывает полог на дверь.
Не на горе, думаю я. Горы больше нет. И кричу: «НА ДНЕ ОКЕАНА!»
И вот я стою среди безжизненных руин города – совсем один. Развалины тянутся бесконечно, куда ни глянь, и я должен идти средь них один.
24
Солнце встало.
Сначала я не очень понимаю, где я.
Мы на дороге где-то в лесу.
Плохой сон. Снова эта стеклянная дверь.
Рядом поблескивает хром мотоцикла, потом я вижу сосны, а потом соображаю, что мы в Айдахо.
Дверь и фигура в тени рядом – не иначе примстилось.
Мы на просеке, правильно… ясный день… искрящийся воздух. У-ух!.. прекрасно. Едем к океану.
Снова припоминаю сон и слова «Мы увидимся на дне океана» – и не понимаю, что бы это значило. Но сосны и свет сильнее любого сна, и недоумение потихоньку рассеивается. Старая добрая реальность.
Вылезаю из спальника. Холодно, и я быстро одеваюсь. Крис спит. Я обхожу его, перебираюсь через поваленное дерево и иду вверх по просеке. Чтобы разогреться, перехожу на трусцу и резко набираю скорость. Хо-ро-шо, хо-ро-шо, хо-ро-шо. Слово попадает в ритм бега. Какие-то птицы вылетают на солнце с холма в тени, и я провожаю их взглядом, пока не скрываются из виду. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо. Хрусткий гравий на дороге. Хо-ро-шо. Ярко-желтый песок на солнце. Хо-ро-шо. Иногда такие дороги тянутся на много миль. Хо-ро-шо, хо-ро-шо.
Наконец дыхания уже не хватает. Дорога взобралась выше, и я озираю лес на многие мили окрест.
Хорошо.
Все еще отдуваясь, быстрым шагом иду назад – уже не хрустя гравием так сильно, рассматривая подлесок и кустики там, где валили сосны.
Снова у мотоцикла, пакуюсь бережно и быстро. Все так знакомо, что куда, я это делаю почти не задумываясь. Наконец остается спальник Криса. Я перекатываю парнишку – не слишком грубо – и говорю:
– Клевый день!
Он озирается, ничего не соображает. Выбирается наружу и, пока я складываю спальник, одевается, толком не понимая, что делает.
– Надевай свитер и куртку, – велю я. – Сегодня на дороге будет прохладно.
Он одевается, усаживается в седло, и на низкой передаче мы проезжаем по лесосеке до поворота на шоссе. Напоследок бросаю прощальный взгляд на лесосеку. Хорошая. Милое место. Отсюда шоссе вьется все дальше вниз.
Сегодня шатокуа будет долгим. Я ждал его все это путешествие.
Вторая передача, потом третья. На таких поворотах слишком быстро нельзя. Солнце красиво светит на эти леса.
Прежде в нашем шатокуа висела дымка – проблема тыловой поддержки; в первый день я говорил о неравнодушии, а затем понял, что не могу сказать ничего значительного о неравнодушии, пока не понята его изнанка – Качество. Сейчас, наверное, важно увязать неравнодушие с Качеством: они – внутренний и внешний аспекты одного и того же. Тому, кто видит Качество и чувствует его в работе, есть дело до этой работы. Неравнодушный к тому, что видит и делает, неизбежно имеет какие-то свойства Качества.
Стало быть, если проблема технической безнадеги вызвана недостатком неравнодушия – как технарей, так и антитехнарей; и если неравнодушие и Качество суть внешний и внутренний аспекты одного и того же, из этого логически следует, что вообще-то причина технической безнадеги – отсутствие понимания Качества в технике как технарями, так и антитехнарями. Безумная погоня Федра за рациональным, аналитическим и, стало быть, техническим значением слова «Качество» на самом деле была погоней за решением всей проблемы с технической безнадегой целиком. Так мне, во всяком случае, кажется.
Поэтому я подтянул тылы и переключился на классико-романтический раскол, который, по-моему, и лежит в основе всей технико-гуманистической проблемы. Но и для этого требуется тщательно исследовать значение Качества.
Однако, чтобы понять значение Качества в классических понятиях, требовалось подтянуть тылы в метафизике, в ее отношении к повседневной жизни. А для этого требовались еще более глубокие тылы в огромной области, которая связывает и метафизику, и повседневную жизнь – а именно в формальном мышлении. Поэтому я шел от формального мышления к метафизике, а от нее к Качеству; затем от Качества – опять к метафизике и науке.
И вот мы углубляемся, переходим от науки к технике, и теперь, я считаю, мы наконец попали туда, где я хотел оказаться с самого начала.
Но у нас уже есть кое-какие представления, коренным образом меняющие все понимание вещей. Качество – Будда. Качество – научная реальность. Качество – цель искусства. Остается лишь встроить эти представления в практический, приземленный контекст, и нет ничего практичнее или приземленнее того, о чем я твердил всю дорогу, – починки старого мотоцикла.
Дорога вьется дальше по ущелью. Солнечные лоскуты раннего утра со всех сторон. Мотоцикл гудит себе в прохладном воздухе среди горных сосен, и мы проезжаем небольшой знак: через милю можно будет позавтракать.
– Есть хочешь? – кричу я.
– Да! – орет в ответ Крис.
Вскоре второй знак с надписью ХИЖИНЫ и стрелкой под ней показывает куда-то влево. Мы сбрасываем скорость, сворачиваем и едем дальше по грунтовке, пока она не приводит нас к проолифленным хижинам под купой деревьев. Ставим мотоцикл под дерево, выключаем зажигание и газ и входим в главное здание. Деревянные полы приятно и гулко стучат под мотоциклетными сапогами. Садимся за стол со скатертью и заказываем яичницу, горячие блинчики, кленовый сироп, молоко, сосиски и апельсиновый сок. Холодный ветер нагнал нам аппетит.
– Я хочу написать маме, – говорит Крис.
Ничего не имею против. Иду к бюро и беру бланки пансионата. Приношу Крису, даю ему свою ручку. Утренний воздух и его взбодрил. Крис кладет перед собой бумагу, хватает ручку в кулак и секунду пялится на чистый лист.
Поднимает голову:
– Какой сегодня день?
Я говорю. Он кивает и записывает.
Потом вижу, как он выводит: «Дорогая мамочка».
Некоторое время таращится на бумагу.
Поднимает голову:
– Что писать?
Я ухмыляюсь. Попробовал бы час писать об одной стороне монеты. Я иногда вижу его студентом, но не риторики.
Нас прерывают блинчики, и я говорю, чтоб отложил письмо – я ему потом помогу.
Доев, я закуриваю; в животе свинцовым грузом – блинчики, яичница и все остальное. В окно замечаю, что снаружи вся земля – в пятнах тени и света.
Крис снова придвигает к себе лист.
– Ну, теперь помогай, – говорит он.
– Ладно, – отвечаю я. Объясняю, что его заело – это дело обычное. Как правило, говорю я, ум заедает, когда хочешь сделать кучу дел сразу. Нужно вытягивать слова насильно, от этого еще больше заедает. Надо все разложить по полочкам и делать одно за другим, по очереди. Ты думаешь о том, что сказать вообще, и о том, что сказать сначала, – одновременно, а это очень трудно. Поэтому раздели. Составь список того, что хочешь сказать, – в любом порядке. А потом уже определим, как надо.
– Список чего, например?
– Ну, про что ты хочешь рассказать?
– Про путешествие.
– Что именно про путешествие?
Он задумывается:
– Про гору, на которую мы взбирались.
– Хорошо, запиши, – говорю я.
Записывает.
Потом я вижу, как он записывает еще один пункт, потом другой, а я пока допиваю кофе и докуриваю. Тем, что хочет рассказать, он заполняет три листа.
– Оставь на потом, – советую я. – Мы еще подумаем.
– У меня все в одно письмо не влезет, – говорит он.
Видит, как я смеюсь, и хмурится. Я говорю:
– А ты просто выбери лучшее. – И мы выходим наружу и снова садимся на мотоцикл.
На дороге вниз по ущелью у нас все время хлюпает в ушах – уменьшается высота. Теплеет, а воздух густеет. Прощай, высокая страна, по ней мы так или иначе ехали от Майлз-Сити.
Заедание. Вот о чем я хочу сегодня поговорить.
Если помнишь, когда мы выезжали из Майлз-Сити, я говорил, что ремонтировать мотоцикл можно формальным научным методом – изучать цепочки причин и следствий, а определять их экспериментально. Цель была показать, что подразумевается под классической рациональностью.
Теперь же я покажу, что этот классический порядок рациональности можно усовершенствовать, расширить и сделать гораздо эффективнее, формально признав в его действии Качество. Но прежде надо перечислить кое-какие негативные аспекты традиционного ухода за мотоциклом – показать, где тут собака зарыта.
Первое – заедание, застревание ума; оно идет бок о бок с физическим застреванием того, что делаешь. Вот Крис этим мучился. Заедает, например, винт боковой крышки. Сверяешься с инструкцией: может, там написано, почему винт не хочет вылезать, а там только: «Снимите пластину боковой крышки». Чудесный образец краткости технического стиля, никогда тебе не скажут того, что хочешь знать. До этого ты не упустил ни одного действия, винт заедать вроде не должен.
Если есть опыт, вероятно, прыснешь растворителем ржавчины и возьмешь силовую отвертку. А если нет, примешься крутить отвертку пассатижами-тисками – раньше тебе удавалось, а теперь удастся только сорвать шлиц.
Умом ты уже настроился на то, что будешь делать, когда снимешь крышку, не сразу осознаешь, что досадная маленькая неприятность в виде срезанного шлица винта – не просто досадная и маленькая. Ты застрял. Остановился. Выдохся. И мотоцикл теперь никак не починить.
Нередкий казус в науке или технике. Обычнейшее дело. Заело – и все. В традиционном уходе за мотоциклом ничего хуже не бывает. Даже думать о таком избегал, пока не припекло.
Книжка теперь не поможет. Научный разум – тоже. Чтобы узнать, что не так, не нужны никакие научные эксперименты. Очевидно же. Нужна лишь гипотеза, как вытащить этот винт со срезанным шлицем, а научный метод не предоставляет ни одной. Он применим, когда гипотезы уже есть.
Вот нулевая отметка сознания. Застрял. Нет ответа. Кирдык. Капут. Тебе жалко себя до слез. Теряешь время. Руки не оттуда растут. Не соображаешь, что делаешь. Постыдился бы себя. Отвез бы машину к настоящему механику, который такое умеет.
Тут обычно верх берет синдром страха-злости и тебя подмывает сбить эту крышку зубилом, молотком, если нужно. Чем дольше об этом думаешь, тем больше хочется затащить машину на высоченный мост и скинуть вниз. Подумать только, такая крохотная щелочка в головке винта – и начисто тебя раскатала.
Ты приперт к великому неизвестному, к пустоте всей западной мысли. Нужны идеи, гипотезы. Традиционный научный метод, к сожалению, так и не дошел до того, чтобы подсказывать, где именно брать эти гипотезы – и побольше. Традиционный научный метод всегда в лучшем случае идеально предсказывал то, что все и так увидели. С ним хорошо смотреть, где уже побывал. Им хорошо поверять истинность того, что, как тебе кажется, знаешь, но он не может сказать, куда надо идти, – если только то, куда тебе надо, не лежит там, где ты уже шел. Творчество, оригинальность, изобретательность, интуиция, воображение – иным словом, «незаедаемость» – полностью вне его сферы.
Спускаемся дальше по ущелью, мимо складок крутых склонов, откуда стекают широкие потоки. Замечаем, что с каждым новым ручьем река быстро набухает. Повороты здесь мягче, а прямые отрезки – длиннее. Я переключаюсь на высшую передачу.
Потом деревья редеют и мельчают, между ними – большие проплешины травы и кустарника. В куртке и свитере жарко, я останавливаюсь на обочине снять их.
Крису охота сходить по тропе наверх, и я его отпускаю, а сам отыскиваю тенек посидеть и отдохнуть. Мне сейчас спокойно и задумчиво.
На дорожном щите – извещение о пожаре, что был здесь много лет назад. Написано, что лес восстанавливается, но своего первоначального состояния достигнет лишь через много лет.
Хрустит гравий – Крис спускается. Ходил недалеко. Вернувшись, говорит:
– Поехали.
Мы перевязываем кладь – она немного скособочилась – и выезжаем на шоссе. После сидения на жаре пот быстро просыхает от ветра.
Нас по-прежнему заело на заевшем винте, и единственный способ его «разъесть» – бросить дальнейшее изучение винта по традиционному научному методу. Он не сработает. Нужно присмотреться к традиционному научному методу с точки зрения заевшего винта.
Мы смотрели на винт «объективно». Согласно доктрине «объективности», неотделимой от традиционного научного метода, то, что нам нравится или не нравится в этом винте, не имеет отношения к правильному мышлению. Не следует оценивать то, что мы видим. Ум наш должен быть чистой дощечкой, на которой нам пишет природа, а потом уже разум незаинтересованно выбирает что-то из наблюдаемых фактов.
Но когда мы притормаживаем и незаинтересованно думаем – через заевший винт, – становится видно, насколько глупо вообще наблюдать незаинтересованно. Ну и где эти факты? Чего нам незаинтересованно наблюдать? Сорванный шлиц? Не поддающуюся боковую крышку? Цвет краскопокрытия? Спидометр? Ручку для заднего седока? Как сказал бы Пуанкаре, у мотоцикла бесконечное множество фактов, и нужные отнюдь не расшаркиваются и не представляются сами. По-настоящему нужные факты не только пассивны – они дьявольски неуловимы, так что ж нам, просто сидеть и их «наблюдать»? Нет, придется лезть внутрь искать их, а то мы так долго просидим. Вечно. Как указывал Пуанкаре, у нас должен быть подсознательный отбор фактов для наблюдения.
Разница между хорошим механиком и плохим – как разница между хорошим и плохим математиками: все дело в способности отбирать хорошие факты из плохих на основе качества. Хороший механик обязан быть неравнодушным! Об этой способности формальному традиционному научному методу сказать нечего. Давно уже пора присмотреться к этому качественному предварительному отбору фактов, который вроде бы так тщательно игнорировали те, кто делал из этих фактов слонов, сперва их «пронаблюдав». Сдается мне, еще поймут, что формальное признание роли Качества в научном процессе вовсе не уничтожает эмпирического видения. Оно его расширяет, укрепляет и подводит гораздо ближе к действительной научной практике.
Наверное, главный недостаток, лежащий в основе проблемы заедания, – то, что традиционная рациональность так упирает на «объективность», доктрину, утверждающую разделенную реальность субъекта и объекта. Истинная наука, дескать, начнется, лишь когда их строго разделят. «Ты механик. Вот мотоцикл. Вы навечно разделены. Ты с ним делаешь это. Ты с ним делаешь то. Будут такие-то результаты».
Этот извечно дуалистический субъекто-объектный подход к мотоциклу не режет нам слух, поскольку мы к нему привыкли. Но он неверен. Он всегда был искусственной интерпретацией, наложенной на реальность. А самой реальностью никогда не был. Когда такая дуальность принимается полностью, между механиком и мотоциклом стирается некое невысказанное пограничье – чувство мастера к своей работе. Если традиционная рациональность делит мир на субъекты и объекты, она исключает Качество, а когда застрял по-настоящему, только Качество, а вовсе не какие-то субъекты или объекты, подсказывает, куда идти.
Вновь обращаясь к Качеству, мы надеемся извлечь техническую работу из равнодушного дуализма субъекта-объекта и поместить ее обратно в самововлеченную реальность мастера, где проявятся факты, нужные нам, когда мы застреваем.
Мысленно я вижу огромный, длинный железнодорожный состав, эдакое 120-вагонное чудище, такие постоянно гоняют по прериям: с лесом и овощами – на восток, с автомобилями и другими промышленными товарами – на запад. Я хочу назвать этот состав «знанием» и подразделить его на две части: Классическое Знание и Романтическое Знание.
В этой аналогии Классическое Знание, то, которому учит Храм Разума, – тепловоз и вагоны. Все они и все, что в них. Если разделять состав на части, Романтического Знания нигде не найдешь. А будешь неосторожен – и вообще легко допустишь, будто в составе больше ничего нет. Не потому, что Романтического Знания не существует или оно не имеет значения. Просто пока определение этого железнодорожного состава статично и бесцельно. Вот о чем я пытался сказать еще в Южной Дакоте, когда речь зашла о двух цельных измерениях существования. Два цельных способа смотреть на этот состав.
Романтическое Качество в этой аналогии – не «часть» состава. Это ведущий край тепловоза, двумерная поверхность, сама по себе не имеющая значения, если не поймешь, что наш поезд – вовсе не статичная сущность. Поезд – никакой не поезд, если никуда не едет. Изучая поезд и подразделяя его на части, мы неумышленно остановили его, а потому изучаем, по сути, не поезд. Вот и застряли.
Настоящий поезд знания – не статичная сущность, которую можно остановить и разложить по полочкам. Он постоянно куда-то движется. По рельсам, называемым «Качество». И тепловоз наш со всеми 120 вагонами едет лишь туда, куда ведут его рельсы Качества; а влечет их по этим рельсам Романтическое Качество – ведущий край тепловоза.
Романтическая реальность – режущая кромка опыта. Весь состав удерживается на рельсах именно ведущим краем поезда знания. Традиционное знание – лишь коллективная память о том, где этот ведущий край уже побывал. На ведущем крае нет субъектов, нет объектов, есть только рельсы Качества впереди, и если у тебя нет формального способа оценки, если ты никак не можешь признать это Качество, весь поезд никак не узнает, куда ему ехать. У тебя нет чистого разума – есть только чистая неразбериха. Только на ведущем крае все и происходит. В нем содержатся все бесконечные возможности будущего. И вся история прошлого тоже в нем. Где ж еще?
Прошлое не может помнить прошлого. Будущее не способно вырабатывать будущего. Режущая кромка этого мгновения прямо здесь и прямо сейчас – не что иное, как общность всего сущего.
Ценность, ведущий край реальности, уже не выступает незначительным отпрыском структуры. Ценность – предшественник структуры. Ей дает начало доинтеллектуальная осознанность. Наша структурированная реальность подобрана заранее на основании ценности, и чтобы по-настоящему понять структурированную реальность, надо понять и ее ценностный источник.
Стало быть, рациональное понимание мотоцикла модифицируется с каждой минутой, что ты мотоцикл ремонтировал. И по ходу начинаешь видеть, что в новом и отличном от прежнего рациональном понимании больше Качества. За старые липучие идеи не цепляются – есть непосредственная рациональная основа для их отрицания. Реальность больше не статична. Это не набор идей, с которыми надо либо бороться, либо им подчиняться. Отчасти она составлена из тех идей, что будут расти вместе с тобой, со всеми нами, за веком век. С центральным неопределенным членом – Качеством – реальность по своей сути не статична, а динамична. А если по-настоящему понимаешь динамичную реальность, никогда не застрянешь. У нее есть формы, а формы способны меняться.
Конкретнее: если хочешь построить завод, или починить мотоцикл, или направить нацию по верному пути – и не застрять, – классическое, структурированное, дуалистическое, субъектно-объектное знание хотя и необходимо, но не достаточно. Ты не можешь быть равнодушен к качеству работы. Ты должен чувствовать, что хорошо. Вот что влечет вперед. С таким ощущением не просто рождаешься, хотя ты с ним рождаешься. Его еще можно развить. Это не просто «интуиция», не просто необъяснимое «умение» или «талант». Это прямой результат контакта с основной реальностью, с Качеством, которое дуалистический разум в прошлом скорее скрывал.
Все это звучит как-то запредельно и эзотерически, поэтому открытие шокирует: оказывается, перед нами – один из самых доморощенных, приземленных взглядов на реальность, что бывают на свете. Удивительное дело, в голову лезет Гарри Трумен – он как-то выразился о программах своей администрации: «Мы их попробуем… а если не получится… ну что ж, попробуем что-нибудь другое». Может, цитата и неточная, но по смыслу близко.
Реальность американского правительства не статична, сказал он, а динамична. Если нам не понравится, найдем что-нибудь получше. Американское правительство не собирается застревать на одном наборе форсовых доктринерских идей.
Ключевое слово здесь – «получше», Качество. Можно поспорить: дескать, внутреннюю форму американского правительства таки заедает, на самом деле она не способна меняться под воздействием Качества, но этот довод – мимо кассы. А в кассе – то, что и президент, и все прочие, от оголтелых радикалов до оголтелых реакционеров, считают, что правительству надлежит меняться под воздействием Качества, даже если правительство и не меняется. Федрово представление о меняющемся Качестве как реальности – настолько всемогущей, что целые правительства должны меняться, чтобы ей соответствовать, – вот во что мы всегда единодушно и бессловесно верили.
А сказанное Гарри Труменом ничем не отличалось от практического, прагматического подхода любого лабораторного ученого, любого инженера или механика, если в своей повседневной работе он не думает «объективно».
Я проповедую чистую теорию, но на выходе почему-то получается то, что все и так знают, фольклор. Ведь в каждой мастерской известно это Качество, это чувство к работе.
Теперь давай наконец вернемся к тому винту.
Переоценим ситуацию: допустим, наше заедание, ноль сознания – не худшее из всего, что могло случиться, а лучшее. В конце концов, именно к нему с таким прилежанием стремятся дзэн-буддисты: посредством коанов, глубокого дыхания, неподвижного сидения и тому подобного. Ум пуст, принимаешь «пусто-гибкое» отношение «ума новичка». Ты перед самым передним концом поезда знания, на рельсах самой реальности. Для разнообразия представь, что этого мгновения нужно не бояться, а наоборот – стремиться к нему. Если твой разум по-настоящему глубоко заело, может, гораздо лучше не перегружать его идеями.
Решение проблемы часто поначалу кажется незначительным или нежелательным, но при заедании его истинное значение постепенно проясняется. Оно казалось маленьким из-за того, что его сделала таким твоя прежняя жесткая оценка, и приведшая к заеданию.
Но вот прикинь: как бы ни держался за это заедание, оно неминуемо исчезнет. Твой ум естественно и свободно сдвинется к решению. Этого никак не предотвратить, если ты не ас заедания. Страх заедания излишен, ибо чем дольше не выкарабкиваешься, тем больше видишь Качество-реальность, которое всякий раз тебя «расстревает». На самом деле тебя заедало потому, что от заедания ты бежал по вагонам поезда знания, а решение все время неслось впереди поезда.
Заедания не нужно избегать. Оно психически предшествует настоящему пониманию. Беззаветное приятие заедания – ключ к пониманию Качества, как в механической работе, так и где угодно. Именно это понимание Качества, проявленное заеданием, так часто создает механиков-самоучек, которые превосходят людей с институтским образованием, выучивших, как справляться со всем, кроме новой ситуации.
Обычно винты так дешевы, малы и просты, что считаешь их незначительными. Но стоит окрепнуть осознанию Качества, ты уже представляешь себе, что этот один, отдельный, конкретный винт отнюдь не дешев, не мал и не незначителен. Сейчас этот винт стоит столько же, сколько весь мотоцикл, ибо у мотоцикла нет никакой ценности, пока не вытащишь этот винт. Вместе с этой переоценкой винта является и желание расширить знание о нем.
А с расширением знания, я бы решил, придет переоценка того, что́ на самом деле есть этот винт. Сосредоточишься на нем, подумаешь о нем, застрянешь на нем подольше – наверное, со временем и начнешь видеть, что винт – все меньше объект, типичный для своего класса, а все больше – объект, уникальный сам по себе. Потом сосредоточишься еще – и винт станет для тебя даже не объектом вообще, а собранием функций. Заедание постепенно стирает схемы традиционного разума.
В прошлом, навсегда разводя субъект и объект, ты думал о них негибко. Лепил класс, называемый «винт», и он казался нерушимым и реальнее самой реальности, на которую ты смотрел. И не мог придумать, как его «разъесть», поскольку вообще не мог придумать ничего нового – не видел ничего нового.
Теперь же вынимаешь винт – и тебя не интересует, что он такое. Что он такое – перестало быть категорией мышления, это длящийся непосредственный опыт. Он уже не в вагонах, он – впереди и может изменяться. Тебя интересует, что он делает и почему. Ты задаешь функциональные вопросы. А к ним подстегнется подсознательное различение Качества – то же, что привело Пуанкаре к фуксовым уравнениям.
Как именно ты решишь проблему – не важно, коль скоро в твоем решении есть Качество. Винт воплощает собой комбинацию жесткости и клейкости, имеет особую спиралевидную сцепку – тут естественно подумать о применении силы и растворителей. Таковы одни рельсы Качества. Другие могут привести в библиотеку, где ты посмотришь в каталог механических инструментов; в нем можно наткнуться на полезное устройство для извлечения сорванных болтов. Или позвать приятеля, который кое-что соображает в механике. Ну или просто высверлить этот винт, выжечь его горелкой. А то помедитируешь на него – и появится новый способ его извлечения, до какого никто никогда не додумывался, а он лучше прочих, и его можно запатентовать, и через пять лет станешь миллионером. Как тут предскажешь, что может случиться на рельсах Качества? Все решения просты – после того как их найдешь. Но они просты, лишь когда знаешь, каковы они.
Шоссе 13 бежит вдоль другого рукава нашей реки, но теперь уходит вверх по течению, мимо старых лесопильных городов и сонных пейзажей. Иногда, съезжая с федеральной трассы на шоссе штата, кажется, будто отлетел назад во времени, как вот сейчас. Симпатичные горы, симпатичная речка, ухабистая, но приятная асфальтовая дорога… старые здания, старые люди на крылечках… Странное дело: старые, уставшие дома, заводы и мельницы, техника вековой или полувековой давности всегда лучше на вид, чем новые. Там, где потрескался старый бетон, растут сорняки, трава и дикие цветы. Аккуратные, ровные, прямоугольные очертания прогибаются там и сям. Единые массы сплошного цвета свежей покраски обретают пеструю изношенную мягкость. У природы своя неевклидова геометрия, она как бы сглаживает преднамеренную объективность этих зданий некой случайной спонтанностью; архитекторам неплохо бы присмотреться.
Вскоре оставляем реку и старые сонные здания в стороне и взбираемся на сухое плато с лугами. На дороге так много бугров, ухабов и кочек, что надо сбросить скорость до пятидесяти. В асфальте попадаются подлые выбоины, внимательно смотрю на дорогу.
Мы уже привыкли к большим расстояниям. В Дакотах такие отрезки показались бы нам длинными, а тут они коротки и легки. На машине теперь естественней, чем без нее. Местность совсем не знакома – я раньше здесь не был, но все же не чужак.
Наверху, в Грейнджвилле, Айдахо, из губительной жары вступаем в ресторан с кондиционером. Там глубокая прохлада. Пока ждем шоколадных коктейлей, я вижу у стойки студента – он поглядывает на девушку рядом. Она роскошна, и не я один это замечаю. Девушка за стойкой тоже наблюдает – со злостью, но думает, что больше никто не видит. Треугольник-с. Мы незримо проходим сквозь мгновения чужой жизни.
Снова – в жару, и почти сразу за Грейнджвиллом видим: сухое плато, которое поначалу выглядело прерией, вдруг обламывается в огромный каньон. Наша дорога спускается все ниже сотнями крутейших поворотов – во вздыбленную каменную пустыню. Хлопаю Криса по коленке и показываю на повороте, откуда все видно. Он вопит:
– Ниче себе!
На самой кромке переключаюсь на третью, потом закрываю дроссель. Двигатель ноет, чихая, – и вниз.
Когда мотоцикл достигает самого дна, позади у нас – высота в тысячи футов. Оглядываюсь и через плечо вижу муравьишки-машины далеко вверху. Теперь только вперед по этой сковородке, куда бы ни вела нас дорога.
25
Утром мы обсуждали, как решить проблему заедания, классической скверности, вызванной традиционным разумом. Пора перейти к ее романтической параллели – безобразию техники, которое этот разум породил.
Извиваясь, дорога перекатилась через нагие холмы в ниточку зелени вокруг городка Уайт-Берд, затем подошла к большой и быстрой реке Салмон, текущей меж высоких стен каньона. Жара тут зверская, а яркость белых скал слепит глаза. Мы петляем все дальше по дну узкого ущелья, нервничаем – машины здесь проворные, – а невыносимая жара гнетет.
Безобразие, от которого бежали Сазерленды, не свойственно технике. Им только так казалось, ибо очень трудно вычленить, что именно в технике безобразно. Однако техника – просто изготовление вещей, а оно по природе своей не может быть безобразным, иначе прекрасного не появится в искусстве, где вещи тоже изготовляются. На самом деле, предок слова «техника», technikos, первоначально и значил «искусство». Древние греки никогда не отделяли искусство от ручной работы и отдельных слов для них не завели.
Иногда еще говорят, что безобразие якобы присуще материалам современной техники. Но массово производимые пластики и синтетики сами по себе не плохи. На них просто навешали плохих ассоциаций. Тот, кто почти всю жизнь прожил в каменных стенах тюрьмы, скорее всего, считает камень от природы безобразным материалом, пусть из камня и высекают скульптуры; а тот, кто живет в тюрьме безобразной техники из пластика, начиная с детских игрушек и заканчивая мусорными потребтоварами, скорее всего, считает от природы безобразным этот материал. На самом деле безобразие современной техники не обнаруживается ни в материале, ни в форме, ни в действии, ни в продукте. Просто здесь, похоже, обитает низкое Качество. А мы привыкли присваивать Качество субъектам или объектам, создающим такое впечатление.
Подлинное безобразие не следует из самих объектов техники. И, согласно метафизике Федра, не производится субъектами техники – теми, кто ее производит или использует. Качество – или его отсутствие – не пребывает ни в субъекте, ни в объекте. Подлинное безобразие лежит в отношениях между людьми, которые производят технику, и тем, что они производят, а это выливается в сходные отношения между техникой и теми, кто ею пользуется.
Федр чувствовал: в миг восприятия чистого Качества – или даже не восприятия, а просто в миг чистого Качества – нет ни субъекта, ни объекта. Есть лишь ощущение Качества, из которого потом рождается осознание субъектов и объектов. В миг чистого Качества субъект и объект идентичны. Это истина Упанишад tat tvam asi, но она отражена и в современном уличном жаргоне. «Тащиться», «врубаться», «оттягиваться» – все это сленговые отражения такого тождества. Именно оно – основа мастерства во всех технических искусствах. И как раз его не хватает современной, дуалистически задуманной технике. Ее создатель не чувствует никакого особого с ней сродства. Пользователь не чувствует никакого особого с ней сродства. Стало быть, по определению Федра, у нее нет Качества.
Та стена в Корее, что видел Федр, была актом техники. Она была прекрасна – но не из-за искусного интеллектуального проектирования, особо научного руководства работами или дополнительных затрат на «стилизацию». Она была прекрасна, ибо ее создатели смотрели вокруг так, что строили без оглядок. Не отделяли себя от работы – и потому выполнили ее прекрасно. Вот в чем суть.
Конфликт между человеческими ценностями и техническими нуждами решается не побегом от техники. Все равно не убежишь. Разрешение конфликта – в ломке барьеров дуалистической мысли, что предотвращают истинное понимание техники: не эксплуатация природы, а сплав природы и человеческого духа в новый вид создания, который больше их обоих. При каждом таком преодолении – аэроплан впервые перелетел океан, человек ступил на Луну – люди признают эту трансцендентную природу техники. Но преодоление, ведущее к превосходству, не помешает и на индивидуальном уровне, на личной основе, в собственной жизни – и с меньшей показухой.
Стены каньона совершенно вертикальны. Во многих местах дорогу приходилось из них выгрызать. Здесь нет других путей. Только туда, куда течет река. Может, я это себе воображаю, но, по-моему, река стала у́же, чем час назад.
Лично преодолевать конфликты с техникой, разумеется, можно не только на примере мотоциклов. Что может быть проще – наточи кухонный нож, заштопай платье, почини сломанный стул. Внутренние проблемы те же. Все это можно сделать прекрасно, а можно безобразно, и чтобы нащупать высококачественный прекрасный способ, нужно и умение видеть то, что «хорошо выглядит», и способность понимать методы, лежащие в основе этого прихода к «благу». Сочетать классическое и романтическое понимания Качества.
Природа нашей культуры такова, что, если под любую задачу искать инструкцию, та выдаст лишь одно понимание Качества – классическое. Подскажет, как держать лезвие при заточке ножа, крутить швейную машинку или смешивать и намазывать клей – подразумевая, что, раз эти основные методы применены, «благо» воспоследует само собой. А о способности непосредственно видеть то, что «хорошо выглядит», – молчок.
Результат довольно типичен для современной техники: на что ни посмотри, внешний вид до того тосклив, что сверху надо лощить «стилем», чтоб стало приемлемо. А от этого любому, кто чувствителен к романтическому Качеству, только хуже. Не просто угнетающая тупость – еще и липа. Сложи вместе – выйдет вполне точное описание современной американской техники: стилизованные автомобили, стилизованные лодочные моторы, стилизованные пишущие машинки, стилизованная одежда. Стилизованные холодильники заполнены стилизованной едой в стилизованных кухнях стилизованных домов. Пластиковые стилизованные игрушки для стилизованных детей, которые на Рождество и в дни рождения стилизуются под своих стильных родителей. Ты сам должен быть до ужаса стильным, чтоб от всего этого периодически не тошнило. Досаждает именно стиль: техническое безобразие, политое сиропом романтической фальши в попытке родить и прекрасное, и выгоду, – это тщатся сделать люди, хоть и стильные, но без понятия, с чего начать, ибо никто никогда не рассказывал им, что в этом мире есть такая штука, Качество, и реальность – оно, а не стиль. Качество не навесишь на субъекты и объекты, как мишуру на елку. Подлинное Качество должно быть источником субъектов и объектов, шишкой, из которой эта елка вырастет.
Чтобы прийти к такому Качеству, нужна процедура, несколько отличная от инструкций «Шаг 1, Шаг 2, Шаг 3», под которые марширует дуалистическая техника; попробую сейчас этой процедурой и заняться.
* * *
После зигзагов каньона останавливаемся передохнуть в чахлой рощице меж скал. Трава под деревьями выгорела и побурела, валяется туристский мусор.
Я рушусь в тень и немного погодя, прищурившись, смотрю в небо; ни разу не взглянул на него по-настоящему с тех пор, как мы въехали в этот каньон. Оно там, над отвесными стенами, – прохладное, темно-синее и далекое.
Крис даже не идет смотреть реку, как обычно. Тоже устал, ему бы только посидеть под редкой тенью.
Потом говорит, что между нами и речкой – старая чугунная колонка, похоже, во всяком случае. Показывает, и я вижу. Подходит к ней, качает воду себе на руку, плещет в лицо. Я иду и качаю ему, чтоб умылся обеими руками, затем сам. Холодная вода освежает. Закончив, идем к мотоциклу, садимся и опять выезжаем на дорогу.
Теперь к решению. Пока у нас в шатокуа вся проблема технического безобразия рассматривалась главным образом отрицательно. Говорилось, что романтическое отношение к Качеству – как у Сазерлендов – само по себе безнадежно. Нельзя жить на одних оттяжных эмоциях. Нужно работать и с внутренней формой вселенной, с законами природы – если их понять, они могут облегчить задачу, извести болезни, а голод вырубить под самый корень. С другой стороны, техника, основанная на чистом дуалистическом разуме, тоже забракована, ибо добивается материальных преимуществ, превращая мир в стилизованную помойку. Пора прекратить огульно все браковать и наконец дать какие-то ответы.
Ответ здесь – утверждение Федра: классическое понимание не следует прикрывать романтической приятностью; классическое и романтическое понимания нужно объединять на уровне основ. В прошлом наша общая вселенная разума юлила – отрицала романтический, иррациональный мир доисторического человека. С досократовских времен необходимо было отрицать страсти, эмоции, дабы рациональный ум мог свободно постигать порядок природы, еще пока неизвестный. Теперь пришло время усугубить понимание порядка природы, приняв в себя те страсти, которых сначала бежали. Страсти, чувства, все эмоциональное царство человеческого сознания – тоже часть порядка природы. Центральная часть.
Нынче нас заметает иррациональный буран слепого собирания научных данных, ибо ни для какого понимания научного творчества нет рационального формата. Также нас погребло под толстым слоем стильности в искусствах – под разреженным искусством, – потому что во внутреннюю форму мало что ассимилируется или внедряется. Художники лишены научного знания, ученые – знания художественного, те и другие – вообще без никакого духовного чувства притяжения; и в результате все не просто плохо, а прямо-таки ужасает. Давно пора вновь по-настоящему объединить искусство и технику.
У ДеВизов я заговорил о душевном покое в технической работе, но меня высмеяли: я извлек его вне контекста, в котором он когда-то явился. Теперь, сдается мне, он в контексте – можно вернуться к душевному покою и посмотреть, о чем я толковал.
Душевный покой – вовсе не наносное в технической работе. В нем все дело. Производит его хорошая работа, а уничтожает – плохая. Спецификации, измерительные инструменты, контроль качества, окончательная проверка – все это средства достижения конечной цели: утоление душевного непокоя у того, кто отвечает за работу. В итоге имеет значение только это состояние, и больше ничего. Причина в том, что душевный покой – необходимое условие для восприятия Качества за пределами и романтического, и классического Качества, восприятия того Качества, что их объединяет, – и он должен сопутствовать работе. Уметь видеть то, что выглядит хорошо, понимать причины, почему оно хорошо выглядит, и сливаться воедино с этой хорошестью в работе, – значит воспитывать внутренний покой, умиротворение духа, тогда эта хорошесть и воссияет.
Я сказал «внутренний душевный покой». Он не связан с внешними обстоятельствами. Он может снизойти на монаха в медитации, на солдата в тяжелом бою или на токаря, срезающего последнюю десятитысячную дюйма. Он уничтожает любое смятение, любые оглядки и влечет за собой полное отождествление с обстоятельствами, а уже в нем одни уровни спокойствия открываются за другими, и они – как и более привычные уровни деятельности – глубоки и труднодостижимы. Вершины достижений – Качество, открытое лишь с одной стороны; сами по себе они относительно бессмысленны и часто недоступны, если штурмовать только их, забыв об океанских впадинах самоосознания (они с самосознанием – разные вещи), которое происходит из внутреннего душевного покоя.
Этот внутренний душевный покой приходит на трех уровнях понимания. Вероятно, физического спокойствия достичь проще всего, хоть и у него множество уровней, – это нам доказывает способность индусских мистиков жить погребенными много дней. Умственное спокойствие, при котором не возникает никаких случайных мыслей, похоже, труднее, но и оно достижимо. Самым же трудным выглядит спокойствие ценностей, при котором нет случайных желаний, а просто выполняются жизненные акты без желания.
Я порой думаю, что эта внутренняя умиротворенность, этот душевный покой сходен с тем успокоением, которого добиваешься иногда на рыбалке, если не идентичен ему. Отчего рыбалка и популярна. Просто сидишь, опустив леску в воду, не двигаясь, ни о чем особо не думая и ни о чем особо не заботясь, – вот вроде и снимает все внутренние напряги и фрустрации, что раньше не давали тебе решить проблемы и заражали твои мысли и действия безобразием и неуклюжестью.
Чтобы починить мотоцикл, на рыбалку, конечно, идти не требуется. Выпей кофе, погуляй вокруг дома, просто отложи работу на пять минут тишины – этого хватит. Сам тогда едва ли не почувствуешь, как дорастаешь до этого внутреннего душевного покоя, как все тебе открывается. Если отворачиваешься от этого внутреннего покоя и Качества, им проявленного, – выходит скверный уход за мотоциклом. Если поворачиваешься к нему – хороший. Формы обращения и отвращения бесконечны, но цель всегда одна.
По-моему, когда понятие душевного покоя вводится и ставится в центр любой технической работы, на базисном уровне практики происходит сплав классического и романтического Качества. Я говорил, что этот сплав можно увидеть в опытных механиках и слесарях определенного склада – и в их работе. Говорить, что они не художники, – значит неверно понимать природу искусства. У них есть терпение, неравнодушие и внимательность к тому, что они делают; больше того, есть еще некий внутренний душевный покой – это не напускное, оно прорастает из определенной гармонии с работой, в которой нет ведущего и ведомого. Материал и мысли мастера меняются вместе чередой гладких, ровных перемен, пока его разум не успокоится – в тот миг, когда материал готов.
У всех нас были такие мгновения – когда мы делали именно то, чего действительно хотели. Просто у нас, к несчастью, такие мгновения разлучились с работой. А механик, о котором я говорю, одно от другого не отделяет. О нем скажут: «заинтересован» в том, что делает, «увлечен» работой. Получается такая увлеченность потому, что на режущем краю сознания нет ни малейшего ощущения разъединенности субъекта и объекта. «Весь в деле», «прирожденный», «руки откуда надо растут» – есть куча речевых оборотов для того, что я называю отсутствием дуальности субъекта-объекта, ибо оно отлично понимается фольклором, здравым смыслом, повседневной практикой мастерской. Однако в языке науки редки слова для выражения этого отсутствия дуальности субъекта-объекта, потому что научные умы сами себя отгородили и не сознают такое понимание, ибо взяли на вооружение формальный дуалистический научный взгляд.
Дзэн-буддисты говорят: «просто сиди», – это практика медитации, при которой в сознании человека идея дуальности себя и объекта не превалирует. В уходе за мотоциклом я говорю: «просто чини», – здесь идея дуальности себя и объекта тоже не доминирует в сознании. Когда отъединенность от того, над чем работаешь, не давит, можно сказать, что ты «неравнодушен» к тому, что делаешь. Вот что такое неравнодушие: ощущение единства с тем, что делаешь. Если единство есть, видно и изнанку неравнодушия – само Качество.
Итак: работая с мотоциклом, как и выполняя любую другую задачу, нужно воспитывать, культивироватъ душевный покой, который не отделяет «я» от окружающего. Если удается, остальное следует само собой. Душевный покой производит правильные ценности, а те производят правильные мысли. Правильные мысли производят правильные действия, а те – работу, которая будет материальным отражением зримой безмятежности в центре всего. Вот что значила та стена в Корее. Она была материальным отражением духовной реальности.
Наверное, если мы хотим переделать мир, лучше приспособить его для жизни, делать это надо не разговорами об отношениях политического характера – они неизбежно дуалистичны, полны субъектов, объектов и отношений между ними; и не программами, где излагается, что надо делать другим. Думаю, при таком подходе начинают с конца, предполагая, что конец и есть начало. Программы политического характера – важные конечные продукты социального качества, они могут принести пользу, только если верна внутренняя структура общественных ценностей. А те верны, только если верны индивидуальные ценности. Улучшать мир нужно сначала в собственном сердце, голове и руках, а уж потом выбираться наружу. Пусть другие болтают о том, как устроить судьбу человечества. Я лучше поболтаю о том, как починить мотоцикл. Сдается мне, в этом больше вечной ценности.
Появляется городок под названием Риггинз, где один за другим вдоль трассы выстроились мотели, а за ним дорога отлипает от каньона и идет вдоль реки поменьше. Похоже – наверх, в лес.
Так и есть – и вскоре нас накрывают тенью высокие, прохладные сосны. Возникает вывеска базы отдыха. Забираемся все выше – здесь неожиданно приятные, прохладные зеленые луга среди сосняков. В городке Нью-Медоуз снова заправляемся и покупаем две банки масла; перемены вокруг по-прежнему удивительны.
Однако на выезде из Нью-Медоуз замечаю, что солнце уже низко и конец дня давит. В другое время суток эти горные луга освежили бы меня больше, но мы слишком далеко забрались. Проезжаем Тамарэк, дорога вновь спускается с зеленых лугов на сухие песчаники.
Вот, наверное, и все, что я хочу сегодня сказать в шатокуа. Долгая беседа была – и, наверное, самая важная. Завтра поговорим о том, что обращает к Качеству и отвращает от него, а также о ловушках и проблемах, которые при этом возникают.
Странно видеть оранжевый солнечный свет на этой песчаной сухой земле так далеко от дома. Интересно, Крису так же? Необъяснимая печаль, что спускается под конец каждого дня: новый день ушел навсегда, и впереди больше ничего, кроме растущей тьмы.
Оранжевый свет тускнеет до бронзового отлива и показывает то же, что и раньше, только нерадостно как-то. На сухих холмах, в домиках вдалеке – люди, они провели здесь весь день, хлопотали, работали, и теперь в этом чужом темнеющем пейзаже для них, в отличие от нас, ничего необычного нет. Наткнись мы на них пораньше, им бы, наверное, было любопытно, кто мы и зачем здесь. Но сейчас, вечером, им на нас плевать. Рабочий день окончен. Время для ужина, семьи, отдыха и взгляда в себя – дома. Мы проезжаем незамеченными по этому пустому шоссе через чужую местность, которую я никогда раньше не видел, и на меня наваливается тяжкая отъединенность и одиночество; настроение опускается вместе с солнцем.
Останавливаемся на заброшенном школьном дворе, и там, под огромным тополем, я меняю в мотоцикле масло. Крис раздражен и спрашивает, почему мы стоим так долго; наверное, и не понимает, что его раздражает время суток. Но я даю ему карту, пока меняю масло, а когда заканчиваю, мы рассматриваем карту вместе и решаем поужинать в ближайшем хорошем ресторане и остановиться на ближайшей хорошей стоянке. Это его приободряет.
В городке под названием Кембридж ужинаем, а когда заканчиваем, на улице уже темно. Едем по местной дороге в сторону Орегона вслед за лучом фары – к маленькому знаку «ЛАГЕРЬ БРАУНЛИ», он возникает в горной лощине. В темноте трудно сказать, что вокруг. Едем по грунтовке под деревьями, мимо кустов к столам под навесом. Здесь, кажется, никого. Глушу мотор и, пока распаковываемся, слышу ручеек невдалеке. Кроме журчания и щебета какой-то птахи, ничего больше не слышно.
– Мне здесь нравится, – говорит Крис.
– Очень спокойно, – отвечаю я.
– Куда мы завтра поедем?
– В Орегон. – Даю ему фонарик посветить, пока разбираю вещи.
– А я там уже был?
– Может быть. Не уверен.
Я расстилаю спальники и кладу мешок Криса на стол. Новизна такого ночлега Крису нравится. Сегодня спать будет безмятежно. Вскоре уже сопит – заснул.
Знать бы, что ему сказать. Или что спросить. Временами кажется, он так близко, но вопросами или разговорами по-настоящему не сблизишься. А иногда он очень далеко и как бы наблюдает за мной с некой точки обзора, которой мне не видно. Иногда же он просто ребячлив, и никакой связи нет вообще.
Иногда мне приходит в голову, что открытость ума одного человека уму другого – просто разговорная иллюзия, фигура речи, допущение, от которого любой обмен между, по сути, чужими людьми выглядит правдоподобным, а на самом деле человеческие отношения непознаваемы. Пытаешься постичь, что в мозгу другого человека, – и все искажается. Наверное, я нащупываю такую ситуацию, где ничто не исказится. Но он такие вопросы задает, что даже не знаю.
26
Просыпаюсь от холода. Выглядываю из спальника и вижу, что небо – темно-серое. Втягиваю голову обратно и снова закрываю глаза.
Потом серое небо светлеет; по-прежнему холодно. Видно пар от дыхания. Мне тревожно – вдруг небо серо от дождевых туч. Но присматриваюсь – это просто заря такая серая. Ехать вроде еще слишком рано и холодно, поэтому из мешка не выползаю. Но сна нет.
Сквозь спицы мотоциклетного колеса вижу спальник Криса на столе, весь перекрутился. Крис не шевелится.
Мотоцикл тихо высится надо мною – готов к старту, словно ждал его всю ночь, безмолвный часовой.
Серебристо-серый, хромированный, черный – и под коркой грязи. Из Айдахо, Монтаны, Дакот, Миннесоты. С земли смотрится внушительно. Никаких финтифлюшек. У всего свое предназначение.
Вряд ли я когда-нибудь его продам. Незачем. Это не автомобиль, у которого кузов через несколько лет разъест ржавчина. Регулируй мотоцикл, разбирай его – и он будет жить столько же, сколько ты сам жив. А то и дольше. Качество. До сих пор оно везло нас без хлопот.
Лучи едва касаются верхушки утеса над нашей лощиной. Над ручьем появился локон тумана. Значит, разогреется.
Выбираюсь из спальника, надеваю сапоги, пакую все, что можно, не трогая Криса, затем подхожу к столу и встряхиваю парнишку.
Не реагирует. Озираюсь: больше делать нечего, надо будить. Я в сомнениях, но утренний воздух очень свеж, а меня от него нервно потряхивает, поэтому ору:
– ПОДЪЕМ! – и он вдруг подскакивает с широко открытыми глазами.
Стараюсь как могу – продолжаю побудку первым четверостишием «Рубайята Омара Хайяма»[29]. Скала над нами – точно утес в пустыне Персии. Но Крис не соображает, что это я несу. Смотрит на верхушку утеса, а потом лишь сидит и щурится на меня. Для скверной декламации с утра нужно определенное настроение. В осо-бенности – таких стихов.
Вскоре мы снова на дороге, она вьется и петляет. Устремляемся вниз, в огромный каньон меж высоких белых утесов. Ветер замораживает. Дорога выводит на солнце, и оно согревает через куртку и свитер, но вскоре возвращаемся под сень стены каньона, где опять чуть ли не мороз. Сухой воздух пустыни не держит тепла. Губы на ветру сохнут и трескаются.
Чуть дальше переезжаем дамбу и выскакиваем из каньона в высокогорную полупустыню. Это уже Орегон. Похоже на северный Раджастан в Индии, где не вполне пустыня (много сосен, можжевельника и травы), но и землю не возделывают, кроме тех мест, где в лощинах или долинах есть влага.
Безумные четверостишия «Рубайята» продолжают вертеться в голове.
…ля-ля-ля… травки узкой полосе, Что отделяет от песка посев. Есть страны, где слов «Раб» и «Господин» не знают, – Мне жаль Султана, что на трон там сел…[30]Перед глазами встают руины древнего дворца Моголов у истока пустыни, где краем глаза он увидал куст дикой розы…
…А в первый месяц лета, что так розов… Как там дальше? Не помню. Мне оно даже не нравится. Я заметил: с начала нашего путешествия, особенно после Бозмена, обрывки эти все меньше кажутся его воспоминаниями и все больше – моими. Поди пойми, к чему все это… Думаю… Нет, не знаю.
Думаю, у этого типа полупустыни должно быть название, но не могу вспомнить. На дороге никого, кроме нас.
Крис орет, что у него опять понос. Едем дальше, пока не замечаю внизу речку, – тут съезжаем с дороги и останавливаемся. Крис опять смущается, но я говорю, что некуда спешить, вытаскиваю смену белья, рулон туалетной бумаги и кусок мыла и говорю, чтобы тщательно вымыл руки, когда закончит.
Сажусь на омархайямовский камень, созерцаю полупустыню – мне неплохо.
…А в первый месяц лета, что так розов… о!.. вот оно…
День новый сотни роз дарить нам рад? Но где ж тогда дней прошлых розы спят? А в первый месяц лета, что так розов, От нас уйдут Джамшид и Кей-Кобад[31].…И так далее, и тому подобное…
Слезаем с Омара, займемся шатокуа. Омару естественнее всего посиживать, дуть вино и мучиться от того, что проходит время, поэтому уж лучше шатокуа. Особенно сегодняшний – о сметке.
Вижу, как Крис опять поднимается по склону. С облегчением.
Мне нравится слово «сметка», потому что оно такое обыденное, заброшенное и не стильное, что ему, пожалуй, не помешает друг; оно не станет слишком привередничать. В английском «сметка» – старое шотландское слово, раньше оно было в ходу у американских пионеров, но теперь, как и слово «единокровники», нынче, похоже, совершенно выпало из употребления. Мне оно нравится еще и тем, что очень точно описывает, что происходит с теми, кто приобщается к Качеству. Они наполняются сметкой.
Греки это называли enthousiasmos, корень «энтузиазма», что буквально означает «наполненный theos’ом», то есть Богом или Качеством. Видишь, как все сходится?
Человек, наполненный сметкой, не просиживает штаны, рассусоливая про что ни попадя. Он бежит впереди поезда собственного осознания, смотрит, что возникает на рельсах, и готов к тому, что возникнет. Вот это и есть сметка.
* * *
Крис подходит и говорит:
– Мне уже лучше.
– Хорошо, – отвечаю я. Убираем мыло и бумагу, кладем полотенце и сырое белье так, чтоб больше ничего не намокло, поднимаемся и едем дальше.
Сметкой наполняешься, когда подолгу бываешь спокоен, а потому способен увидеть, услышать и почувствовать настоящую вселенную, а не только чьи-то прокисшие мнения о ней. Но в этом нет никакой экзотики. Вот почему мне нравится это слово.
Сметка часто заметна в тех, кто возвращается с долгих, спокойных рыбалок. Бывает, они начинают оправдываться за то, что кучу времени потратили «ни на что», ибо интеллектуального оправдания тому, чем они занимались, нет. Но у вернувшегося с рыбалки обычно примечательно много сметки – и обычно касаемо того, что ему до смерти надоело пару недель назад. Он не тратил времени впустую. Так кажется лишь с нашей ограниченной культурной точки зрения.
Когда собрался чинить мотоцикл, первый и наиважнейший инструмент – достаточный запас сметки. Если у тебя его нет, можно убирать инструменты в шкаф – пользы от них не будет.
Сметка – психическое горючее, на котором все и движется. Если ее нет, мотоцикл никак не починится. А вот если сметка есть и ты знаешь, как ее в себе удержать, ничто на белом свете не помешает тебе отремонтировать мотоцикл. Успех неизбежен. Стало быть, именно за сметкой надо все время следить и беречь ее как зеницу ока.
Первостепенная важность сметки решает проблему формата нашего шатокуа. Проблема в том, как отойти от общих мест. Если шатокуа забредет в дебри ремонта конкретной машины, скорее всего, эта машина будет не твоей марки и модели; информация окажется не только бесполезной, но и опасной – сведения, способные починить одну машину, иногда ломают другую. Подробную объективную информацию тебе предоставят отдельные руководства для конкретных моделей и марок. Пробелы заполняются общими инструкциями, вроде «Справочника автомобилиста Одела»[32].
Есть иные подробности, которых не описывает ни один справочник, но они – общие для всех машин; их можно привести здесь. Это детали отношений Качества, сметки, отношений между машиной и механиком – они не проще самой машины. При починке всегда возникает нечто низкокачественное – пыль в шарнире, случайно запоротый «незаменимый» узел. Такое истощает сметку, херит энтузиазм и так обламывает, что хоть бросай. Я называю такие штуки «ловушками сметки».
Есть сотни ловушек сметки, а может, и тысячи, а может – миллионы. Никогда не поймешь, скольких не знаешь. Это лишь кажется, будто попадал во все мыслимые ловушки сметки. Не дает расслабиться одно: с каждой новой работой их находишь все больше. Уход за мотоциклом расстраивает. Злит. Приводит в ярость. Тем интереснее.
Карта подсказывает, что скоро впереди появится городок Бейкер. Угодья здесь получше. Больше дождя.
У меня в голове сейчас каталог «Ловушки сметки, в которые я попадался». Хочу основать совершенно новую область знания – сметковедение: в ней все они сортируются, классифицируются, структурируются в иерархии и вступают в отношения между собой в назидание потомству и к выгоде человечества.
Сметковедение, вводный курс – Исследования аффективных, когнитивных и психомоторных блоков в восприятии отношений Качества. 3 зачета, VII семестр, пн, ср, пт. Хотел бы я видеть такой пункт в буклете какого-нибудь университета.
В традиционном уходе обычно считается, что со сметкой рождаешься или приобретаешь ее при хорошем воспитании. Либо есть, либо нет. Поскольку никто не выдает, как приобрести эту сметку, логично допустить, что человек вообще без нее – случай безнадежный.
В недуалистическом уходе сметка отнюдь не фиксированная величина. Она переменна, она – резервуар доброго духа, который можно наполнять или опустошать. Раз она результат восприятия Качества, стало быть, ловушку сметки можно определить как то, что ведет к потере Качества из виду, а значит, и к утрате энтузиазма в работе. Как легко догадаться по столь широкому определению, поле это огромно, и тут можно дать лишь первый набросок.
Насколько я понимаю, есть два основных типа ловушек сметки. Первые сбивают с пути Качества условиями, возникающими из внешних обстоятельств, – я называю их «задержками». Ловушки второго типа сбивают с пути Качества тем, что в первую очередь возникает в тебе самом. Для этих у меня нет родового имени, разве что «зависы». Сначала внешне обусловленные задержки.
Когда впервые берешься за большую работу, кажется, будто больше всего неприятностей приносит непоследовательная сборка. Обычно это случается, едва решишь, что уже почти закончил. Потратил не один день, все наконец сложено вместе, кроме… Что это? Втулка соединительного стержня?! Как ты мог ее забыть? О господи, снова все разбирать! Ты уже слышишь, как испаряется сметка. Пс-с-с.
Ничего не поделаешь – придется возвращаться, снова все разбирать… после перерыва до месяца, за который привыкаешь к этой мысли.
У меня есть два метода предотвратить непоследовательную сборку. Мне они полезны, когда я влезаю в агрегат, про который ничего не знаю.
Тут надо сделать отступление. Есть одна школа механической мысли, которая утверждает: не лезь в сложные узлы, о которых ничего не знаешь. Сперва обучись – либо зови спеца. Такую своекорыстную элитарную механику я в гробу видал. Это «спец» сломал ребра воздушного охлаждения на блоке цилиндров у моей машины. Я редактировал руководства для обучения специалистов из «Ай-би-эм» и могу сказать: по окончании курса они не так уж много чего знают. При самостоятельной сборке преимущество поначалу не на твоей стороне; быть может, ремонт тебе чего-то будет стоить – замены случайно запоротых деталей, к примеру; и почти несомненно, все это сильно затянется. Но когда влезешь туда в следующий раз – уже будешь намного опережать спеца. С помощью сметки ты сам изучил узел труднейшим способом, и теперь ты к этому узлу всячески расположен, а у спеца вряд ли когда появится столько добрых чувств к нему.
Ладно, первый метод предотвращения этой ловушки – записная книжка, куда я заношу порядок разборки и отмечаю все необычное, что может затруднить сборку. Эта записная книжка несколько засаливается и на вид становится безобразной. Но бывали случаи, когда одно-два слова из нее, при записи казавшиеся незначительными, предотвращали поломку и экономили многие часы работы. В таких заметках надо обращать особое внимание на ориентацию деталей влево-вправо и вверх-вниз, на цветовое обозначение и расположение проводов. Если что-то выглядит сношенным, поврежденным и разболтанным, самое время это отметить, чтобы потом закупать все запчасти сразу.
Второй метод предотвращения ловушки непоследовательной сборки – газеты, расстеленные на полу гаража, куда выкладываются все детали слева направо и сверху вниз, как читаешь страницу. Когда собираешь все в обратном порядке, винтики, шайбочки и штифтики, которые легко проглядеть, по мере необходимости попадают в зону внимания.
Но даже с этими предосторожностями непоследовательные сборки иногда случаются, и вот тогда надо следить за сметкой. Берегись сметочного отчаянья – когда в попытке восстановить сметку дико спешишь, наверстывая упущенное время. Это лишь ведет к новым ошибкам. Когда заметил, что нужно возвращаться и снова все разбирать, – самое время сделать долгий перерыв.
От этих сборок важно отличать те, что оказались непоследовательными, потому что тебе не хватило данных. Часто вся сборка делается методом экспериментального тыка: все разбираешь, заменяешь что-то, потом опять все собираешь и смотришь, будет работать или нет. Если замена не работает, это не задержка, ибо полученная информация движет тебя вперед.
Но если при сборке допустил всего-навсего тупую ошибку, какую-то долю сметки еще можно спасти: ты знаешь, что вторая разборка и сборка наверняка пройдут намного быстрее. Ты подсознательно выучил все, так что заново учить не придется.
Из Бейкера мотоцикл везет нас по лесам. Лесная дорога ведет на перевал и вниз, через леса на другой стороне.
Спускаясь по склону, видим, как деревья постепенно редеют, – и вот опять пустыня.
Пульсирующая поломка – следующая задержка. То, что не работает, вдруг исправляется, едва берешься чинить. Таковы короткие замыкания. Замыкает, когда машину трясет. Только остановишься – все в порядке. Починить почти невозможно. Пусть поломается снова, а если не захочет – ну его.
Пульсары становятся ловушками сметки, когда водят тебя за нос, заставляя думать, будто на самом деле ты уже все починил. Что бы ни делал, к такому выводу имеет смысл приходить только через несколько сотен миль. Возникая вновь и вновь, пульсары обескураживают, но тот, кто идет к платному механику, в сравнении с тобой ничего особо не выигрывает. Вообще-то у тебя положение выигрышнее. У того, кто вынужден снова и снова буксировать машину в мастерскую и не получать никакой отдачи, такие штуки ловят сметку эффективнее. На своей машине ты можешь изучать их долго, а платный механик не может себе этого позволить. Ну, возьмешь с собой инструменты, а когда поломка опять запульсирует, остановишься и поработаешь.
Когда пульсары возникают повторно, постарайся соотнести их с другими симптомами. Например, пропуски зажигания – только на выбоинах, только на поворотах, только при ускорении? Только в жару? Такие прикидки – ключ к гипотезам причины-следствия. При некоторых пульсарах придется бросать все и отправляться на долгие рыбалки, но как это ни утомительно, все не страшнее, чем возить мотоцикл к механику пять раз. Сильно искушение удариться в длинный трактат о «пульсирующих поломках, что попадались мне» с детальным описанием всех тех подвигов, которые я совершал, чтоб их исправить. Но это похоже на рыбацкие байки, интересные только рыболову, который не очень ловит, отчего все зевают. Ему-то в кайф.
Вслед за неверной сборкой и пульсирующей поломкой, наверное, у нас пойдет задержка из-за запчастей – самая обычная наружная ловушка сметки. Тот, кто все делает сам, может впасть в депрессию по ряду причин. Приобретая машину, запчасти ведь не планируешь покупать. Розничные торговцы не любят держать слишком большой ассортимент. Оптовики медлительны, и у них по весне постоянно не хватает персонала – а весной все и покупают запчасти к мотоциклам.
Цены на запчасти – вторая половина ловушки. Широко известна промышленная политика назначать цену на исходное оборудование в расчете на конкуренцию: покупатель всегда может пойти в другое место, – но отыгрываться на запчастях. Цена на запчасть не только взвинчена за пределы себестоимости; для тебя, поскольку ты не коммерческий механик, еще и особые цены. Такова хитрая организация, позволяющая механику богатеть, устанавливая ненужные детали.
И третий барьер. Запчасть может не подойти. В спецификациях деталей всегда есть ошибки. В модификациях марок и моделей вечно путаешься. Партии немерных деталей иногда не подвергаются контролю качества, поскольку на заводе такая проверка просто не предусмотрена. Некоторые детали изготовляют отдельные цеха, у которых нет доступа к необходимым техданным. Иногда изготовители сами путаются в марках и моделях. Иногда продавец записывает не тот номер. Иногда ты ему даешь не то описание. Но в итоге всегда – огромная ловушка сметки: дойти до дому и понять, что новая деталь не годится.
Ловушки запчастей можно преодолеть комбинацией нескольких методов. Во-первых, если в городе больше одного магазина запчастей, непременно выбирай тот, где продавец доброжелательнее. Завяжи с ним близкое знакомство. Часто оказывается, что он сам бывший механик и может снабдить кучей необходимой информации.
Никогда не упускай из виду тех, кто борется с конкурентами снижением цен, пасись у них. Автомагазины и те, кто высылает детали по каталогам, часто запасаются потребительскими деталями по ценам намного ниже, чем у специализированных мотоциклетных торговцев. Например, роликовую цепь можно купить у изготовителей значительно дешевле, чем в мотомагазине, где цену вздуют.
Всегда бери с собой старую деталь, чтобы не купить не то. Бери кронциркуль, чтобы сравнить размеры.
Наконец, если проблема запчастей измучила тебя так же, как меня, а кое-какие свободные средства есть, можно заняться весьма увлекательным делом – самостоятельной механической обработкой деталей. У меня есть маленький токарный станок 6×18 дюймов с фрезеровочным блоком и полный комплект сварочного оборудования: дуга, гелиевая дуга, газ и мини-газ. Ими можно наращивать изношенные поверхности металлом лучшего качества, нежели первоначальный, а затем подгонять допуск карбидными инструментами. Пока сам не начнешь работать – и не поймешь, насколько универсальна эта комбинация токарного, фрезерного и сварочного оборудования. Если не можешь выполнить всю работу сам, всегда можно сделать хоть что-то. Обработка детали – занятие неспешное, а кое-что, например шарикоподшипники, ты сам не обработаешь никогда, но удивительно, как удается модифицировать конструкцию детали, чтобы ее можно было обрабатывать на твоем оборудовании. Работа эта не столь медленна и утомительна – гораздо мучительней ждать, когда же какой-нибудь самодовольный торговец запчастями соизволит послать запрос на завод-изготовитель. И эта работа – построение сметки, не разрушение ее. Ездить на мотоцикле, в котором есть сделанные тобой детали, – обалденно, так не бывает от запчастей, купленных в магазине.
Въехали в полынь и пески пустыни, и двигатель зачихал. Переключаюсь на запасной бак, смотрю на карту. Заправляемся в городке Юнити, а пока – вдоль по черной, горячей дороге, через полынь, дальше.
В общем, все это самые распространенные задержки, что я смог вспомнить: непоследовательная сборка, пульсирующая поломка и проблемы с запчастями. Хотя они обычны, это лишь внешняя причина потери сметки. Пришло время рассмотреть кое-какие внутренние ловушки, действующие одновременно с внешними.
Как указано в описании курса сметковедения, эту внутреннюю часть можно подразделить на три основных типа внутренних ловушек сметки: блокираторы эмоционального понимания («ценностные ловушки»); блокираторы познавательного понимания («ловушки истины»); и блокираторы психомоторного поведения («мускульные ловушки»). Ценностные ловушки – пожалуй, самая крупная и опасная группа.
Из ценностных ловушек наиболее распространена и пагубна ценностная ригидность – неспособность переоценить то, что видишь, из-за приверженности прежним ценностям. В уходе за мотоциклом надо по мере продвижения открывать все заново. С непоколебимыми ценностями это невозможно.
Вот типичная ситуация – мотоцикл не работает. Все факты перед носом, но ты их не видишь. Пялишься на них, но им пока не хватает ценности. Федр об этом говорил. Качество, ценность создает субъекты и объекты мира. Фактов не существует, пока их не создаст ценность. Если твои ценности ригидны, не сможешь учиться новым фактам.
Показателем часто служит преждевременный диагноз, когда уверен, будто знаешь, в чем причина неполадки, а если потом все оказывается не так, застреваешь. Приходится подбирать новые ключи, но прежде надо очистить голову от старых мнений. Если же тебя подводит ценностная ригидность, запросто можно проморгать подлинный ответ, даже когда он смотрит тебе в глаза, ибо ты не видишь его важности.
Всегда чудесно переживать рождение нового факта. Дуалистически оно называется «открытием» – поскольку предполагается, будто факт существует независимо от его осознания. Возникая, он поначалу всегда обладает низкой ценностью. Позже, в зависимости от ценностной раскрепощенности наблюдателя и потенциального качества самого факта, ценность возрастает – медленно или быстро – или же убывает, и факт исчезает совсем.
Подавляющее большинство фактов, видов и звуков, которые мы осознаем каждую секунду, отношения между ними и все, что в нашей памяти, – здесь нет Качества или, точнее, качество это отрицательно. Живи они все у нас в сознании одновременно, оно было бы так загромождено бессмысленной информацией, что мы б не смогли ни думать, ни действовать. Потому мы и проводим предварительный отбор, основываясь на Качестве, или, по Федру, путь Качества предварительно отбирает, какие данные мы собираемся осознавать, и совершает отбор, дабы гармонизировать то, что мы есть, с тем, чем мы становимся.
Если же попался в ловушку ценностной ригидности, нужно всего-навсего притормозить (тормозить волей-неволей придется в любом случае) – притормозить намеренно и пройти еще раз там, где уже побывал, посмотреть, действительно ли важно то, что казалось важным, и… ну… посидеть, уставясь на машину. Тут ничего такого нет. Просто свыкнись с этим состоянием. Посмотри – как на рыбалке смотришь на леску, и совсем немного погодя – верно тебе говорю – начнет поклевывать: это маленький фактик робко, смиренно спрашивает, не заинтересуешься ли. Именно так мир продолжается. Заинтересуйся.
Сначала постарайся понять этот новый факт не столько в свете своей большой проблемы, сколько ради него самого. Проблема твоя, быть может, не так велика. А фактик – не так уж мал. Может, тебе нужен вовсе не этот факт, но в этом по крайней мере нужно сперва убедиться, а уже потом отсылать его прочь. Часто перед самым прощанием понимаешь, что у него есть друзья – сидят тут же и смотрят, что ты им скажешь. Среди них может оказаться и тот факт, что тебе нужен.
Возможно, через некоторое время ты поймешь: твой клев гораздо интересней первоначальной цели починить машину. Если такое случится – считай, приехал. Ты уже не просто механик по мотоциклам, а мотоциклетный ученый; ты преодолел ловушку ценностной ригидности.
Дорога снова поднялась к соснам, но по карте вижу, что это ненадолго. Вдоль трассы – рекламные щиты каких-то курортов, под ними – дети, словно часть рекламы, собирают шишки. Машут нам, а у самого маленького шишки рассыпаются.
Меня не отпускает эта аналогия – выуживание фактов. Так и слышу раздраженный вопрос: «Да, но что за факты ловишь? Тут же не просто так все».
Тем не менее знай: если понимаешь, какие факты ловить, ты их больше не ловишь. Поймал. Попробую придумать конкретный пример…
В уходе за мотоциклом бывает всякое, но на ум приходит самый показательный образец – старая «южноиндийская ловушка для обезьян»: ее эффективность зависит как раз от ценностной ригидности. Ловушка состоит из пустого кокосового ореха, привязанного к колышку. Внутри кучка риса, его можно достать через дырочку. В дырочку проходит лишь рука обезьяны, а вот кулак с рисом уже не проходит. Обезьяна сует в орех руку – и попадается на своей ригидности ценностей. Переоценить рис она не способна. Не видит, что свобода без риса ценнее неволи с рисом. Вот и селяне за ней уже пришли. Подходят… ближе… ближе!.. все! Какой общий совет – не частный, именно общий – дать бедной обезьянке в таких обстоятельствах?
Сдается мне, ты повторишь ей ровно то же, что я говорил о ценностной ригидности, – может, настойчивее. Обезьяне полезно знать: если разожмет кулак, она свободна. Но как ей этот факт обнаружить? Исключив ригидность ценностей, ставящую рис выше свободы. Как ей это сделать? Ну, неким манером намеренно притормозить, вернуться туда, где уже побывала, и посмотреть, впрямь ли важно то, что она считала важным, – а потом перестать дергаться и некоторое время посидеть, уставясь на кокосовый орех. Немного погодя у обезьяны наклюнется фактик, поинтересуется, не интересует ли. А она должна осознать его не столько в свете большой проблемы, сколько ради него самого. Проблема может оказаться не так велика. А фактик – не так уж мал. Вот, пожалуй, и вся общая информация, которую можно ей дать.
У Прейри-Сити опять выезжаем из горных лесов – к иссушенному городку с широкой главной улицей, которая через центр опять выводит прямо в прерию. Тычемся в один ресторан – закрыто. Переходим через дорогу и пробуем другой. Дверь открыта, садимся и заказываем по солодовому молоку. Ожидая заказа, я достаю план письма, которое Крис собирался писать маме. К моему удивлению, он начинает над ним пыхтеть, вопросов не задает. Откидываюсь на спинку сиденья и не мешаю.
Не проходит ощущение, что факты про Криса – тоже у меня перед носом, но моя ригидность ценностей не дает мне их увидеть. Временами кажется, будто мы движемся параллельно, а не совместно – и сталкиваемся наобум.
Дома всегда начинаются неприятности, если он пытается мне подражать – командовать другими, в особенности младшим братом, как я командую им самим. Само собой, такого никто не потерпит, а он не понимает, что они в своем праве; тогда-то и начинается кошмар.
Похоже, ему плевать, популярен он или нет. Он хочет быть популярным только у меня. С учетом всего остального это совсем не здорово. Пора бы ему начинать долгий процесс откола. Откалываться нужно как можно легче, но нужно. Пора ставить его на собственные ноги. Чем раньше, тем лучше.
Но, пораскинув мозгами, я больше в это не верю. Не знаю, что с ним не так. Не дает покоя сон, что снится мне снова и снова, – некуда деваться от его смысла: я всегда по другую сторону стеклянной двери, и я ее не открываю. Крис хочет, чтоб я открыл, а я раньше всегда отворачивался. А теперь – новая фигура, мешает мне. Странно.
Немного погодя Крис говорит, что устал писать. Поднимаемся, я расплачиваюсь у стойки, и мы уходим.
Снова на дороге, и снова разговор о ловушках сметки.
Следующая важна. Внутренняя ловушка эго. Эго вовсе не отдельно от ценностной ригидности, оно – одна из многих ее причин.
Если оцениваешь себя высоко, у тебя уже не так хорошо получается узнавать новые факты. Эго изолирует тебя от реальности Качества. Когда факты показывают, что ты опростоволосился, признать это трудновато. А если ложная информация показывает тебя в хорошем свете, ты, скорее всего, ей поверишь. При любой ремонтной механической работе самой грубой обработке подвергается эго. Ты все время в дураках, постоянно делаешь ошибки, а если механику надо защищать свое большое эго, ему очень не позавидуешь. Если у тебя достаточно знакомых механиков и твои наблюдения совпадают с моими, видимо, ты согласишься: механики склонны к скромности и спокойствию. Есть исключения, но, в общем, если даже они такими не родились, скромными и спокойными их делает работа. И еще – скептиками. Внимательными – но скептиками. Но без эгоизма. Хлестаться в механической работе невозможно – поверят тебе лишь те, кто не знает, что ты умеешь.
…Я собирался сказать, что машина не реагирует на твою личность, но она реагирует на твою личность. Просто реагирует она на твою подлинную личность – ту, что поистине чувствует, мыслит и действует, а не на ложные, раздутые образы личности, которые выдумывает эго. Из ложных образов воздух выходит так быстро и окончательно, что хочешь не хочешь, а вскоре обломаешься, если строил сметку на эго, а не на Качестве.
Если скромность тебе дается нелегко или неестественно, единственный выход – все равно симулировать скромность. Стоит намеренно допустить, что бестолков, уровень сметки у тебя скакнет вверх – сами факты докажут, что такое допущение верно. Так сможешь продолжать, пока фактам не придет срок доказать, что допущение было не верно.
Мандраж, следующая ловушка сметки – некая противоположность эго. Уверен, что все сделаешь не так, поэтому боишься вообще что-то делать. Зачастую именно из-за этого, а вовсе не из-за «лени» тебе так трудно начать. Эта ловушка мандража возникает из повышенного желания, и чрезмерная суета может привести к любым ошибкам. Чинишь то, что не надо, гоняешься за воображаемыми неисправностями. Приходишь к скоропалительным выводам и ляпаешь ошибки из-за собственной нервозности. А когда напортачишь, это лишь укрепляет твою первоначальную недооценку себя. Отсюда новые ошибки, от них еще больше недооценки – и так далее, круг сам себя накручивает.
По-моему, лучший способ вырваться из такого круговорота – выразить все свои тревоги на бумаге. Прочти по возможности все книги и журналы по своему предмету. Мандраж этому только поспособствует, и чем больше читаешь, тем больше успокаиваешься. Помни, ты стремишься к душевному покою, а не просто к отремонтированной машине.
Начиная ремонт, составь на листках бумаги список того, что нужно сделать, а потом разложи карточки в нужной последовательности. Чем больше их раскладываешь и перекладываешь, тем больше мыслей приходит в голову. Потратишь время на это – сэкономишь на машине, все окупится стократно, зато без лишней суеты, дров не наломаешь.
Мандраж слегка уменьшится, если вспомнишь, что нет в природе такого механика, который ни разу ничего не запорол. Но между тобой и платным механиком есть разница: когда портачит он, ты об этом не подозреваешь, а просто платишь, и дополнительные расходы плавно растекаются по всем твоим счетам. А если ошибаешься сам, по крайней мере, у тебя есть преимущество – чему-то научишься.
Следующая ловушка сметки – скука. Она противоположна мандражу и обычно идет рука об руку с проблемами эго. Скука значит, что ты сошел с пути Качества, ничего не видишь свежим взглядом, утратил свой «ум новичка», а твоему мотоциклу грозят кранты. Скука значит, что твой запас сметки истощился, его надо сначала восполнить, а потом работать дальше.
Когда скучно – стой! Сходи в кино. Включи телевизор. Брось все к чертовой матери. Что угодно, только не трогай машину. Если не остановишься, случится Большая Ошибка – и тогда вся твоя скука плюс Большая Ошибка вместе сшибут тебя с ног и выбьют всю сметку. Там-то и засядешь по-настоящему.
Мое любимое лекарство от скуки – сон. Когда скучно, заснуть легко, а после долгого отдыха трудно скучать. Следующий любимец – кофе. Работая с машиной, я всегда включаю кофейник. Если ни то ни другое не помогает, значит, беспокоят и отвлекают проблемы Качества поглубже. Скука – сигнал: обрати внимание на эти проблемы (ты и так обращаешь), сначала возьми их в оборот, а потом работай с мотоциклом дальше.
Для меня самая скучная задача – мыть машину. Пустая трата времени, нет? Машина пачкается, едва на нее сядешь. Джон всегда держит свой «BMW» в образцовом состоянии. Любо-дорого смотреть, а мой вечно какой-то замызганный. Вот типичный классический ум: внутри работает как часы, а снаружи выглядит неопрятно.
Проблему скуки при некоторых работах – смазке, например, смене масла или регулировке – можно решить, превратив их в некий ритуал. У незнакомой работы своя эстетика, у знакомой – своя. Встречается два вида сварщиков: промышленные – они не любят сложных конструкций, им нравится делать что-то одно снова и снова; и ремонтные – они терпеть не могут выполнять одну работу дважды. Весь прикол в том, что, нанимая на работу сварщика, надо проверить, к какому типу он относится, поскольку они не взаимозаменяемы. Я отношусь к последнему классу; наверное, поэтому мне гораздо больше по кайфу искать неполадки, а вот мыть машину я не люблю особой нелюбовью. Хотя если надо, могу делать и то, и другое – ты тоже сможешь. Я мою и чищу ее так, как большинство ходит в церковь: не узнавать что-нибудь новенькое, хоть к новому я и восприимчив, а скорее вновь знакомиться с известным. Иногда приятно гулять по старым тропинкам.
О скуке есть что сказать дзэну. Его основная практика «просто сиди» – наверное, самое скучное занятие на свете (если не считать индуистской практики «захоронения заживо»). В общем-то ничего не делаешь: не движешься, не думаешь, ни о чем душа не болит. Что может быть скучнее? Однако в центре этой скуки – то, чему дзэн-буддизм стремится научить. Что же? Что там, в самом центре скуки, чего ты не видишь?
К скуке близко нетерпение, но оно всегда возникает по одной причине – от недооценки количества времени на работу. Никогда ведь не знаешь, что произойдет, и далеко не все работы делаются быстро, как планировалось. Нетерпение – первая реакция на задержку, и оно вскоре может перерасти в злость, так что будь осторожнее.
Нетерпение лучше всего преодолевать, не ставя себе сроков – в особенности при какой-нибудь новой работе, где требуется применять незнакомые приемы; удвоив отведенное время, когда обстоятельства вынуждают планировать; масштабировав все, что нужно сделать. Общие цели следует масштабировать по убыванию важности, непосредственные задачи – по возрастанию. Это требует гибкости ценностей, а при смене ценностей обычно происходит некоторая потеря сметки, но это нужная жертва. Она не сравнится с утратой сметки в случае Большой Ошибки по нетерпению.
Мое любимое упражнение по масштабированию – чистка гаек, болтов, штифтов и резьбовых отверстий.
У меня просто фобия сбитых, запоротых, заржавевших или забитых грязью резьб – гайки из-за них откручиваются медленно или туго; найдя такую резьбу, я замеряю ее штангенциркулем и резьбомером, вытаскиваю метчики и головки, снова нарезаю, проверяю, смазываю – тут-то и открываются новые горизонты терпения. Другое упражнение – уборка инструмента, который после работы валяется по всей мастерской. Оно полезное, ибо о нетерпении в числе первых предупреждает раздражение от того, что не можешь сразу взять инструмент, который именно сейчас позарез нужен. Если всего-навсего остановишься и аккуратно разложишь все по местам – и инструмент найдешь, и нетерпение умеришь без лишней траты времени и без вреда для работы.
Въезжаем в Дэйвилл, а седалище мое уже как бетонное.
Ну, вроде про ценностные ловушки всё. Их, конечно, гораздо больше. На самом деле, я лишь коснулся этой темы – показать, что в ней есть. Какого механика ни возьми, почти любой мог бы часами тележить о ценностных ловушках, про которые я ничего не знаю. Ты и сам при любой работе станешь открывать их во множестве. Наверное, лучше всего запомнить одно: как попадешь в ценностную ловушку – распознай ее и победи, а потом работай с машиной дальше.
В Дэйвилле – огромные раскидистые деревья у бензоколонки, где дожидаемся служителя. Никто не появляется, а опять садиться за мотоцикл неохота, и мы разминаем затекшие ноги под деревьями. Большие кроны почти накрывают дорогу. Странно в такой засушливой местности.
Служитель по-прежнему скрывается, но нас видит его конкурент с заправки напротив, через узкий перекресток, – и вскоре подходит залить нам бак.
– Не знаю, куда Джон девался, – говорит он.
Но вот Джон наконец появляется, благодарит конкурента и гордо произносит:
– Мы всегда так друг друга выручаем.
Спрашиваю, можно ли где-нибудь здесь отдохнуть, и он отвечает:
– Располагайтесь у меня на лужайке. – Показывает свой дом под тополями через дорогу: лужайка там – три или четыре фута в диаметре.
Так и делаем – растягиваемся в высокой зеленой траве, и я замечаю, что трава и деревья орошаются из придорожной канавы, где течет чистая вода.
Должно быть, спали мы с полчаса – а потом видим Джона в кресле-качалке на травке рядом; беседует с начальником пожарной команды, тот сидит в другом кресле. Прислушиваюсь. Меня интригует ритм беседы. Разговор бесцелен, он просто так, заполнить время. Я не слыхал таких размеренных, медленных бесед годов с тридцатых, когда похоже говорили мои дед, прадед, дядья и дедовы братья: дальше, дальше и дальше, без всякой цели и смысла, только занять время. Словно в кресле качаешься.
Джон замечает, что я проснулся, и мы разговариваем. Он сообщает, что вода для поливки идет из «Канавы Китайца»:
– Белого ни в жисть не заставишь выкопать такую канаву, – говорит он. – Ее прорыли восемьдесят лет назад – думали, тут есть золото. Теперь такой канавы уже нигде не сыщешь. – Говорит, потому деревья и большие такие.
Коротко рассказываем, откуда мы и куда едем, а когда собираемся уезжать, Джон говорит, что рад был встрече и надеется, что мы хорошо отдохнули. Выезжая под деревья, Крис оборачивается и машет, а Джон улыбается и машет в ответ.
Пустынная дорога вьется по горным ущельям и между склонов. В местности суше мы еще не бывали.
Теперь давай поговорим о ловушках истины и мускульных ловушках – и тогда на сегодня все.
Ловушки истины касаются постигаемых данных, которыми гружены вагоны поезда осознания. Данными этими преимущественно манипулируют привычная дуалистическая логика и научный метод, о которых говорилось раньше, сразу после Майлз-Сити. Но одна ловушка истины сюда не попадает – логика «да-нет».
Да и нет… это или то… один или ноль. На таком элементарном двучленном различении построено все человеческое знание. Демонстрируется компьютерной памятью, которая хранит все свое знание в форме бинарной информации. Там только единицы и ноли, больше ничего.
Мы не привыкли и потому обычно не видим, что есть и третий возможный логический член, равный «да» и «нет», а он может подтолкнуть наше понимание в неожиданную сторону. У нас даже нет для него названия, поэтому придется взять японское слово му.
Му означает «не что-то». Как и «Качество», оно указывает наружу дуалистического различения. Му просто говорит: «Нет класса; ни ноль, ни единица, ни да, ни нет». Оно утверждает, что в контексте вопроса ответы «да» и «нет» ошибочны, так отвечать нельзя. «Возьми вопрос обратно», – вот что оно говорит.
Му уместно, когда контекст вопроса слишком мал для истины ответа. Когда дзэнского монаха Дзесю спросили, обладает ли пес природой Будды, он сказал: «Му», – в том смысле, что ответь он так или этак, все равно ответил бы неправильно. Природу Будды нельзя ухватить вопросами, требующими ответа «да» или «нет».
Очевидно, что в естественном мире, исследуемом наукой, му существует. Просто мы, как обычно, всем своим наследием обучены не видеть его. Например, нам твердят снова и снова: контуры компьютера являют лишь два состояния – напряжение, принимаемое за «единицу», и напряжение, принимаемое за «ноль». Но ведь глупо же!
Любой радиоэлектронщик знает, что это не так. Валяй, ищи напряжение единицы или ноля, когда питание отключено! Контуры – в состоянии му. Ни на единице, ни на ноле, они – в неопределенном состоянии, не имеющем смысла, если искать его в единицах и нолях. Во многих случаях вольтметр будет показывать «блуждающие» токи заземления: техник в них читает не характеристики компьютера, а характеристики самого вольтметра. Тут вот в чем дело: отключенное питание – это состояние в контексте, который шире того, где пара «один-ноль» считается универсальной. Вопрос о единице или ноле «взят обратно». Также есть множество иных состояний компьютера, в которых можно найти ответы му, потому что их контексты шире универсальности единиц-нолей.
Дуалистический ум склонен полагать, что явление му в природе – некое контекстуальное надувательство или неважная мелочь, однако му отыскивается во всех научных исследованиях, а природа никого не надувает, и ее ответы всегда важны. Это великая ошибка, так нечестно – заметать му-ответы природы под ковер. Признание и оценивание этих ответов очень поможет подвести логическую теорию ближе к экспериментальной практике. Каждый лабораторный ученый знает: результаты его экспериментов часто выдают ответы му на вопросы «да-нет», на которые эксперименты и рассчитывались. В таких случаях он считает, что эксперимент плохо продумали, бранит себя за глупость и, в лучшем случае, расценивает «проведенный впустую» эксперимент, выдавший ответ му, как некий холостой ход: авось в разработке будущих экспериментов по принципу «да-нет» таких ошибок избежим.
Низкая оценка эксперимента, выдавшего ответ му, не оправданна. Му – важный ответ. Он сообщил ученому, что контекст вопроса слишком мал для ответа природы, и контекст надо расширять. Это очень важный ответ! Он очень поможет ученому лучше понимать природу, что с самого начала и было целью эксперимента. Осмелюсь утверждать: наука больше развивается ответами му, нежели «да» или «нет». «Да» или «нет» подтверждают или отрицают гипотезу. Му говорит, что ответ – за пределами гипотезы. Му – «явление», вдохновляющее научный поиск! В нем нет ни мистики, ни эзотерики. Это наша культура нас деформировала, и мы о нем выносим низкое ценностное суждение.
В уходе за мотоциклом ответ му, даваемый машиной на многие диагностические вопросы, – главная причина утраты сметки. Такого не должно быть! Если получаешь неопределенный ответ на свой тест, это значит одно из двух: либо процедуры твоего теста не выполняют того, что ты задумал, либо твое понимание контекста требует расширения. Проверь тесты и снова изучи вопрос. Не отбрасывай ответов му! Они так же необходимы в каждой своей малости, как и ответы «да» или «нет». Они жизненно необходимы. На них ты растешь!
…Похоже, мотоцикл понемногу греется… но это, видимо, просто местность такая, сухая и горячая… Оставлю ответ в состоянии му… пока не станет лучше или хуже…
Надолго останавливаемся в городке Митчелл выпить шоколадного коктейля. Городок угнездился в сухих холмах, их видно в широкое окно. На грузовике подъезжают какие-то ребята, выгружаются, заходят в ресторан и как-то весь его оккупируют. Ведут себя вполне прилично – в разумных пределах; они просто шумны и энергичны, но заметно, что хозяйка заведения напряглась.
Снова пустыня, пески. Туда нам и ехать. День заканчивается: покрыли мы очень много. У меня все уже болит от долгого сидения на мотоцикле. Устал как собака. Крис тоже – еще в ресторане. К тому же он подавлен. Может, он… в общем… ладно, не стоит…
Расширение му – только это я и хочу сказать насчет ловушек истины. Пора переключаться на психомоторные ловушки. Вступаем в царство понимания, непосредственно связанного с тем, что происходит с машиной.
Здесь, пожалуй, больше всего раздражают неадекватные инструменты. Ничто так не деморализует, как завис с инструментами. Если можешь себе позволить, покупай только хорошие, никогда не пожалеешь. Хочешь сэкономить – присматривайся к объявлениям о распродажах в газетах. Хорошие инструменты, как правило, не снашиваются, и хорошие подержанные инструменты гораздо лучше плохих новых. Изучай каталоги инструментов. Там много полезного.
После плохих инструментов основная ловушка сметки – плохая обстановка. Обращай внимание на освещение. Поразительно, сколько ошибок предотвратит немного света.
Физического дискомфорта не удастся избежать вовсе, но если его много – например, в жару или холод, – будь осторожнее, твои оценки могут улететь мимо кассы. Если замерз, к примеру, будешь спешить и скорее всего напортачишь. А если жарко, твой порог злости опускается слишком низко. По возможности избегай неудобных поз. Маленькие табуретки по бокам мотоцикла намного увеличат терпение – так меньше вероятности, что запорешь какой-нибудь узел.
В некоторых серьезных повреждениях виновата одна психомоторная ловушка сметки – мускульная нечувствительность. Частично она бывает от недостатка кинестезии – неумения понять, что внешние части мотоцикла грубы, а вот в двигателе – нежные, точные детали, которые легко повредить мускульной нечувствительностью. Есть такое «чувство механика» – очевидное для тех, кто знает, что это, однако труднообъяснимое для прочих; видя, как с машиной работает тот, у кого его нет, страдаешь вместе с его машиной.
Чувство механика возникает из глубоко внутреннего кинестетического ощущения упругости материалов. У некоторых материалов – керамики, например, – ее очень мало: нареза́ть фарфоровый патрубок следует осторожнее, сильно не давить. Другие материалы – например, сталь – обладают огромной упругостью, она больше, чем у резины, но в твоем диапазоне работы (если не прилагаешь больших механических сил) упругость эта не проявляется.
А гайки и болты выводят тебя в диапазон больших механических сил, и тут надо понимать, что в таких диапазонах металлы упруги. Затягивая гайку, достигаешь такой точки, когда она «болтается»: контакт есть, а запас упругости не выбран. Потом гайка «подогнана»: когда выбирается легкая поверхностная упругость. И наконец, точка «тугой» гайки – в ней выбрана вся упругость. Сила для достижения этих трех точек различна для каждого размера гайки и болта, для болтов со смазкой и контргаек. Различны силы для стали и чугуна, меди и алюминия, пластиков и керамики. Но обладая чувством механика, знаешь, когда затянуто туго, и вовремя останавливаешься. А если его нет, минуешь эту точку и срываешь резьбу или запарываешь узел.
«Чувство механика» – это понимание не только упругости металла, но и его мягкости. В мотоцикле есть поверхности, точные до тысячной дюйма. Уронишь такую деталь или стукнешь по ней молотком, попадет на нее грязь или ты ее поцарапаешь – она утратит точность. Важно понимать, что металл под поверхностями обычно выдерживает сильные воздействия и напряжения, а вот сами поверхности – нет. Когда деталь застревает или ее трудно достать, человек с чувством механика старается не повредить поверхности и по возможности применяет инструменты к непрецизионным поверхностям детали. Когда же надо работать на прецизионных поверхностях, он всегда возьмет что помягче. Для такой работы есть латунные, пластиковые, деревянные, резиновые и свинцовые молотки. Они помогут. На тиски можно ставить пластмассовые, медные и свинцовые прокладки. Тоже помогают. Обращайся с точными деталями нежно. Никогда не пожалеешь. А если склонен колотить по всему, с чем работаешь, не сочти за труд – попробуй отнестись с уважением к этому шедевру, точной детали.
Длинные тени в пустыне оставили по себе какую-то подавленность и тоску…
Может, виновата обычная вечерняя депрессия, но после сегодняшних разговоров остался осадок: как будто я обошел то, ради чего все это говорилось. Меня спросят: «Ну а если я избегну всех ловушек сметки – тогда у меня все получится?»
Ответ здесь, разумеется: нет, ничего у тебя пока не выйдет. Еще ведь и жить надо правильно. Как живешь – так и ловушек избегаешь, так и нужные факты видишь. Хочешь знать, как написать совершенную картину? Легко. Стань совершенным, а потом пиши естественно. Так поступают все знающие люди. Создание картины или починка мотоцикла неотделимы от прочего твоего существования. Если ты неряшливый мыслитель шесть дней в неделю, когда не трогаешь свою машину, какие методы избегания ловушек, какие трюки вдруг прибавят тебе проницательности на седьмой? Все взаимосвязано.
Но если ты шесть дней в неделю неряшливый мыслитель, а на седьмой очень постараешься стать проницательным, может, следующие шесть дней уже не пройдут так же неряшливо, как предыдущие шесть. Все, что я тут болтал про ловушки сметки, – видимо, готовые рецепты правильной жизни.
Когда работаешь с мотоциклом, подлинный мотоцикл называется «ты сам». Машина, которая вроде бы «там снаружи», и личность, которая вроде бы «тут внутри», – не две разные вещи. Они тянутся к Качеству или отпадают от Качества вместе.
В Прайнвилл-Джанкшн приезжаем, когда до заката лишь несколько часов. Мы сейчас на перекрестке с 97-й трассой, где свернем на юг; заправляюсь, а потом вдруг понимаю: все, устал. Захожу за угол заправки, сажусь на крашеный желтым цементный бордюр, вытягиваю ноги на гравий, и последние лучи солнца бьют мне в глаза сквозь кроны деревьев. Подходит Крис, тоже садится, и никто ничего не говорит; раньше таких спадов не бывало. Столько трепать языком про ловушки сметки – и вот сам попался. Может, усталость. Надо поспать.
Некоторое время смотрю, как по трассе едут машины. В них что-то одинокое. Нет, не одинокое – хуже. Ничего в них нет. Как лицо служителя, когда наполняет бак. Ничего. Никакая обочина под ногами, никакой гравий на никаком перекрестке на пути никуда.
И у водителей что-то такое. Похожи на нашего служителя с заправки: таращатся прямо перед собой в неком персональном трансе. Такое не попадалось мне с тех пор, как… как Сильвия заметила это в первый день. Похоронная процессия какая-то.
То и дело кто-нибудь кидает взгляд и опять равнодушно отворачивается, словно не лезет не в свои дела, словно смутился, что мы заметили, как он на нас посмотрел. Я замечаю, потому что мы долго с этим не сталкивались. Машину здесь водят тоже иначе. Движутся с равномерной максимальной скоростью, допустимой в городе, будто стремятся добраться куда-то, а то, что вот сейчас прямо здесь – через него надо поскорее проехать. Думают, по-моему, скорее о том, где хотят оказаться, чем о том, где они есть.
А я вот знаю, в чем дело! Мы на Западном побережье! Мы снова все чужие! Блин, я просто забыл о самой большой ловушке сметки. Похоронная процессия! В ней едут все: этот разрекламированный, супермодерновый эго-стиль жизни «подите все в жопу», который считает, будто вся эта страна – его. Мы выпали так надолго, что я совсем про него забыл.
Вливаемся в поток на юг, и я чувствую, что эта опасность настигает. В зеркальце вижу: какая-то сволочь садится на хвост и не хочет проезжать дальше. Выхожу на семьдесят пять – не отстает. Девяносто пять – и мы отрываемся. Скверные дела.
В Бенде останавливаемся и ужинаем в модерновом ресторанчике, куда люди тоже заходят и едят, не глядя друг на друга. Обслуживают превосходно, однако безлично.
Чуть дальше к югу отыскиваем чахлый лесок, разделенный на потешные участочки. Очевидно, проект какого-нибудь застройщика. На одном участке, что подальше от трассы, расстилаем спальники и понимаем, что хвоя едва прикрывает толстенный слой рыхлой пыли. Никогда такого не видел. Тут надо осторожнее, не ворошить ногами хвою, а то пыль будет летать повсюду.
Расстилаем брезент, на него кладем спальники. Пожалуй, сгодится. Немного разговариваем о том, где мы сейчас и куда едем. В сумерках смотрю на карту, потом зажигаю фонарик. Сегодня проехали 325 миль. Ничего себе. Крис, похоже, устал так же основательно, как и я, и с такой же готовностью засыпает.
Часть 4
27
Вышел бы из тени, а? На что ты похож? Чего-то боишься, да? Чего ты боишься?
За фигурой в тени – стеклянная дверь. Крис – за ней, показывает, чтоб я открыл. Он уже старше, но лицо умоляет так же. «Что мне теперь делать? – будто спрашивает он. – Что мне делать дальше?» Он ждет, чтобы я объяснил.
Пора действовать.
Я присматриваюсь к фигуре в тени. Она не столь всемогуща, как некогда казалось. «Кто ты?» – спрашиваю я.
Нет ответа.
«По какому праву закрыта эта дверь?»
По-прежнему нет ответа. Фигура молчит, но теперь еще и ежится. Боится! Меня.
«Прячешься в тени, подумаешь! А если что похуже – тогда как? Ты поэтому молчишь?»
Фигура, похоже, дрожит, отступает – словно чувствует, что́ я собираюсь сделать.
Я жду, затем подступаю ближе. Отвратительная, темная, злая тварь. Ближе, глядя не на нее, а на стеклянную дверь, чтоб не спугнуть. Еще одна пауза, собираюсь и – бросок!
Мои руки проваливаются в мягкое там, где должна быть шея. Фигура корчится, я сжимаю сильнее – так держат змею. И вот теперь, сжимая все крепче и крепче, мы вытянем ее на свет. Вот так! А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ ЕЙ В ЛИЦО!
«Папа!»
«Пап!» – Я слышу голос Криса из-за двери?
Да! Впервые! «Папа! Пап!»
– Папа! Пап! – Крис дергает меня за рубашку. – Папа! Проснись! Пап!
Он плачет, уже всхлипывает:
– Папа, перестань! Проснись!
– Все хорошо, Крис.
– Пап, проснись!
– Я проснулся. – Едва различаю его лицо в раннем утреннем свете. Мы под деревьями где-то на открытом воздухе. Рядом мотоцикл. Наверное, где-то в Орегоне.
– Уже все в порядке, просто кошмар приснился.
Он не успокаивается, и я сижу тихонько с ним.
– Все хорошо, – говорю я, но он не перестает. Очень испугался.
Я тоже.
– Что тебе снилось?
– Я пытался увидеть чье-то лицо.
– Ты кричал, что убьешь меня.
– Нет, не тебя.
– Кого?
– Кого-то во сне.
– А кто это?
– Точно не знаю.
Плакать Крис перестает, но его трясет от холода.
– Ты увидел лицо?
– Да.
– Какое?
– Это было мое лицо, Крис, тогда я и закричал… Просто скверный сон. – Он весь дрожит, и я велю ему залезть обратно в спальник.
Слушается.
– Такая холодина, – говорит он.
– Да. – В первом свете я вижу пар нашего дыхания. Потом Крис забирается в спальник с головой, и я вижу только свой пар.
Я не сплю.
Тот, кому это приснилось, – вовсе не я.
Федр.
Он просыпается.
Ум, разделенный сам в себе… я… Это я – зловещая фигура в тени. Я – отвратительный…
Я всегда знал, что он вернется…
Теперь надо лишь подготовиться…
Небо под деревьями – такое серое, такое безнадежное.
Бедный Крис.
28
Отчаянье нарастает.
Будто наплыв в кино – знаешь, что ты не в реальном мире, но он все равно кажется реальным.
Холодный, бесснежный ноябрьский день. Ветер несет грязь в трещины закопченных стекол старого автомобиля, и Крис – ему шесть – сидит рядом, закутанный в свитера, потому что печка не работает. В грязные окна продуваемого насквозь автомобиля они видят, что движутся вперед, к серому бесснежному небу между кирпичных стен серых и серовато-бурых зданий, по осколкам и мусору на улицах.
– Где мы? – спрашивает Крис, а Федр отвечает:
– Не знаю, – и он действительно не знает, разума у него почти совсем уже нет. Он потерянно дрейфует по серым улицам. – Куда мы едем? – спрашивает Федр.
– К раскладушникам, – отвечает Крис.
– А они где? – спрашивает Федр.
– Не знаю, – отвечает Крис. – Может, если будем просто ехать, увидим.
И вот эти двое все едут и едут по бесконечным улицам, ищут раскладушников. Федру хочется остановиться, положить голову на руль и немного отдохнуть. Копоть и серость набились в глаза и стерли почти все узнавание у него в мозгу. Одна уличная табличка похожа на другую. Это серо-бурое здание – на то. Все дальше и дальше едут они, ищут раскладушников. Но раскладушников, знает Федр, он никогда не найдет.
Крис постепенно соображает: что-то не так человек за рулем больше не за рулем капитан умер а штурмана нет и он этого не знает а только чувствует и говорит останови и Федр останавливает.
Сзади бибикают, но Федр неподвижен. Сигналят и другие машины, потом еще и еще, и Крис в панике кричит:
– ПОЕЗЖАЙ! – и Федр медленно и мучительно давит на сцепление и трогает машину с места. Медленно, как во сне, они движутся по улицам.
– Где мы живем? – спрашивает Федр испуганного Криса.
Крис помнит адрес, но не знает, как туда ехать; тем не менее прикидывает – если расспросить побольше народу, дорога отыщется, поэтому говорит:
– Останови машину. – Выходит, спрашивает, как проехать, и направляет лишившегося рассудка Федра меж бесконечных стен кирпича и битого стекла.
Через много часов они приезжают, и мама в ярости, что они так поздно. Никак не может понять, почему они не нашли раскладушников. Крис объясняет:
– Мы везде искали, – но при этом бросает на Федра быстрый взгляд, полный страха, ужаса перед неизвестным. Вот с чего все началось для Криса.
Такого больше не будет…
Наверное, сейчас нужно доехать до Сан-Франциско, посадить Криса на автобус домой, а самому продать мотоцикл и сдаться в больницу… нет, вот это незачем… не знаю, что и делать.
Поездка же была не совсем впустую. У него обо мне хотя бы останутся хорошие воспоминания, когда вырастет. От этого тревога спадает. За такую мысль хорошо держаться. Вот и буду держаться.
Пока же просто поедем дальше и будем надеяться, что все исправится. Ничего не отбрасывай. Никогда, никогда ничего не отбрасывай.
* * *
Ну и холодрыга! Прямо зима! Где это мы, что такой мороз? Должно быть, тут очень высоко. Выглядываю из спальника и вижу изморозь на мотоцикле. В ранних лучах солнца искрится хромированный бензобак. На черной раме, куда попадает свет, иней тает бусинками росы, они скоро стекут на колесо. Так холодно, что не разлежишься.
Вспоминаю пыль под хвоей и ставлю ноги на землю очень осторожно, чтоб эту пыль не потревожить. У мотоцикла все распаковываю, вытаскиваю и натягиваю теплое белье, потом одежду, свитер, куртку. Все равно холодно.
Ступая по рыхлой пыли, выхожу на грунтовку меж сосен, которая нас сюда привела, и рву по ней футов сто, затем перехожу на размеренный бег и наконец останавливаюсь. Так лучше. Нигде ни звука. Дорогу тоже пятнает иней, но он уже тает, и дорога влажнеет и темнеет там, куда достают лучи. Такие белые, кружевные и нетронутые пятна инея. И на деревьях. Я тихо возвращаюсь обратно – словно боюсь потревожить восход. Ощущение ранней осени.
Крис еще спит, и мы не сможем никуда ехать, пока не прогреется воздух. Самое время подрегулировать мотоцикл. Я поворачиваю ручку на боковой крышке над воздушным фильтром и достаю из-под фильтра изношенный и грязный сверток с дорожным инструментом. Руки у меня не гнутся от холода, тыльные стороны в морщинах. Хотя морщины не от мороза. В сорок это признак близкой старости. Укладываю сверток на сиденье, разворачиваю… вот они все… как со старыми друзьями встречаешься.
Я слышу Криса, бросаю взгляд через сиденье: он шевелится, но не встает. Наверное, просто ворочается во сне. Немного погодя солнце согревается, и руки у меня уже не так коченеют.
Я собирался поговорить о народной мудрости при ремонте мотоцикла – о сотнях полезных вещей, которые узнаешь по мере продвижения: они обогащают то, что делаешь, не только практически, но и эстетически. Вроде бы тривиально, однако кто бы говорил.
Но, по-моему, лучше свернуть в другую сторону и закончить историю о нем. Я же так и не дорассказал – думал, не надо. А теперь самое время закончить, пока время еще есть.
Гаечные ключи такие холодные, что больно рукам. Но это хорошая боль. Настоящая, не воображаемая, и она – вот, бесспорно ощущается в руках.
…Идешь по тропе и замечаешь, что от нее отходит другая тропа – под углом, скажем, 30 градусов, немного дальше с той же стороны – еще одна, под более широким углом, скажем, 45 градусов, а еще дальше – третья, под прямым углом. И начинаешь понимать: где-то есть некая точка, куда ведут все эти тропы; возможно, многие решили, что туда имеет смысл сходить; и ты из простого любопытства сам себя спрашиваешь, не пойти ли и тебе.
В погоне за понятием Качества Федр раз за разом примечал тропинки, уводившие куда-то вбок от его пути. Федр считал, будто ему уже известна та общая идея, к которой все они вели – к Древней Греции, – но теперь засомневался, не проглядел ли чего.
Сара заходила к нему с лейкой и заразила мыслью о Качестве уже давным-давно, но лишь теперь он наконец спросил, где в английской литературе обучали Качеству как предмету.
– Батюшки, да не знаю я – я же не английский преподаю, – отвечала та. – Я преподаю классику. Моя область – греческий.
– А качество входит в греческую мысль? – спросил он.
– Качество – это вся греческая мысль, – сказала она, и Федр задумался. Иногда в ее манерах пожилой дамы сквозил некий тайный умысел, словно она, эдакий дельфийский оракул, имела в виду что-то еще; наверняка, впрочем, никогда не скажешь.
Древняя Греция. Странно, что для них Качество – все целиком; сегодня даже помыслить чудно́, будто Качество реально. Что за незримые перемены случились за это время?
На вторую тропу к Древней Греции Федра навело такое: этот вопрос, «Что есть Качество?», вдруг вторгся в систематическую философию. Федр считал, что уже покончил с этой темой. А «Качество» открыло ее вновь.
Систематическую философию изобрели греки. Тем самым они поставили на ней свою несмываемую печать. Хорошо подкрепляется утверждение Уайтхеда, что вся философия – лишь «примечание к Платону»[33]. Должна же была где-то начаться вся эта неразбериха с реальностью Качества.
Третья тропа возникла, когда Федр решил тронуться из Бозмена к докторской степени по философии – степень была необходима, чтобы дальше преподавать в Университете. Он хотел глубже исследовать значения Качества, – то, что начал на уроках. Но где? И в какой области?
Ясно, что понятия «Качество» нет ни в одной дисциплине, если эта дисциплина не философия. А по своему опыту с философией Федр знал, что дальнейшие изыскания вряд ли откроют ему что-нибудь новое касаемо очевидно мистического понятия в творческом письме.
Все яснее становилось, что, возможно, попросту нет нигде такой программы, в которой можно изучать Качество на тех условиях, что он выработал сам. Качество лежало не только вне академических дисциплин – оно было вне досягаемости методов всего Храма Разума. Вот так Университет это будет, где согласятся принять докторскую диссертацию, в которой соискатель отказывается определить основное понятие.
Федр долго рылся в каталогах, пока не обнаружил то, на что надеялся. Все-таки один такой университет был – Чикагский; там существовала междисциплинарная программа «Анализ идей и изучение методов». В экзаменационную комиссию входили профессора английской филологии, философии, китайской филологии и Председатель – профессор древнегреческой филологии. Колокол ударил, это все и решило.
С машиной вроде покончено, только масло поменять. Бужу Криса, все складываем и едем. Он еще сонный, но холодный ветер на дороге освежает его.
Дорога, обсаженная соснами, забирает выше; движение сегодня не особо сильное. Валуны между сосен – темные, вулканические. Это мы что ж, в вулканической пыли спали? А вулканическая пыль вообще бывает? Крис говорит, что хочет есть; я тоже.
В Ла-Пайне останавливаемся. Прошу Криса заказать мне на завтрак яичницу с ветчиной, а я пока на улице сменю масло.
На заправке у ресторана беру кварту масла и на гравии заднего двора вытаскиваю пробку, сливаю масло, ставлю пробку на место и заливаю новое; когда заканчиваю, новое масло на щупе сверкает под солнцем ясно и бесцветно, почти как вода. Ах!
Кладу на место разводной ключ, захожу в ресторан и вижу Криса; на столе мой завтрак. Иду в умывальную, привожу себя в порядок и возвращаюсь.
– Я есть хочу! – говорит Крис.
– Была холодная ночь, – отвечаю я, – и мы сожгли много энергии, только чтобы остаться в живых.
Яичница хороша. Ветчина тоже. Крис вспоминает про мой сон, про то, как он испугался, – и с темой завязано. Похоже, хочет что-то спросить, раздумывает, потом смотрит в окно на сосны, а потом все-таки спрашивает:
– Папа?
– Что?
– Зачем мы это делаем?
– Что?
– Все время едем?
– Просто страну посмотреть… каникулы.
Ответ его, видимо, не удовлетворяет. Но он вряд ли сознает, что в нем не так.
Меня бьет внезапная волна отчаянья – как на рассвете. Я ему лгу. Вот что не так.
– Мы же просто едем и едем дальше, – говорит он.
– Конечно. А ты бы что предпочел?
У него нет ответа.
У меня тоже.
Ответ приходит уже на дороге: мы заняты делом высочайшего Качества, – а больше ничего в голову не лезет. Но это ему понравится не больше того, что я сказал. Что тут еще скажешь? Рано или поздно перед тем, как попрощаться – если все к этому идет, – нам придется кое о чем поговорить. Если отгораживать его от прошлого, ему это скорее повредит, какая уж тут польза? Крису придется услышать про Федра, хотя многого ему не надо знать. Особенно конца.
Федр приехал в Чикагский университет, уже погрузившись в мир мыслей, настолько отличный от понятного нам с тобой, что в нем себя трудно представить, если б я даже помнил все. Знаю только, что Председателя не было, и заместитель допустил Федра на основании преподавательского опыта и способности вроде бы разумно выражать мысли. Что Федр тогда говорил – утрачено. Потом он несколько недель ждал Председателя в надежде получить стипендию, но когда Председатель наконец объявился, поимело место собеседование, состоявшее, по сути, из одного вопроса и ни одного ответа.
Председатель спросил:
– Какова ваша субстантивная область?
Федр ответил:
– Творческое письмо.
Председатель взревел:
– Это методологическая область! – и на этом собеседование практически завершилось. После непродолжительного разговора, который все равно ни к чему бы не привел, Федр запнулся, замялся, извинился и уехал обратно в горы. В свое время эта черта провалила его и в университете. Он застревал на вопросе и не мог думать ни о чем другом, а класс двигался дальше без него. Теперь же на раздумья о том, почему его область должна быть субстантивной или методологической, у него было целое лето, и все лето он только об этом и раздумывал.
В горах у границы лесов он питался швейцарским сыром, спал на сосновых ветках, пил воду из горных ручьев и думал о Качестве и о субстантивной и методологической областях.
Субстанция не меняется. Метод непостоянен. Субстанция относится к форме атома. Метод – к тому, что атом делает. В техническом письме так же разграничиваются физическое описание и функциональное. Сложный узел лучше всего описывается сначала через свои субстанции: подузлы и детали. А уж дальше – через свои методы: функции в их последовательности. Если смешаешь физическое и функциональное, субстанцию и метод, все запутаешь, читателя в том числе.
Но применять эти классификации к целой области знания – к творческому письму, например, – как-то произвольно и непрактично. Не бывает академических дисциплин без субстантивного или методологического аспекта. А у Качества, насколько понимал Федр, нет связи ни с тем, ни с другим. Качество – не субстанция. И не метод. Оно вне их обоих. Если строишь дом и пользуешься отвесом и ватерпасом – это потому, что прямая вертикальная стена устойчивее, а стало быть, Качество в ней выше, чем в кривой. Качество – не метод. Это цель, на которую метод направлен.
На самом деле, «субстанция» и «субстантивный» соответствовали «объекту» и «объективности», а их Федр отверг, чтобы получить недуалистическое понятие Качества. Когда все делится на субстанцию и метод – как на субъект и объект, – места для Качества вообще не остается. Его диссертация не могла входить в субстантивную область, ибо допустить раскол на субстантивное и методологическое значило бы отрицать существование Качества. А если Качество оставить, следует отбросить понятия субстанции и метода. Это – ссора с комиссией, а ссориться Федру вовсе не хотелось. Но он злился: вот обязательно надо было первым же вопросом срубать меня под корень? Субстантивная область? В какое прокрустово ложе они пытаются меня впихнуть?
Федр решил поближе познакомиться с комиссией и с этой целью провел кое-какие библиотечные раскопки. Он чувствовал, что мыслительная структура комиссии ему полностью чужда. Он не видел, где эта структура пересекается с крупной структурой его собственной мысли.
Особенно его встревожило качество изложения целей комиссии. Крайне смутно. Все описание работы комиссии было странным орнаментом довольно ординарных слов, состыкованных вместе самым неординарным способом; объяснение казалось гораздо сложнее тех объяснений, которых хотелось Федру. Тут звонили уже не те колокола, что он слышал раньше.
Он разыскал и изучил все написанное самим Председателем – и обнаружил тот же странный языковой узор. Стиль озадачивал, ибо совершенно не походил на Председателя, которого Федр видел лично. Председатель за короткое собеседование произвел на Федра впечатление своим быстрым умом и равно быстрым нравом. Тут же перед ним лежал образчик одного из самых двусмысленных и непостижимых стилей, что ему только приходилось читать. Энциклопедические фразы, где сказуемому не докричаться до подлежащего. Пояснения необъяснимо поясняли другие пояснения, столь же необъяснимо пояснявшие фразы, чья связь с предыдущими фразами давно умерла в уме читателя, была похоронена и успела разложиться задолго до того, как читатель добрался до точки.
Но примечательнее всего было удивительное изобилие абстрактных категорий; казалось, они отягощены особыми значениями, которые никогда не формулировались, и об их содержании оставалось лишь догадываться; они громоздились друг на друга так быстро и тесно, что Федр не видел никакой возможности написанное понять и еще меньше – опровергнуть.
Вначале Федр допустил: беда в том, что все это просто выше его понимания. Статьи предполагали наличие у читателя некоего базового образования, а у Федра его нет. Но затем он подметил, что некоторые статьи написаны для читателей, у которых такого образования никак не может быть, и гипотеза развалилась.
Вторая гипотеза заключалась в том, что Председатель – «техник»; так Федр называл писателя, который настолько глубоко ушел в свою область знания, что утратил способность разговаривать с окружающими. Но если так, почему комиссии дали столь общее и не техническое название – «Анализ идей и изучение методов»? К тому же Председатель не походил на техническую личность. И эта гипотеза оказалась слабовата.
Со временем Федр перестал биться головой в риторику Председателя и попробовал отыскать что-нибудь о комиссии. Ему объяснят, надеялся он, что тут к чему. Оказалось, такой подход и верен. Федр начал понимать, в чем все дело.
Утверждения Председателя были сдержанны – они сдерживались огромными лабиринтами фортификационных сооружений, которые тянулись и тянулись на много миль, до того сложные и массивные, что почти невозможно обнаружить, какой мир располагается внутри и что именно они охраняют. С такой же непостижимостью сталкиваешься, входя в комнату, где только что закончился яростный спор. Все притихли. Молчат.
У меня остался лишь один крохотный фрагмент: Федр стоит в каменном коридоре здания, очевидно, где-то в Чикагском университете и говорит ассистенту Председателя, словно детектив в конце фильма:
– В вашем описании комиссии вы упустили одно важное имя.
– Да? – переспрашивает ассистент.
– Да, – многозначительно отвечает Федр. – …Аристотель…
Ассистент Председателя на секунду потрясен, а затем – вылитый преступник, чье преступление раскрыто, но он не чувствует за собой вины, – смеется громко и долго.
– А-а, понимаю, – произносит он. – Вы не знали… ничего про… – Затем передумывает и больше ничего не говорит.
Подъезжаем к повороту на озеро Кратер и поднимаемся по аккуратной дороге в национальный парк – чистый, прибранный и охраняемый. Иного и не ждешь, но это нисколько не говорит в пользу Качества. Парк превращен в музей. Вот как было до появления белого человека: течет прекрасная лава, чахлые деревья, пивные банки нигде не валяются, – но теперь с приходом белого человека все это липа. Может, Службе национальных парков надо навалить посреди этой лавы груду банок – и все оживет. Отсутствие пивных банок отвлекает.
У озера мы останавливаемся, разминаем ноги и доброжелательно тусуемся с кучкой туристов – они держат фотокамеры и детей, орут: «Не подходи близко к краю!» Видим машины с номерами разных штатов, видим озеро – «Ну, вот оно», точно такое же, как на картинках. Я наблюдаю за туристами: они тоже здесь неуместны. Не презираю их, нет – просто, по-моему, все это нереально, а качество озера портится тем, что в него так тычут. Ткнешь во что-то – вот, мол, Качество, – и Качество уйдет. Качество видишь краем глаза, поэтому я гляжу на озеро внизу, но ощущаю странность знобящего, чуть ли не ледяного солнечного света за спиной и почти неподвижного ветра.
– Зачем мы сюда приехали? – спрашивает Крис.
– На озеро посмотреть.
Ему не нравится. Чует фальшь и хмурится, нащупывая правильный вопрос, чтоб ее разоблачить.
– Терпеть не могу, – говорит он.
Одна туристка смотрит на него с удивлением, потом – с презрением.
– Ну а что тут поделаешь, Крис? – спрашиваю я. – Мы едем, пока не поймем, что не так или почему не знаем, что не так. Понимаешь?
Он не отвечает. Дама делает вид, что не слушает, но ее выдает окаменелость. Идем к мотоциклу, и я пытаюсь что-то придумать, но ничего не выходит. Я вижу слезы у него на глазах, он смотрит в сторону, чтоб я не заметил.
Выруливаем из парка на юг.
Я сказал, что ассистент Председателя Комиссии по анализу идей и изучению методов был шокирован. А шокировало его то, что Федр, сам того не ведая, попал в эпицентр самой, вероятно, знаменитой академической контроверзы века; президент Калифорнийского университета назвал ее последней попыткой изменить курс всего высшего образования в истории.
Чтение Федра принесло плоды – в виде краткой истории этого знаменитого бунта против эмпирического образования, что произошел в начале тридцатых. Комиссия по анализу идей и изучению методов – обломок той попытки. Вождями бунта выступили Роберт Мейнард Хатчинс, ставший президентом Чикагского университета; Мортимер Эдлер, чья работа по психологическим основам доказательственного права отчасти походила на то, чем в Йеле занимался Хатчинс; Скотт Бьюкенен, философ и математик; и важнее всех для Федра был нынешний Председатель комиссии, в то время – специалист по Спинозе и медиевист Колумбийского университета[34].
Исследование системы судебных доказательств, оплодотворенное чтением классиков Западного мира, убедило Эдлера в том, что человеческая мудрость в последнее время развивалась довольно слабо. Эдлер последовательно внимал св. Фоме Аквинскому, который взял Платона с Аристотелем и использовал их в своем средневековом синтезе греческой философии и христианской веры. Работы Аквинского и греков, интерпретированных Аквинским, были для Эдлера венцом западного интеллектуального наследия. Они, стало быть, давали мерило любому, кто стремился к хорошим книгам.
В аристотелевской традиции – как ее переосмысляли средневековые схоласты – человек считается рациональным животным, способным искать хорошую жизнь, определять ее как таковую и добиваться ее. Когда этот «первый принцип» природы человека принял президент Чикагского университета, неизбежными стали и последствия в сфере образования. Знаменитая программа Чикагского университета «Великие книги»[35], реорганизация университетской структуры по Аристотелю и основание «Колледжа», где классику преподавали пятнадцатилетним учащимся, – лишь некоторые результаты.
Хатчинс отрицал мысль о том, что эмпирическое научное образование автоматически будет «хорошим». Наука «свободна от ценностей». Из-за неспособности науки уловить Качество как объект исследования она не может предоставить шкалу ценностей.
Эдлер и Хатчинс фундаментально занимались императивами жизни, ценностями, Качеством и основаниями Качества в теоретической философии. Стало быть, они явно двигались тем же курсом, что и Федр, но почему-то дошли до Аристотеля и остановились.
Тут-то и нашла коса на камень.
Даже те, кто готов был признать, что Хатчинсу небезразлично Качество, не желали отдавать определение ценностей на откуп исключительно аристотелевской традиции. Они утверждали, что никакая ценность не фиксирована раз и навсегда и полноценная современная философия вправе не считаться с идеями в той форме, в какой их выражали книги античности и Средневековья. Многим все это представлялось двусмысленностями на новом и претенциозном жаргоне.
Федр не совсем понимал, в чем тут закавыка. Но она явно рядом с тем, где ему хочется работать. Он тоже полагал, что никакие ценности не фиксированы, но это не причина игнорировать их либо полагать, будто они не реальны. Аристотелевской традиции как определителю ценностей Федр противился, но вовсе не думал, что считаться с ней не следует. Где-то глубоко внутри нее запутался ответ, а Федру хотелось узнать больше.
Из четверки, что произвела такой фурор, теперь остался лишь нынешний Председатель комиссии. Те, с кем Федр разговаривал, считали Председателя человеком не слишком сердечным – озлобился он то ли потому, что его понизили, то ли по иной причине. В общем, его душевность никем не подтверждалась, а двое резко ее оспаривали. Один возглавлял крупный факультет университета и назвал Председателя «сущим дьяволом», а другой, выпускник Чикагского университета, защищавшийся по философии, сказал: Председатель известен тем, что выпускает лишь копии самого себя под копирку. Никто из этих информаторов не был мстителен по натуре, и Федр сделал вывод, что все это правда. В дальнейшем это подтвердилось открытием, которое он сделал в деканате. Хотел расспросить каких-нибудь выпускников комиссии, а ему сказали: за всю свою историю комиссия удостоила докторскими степенями по философии только двоих. Видимо, понял Федр, чтобы найти место под солнцем для реальности Качества, ему придется сражаться и обарывать главу собственной комиссии, чьи про-аристотелевские взгляды даже начать не дадут; судя по характеру, он, к тому же, весьма нетерпим к противным мнениям. Картина складывалась крайне мрачная.
Тогда Федр сел и написал Председателю Комиссии по анализу идей и изучению методов при Чикагском университете письмо, которое можно расценить лишь как провокацию к отчислению: автор отказывается тихонько прошмыгнуть наружу через черный ход и вместо этого закатывает сцену таких масштабов, что противникам приходится вышвырнуть его в парадную дверь, тем самым придав провокации вес, которого у нее раньше не было. После чего автор встает с мостовой и, убедившись, что дверь плотно закрылась, грозит ей кулаком, отряхивается и говорит: «Что ж, я пытался», – и совесть его чиста.
Своей провокацией Федр информировал, что отныне его субстантивной областью является философия, а не творческое письмо. Тем не менее, говорилось в письме, деление исследования на субстантивную и методологическую области – продукт аристотелевской дихотомии формы и сущности, которая недуалистам ни к чему, поскольку форма и сущность идентичны.
Он писал, что пока не уверен, но диссертация по Качеству, похоже, превращается в антиаристотелевскую диссертацию. Если это так, он выбрал подходящее место для ее защиты. Великие университеты следовали Гегелю, и любая школа, не способная принять работу, противоречащую ее основополагающим догматам, идет по проторенной дорожке. У него, утверждал Федр, диссертация, которую Чикагский университет только и ждал.
Федр признавал, что его заявка претенциозна и он сам, конечно, не имеет возможности выносить ценностные суждения, ибо никто не может быть беспристрастным судьей при слушании собственного дела. Но если бы кто-то написал диссертацию, которая знаменовала бы собой фундаментальный прорыв на стыках восточной и западной философий, религиозного мистицизма и научного позитивизма, он лично расценивал бы ее как важное историческое событие, способное намного продвинуть университет. В любом случае, писал он, в Чикаго вообще не привечают, пока не уничтожишь кого-нибудь. Пора Аристотелю получить свое.
Неслыханно.
И к тому же – не только провокация к отчислению. Гораздо сильнее здесь пахнет мегаломанией, манией величия, полной утратой способности оценить, как действуют твои слова на окружающих. Федр так заплутал в собственном мире метафизики Качества, что уже ничего не видел за его пределами, а поскольку никто больше этого мира не понимал, Федр был обречен.
Должно быть, в то время он чувствовал, что говорит истину, – и не важно, сколь возмутительна его манера презентации. Это же так важно, что нет времени на виньетки. Если Чикагский университет больше интересует эстетика того, что он говорит, а не рациональное содержание, они не отвечают принципиальному назначению университета.
Вот оно. Он действительно верил. Это не просто очередная интересная идея, которую надо проверить существующими рациональными методами. Это модификация существующих рациональных методов. Обычно если академической среде надо показать новую идею, предполагается, что сам ты должен быть объективен и в идее не заинтересован. Но само понятие Качества оспаривало эти объективность и незаинтересованность. Такие подходцы подобают лишь дуалистическому разуму. Объективностью достигается дуалистическое превосходство, а не творческое.
Федр верил, что разрешил громадную загадку вселенной, разрубил гордиев узел дуалистической мысли одним словом «Качество», и попробовал бы кто навязать узлов на это слово заново. Веря в это, он, само собой, не замечал, сколь вопиюще мегаломаниакально звучали его слова. А если и замечал, ему было наплевать. То, что он говорит, – мегаломания, но допустим, что это правда? Если он не прав, кому какое дело? А если прав? Быть правым и забить на это в угоду предпочтениям своих учителей – вот это было бы чудовищно!
Поэтому он плевал на то, как слышат его другие. Полный фанатизм. В те дни речи его звучали гласом вопиющего в пустыне. Никто его не понимал. И чем больше народу показывало, что не понимают, а то, что понимают, им не нравится, тем фанатичнее и неприятнее становился Федр.
Его провокацию встретили ожидаемо. Поскольку его субстантивной областью оказалась философия, ему следовало обращаться на факультет философии, а не в комиссию.
Федр послушно это исполнил, а затем они с семьей погрузили в машину и прицеп все, что у них было, попрощались с друзьями и уже приготовились выезжать. Когда он в последний раз запирал дверь дома, явился почтальон с письмом. Из Чикагского университета. Там говорилось, что Федр не допущен. И больше ничего.
Очевидно, на решение повлиял Председатель Комиссии по анализу идей и изучению методов.
Федр попросил у соседей ручку, лист бумаги и конверт и снова написал Председателю: поскольку он уже допущен Комиссией по анализу идей и изучению методов, ему придется остаться. Довольно буквоедский маневр, но у Федра к тому времени выработалась какая-то боевая хитрость. Эта уловка – быстрая перетасовка и подстановка философской двери – казалось, говорила, что Председатель в силу каких-то причин не может вышвырнуть Федра из парадной двери комиссии даже с этим возмутительным письмом в руке, и это придавало Федру уверенности. Никаких черных ходов, будьте любезны. Его либо вышвырнут из парадного, либо не вышвырнут вообще. Может, и не сумеют. Хорошо. Он никому не хотел быть обязанным своей диссертацией.
Едем по восточному берегу озера Кламат – по трехполосному шоссе, как в двадцатые годы. Все эти трехполоски тогда и строились. Останавливаемся пообедать в придорожном заведении, которое тоже целиком из того времени. Деревянный каркас давно плачет по краске, неоновые пивные вывески в окнах, гравий и пятна масла на площадке перед входом.
Внутри унитаз весь потрескался, грязные потеки на раковине, однако по пути к кабинке я приглядываюсь к хозяину за стойкой бара. Лицо двадцатых годов. Простое, стремное и несгибаемое. Тут его крепость. Мы в гостях. И если нам не нравятся его гамбургеры, лучше помалкивать.
Когда приносят эти гамбургеры с громадными сырыми луковицами, они оказываются вкусными, бутылочное пиво тоже ничего. Весь обед выходит гораздо дешевле, чем в едальнях молодящихся старух, где на окнах пластиковые цветы. Пока едим, я смотрю карту: мы не там повернули и другим путем добрались бы до океана быстрее. Уже становится жарко – липкая жара Западного побережья, она очень гнетет после сухого жара Западной пустыни. Ей-богу, тут как на Востоке; скорей бы океан, там прохладно.
Я думаю об этом всю дорогу, пока мы огибаем озеро Кламат с юга. Липкая жара и вонь двадцатых… Вот как ощущалось Чикаго тем летом.
Приехав в Чикаго, Федр с семьей поселились недалеко от университета, а поскольку стипендии ему не платили, он стал на полной ставке преподавать риторику в Университете Иллинойса, который тогда находился в центре города на Военно-морском пирсе.
Уроки не походили на те, что он давал в Монтане. Все сливки студентов сняли и разместили в кампусах Шампэйн и Урбана, а на долю Федра остались почти исключительно твердые и монотонные троечники. Когда в классе оценивали их работы на предмет Качества, сложно было отличить одну от другой. В иных условиях Федр, возможно, придумал бы, как это обрулить, но теперь он просто зарабатывал на хлеб с маслом – не тратить же на это творческую энергию. Его интересовало то, что южнее, в другом университете.
Он встал в очередь на регистрацию в Чикагский университет, сообщил фамилию регистратору – профессору философии – и заметил, как тот слегка сощурился. Ах да, сказал профессор философии, Председатель просил, чтобы Федра записали на курс «Идеи и методы», его ведет сам Председатель, – и вручил ему расписание курса. Федр отметил, что расписание перекрывается с его расписанием на Военно-морском пирсе, и выбрал другой курс – «Идеи и методы 251, Риторика». Та все-таки его область, будет чуть уютнее. И читал ее не Председатель. А профессор философии, который его сейчас записывал. И глаза у профессора теперь распахнулись очень широко.
Федр вернулся на Военно-морской пирс, стал готовиться к первым урокам. Заниматься теперь необходимо, как никогда, – изучать мысль классической Греции в общем и одного грека-классика в частности. Аристотеля.
Сомнительно, чтобы среди тысяч студентов, обучавшихся античной классике в Чикагском университете, нашелся кто-нибудь усерднее. Университетская программа «Великие книги» главным образом боролась с современным поверьем, будто классика не важна для общества ХХ века. Само собой, большинство студентов-классиков, надо думать, играло с преподами по правилам хороших манер и ради вящего понимания принимало на веру гипотезу о том, что древним было что сказать. А Федр, не игравший вообще ни в какие игры, не просто принимал. Он страстно и фанатично знал. Он яростно ненавидел древних, обрушивал на их головы всевозможные инвективы, какие только мог придумать: не потому, что древние не важны, как раз наоборот. Чем больше он учился, тем более убеждался – никто еще даже не определил тот ущерб, что нанесло миру бессознательное принятие мысли древних.
По южному берегу озера Кламат проезжаем через какое-то пригородное строительство, затем сворачиваем от озера к побережью. Дорога поднимается к огромным деревьям, они совсем не похожи на истосковавшиеся по дождю леса, через которые мы ехали. По обочинам – огромные дугласовы ели. С мотоцикла смотришь прямо вверх вдоль стволов – а там много сотен футов. Крис хочет побродить между ними, поэтому останавливаемся.
Пока он гуляет, я очень осторожно откидываюсь на кусок еловой коры, смотрю вверх и пытаюсь вспомнить…
Теперь утрачено, чему именно он учился, но из дальнейших событий я знаю: Федр впитал невообразимое количество информации. Чуть ли не фотографически. Чтобы понять, как он пришел к проклятию классических греков, надо кратко обозреть суть довода «мифос над логосом» – он хорошо известен всем, кто изучает греков. Часто именно он к грекам и притягивает.
Понятие logos, от которого произошло слово «логика», указывает на общую сумму нашего рационального понимания мира. Mythos – общая сумма ранних исторических и доисторических мифов, что предшествовали логосу. Мифос включает не только греческие мифы, но и Ветхий Завет, ведические гимны и ранние легенды всех культур, которые внесли вклад в наше нынешнее понимание мира. Довод «мифос над логосом» утверждает, что эти легенды и вылепили нашу рациональность: нынешнее знание – в таком же отношении к этим легендам, как дерево – к маленькому ростку, которым когда-то было. Можно замечательно понять общую сложную структуру дерева, изучая форму простого ростка. Между ними нет различия в виде или даже в своеобразии – они отличаются только размером.
Поэтому в культурах, чья родословная включает Древнюю Грецию, неизменно отыскивается сильная дифференциация субъект-объект: грамматика древнегреческого мифоса подразумевала четкое естественное деление на субъекты и предикаты. В китайской культуре, например, отношения субъект-предикат грамматикой определены не так строго, и потому строгая философия субъекта-объекта отсутствует. А в иудео-христианской, где ветхозаветное «Слово» было священно само по себе, люди жили, жертвовали собой и умирали во имя слов. В этой культуре суд, действующий по нормам статутного и общего права, может просить свидетеля говорить «правду, всю правду и ничего, кроме правды, и да поможет мне Бог» и на эту правду рассчитывать. Но перенесешь такой суд в Индию, как это сделали британцы, – и не добьешься никакого успеха в искоренении лжесвидетельства, поскольку индийский мифос – другой, святость слов так не воспринимается. Сходные проблемы возникали и в этой стране – среди малых народностей с различной культурной историей. Примеров того, как различия в мифосе управляют различиями в поведении, – бесконечное множество, и все пленительны.
Довод «мифос над логосом» указывает, что каждый ребенок рождается невежественным – как пещерный человек. Но мир не превращается с каждым новым поколением в долину Неандерталь из-за непрерывного, нескончаемого мифоса, трансформированного в логос; мифос по-прежнему – огромный массив общего знания, он объединяет наши разумы подобно клеткам, объединенным в теле человека. Чувствовать, что не слишком целен, что можно принимать или не принимать этот мифос по желанию – значит не понимать, что такое мифос.
Есть лишь один тип человека, говорил Федр, который принимает или отрицает мифос, в котором живет. Отказавшийся от мифоса человек, говорил Федр, называется «безумцем». Выйти за пределы мифоса – значит спятить…
Господи, ведь только что пришло мне в голову. Раньше я этого не знал.
А он – знал! Должно быть, он понимал, что будет дальше. Вот оно все и приоткрывается.
Есть фрагменты, обрывки, детали головоломки, их можно складывать в большие группы, но эти группы не сливаются, как ни старайся. А затем возникает один фрагмент – и он подходит к двум разным группам, и вдруг эти две большие группы соединяются. Отношение мифоса к безумию. Вот ключевой фрагмент. Сомневаюсь, чтобы раньше об этом говорили. Безумие – terra incognita, окружающая мифос. А он знал! Знал, что Качество, о котором он говорит, лежит за пределами мифоса.
Вот оно! Ибо Качество – генератор мифоса. Вот так. Вот что он имел в виду, когда утверждал: «Качество – тот непрерывный стимул, которым среда вынуждает нас созидать мир, где мы живем. Полностью. До последней частицы». Человек не изобрел религию. Человек изобретен религией. Человек изобретает реакции на Качество, и среди них – понимание того, что есть сам человек. Что-то знаешь, а потом лупит стимул Качества, и пытаешься его определить, но под рукой лишь то, что ты знаешь. И твое определение складывается только из того, что знаешь. Аналог уже известного тебе. Иначе и быть не может. Оно не может быть ничем другим. И вот так прирастает мифос. Аналогиями того, что уже известно. Мифос – нагромождение одних аналогов на другие и третьи. Их грузят в вагоны поезда сознания. Мифос – целый поезд коллективного сознания всех людей на связи друг с другом. До последней частицы. А Качество – рельсы под этим поездом. То, что за пределами поезда, по бокам – это и есть terra incognita безумия. Федр знал: чтобы понять Качество, придется оставить мифос. Вот почему он пошел юзом. Знал: что-то должно случиться.
Крис возвращается из рощи. Вроде успокоился и доволен. Показывает кусок коры и спрашивает, можно ли оставить на память. Не хотелось бы грузить мотоцикл этой ерундой, которую он подбирает, а дома, возможно, выбросит, но пусть уж.
Через несколько минут дорога выводит на вершину и круто спускается в долину, а та чем дальше – тем изысканней. Никогда не думал, что назову так долину, изысканной, но отчего-то здесь, у побережья, местность не похожа на прочие горные районы Америки, так что слово само пришло. Здесь – чуть южнее – родится все хорошее вино. Сборки и складки холмов тут иные – изысканные. Дорога, опускаясь, гнется, выписывает виражи и завитушки, и мотоцикл катится по ней гладко, вписываясь в повороты со своим особым изяществом, едва не касаясь вощеных листочков кустарника и свисающих ветвей. Ели и камни горной страны уже за спиной, теперь вокруг плавные холмы, виноградники, пурпурные и красные цветы, к аромату примешивается древесный дым снизу, из далекого тумана на дне долины, и откуда-то из-за него, невидимый – смутный запах океана…
…Как могу я любить это все так сильно и быть безумным?..
…Невероятно!
Мифос. Безумен мифос. Вот во что он верил. Мифос, утверждающий, будто формы этого мира реальны, а Качество – нет. Вот где безумие!
Аристотель же и древние греки, верил Федр, – вот эти негодяи слепили мифос так, что мы принимаем безумие за реальность.
Вот. Вот сейчас. Все увязывается. И становится легче. Иногда такая работа в уме до того трудна, что наваливается странное изнеможение. Иногда мне кажется, что я сам все это сочиняю. Иногда не уверен. А иногда знаю, что это не так. Но мифос и безумие, это ядро – я уверен, от него.
Из складок холмов въезжаем в Медфорд и попадаем прямо на трассу к Грантс-Пасс, а уже почти вечер. От сильного лобового ветра мы едва держимся вровень с движением на подъемах даже с открытым дросселем. При въезде в Пасс слышим громкий лязг, останавливаемся: кожух цепи попал в саму цепь и его покорежило. Не слишком серьезно, однако придется задержаться. Может, и глупо возиться, если мотоцикл все равно продавать через пару дней.
Грантс-Пасс, похоже, городок из крупных – завтра поищем мотомастерскую, а пока я ищу мотель.
Мы не видели кроватей с Бозмена, Монтана.
Отыскиваем мотель – там цветные телевизоры, бассейн с подогревом, кофейный автомат на утро, мыло, белые полотенца, полностью кафельный душ и чистые постели.
На чистые постели мы валимся, Крис попрыгивает на своей. Прыгать на кроватях, по своему детству помню, – замечательное средство от депрессии.
Завтра как-то все решится. Наверное. Не сейчас. Крис отправляется поплавать в подогретом бассейне, а я спокойно лежу на чистой постели и выкидываю все из головы.
29
С самого Бозмена мы то и дело вытаскивали барахло из седельных сумок, потом запихивали все обратно – и в результате все наши пожитки исключительно пожамкались и побились. Если разложить на полу в утреннем свете, похожи на мусор. Целлофановый пакет с чем-то масляным порвался и протек на рулон туалетной бумаги. Одежда так смялась, что складки на ней кажутся отутюженными. Мягкий жестяной тюбик с мазью от загара лопнул, оставив по всем ножнам мачете беловатую гадость и провоняв все своим благоуханием. Тюбик смазки тоже лопнул. Какой бардак. Записываю в блокнотике: «Купить коробку для тюбиков», – и добавляю: «Постирать». Затем: «Купить маникюрные ножницы, крем для загара, смазку, кожух для цепи, туалетную бумагу». Все надо успеть до выписки из мотеля, поэтому бужу Криса и говорю, что нам надо постирать.
В прачечной-автомате инструктирую его, как включать сушилку, запускаю стиральные машины и ухожу по другим делам.
Нахожу все, кроме кожуха цепи. Продавец запчастей говорит, что их нет и не предвидится. Конечно, можно ехать остаток пути без кожуха, но всюду будет лететь грязь; к тому же опасно. И мне не нравится такой подход. С ним решение звучит слишком уж окончательно.
Дальше по улице вижу вывеску сварщика и вхожу.
Чище мастерской я в жизни не видал. Высоченные деревья и трава чуть не в рост человека обрамляют площадку за домом – мастерская похожа на сельскую кузню. Все аккуратно развешано по стенам, прибрано, но дома никого. Зайду попозже.
Еду назад, подбираю Криса, проверяю белье, которое он уже положил в сушилку, и мы стрекочем по веселеньким улочкам, ищем ресторан. Тут оживленно, машины по большинству – вежливые, ухоженные. Западное побережье. Рассеянный, чистый солнечный свет городка вне зоны угледобычи.
На окраине находим ресторан, садимся и ждем за столом с красно-белой скатертью. Крис разворачивает номер «Мотоциклетных новостей», который я купил в мотомагазине, и вслух читает, кто победил в заездах, а также заметку о мотокроссах. Официантка поглядывает на него с любопытством, затем смотрит на меня, на мои мотоциклетные сапоги, записывает заказ. Уходит на кухню, выходит снова и опять смотрит на нас. Наверное, столько внимания потому, что мы здесь одни. Пока ждем, она сует несколько монет в музыкальный автомат, и тут возникает наш завтрак – вафли, сироп, сардельки; о, да еще и под музыку. Обсуждаем прочитанное в «Новостях» и перекрываем шум пластинки – беседуем расслабленно, как люди, которые вместе провели много дней в пути; краем глаза я вижу, что за нами безотрывно наблюдают. Немного погодя Крис уже вынужден переспрашивать – этот пристальный взгляд несколько сбивает меня, трудно следить, что он говорит. Играет какое-то кантри про дальнобойщика… Я закругляю разговор с Крисом.
Когда мы уже уходим, я завожу мотор, а она – вот, в дверях, опять смотрит. Одинокая. Вероятно, не знает, что с таким взглядом недолго ей ходить одинокой. Жму на стартер резковато – меня что-то раздражает, – и на пути к сварщику прихожу в себя не сразу.
Тот на месте – старик за шестьдесят или за семьдесят, глядит на меня с презрением: совсем не то, что официантка. Я объясняю ситуацию с кожухом, и через некоторое время он произносит:
– Я не собираюсь снимать его за вас. Снимайте сами.
Я слушаюсь, показываю ему кожух, и он говорит:
– Весь в смазке.
На заднем дворе под каштаном отыскиваю палку, соскабливаю смазку в мусорную бочку. Издали старик произносит:
– Там в кастрюльке есть растворитель.
Вижу плоскую кастрюльку и стираю остаток смазки какими-то листьями и растворителем.
Когда я показываю, что получилось, он кивает, медленно подходит и выставляет регуляторы газовой горелки. Осматривает насадку, выбирает другую. Совсем не спешит. Берет стальной присадочный пруток, и я не понимаю – он что, собирается варить такой тонкий металл? Я никогда не варю листовой металл, я его паяю латунью. Пытаясь приварить, только прожигаешь дырки, потом надо латать их большими кляксами.
– Вы разве не будете его паять? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает он. Разговорчивый мужик.
Он зажигает горелку, выводит крохотное голубое пламя, а потом – это трудно описать – прямо танцует горелкой и прутком в разных ритмах над тонкой поверхностью металла. И все начинает сиять ровным желто-оранжевым; он опускает горелку и пруток именно в тот миг, когда нужно, и быстро убирает. Никаких дырок. Шов едва виден.
– Красота, – не выдерживаю я.
– Один доллар, – отвечает он, даже не улыбнувшись. И в его взгляде я ловлю чудной вопрос. Думает, не запросил ли слишком? Нет, что-то другое… одиночество – такое же, как у официантки. Вероятно, думает, что я иронизирую. Кто еще способен сейчас оценить такую работу?
Укладываемся и выписываемся из мотеля почти вовремя – и скоро уже углубляемся в прибрежные мамонтовые леса на пути из Орегона в Калифорнию. Движение такое сильное, что нет времени даже оглядеться. Становится холодно и серо, и мы съезжаем на обочину надеть свитера и куртки. Все равно холодно, где-то около пятидесяти, и нам в голову лезут зимние мысли.
Одинокие люди в том городке. Я замечал это и в супермаркете, и в прачечной, и когда мы уезжали из мотеля. Туристские прицепы среди секвой, набитые одинокими пенсионерами: едут поглазеть на океан, свернули поглазеть на деревья. Ее, эту просительность, ловишь с первого же взгляда на новое лицо – и она тут же пропадает.
Здесь одиночества больше. Парадокс: там, где людям теснее всего, в больших городах на побережьях Востока и Запада, сильнее всего и одиночество. В Западном Орегоне, Айдахо, Монтане, в Дакотах – там люди редки и одиночества, казалось бы, должно быть гораздо больше, но мы его не замечали.
Объясняется, видимо, тем, что физическая дистанция между людьми никак не соотносится с одиночеством. Здесь же главное – психическое расстояние, а в Монтане и Айдахо физические расстояния велики, а психические, между людьми – малы. Тут ровно наоборот.
Мы теперь в первичной Америке. Настала она позавчера ночью в Прайнвилл-Джанкшн, и с тех пор не покидает нас. Вот она – первичная Америка скоростных автотрасс, реактивных полетов, телевидения и кинозрелищ. И люди, уловленные этой первичной Америкой, судя по всему, проживают огромные куски своей жизни, не особо сознавая, что же их окружает. СМИ убедили их: окружающее не важно. Вот они и одиноки. По лицам видно. Сначала глядят искательно, а потом все – ты для них уже предмет. Не считаешься. Не тебя они ищут. Ты не в телевизоре.
Во вторичной же Америке, через которую мы тоже ехали, в Америке старых дорог, Канав Китайца, аппалузских лошадей, плавных горных хребтов, медитативных мыслей, ребятишек с шишками, шмелей, открытого неба над головой, миля за милей, по всей этой Америке реальное то, что вокруг, – оно и правит бал. Потому и одиночества такого не было. Видимо, как и сто, и двести лет назад. Едва ли были люди, едва ли было и одиночество. Я, несомненно, чересчур обобщаю, но при должных оговорках это правда.
Вина за многое в этом одиночестве возлагается на технику, ибо одиночество определенно ассоциируется с новейшими техническими приспособлениями – телевидением, реактивными самолетами, скоростными трассами и так далее. Но, я надеюсь, достаточно ясно, что подлинное зло – не объекты техники, а ее тенденция запирать людей в их одинокой объективности. Зло порождает объективность, дуалистический способ смотреть на все, который лежит в основе техники. Вот поэтому я столько сил потратил на то, чтобы показать, как техникой можно уничтожать зло. У того, кто умеет чинить мотоциклы – Качеством, – меньше вероятности растерять друзей, чем у того, кто не умеет. Друзья отнюдь не будут рассматривать его как объект. Всякий раз Качество уничтожает объективность.
Или берешься за скучную работу, на которой застрял (а все они рано или поздно наскучивают), – и забавы ради ищешь возможности для Качества и тайно им следуешь, просто так. Тем самым что бы ни делал – творишь искусство, а по ходу скорее всего осознаешь: ты и сам становишься интереснее, окружающие все меньше считают тебя объектом, потому что Качественные решения меняют и тебя. Не только работу и тебя лично, но и других, ибо Качество имеет свойство распространяться, как круги на воде. Качественная работа, которую никто, как ты считал, не увидит, все-таки видима, и тем, кто ее видит, немного лучше, больше вероятность, что они передадут это свое ощущение другим. Вот так Качество умеет двигаться дальше.
Лично я предвижу, что именно так мир и будет улучшаться – теми, кто принимает Качественные решения. Больше никак. Да боже мой, провались он в тартарары, этот восторг насчет больших программ, набитых социальным планированием для огромных людских масс и напрочь лишенных индивидуального Качества. Не будем их пока трогать. Им тоже найдется место, но их надо возводить на фундаменте Качества внутри самих личностей. В прошлом у нас это личное Качество было – его по неведению эксплуатировали как природный ресурс, и теперь оно почти полностью истощено. Сметка у всех почти на нуле. Думаю, настала пора восстанавливать этот американский ресурс, индивидуальную ценность. Некоторые политические реакционеры твердят нечто подобное уже много лет. Я не из их числа, но пока они говорят об истинной индивидуальной ценности, а не стремятся под ее прикрытием отдать еще больше денег богачам, они правы. Нам по правде нужно вернуться к индивидуальной цельности, уверенности в себе и старомодной сметке. Очень нужно. Надеюсь, в этом шатокуа я проложил какой-то курс.
От идеи индивидуальных и личных Качественных решений Федр пошел другой тропой. Думаю – неверной, но кто знает, окажись я в его шкуре, я б, наверное, тоже двинулся по ней. Он предчувствовал: решение оттолкнется от новой философии (либо расценивал ее еще шире, как новую духовную рациональность), где безобразие, одиночество и духовная пустота дуалистического технического разума станут алогичны. Разум больше не «свободен от ценностей». Разуму суждено логически подчиняться Качеству, и Федр верил – причину, почему это уже не так, он отыщет у древних греков, чей мифос оделил нашу культуру основой зла, позывом делать лишь то, что «разумно», даже если от этого никакой пользы. Вот где собака зарыта. Туточки. Как-то давно я сказал, что он гонялся за призраком разума. Вот это я и имел в виду. Разум и Качество разделились и озлобились друг на друга, и Качество проиграло, а Разум некогда одержал верх.
Накрапывает дождик. Совсем немного, не стоит и останавливаться. Слабые потуги на морось.
Дорога выводит из высоких лесов к серому небу. Вдоль трассы множество рекламных щитов. Нет конца рекламе виски «Шенли», у нее теплые краски, а вот «Ирма», похоже, делает завивку устало и равнодушно – краска у нее на щитах потрескалась.
Я с тех пор перечел Аристотеля – выискивал то исполинское зло, что возникает в обрывках, оставшихся от Федра. Но ничего не обнаружил. В Аристотеле я нахожу главным образом довольно скучные обобщения: многие толком и не оправдаешь в свете современного знания; организованы они до крайности скверно и кажутся примитивными, ни дать ни взять древнегреческие горшки в музеях. Уверен, знай я побольше, я больше и увидел бы – и вовсе не считал бы их примитивом. Но без знания не понимаю, заслуживает ли оно неистовств группы «Великих книг» или Федра. Я отнюдь не расцениваю труды Аристотеля как основной источник позитивных или негативных ценностей. Диатрибы группы «Великих книг» опубликованы и хорошо известны. Диатрибы же Федра – нет, и потому я просто обязан остановиться на них подробнее.
Риторика – это искусство, начинает Аристотель, ибо ее можно свести к рациональной системе порядка.
Тут Федр и обалдел. Это его вырубило. Он был готов расшифровывать послания необыкновенной проницательности, системы громадной сложности, дабы постичь глубинное, внутреннее значение Аристотеля – величайшего, по заявлениям многих, философа всех времен. А тут на тебе! Таким ослизмом да в морду. Это его потрясло.
Он читал дальше.
Риторика может быть подразделена на частные доказательства и темы, с одной стороны, и общие доказательства – с другой. Частные доказательства могут подразделяться на методы доказательства и виды доказательства. Методы доказательства – искусственные доказательства и неискусственные доказательства. Среди искусственных доказательств есть: этические, эмоциональные и логические. Среди этических доказательств: практическая мудрость, добродетель и добрая воля. Частные методы, использующие искусственные доказательства этического вида, включающие в себя добрую волю, требуют знания эмоций, а для тех, кто забыл, что это, Аристотель приводит список. Они таковы: гнев, пренебрежение (которое подразделяется на презрение, неприязнь и надменность), кротость, любовь или дружба, страх, уверенность, стыд, бесстыдство, благосклонность, добросердечие, жалость, праведное негодование, зависть, ревность и презрение.
Помнишь, я описывал мотоцикл, еще в Южной Дакоте? Я еще старательно перечислял все детали и функции? Похоже? Вот это, считал Федр, и есть родоначальник подобного стиля изложения. Ибо страницу за страницей Аристотель гнал ровно то же. Будто третьеразрядный препод по технике письма – все назовет, между названным покажет взаимоотношения, бывает, и присочинит какое, а потом ждет звонка, чтоб отбарабанить ту же лекцию следующей группе.
Между строк Федр не различал ни сомнений, ни благоговения – одно лишь вечное самодовольство профессионального академика. Выходит, Аристотель в самом деле полагал, будто его ученики станут гениальными риторами, если вызубрят все эти нескончаемые названия и взаимоотношения? А если нет – неужели он и впрямь считал, что учит риторике? Похоже, что так. Ничто в его стиле не говорило, что Аристотель когда-либо сомневался в Аристотеле. Федр видел: Аристотеля вполне удовлетворял этот клевый трюк – назвать и классифицировать все. Его мир начинался и заканчивался этим трюком. Не будь Аристотель больше двух тысяч лет покойник, Федр с радостью бы его растоптал – ибо Аристотель был прототипом самодовольных и поистине невежественных учителей, каких в истории были миллионы, и они самоуверенно и бесчувственно убивали творческий дух своих студентов этим тупым ритуалом анализа, этим слепым, механическим, вечным называнием всего. Зайди сегодня в любой из сотен тысяч классов – услышишь, как учителя разделяют, подразделяют, определяют взаимоотношения, устанавливают «принципы» и изучают «методы». Это через века говорит призрак Аристотеля, иссушающий безжизненный голос дуалистического разума.
Семинары по Аристотелю проходили за огромным деревянным круглым столом в сумрачном кабинете; через дорогу напротив располагалась больница, и склонявшееся к закату солнце едва проникало в класс из-за больничной крыши сквозь оконную грязь и отравленный городской воздух. Тускло, бледно и тяжко. В середине занятия Федр заметил, по всей длине стола бежит огромная трещина, почти посередине. Видимо, ей уже очень много лет, но никто и не думал чинить стол. У всех, несомненно, есть дела поважнее. В конце часа Федр все-таки спросил:
– Можно спросить о риторике Аристотеля?
– Если прочли материал, – ответили ему. Профессор философии щурился, как в первый день на регистрации. Предупреждение дошло – Федру лучше читать материал очень тщательно; так он и сделал.
Дождь усиливается, мы останавливаемся и крепим к шлемам стекла. Потом едем дальше с умеренной скоростью. Слежу за выбоинами, песком и масляными пятнами.
К следующей неделе Федр прочел материал и подготовился разбирать положение о том, что риторика – искусство, поскольку ее можно свести к рациональной системе порядка. По этому критерию «Дженерал моторз» производят чистое искусство, а вот Пикассо – отнюдь нет. Если в Аристотеле имелись какие-то незримые глубины, тут-то им самое время проявиться.
Но вопрос так и не возник. Федр поднял было руку, поймал микросекундную вспышку злобы в глазах преподавателя, как вдруг другой студент, чуть ли не перебив его, произнес:
– По-моему, здесь есть очень сомнительные утверждения. – И больше ничего не успел.
– Сэр, мы здесь не для того, чтоб учить то, что думаете вы! – прошипел профессор. Как кислота. – Мы здесь учим то, что думает Аристотель! – Прямо в лицо. – Когда мы пожелаем узнать, что думаете вы, мы предоставим вам курс по этому предмету!
Тишина. Студент ошарашен. Все остальные тоже.
Но профессор еще не закончил. Он тычет в студента пальцем и вопрошает:
– По Аристотелю: каковы три вида частной риторики согласно обсуждаемой сути предмета?
Опять тишина. Студент не знает.
– Значит, вы не читали, не так ли?
И с нехорошим огоньком в глазах – который выдает давно лелеемое намерение, – профессор философии переводит палец на Федра:
– Вы, сэр: каковы три вида частной риторики согласно обсуждаемой сути предмета?
Но Федр готов:
– «Естественно является три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидейктические»[36], – спокойно отвечает он.
– Каковы эпидейктические приемы?
– Сравнение, похвала, энкомий и восхваление[37].
– Да-а-а… – произносит профессор. Потом все стихает.
Прочие студенты в шоке. Что это было? Знает только Федр – да еще, может, профессор. Простодушный студиозус получил то, что назначалось Федру.
Лица у всех напрягаются – только б не было новых допросов. Профессор допустил ошибку. Истратил свою дисциплинарную власть на невинного студента, а Федр – виновный, враждебный – по-прежнему на свободе. И чем дальше – тем свободнее. Раз не задавал вопросов, его никак не срежешь. А теперь он видит, как отвечают на вопросы, – и вообще, конечно, не станет их задавать.
Простодушный студиозус смотрит в стол, покраснел, руками прикрыл глаза. Ему стыдно, а Федр в гневе. Нигде, никогда не разговаривал он так со своими студентами. Вот как, значит, учат классике в Чикагском университете. Теперь Федр знает профессора философии. Но профессор философии не знает Федра.
Серые дождливые небеса и утыканная знаками дорога опускаются в Кресент-Сити, Калифорния, – тоже серый, холодный и мокрый, и мы смотрим и видим воду – океан – вдали, между пирсами и зданиями. Я помню: все эти дни океан был нашей великой целью. Заходим в ресторан с причудливым красным ковром, причудливым меню и крайне высокими ценами. Мы здесь одни. Едим молча, рассчитываемся и снова пускаемся в путь – уже на юг, холодный и туманный.
На следующих семинарах опозоренного студента нет. Что уж тут удивляться. Класс абсолютно заморожен – это неизбежно при таких инцидентах. На каждом семинаре говорит только один человек – профессор философии; он только и делает, что говорит – лицам, обратившимся в маски безразличия.
Похоже, профессор вполне понимает, что произошло. Раньше он поглядывал на Федра со злобой, теперь – со страхом. Кажется, догадывается: в классе такая обстановка, что придет время – и с ним обойдутся так же, сочувствия он ни от кого не дождется. Он уступил свое право на вежливость. Уже никак не предотвратить ответного удара, только не подставляться.
Но чтобы не подставиться, он должен стараться изо всех сил, формулировать точно и верно. Федр и это понимает. Храня молчание, он будет учиться, обстоятельства располагают.
В то время Федр занимался прилежно, схватывал все крайне быстро и держал рот на замке, однако неверно было бы считать его даже отдаленно хорошим студентом. Хороший студент ищет знаний честно и беспристрастно. Федр – отнюдь. Он точил топор, и требовалось ему лишь то, что могло служить оселком, и то, чем можно разметать преграды, которые мешают точить. Ни времени, ни интереса к чужим Великим Книгам у него не было. Он пришел, чтобы написать собственную Великую Книгу. К Аристотелю он относился несправедливо до крайности – потому же, почему Аристотель был несправедлив к своим предшественникам. Те поганили то, что он хотел сказать.
Аристотель поганил то, что хотел сказать Федр, ибо Аристотель помещал риторику в до безобразия незначительную категорию своего иерархического порядка вещей. У него она была ветвью Практической Науки и служила каким-то придатком другой категории, Науки Теоретической, – ею Аристотель по преимуществу и занимался. Как ветвь Практической Науки она была всячески изолирована от Истины, Блага или Красоты: те служили только доводами в споре. Стало быть, Качество в аристотелевской системе полностью отлучено от риторики. Вот это презрение к риторике – помимо ужасающего качества риторики самого Аристотеля – столь полно отчуждало Федра, что он презирал и высмеивал грека, что бы тот ни сказал.
Но это ладно. Много веков Аристотель сам напрашивался исключительно на насмешки и получал их, и охотиться на его явные глупости – удовольствие так себе, как бить лежачего. Не будь Федр столь пристрастен, он бы научился каким-нибудь ценным приемам – Аристотель ведь умел цеплять новые области знания; собственно говоря, для того и основали Комиссию. Но не будь Федр столь пристрастен в своем стремлении найти, откуда начать работать с Качеством, он бы досюда и не дошел, поэтому у него бы все равно ничего не получилось.
Профессор философии читал лекции, а Федр слушал и классическую форму, и романтическую поверхность излагаемого. Судя по всему, профессору неуютнее всего было с «диалектикой». Хоть с точки зрения классической формы Федр и не мог сообразить, почему, его растущая романтическая чувствительность подсказывала: он идет по следу. Добычи.
Диалектика, значит?
С нее начиналась книга Аристотеля – и начало это было загадочнее некуда. «Риторика – искусство, соответствующее диалектике»[38], – говорилось там, словно это важнее некуда, а вот почему это так важно, никто не объяснял. Первое же замечание сопровождалось рядом других разрозненных утверждений, от которых складывалось впечатление, что многое недосказано – или материал неверно собрали, или наборщик что-то пропустил. Сколько бы Федр ни читал, ничего не срасталось. Ясно лишь то, что Аристотеля очень парило отношение риторики к диалектике. На слух Федра тут звучала та же неуверенность, что и у профессора философии.
Профессор определил диалектику; Федр слушал очень внимательно, но в одно ухо влетело, из другого вылетело – такое случается с философскими утверждениями, когда в них что-то упущено. Потом на другом занятии другой студент, которого, видимо, тоже на этом замкнуло, попросил профессора дать другое определение диалектики; профессор опять глянул на Федра с проблеском страха и ответил весьма раздраженно. Нет ли у «диалектики» какого-то особого значения, от которого слово это становится опорным и смещает равновесие спора? В зависимости от того, куда это слово ставят? Так и оказалось.
Диалектический, в общем, означает «диалогической природы», то есть относится к разговору двух человек. Нынче же диалектика обозначает логическую аргументацию. Она включает приемы перекрестного допроса, каковым путем и достигается истина. Таков дискурс Сократа в «Диалогах» Платона. Платон верил, что диалектика – единственный метод достижения истины. Только один.
Потому-то она и есть опорное слово. Аристотель нападал на это убеждение – говорил, что диалектика пригодна для достижения лишь некоторых целей: выяснить взгляды человека, достичь истин, касающихся вечных форм того, что называется Идеи; для Платона же они фиксированы раз и навсегда, не меняются и составляют реальность. Аристотель утверждал, что еще есть метод науки, он же «физический»: этот метод наблюдает физические факты и приходит к истинам о субстанциях, претерпевающих изменения. Эта дуальность формы и субстанции – и научный метод достижения фактов, касающихся субстанций, – были ядром философии Аристотеля. Тем самым Аристотелю было жизненно важно низвергнуть диалектику с того пьедестала, куда ее возвели Сократ и Платон, и «диалектика» тут опять служила опорным словом.
Федр догадывался, что преуменьшение Аристотелем роли диалектики – от Платонова единственного метода постижения истины до «соответствия риторике» – злит современных платоников так же, как злило бы и самого Платона. Профессор философии не знал «позиции» Федра, вот и нервничал. Может, опасался, что Федр платоник и сейчас на него напрыгнет. Коли так, ему, конечно, бояться было нечего. Федра не оскорбляло, что диалектика низведена до риторики. Его приводило в ярость, что риторику низвели до диалектики. Таково в то время было смятение в умах.
Разъяснить все это мог бы, само собой, один Платон – он, к счастью, и возник следующим за круглым столом с трещиной посередине в тусклом, мрачном кабинете через дорогу от больницы в Южном Чикаго.
Теперь едем вдоль побережья – холодно, мокро и уныло. Дождь перестал – временно, – однако небо не шепчет. В одном месте вижу пляж, там какие-то люди идут по мокрому песку. Я устал и потому торможу.
Слезая, Крис спрашивает:
– Зачем мы остановились?
– Я устал, – отвечаю я. С океана дует холодный ветер, и там, где он намел дюн – они теперь влажны и темны от дождя, видимо, только что кончился, – нахожу местечко прилечь, и так немного согреваюсь.
Однако не сплю. На гребне дюны возникает маленькая девочка, смотрит на меня так, будто хочет со мной поиграть. Через некоторое время уходит.
Потом возвращается Крис; хочет ехать. Говорит, нашел на камнях какие-то смешные растения, они втягивают усики, если потрогать. Иду с ним и между накатами волн вижу на камнях морские анемоны; это не растения, а животные. Сообщаю ему, что их щупальца способны парализовать рыбешку. Должно быть, сейчас крайняя точка отлива, иначе мы б их не увидели, говорю я. Краем глаза вижу, что девочка за камнями подобрала морскую звезду. Ее родители тоже несут морских звезд.
Садимся на мотоцикл и едем на юг. Дождь иногда припускает сильнее, и я пристегиваю пузырь, чтобы каплями лицо не жалило, но мне так не нравится, и чуть дождь стихает, я его убираю. Надо доехать до Аркаты засветло, но не хочу слишком гнать по мокрой дороге.
По-моему, это Кольридж сказал: все – либо платоники, либо аристотелики[39]. Те, кто терпеть не может Аристотелевых нескончаемых перечислений, естественно любят возвышенные Платоновы обобщения. Те, кто не переносит вечного высокопарного идеализма Платона, рады приземленным фактам Аристотеля. Платон, по сути, – искатель Будды, в каждом поколении он возникает вновь и вновь, движется вперед и вверх, к «единому». Аристотель – вечный механик по мотоциклам, он предпочитает «множество». Сам я в этом смысле довольно-таки аристотелевец: мне нравится отыскивать Будду в Качестве окружающих меня фактов. А вот Федр по складу своему был явным платоником, и когда на занятиях перешли к Платону, ему сильно полегчало. Его Качество и Платоново Благо были так схожи, что если б от Федра не осталось заметок, я бы решил, что это одно и то же. Но Федр это отрицал, и со временем я понял, насколько важно это отрицание.
Однако курс по «Анализу идей и изучению методов» не касался Платонова понятия Блага; он касался Платонова понятия риторики. Риторика, очень ясно пишет Платон, никак не связана с Благом; красноречие для него – «это часть дела, которое прекрасным никак не назовешь»[40]. После тиранов Платон больше всех ненавидит риторов.
Первым из «Диалогов» Платона задали читать «Горгия», и Федр понял: он приехал. Вот где, наконец, ему хочется быть.
Все время не покидало чувство, будто его влекут вперед силы, которых он не понимает, – мессианские силы. Наступил и кончился октябрь. Дни летели нереальные и неразборчивые – различалось лишь Качество. Имело значение только одно: у него скоро родится новая ошеломляющая и потрясающая мир истина; понравится она миру или нет – другой вопрос, но нравственный долг мира – ее принять.
В диалоге Горгий – имя софиста, которого Сократ подвергает перекрестному допросу. Сократу прекрасно известно, чем Горгий зарабатывает себе на жизнь и как он это делает[41], но он начинает свою диалектику «Двадцати вопросов»[42], спросив Горгия, чего касается риторика. Горгий отвечает, что риторика касается речи. В ответ на другой вопрос он говорит, что ее задача – убедить. В ответ на третий вопрос утверждает, что ее место – в судах «или в любом ином собрании». И в ответ на еще один вопрос: «Я говорю о таком убеждении, Сократ, которое действует в судах и других сборищах (как я только сейчас сказал), а его предмет – справедливое и несправедливое». Все это – простое описание того, чем занимаются люди, называемые софистами, – тонко преобразуется Сократовой диалектикой в нечто иное. Риторика становится объектом, и как объект теперь делится на части. Они как-то соотносятся друг с другом, и эти соотношения непреложны. В диалоге достаточно ясно видно, как аналитический нож Сократа рубит искусство Горгия на куски. Еще важнее: видно, что куски эти – основа Аристотелева искусства риторики.
Сократ у Федра был одним из героев детства, и теперь Федра потрясло и разгневало, что диалог вообще имеет место. Он исписывал поля текста собственными ответами. Они, должно быть, сильно его удручали – никак не узнать, куда после таких ответов потек бы диалог. В одном месте Сократ спрашивает: «Что это за предмет, на который направлены речи, принадлежащие этому искусству?» Горгий отвечает: «Это самое великое, Сократ, и самое прекрасное из всех человеческих дел». Федр, без сомнения признавший в этом ответе Качество, пишет на полях: «Истинно!» Сократ же не согласен: «Ах, Горгий, ты снова отвечаешь уклончиво и недостаточно ясно». «Лжец!» – пишет Федр на полях и дает сноску на страницу другого диалога, где Сократ совершенно недвусмысленно заявляет, что ему все достаточно ясно.
Сократу диалектика нужна не для понимания риторики, а для ее уничтожения – ну, или по крайней мере компрометации. Поэтому вопросы его – на самом деле, никакие не вопросы, а словесные ловушки, куда попадаются Горгий и его собратья-риторы. Федр весь вспыхивает: будь он там, он бы всем показал.
А в классе тем временем профессор философии, заметив очевидные примерность и прилежание Федра, решил, что тот, может, и не такой уж плохой студент. Это его вторая ошибка. Он решил немного поиграть с Федром: спросил, что Федр думает о «поваренном искусстве». Сократ продемонстрировал Горгию, что и риторика, и поваренное искусство – разновидности «угодничества», сводничества, ибо обращаются скорее к эмоциям, нежели к истинному знанию.
На вопрос профессора Федр дает ответ Сократа: поварское искусство – «часть угодничества».
Какая-то барышня в классе хихикает, и Федру это не нравится. Он же знает: профессор хочет поставить ему диалектический захват, похожий на те, что Сократ ставил своим оппонентам. Ответ Федра вовсе не рассчитан на смех – он дан, чтобы этот диалектический захват сбросить. Федр вполне готов на память точно процитировать все доводы Сократа.
Но не к этому стремится профессор. Он хочет диалектической дискуссии в классе: Федр в ней – ритор, и его, Федра, низвергает сила диалектики. Профессор хмурится и делает еще одну попытку:
– Нет. Я имею в виду, в самом ли деле вы считаете, будто нам следует отказываться от хорошо приготовленной еды, подаваемой в лучшем ресторане?
Федр уточняет:
– Вас интересует мое личное мнение?
Вот уже много месяцев – с тех пор, как исчез простодушный студиозус, – в этом классе никто не осмеливался высказывать личное мнение.
– Да-а-а, – тянет профессор.
Федр молчит и пытается составить ответ. Все ждут. Его мысли разгоняются до скорости света, просеивают диалектику, разыгрывают один шахматный дебют доводов за другим, каждый явно проигрывает, переходят к следующему, все быстрее и быстрее… Класс же наблюдает лишь молчание. Наконец обескураженный профессор оставляет этот вопрос и переходит к лекции.
Но Федр лекции не слышит. Ум его спешит все дальше, сквозь перестановки диалектики, дальше и дальше – сталкивается с чем-то, находит новые ветви и отростки, взрывается гневом при каждом новом открытии порочности, мерзости и низости этого «искусства», называемого диалектикой. Видя, что у Федра с лицом, профессор немало беспокоится и продолжает лекцию в некой панике. Ум Федра спешит все дальше – и видит наконец нечто злое: это зло глубоко окопалось в нем самом, оно только делает вид, будто пытается понимать любовь, красоту, истину и мудрость, но подлинная его цель – никогда их не понимать, всегда узурпировать их и возводить на трон себя. Диалектика – узурпатор. Вот что он видит. Выскочка, она навязывается Благу, стремится удерживать и контролировать его. Зло. Профессор заканчивает лекцию раньше обычного и в спешке покидает аудиторию.
Студенты молча расходятся, а Федр остается сидеть один за огромным круглым столом; мало-помалу солнце в прокопченном воздухе за окном гаснет, комната сереет, затем темнеет.
Назавтра он ждет открытия библиотеки – и начинает яростно вчитываться в Платона, за Платона, впервые выискивая то немногое, что известно о риторах, которых Платон так презирал. И обнаруженное подтверждает то, что он интуитивно нащупал накануне вечером.
Многие ученые уже усомнились в этом Платонове проклятии софистов. Сам Председатель Комиссии предположил: критики, не уверенные в том, что имел в виду Платон, точно так же не должны быть уверены в том, что имели в виду противники Сократа в диалогах. Раз доподлинно известно, что Платон вкладывал в уста Сократа собственные слова (так утверждал Аристотель), нет и причин сомневаться, что он мог вложить собственные слова и в чьи-нибудь еще уста.
Отрывки из других древних подводили к иным оценкам софистов. Многих софистов постарше города избирали «послами» – такая должность вряд ли свидетельствовала о неуважении. «Софистами» без уничижения называли самих Сократа и Платона. Впоследствии историки даже высказывали предположение, что Платон так ненавидел софистов, ибо не желал ставить их рядом со своим наставником Сократом – величайшим софистом. Это последнее объяснение, думает Федр, интересно, однако неудовлетворительно. Вряд ли тебе будет отвратительна школа, к которой принадлежит твой наставник. Какова была подлинная цель Платона? Федр все глубже вчитывается в досократовскую греческую мысль и в конце концов приходит к выводу: ненависть Платона к риторам – отдельный бой гораздо более масштабной войны, где за будущий ум человека сражаются реальность Блага, представленная софистами, и реальность Истины, представленная диалектиками. Истина победила, Благо проиграло – поэтому сегодня нам так нетрудно принять реальность истины и так трудно принять реальность Качества, даже если согласия в одном не больше, чем в другом.
Нужно немного пояснить, как Федр к этому приходит:
Сначала надо переломить в себе представление о том, что период времени между последним пещерным человеком и первым греческим философом был краток. Нет никакой истории того периода – отсюда и иллюзия. Но до выхода на сцену греческих философов времени прошло по крайней мере впятеро больше, чем вся наша записанная история со времен греческих философов; тогда существовали весьма развитые цивилизации. Были деревни и города, транспорт, дома, рынки, огороженные поля, сельскохозяйственные орудия и домашние животные, а люди вели жизнь столь же богатую и разнообразную, как и в большинстве сельских районов сегодняшнего мира. Подобно нынешним жителям глубинки, они не видели смысла все это записывать – а если и видели, то записывали на материалах, до сих пор не найденных. Поэтому мы ничего о них не знаем. «Темные века» стали просто возвратом к такой естественной жизни, прерванной греками.
Ранняя греческая философия – первый сознательный поиск нетленного в людских делах. Прежде вся нетленка ограничивалась царством Богов, мифами. Но греки стали пристрастнее к окружающему миру, а с этим упрочилось и умение обобщать; они научились видеть в старом греческом мифосе не явленную истину, а изобретательные творения искусства. Такого сознания никогда и нигде в мире прежде не существовало; для греческой цивилизации оно означало целый новый уровень трансцендентности.
Но мифос никуда не девается: то, что уничтожает старый мифос, становится новым, а новый мифос при первых ионийских философах преобразовался в философию. Та переосмыслила и возвеличила постоянство. Оно больше не было исключительной прерогативой Бессмертных Богов. Оно теперь заключалось в Бессмертных Принципах, одним из которых стал наш нынешний закон тяготения.
Сначала Фалес назвал Бессмертный Принцип водой. Анаксимен назвал его воздухом. Пифагорейцы – числом; тем самым они первыми объявили Бессмертный Принцип нематериальным. Гераклит назвал Бессмертный Принцип огнем и ввел в него понятие «перемены». Он сказал: мир существует как конфликт и противоречие противоположностей. Он сказал: есть Единое и есть Множество; Единое – универсальный закон, внутренне присущий всем вещам. Анаксагор первым определил Единое как nous, то есть «разум».
Парменид впервые прояснил, что Бессмертный Принцип, Единое, Истина, Бог отделен от видимости и мнения; трудно переоценить важность этого разграничения и его воздействие на всю последующую историю. Именно здесь классический ум впервые расстался со своим романтическим происхождением, сказал: «Благо и Истина – не обязательно одно и то же, – и пошел своим путем. У Анаксагора и Парменида был слушатель по имени Сократ; он-то и дорастил их идеи до плодоношения.
Понять здесь, по сути, надо одно: прежде не существовало ни разума, ни материи; субъектов и объектов, формы и сущности тоже не было. Такие деления изобрела диалектика, они возникли позже. Современный ум иногда артачится при мысли, что эти дихотомии – изобретения, и говорит: «Ну, уже были такие разделения, греки их просто открыли», – и на это следует сказать: «Где они были? Покажь!» Тут современный ум конфузится и спрашивает себя, что все это вообще значит, – однако по-прежнему верит, что разделения были.
Однако их не было, сказал Федр. Они лишь призраки, бессмертные боги современного мифоса, а нам кажутся реальными, ибо мы – внутри этого мифоса. В реальности они такие же художественные творения, как и антропоморфные Боги, которых они заменили.
Все упомянутые досократовские философы видели внешний мир и стремились распознать в нем универсальный Бессмертный Принцип. Общее усилие объединяло их в группу, которую можно назвать «космологи». Все они соглашались в том, что такой принцип есть, а их разногласия о том, что он такое, казались неразрешимыми. Последователи Гераклита настаивали, что Бессмертный Принцип – изменение и движение. Однако ученик Парменида Зенон рядом парадоксов доказал, что любое восприятие движения и изменения иллюзорно. Реальности полагается быть незыблемой.
Споры космологов разрешились, и решение пришло откуда не ждали, – от группы, казавшейся Федру ранними гуманистами. Они были учителями, но стремились учить не принципам, а людским верованиям. И нацеливались не на единственную абсолютную истину, а на улучшение человечества. Все принципы, все истины относительны, утверждали они. «Человек – вот мера всех вещей»[43]. То были знаменитые учители «мудрости», софисты Древней Греции.
С этой подсветкой – конфликтом софистов и космологов – Федру открылась новая глубина в «Диалогах» Платона. Сократ не просто излагает благородные идеи в пустоте. Он в самой гуще боя между теми, кто думает, что истина абсолютна, и теми, кто думает, что она относительна. И сражается в этом бою всем, что у него есть под рукой. Софисты – враги.
Теперь ненависть Платона к софистам имеет смысл. Платон с Сократом защищают Бессмертный Принцип космологов от того, что полагают разложением софистов. Защищают Истину. Знание. Идеал, который существует, что бы о нем ни думали. За него умер Сократ. Таким идеалом обладала одна лишь Греция – впервые в мировой истории. Он очень хрупок. Может совсем исчезнуть. Платон ненавидит и проклинает софистов без удержу не потому, что они люди низкие и аморальные: очевидно, что в Греции есть и похуже, но они ему без разницы. Платон проклинает софистов потому, что они угрожают первому проблеску человеческого понимания истины. Вот что все это значит.
Мученичество Сократа и непревзойденная проза Платона – весь известный нам мир западного человека, никак не меньше. Если бы понятию истины дали пропасть и Возрождение бы ее не открыло заново, маловероятно, что мы бы сегодня поднялись хоть сколько-нибудь выше уровня доисторического человека. Понятия науки, техники и прочих систематически организованных усилий человека намертво зацентрованы на ней. Она – ядро всего.
И все же, понимает Федр, то, что говорит о Качестве он, всему этому как-то противоположно. Похоже, гораздо больше согласуется с софистами.
«Человек – мера всех вещей». Да, это он и говорит о Качестве. Человек – не источник всех вещей, как сказали бы субъективные идеалисты. И не пассивный наблюдатель всех вещей, как сказали бы объективные идеалисты и материалисты. Качество, создающее мир, возникает как отношение между человеком и его опытом. Человек – участник создания всех вещей. Мера всех вещей – как раз оно. И они учили риторике – тоже оно.
Тому, что говорит он и что сказал Платон о софистах, не соответствует лишь одно – их профессия. Учители добродетели. Все свидетельства указывают: такова была абсолютная суть их учения. Но как обучать добродетели, если сам же учишь относительности всех этических идей? Если добродетель вообще что-то значит, она равняется этическому абсолюту. Когда у человека понятие о том, что до́лжно, изо дня в день меняется, им можно восхищаться за широту взглядов, но не за добродетель. По крайней мере, в том смысле, как это слово понимает Федр. А как получишь добродетель из риторики? Нигде не объясняется. Чего-то не хватает.
Поиск ведет его по нескольким историям Древней Греции – как обычно, их он читает, как детективы: ищет лишь полезные факты, а неполезные отбрасывает. И вот доходит до «Греков» Х. Д. Ф. Китто[44] – сине-белой книжки в мягкой обложке, купленной за пятьдесят центов, – и натыкается на абзац, где описывается «сама душа гомеровского героя», легендарной фигуры еще не разложившейся досократовской Греции. И вспышка просветления так интенсивна, что герои не стерлись из памяти и стоят у меня перед глазами как живые.
Речь об «Илиаде» – истории осады Трои; город обратится во прах, а его защитников перебьют в битве. Жена предводителя троянцев Гектора Андромаха говорит ему:
«Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! ни сына Ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне, Вместе напавши, убьют! а тобою покинутой, Гектор, Лучше мне в землю сойти: никакой мне не будет отрады, Если, постигнутый роком, меня ты оставишь: удел мой – Горести!..»[45] …Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор: «Все и меня то, супруга, не меньше тревожит; но страшный Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой, Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя. Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным, Храбро всегда меж троянами первыми биться на битвах, Славы доброй отцу и себе самому добывая! Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем, Будет некогда день, и погибнет священная Троя, С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама. Но не столько меня сокрушает грядущее горе Трои; Приама родителя, матери дряхлой, Гекубы, Горе, тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых, Кои полягут во прах под руками врагов разъяренных, Сколько твое, о супруга! тебя меднолатный ахеец, Слезы лиющую, в плен повлечет и похитит свободу! И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке, Воду носить от ключей Мессеиса или Гиперея, С ропотом горьким в душе; но заставит жестокая нужда! Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет: Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах Всех конеборцев троян, как сражалися вкруг Илиона! Скажет – и в сердце твоем возбудит он новую горечь: Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства! Но да погибну и буду засыпан я перстью земною Прежде, чем плен твой увижу и жалобный вопль твой услышу!» Рек – и сына обнять устремился блистательный Гектор; Но младенец назад, пышноризой кормилицы к лону С криком припал, устрашася любезного отчего вида, Яркою медью испуган и гребнем косматовласатым, Видя ужасно его закачавшимся сверху шелома. Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись. Шлем с головы немедля снимает божественный Гектор, Наземь кладет его, пышноблестящий, и, на руки взявши Милого сына, целует, качает его и, поднявши, Так говорит, умоляя и Зевса, и прочих бессмертных: «Зевс и бессмертные боги! о, сотворите, да будет Сей мой возлюбленный сын, как и я, знаменит среди граждан; Так же и силою крепок, и в Трое да царствует мощно. Пусть о нем некогда скажут, из боя идущего видя: Он и отца превосходит!..»[46]«На героические дела греческого воина подвигает, – комментирует Китто, – не чувство долга в том смысле, в каком его понимаем мы, то есть долг перед другими, но скорее долг перед собой. [Воин] стремится к тому, что мы переводим как «добродетель», но по-гречески это звучит aretê, «превосходство»… Нам будет что о нем сказать. Оно проходит через всю жизнь греков».
Вот, думает Федр, определение Качества, которое существовало за тысячу лет до того, как диалектики вообще помыслили заключить его в слова-ловушки. Те, кто не понимают этого без логических definiens, definiendum и differentia[47], либо лгут, либо настолько утратили связь с обычной участью человечества, что вообще не достойны никакого ответа. Федра тоже завораживает описание мотива «долга перед собой»: это почти точный перевод санскритского слова dharma, о котором иногда говорят как о «едином» индусов. Могут ли «дхарма» индусов и «добродетель» греков оказаться одним и тем же?
Федра тянет перечесть абзац, он читает и… что это?!. “К тому, что мы переводим как «добродетель», но по-гречески это звучит «превосходство»”.
Бьет молния!
Качество! Добродетель! Дхарма! Вот чему учили софисты! Не этическому релятивизму. Не пуританской «добродетели». Но aretê. Превосходству. Дхарме! Еще до Храма Разума. До субстанций. До формы. До разума и материи. До самой диалектики. Качество было абсолютным. Первые учителя Западного мира учили Качеству, и средством для этого они избрали риторику. Он все делал правильно.
Дождь стих, и виден горизонт – четкая линия между светло-серым небом и темно-серой водой.
Да, Китто есть что сказать об этом aretê древних греков.
«Встречая aretê у Платона, – говорит он, – мы переводим его как «добродетель» и, следовательно, упускаем всю его прелесть. Слово «добродетель» – по крайней мере в современном языке – почти целиком относится к морали; aretê, напротив, используется неопределенно во всех категориях и просто означает превосходство».
Таким образом, герой «Одиссеи» – великий воин, лукавый интриган, оратор, который за словом в карман не лезет, человек мужественного сердца и обширных познаний, ему известно: он должен вытерпеть все, что посылают ему боги, без лишних жалоб; он умеет и строить, и управлять судном, не хуже других может пропахать прямую борозду, победить молодого хвастуна в метании дисков, вызвать феакийского юношу на кулачный поединок, борьбу или бег, освежевать, разделать и поджарить быка и растрогаться до слез от песни. Фактически, он – превосходный мастер на все руки; у него превосходное aretê.
Aretê подразумевает уважение к цельности или единости жизни и последовательную нелюбовь к специализации. Оно подразумевает презрение к эффективности – или, вернее, гораздо более высокое понятие об эффективности: она существует не в каком-то отделении жизни, а в самой жизни.
Федр вспомнил строчку из Торо: «Никогда не обретешь, чего-то не потеряв»[48]. Вот теперь он впервые осознавал невероятное величие того, что человек утратил, обретя силу понимать и управлять миром через диалектические истины. Он выстроил империи научных способностей, дабы превратить явления природы в гигантские проекции собственных мечтаний о власти и богатстве, – но на это променял империю равных масштабов: понимания того, что значит быть частью мира, а не его врагом.
Спокойствия духа можно достичь, просто разглядывая линию горизонта. Линия геометра… совершенно плоская, постоянная, известная. Возможно, с нее Евклид начал понимать линейность; это линия отсчета, от которой развились первые вычисления первых астрономов, наносивших звезды на карту.
С той же математической уверенностью, которую ощущал Пуанкаре, решая фуксовы уравнения, Федр знал: это греческое aretê было той недостающей частью головоломки, что завершала узор. Но он читал дальше, чтобы картинка сложилась полностью.
Нимбы над головами Платона и Сократа исчезли. Федр видел: они последовательно делают то, в чем сами обвиняют софистов, – на эмоционально убедительном языке стараются превратить слабый довод – защиту диалектики – в сильный. Больше всего мы осуждаем в других то, думал он, чего больше всего боимся в себе.
Но почему? Зачем уничтожать aretê? Не успел Федр задать себе этот вопрос, как ответ пришел сам. Платон не пытался уничтожить aretê. Он его инкапсулировал; сделал из него постоянную, фиксированную Идею; обратил в жесткую, неподвижную Бессмертную Истину. Сделал aretê Благом, высшей формой, высшей Идеей. Оно подчинялось лишь самой Истине – в синтезе всего, что было раньше.
Вот почему то Качество, к которому Федр пришел в классе, казалось столь близким Благу Платона. Благо Платона взято у риторов. Федр искал, но так и не нашел космологов, прежде Платона говоривших о Благе. Благо – это от софистов. Разница в том, что Благо Платона – фиксированная Идея, вечная и незыблемая, а для риторов оно вовсе не было Идеей. Благо не было формой реальности. Оно было самой реальностью, вечно изменчивой, не познаваемой окончательно никаким фиксированным жестким способом.
Зачем Платон это сделал? Федр рассматривал философию Платона как результат двух синтезов.
Первый синтез пытался справиться с разногласиями последователей Гераклита и Парменида. Обе космологические школы утверждали Бессмертную Истину. Чтобы выиграть бой за истину, в которой aretê играет подчиненную роль, у врагов, желающих обучать такому aretê, в котором подчиненную роль играет истина, Платон сначала должен разрешить внутренний конфликт между верующими в Истину. Для этого он говорит: Бессмертная Истина – не просто изменение, как считали последователи Гераклита. И не просто сущность без изменений, как утверждали последователи Парменида. Обе эти Бессмертные Истины сосуществуют как неизменные Идеи и изменчивая Видимость. Вот почему Платон находит нужным отделять, к примеру, «лошадность» от «лошади» и говорить, что лошадность реальна, фиксированна, истинна и незыблема, а вот лошадь – простое, незначительное, преходящее явление. Лошадность – чистая Идея. Зримая лошадь – собрание непостоянных Видимостей, она способна меняться, скакать где хочет и даже сдохнуть на месте, не потревожив лошадности – Бессмертного Принципа, который длится вечно, как и Боги старины.
Второй синтез Платона – включение aretê софистов в эту дихотомию Идей и Видимостей. Он помещает его на самое почетное место: оно подчиняется лишь самой Истине и методу, коим Истина достигается, – диалектике. Но в этой попытке объединить Истину и Благо превращением Блага в высочайшую Идею Платон, вместе с тем, узурпирует место aretê и возводит на него диалектически определенную истину. Поскольку Благо как диалектическая идея томилось в плену, другому философу не составит труда прийти и диалектическими методами продемонстрировать, что aretê, Благо, с большей выгодой можно сместить ниже в «истинном» порядке вещей, более совместимом с внутренним устройством диалектики. И такой философ не заставил себя долго ждать. Его звали Аристотель.
Аристотель чувствовал: смертная лошадь Видимости, которая щиплет травку, возит людей и рожает жеребят, заслуживает гораздо больше внимания, нежели ей уделял Платон. Он говорил, что лошадь – не просто Видимость. Видимости цепляются за нечто вне себя, нечто неизменное – например, за Идеи. Это «нечто», за которое цепляются Видимости, он назвал «субстанцией». И в этот миг – а не до него – родилось наше современное научное понимание реальности.
При Аристотеле – «Читателе», подозрительно не осведомленном о троянском aretê, – формы и субстанции превалируют над всем. Благо – сравнительно мелкая ветвь знания, называемая этикой; Аристотеля в первую голову заботят разум, логика, знание. Aretê мертво, а науке, логике и университету в его нынешнем виде выдана хартия об основании: он должен отыскать и изобрести бесконечный количественный рост форм, касающихся субстантивных элементов мира, назвать эти формы знанием и передать их будущим поколениям. В виде «системы».
А риторика… Бедная риторика, некогда сама по себе «постижение», теперь низводится к преподаванию манер и форм – Аристотелевых форм – письма, как будто они что-то значат. Пять ошибок в правописании, вспомнил Федр, или одна ошибка в построении фразы, или три не там расположенных определения, или… и так далее, без конца. Любого хватит сообщить студенту, что он не знает риторики. В конце концов, это она и есть, разве нет? Само собой, существует «пустая риторика» – способная привлечь эмоционально без должного подчинения диалектической истине, но такая нам не нужна, правда? Мы тогда уподобимся этим древнегреческим лжецам, жуликам и пачкунам, этим софистам – помните таких? Истину мы постигнем на других академических курсах, а потом немного поучимся риторике, дабы уметь красиво все записывать и производить впечатление на начальство, которое продвинет нас на должности повыше.
Формы и манеры – их ненавидят лучшие и обожают худшие. Год за годом, десятилетие за десятилетием маленькие «читатели» с передних парт, имитаторы с милыми улыбками и аккуратными авторучками выходят получать свои Аристотелевы пятерки, а те, у кого подлинное aretê, молча сидят позади, не понимая, что с ними такое и почему им так не нравится этот предмет.
И сегодня в тех немногих университетах, где считают нужным преподавать классическую этику, студенты вслед за Аристотелем и Платоном бесконечно возятся с вопросом, который в Древней Греции вообще не было необходимости задавать: «Что есть Благо? И как нам его определить? Поскольку его определяют по-разному, как нам узнать, что благо вообще есть? Некоторые утверждают, что благо – в счастье, но как нам узнать, в чем счастье? И как определить счастье? Счастье и благо – не объективные термины. Мы не можем работать с ними научно. А коль скоро они не объективны, значит, существуют просто у нас в уме. Поэтому хочешь быть счастливым – передумай. Ха-ха, ха-ха».
Аристотелевы этика, определения, логика, формы, субстанции, риторика, Аристотелев смех… ха-ха, ха-ха.
А кости софистов давным-давно обратились в прах, и слова их обратились в прах вместе с ними, а прах погребался под обломками приходивших в упадок Афин и Македонии, пока она рушилась. Распадались и умирали Древний Рим, Византия, Оттоманская империя и современные государства – а прах погребали так глубоко, с такой церемонностью, с таким смаком и такой злобой, что лишь безумец много веков спустя сумел обнаружить следы, по которым раскопал их – и с ужасом узрел, что с ними сделали…
Дорога так потемнела, что надо зажечь фару, а то заплутаешь в этом тумане и дожде.
30
В Аркате заходим в столовку, сырую и холодную, едим чили с бобами, пьем кофе.
Потом выезжаем на дорогу снова – на скоростную трассу, быструю и мокрую. Будем ехать, пока до Сан-Франциско не останется легкого однодневного перегона, тогда и остановимся.
Фары встречных машин странно играют на мокрой осевой линии, капли бьют в пузырь шлема, как дробинки, преломляя свет причудливыми волнами кругов и полукругов. ХХ век. Он уже со всех сторон, этот ХХ век. Пора кончать с Федровой одиссеей ХХ века и больше к ней не возвращаться.
Когда группа по «Идеям и методам 251, Риторике» собралась в следующий раз за большим круглым столом в Южном Чикаго, секретарша деканата объявила, что профессор философии болен. Болел он всю следующую неделю. Несколько озадаченные остатки группы, которая к тому времени уменьшилась втрое, пошли через дорогу выпить кофе.
За столиком один студент – Федр про себя охарактеризовал его как интеллектуального сноба, хоть и способного – сказал:
– Неприятнее семинаров у меня в жизни не бывало. – Он смотрел эдак свысока с какой-то бабьей сварливостью, будто Федр испортил ему всю малину.
– Полностью согласен, – ответил Федр. Он ждал выпада, но выпада не последовало.
Другие, видимо, считали, что это все из-за Федра, но им не за что было зацепиться. Затем женщина постарше, сидевшая за столиком напротив, спросила, зачем он вообще ходит на занятия.
– Я сам сейчас пытаюсь это понять, – ответил Федр.
– А вы ходите полный день? – спросила она.
– Нет, полный день я преподаю на Военно-морском пирсе.
– Что преподаете?
– Риторику.
Она смолкла, и все за столом посмотрели на него и тоже замолчали.
Ноябрь заканчивался. Листья, солнечно-оранжевые в октябре, опали, оставив голые ветви встречать холодные ветра с севера. Выпал первый снег, потом растаял; тусклый город ждал зимы.
Пока профессора не было, задали еще один диалог Платона. Он назывался «Федр», что для нашего Федра не значило ничего, поскольку сам он себя так не называл. Греческий Федр – не софист, а молодой оратор, который в этом диалоге лишь оттеняет Сократа. Диалог – о природе любви и возможности философской риторики. Федр, похоже, не очень сообразителен и риторическое Качество чувствует ужасно, ибо цитирует на память весьма скверную речь оратора Лисия. Но вскоре понимаешь: эта плохая речь и была задумана как легкая добыча для Сократа, чтобы тот сопроводил ее своей, гораздо лучше, а потом еще одной, с которой во всех «Диалогах» Платона мало что сравнится.
Помимо этого в Федре примечательна лишь его личность. Платон часто дает имена оппонентам Сократа по их личностным характеристикам. Молодой, сверхболтливый, невинный и добродушный оппонент в «Горгии» зовется Пол, что по-гречески «жеребенок». Федр не таков. Он не принадлежит ни к какой группе. Предпочитает городу уединение деревни. Агрессивен до крайности и может быть опасным. В одном месте он даже угрожает Сократу насилием. Phaedrus по-гречески – «волк». В диалоге его увлекает речь Сократа о любви, и он укрощен.
Наш Федр читает диалог, и его поражает великолепная поэтическая образность. Но он отнюдь не укрощен диалогом, ибо тот попахивает лицемерием. Речь – не самоцель, она призвана осуждать то же эмоциональное царство понимания, к которому сама риторически взывает. Страсть здесь «мешает разобраться», она убийца понимания, и не отсюда ли, размышляет наш Федр, пошло это осуждение страстей, так глубоко укоренившееся в западной мысли? Вероятно, нет. Напряжение между древнегреческой мыслью и эмоцией считается основой греческого характера и культуры. Хотя интересно.
На следующей неделе профессор философии опять не появляется, и Федр за это время подтягивает свою работу в Университете Иллинойса.
Еще через неделю в книжном магазине Чикагского университета, куда Федр зашел по пути на занятия, он видит два темных глаза: смотрят на него пристально между книг на полке. Когда лицо возникает целиком, Федр узнает простодушного студиозуса, которого словесно избили в начале четверти, после чего он исчез. Судя по лицу – что-то знает. Федр подходит к нему поговорить, но тот отступает и исчезает за дверью. Федр недоумевает. Ему неспокойно. Может, устал и просто нервничает. Преподавать на пирсе утомительно само по себе, а тут еще затыкать за пояс сразу всю западную академическую мысль в Чикагском университете – Федр работает и занимается по двадцать часов в сутки, ни должного питания, ни упражнений. Может, от усталости показалось, будто в этом лице что-то не то.
Но он переходит дорогу к корпусу, а лицо следует за ним шагах в двадцати. Что-то затевается.
Федр входит в класс и ждет. Вскоре появляется и студент – его не было много недель. На зачет надеется? Студент смотрит на Федра с полуулыбкой. Ничего так улыбается – явно есть повод.
В коридоре звучат шаги – и тут Федр понимает; ноги подкашиваются, руки начинают трястись. Милостиво улыбаясь, в дверях стоит не кто иной, как сам Председатель Комиссии по анализу идей и изучению методов при Чикагском университете. Он взял класс себе.
Вот оно что. Теперь они вышвырнут Федра через парадный вход.
Изысканный, величественный, полный имперского великодушия, Председатель задерживается в дверях, затем здоровается со студентом. Похоже, они знакомы. Улыбается, отводя от студента взгляд, озирает весь класс, словно хочет найти еще какое-нибудь знакомое лицо, кивает с коротким смешком, ждет звонка.
Вот зачем этот парнишка здесь. Ему объяснили, почему он попался под горячую руку, и дабы показать, какие они хорошие ребята, ему позволят занять место у арены, когда будут избивать Федра.
Как они это сделают? Федр уже знает. Сначала уничтожат его диалектически перед всем классом, показав, как мало он знает о Платоне и Аристотеле. С этим хлопот не будет. Очевидно, что они знают о Платоне и Аристотеле в сотни раз больше, чем удастся узнать ему. Они этим всю жизнь занимались.
Сначала тщательно препарируют его диалектически, а затем предложат либо подтянуться, либо убираться вон. Позадают еще вопросов – он и на них не сможет ответить. Потом скажут: раз успеваемость у него настолько хромает, пусть не беспокоится больше ходить на занятия. И вообще ему лучше незамедлительно покинуть класс. Возможны варианты, но основной формат таков. Легко.
Что же, он многому научился – за тем сюда и приходил. Напишет диссертацию как-нибудь иначе. Ноги подламываться перестают, и он успокаивается.
После того как они с Председателем виделись в последний раз, Федр отпустил бороду, стало быть, пока не опознан. Преимущество ненадолго. Председатель быстро его вычислит.
Тот аккуратно вешает пиджак, берет стул по другую сторону круглого стола, садится, достает старую трубку и набивает ее, должно быть, с полминуты. Не иначе проделывал это не раз.
Обратив внимание на собравшихся, всматривается в лица, гипнотически улыбается, прощупывает настроение – но что-то немножко не так. Набивает трубку еще некоторое время, без спешки.
Вскоре момент настает, Председатель прикуривает, и по классу ползет аромат дыма.
Наконец Председатель молвит:
– Насколько я понимаю, сегодня мы должны начать обсуждение бессмертного «Федра». – Смотрит на каждого студента в отдельности. – Верно?
Учащиеся робко заверяют его, что так и есть. Он вселяет ужас.
Затем Председатель извиняется за отсутствие преподавателя и сообщает, что будет дальше. Сам он уже знает этот диалог, поэтому от класса будет добиваться ответов, которые покажут, насколько хорошо они изучили материал.
Лучше не бывает, думает Федр. Так можно узнать лично каждого студента. К счастью, Федр штудировал диалог так тщательно, что почти выучил наизусть.
Председатель прав. Это бессмертный диалог; поначалу он странен и озадачивает, но потом бьет сильнее и сильнее, как сама истина. То, что для Федра – Качество, Сократ, по-видимому, описал как душу, самодвижение, источник всех вещей. Здесь нет противоречия. Его и не может быть между центральными понятиями монистических философий. Единое в Индии должно быть тем же самым, что и Единое в Греции. Если это не так, выходит два. Монисты не согласны лишь в определениях Единого, а не в самом Едином. Поскольку Единое – источник всех вещей и включает все вещи в себя, оно не может быть определено через эти вещи: какую бы вещь ни использовал для его определения, она всегда будет описывать нечто меньше Единого. Единое можно описать лишь аллегорически – аналогиями, фигурами воображения и речи. Сократ избирает аналогию неба и земли, показывая, как личности притягиваются к Единому «крылатой парной упряжкой»…
Но вот Председатель адресует вопрос студенту рядом с Федром. Подбрасывает наживку, провоцирует его на нападение.
Студент, к которому обратились по ошибке, не нападает, и Председатель с немалым отвращением и раздражением в конце концов оставляет его в покое, сделав выговор: мол, материал следовало читать внимательнее.
Дальше – Федр. Он неимоверно спокоен. Теперь его черед объяснять диалог.
– Если позволите, я начну заново, – говорит он – отчасти желая скрыть, что не слышал, о чем говорил предыдущий студент.
Председатель, рассматривая это как продолжение выговора провинившемуся студенту рядом, улыбается и высокомерно произносит, что это, конечно же, хорошая мысль.
Федр продолжает:
– Я полагаю, в этом диалоге личность Федра характеризуется словом «волк».
Он произносит это довольно громко, со вспышкой гнева, и Председатель чуть не подскакивает на месте. Счет открыт!
– Да, – говорит Председатель, и блеск в его глазах показывает, что он уже узнал бородатого противника. – Phaedrus по-гречески действительно означает «волк». Очень точно подмечено. – К нему начинает возвращаться самообладание. – Продолжайте.
– Федр встречает Сократа, который «не выходит даже за городскую стену», и ведет его в деревню, где принимается цитировать речь оратора Лисия, которым восхищается. Сократ просит его прочесть эту речь, и Федр читает.
– Стоп! – говорит Председатель, уже полностью владея собой. – Вы пересказываете нам сюжет, а не объясняете диалог. – И вызывает следующего студента.
Похоже, никто не знает, о чем этот диалог, – Председателя ни один ответ не удовлетворяет. Поэтому с притворной грустью он говорит, что всем следует прочесть текст тщательнее, но на сей раз он им поможет – возьмет на себя труд объяснить диалог сам. Напряженность, которую он так тщательно выстраивал, моментально спадает, и весь класс он теперь держит за глотку.
Далее Председатель открывает им смысл диалога, и его слушают, буквально раскрыв рты. Федр тоже весь внимание.
Но немного погодя что-то понемногу начинает его отвлекать. Вкралась некая фальшивая нота. Сначала он не понимает, в чем дело, но потом осознает: Председатель совершенно выпустил Сократово описание Единого и перепрыгнул вперед, к аллегории «упряжки».
В этой аллегории возничий, стремящийся к Единому, влеком двумя крылатыми конями: «и кони-то у него – один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь – его противоположность и предки его – иные»[49]. Один всегда помогает возноситься к вратам небес, второй всегда препятствует. Председатель еще не сказал этого, но уже готов объявить, что белый конь – умеренный разум, а черный – темная страсть, эмоция. Вот он приближается к той точке, где их нужно описать, – и фальшивая нота превращается в целый хор.
Он сдает назад и вновь утверждает, что «теперь Сократ поклялся богам, что говорит Истину. Он дал клятву говорить Истину, и если то, что последует, Истиной не будет, он запятнает свою душу».
ЛОВУШКА! Он использует диалог, чтобы доказать святость разума! Едва он это установит – сможет пуститься исследовать, что есть разум, и не успеешь оглянуться – ну и ну! – мы снова в царстве Аристотеля!
Федр поднимает руку – ладонь вперед, локоть на столе. Раньше эта рука тряслась, теперь она смертельно спокойна. Сейчас он формально подписывает себе смертный приговор – но он подпишет себе другой смертный приговор, если руку опустит.
Председатель видит поднятую руку, он удивлен и встревожен, но разрешает. И вот слова произнесены.
Федр говорит:
– Все это – лишь аналогия.
Молчание. На лице Председателя проступает смятение.
– Что? – говорит он. Чары выступления разбиты.
– Это описание колесницы и двух коней – всего лишь аналогия.
– Что? – переспрашивает Председатель, потом громче: – Это истина! Сократ поклялся богам, что это истина!
Федр отвечает:
– Сократ сам говорит, что это аналогия.
– Прочтя диалог, вы убедитесь: Сократ особенно подчеркивает, что это Истина!
– Да, но до этого… я полагаю, двумя абзацами выше… он утверждает, что это – аналогия[50].
Текст – на столе, можно свериться, но у Председателя хватает здравого смысла не сверяться. Если он сверится и Федр окажется прав, Председатель перед всем классом потеряет лицо. Он же говорил, что текст никто тщательно не читал.
Риторика – 1; Диалектика – 0.
Поразительно, думает Федр, что он это вспомнил. Это же вдребезги разносит всю диалектическую позицию. Может, оттого и кочевряжимся. Конечно, это аналогия. Все – аналогия. Только диалектики этого не знают. Вот почему Председатель пропустил искомое утверждение Сократа. А Федр уловил и запомнил, ибо если бы Сократ этого не утверждал, он бы не рек «Истину».
Пока этого никто не заметил, но увидят скоро. Председателя Комиссии по анализу идей и изучению методов только что подбили на его же занятии.
Теперь он лишился дара речи. Не может придумать, что сказать. Ни слова. Молчание, что так хорошо укрепило его имидж в начале, теперь уничтожает его. Он не понимает, откуда прозвучал выстрел. Он никогда не сталкивался с живым софистом. Только с мертвыми.
Вот он пытается за что-то ухватиться, но хвататься не за что. Собственная инерция увлекает его в бездну – и когда он наконец подбирает слова, произносит их совершенно другой человек, школьник, забывший урок: он все перепутал, но все равно желает нашего снисхождения.
Пытается блефовать, повторяет, что текст никто внимательно не читал, но студент справа от Федра качает головой: очевидно, кто-то все-таки читал.
Председатель экает и мекает, словно боится группы, уворачивается от столкновения. Интересно, какие будут последствия?
Но происходит скверное. Избитый простодушный студиозус, следивший за Федром, теперь не так уж и простодушен. Он гадко ухмыляется Председателю, задает ему саркастические вопросы с подтекстом. Уже изувеченного, Председателя добивают… но тут Федр осознает, что это было уготовано ему.
Ему не жалко – ему отвратительно. Когда пастух идет убивать волка и берет с собой пса, чтоб тот развлекся, надо тщательно избегать ошибок. Пес волку родственник, о чем пастух, быть может, забыл.
Председателя спасает девушка – подбрасывает вопросы полегче. Он их с благодарностью принимает, отвечает весьма пространно и медленно приходит в себя.
Потом у него спрашивают:
– Что такое диалектика?
Он задумывается, а потом, ей-богу, обращается к Федру: не хотел бы он ответить на вопрос?
– Вы хотите мое личное мнение? – переспрашивает Федр.
– Нет… скажем, мнение Аристотеля.
Уже не до тонкостей. Затащит Федра на свою территорию и там проучит.
– Насколько я знаю… – произносит Федр и делает паузу.
– Так? – Председатель весь расплывается в улыбке. Ловушка готова.
– Насколько я знаю, мнение Аристотеля заключается в том, что диалектика идет прежде всего остального.
Лицо Председателя за полсекунды из елейного становится потрясенным и разъяренным. Это так! – кричит его лицо, но сам он не произносит ни слова. Ловец опять в ловушке. Он не может срезать Федра на утверждении, взятом из его собственной статьи в энциклопедии «Британника».
Риторика – 2; Диалектика – 0.
– А из диалектики происходят формы, – продолжает Федр, – а из… – Но тут Председатель его обрывает. Видит, что по-его не получится, и оставляет тему.
Не следовало ему так поступать, думает Федр. Ищи он Истину на самом деле, а не агитируй за частную точку зрения, обрывать бы не стал. Вдруг чему-нибудь да научился бы. Едва постулируется, что «диалектика идет прежде всего остального», само это утверждение становится диалектической сущностью, а стало быть – подвергается диалектическому сомнению.
На его месте Федр бы спросил: а какие у нас свидетельства, что диалектический вопросно-ответный метод достижения истины идет прежде всего остального? Вообще никаких. Но когда утверждение изолировано и само подвергается изучению, оно становится заведомо смешным. Оба-на – диалектика, как Ньютонов закон тяготения, сидит нигде посреди ничего, вселенную рожает, здрасьте-пожалста, а? Чушь какая-то.
Диалектика, родитель логики, сама родилась из риторики. Риторика, в свою очередь, – дитя мифов и поэзии Древней Греции. Так говорит история, к тому же – простой здравый смысл. Поэзия и мифы – реакция доисторических людей на вселенную вокруг, основанная на Качестве. Это Качество, не диалектика – генератор всего, что мы знаем.
Звенит звонок, Председатель стоит в дверях, отвечая на вопросы, и Федр чуть не подходит что-то ему сказать, но передумывает. Если тебя всю жизнь лупят, как-то нет желания лишний раз вступать в контакты – можно получить еще. Тут у нас никакой приязни, ни намека, сплошная враждебность.
Федр-волк. Совпало. Легкой поступью направляясь домой, Федр понимает: совпадает все больше. Если его диссертации обрадуются, счастья это ему не принесет. Противодействие – вот его стихия. Честно. Федр-волк, да – спустился с гор охотиться на бедных невинных граждан этой интеллектуальной общины. В яблочко.
Храм Разума, как и все институты Системы, покоится не на индивидуальной силе, а на индивидуальной слабости. В Храме Разума требуется не способность, а неспособность. Вот тогда ты считаешься обучаемым. Подлинно способная личность – всегда угроза. Федр видит: он отбросил шанс влиться в организацию, подчинившись тому, чему он там должен был подчиниться у Аристотеля. Но эта возможность едва ли стоит тех поклонов, пресмыкательства и интеллектуального унижения, что необходимы для ее осуществления. Это низкокачественная форма жизни.
Ему Качество лучше видится у границы лесов, чем здесь, где оно затянуто мутными окнами и погружено в океаны слов. Федр понимает: что бы он ни говорил, здесь этого никогда не примут, ибо чтобы понять, нужно освободиться от авторитета общества, а тут у нас – институт общественного авторитета. Качество для баранов – то, что говорит пастух. А если взять барана и поднять его к границе лесов ночью, когда ревет ветер, баран этот перепугается до полусмерти, станет орать, пока не явится пастух – или же волк.
На следующем занятии Федр делает последнюю попытку сближения, но Председатель и знать ничего не хочет. Федр просит его объяснить один пункт: не смог-де понять. Он-то понял, но лучше пойти на попятный.
В ответ звучит:
– Быть может, вы устали? – Ядовитее некуда; но с Федра как с гуся вода. Председатель просто обличает в Федре то, чего боится в себе. Занятие продолжается, а Федр сидит, глядя в окно: ему жаль этого старого пастуха, его баранов в классе и его псов, жаль себя, что никогда не станет таким. Когда звенит звонок, он уходит навсегда.
Занятия на Военно-морском пирсе, напротив, бушуют лесным пожаром; студенты напряженно внимают странному бородатому типу с гор, который им рассказывает, что в нашей вселенной некогда была такая штука, Качество, и они знают, что это такое. Они не понимают, что к чему, они неуверенны, а некоторые его боятся. Чуют какую-то угрозу, но все заворожены и хотят слушать дальше.
Но и Федр не пастух, а роль пастуха играется с трудом и очень изматывает. Снова эта странность, какая всегда случалась в классах: непокорные и дикие студенты в последних рядах сопереживали ему и становились любимцами, а послушные бараньи бошки в первых рядах впадали в ужас, и он их презирал, хотя в конце бараны сдавали экзамен, а его неуправляемые друзья – нет. И Федр видит, хотя не желает признаваться себе в этом даже сейчас, тем не менее, интуитивно видит, что дни его пастушества тоже подходят к концу. И вновь задает себе вопрос, что будет дальше.
Он всегда боялся тишины в классе – той, что уничтожила Председателя. Не в натуре Федра говорить часами, беспрерывно, это истощает, и теперь, когда не с чем больше воевать, он обращается к этому страху.
Входит в класс, звенит звонок, а он сидит и не говорит. Весь академический час хранит молчание. Кое-кто с ним заговаривает, пытается хоть как-то его расшевелить, но и они смолкают. Другие просто с ума сходят от внутренней паники. В конце часа класс буквально ломается, все бросаются к двери. Тогда Федр идет на следующее занятие, и там – то же самое. И на следующем, и потом. Затем Федр идет домой. И все больше недоумевает: что дальше?
Наступает День благодарения.
Его четыре часа сна сократились до двух, затем и вовсе пропали. Все кончено. Он не будет больше изучать риторику Аристотеля. Не станет ее преподавать. Все. Федр выходит на улицу, его разум вихрится.
Город подступает со всех сторон и в своей странной перспективе становится антитезой всему, во что Федр верит. Цитадель не Качества, но формы и субстанции. Субстанция в форме стальных листов и балок, бетонных опор и дорог, в форме кирпича, асфальта и автомобильных запчастей, старых радиоприемников, рельсов, в форме туш, которые раньше паслись в прерии. Форма и субстанция без качества. Вот душа этого места. Слепой громады, зловещей, нечеловеческой: она проступает при всполохах из домен на юге, что бьют по ночам вверх сквозь угольный дым, проваливается и сгущается в неоне вывесок «ПИВО», «ПИЦЦА», «ПРАЧЕЧНАЯ-АВТОМАТ», неведомых и бессмысленных знаков вдоль бессмысленных прямых улиц, что вечно выводят на другие прямые улицы.
Если бы все сводилось к кирпичу и бетону, чистым формам субстанции, сводилось явно и открыто, он бы как-то выжил. Но добивают маленькие жалкие попытки достичь Качества. Декоративный гипсовый камин в квартире – лепной, ждет огня, которого в нем не может быть никогда. Или изгородь перед их домом, за которой несколько квадратных футов травки. Пара шагов травы – после Монтаны. Забудь они про изгородь и траву, было бы приемлемо. А так лишь привлекает внимание к тому, что потеряли.
Глядя вдоль улиц, что ведут прочь от его квартиры, Федр никогда ничего не различает сквозь бетон, кирпич и неон, однако знает: под ними похоронены нелепые изломанные души, что вечно рядятся в манеры, которые убедят их, будто у них есть Качество, принимают вычурные позы, стильные и блистательные – такие продают им журналы грез и прочая пресса, а оплачивают торговцы субстанцией. Федр думает о них – в ночи они одни, уже без разрекламированных блистательных туфель, чулок и белья, пялятся в закопченные окна на абсурдные скорлупки, проступающие за стеклами, а позы меж тем расслабляются, просачивается истина – единственная, что есть на свете, взывает к небесам: господи, неужто здесь ничего, кроме мертвого неона, цемента и кирпича.
Осознание времени исчезает. Иногда мысли разгоняются – и гонят на скорости чуть ли не света. Но стоит напрячься, хоть как-то осознать, что вокруг, – и одна-единственная мысль ползет в голову целые минуты. А в мозгу слипается то, что он вычитал из «Федра».
* * *
Какой же есть способ писать хорошо или, напротив, нехорошо? Надо ли нам, Федр, расспросить об этом Лисия или кого другого, кто когда-либо писал или будет писать, – все равно, сочинит ли он что-нибудь об общественных делах или частных, в стихах ли, как поэт, или без размера, как любой из нас?
Что хорошо, Федр, и что не хорошо, – просить ли, чтобы нам это объясняли?
Вот что говорил он еще много месяцев назад, в Монтане, в аудитории – то, что упускали Платон и все до единого диалектики со времен Платона, ибо все стремились определить Благо в его интеллектуальном отношении к вещам. А теперь он видит, как далеко ушел. Он сам поступает так же скверно. Сначала стремился сохранить Качество не определенным, но в сражениях с диалектиками делал утверждения, а каждое утверждение – кирпич в стене определения, которой он сам огораживал Качество. Любая попытка вывести организованные соображения насчет неопределенного Качества сама себя подрывает. Качество подрывает сама организация разума. Это была бесплодная затея с самого начала.
На третий день Федр сворачивает за угол на перекрестке незнакомых улиц, и в глазах у него темнеет. Когда зрение возвращается, он понимает, что лежит на тротуаре, а люди обходят его, будто его здесь нет. Он устало поднимается и безжалостно подгоняет мысли, чтобы вспомнить дорогу домой. А мысли тормозят. Замедляются. Примерно тогда же они с Крисом пытались найти продавцов раскладушек для детей. Потом он уже не выходит из квартиры.
Неотрывно смотрит в стену, сидя по-турецки на ватном одеяле, брошенном на пол спальни без кроватей. Все мосты сожжены. Назад пути нет. А теперь нет пути и вперед.
Три дня и три ночи Федр смотрит в стену спальни, мысли его не движутся ни вперед, ни назад, замерев лишь во мгновении сейчас. Жена спрашивает, не заболел ли он, и он не отвечает. Жена злится, а Федр слушает, не реагируя. Осознает, что она говорит, но уже не способен ощутить никакой необходимости. Замедляются не только мысли, но и желания. Все медленнее и медленнее, будто набирают немыслимую массу. Так тяжело, так устал – но сон не приходит. Федр – будто гигант в миллионы миль ростом. Расширяется на всю вселенную без предела.
Он начинает сбрасывать все – то бремя, что нес на себе всю жизнь. Велит жене уйти с детьми, считать их в разводе. Уже не боится собственной мерзости и стыда, когда его моча – не нарочно, но закономерно – вытекает на пол комнаты. Страх боли, мученической боли преодолен, когда сигареты догорают – не нарочно, но закономерно – до самых пальцев, пока волдыри их же ожогов не лопаются и не гасят их. Жена видит его искалеченные руки, мочу на полу – и вызывает «скорую».
Но помощь прийти не успевает – медленно, сперва незаметно сознание Федра целиком начинает распадаться… растворяться и таять. Постепенно он перестает задаваться вопросом, что дальше. Он знает, что дальше – и слезы текут, слезы по семье, по нему самому, по этому миру. Всплывает и остается строка старого христианского гимна: «Один ты перейдешь долину». Она влечет его все дальше. «Ты должен сделать это сам». Похоже, это западный гимн, ему место в Монтане[51].
– Никто за тебя ее не перейдет, – говорит эта строка. Похоже, намекает, что за долиной что-то есть. – Ты должен сделать это сам.
И он пересекает эту долину одиночества, возникшую из мифоса, и словно просыпается – видит, что все его сознание, мифос, было сном, не чьим-нибудь, а его собственным, и теперь он сам должен держаться этого сна. Затем даже «он» исчезает, и лишь сон о нем остается – с ним самим внутри.
А Качество, aretê, за которое он так упорно сражался, шел на жертву, которое никогда не предавал, но за все это время так ни разу и не понял, теперь является ему – и его душа покойна.
Поток машин поредел и почти совсем исчез, а дорога так черна, что фара едва-едва прорубается своим лучом сквозь дождь, чтобы высветить ее. Убийственно. Что угодно может быть – вдруг выбоина, масляное пятно, труп животного… А если будешь ехать слишком медленно, убьют сзади. Даже не знаю, зачем мы до сих пор едем. Давно пора остановиться. Уже не знаю, что делаю. Наверное, искал вывеску мотеля, но не задумывался и пропускал. Если мы и дальше так будем, все закроются.
Сворачиваем на ближайшем выезде с трассы, надеясь, что дорога нас куда-нибудь выведет, и вскоре оказываемся на бугристом асфальте с выбоинами и рассыпанным гравием. Еду медленно. Фонари над головой швыряют в потоки дождя качкие дуги натриевого света. Выезжаем из света во тьму, на свет во тьму – снова и снова, нигде ни единой приветливой вывески. Знак слева объявляет «СТОП», но не говорит, куда сворачивать. Куда ни глянешь – везде тьма. По этим улицам можно ездить до бесконечности и ничего не найти – даже на трассу опять не наткнуться.
– Где мы? – орет Крис.
– Не знаю. – Мозг устал и работает медленно. По-моему, даже не могу придумать верный ответ… или что нам делать дальше.
Вот замечаю впереди белое сияние и яркую вывеску заправки в конце улицы.
Открыто. Останавливаемся и заходим. Служителю на вид столько же лет, сколько Крису, он странно смотрит на нас. Не знает он ни про какой мотель. Иду к телефонному справочнику, нахожу пару адресов и читаю ему, а он пытается объяснить, как туда добраться, но получается у него плохо. Звоню в мотель, что вроде бы поближе, заказываю номер и уточняю, как доехать.
Под таким дождем, в такой темноте, даже не сбиваясь с курса, чуть не промахиваемся. В мотеле уже погасили свет, и когда записываюсь в книгу постояльцев, не говорят ни слова.
Номер – остаток серости тридцатых годов, грязный, его ремонтировал человек, не знакомый с плотницким делом. Но комната сухая, есть батарея и постели, и больше ничего не нужно. Включаю батарею, садимся перед ней, вскоре дрожь и озноб стихают, сырость испаряется из костей.
Крис не поднимает головы, просто смотрит в решетку батареи. Немного погодя произносит:
– А когда мы поедем домой?
Провал.
– Когда доберемся до Сан-Франциско, – отвечаю я. – А что?
– Я устал просто так сидеть и… – Его голос замирает.
– И что?
– И… не знаю. Просто сидеть… как будто на самом деле мы никуда не едем.
– Куда мы должны ехать?
– Не знаю. Откуда я знаю?
– И я не знаю, – отвечаю я.
– Ну а почему ты не знаешь? – спрашивает он. И плачет.
– В чем дело, Крис? – говорю я.
Не отвечает. Потом опускает голову на руки и начинает раскачиваться взад и вперед. Жуть. Потом замирает и говорит:
– Когда я был маленьким, было по-другому.
– Как?
– Не знаю. Мы всегда все делали. Что я хотел. А теперь я ничего не хочу делать.
Он продолжает жутко раскачиваться, спрятав лицо в руках, а я не знаю, как мне поступить. Странное качание, не от мира сего, зародыш в себе, а меня отторгает – отторгает все. Возврат в такие глубины, про которые я ничего не знаю… на дно океана.
Теперь понимаю, где я видел это раньше – на полу больницы, вот где.
Я вообще не знаю, что здесь можно сделать.
Немного погодя укладываемся, и я пытаюсь заснуть.
Потом спрашиваю Криса:
– А перед тем, как мы уехали из Чикаго, было лучше?
– Да.
– Как? Что ты помнишь?
– Было весело.
– Весело?
– Да, – отвечает он и затихает. Потом произносит: – Помнишь, как мы поехали искать раскладушки?
– Это было весело?
– Конечно, – говорит он и затихает надолго. Потом: – Ты не помнишь? Ты меня заставлял искать дорогу домой… Ты раньше играл с нами. Рассказывал истории, и мы ездили делать разное, а теперь ты ничего не делаешь.
– Делаю.
– Нет, не делаешь! Просто сидишь и смотришь – и ничего не делаешь! – И опять плачет.
Дождь шквалами налетает снаружи на окно, а на меня опускается тяжесть – какая-то махина. Крис плачет по нему. Это по нему он скучает. Вот о чем сон. Во сне…
Кажется, очень долго я лежу и слушаю, как потрескивает батарея, как ветер и дождь бьются о крышу и стекло. Потом дождь замирает вдали, и остаются лишь капли воды с деревьев при случайном порыве ветра.
31
Утром останавливаюсь перед зеленым слизнем на земле. Дюймов шесть в длину, три четверти дюйма в ширину, мягкий и почти резиновый, весь липкий, точно внутренности какого-то животного.
Вокруг влажно, сыро, туманно и холодно, однако вполне ясно, и я вижу: наш мотель стоит на склоне, а внизу – яблони; под ними трава и кустики в росе – или это еще не стекли дождинки. Вижу еще одного слизня, потом еще – боже, да они тут просто кишмя кишат.
Выходит Крис, и я ему показываю: медленно, по-улиточьи слизень движется по листу. Крису нечего сказать.
Уезжаем и завтракаем в городке под названием Уийотт – он немного отстоит от дороги; Крис совсем ушел в себя. В таком настроении в глаза не глядят, не разговаривают, и я его не трогаю.
Дальше, в Леггетте, видим пруд с утками для туристов, покупаем «Крекер-Джеков» и кидаем их уткам; у Криса при этом совсем несчастный вид – я его раньше и не видел таким. Потом выезжаем на извилистую дорогу по прибрежному хребту – и вдруг попадаем в плотный туман. Температура падает, я понимаю, что мы опять у моря.
Туман рассеивается, и мы видим океан с высокого утеса – весь распростертый, синий и далекий. Пока мы едем, я мерзну, до костей замерзаю.
Останавливаемся, я вытаскиваю куртку и надеваю. Крис подошел слишком близко к краю утеса. До камней внизу – футов сто, не меньше. Слишком близко!
– КРИС! – ору я. Он не отвечает.
Я поднимаюсь к нему, хватаю за рубашку и стаскиваю вниз.
– Не делай так, – говорю я.
Он странно сощуривается.
Я вытаскиваю его теплую одежду. Он берет, но волынит и не одевается.
Торопить его нет смысла. Если у него такой настрой, что охота испытывать мое терпение, пускай.
Ждет. Проходит десять минут, пятнадцать.
Кто кого переждет.
Через полчаса – на холодном ветру с моря – спрашивает:
– Куда мы едем?
– Сейчас – на юг, вдоль побережья.
– Поехали назад.
– Куда?
– Где теплее.
Лишних сотню миль.
– Нам сейчас надо на юг, – говорю я.
– Зачем?
– Потому что поворачивать – слишком большой крюк.
– Поехали назад.
– Нет. Надень теплое.
Не надевает, просто сидит на земле.
Еще через пятнадцать минут произносит:
– Поехали обратно.
– Крис, не ты ведешь мотоцикл. Я его веду. Мы едем на юг.
– Зачем?
– Потому что слишком далеко и потому что я так сказал.
– А чего нам не поехать обратно?
Злость все-таки догоняет меня:
– Ты ведь по правде не хочешь это знать, да?
– Я хочу обратно. Просто скажи, почему нельзя.
Свою несдержанность я уже умерил.
– Вообще-то не назад ты хочешь, Крис. Ты добиваешься одного – разозлить меня. Еще немного – и у тебя получится!
Страх в глазах. Вот чего он хотел. Ненавидеть меня. Потому что я – не он.
Крис тоскливо смотрит в землю и одевается. Снова садимся на машину и едем вдоль побережья.
Я могу изображать отца, который у него вроде бы есть, но подсознательно, на уровне Качества, он видит меня насквозь и знает, что настоящего отца здесь нет. Во всей болтовне шатокуа была отнюдь не малая толика лицемерия. Снова и снова советуешь уничтожить дуальность субъекта-объекта – а самую большую дуальность, между мной и им, обходишь стороной. Ум, разделенный сам в себе.
Но кто же это сделал? Не я же. И никак не переделаешь… Все спрашиваю себя, глубоко ли до дна вон того океана…
Я – еретик; я покаялся и тем в чужих глазах спас свою душу. В глазах всех, кроме одного, который глубоко внутри знает, что спас я лишь собственную шкуру.
Я выжил главным образом тем, что угождал другим. Так поступаешь, чтобы выкарабкаться. Вычисляешь, чего от тебя хотят, а потом говоришь то, чего им надо, – мастерски и оригинально, как только можно; убедишь – вылезешь. Если б я против него не восстал, по-прежнему там бы сидел; а он держался того, во что верил, до самого конца. Вот в чем разница между нами, и Крис это знает. Поэтому иногда мне кажется, что он – реальность, а я – призрак.
* * *
Мы на побережье округа Мендосино, тут дико, красиво и открыто. На холмах по большей части трава, но под прикрытием скал и в горных складках растут странные текучие кустарники, изваянные постоянными ветрами с моря. Проезжаем мимо старых деревянных заборов, поседевших от времени. Вдалеке старая облупленная серая ферма. Как можно здесь вести хозяйство? Забор сплошь дырявый. Нищета.
Дорога идет под уклон с высоких утесов к берегу, и мы останавливаемся отдохнуть. Выключаю двигатель, а Крис спрашивает:
– Зачем мы остановились?
– Я устал.
– А я нет. Поехали дальше. – Он по-прежнему злится. Я тоже.
– Спустись на пляж и побегай кругами, а я пока отдохну, – говорю я.
– Поехали дальше, – бурчит он, но я отхожу и не обращаю внимания. Он садится на обочину у мотоцикла.
Здесь густ морской запах гниющей органики, а холодный ветер не дает хорошенько расслабиться. Но я отыскиваю большую кучу серых камней, где нет ветра и поэтому теплее. Отсекаю все, кроме солнечного тепла, и благодарен за то немногое, что есть.
Потом снова едем, и у меня в голове сгущается мысль: он еще один Федр; думает так же, как Федр, поступает так же, ищет неприятностей на свою голову, его влекут силы, которые он лишь смутно сознает и вовсе не понимает… Вопросы… те же вопросы… он должен знать все.
А если не добьется ответа, будет гнать и гнать дальше, пока его не получит, а потом – к следующему вопросу, и опять гнать в поисках ответа… в бесконечной погоне за вопросами, так и не видя и никак не понимая, что вопросы никогда не кончатся. Чего-то не хватает, он знает это – и убьет себя, пытаясь это нечто обрести.
Резко сворачиваем на вершину крутого утеса. Океан бескраен: холодный и синий, от него странное отчаянье. Береговые жители никогда толком не понимают, что олицетворяет собой океан для тех, кто со всех сторон замкнут на суше; какая это далекая мечта – она есть, но невидима в глубочайших пластах подсознательного; а когда люди сухопутья приезжают к океану и образы сознания накладываются на подсознательную мечту – вот тут-то и облом: приехали в такую даль и вдруг замерли перед тайной, которой никогда не постичь. Перед источником всего.
Гораздо позже въезжаем в город, где сияющая дымка – над океаном она казалась такой естественной – висит на улицах, окутывая их некой аурой, туманным солнечным свечением, и оно пропитывает все ностальгией, словно вспоминаешь давно прошедшее.
Останавливаемся у переполненного ресторана, находим последний свободный столик у окна, а за окном сияет улица. Крис не поднимает глаз и не разговаривает. Может, чувствует, что ехать нам недолго.
– Я не хочу есть, – говорит он.
– Не возражаешь тогда, если я поем?
– Поехали дальше. Я не голодный.
– Зато я голодный.
– А я нет. У меня живот болит. – Старый симптом.
Я обедаю – среди разговоров, звяканья тарелок и ложек с других столов, – а в окно вижу, как проезжает велосипедист. Будто к концу света прибыли.
Поворачиваюсь – Крис плачет.
– Что теперь? – спрашиваю я.
– Живот. Больно.
– И все?
– Нет. Я ненавижу все это… Не надо было ехать… Ненавижу эти каникулы… Я думал, будет весело, а ничего не весело… Жалко, что поехал. – Он правдивый – как Федр. И, как Федр, смотрит на меня сейчас с растущей ненавистью. Пора.
– Я думаю, Крис, что тебя надо посадить здесь на автобус до дому.
Лицо его совершенно непроницаемо, затем наплывает удивление пополам с растерянностью. Я добавляю:
– Я дальше поеду на мотоцикле один, встретимся через неделю-другую. Какой смысл заставлять, если ты ненавидишь эти каникулы?
Теперь мой черед удивляться. У него в лице ничего похожего на облегчение. Растерянность только усугубляется, он опускает голову и молчит.
Кажется, решение застигло его врасплох, и он испугался.
Он поднимает на меня взгляд:
– Где я буду жить?
– Ну, у нас дома ты жить не сможешь – там сейчас другие люди. Можно у дедушки с бабушкой.
– Я не хочу с ними жить.
– Можно у тети.
– Я ей не нравлюсь. И она мне тоже.
– Тогда поживи у других бабушки и дедушки.
– Там я тоже не хочу.
Я перечисляю еще кого-то, но он качает головой.
– Ну а где тогда?
– Не знаю.
– Крис, мне кажется, ты сам видишь, в чем проблема. Ты не хочешь ехать дальше. Ты ненавидишь эту поездку. Ни жить ни у кого не хочешь, ни ехать. Все перечисленные либо не любят тебя, либо тебе не нравятся.
Он молчит, но в глазах набухают слезы.
Женщина за соседним столиком сердито смотрит на меня. Открывает рот, словно хочет что-то сказать. Я припечатываю ее долгим тяжким взглядом, она закрывает рот и ест дальше.
Крис уже горько плачет, и на нас оглядываются.
– Пойдем погуляем, – говорю я и встаю, не дожидаясь чека.
Официантка за кассой говорит:
– Жалко, что вашему мальчику неможется.
Я киваю, расплачиваюсь, и мы выходим.
Ищу скамейку где-нибудь в этой сияющей дымке, но скамеек нет. Поэтому взбираемся на мотоцикл и медленно едем на юг, глядя по сторонам, ищем, где можно удобно отдохнуть.
Дорога опять выводит к океану и лезет на вершину – та, очевидно, выдается в море, но сейчас вся в плотном тумане. В редкий просвет я вижу: далеко под нами на песке отдыхают люди, но туман тут же накатывает вновь, и снова никого не видно.
Смотрю на Криса и встречаю его озадаченный, пустой взгляд; но едва прошу его сесть, злость и ненависть снова вспыхивают у него в глазах.
– Зачем? – спрашивает он.
– Мне кажется, нам пора поговорить.
– Ну, говори, – произносит он. Вернулся вызов. Крис терпеть не может этот мой образ «доброго папочки». Знает, что все это «благо» – фальшивка.
– Как у нас с будущим? – спрашиваю я. Глупый вопрос.
– Как?
– Я хотел спросить, что ты собираешься делать со своим будущим.
– Я собираюсь ничего с ним не делать. – В глазах презрение.
Туман приподнимается, оголяя утес, на котором мы сидим; у нас происходит неизбежное. Меня к чему-то подталкивает, и по краям поля зрения и в центре его все равно интенсивно, все в одном, и я говорю:
– Крис, по-моему, нам пора поговорить о том, чего ты не знаешь.
Он прислушивается. Чувствует, как что-то надвигается.
– Крис, ты сейчас смотришь на своего отца, который долгое время был безумен. И теперь он снова близок к безумию.
И уже не просто близок. Оно здесь. Дно океана.
– Я отсылаю тебя домой не потому, что на тебя сержусь, а потому, что боюсь того, что может случиться, если я и дальше буду нести за тебя ответственность.
На лице у него ничего не отражается. Он еще не понимает, о чем я.
– Поэтому сейчас мы с тобой попрощаемся, Крис.
И я не уверен, встретимся ли мы когда-нибудь.
Вот оно. Готово. Теперь остальное пойдет само собой.
Он так странно смотрит на меня. По-моему, все еще ничего не понимает. Этот взгляд… я его где-то видел… где-то… где-то…
В раннем утреннем тумане на болотах была маленькая утка, чирок, вот он смотрел так же… Я подбил ему крыло, и он не смог улететь, а я подбежал к нему, схватил за шею и, перед тем как убить, замер и посмотрел ему в глаза: тайна вселенной меня одолела, что ли. Он смотрел точно так же… спокойно и непонимающе… и так осознанно. Тогда я закрыл ему глаза рукой и свернул шею; она сломалась, я пальцами ощутил, как хрустнуло.
Тогда я отнял руку. Глаза по-прежнему смотрели на меня, но теперь ничего не видели и уже не следили за моими движениями.
– Крис, так же говорят о тебе.
Смотрит.
– Что все эти непорядки – у тебя в уме.
Качает головой.
– Кажутся настоящими и вроде бы настоящие, но это не так.
Глаза распахиваются. Он еще качает головой, но им уже овладевает понимание.
– Все становится хуже и хуже. Неприятности в школе, с соседями, дома, с друзьями… куда ни глянь, везде сплошные неприятности. Крис, я один их не подпускал. Я говорил: «С ним все нормально», – а теперь у тебя никого не будет. Понимаешь?
Он ошеломленно смотрит на меня. Взгляд еще осмысленно следит за мной, но уже колеблется. Я не даю ему силы. И никогда не давал. Я его убиваю.
– Ты здесь не виноват, Крис. Ты никогда не был в этом виноват. Пожалуйста, пойми.
Его взгляд отключается внезапной внутренней вспышкой. Глаза его закрываются, изо рта вырывается странный крик, будто издали. Он отворачивается и спотыкается, падает на колени, складывается пополам и раскачивается взад и вперед, уткнувшись головой в землю. Слабый туманный ветерок шевелит траву. Невдалеке вспархивает чайка.
В тумане я слышу визг тормозов грузовика, это ужас.
– Надо встать, Крис.
Вой высокий и нечеловеческий, как далекая сирена.
– Вставай!
Раскачивается и воет на земле.
Сейчас я не знаю, что делать. Ни малейшего представления. Все кончено. Подбежать бы к краю – но я борюсь с этим порывом. Надо посадить его в автобус, а там можно и к краю.
Все уже хорошо, Крис.
Это не мой голос.
Я тебя не забыл.
Крис перестает раскачиваться.
Как я мог тебя забыть?
Крис поднимает голову и смотрит на меня. Раньше он всегда смотрел на меня через пленку, а сейчас она пропадает на миг, затем возникает снова.
Мы теперь будем вместе.
Вой грузовика уже рядом.
Вставай же!
Крис медленно садится и пристально глядит на меня. Подъезжает грузовик, тормозит, водитель выглядывает узнать, не надо ли нас подвезти. Я качаю головой и машу, чтоб отъезжал. Он кивает, включает сцепление, и грузовик с воем исчезает в тумане. Остаемся лишь мы с Крисом.
Набрасываю на него свою куртку. Он снова утыкается головой в колени и плачет, но теперь это низкий вой человека, а не прежний, жуткий. Мои руки мокры, лоб, похоже, тоже в испарине.
Немного спустя он выдавливает:
– Почему ты нас бросил?
Когда?
– В больнице.
У меня не было выбора. Полиция мешала.
– Они тебя не выпускали?
Да.
– А почему тогда ты не открыл дверь?
Какую дверь?
– Стеклянную!
Сквозь меня будто медленно пропускают ток. Какая стеклянная дверь?
– Ты что, не помнишь? – говорит он. – Мы стояли, а ты был за дверью, и мама плакала.
Я ему никогда не рассказывал про этот сон. Откуда он знает? Нет, нет…
Мы в другом сне. Вот почему голос у меня такой странный.
Я не мог открыть дверь. Не велели открывать. Надо было делать, что велят.
– Я думал, ты с нами не хотел, – говорит Крис. Опускает голову.
Столько ужаса у него в глазах – все эти годы.
Я знаю эту дверь. Она в больнице.
Больше я их не увижу. Я Федр, вот кто я, и меня хотят уничтожить за то, что я говорил Истину.
Все сошлось.
Крис тихо плачет. Плачет, плачет, плачет. Ветер с моря продувает высокие стебли травы, и туман отползает.
– Не плачь, Крис. Плачут только маленькие.
Проходит много времени, я протягиваю ему тряпку вытереть лицо. Собираем вещи и привязываем все к мотоциклу. Туман вдруг поднимается, и я вижу: лицо его осветилось солнцем, и он весь раскрывается – я никогда раньше такого не видел. Надевает шлем, подтягивает ремешок, потом заглядывает снизу мне в глаза:
– Ты правда был сумасшедший?
Зачем он это спросил?
Нет!
Бьет изумление. Но глаза Криса вспыхивают.
– Я знал, – говорит он.
Забирается на мотоцикл, и мы отъезжаем.
32
Едем по побережью Манзаниты, через кустарники с вощеной листвой, а я вспоминаю лицо Криса: «Я знал», – сказал он.
Мотоцикл легко вписывается в изгибы дороги, кренясь так, что вес наш – всегда вниз, через машину, под каким бы углом ни ехала. Вокруг полно цветов, удивительных красот, крутых поворотов – один сменяет другой, и весь мир вокруг катится, крутится, вздымается и опадает.
«Я знал», – сказал он. Все возвращается – как те фактики, что дергают за леску: мы не такие уж и маленькие, как ты думал. Вот что было у него на уме. Много лет. Все его неприятности теперь понятнее. «Я знал», – сказал он.
Должно быть, что-то когда-то услышал, по-детски, по-своему неправильно понял – и все перепуталось. Вот что всегда говорил Федр – что я всегда говорил – много лет назад, и Крис, должно быть, поверил и с тех пор прятал это глубоко в себе.
Мы связаны друг с другом нитями, которых до конца не понимаем – а то и не понимаем вообще. На самом деле из больницы я вышел только из-за него. Бросить его расти в одиночестве – вот что было бы неправильно. Это он во сне всегда пытался открыть дверь.
Я вообще его не нес. Это он нес меня!
«Я знал», – сказал он. Леска дергается, твердя, что моя большая проблема, быть может, не так уж и велика, ибо ответ у меня перед носом. Бога ради, сними же с него это бремя! Стань снова единым!
Нас обволакивает густой воздух и странные ароматы цветов на деревьях и кустах. Мы отъехали вглубь, и озноб прошел, на нас опять обрушивается тепло. Впитывается в куртку и одежду, высушивает сырость внутри. Перчатки, потемневшие от влаги, опять светлеют. Эта океанская сырость пробирала меня до костей так долго, что я, по-моему, забыл, каково в тепле. Меня клонит в сон, и впереди в овражке я замечаю площадку и столик для пикников. Доехав, выключаю двигатель и останавливаюсь.
– Спать хочется, – говорю я Крису. – Давай вздремнем.
– Давай, – отвечает он.
Мы спим, а когда просыпаемся, я понимаю, что хорошо отдохнул – давно так не отдыхал. Беру наши с Крисом куртки и засовываю их под шнуры, которыми пристегнут к мотоциклу багаж.
Так жарко, что я, наверное, шлем надевать не буду. Насколько я помню, в этом штате и не требуется. Пристегиваю его к шнуру.
– И мой туда положи, – просит Крис.
– Тебе он нужен для безопасности.
– Ты же не надеваешь.
– Ладно, – соглашаюсь я и пристегиваю его шлем туда же.
Дорога все так же петляет в деревьях. На подъемах крутые повороты, за ними спуски к новым пейзажам, один за другим, сквозь кустарник – на волю, откуда видно, как внизу бегут ущелья.
– Красота! – ору я Крису.
– Можно не кричать, – говорит он.
– А, ну да, – отвечаю я и смеюсь. Без шлемов можно разговаривать обычно. А столько дней орали! – Ну все равно красота, – говорю я.
Еще деревья, кусты и рощи. Припекает. Крис опирается мне на плечи, и я, слегка обернувшись, вижу – он привстал.
– Опасно, нет? – говорю я.
– Не опасно. Я чувствую.
Вероятно.
– Все равно осторожнее, – говорю я.
Немного спустя, когда мы резко сворачиваем под низкими ветвями, он говорит «ох», чуть погодя «ах», потом «ух ты». Некоторые ветки так низко, что если не пригнется – получит по голове.
– В чем дело? – спрашиваю я.
– Совсем по-другому.
– Что?
– Все. Я раньше ничего не видел из-за твоих плеч.
Пробиваясь сквозь кроны, солнечный свет рисует странные и прекрасные узоры на дороге. У меня в глазах рябит от пролетающих пятен света и тени. Мы вписываемся в поворот и выезжаем на солнце.
Правда-правда. Я никогда об этом не задумывался. Все это время он смотрел мне в спину.
– Что ты видишь? – спрашиваю я.
– Все по-другому.
Мы опять въезжаем в рощу, и он спрашивает:
– Тебе не страшно?
– Нет, привыкаешь.
Через некоторое время он говорит:
– Когда я вырасту, мне можно мотоцикл?
– Если будешь о нем заботиться.
– А что с ним надо делать?
– Много всего. Ты же видел, что я делаю.
– А ты мне покажешь?
– Конечно.
– Трудно?
– Нет, если правильно подходить. Трудно правильно подходить.
– А-а.
Через некоторое время чувствую – он опять сел. Потом говорит:
– Пап?
– Что?
– А я буду подходить правильно?
– Думаю, да, – отвечаю я. – Мне кажется, с этим у тебя хлопот не будет.
И так мы едем, дальше и дальше, через Юкайю, Хопленд и Кловердейл – в «винную страну». Мили трассы сейчас легки. Двигатель, что пронес нас через полконтинента, равномерно гудит в нескончаемом забвении всего, кроме своих внутренних сил. Мы проезжаем Асти и Санта-Розу, Петалуму и Новато, а трасса все шире и полнее, разбухает от машин, грузовиков и автобусов, в которых едут люди, – и вскоре у дороги уже возникают дома, лодки и вода залива.
Испытания, конечно, никогда не кончаются. Несчастья и неудачи неизбежны, коль скоро люди живы, но сейчас у меня такое чувство… раньше его не было, и оно не просто на поверхности, оно очень глубоко, пробивает до самого дна: мы выиграли. Теперь все будет лучше. Такое угадывается, что ли.
Послесловие к изданию 1984 года
Этой книге есть что сказать о взглядах древних греков и о том, что значат эти взгляды, но одного аспекта в ней не хватает. Как греки относились ко времени. Будущее им являлось из-за спины, а прошлое таяло перед глазами.
Если вдуматься, такая метафора точнее нашей нынешней. Ну как, в самом деле, встречаться с будущим? Получается ведь только проецировать из прошлого – даже если опыт доказывает, что такие проекции часто неверны. И как можно забыть прошлое? Что ж тогда нам еще знать?
Через десять лет после выхода «Дзэна и искусства ухода за мотоциклом» взгляды древних греков злободневны как никогда. Что за будущее наступает из-за спины, я толком не знаю. Но прошлое, что расстилается впереди, все застит.
Само собой, никто не мог предсказать, что произойдет. Тогда, после 121 издательского отказа один-единственный редактор предложил мне стандартный аванс – 3000 долларов. Сказал, что моя книга заставила его задуматься, зачем он вообще занимается книгоизданием, и добавил, что, хотя больше никаких денег я за нее, вероятнее всего, не получу, отчаиваться не стоит. С такой книгой деньги не главное.
Он сказал правду. Но книга вышла в свет – поразительные рецензии, списки бестселлеров, интервью журналам, радио и телевидению, предложения экранизации, зарубежные издания, бесконечные приглашения выступить, письма читателей… И так не одну неделю, не один месяц. В письмах – вопросы: почему? Как это случилось? Чего тут не хватает? К чему вы стремились? Чувствуется какое-то раздражение. Они понимают – в книге есть то, что не видимо глазу. Теперь они хотят услышать все.
На самом деле, никакого «всего» нет и рассказывать нечего. Я не хотел манипулировать ничьим сознанием. Мне казалось, что написать эту книгу – поступок более высокого качества, нежели не писать, и только-то. Но время впереди тает, книга уходит в перспективу, и можно ответить подробнее.
Есть такое шведское слово – kulturbërer. Его можно перевести как «носитель культуры», но в переводе смысл все равно отчасти теряется. Это понятие непривычно в Америке – и напрасно.
Книга, несущая культуру, – мул с поклажей культуры на спине. Не сядешь и не напишешь такую нарочно. Книги, несущие культуру, возникают почти случайно – как внезапные колебания фондового рынка. Есть книги высокого качества, они – часть культуры, но не носители. Они – ее часть. Они ее никуда не несут. В них может сочувственно выводиться, к примеру, безумие, ибо такова норма отношения культуры к безумию. Но в них нет гипотезы о том, что безумие – не заболевание или вырождение, а нечто иное.
Книги, несущие культуру, бросают вызов нашим условным культурным ценностям – зачастую в тот момент, когда культура склоняется перед этим их вызовом. У таких книг не обязательно высокое качество. «Хижина дяди Тома» была отнюдь не шедевром, но она несла культуру. Она вышла, когда вся культура готова была отвергнуть рабство. Читатели распознали в ней свои новые ценности, и книга снискала невероятный успех.
Успех «Дзэна и искусства ухода за мотоциклом» – видимо, плод этого несения культуры. Принудительная шоковая терапия, в ней описанная, сегодня противозаконна. Нарушает свободу человека. Культура изменилась.
Кроме того, выход книги совпал с культурным переворотом – переосмыслением материального благополучия. Хиппи об этом благополучии даже слышать не хотели. Консерваторы недоумевали. Материальное благополучие – американская мечта. Миллионы европейских крестьян стремились к нему всю жизнь и приехали за ним в Америку… в тот мир, где им и потомкам их наконец будет всего хватать. А капризные потомки швыряют эту мечту им в лицо и говорят, что она никуда не годится. Какого рожна им надо?
Хиппи отлично понимали, какого: «свободы», хотя в конечном итоге, если проанализировать, «свобода» – чисто негативная цель. Она лишь утверждает: что-то скверно. Хиппи же не предлагали никаких альтернатив, кроме живописных и кратких, и некоторые их варианты все больше походили на вырождение. Вырождение бывает веселым, но трудно всерьез посвятить ему всю жизнь.
Эта книга предлагает иную альтернативу материальному благополучию, посерьезнее. Даже не столько альтернативу, сколько расширенное понимание «благополучия»: не только получить хорошую работу и избегать неприятностей. И не только свободу. Оно дает позитивную цель работе, и цель эта всеобъемлюща. Вот в чем, по-моему, истинная причина успеха этой книги. Так вышло, вся культура в тот миг искала именно то, что предлагала эта книга. Вот поэтому она и есть «носитель культуры».
У отходящего в древнегреческую перспективу последнего десятилетия есть очень темная сторона. Крис умер.
Его убили. Около восьми часов вечера в субботу, 17 ноября 1979 года, в Сан-Франциско. Он выходил из Дзэнского центра, где учился, и собирался в гости, дом, куда он шел, – в квартале оттуда, на Хэйт-стрит.
По свидетельским показаниям, на улице рядом с ним затормозила машина, оттуда выскочили двое, черные. Один бросился на Криса сзади, чтобы не убежал, и прижал ему руки к телу. Тот, что был впереди, вывернул Крису карманы, ничего не нашел и разозлился. Пригрозил большим кухонным ножом. Крис что-то ему сказал – свидетели не услышали. Нападавший разозлился больше. Крис еще что-то сказал, тот пришел в ярость. И вогнал Крису нож в грудь. После чего эти двое прыгнули в машину и уехали.
Крис немного постоял, подержался за машину, чтобы не упасть. Затем побрел через дорогу к фонарю на углу Хэйт и Октавии. А потом правое легкое заполнилось кровью из перебитой легочной артерии, он упал на тротуар и умер.
Я живу дальше – в основном по привычке. На похоронах мы узнали: в то утро он купил билет в Англию, где мы с моей второй женой жили на яхте. Позже от него пришло письмо. Странно, однако там говорилось: «Никогда не думал, что доживу до двадцати трех».
Двадцать три ему должно было исполниться через две недели.
После похорон мы сложили в пикап все его вещи – включая подержанный мотоцикл, который он недавно купил, – и снова поехали через западные горы и по дорогам пустыни, описанным в этой книге. Прерии и горные леса засыпало снегом – такое настало время года, – и среди них было одиноко и прекрасно. Когда мы добрались до дедова дома в Миннесоте, нам стало покойнее. И там, на чердаке у Крисова деда, все эти вещи сложены до сих пор.
Мне порой не дают покоя философские вопросы – я ворочаю их в уме снова и снова, хожу кругами, наматываю петлю за петлей, пока либо не возникает ответ, либо это занятие не становится психиатрически опасным. И моей манией стал вопрос: «Куда Крис делся?»
Куда делся Крис? Утром он купил билет на самолет.
У него был счет в банке, одежда в ящиках комода, книги на полках. Настоящий живой человек, жил на этой планете во времени и пространстве, а теперь – куда девался? Улетел в трубу крематория? Или спрятался в коробочке с костями, которую нам потом вручили? Тренькает на золотой арфе, сидя на облаке где-то наверху? Ни в одном ответе смысла нет.
Спрашивать надо было так: к чему я привязался? К чему-то воображаемому? Когда полежишь в психиатрической клинике, это вопрос не праздный. Если Крис не был воображаемым – куда он делся? Разве что-то настоящее может взять и исчезнуть? Если да, физическим законам сохранения кранты. Но если их держаться, исчезновение Криса – нереально. Круг за кругом, снова и снова. Он бегал так, бывало, меня доводил. Рано или поздно возникал всегда – но где он возникнет теперь? И вообще, вот честно – куда он делся?
Петли в итоге довились до осознания того, что прежде чем спрашивать «Куда он делся?», следует спросить: «Он» – это кто?» Есть в культуре такая старая традиция – считать людей в первую очередь материальными, организмами из плоти и крови. Если цепляться за эту мысль, решения не будет. Окислы плоти и крови Криса, разумеется, улетели в трубу крематория. Но то был не сам Крис.
Надо было понять вот что: тот Крис, которого мне так не хватает, был не предметом, а неким узором, и хотя он включал в себя плоть и кровь Криса, в узоре этом были не только они. Узор больше нас с Крисом – его соотношения с нами мы до конца не понимали, и ни он, ни я не могли его полностью контролировать.
А теперь тела Криса – части этого обширного узора – нет. Но сам-то узор остался. Из середины вырвали огромную дыру, оттого-то и сердце так болит. Узор ищет, к чему бы приникнуть, и ничего не находит. Вероятно, поэтому скорбящие так привязаны к кладбищенским надгробьям и любому материальному присутствию покойных. Узор пытается облечь собою собственное бытие, находя новый материальный предмет, на котором можно сосредоточиться.
Потом стало ясно: примерно это же говорят многие «первобытные» культуры. Берешь узор без плоти и крови Криса, называешь его «духом» или «призраком» Криса – и тем самым без дальнейших пояснений утверждаешь, что дух или призрак Криса ищет себе новое тело. Слыша такое от «первобытных» людей, мы отмахиваемся: суеверие, дескать, – ибо считаем призрак или дух некой материальной эманацией, хотя на самом деле ничего подобного они могут и не значить.
В общем, всего несколько месяцев спустя моя жена неожиданно забеременела. Мы тщательно все обсудили и решили, что продолжать не стоит. Мне уже за пятьдесят. Растить еще одного ребенка – нет уж. С меня хватит. Обо всем договорились, назначили визит к врачу.
А потом случилось очень странное. Никогда не забуду. Мы обсуждали детали очень подробно в последний раз, и тут связь как-то распалась – будто моя жена пошла на убыль прямо у меня на глазах. Мы нормально разговаривали, смотрели друг на друга и внезапно – будто снимок ракеты после старта, когда в пространстве отделяются ступени. Думаешь, что вы вместе, и вдруг понимаешь, что уже нет.
Я сказал: «Погоди. Стой. Что-то не так». Что не так – неизвестно, но ощущается сильно, а я так дальше не хотел. Очень страшно – а потом стало яснее. То нам явился наконец узор Криса. Мы переменили решение, и теперь я понимаю, как пагубно было бы его не менять.
Стало быть, наверное, по-первобытному можно сказать, что Крис все же долетел до нас по своему билету. Теперь он – маленькая девочка по имени Нелл, а наша жизнь снова обрела перспективу. Дыра в узоре заштопывается. Тысячи воспоминаний о Крисе, конечно, останутся, но вот этого разрушительного цепляния за материальную сущность больше не будет. Мы теперь живем в Швеции, на родине моих предков по матери, и я пишу вторую книгу – продолжение этой.
Нелл учит таким штрихам отцовства, которых я раньше не понимал. Если она плачет, безобразничает или капризничает (что сравнительно редко), меня это не раздражает. Меня поддерживает безмолвие Криса. Теперь гораздо яснее видно: имена и тела могут меняться, но общий узор, что держит нас вместе, не прерывается. В этом смысле последние слова книги – по-прежнему правда. Мы выиграли. Теперь все будет лучше. Такое угадывается, что ли.
ooolo99ikl;i.,pyknulmmmmmmmmmm 111
(Последнюю строку написала Нелл. Дотянулась до машинки и настучала по клавишам – и теперь смотрит с тем же блеском в глазах, что бывал у Криса. Если редакторы не вычеркнут, это будет ее первая опубликованная работа.)
Роберт М. ПёрсигГётеборг, Швеция1984Переводчик благодарит Владимира Терновенко за то, что вдохновил на этот проект, а также Геннадия Башкова и Михаила Меженова за поддержку и ценные замечания к первым редакциям этого перевода.
Краска, бумага, картон и клей От переводчика
Если сказать, что роман Роберта Мейнарда Пёрсига «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» – одно из величайших произведений всей американской литературы XX века, – боюсь, большинство читающих на русском языке со мной все-таки не согласится. Мне не поверят в первую очередь те, для кого литература этого континента начинается в лучшем случае с Тома Сойера и заканчивается примерно Крестным отцом. Тем же, кто изучал филологию, имя преподавателя логики и философии может быть смутно знакомо по невнятным упоминаниям далеко не во всех учебниках литературы и критических статьях, где авторы, кажется, не вполне отдают себе отчет, о чем вообще пишут.
Сама по себе эта традиция – попытки создать цельные философские учения на основе воззрений Востока и Запада – далеко не нова. С разной степенью успешности это на регулярной основе продолжается с момента осознанного открытия Западу Востока – примерно с конца XIX века. Среди же молодой американской публики интерес к так называемым «нетрадиционным философско-религиозным воззрениям» всегда был велик, а мода на такого рода эзотерику подчас принимала характер массовых эпидемий (как и у нас, впрочем). И если в начале XX века молодые американцы зачитывались работами Рамакришны и заслушивались лекциями Вивекананды, если в середине века калифорнийские битники и ранние хиппи таскали в холщовых сумках видавшие виды томики Германа Гессе и Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, то к началу 70-х годов на Штаты накатила уже примерно вторая (если не третья) волна «детей цветов», для которых все эти, да и многие другие имена либо ничего не значили вовсе, либо уже служили некими крепко сцементированными блоками мировоззренческого фундамента. Им, «бэби-бумерам» и вечным потребителям, уже не хотелось выискивать драгоценные крупицы Абсолютного Знания в старых академических изданиях древних философов. Это с одной стороны, а с другой – их уже не удовлетворяло прежнее качество осмысления вселенной и себя в ней.
И вот для них всех таким гуру, одинаково хорошо владевшим и молодежным подъязыком в системе координат «квадратность – хиппейность», и знаковыми системами философий Востока и Запада, стал Роберт Пёрсиг. Его опубликованный в 1974 году «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» с подзаголовком «Исследование ценностей» вывел традицию создания синкретических романов-эссе (начиная еще с «Уолдена» Генри Дэвида Торо) на качественно новый уровень и адресовал себя новой аудитории. У поздних хиппи эта книга стала настольным (или, скорее, дорожным) букварем миропостижения для метафизиков-прикладников. Пёрсиг подарил вдумчивому читателю не совсем обычное произведение: сухой философский трактат об интенсивном поиске новых духовных ценностей на стыке Востока и Запада и протокольно точный дорожный дневник, по силе чувства автора к своей великой стране сравнимый разве что с «Путешествиями с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека; «роман воспитания», уходящий корнями в английскую классическую литературу XIX века, и психологический триллер, который даже самого неискушенного читателя цепляет изощренными детективными загадками, извлеченными из тайников подсознания.
Роман прочитывается на очень многих уровнях и оставляет без прямых ответов множество простодушных вопросов. Кто, в самом деле, его главный герой – новый Чаадаев, смело ставящий под сомнение все достижения современной цивилизации и постигший-таки сами основы мироздания? Или же рефлексирующий школьный учитель, потерявший рассудок от трагических противоречий безумного и прекрасного века и заплутавший в культурном наследии человечества? Гений систематики и метафизики или мотоциклетный механик-графоман? А кто сам автор, так удачно беллетризовавший собственную писательскую судьбу и собственные творческие искания, – кабинетный сухарь, таинственный затворник, вроде Дж. Д. Сэлинджера, или же романтик, мифотворец и искатель приключений, вроде Ричарда Баха? Последний, кстати, очень тепло отозвался о книге, назвав ее «кристаллом гипнотизера, усыпанным алмазами», а уж этот мистик, как известно, большой мастер морочить читателям головы относительно собственной персоны. И что это вообще такое, в конце концов: «возрождение “романа идей”», как считала известная американская писательница Мэри Маккарти, или же «исполненное туманного философствования сочинение Пирцига (sic!)», как полагал видный советский литературовед Александр Мулярчик? Боюсь, русскому читателю придется искать ответы в книге самому.
Сейчас же ясно одно. Почти сорок лет назад Роберт Пёрсиг создал уникальное полифоническое произведение, по выражению английского писателя Филипа Тойнби – «работу величайшей, возможно, первостепенной важности…». Сложно сказать, насколько ему удалось повторить этот успех своей следующей книгой, вышедшей семнадцать лет спустя, – «Лайла. Исследование морали», – и действительно ли второй роман оказался столь же эпохален для 90-х годов, как первый – для 70-х. Но «Дзэн», на котором выросло уже не одно поколение мыслящих читателей, – книга, пронизанная истинным светом мудрости и добра.
Итак, Роберт Пёрсиг (р. 1928), сын декана школы права Миннесотского университета Мейнарда Э. Пёрсига, бывший преподаватель философии и риторики, после продолжительного нервного срыва стал составителем технических руководств к компьютерам первых поколений. «Дзэн» он задумал в 1968 году – как эдакий коротенький и легонький очерк: они с парой друзей и сыном Крисом (тогда ему было 12 лет) совершили длительное путешествие на мотоциклах из дому в Миннеаполисе на Западное побережье США. Пёрсиг разослал первые несколько страниц и сопроводительное письмо 121 издателю, и 22 из них ответили благожелательно. Тем не менее, когда очерк был дописан, Пёрсигу не понравились те его части, где речь шла о собственно Дзэне. И он их сократил. Дальше – больше. Книга зажила своей жизнью, она требовала доработок – и все больше издателей отвечали отказом. Через четыре с половиной года работы энтузиазм сохранил только старший редактор издательского дома «Уильям Морроу» Джеймс Лэндис. Благодаря ему книга и увидела свет, несмотря на свое название, которое, как предполагалось, могло отпугнуть широкие читательские круги. Тем не менее первые три издания в твердой обложке разошлись почти моментально небывалым для такой литературы тиражом – 48 тысяч экземпляров. Посыпались хвалебные рецензии, бессчетное число раз книга переиздавалась в мягких обложках, поговаривали даже о том, чтобы снять по ней фильм, а 46-летний автор получил стипендию Гуггенхайма и вкусил славы – после двадцати лет унижений и бесполезной борьбы с академической реакцией и дуалистической традицией западной науки и философии.
– Замечательное ощущение, – улыбался он в самом зените славы корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс» Джорджу Дженту, потягивая мартини у «Барбетты» на Западной 46-й улице. – В последний раз, когда я был в Нью-Йорке, никто даже не знал о моем существовании – или никому до меня не было дела. В Нью-Йорке может быть очень одиноко. Да, я наслаждаюсь вкусом успеха после многих лет отверженности, но меня тревожит, во что успех может превратить мою жизнь. Я не хочу слишком стесняться своей работы и сознаю, что паблисити стремится лишить человека его с трудом заработанной частной жизни, превращая ее в публичную. Ведь что стало с Россом Локриджем-младшим, автором «Округа Дождевого Дерева», или Томасом Хеггеном, автором «Мистера Робертса»? Их настиг успех – и они покончили с собой. Я же хочу продолжать писать, а я понял, что лучше всего пишу, когда меня не переполняет энтузиазм и не захлестывает депрессия.
После двух лет в клиниках Пёрсиг утверждал, что призрак его былого «я» – «Федр» – изгнан раз и навсегда, однако чувствовал, что предал свою лучшую часть:
– В больнице меня научили ладить с людьми, научили компромиссу, и я смирился. Федр был честнее – он никогда бы не пошел на компромисс, и молодежь его за это уважала.
Себя же – рассказчика романа – Пёрсиг считал «не очень хорошим человеком», аналитиком, надевавшим самую пристойную личину, только чтобы нравиться. Проблемы, признавал он тогда, были и с друзьями, и с сыном, который во время памятного путешествия на Запад сам чуть не дошел до нервного срыва. Проблемы оставались и потом, хотя надежда, казалось, замерцала. Когда же Пёрсига спросили о реакции Криса на книгу, он честно ответил:
– Поначалу он был недоволен. Но, – и тут Пёрсиг улыбнулся по-детски, – на презентацию книги явился, поэтому теперь, видимо, все хорошо.
Роберт Пёрсиг пережил и славу, и забвение, и смерть сына – пережил тихо и достойно. Женился вторично, много путешествовал, хотя до появления второй книги – «Лайлы» – долгое время даже ходили слухи о его самоубийстве. Почему же «властитель дум» скрывался от взора любопытствующих папарацци и просвещенной читательской публики столько лет, практически уподобляясь другим писателям-невидимкам ХХ века – Сэлинджеру, например, или Пинчону (чтение лекций по Метафизике Качества временами – не в счет: это продолжение романов другими средствами)? Что до сих пор пытается сказать нам книга, получившая, без преувеличения, статус «культовой»? Законченная в апреле 1974 года, длиной в 372 страницы, по розничной цене 8 долларов 50 центов? Зачем я вообще обо всем этом пишу? Кому какое дело?
Вот в этом, видимо, и заключается весь ее смысл. Вся наукообразная или популярно-литературоведческая информация о ней, все факты и фактоиды жизни автора не означают ничего, если не нужно отыскать его работу в длинном списке других книг или поместить в некий культурный контекст, то есть проделать, по сути, каталогизацию. Однако прежде чем открыть книгу, ее следует найти. Поиск – первый шаг, здесь-то и пригодится эта каталожная «научная» информация, описывающая и книгу, и ее автора. Но действительно прочесть ее и тем паче понять – совершенно другое дело.
Наука и техника, пытается сказать Пёрсиг, – это середина, а не начало и даже не конец. Прежде чем появится «научная» гипотеза, должна случиться ненаучная мысль, которую наука попробует доказать или опровергнуть. Доказательство гипотезы – «научный» шаг, а размышления о том, каковы ее результаты, – последний этап. Пёрсиг пробует доказать, что существует два привычных взгляда на технику. И именно то, что взглядов всего два, – корень всех проблем.
Первый – классический взгляд. Те, кто под ним подписывается, в технике ищут святилища. Техника же – всего-навсего проясняющий инструмент. Его формальность и точность – отличительные знаки той надежности, которую дарует научная модель классическому мыслителю. Романтик же рассматривает технику с поверхности. Поверните ключ зажигания своего «BMW» или «Урала» – и мотоцикл поедет. Пока есть карта, романтик – в прекрасной форме, но без классического путеводителя он запросто потеряется. Романтик – философичный, однако небрежный мыслитель. Такие могут подписаться под гипотезой, но не под «формальной и точной» силой научного режима. Либо одно, либо другое, а между ними – ничего. Или – или; таков традиционный способ мышления. «Дзэн» же делает попытку доказать, что есть некая середина, где одно не отменяет другого.
Остается вопрос: что пытается доказать техника? Если вы – классический мыслитель, она доказывает все. Если данные решающи, тема закрыта. Если же вы – романтик, данные использовать нельзя. Предписывает ли что-либо «Дзэн»? Его заключения текучи, изменчивы, никогда не постоянны и не закреплены. Поэтому ключ – в их сочетании. Техника равна фактам, но без романтической интерпретации они становятся никчемными цифрами и бессмысленными данными. Значит, нужно выбрать, как именно рассматривать эти данные. Любой их блок может обладать точно такой же ценностью, как и любой другой их блок. Например, всякое умозаключение по поводу убийства Дж. Ф. Кеннеди обладает своими достоинствами, хотя каждое неизбежно опровергается каким-нибудь другим умозаключением. Сама техника и ее научная модель использовались для подтверждения или опровержения заключений друг друга.
Ладно, давайте тогда вернемся «туда, где резина трет асфальт». Там нет научных абсолютов. И не может быть, коль скоро каждый человек привносит в научный процесс заготовленный заранее идеал. То, что ценно и фактично сегодня, завтра может оказаться полной чепухой. Каждый конкретный факт текуч и преходящ. Стало быть, важно распознавать искаженность всех «научных данных» и по меньшей мере пытаться выводить свои собственные, личные заключения.
Что же за решение предлагает Пёрсиг? Избегая того, что он считает образованием «кнута и пряника», можно интерпретировать мораль его книги так: думайте своей головой. Даже риторику, как на это указывал Аристотель, можно свести к научной системе порядка. Пока существуют варианты выбора, можно развивать научные системы, которые эти варианты будут поддерживать. «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом» – о том, как мы дешифруем эти варианты собственного выбора.
Краска, бумага, картон и клей. Вот из чего сделана книга. Это факт. В первом издании – 372 страницы, написанных Робертом М. Пёрсигом, 1928 г.р. Тоже факт. Пара классических описаний книги. «Кристалл гипнотизера», «работа первостепенной важности», «чудо», «волшебная книга» – романтические ее описания. То, как мы воспринимаем ее под картонной обложкой и за бумажными страницами, и есть цель книги. Но книга эта – не более чем вариант выбора конкретного человека применительно к технике. Как я предпочту реагировать на нее – мое дело: так, по Пёрсигу, и должно быть. Я предпочитаю отвечать вопросом на его вопросы. Это легко, когда передо мной – мнение одного человека, реагировать же на «научный» (и теперь уже преходящий) факт гораздо сложнее. Применим же этот реакционный стандарт ра́вно. Зададим вопрос и поставим его под сомнение.
Максим Немцов1989–2010Примечания
1
Отмечаются в первый понедельник сентября и последний понедельник мая соответственно. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Традиционный летний сбор учителей и ораторов с публичными лекциями, концертами и театральными постановками (по названию озера Шатокуа в штате Нью-Йорк, где такой сбор впервые провели в 1874 г.).
(обратно)3
Здесь и далее температура дается по Фаренгейту.
(обратно)4
Здесь: Ах ты душечка! (нем.) Так начинается одна из версий популярной австрийской песни, традиционно переводимой на русский как «Ах, мой милый Августин». Считается, что песня была написана в Вене во время эпидемии чумы 1678–1679 гг.
(обратно)5
Строки из баллады И. В. Гете «Лесной царь» (1782): «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? // Ездок запоздалый, с ним сын молодой». – Пер. В. А. Жуковского.
(обратно)6
Мар. 3:25, Лук. 11:17.
(обратно)7
Речь идет о республиканце Доналде Гранте Наттере (1915–1962), 15-м губернаторе штата Монтана. Разбился в метель на самолете.
(обратно)8
Экспедиция солдат армии США Мериуэзера Льюиса (1774–1809) и Уильяма Кларка (1770–1838) первой в 1804–1806 гг. исследовала территорию между Миссисипи и Тихим океаном.
(обратно)9
«Мотивы научного исследования» – речь Эйнштейна на праздновании 60-летнего юбилея Макса Планка в 1918 г. (Motiv des Forschens, в сб. Zu Max Plancks – 60 Geburstag: Ausprachen in der Deutschen physikalischen Gesellschaft. Karlsruhe, 1918, S. 29–32). Здесь и далее текст воспроизведен по русскому переводу под заглавием «Принципы научного исследования», в сб. А. Эйнштейна, «Физика и реальность». М.: Наука, 1965. Стр. 8–10.
(обратно)10
Филмер Стюарт Кукоу Нортроп (1893–1992) – американский философ. Его книга «Встреча Востока и Запада. Исследование касательно всемирного понимания» вышла в 1946 г.
(обратно)11
Здесь и далее цит. по: Иммануил Кант, «Критика чистого разума», пер. Н. О. Лосского, сверен и отредактирован Ц. Арзаканяном и М. Иткиным. М.: Мысль, 1994.
(обратно)12
Как отмечают Ц. Арзаканян и М. Иткин, в традиции переводов на европейские языки термин Anschauung, употребляемый Кантом, принято переводить как «интуиция» (такое соответствие ввел создатель немецкой философской терминологии Кристиан Вольф). В переводе «Критики чистого разума» Н. О. Лосского вместо этого употреблялся термин «наглядное представление», впоследствии замененный редакторами на «созерцание». Переводчик, в остальном пользуясь отредактированным переводом Лосского, в этом вопросе ради Канта и Пёрсига предпочел европейскую традицию.
(обратно)13
Впервые выражение «tabula rasa» Аристотель использовал применительно к детскому сознанию в трактате «О душе».
(обратно)14
Роберт ДеВиз (1920–1990) и его жена Дженни ДеВиз (р. 1921) – американские художники-модернисты. Роберт ДеВиз преподавал изобразительное искусство в университете штата Монтана в Бозмене с 1949 по 1977 г.
(обратно)15
Общество Джона Берча – ультраправая антикоммунистическая организация, основанная в 1958 г. Робертом Уэлчем-мл. (1899–1985), конфетным фабрикантом на пенсии. Общество выступало за отмену подоходного налога и социального страхования, за выход США из ООН и т. п. Организация названа именем баптистского миссионера и офицера разведки США, убитого 25 августа 1945 г. китайскими коммунистами, – членами общества он почитался как первая жертва холодной войны.
(обратно)16
Питер Вулкас (Панайотис Вулкос, урожд. Панайотис Гарри Вулкополос, 1924–2002) – американский художник греческого происхождения. Знаменит своими керамическими скульптурами в стиле абстрактного экспрессионизма. Изучал живопись и керамику в колледже штата Монтана, Бозмен.
(обратно)17
Фраза американской писательницы Гертруды Стайн (1874–1946) об американском романисте Гленуэе Уэскотте (1901–1987) из ее «Автобиографии Элис Б. Токлас» (1933). – Пер. В. Михайлина.
(обратно)18
Лионель Фейнингер (1871–1956) – немецко-американский художник, график и карикатурист. Минориты – монахи ветви францисканского ордена, исповедовавшей крайний аскетизм. Церковь, которую в 1926 г. писал Фейнингер, Minoritenkirche в Вене, основана миноритами в 1224 г., перестроена в XIV в. францисканцами. В 1784–1789 гг. переделана под барокко, а в XIX в. возвращена к готическому виду.
(обратно)19
Слова английского военачальника и диктатора, позднее лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии Оливера Кромвеля (1599–1658), сказанные послу Франции Помпону де Бельевру (1606–1657). Кардинал Рец (Жан-Франсуа Поль де Гонди, 1613–1679) приводит их в своих «Мемуарах» (изд. 1717). Существует несколько вариантов этого выражения.
(обратно)20
Фрэнсис Герберт Брэдли (1846–1924) – английский философ-идеалист, глава школы абсолютного идеализма (британское неогегельянство). Бернард Босанкет (1848–1923) – английский философ и политолог, ключевой представитель абсолютного идеализма.
(обратно)21
Парафраз 1-го чжана «Дао дэ цзин». – Здесь и далее в пер. Яна Хиншуна.
(обратно)22
Парафраз 4-го чжана «Дао дэ цзин».
(обратно)23
Из 6-го чжана «Дао дэ цзин».
(обратно)24
Парафраз 14-го чжана.
(обратно)25
Выражение восходит к Ис. 26:4.
(обратно)26
Вероятно, эта популярная в теории сферической космогонии шутка восходит к рассказу «Пылинка на линзе» (The Speck on the Lens, 1892) американского писателя-сатирика Джона Кендрика Бэнгза (1862–1922).
(обратно)27
«Основы науки» (The Foundations of Science, New York: Science Press) – американский сборник работ Пуанкаре, в который вошли «La Science et l’hypothuse» (1902, «Наука и гипотеза»), «Valeur de la science» (1905, «Ценность науки») и «Science et methode» (1908 «Наука и метод»).
(обратно)28
Янош Бойяи (1802–1860) – венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии.
(обратно)29
«Рубайят Омара Хайяма» популярен в англоязычном мире в переводе английского поэта Эдварда Фицджералда (1809–1883), первое издание вышло в 1859 г. Первое четверостишие сборника, вероятно, придуманное или скомпилированное самим переводчиком из других стихов Хайяма, известно в семи вариантах, из которых от прочих больше всего отличается самый ранний:
(обратно)30
10-й катрен первого английского издания «Рубайята». В последующих изданиях приводится другая редакция, где тираноборческий пафос сглажен.
(обратно)31
9-й катрен пятого английского издания «Рубайята» (в первом издании приведен иной вариант). Джамшид – в иранской мифологии и эпосе третий или четвертый правитель из династии Парадата (Пишдадидов). Кей-Кобад – в иранской мифологии и эпосе первый царь из династии Кеянидов.
(обратно)32
Теодор Одел – псевдоним американского изобретателя, писателя, издателя и популяризатора техники Ниэмаи Хокинза (1833–1928), издававшего популярную серию технических справочников под маркой своего издательства «Теодор Одел и компания».
(обратно)33
Алфред Норт Уайтхед (1861–1947) – английский математик и метафизик, оказавший огромное влияние на всю философскую мысль ХХ века. Основные труды: «Начала математики» (Principia mathematica) (1910–1913, в соавторстве со своим учеником Бертраном Расселом), «Принцип относительности» (1929), «Процесс и реальность» (1929; цитата приведена из него, ч. II, гл. 1, разд. 1).
(обратно)34
Роберт Мейнард Хатчинс (1899–1977) – американский философ образования, декан Йельской школы права (1927–1929), президент (1929–1945) и впоследствии ректор Чикагского университета. Мортимер Джером Эдлер (1902–2001) – американский философ, педагог и писатель. Далее говорится о его второй книге, написанной в соавторстве с Джеромом Майклом, «Природа судебного доказательства. Исследование логических, правовых и эмпирических аспектов доказательственного права» (1931). Скотт Милросс Бьюкенен (1895–1968) – американский философ и педагог. Пёрсиг излагает историю Комиссии по гуманитарным наукам, учрежденной этими тремя учеными вместе с философом Ричардом Маккиэном (1900–1985; прототип Председателя) для реформы гуманитарного образования по сократовским принципам, но быстро распавшейся из-за непонимания со стороны академических кругов и философских разногласий участников.
(обратно)35
Программа «Великие книги» – образовательная программа, метод обучения и с 1952 г. – книжная серия энциклопедии «Британника» («Великие книги Западного мира», 60 томов). Программа была предложена в начале 1920-х годов профессором Колумбийского университета Джоном Эрскином (1879–1951) для улучшения высшего гуманитарного образования в США путем возврата к открытому обсуждению великих текстов, написанных в классических традициях, с минимальным участием преподавателя. Одним из оплотов программы был Чикагский университет «эпохи Хатчинса».
(обратно)36
Аристотель. Риторика, кн. I, гл. 3. – Здесь и далее пер. Н. Платоновой.
(обратно)37
См. Риторика, кн. I, гл. 9.
(обратно)38
Кн. I, гл. 1.
(обратно)39
«Всякий человек рождается либо платоником, либо аристотеликом. Мне сдается, невозможно рожденному аристотеликом стать платоником; и я уверен, что ни один урожденный платоник никогда не обратится в аристотелика. Это два класса людей, и почти невозможно помыслить меж ними третий» («Образцы застольных бесед покойного Сэмюэла Тейлора Кольриджа», 1835, запись от 2 июля 1830 г.).
(обратно)40
Здесь и далее: Платон. Горгий. Пер. С. Маркиша.
(обратно)41
«Ведь вот Горгий, леонтинский софист, прибыл сюда со своей родины в общественном порядке, как посол и как человек, наиболее способный из всех леонтинян к общественной деятельности; он и в Народном собрании оказался отличным оратором, и частным образом, выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми людьми, заработал и собрал с нашего города большие деньги», – говорит Гиппий в диалоге «Гиппий Большой». – Пер. М. Соловьева.
(обратно)42
«Двадцать вопросов» – популярная салонная игра, развивающая дедуктивные навыки. Возникла в США в 1940-х гг., впоследствии задала формат одноименным радио- и телевизионным программам.
(обратно)43
«Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют». Дошедшее до нас выражение древнегреческого философа Протагора (ок. 490 до н. э. – ок. 420 до н. э.), одного из старших софистов.
(обратно)44
Хамфри Дэйви Финдли Китто (1897–1982) – британский ученый-классик. Его книга «Греки» вышла в 1952 г. и стала учебником по истории древнегреческой культуры.
(обратно)45
Гомер. Илиада, Песнь VI, 407–413. – Здесь и далее пер. Н. Гнедича.
(обратно)46
Там же, 440–480.
(обратно)47
Определяющих, определяемых и отличий (лат.).
(обратно)48
Молва, подстегнутая Пёрсигом, приписывает фразу Торо, хотя исследователи с несколько большим основанием прослеживают ее к эссе Ральфа Уолдо Эмерсона «Возмещение» (1841), где Эмерсон иллюстрирует сходным положением двуединство природы. В 1-й главе «Уолдена» Торо говорит нечто напоминающее эту мысль (но лишь по форме), отчего и могла возникнуть путаница: «Выигрыш одних может оказаться проигрышем для других». – Пер. З. Александровой.
(обратно)49
«Один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинного мнения, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой – горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам».
(обратно)50
«Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего».
(обратно)51
(You’ve Got To Walk) That Lonesome Valley – американская народная песня, госпел. Впервые записана в 1927 г. одним из первых кантри-музыкантов Дэвидом Миллером (1883–1953).
(обратно)





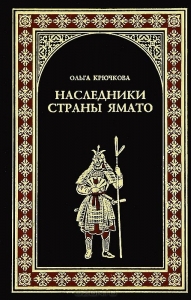
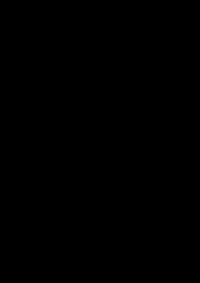
Комментарии к книге «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом», Роберт М. Пирсиг
Всего 0 комментариев