Андрей Цаплиенко Империя Четырех Сторон
Вадиму Нестерчуку посвящается.
Обещание выполнено.
Мне хотелось создать параллельную реальность, в которой он остался жив.
«Ama llulla, ama suwa, ama quella!»
(«Не лги, не воруй, не ленись!»)
(кечуа)
Девиз Империи Инков«– Я не могу быть священником, святой отец.
– Почему? Ты лучший студент, у тебя есть талант убеждать других.
– Этого недостаточно.
– Ты словно чего-то боишься. Но это исповедальня. Сейчас я не просто твой куратор, но и твой духовник. Разве боятся духовника?
– Я не вас боюсь, святой отец. Скорее себя.
– У меня такое впечатление, что я вытягиваю исповедь из тебя силой. Но я священник, а не комиссар полиции.
– У вас хорошее чувство юмора. Я всегда это отмечал на ваших лекциях.
– Я прожил достаточно много лет, чтобы понять, что в мире, кроме веры, слишком мало серьезных вещей.
– Но причина, по которой я не могу быть священником, также слишком серьезна.
– Давай сделаем так, как задумали наши предшественники. Эта кабинка устроена таким образом, чтобы не видеть лица исповедника и остаться наедине с собой. Собеседника как будто нет, есть только его вопросы. Итак, ты не можешь получить рукоположение и сан, так?
– Так.
– Почему? Ты сделал что-то страшное?
– Да.
– Украл?
– Нет.
– Лишил жизни человека?
– Нет. Хуже, гораздо хуже.
– Что может быть хуже?
– Всего вашего опыта не хватит, чтобы догадаться.
– Ты серийный убийца?
– Опять шутите. Нет, я скорее серийный каннибал. Ну, вот и признался.
– Серийный кто?!
– Каннибал. Я ел людей. Много раз.
– Когда это было?
– Последний раз на прошлых каникулах.
– Но зачем?!
– Чтобы сила врага стала моей. Таковы обычаи в моем селении.
– Похоже на дешевые книжки в мягких переплетах.
– Жизнь вообще похожа на дешевую литературу. Но признать это людям мешает врожденный снобизм.
– Ты ел человека? Ты, лучший студент семинарии, ел человека?! Неужели это правда?
– Это не все.
– Неужели это правда? Но ты раскаиваешься в том, что ты сделал это?
– Как бы я ни раскаивался, я должен поступить так, как требуют обычаи моих отцов.
– Не понимаю.
– Если вы расскажете кому-нибудь об этом, вас убьют. И, возможно, съедят».
Один. Исчезновение
Таинство исповеди было нарушено. Иначе откуда бы Норман узнал об этой истории.
«Неужели ты думаешь, что все это правда?» – спросил Вадим Нормана. Метис невозмутимо улыбнулся широким ртом:
«Не знаю. Но о священнике я больше ничего не слышал».
Он, что ли, так шутит?
Норман, несмотря на происхождение, исповедовал европейские ценности. Лицом он был похож на своего отца, а тот – на всех представителей племени кечуа: круглолицых, крупнозубых, кареглазых, с кожей цвета старинной мебели. Вадима странная история заинтересовала. Он медленно пил безалкогольное пиво, раздумывая над тем, что сказал профессору семинарии его студент.
Вот о чем размышлял Вадим. Людей едят по разным причинам. Например, от голода. Случаев каннибализма во время спонтанных или срежиссированных голодоморов было не счесть от Дарфура до Украины. Едят людей в тайге – это особая российская традиция времен ГУЛАГа. Двое заключенных, планируя сбежать из лагеря, уговаривали третьего, причем, выбирали человека посильнее и покрупнее. Этот третий, как тупой бык, тянул на себе провиант всей группы беглецов, а когда запасы кончались, большого и сильного пускали в расход и съедали. Так это и называлось – побег «с бычком». Следует понимать, что ни в первом, ни во втором случае участники трапезы не вкладывали в акт каннибализма ничего мистического. Они просто утоляли голод. «Интересно, сколько же в мире осталось неисследованных мест, где человека пожирают во имя высокой цели? Где съедению куска человеческой плоти придают священное значение?» – размышлял Вадим, при этом сомневаясь, что история, рассказанная Норманом, правдива. Вряд ли священник может нарушить таинство исповеди. Впрочем, как там сказал семинарист, главный герой рассказа Нормана?
«Жизнь вообще похожа на дешевую литературу».
«Но оценить это может только тот, кто читает хорошие книги», – словно говорила белозубая улыбка метиса.
– Ты знаешь, кто такой Лапу-Лапу? – спросил Нормана Вадим.
– Нет, и никогда не знал.
– А тебе интересно узнать, кто это?
– Нет, – пожал плечами Норман.
– Ну, тогда расскажу, – улыбнулся Вадим, не заметив отказа. Он вообще отличался упрямством и говорил больше о том, что было интересно ему, а не собеседнику.
Неизвестно, запомнил ли Норман всю бесконечную историю убийства и съедения знаменитого адмирала Магеллана сотоварищи на Филиппинском архипелаге. Жадность европейцев и агрессивность филиппинцев не долго испытывали друг друга на прочность. Местный вождь по имени Лапу-Лапу не дал португальцам закончить мореплавание. Во всяком случае, не всем из тех, кто посетил его остров. Норман же из всей истории запомнил главное. Памятников Магеллану на Филиппинах не ставили. А вот мощная фигура Лапу-Лапу, запечатленная в бронзе, является достопримечательностью архипелага. Памятник каннибалу, единственный в мире. Но история Филиппин на Боливийском плоскогорье мало кого интересует.
К тому же Норман, кечуа, не желал иметь ничего общего с древними традициями своего народа. И он, как специалист по истории инков, всегда пытался найти оправдательные мотивы в действиях Франсиско Писарро и тех, кто пришел за ним, чтобы уничтожить Империю Четырех Сторон, больше известную, как Империя Инков. В XVI веке эта страна простиралась на пять тысяч километров с севера на юг континента и примерно на тысячу в глубь от тихоокеанского побережья к верховьям Амазонки. Местное население называло свою родину Тавантинсуйу, что в переводе и означало «Земля Четырех Сторон». Ученые до сих пор спорят, страдал ли ее народ под властью императоров или же пребывал в счастливой эйфории от сознания того факта, что живет в огромной могущественной стране. По сути, сверхдержаве своего времени.
Норман был лишен склонности к сомнениям и не любил подобные споры. Все, что происходило на континенте до европейцев, он считал суеверием и пережитками, – то есть, с точки зрения метиса, злом, с которым нужно беспощадно бороться в силу своих возможностей. Что, собственно, Норман и делал. Инструментом борьбы было знание, а способы – исключительно академические. На историческом факультете университета имени Габриэля Морено Норман Паниагуа считался безжалостным преподавателем, способным уничтожить нежелание учиться у самого распоследнего неуча. Профессор, не испытывая никаких сомнений, ненавидел прошлое своего континента, поэтому знал его исключительно хорошо.
– Правители страны инков были невероятно богатыми людьми. В современных масштабах очень сложно себе представить те богатства, которыми они обладали. Ты же знаешь историю выкупа Атауальпы?
Вадим не знал.
– Император по имени Атауальпа был захвачен в плен Франсиско Писарро. Атауальпа попытался купить себе свободу. Он предложил конкистадорам столько золота, сколько поместится в комнате, где был заперт правитель.
– И что дальше?
– Писарро согласился, и переговорщики со стороны индейцев привезли золото. Столько, сколько влезло в комнату размером примерно пятьдесят кубических метров.
– Ничего себе!
– Они привезли и серебро, – улыбнулся Норман. – Его было примерно в три раза больше, чем золота. А потом Атауальпа решил похвастать своими финансовыми возможностями и намекнул Писарро, что это лишь капля в море по сравнению с тем, что у него осталось.
Империя Инков, как считают историки, занимала площадь от 800 000 до 2 000 000 квадратных километров. Ее обитатели называли страну Тавантинсуйу, что означало Четыре Объединенных Провинции. Их названия, в свою очередь: Кунтинсуйу, Кольясуйу, Антисуйу и Чинчасуйу. И взлет, и падение Тавантинсуйу полны загадок и вопросов, которые пока что остаются без ответа
– Конкистадоры отпустили императора?
– Конечно нет. Если бы это случилось, то мы бы с тобой сидели при свете лучины и восхваляли власть Верховного Инки в дозволенных для простолюдинов словах, но не более того. А потом, вместо того чтобы сесть за компьютер и проверить месседжи, отправились бы на ближайший государственный огород вкалывать на благо великого Отечества.
– «I’m back in USSR!» – напел Вадим «битловскую» мелодию.
– Конечно, старик, это был полный Эс-Эс-Эс-Эр, только в доколумбовом исполнении! – рассмеялся Норман. Он хорошо знал уклад жизни в Союзе, где получил диплом историка. И где, собственно, познакомился с Вадимом.
– Это был настоящий военный коммунизм, – продолжал Норман. – Любая открытая торговля – под запретом. Разные классы общества носили строго предписанную их сословию форму одежды. Все и вся подчинялось регламенту. День делился на три части: восемь часов на сон, восемь часов на отдых, восемь – на работу. Каждая община делила все произведенные материальные блага тоже на три части: одна отдавалась Великому Инке, то есть государству, вторая – предназначалась Инти, Солнцу, и ею распоряжалось мощное сообщество жрецов, третья часть оставалась в общине. Но в действительности все вокруг – включая землю и людей, на ней живущих, – было собственностью государства. А значит, одного человека по имени Атауальпа.
– Ты знаешь, – сказал Норман, – в Империи Тавантинсуйу был популярен лозунг «Все на благо человека!» Так вот, одного простолюдина казнили, когда он сказал, что знает этого человека.
Вадим рассмеялся.
– Я этот анекдот помню еще со школы. Только он не про вашего Императора, а про нашого. Генсека.
Паниагуа засмеялся вслед за Вадимом и продолжил описывать историю взаимоотношений Франсиско Писарро и Великого Инки. Предводитель конкисты решил не жадничать и, получив выкуп, правителя инков так и не отпустил.
– Так что Франсиско Писарро спас свободный мир еще до того, как этот мир появился, – так Норман подвел итог деятельности конкистадора.
– Свобода, построенная на обмане, – задумчиво проворчал Вадим.
– Что поделаешь? В истории иногда даже преступления могут положительно повлиять на прогресс.
Норман считал, что свобода – это единственный двигатель прогресса. И за нее надо платить. Свобода предпринимательства, воплощенная в официанте, не замедлила напомнить о себе счетом за ужин.
– Ого, – удивился Норман, взглянув на цифру в графе «Total». – Какие, кстати, нынче цены у вас в Киеве?
– Не меньше, чем здесь, – нахмурился Вадим, когда увидел счет. – При инках, ты говоришь, все было бесплатно?
– У каждого явления есть свои негативные и позитивные стороны, – философски прокомментировал ироничное замечание друга Норман. – Кроме того, наши траты будут еще процентов на десять больше. Надо оставить официанту на чай.
Друзья вышли из ресторанчика и взяли такси. Машина сначала подъехала к отелю, где остановился Вадим. После этого Норман попросил подвезти его на третье городское кольцо. Профессор арендовал здесь небольшое фотоателье, где подрабатывал, делая свадебные портреты: академическая зарплата в Боливии, как, впрочем, и повсеместно, радовала только тем, что выдавалась день в день. Профессор поднял жалюзи на входе, зашел в ателье и сразу направился к стеллажам, где лежали старые фотографии, одна из которых его очень интересовала. Особенно сейчас, после разговора о древних империях.
Он взял пожелтевший, с явной тенденцией к сворачиванию, лист глянца и уселся на изрядно потертый диван, на котором в дневное время обычно ожидали своей очереди клиенты фотоателье. Норман еще раз поглядел на снимок и подумал, что мощности его очков не хватит, чтобы рассмотреть детали на снимке. А ведь именно детали его больше всего заинтересовали на этой фотографии, когда он случайно наткнулся на нее в университетской библиотеке. Сообразив, что она, по сути, бесценна, профессор не удержался и выдернул снимок из толстого альбома. На обратной стороне, содрав ногтем засохший клей, он обнаружил надпись, сделанную чернилами:
«Дверь, которую закрыл строитель, защищает солдат. А откроет ее заблудший путник».
Норман уже давно ломал голову над тем, связана ли фраза с изображением на фото, и пришел к выводу, что связи здесь нет. Прямой, во всяком случае.
Он бросил фото на пузатый лопающийся дерматин и, кряхтя, рывком поднял свое тело из сидячего положения в вертикальное.
Его рука потянулась к увесистой книге, на корешке которой можно было прочесть название «Los Comentarios Reales de los Incas». Он пролистал несколько страниц этого фолианта, нашел нужное место и, прищурив свои индейские глаза, отчего они стали узкими, как щелочки, стал вчитываться в строки, написанные на староиспанском языке.
– Неужели Гарсиласо де ла Вега не соврал? – удивился вслух Норман, и, похоже, этот возглас удивления он адресовал самому себе.
А это человек, который, имея под началом менее двух сотен авантюристов, сумел разрушить Империю Тавантинсуйу. Франсиско Писарро-и-Гонсалес сам не знал точной даты своего рождения – то ли 1475 год, то ли 1476, – а вот погиб он от меча своих алчных соратников в 1541 году, в городе Лима, который сам же и основал
Историк-фотограф подошел к стеллажу и привычным движением стянул с него увеличительное стекло в пластиковой оправе. Потом развернулся и двинулся назад к ветхой громадине дивана, но внезапно изменил траекторию и задержался возле невысокой стеклянной конструкции, на которой стояла початая бутылка виски. Профессор схватил виски и снова вернулся к дивану, сидя на котором так приятно рассматривать фотографии древностей, особенно, если никуда не спешить и периодически баловать свои чувства терпкой вкусовой гаммой, которую можно создать только при помощи виски. Норман любил скромное сибаритство одиночества. В предвкушении удовольствия он посмотрел на диван. Последнее, что он успел осознать, это то, что старой, покоробленной фотографии на диване нет.
Два. Комиссар полиции
На следующий день Вадима разыскал полицейский и попросил немедленно приехать в комиссариат национальной полиции.
– В связи с чем? – спросил Вадим.
– Не знаю точно, – промямлил молодой полицейский. – Я, сеньор, всего лишь посыльный. Но говорят, дело об исчезновении человека.
Вадим пожал плечами и отправился в комиссариат на своей машине.
– Круто! – только и сказал посыльный, увидев странный оранжевый агрегат, в котором с трудом могли разместиться двое. В машине с первого взгляда чувствовалась мощь и уверенность.
– Поедете в этой? – спросил Вадим. Полицейский кивнул. Он отметил про себя, что металлические дуги безопасности и обилие приборов при внутреннем аскетизме кабины говорят о том, что Вадим катается на отличном спортивном болиде, стоимость которого исчислялась в невероятных цифрах. Но машина гонщику не принадлежала. Здесь, в боливийской сельве, можно было прекрасно подготовиться к самой главной гонке планеты. Именно для этого Вадим приехал сюда. А дружище Норман заранее помог ему арендовать самый лучший спортивный внедорожник в Санта-Крус.
Прошло еще немного времени, пока Вадим осознал, что его подозревают в причастности к похищению человека. И этим человеком был профессор Норман Паниагуа. Он так и не вернулся домой, и утром растрепанная жена сначала появилась в фотоателье, чтобы проверить наличие мужа там, где он обычно в одиночестве хлестал виски, затем, не обнаружив его в ателье, она принялась звонить на мобильный телефон Вадиму. Она знала, что Норман собирается ужинать с другом неподалеку от гостиницы, в которой тот остановился. Но телефон Вадима был отключен, и женщина заявила в полицию. То, что Норман все же побывал в ателье, подсказывал предмет, лежавший на полу студии. Бутылка виски посередине влажного темного пятна, состоявшего, как точно определили полицейские, из того, что раньше находилось внутри стеклотары.
– А вы, собственно, что делаете в Боливии? – грозно спросил комиссар.
– Готовлюсь к гонкам, – ответил Вадим.
– Гонщик, стало быть, – подвел итог своим догадкам полицейский.
– Да, – кратко подтвердил Вадим.
Загорелые пальцы комиссара отстучали бодрый марш по столешнице. Разговор происходил в прокуренном кабинете. Судя по отсутствию компьютера и присутствию набитой окурками пепельницы, кабинет был дежурным помещением, предназначенным для быстрых допросов не слишком значительных персон. Важность персоны Вадима для следствия по исчезновению профессора истории комиссар не успел оценить и пригласил его сюда.
– А кем вам приходится Норман Паниагуа?
– Братом родным, – саркастически проговорил Вадим, вспомнив индейские черты лица историка, и тут же счел нужным добавить уточнение: – Шутка.
Взгляд комиссара не располагал к шуткам оппонентов. Полицейский чиновник смотрел на Вадима так, как будто это давалось ему невероятно тяжело. Из-под нависающих на самые зрачки век струилась энергия неприязни, и Вадим физически ощущал на себе ее смутную тяжесть.
«С персонажами при исполнении служебных обязанностей лучше не спорить», – взял себе гонщик за правило с тех пор, как однажды в аэропорту его сняли с рейса за вполне безобидный ответ: «Да, конечно» на вопрос девушки из службы авиационной безопасности, есть ли у пассажира с собой наркотики, оружие или взрывчатые вещества. Шутка о брате Нормане прозвучала забавно, но вслед за ней последовали бесконечные вопросы комиссара, точность и беспощадность которых подпитывали неприязнь к оппоненту и зловоние из пепельницы.
Хотя следует признать, Норман действительно был для Вадима кем-то вроде брата. Особенно после нескольких лет, прожитых вместе в киевском общежитии.
Три. Бронзовые ножи
Молодой человек в одежде, отдаленно напоминающей то ли арабский дишдаш – тонкий халат до пят, то ли спецодежду мясника, готовится к очень важному событию. Он проверяет, насколько остро наточены старинные инструменты перед ним на столе. По коричневой бронзе, из которой сделан набор ножей, крючков и зажимов, можно догадаться, что он имеет древнее происхождение. И если даже это не совсем так, то бронзовые инструменты – точная копия или стилизация «под древности Империи Инков», которые можно купить почти повсеместно на западном, да и на восточном склоне великой горной цепи, от шумной Боготы до окрестностей Сантьяго. Инструменты напоминают хирургические, хотя они на вид грубее и массивнее. Но тонкий орнамент, который имеется на рабочей поверхности каждого бронзового инструмента, говорит о высоком мастерстве тех, кто их изготовил. А если поднести древние ножи поближе к глазам, то можно заметить, что тонкие линии распадаются на отдельные микроскопические изображения животных, из которых и свивается нитка орнамента. На одних ножах его образуют сотни орлов, на других он сплетается из обезьян, цепляющихся одна за другую длинными спиралевидными хвостами. На третьих его формирует цепь из крокодилов, каждый из которых, позволяя схватить себя собрату за хвост, крепко держится зубами за хвост предыдущего земноводного. С помощью увеличительного стекла можно рассмотреть, что, несмотря на общий стиль рисунка, у каждого из животных есть свои неповторимые черты. Иногда это оскал, а иногда и положение лап, от готовности к прыжку до позиции самозащиты.
У молодого человека в арабском дишдаше не было увеличительного стекла. К тому же он вряд ли тратил бы время на разглядывание фигурок на лезвии. Его интересовало практическое, а не художественное достоинство инструментов. Тем не менее, каждый из инструментов человек в дишдаше мысленно называл именами животных, которые были на них изображены. «Сначала берем нож-орел, – говорил он вполголоса, – делаем круговой надрез. Потом ножом-крокодилом намечаем продольный. Дальше понадобится широкое лезвие ножа-обезьяны, чтобы разрезать кости. И потом уже в ход пойдут крючья».
Над столом, выхватывая тусклым пучком света руки молодого человека, горела электролампочка, вся в следах паутины и копоти. Обстановка в комнате была далека от стерильной. Осторожные движения человека в дишдаше придавали ей особую торжественность.
– Каждая часть имеет свое назначение и, значит, свой вкус, – бормотал молодой человек так, словно повторял хорошо вызубренный урок. Ножи сверкали бронзовым блеском в пятнах желтого света. Микроскопические звери крепко сжимали зубы.
Молодой человек потянулся кверху и подвинул лампу таким образом, чтобы пятно света ярче всего освещало середину грязноватого деревянного стола и то, что на нем лежало. Юноша, продолжая повторять слова своей мантры о вкусовых различиях, взмахнул бронзовым ножом и с силой вонзил его в то, что лежало на столешнице. Нож почти без сопротивления преодолел препятствие. Он с легкостью отделил от массивного тела небольшую часть. Это была человеческая кисть. Она упала на жесткий пол с глухим стуком. Кисть была сделана из пластика. Человек разделывал манекен, и это походило на безумие. Тем более, что его губы шептали безумные слова, лишенные всякого смысла:
– Инка Виракочи, то, что ты предсказывал нам, сбылось, но мы повернем это вспять. Время движется в оба конца.
Uno. El jardín de oro
Вода стекала по бирюзовым желобам, подпитывая фонтан, который выбрасывал вверх восемь острых струй. Здесь было спокойно и тихо. Легкое журчание воды не нарушало спокойной красоты этого места, куда простых руна обычно не допускали. Во всяком случае, Чинча не слышал ни об одном подобном случае. А к слухам об Инка Уака Чинча обычно очень внимательно прислушивался, хотя бы потому, что мечтал своими глазами увидеть золотой сад. И вот это наконец произошло. Он, обычный руна, родившийся в дальней общине-альйю на диком востоке империи, стоит посреди самого красивого места под Солнцем и смотрит на золотые продолговатые листья, под весом которых ветки тяжело и медленно покачиваются. Чем дольше он вглядывался в детали фактуры золотых деревьев, тем больше они казались ему ожившими, хотя, возможно, эффект живого сада создавался за счет вот этого почти незаметного журчания фонтана. А разбираться в эффектах Чинча умел, в этом, собственно, и была его работа: придумывать, как соединять живую природу с неживой, каменной архитектурой.
«Да что же я стою?» – подумал Чинча и медленно, словно осторожничая, присел на край восьмиугольного фонтана. Главный строитель Тавантинсуйу, который пробивал дорогу на Восток, очень давно заметил в парне талант – видеть, а значит, и создавать архитектурные эффекты, – и потому забрал его сюда, в Куско. «Город и горы так же неотделимы, как небо и земля, – говорил он Чинче, своему лучшему ученику во время занятий, – они кажутся совершенно противоположными по своей сути, но это не так. Они едины. Если город вырван из природы, то люди в нем будут унылыми и нерадивыми. А если люди нерадивы, то однажды Империи Четырех Сторон придет конец». Чинча не понял, о чем это говорил главный строитель. Но у старика довольно часто мысли рассыпались, как зерна кивичи из прохудившегося мешка, поэтому слушать его непонятные сравнения можно было, лишь помня о том, как тяжело в потоке слов найти главное.
Сюда, впрочем, Чинчу пустили не для того, чтобы он любовался идеальным сочетанием золота и воды.
– А вот, наконец, и он, наш юный гений, – услышал Чинча за спиной низкий раскатистый бас. Этот бас принадлежал одному из самых могущественных людей Тавантинсуйу, и молодой человек сначала вскочил на обе ноги, а потом упал на оба колена для поцелуя. Но Вильяк Ума брезгливо отнял руку, которую схватил Чинча.
– Сейчас не время для церемоний, – сказал он жестко.
Чинча встал на ноги, но все еще держал голову склоненной.
– Ты что же, строитель, боишься, что свет Инти прожжет тебе глаза? – усмехнулся Верховный жрец. – Подними подбородок, я же тебе сказал: сейчас не время для церемоний.
– Слушаюсь, Великий Вильяк Ума, – пробормотал Чинча и поднял взгляд. Он увидел перед собой крупный нос, который, словно гора, поставленная набок, делал совершенно незначительными все остальные, и без того мелкие черты лица этого человека. Они как-то не вязались с мощным голосом жреца, которым он, казалось, мог заставить само небо расплакаться дождем и рассмеяться светом, если надо.
– Ты, говорят, построил в горах что-то совсем удивительное? – спросил жрец.
– Ну, не то чтобы совсем, – замялся Чинча, но тут же вспомнил совет матери никогда не скромничать, если есть чем гордиться. – Я нашел место для главной башни. Когда на нее падает свет солнца, тень, отброшенная в сторону, идеально ложится на склоны гор. А ее острый угол указывает направление в сторону Куско.
– Хорошо, – спокойно заметил жрец. – Но это ведь не все о башне, так?
– Да, так, – вздохнул Чинча испуганно. Он не собирался рассказывать здесь о своей тайне но, видно, придется.
– Я сделал в башне отверстие. Солнце проходит по небу так, что лишь один раз в году оно оказывается в точке, которую я назвал точкой золота. И вот почему. Когда лучи солнца проникают в отверстие, создается необычный эффект. Тот, кто находится внутри башни, видит чудо. Как будто поток золота струится с потолка и падает струями прямо на зрителя. Это длится несколько мгновений, но может впечатлить на годы. Когда я рассчитывал эту точку, я понял, что на свете есть множество вещей, которые мы не понимаем только потому, что не понимаем до конца природу вокруг нас.
– Это так. Но в том-то и вся прелесть, что природа нас постоянно чем-нибудь удивляет, – заметил жрец. – Ну, говори дальше. Что там с этой твоей точкой золота?
Чинча замялся.
– Говори, говори, – по-отечески приободрил архитектора Вильяк Ума.
– Великий жрец, я понял, что все мы ошибались. И наши предки тоже.
– Те, кто вышел из озера Титикака? – переспросил жрец, и молодой человек не уловил в его словах легкой тени иронии.
– Да, те, кто из Титикака, и те, кто был за ними, – ответил Чинча. – Они говорили, что над нашей землей просыпается солнце Инти, и наступает день. Он проходит по небесной лазури свой путь и уходит спать, и тогда на земле наступает время ночи. Но на самом деле это не так.
– А как? – заинтересованно спросил Вильяк Ума.
– Солнце никуда не ходит. Оно вообще не ходит. Сначала я придумал этот эффект. Потом возвел башню. Потом нашел точку солнца. Этот эффект был бы невозможен, если бы солнце ходило над нами. Значит, это мы ходим вокруг солнца.
Последнюю фразу Чинча почти выдохнул из себя. Великий Ума молчал. Строитель подумал, что жрец не понял смысла сказанного, и постарался объяснить.
– Солнце – это шар, который висит в огромном пространстве. Вокруг него вращается земля. На один оборот уходит целый год. Поэтому через некоторое время повторяются сезоны, и засуха сменяется дождем. Но вот что интересно – земля, оказывается, круглая. Она вращается вокруг себя, и таким образом создается эффект дня и ночи. Когда мы лицом к солнцу – день, когда поворачиваемся спиной, то наступает время ночи.
Верховный жрец посмотрел на ближайшее к нему золотое дерево. Тонкий листик покачивался, и тень от него маятником ходила по земле – то влево, то вправо.
– Чинча, ты все время говоришь об эффектах, – промолвил наконец Ума. – Может, и вся наша жизнь тоже сплошной эффект?
Чинча подскочил к Уме с приоткрытым для объяснения ртом, точно как нерадивый ученик вскакивает со скамьи, чтобы объяснить учителю, почему он сделал ошибки в простом задании. Но жрец остановил архитектора одним жестом руки, покрытой пятнами старости.
– В другое время я бы тебя наказал. Или наградил. Но сейчас не буду делать ни того ни другого. Знаешь, почему?
Чинча не знал.
– Потому, что теперь это не имеет значения. Мне все равно, что происходит на небе или, согласно твоим словам, за небом. Но мне не все равно, что происходит с моим народом.
– Вы о руна?
– Нет, это касается не только простолюдинов, а и всего народа Тавантинсуйу, Империи Четырех Сторон.
– А что не так с народом? – поинтересовался Чинча.
– Ничего. Кроме того, что нас хотят уничтожить, и это пока у врагов получается.
– Уничтожить? О чем это Вильяк Ума говорит?
– О том, что Тавантинсуйу конец. Очень скоро. Оставь солнце, строитель. Наших врагов интересует не золотой дождь с неба, а вполне конкретное земное золото. Вот это, – Вильяк Ума указал на сад.
От этих слов, казалось, должно было произойти что-то ужасное. Но стены внутреннего двора не упали. А золотые деревья не рассыпались. Вода журчала. Золотые пятна отражений света бродили по стенам в неторопливо хаотичном ритме. Сад остался садом.
Собор Санто Доминго в Куско (Перу) начали строить в 1650 году на руинах инкского храма Кориканча (в переводе с кечуа «Золотой храм»). Строительство заняло несколько лет. Нижняя часть строения до наших дней дошла в таком виде, в котором его знали жители Империи Четырех Провинций. В Кориканче, по легенде, искусными мастерами был сделан сад из золота и драгоценных камней
– Послушай, строитель, – продолжал Вильяк Ума. – Мы думали, что на востоке, за бесконечными лесами, столь же бесконечное море. Но люди, которых мы считали посланцами Солнца, доказали, что это не так. Сначала они взяли немного. Потом захотели больше. Теперь они забрали самое главное, что есть у нас. Наш Великий Инка у них в руках. И теперь мы знаем, зачем.
Жрец взглянул на золотые деревья.
– Атауальпа не самый лучший Инка. Ты строитель. И ты знаешь, что лучший правитель это тот, кто заботится о крепости стен своего дома, а не о размерах владений. Атауальпа не больше чем воин. Хотя и великий. Но он наш Инка. Сын Инти. Того самого, вокруг которого, как ты говоришь, кружится весь наш мир. Нет Инки, не будет империи. Люди Солнца, я буду называть их именно так, хотят, чтобы мы им отдали золотой сад. И все остальное золото, которое есть в Куско. Ты знаешь, какое условие они поставили нам? Чтобы мы наполнили золотом помещение, в котором закрыт наш Атауальпа. Мы сможем это. У нас хватит золота. Но боюсь, получив выкуп, они не остановятся на том, что получили. Помнишь историю о небесной ламе, которая паслась на звездном лугу? – долгую тираду Ума закончил вопросом.
Конечно, Чинча помнил эту нравоучительную историю об изголодавшемся животном, которое из сострадания пустили на звездный луг. Увидев огромное множество звезд, лама не смогла остановиться и пожирала звезды до тех пор, пока не осталась на небе одна яркая звездочка. И небесным пастухам пришлось бросать ее в землю нескончаемое количество раз, чтобы из зерна снова появились на небосводе звезды. Правда, после того, как Чинча нашел точку солнца, архитектор перестал верить в древние легенды и притчи, полные нравоучений.
– Я строитель, великий Вильяк Ума, но я умею держать в руках и пращу, и копье. И я знаю, что людей Солнца можно остановить только пращой и копьем.
– Я знал, что ты так ответишь, но я велел тебя привести сюда не для того, чтобы выдать тебе оружие, – вздохнул жрец. – Я дам тебе кое-что гораздо более важное.
Для нас это важнее, чем золотой дождь в твоей башне и даже этот золотой сад.
И только тут Чинча обратил внимание на небольшой продолговатый предмет в руках Вильяк Умы. Ничего необычного в предмете не было. Такой жезл, который называли апикайкипу, был у каждого чиновника в любом уголке Тавантинсуйу. Но этот был гораздо длиннее и массивнее. Правду говоря, он напоминал часка-чуки – боевую булаву, грозу врагов.
– Мы можем потерять все, что у нас есть, – твердо сказал Вильяк Ума. – Мы отдадим людям Солнца золотой сад и еще много из того, что мы имеем. Но эту вещь ты ни за что не должен потерять.
Чинча взял в руки жезл. Он оказался невероятно тяжелым.
– Здесь все, что останется от Империи Четырех Сторон. Запомни это.
Ветер качнул золотые листья, и они мелодично зазвенели, словно вместо ответа.
– И, кстати, о том, что наш мир кружится вокруг солнца, я и так знал. Без твоих сложных эффектов. Впрочем, тебе ведь неизвестно предсказание Инки Виракочи?
«О чем это говорит Великий Ума?» – задумался на мгновение Чинча. Но переспрашивать было поздно. Аудиенция закончилась. Нужно было приступать к работе.
Четыре. Гонка. Автодесант
– Они убили аккумулятор! И порвали коробку передач!
Вадим сообщил своим людям то, что и так было ясно без слов. Машина не заводилась. Начало гонки было многообещающим. Оранжевый автомобиль безнадежно стоял на бетоне разгрузочной площадки, когда мимо него проезжали более счастливые участники самой опасной автогонки на планете.
Виктор, главный механик, уныло глядел под капот, но даже под взглядом его суровых глаз аккумулятор не хотел крутить стартер.
Ситуация была ясна. У малобюджетной команды из Восточной Европы просто не было денег на то, чтобы отправить из Гавра своего механика. Машины сопровождал французский персонал автогонки. Но французским механикам была совершенно безразлична судьба отдельно взятой машины с желто-голубым флагом на борту. Флаг им был неизвестен, и таких автомобилей на борту парома, следовавшего по маршруту Гавр – Лима, было так много, что уделять внимание каждой отдельно взятой не было ни резона, ни желания.
Перед тем, как загрузить машины, французские механики забыли отключить аккумулятор. Когда месяц спустя паром пристал к аргентинскому берегу, оранжевый автомобиль не завелся. Но его все же как-то нужно было спустить на берег. Времени было в обрез. Машина стояла на включенной передаче. Вот так, не выключая передачи, ее и стянули на бетон причала. В итоге порвали коробку передач.
Такая же точно поломка случилась с его машиной месяц назад в Боливии, как раз тогда, когда в неизвестном направлении исчез Норман, и, разозленный вопросами следователя, Вадим рванул в Вадо-дель-Йесо тренироваться на влажном песке реки, отступающей в глубь горной долины. Почему именно туда? Ему понравилось, что название местности созвучно его собственному имени. Он был слишком взвинчен допросами и управлял машиной нервно и неаккуратно. В итоге порвал сцепление и, заплатив Робби, хозяину той машины, огромную сумму денег, вернулся в Украину. Чтобы снова оказаться в Латинской Америке и снова остаться без сцепления.
– What have you done to my clutch box! – попытался возмутиться Вадим, но французский менеджер сделал вид, что не понимает английского. А может быть, он действительно не знал, что там у этого лысого парня с коробкой передач. На причале стояло не меньше чем полтысячи разных машин, и каждой уделять особое время было недосуг. Ну, просто абсурдно. Каждая из машин была уникальной. Некоторые из них всем своим видом словно говорили: «Второй такой, как я, больше в природе не существует». Но явные фавориты гонки в эту формулу не вписывались. Пять гоночных «туарегов» с аккуратным достоинством стояли в стороне. Каждый из автомобилей, специально созданных для преодоления пустыни, стоил не меньше двух миллионов долларов. Недешевое оружие победы.
Впрочем, машины Вадима даже на этом мощном фоне выглядели достойно. Его гоночный внедорожник только формально назывался «мицубиси». От японской прародительницы в конструкции оранжевого болида остались только фары и лобовое стекло. Машина была похожа на крепко сбитого, коренастого упрямца. У нее был шанс победить. Ей нужна была только победа.
Вот такой маршрут должны пройти гонщики, герои этой книги. Его общая протяженность – более десяти тысяч километров
Уже на причале стало ясно: борьба за победу обещает быть невероятно трудной.
С неба упали первые тяжелые капли дождя и размазали пыль по лобовому стеклу.
– Если заведется, едем на пониженной! – крикнул Вадим из кабины. – Если нет, то как-нибудь на шнурке дотянемся до Буэнос-Айреса.
Валерий отклеился от капота и принялся закреплять конец разноцветного троса под бампером гоночной «мицубиси». Вадим продолжал бесцельно щелкать тумблерами на приборной панели. У команды было чем буксировать оранжевую «мицубиси». Кроме гоночной машины, на южноамериканский континент выгрузили неказистый, но мощный пикап «Л200» и усовершенствованный «паджеро» с четырехлитровым «заряженным» двигателем. Вадим, с его педантичным отношением к языкам, пытался заставить свою команду называть внедорожник правильно: «пахеро», на испанский манер. Но те упорно следовали фарватером стереотипов. «Пусть будет «паджеро», ладно», – сдался лидер команды.
Задача пикапа «Л200» была понятной: кузов был до отказа загружен сменными колесами и запасными частями, главной из которых была вторая коробка передач. Вадим рассчитывал, что ставить ее придется не раньше, чем после четырех тысяч километров гонки, в том случае, если старая не выдержит круиз по феш-фешу – мелкому сероватому песку, легкому и всепроникающему, как цемент. Организаторы гонки разметили маршрут таким образом, что добрая половина трассы приходилась на феш-феш по обе стороны большого Андского хребта. Но нерадивые французские докеры внесли свои коррективы в планы Вадима, и он совершенно отчетливо понял, что выигрыш в гонке будет просто чудом. Если, конечно, будет.
Рядом загружал свой «унимог» Марко Стампа. У этого гибрида грузовика и трактора было еще меньше шансов победить в классе тяжеловозов, чем у Вадима, соревнуясь без запасной коробки с внедорожниками самых подготовленных команд гонки, «фольксваген» и БМВ. Но Марко был уверен, что так или иначе дойдет до финиша. А это уже можно считать успехом. Именно поэтому Вадим и нанял Марко вместе с его грузовиком.
Стампа уже десятый раз выходил на трассу самой престижной автогонки мира. «Главное – не победа, а участие», – любил он повторять устную формулу физкультурников всего мира, ведь спортсмен всегда стремится к победе, а физкультурник довольствуется участием. Для Марко участие в гонке давно уже стало прибыльным бизнесом. Он придумал, как можно заработать деньги там, где большинство гонщиков вынуждено их тратить в огромных количествах. Его «унимог», формально являясь гоночным грузовиком, был набит запчастями, колесами, инструментами, а в его экипаже состояли механики, уровню подготовки которых мог бы позавидовать менеджмент явных фаворитов. И если у кого на трассе случалась неприятность, Марко был тут как тут. А с Вадимом ему несказанно повезло. Он смог продать свои услуги оптом, вместе с грузовиком и механиками. По контракту, подписанному за три месяца до старта в Париже, выходило, что француз итальянского происхождения Марко Стампа становился пилотом украинского грузовика. На борт «унимога» наклеили желто-голубой флаг, на робы механиков нашили тризубые гербы. Стампа должен был дойти до финиша и помочь то же самое сделать экипажу оранжевой машины.
«Ох и подвезло же мне с этим украинцем», – про себя повторял Марко и подбадривающе улыбался Вадиму: мол, не бойся, прорвемся, доедем до финиша. Украинец спас его от разорения. Дома, во Франции, прекратила существование небольшая строительная фирма, принадлежавшая Марко, доходы от которой позволяли франкоитальянцу безбедно существовать в период между гонками. Вадим, с его пятьюдесятью тысячами, заплаченными за услуги Марко, оказался как нельзя кстати.
Команда – это дорогая игрушка. У иных годовой оборот измеряется в десятках миллионов долларов. По меркам своей страны, Вадим считался состоятельным человеком, но все-таки миллионные вложения казались ему непосильными. Пока что. И, тем не менее, у гонщика получилось сложить команду. У него был внедорожник для выступления в классе «суперпродакш», где соревнуются агрегаты, напоминающие серийные автомобили весьма отдаленно. У него был грузовик, который, конечно, уступал в скорости фаворитам, но, в силу особенностей конструкции, мог спокойно, без серьезных поломок пройти всю дистанцию в десять тысяч километров по самому разнообразному бездорожью. Хозяева этого автомобильного квеста постарались подобрать маршрут так, чтобы все прелести нетореных дорог Латинской Америки достались гонщикам. Не слишком скоростной «паджеро» при случае мог быть внесен в список гонщиков в классе «продакшн», несколько более похожих на серийные автомобили, чем внедорожники-«суперпродакшн». Эта машина тоже была укомплектована экипажем. Ее называли донорской: она должна ехать вслед за «боевой» и, в случае поломки, щедро предоставить свои детали для машины Вадима. Все для победы.
Но сейчас о победах говорить было рано. А приключения хороши лишь тогда, когда заканчиваются хорошо. Чем закончится поломка коробки передач, Вадим не знал и даже не хотел об этом думать.
Пока вытягивали трос, Марко на своем грузовике исчез в дождливой серости портовой дороги. Пришлось шнурок цеплять к пикапу «Л200». Работяга медленно, но уверенно потянул за собой оранжевый внедорожник. Вслед за ним двинулась кавалькада из остальных автомобилей команды. Влад, водитель «паджеро», сидел за рулем и видел, как навстречу летят белые прерывистые полосы дорожной разметки. Зрелище было завораживающим, особенно из-за дождя, который превращал обзор за лобовым стеклом в картину экспрессиониста, распадающуюся на цветовые пятна.
– Дорога, как палитра, – бормотал Влад, вцепившись обеими руками в руль. – Хорошее начало для статьи. – Втайне он мечтал стать журналистом и однажды написать о гонке. А сознание, между тем, подсказывало по-водительски соленый каламбур, пародию на собственную гениальность: «Дорога, как пол-литра!»
В отель приехали поздно. На улице Морено, возле «Интерконтиненталя», все пестрело от разноцветных гоночных автомобилей. Мест на парковке не было. Ну, а когда дотянули оранжевую «мицубиси», то поставить ее было абсолютно негде.
– Ёшкин кот, – незлобно выругался главный механик Валера. Он никогда не произносил матерных слов – что само по себе удивительно в среде людей, имеющих дело с механизмами, – зато всегда имел в запасе бесчисленное количество двусмысленных выражений и оборотов с разной степенью эмоциональной окраски. И в данном случае не имело значения, кто такая эта загадочная Ёшка и что у нее за кот. Пар спущен, эмоциональный баланс восстановлен.
Но проблемы это не снимало. Машины все же нужно определить на ночевку. Ни один служащий гостиницы не нашелся, чем помочь команде. Машины перегородили улицу, благо, была суббота, и обычный для этого времени дня трафик уже схлынул. Лишь только продавец из соседней с гостиницей лавки спокойно улыбнулся и на ломаном английском посоветовал поставить машины на обычную стоянку. «Прямо, – уно, дос, трес, – три квартала, потом курва, а ла деречо, направо, и сразу паркинг. Вы увидите».
– А «курва» это кто? – спросил Валерий.
– Не «кто», а «что», – уточнил пилот. – «Курва» – это поворот по-испански.
Валерий скептически покачал головой, уловив среди множества испанских слов, произнесенных торговцем, выражение «курва эс проебида».
И все же они смотрелись красиво, эти разноцветные машины, когда стояли рядом друг с дружкой на стоянке. Сине-белый «пресс-кар», оклеенный логотипами телеканалов и радиостанций, черный пикап «Л200», щедро предоставивший свои бока для названий всевозможных нефтяных компаний, и, конечно, оранжевый «болид», который вся команда дружно прозвала БМП – боевой машиной победы. Мощные, уверенные, раскрашенные в цвета спонсоров, они заставляли собой любоваться, приковывая взгляд. У гонщиков значительно поднялось настроение.
– А не пойти ли нам выпить… – предложил Валера, но тут же осекся, – …кофе?
В команде действовал сухой закон. Cоблюдать безалкогольный режим согласились даже механики, правда, с большой неохотой.
Кафе нашлось рядом со стоянкой, по дороге в гостиницу. Собственно, это было не кафе, а так, металлические столики на плитах тротуара. Они неловко жались к стене здания, оставляя пешеходам едва ли половину узкого тротуара.
Несмотря на то что прохожие своими темпераментными движениями едва не выбивали чашки с кофе из рук у гонщиков, настроение у тех было в полном порядке. Машины пристроены, кофе хорош на вкус, город весел и слегка беспечен. Любой человек на месте этой команды почувствовал бы прилив оптимизма.
– Как называется этот сорт кофе? – спросил Вадим официанта, потягивая коричневую жидкость.
– Пайтити, – бросил тот, пробегая мимо с подносом, на котором едва держался очередной заказ.
«Забавное название», – подумал гонщик и тут же забыл его.
Через полчаса, невзирая на кофеин, он уже спал, посапывая, на мягкой белой постели.
Dos. El juego con las piedras
В ту ночь Чинча остался в Куско. Он очень устал за время своего путешествия от Мачу-Пикчу до столицы Тавантинсуйу, и, хотя дела требовали его присутствия в горной цитадели, он решил не торопиться. Нужно было отдохнуть и, конечно, нужно было подумать над словами Вильяк Умы, произнесенными в золотом саду. Что он имел в виду, когда говорил о том, что от Тавантинсуйу ничего не останется? Когда Империя Четырех Сторон покоряла земли на севере и на востоке, то побежденные и победители делились друг с другом всем тем, что умели делать. Так создавался великий народ империи, и каждая отдельная часть этого народа всегда помнила о своих предках и о своих знаниях. Главное, чтобы новые провинции приняли закон Великого Инки, а он был очень прост: «Не лги, не ленись, не воруй». К этим трем столпам порядка часто прибавляли и четвертый «Не убий», но соблюдать это правило было сложно, особенно на войне. Хотя, размышлял Чинча, если разобраться, все наши войны были уж если не совсем бескровными, то, в крайнем случае, такими, в которых победа доставалась малой кровью. И все больше убеждением. Так размышлял Чинча, пытаясь в логику своих мыслей втиснуть факты истории Тавантинсуйу. Это не совсем получалось, потому что всякий раз ему мерещились казненные вельможи царства Кито, которое так не хотело становиться частью Северной Провинции. Чинча не мог заснуть. Через открытую дверь гостевой комнаты в храме ветер доносил обрывки разговора с улицы. Молодой паренек говорил с девушкой. Он рассказывал ей, что ее красоту ни с чем не сравнить, и что он готов говорить об этом всю оставшуюся жизнь. А девушка ему на это отвечала, что лучше бы ее кавалер вместо разговоров научился хорошо вскапывать землю, тогда бы и урожай был больше, а богатый урожай, как известно, всегда лучше слов, хотя и таких красивых, как эти, которые от него она только что услышала.
Все в Куско было, как всегда. О том, что придется отдать золотой сад людям с востока, никто, похоже, не сожалел. В конце концов, золото можно еще раз превратить в деревья. В Тавантинсуйу было достаточно искусных мастеров, которые могут сделать это. Отличных мастеров, особенно из царства Кито, которое, хотя и не хотело быть под рукой Инки, но вошло в его пределы.
Чинча встал с деревянной скамьи и, постояв минуту перед полуоткрытой дверью, толкнул ее вперед. Он захотел рассмотреть эту молодую пару, которой не спалось среди обычного ночного безмолвия Куско. Но когда строитель толкнул вперед дверь, то на улице уже никого не было. В городе было тихо, и Чинче на мгновение показалось, что этот уличный разговор – плод его воображения или задумчивой полудремы.
Атауальпа, 14-й Великий Инка (правитель) Тавантинсуйу. Взят в плен отрядом Франсиско Писарро 15 ноября 1532 года в битве при Кахамарка, а 26 июля 1533 года казнен. Не был законным правителем, поскольку отобрал трон у брата Уаскара и приказал умертвить его
Возвращаться в постель не хотелось. Чинча не торопясь пошел вниз по каменной мостовой по направлению к центральной площади. Было прохладно, пожалуй, даже холодно. Строитель поежился, но все же решил не возвращаться за шерстяной накидкой. Площадь была почти рядом.
Ночная прогулка имела свою цель, хотя и довольно странную. У архитектора была своя тайная традиция, на первый взгляд, всякий раз, пребывая в Куско, выходить на площадь и любоваться особой каменной кладкой. Стены домов на площади были сложены из огромных валунов совершенно разнообразной формы. Казалось бы, повторить изгиб каменных линий невозможно. Но те, кто строил дома в Куско, сумели подобрать камни таким образом, что стык был просто идеален. Камни, которые в природе хаотично лежат на поверхности земли, здесь формируют идеальное сочетание друг с другом и с остальной архитектурой.
Положи ладонь на камень, говорил себе Чинча, и проведи по серой шероховатой поверхности стены. Ощути плотность подгонки камней и намеренно изощренный ломаный рисунок соединений. Пойми, для чего это сделано. Впрочем, Чинча и так знал принципы крепления гигантских глыб, из которых был сложен город. Блоки с такой силой давили друг на друга, что в щели между ними не могло бы войти даже острие копья. Неправильный, казалось бы, порядок соединения позволял камням держаться друг за друга даже в случае землетрясений. Говорят, в древности, еще до того, как предки народа Тавантинсуйу вышли из озера Титикака, тут бывало так, что земля тряслась с огромной силой, сбрасывая с себя могучие горы. Но сейчас горы не собирались падать, между тем, настроение у Чинчи было такое, что впервые за все время ему не хотелось ничего делать. И только размышлять о будущем. И будущее надвигалось на Куско вместе с необычными людьми. Они оказались сильнее. А почему, думал Чинча? И размышляя, приходил к выводу: сила этих странных людей заключалась лишь в том, что они не соблюдали ни одного из простых законов Тавантинсуйу. Ни одного. Поэтому огромное войско Инки не могло ничего поделать с горсткой жестоких существ, не признающих никаких правил. Строитель отчетливо понял – Ума прав. Люди Солнца хотят взять все.
«Почему они не такие, как мы? – спрашивал себя Чинча. Из зерна первого вопроса логично пробился росток второго: – А почему мы должны были ждать от них похожести на нас?»
Он никогда не видел людей Солнца, но внимательно прислушивался к рассказам о них. Из разных слухов, обрывков разговоров и разрозненных описаний строитель составил общее представление о том, как выглядят эти люди. И хотя он догадывался, что реальность отличается от представлений о ней, Чинча предпочитал опираться на собственную фантазию, поскольку больше не на что было опираться. Он нафантазировал себе высоких воинов с крупными чертами лица, одетых в блестящие доспехи и шлемы. Солнце отражается в нагрудных пластинах и на гребнях шлемов. Они отбрасывают солнечный блеск прямо в глаза врагов, тем самым помогая воинам побеждать. Этих людей немного, но они невероятно сильные и могущественные, обладающие необычным оружием. Бесстрашные.
Только бесстрашные могут отважиться пройти небольшой группой огромные расстояния во враждебном окружении. И они не остановятся ни перед чем. У них не существует морали, обязательств и страха. Если и было все это в их прошлом, то, вероятно, люди Солнца с легкостью это отбросили. И пошли вперед. И они готовы пойти еще дальше ради достижения своих целей.
«Может быть, мы живем неправильно? – размышлял Чинча, а его рука, словно произвольно, гладила камни. – Мы живем, подчиняясь простому закону «Ама льюйя, ама сува, амa кейя» – Не воруй, не лги, не ленись. Может, все наши простые законы ни к чему, и жить надо еще проще, совсем без законов?
Мы с нашей великолепно организованной армией и грандиозными победами в прошлом проигрываем кучке людей в блестящих шлемах на головах и с приспособлениями, которые убивают трусливо, на расстоянии. Может быть, это они устроили свою жизнь правильно, а мы – нет, может быть, судьба нас столкнула с ними, чтобы уничтожить в нас гордыню?»
Размышления Чинчи не имели ни смысла, ни цели. Рассуждать в том же духе можно было бесконечно, но архитектор предпочитал не тратить времени впустую. Он решил, что время возвращаться в гостевую комнату, потому что дверь оставил открытой. Нет, он не боялся воров. В Куско вообще не воровали и даже не знали, что такое замок и ключ. Строитель беспокоился, что очаг потухнет, и в комнате моментально станет прохладно, а ему после неожиданной прогулки без накидки нужно будет согреться.
Чинча развернулся и двинулся в сторону от дворцовой стены. Луна в небе светила так ярко, что затмевала звезды, но зато на земле было все видно почти как днем. Не успел архитектор сделать и несколько шагов, как посреди площади увидел неподвижно сидящего человека. «Странно, как я его не заметил по дороге сюда», – удивился строитель. Впрочем, фигура на площади была не так уж неподвижна. Человек сидел на камне и глядел куда-то вниз, туда, где были ступни его ног. На плече у него лежало тяжелое копье, и человек время от времени поправлял его, видимо, для того, чтобы переложить немного удобнее. Это был охранник из дворца. Охранять было некого. Вот уже несколько дней, как Атауальпа вместе со своими телохранителями находился в плену у людей Солнца. Вильяк Ума намекнул, что за свободу Великого Инки враги просят большой выкуп. Двор Инки пребывал в панике, но тихой, скорее, похожей на оцепенение, чем на буйное безумство страха. Ума был единственным из тех немногих вершителей судьбы Империи Четырех Сторон, кто сумел сохранить разумное спокойствие. Оценив ситуацию, Верховный жрец распустил большую часть дворцовой охраны за неимением человека, нуждавшегося в ней, и оставил не более десяти воинов. На всякий случай. Грабежей во дворце Вильяк Ума не боялся. Люди в Куско не тронули бы даже все сокровища мира, если бы знали, что они принадлежат другим.
Этот охранник посреди площади, очевидно, был одним из тех десяти или двенадцати воинов, которых оставили во дворце. Но почему он не на своем месте? Чинча подошел поближе. Человек с копьем на плече сидел на краю большого валуна, обтесанного и подготовленного для того, чтобы установить его в одной из стен дворца. Перед охранником на песке лежали несколько небольших круглых камешков примерно одного размера. Воин глядел на них, потом целился и, взвесив на ладони такие же камни, бросал их навесом в лежащих у ног собратьев. Они падали на песок и, несколько раз перевернувшись, останавливались, ударившись о цель. Похоже, вооруженный человек играл, и эта игра всецело занимала его. Взгляд охранника был напряжен, копье на плече только мешало, левая рука шевелила пальцами, напряженно перекатывая готовые к метанию снаряды, а потом перекладывала их в правую. Когда камешек проходил мимо цели, воин ничем не выказывал свою досаду, а когда попадал, напряженное выражение на его лице не сменялось радостной мимикой триумфа. Казалось, он был вполне доволен самим процессом игры, и только ему одному был понятен ее смысл.
Иногда траектория движения камней была довольно причудливой, и Чинча мог сделать вывод, что чем более круглыми были бока снаряда, тем точнее он попадал в цель. Растратив все камни, воин, не торопясь, поднимался с места, подбирал их, оставляя лишь некоторые лежать на земле, а потом снова усаживался на край валуна и принимался за свое, казалось бы, бесцельное занятие.
Чинча тихо подошел еще ближе. Но остаться незамеченным ему не удалось.
– Интересно у меня получается, – сказал охранник Чинче таким тоном, будто бы продолжал прерванный разговор. – Если камни сталкиваются, тот, который я бросаю, останавливается. А тот, о который мой камень ударяется, начинает катиться.
– И что тут интересного? – спросил Чинча.
– Интересно то, что чем сильнее я бросаю первый камень, тем дальше катится второй. Но как бы сильно и далеко я его не бросал, первый в любом случае останавливается, – пояснил воин.
– И так всякий раз без исключений?
– Похоже, что так.
– Ану-ка, дай попробую, – Чинча уселся на каменное сиденье рядом с охранником. Тот протянул ему горсть мелких камней.
Строитель взвесил снаряды в ладони. Они приятно чиркнули друг о друга, словно отозвались. Чинча точно так же, как и воин, с которым он говорил, переложил камни из левой руки в правую, а потом с легкостью, навесом, бросил свой снаряд в сторону уже лежавших на земле. Первый камень, подкатившись ко второму, сталкивал его и словно становился на его место. Сначала Чинча подкатывал камни легко и аккуратно, потом все сильнее и сильнее. И ничего не менялось. Один сбивал другой и оставался лежать примерно в точке соприкосновения.
– Никогда не замечал подобного, – удивился Чинча вслух.
– Мы вообще многого не замечаем, – саркастически заметил воин. Непонятно было только, кому он адресовал свой сарказм.
– Ты о чем, солдат? – немного высокомерно спросил Чинча.
– Да так, ни о чем, – с вызовом ответил воин, смерив архитектора взглядом с ног до головы. Потом замолчал ненадолго и сказал:
– У нас все так. Мы разучились думать. Живем по правилам, установленным сотни лет назад. Неизвестно кем и неизвестно когда. Делаем то, что предписано. А почему так поступаем, непонятно. И если закон не может объяснить те удивительные вещи, которые происходят вокруг, то мы их не замечаем. Словно их нет. Но они ведь есть. Легче жить не думая и знать, что порядок превыше всего. А я думаю, мир больше, чем империя.
– Конечно же больше, – согласился Чинча, чтобы не разозлить солдата: все-таки у него в руках было копье.
– Я и так понимаю, что размерами он больше. Но я не о размерах. Я о том, что мы не хотим знать, насколько он велик. Вот, например, люди Солнца.
«О! – подумал Чинча. – Наконец-то ты заговорил о том, что на самом деле тебя волнует».
– Люди Солнца, – продолжал солдат. – Они нас разгромили не потому, что были сильнее нас, а потому, что знали, как играть в сражение, как нагнать на нас страх и как обвести вокруг пальца.
Чинча хмыкнул. Его раздражали люди, побеждающие других с помощью обмана.
– А ты не смейся, человек, – сощурил глаза солдат. – Они умные и знающие люди. А мы? Мы предпочитаем не замечать очевидные явления вместо того, чтобы двигаться вперед.
И воин сплюнул, а потом снова запустил шар. Он покатился, ударив своего более массивного товарища, и занял его место. «Это нужно использовать», – задумался строитель. Твердый шар стал центром мира. На одно бесконечно долгое мгновение.
А потом, разобравшись в своих чувствах, Чинча вдруг обнаружил, что солдат его раздражает своими рассуждениями. «У каждого свое место, у каждого свой цвет накидки, каждый подчиняется порядку и тем, кто его олицетворяет», – говорил Чинча сам себе. Другая половина его сознания робко спорила с этим, напоминая строителю, что сам он низкого рода, а ведь пробился же наверх, – ну, не на самый, конечно, а так, подобрался к вершине, – и вот сегодня его принимал сам Великий Ума в священном храме под сенью золотых деревьев. Строитель хотел было одним произнесенным словом поставить много воображавшего о себе воина на место, но осекся. Почувствовал, видно, что не то наступило время в Тавантинсуйу, чтобы напоминать друг другу о незыблемой иерархической пирамиде. К тому же она оказалась не такой уж и незыблемой, если простой копьеносец может поносить империю на центральной площади Куско. И он, Чинча, тоже хорош. Заявил под сенью золотых деревьев (впрочем, сень деревьев уже появлялась в мыслях строителя), что природа устроена совсем не так, как думали Великие Инки, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Так что же, архитекторам можно сомневаться и делать открытия, а солдатам нельзя? Да, нельзя, спорил Чинча сам с собой, и однажды все вернется на свои места. А значит, я сделаю это.
– Встать, – произнес Чинча вполголоса.
Мачу-Пикчу, затерянный город инков, был обнаружен в 1911 году археологом Хирамом Бингхемом. Настоящее его название неизвестно. Мачу-Пикчу (то есть Старая вершина на кечуа) – это название горы, под которой и стоят эти удивительные строения. По их архитектуре можно понять, каков был первозданный вид зданий в столице империи Куско
Солдат поморщился от непонимания. Послышалось, что ли?
– Встать! – сказал архитектор тверже.
На этот раз воин встал. Но не для того, чтобы выполнить унизительный приказ. Его ладонь сомкнулась на копье. Одним резким движением солдат рванул оружие на себя и направил его на этого наглого прохожего. Чинча сделал ответное движение, и в руке у него оказалось – нет, не копье, и даже не нож. Из-за перевязи, которая сжимала легкую накидку на поясе, Чинча достал нечто, что произвело на солдата гораздо большее впечатление, чем любое оружие. Увидев этот предмет в руках Чинчи, воин бросил копье и упал на колени, закрыв ладонями лицо.
– Я же приказал тебе встать, а не падать, – почти примирительно промолвил архитектор.
Солдат убрал ладони от лица и испуганно переводил взгляд то вниз, то вверх. Вот оно, лицо прохожего, а вот и то, что у него в руке. Но так быть не должно. Или это знак меняющихся времен? Предмет в руке у Чинчи, словно каменный шар, нанес удар по сознанию слишком мудрого солдата, и он в одночасье отупел. Не иначе.
– Встань, – начал злиться Чинча.
Воин встал.
– Возьми в руки копье.
Солдат выполнил приказание.
– А теперь идем со мной. Ты нужен Тавантинсуйу. И ты нужен мне.
В самом центре огромной площади остались причудливые узоры траекторий, сплетенные каменными шарами на вулканическом песке.
Пять. Любимый город
«Буэнос-Айрес – это лучший город на земле. Впрочем, так говорить некорректно. У каждого человека есть своя урбанистическая любовь. Кто-то любит Нью-Йорк. Его бешеный темп и страстный пульс деловой жизни. Я, например, его не очень люблю. Среди его параллелей и перпендикуляров чувствуешь себя, словно муравей, заблудившийся в электронной плате какого-то очень мощного гигантского компьютера. Эффект усиливается, когда поднимаешь голову вверх и видишь бесконечные этажи одинаковых – так кажется оттуда, где стоит наблюдатель, – строений. Но это дело вкуса. Один мой приятель, например, утверждает, что, покурив гашиш на закате, можно наблюдать, как солнце теряется в гигантских зданиях и открывает истинное устройство мира, но я думаю, в его случае давно и явно зависимого от травы человека совсем необязательно для этого отправляться в Город Большого Яблока.
Некоторые любят Париж. Я говорю не о снобах, слишком часто вставляющих к месту и не к месту нечто вроде «Вот я однажды в Париже…» и рассказывающих далее о том, насколько велики цены и насколько малы порции в парижских ресторанах (как будто бы в других мировых столицах все наоборот). А кроме Буэнос-Айреса я люблю еще и Киев. На мой взгляд, самый демократичный город, обнимающий своими зелено-мохнатыми днепровскими берегами любого, кто хочет предложить ему еще один роман с вновь прибывшим завоевателем места под солнцем».
Вот что думал Вадим, прислушиваясь к бессоннице большого города. Потом открыл толстый еженедельник, в который заносил свои мысли и наблюдения, и написал:
«Вспомнил – есть все же на нашей планете город с маленькими ценами и большими порциями! Называется он Буэнос-Айрес».
Вадим очень любил Буэнос-Айрес, но, конечно, не за ресторанные меню. И не за пары, танцующие танго в разноцветном квартале Ла Бока, причем, зачастую лучше, чем в Театро Танго, в самом центре столицы, на Авениде Девятого Июля. Любовь Вадима объяснялась весьма прозаически. По его мнению, площадь Конституции была идеальным местом для старта гонки. Здесь удобно размещался подиум, который был виден всем желающим без исключения и с любой точки шумных окрестностей. Удобный подъезд к подиуму, широкий разбег и прыжок с подскоком, как на трамплине. А потом приземление на крепком асфальте магистрали. Колонна в центре площади это неплохой ориентир. Водители, в ожидании въезда на подиум, могут хорошо рассмотреть ее издалека. Это важно, потому что очередь из пятисот машин растягивается почти до улицы Освободителя. Так здесь величают генерала Сан-Мартина, выбившего испанцев из Аргентины, ведь, как известно, в Латинской Америке у каждой себя уважающей страны должен быть свой Либертадор, на том и держится национальная гордость всех латиноамериканцев вообще. Это забавно, трогательно и любопытно.
А еще в Буэнос-Айресе есть памятник Хуану Мануэлю Фанхио, человеку, который четыре раза (так и хочется сказать «подряд»!) выиграл Формулу-1. Было это в пятидесятые годы, и аргентинского гонщика воплотили в бронзе вместе с его антикварной, по нынешним меркам, машиной. Легенда автоспорта стоит возле своего болида, поставив ногу на победоносный агрегат. Бронзовые волосы словно разметал атлантический ветер, а свой шлем гонщик держит под мышкой. Он изображен в полный рост, и это обстоятельство подстегнуло Вадима слегка пошутить. Гуляя накануне старта со своей командой возле старых доков, он подошел к победителю Формулы-1 и накинул ему на плечи свою куртку с отличительными знаками команды. Потом в дело пошла кепка. Она налезла с трудом, а вот куртка оказалась чуть широка в плечах. Валера, главный механик команды, бросился было фотографироваться с бронзовым гонщиком, для чего достал из сумки припасенную заранее бутылку шампанского, на случай победы в гонке. Радость великовозрастных хулиганов была прервана полицейским нарядом, который вежливо, но настойчиво предложил гонщикам спрятать алкоголь, снять тряпки, да и вообще убираться отсюда подальше. Валера уже готов был вступить в конфликт со служителями аргентинского закона, но Вадим, остановив его, примирительно улыбнулся. «Эсто бьен, тьененте», – сказал он полицейскому, который, очевидно, вел себя увереннее остальных двух, а значит, был главнее. Вадим же, назвав его «тьененте», повысил обычного патрульного до офицерского звания, чем явно потешил профессиональное тщеславие.
Все здесь необычно, но к странностям Буэнос-Айреса очень быстро привыкаешь. Вот, например, канун Нового года. Это нечто совершенно невообразимое. Накануне праздника аргентинцы обычно хотят оставить в старом году все свои неурядицы, проблемы и, конечно, долги, поэтому счета прошедшего года нещадно кромсаются на мелкие кусочки, а затем выбрасываются прямо в окошко. Ничего, что внизу улица и на ней полно прохожих. Им на голову сыплются напоминания о необходимости заплатить за газ, угрозы отключить телефон в случае неуплаты, письменные советы электрической компании поставить новый счетчик и – о, эти сложные взаимоотношения с законом! – штрафы за парковку в неположенном месте, за перебор скорости и за отсутствие аптечки в автомобиле. Ну, а поскольку финансовые документы в Аргентине разного цвета, в зависимости от названия компании, то и снегопад, или, точнее, «бумагопад» получается разноцветным, похожим на новогоднее конфетти. Под лавиной измельченных счетов хочется веселиться, танцевать, обниматься с рядом стоящими людьми и вообще любить весь мир. И очень даже хочется, чтобы весь мир был похож на сплошной новогодний Буэнос-Айрес. Вполне достойный объект для любви.
Вадим нуждался в Нормане. Главным образом потому, что собственных знаний испанского ему хватало только на разговоры с полицейским. Но метиса до сих пор искала полиция в боливийском Санта-Крусе. Вадиму почти каждый день звонил комиссар боливийской полиции, неприятный тип с помятым лицом. И по нескольку раз в день жена Нормана. «Я обещал ему, что мы проедем по Латинской Америке вместе. И обещание не выполнил».
Шесть. Гонка начинается
Старт гонки был назначен на 1 января. Влад на пресс-каре отправился на площадь Конституции, а Вадим с Валерой и Виктором помчались в знаменитый Ля Рураль, огромный выставочный комплекс, чем-то напоминавший Выставку достижений народного хозяйства. Собственно, ею он и был. В Ля Рураль проходила ежегодная сельхозвыставка, самая большая в Латинской Америке. А с некоторых пор территорию комплекса отдавали гонщикам. Здесь проводили техосмотры машин перед стартом, здесь же было предусмотрено место для «парк ферме» – закрытой площадки, куда после контроля болидов гонщиков пускали только перед стартом.
Обычно Вадим крутился в Ля Рураль с утра до вечера. Его оранжевый аппарат быстро прошел техконтроль и, получив номер 394, занял место на закрытой площадке. Гонщик занимал себя разглядыванием чужой техники, которая выглядела иногда странно, а иногда и забавно. Блестящие капоты, казалось, скрывали под собой инопланетные технологии, хотя, конечно, бывалого автомобилиста здешние агрегаты могли удивить формой, но никак не содержанием.
– Что за машина? – кивнул Вадим китайцу, стоявшему рядом с автомобилем на невероятно высоко приподнятых рессорах.
Маршрут гонки «Дакар-2014» лишь немного отличается от вымышленного маршрута, описанного в этой книге. Это самая сложная и продолжительная гонка в мире, в которой большой удачей считается, если гонщик пройдет все этапы и сумеет, пускай и не в числе первых, но финишировать. На языке профессионалов это называется «доезжать»
– «Тойота». Была, – улыбнулся парень с красным флагом и иероглифами на куртке из жесткой кожи. Он, оказалось, вполне сносно говорил на английском. – Рессоры поднимали под песок, чтобы не забивался. Посмотрим, как дойдет.
«Посмотрим», – подумал про себя Вадим, вспомнив о том, что машины с диковинным тюнингом и странными приспособлениями выбывают, как правило, на первых этапах гонки.
– Мы в первый раз, – словно извиняясь, продолжал китаец. – На выигрыш не рассчитываем. Главное, дойти до конца гонки.
Вот так же говорил и Вадим, когда в первый раз оказался в Буэнос-Айресе. Ну, что же, однажды он дошел до конца, а теперь настал черед подумать о победе, о том, чтобы в конце пятнадцатого этапа гигантского ралли-рейда оранжевая машина смогла въехать на подиум так же легко, как она собирается стартовать с площади Конституции. Китаец отвлекся от собеседника и полез под капот.
А Вадим пошел к знакомым пилотам багги. Кивнул по дороге Робби Горовицу, расхваливавшему свой «хаммер» перед журналистами. Пожал руку Насеру аль Захери, по прозвищу Неистовый Араб. Насер, не любивший проигрывать, выжимал из машины все, до последней капли возможности. Он постоянно попадал во всевозможные истории. Терялся в пустыне. Тушил пожар в салоне. Делал сальто с полным переворотом. Но из всех своих приключений выходил сухим, словно гусь из воды. Находил колею среди феш-феша. Сбивал пламя на двигателе. Сделав полный переворот, становился на колеса и, конечно, ехал дальше. И забирал главный приз. Человек пустыни, он чувствовал песок и ехал не по правилам, установленным производителем машин, а по подсказке своей арабской интуиции. За это его не любили судьи, но любили журналисты. А хозяева команд предлагали огромные гонорары за то, чтобы Неистовый Араб пилотировал именно их автомобили. Насер из года в год появлялся на гонке с разными логотипами на форме. И пересаживался то с гоночного «туарега» на болид БМВ, то с баварского железного коня на сомнительную лошадку «мицубиси», то менял японских хозяев снова на «фольксваген-туарег». И снова ехал только вперед.
Одна машина привлекла внимание Вадима больше других. Этот автомобиль походил на болид украинца так, словно сошел с конвейера вслед за ним. Хотя какой же конвейер в ателье «Фастер»? Каждую машину парижские дизайнеры любовно собирали на стапелях в отдельном помещении, за что и брали невероятных размеров гонорары. А этот двойник явно был сделан теми же мастерами из компании «Фастер». Вадим хотел было поговорить с владельцем машины, но так и не нашел его. Автомобили можно было спутать: двойник тоже имел окрас цвета спелого апельсина.
Tres. El Comodoro y el Emperador
Странно все же, что его постоянно рисовали в шлеме и с окладистой бородой. На самом деле он не любил носить тяжелый шлем и воинам своим приказывал надевать доспехи только тогда, когда в сопровождении своего отряда отправлялся к вождям Тавантинсуйу на переговоры. Латы и шлемы всякий раз производили на них впечатление – необычным для здешних мест внешним видом, тем более, что среди аборигенов еще ходили легенды о бородатых воинах солнца, пришедших издалека, а именно с востока. Возможно, до испанцев кто-то уже побывал здесь, а возможно, это просто стечение обстоятельств. Но Франсиско не занимал себя размышлениями на этот счет. Он просто использовал сложившуюся ситуацию. Как хороший командир. И растительность на подбородке он, кстати, не запускал. На шее под курчавой бородой было слишком жарко и потно, а командир не любил, когда волосы прилипали к коже, и состригал бороду до приемлемой длины. Так же поступали и его воины, впрочем, не все, а те, кого легкость и доступность побед над многотысячным противником еще не расслабила и не развратила жадность до богатых трофеев. За трофеями охотился и сам командир, правда, его интересовали и другие диковины этой империи.
Он каждый день беседовал с Атауальпой и не переставал удивляться тому, насколько этот царь дикарей быстро учится испанскому. Франсиско предложил было Великому Инке обучаться вместе. Испанский в обмен на кечуа. Но очень быстро конкистадор понял, что уступает своему пленнику в скорости запоминания слов и предложений. Постепенно испанский становился главным инструментом их общения. Каждый вечер Писарро и Атауальпа вели долгие беседы. И день за днем все меньше и меньше им приходилось обращаться к помощи переводчика.
Однажды они сидели на каменной веранде, которую велел построить Писарро, предпочитавший открытый воздух грубым интерьерам комнат своей резиденции. Над поселением конкистадоров небо стало бронзовым, а потом серым. И внезапно его разрезала полоса холодного белого огня. Она тянулась вслед за шарообразным ядром и расширялась в хвостовой части. «Комета», – вздрогнул Писарро, выговорив про себя это ужасное слово. Испанцы, сидевшие перед резиденцией, встали, опершись на копья, и хором ахнули. Писарро остался невозмутимым. Внешне. Но его тяжелые руки задрожали. И Атауальпа заметил эту дрожь.
– Не волнуйся. Это моя комета.
Франсиско подумал, что не понял короля из-за трудностей перевода.
– Несколько лет назад мне предсказали, что я стану Великим Инкой и буду им оставаться до тех пор, пока небо не загорится.
Писарро внимательно слушал собеседника.
– И вот небо загорелось, – проговорил Атауальпа. – Все в нашем мире происходит так, как говорил мне мой отец.
Предводитель конкистадоров ничего не сказал и послал за вином часового, стоявшего невдалеке. Когда собеседникам поднесли два серебряных кубка, Атауальпа, прикрыв глаза, улыбался небу. Казалось, он погрузился в сон. Писарро не стал будить своего пленника. Комета довольно быстро удалилась с небосвода, и он снова стал походить на черное поле, усыпанное золотым звездным пшеном. Но Атауальпа не спал.
– Что там, говоришь, тебе сказал отец? – спросил его Писарро, возвращаясь к разговору.
Атауальпа смотрел не на собеседника, а на звездное небо.
– Его слова позволили вам победить меня. Вы еще верите в свое военное могущество? Меня победила не ваша сила, а его слово. Умирая, он сказал, что скоро придете вы. Это сигнал начала нашего конца.
– Откуда ему было знать? – усмехнулся конкистадор.
– Откуда? От своего отца и моего деда, Великого Инки по имени Тупак Юпанки. У меня было достаточно воинов, чтобы воевать с вами, но не хватало сил, чтобы воевать с предками.
– Так вот почему ты сдался? – улыбнулся Писарро.
Для него, бывалого и жестокого воина, слова высокопоставленного пленника звучали, как попытка оправдать собственное военное бессилие. Ведь Писарро своими глазами видел, как после редких ружейных выстрелов украшенная перьями гвардия императора рассыпалась в стороны, словно стая мокрых куриц. Правда, никуда эти коротконогие воины с трясущимися перьями сбежать не смогли. Треугольник домов на центральной площади Кахамарки поймал их в смертельную ловушку. Писарро хотел было напомнить об этом Великому Инке, но тот вдруг заговорил совсем иначе.
– Наш мир, как женщина, которая всегда повернута к тебе лицом. Ты все время видишь красоту ее лица, но не замечаешь изъяны в ее фигуре. А когда начинаешь понимать, что она далека от идеала, тогда становится поздно.
– Для чего? – спросил Франсиско, отхлебнув вина.
– Для всего, – расхохотался Атауальпа.
«Нет, он не поэт, он циник, – подумал испанец. – А циник, вооруженный талантом поэта, слишком опасный партнер». С такими друзьями и врагов не нужно. А кто сказал, что Писарро и Атауальпа были друзьями? Один был интересен другому, вот и все. Один хотел выжить, другой разбогатеть, и выпитая вместе бутылка испанского вина не являлась знаком дружбы. Хотя, безусловно, Атауальпа дразнил любопытство Писарро. Как необычный экземпляр аборигена. Не больше.
– Однажды мы запретили письменность и придумали передавать сообщения с помощью кипу, обычных узелков, – сказал Атауальпа, по-прежнему глядя в звездное небо. – Кажется, что это было глупо?
Франсиско Писарро придал своему лицу выражение безразличия, хотя сам внимательно слушал правителя, делая поправку на не совсем правильное использование испанского языка.
– По правде говоря, мы не отменили наши письмена, мы их спрятали.
– А что мне до этого? – спросил Писарро. Вопросы туземной письменности нисколько не волновали командора.
Иногда Франсиско искренне сомневался в том, стоит ли вообще вести такие долгие разговоры с Атауальпой. Но интуиция подсказывала конкистадору, что он может извлечь немалую выгоду из любых слов, произнесенных вождем.
– Богатство. Власть. Знание. Что из этого набора ты бы хотел выбрать себе? – спросил Атауальпа.
– Мне хватит всего лишь богатства, – улыбнулся завоеватель.
– Ну, что ж, тогда подари мне свободу, и я открою тебе тайну империи Тавантинсуйу, которую ты наверняка хочешь знать.
Писарро умел контролировать свои чувства, в том числе и алчность:
– Послушай, Великий Инка. Тебя будут судить жестоким и беспощадным судом, откупиться от которого невозможно.
– Я попробую, ладно? – улыбнулся император.
Cuatro. El tribunal de los extraños
Чинча очень хотел посмотреть, как люди Солнца будут судить Атауальпу. В этом, подумал архитектор, есть особая ирония неведомых сил. Мы называем Великого Инку сыном Солнца, и чужих воинов в блестящих шлемах мы тоже зовем людьми Солнца. Стилистически и логически получается, что между высшими творениями идет война, в которую вмешиваться не стоит. Но если не вмешиваться, то жизнь обычных человеческих созданий, не-солнечных, может очень круто измениться, причем, не так, как они бы сами этого хотели. Солдат, которого архитектор посвятил в план Верховного жреца, помог Чинче добраться до Кахамарки, где и содержался правитель. Путники выглядели, как обычные странники и попрошайки, такие десятками крутились возле бивуака людей Солнца. Ничем не выказывая своего особого положения, архитектор и воин дошли до небольшой постройки, в которой содержался вождь. Испанцы разрешили Атауальпе привезти в лагерь интервентов золото, и тот, позвав к себе верных людей, разослал в разные стороны наблюдателей.
Наблюдателем мог стать любой желающий. Вскоре Чинча разведал, что испанцы среди местного населения набирают группу носильщиков. Жители Кахамарки не торопились сотрудничать с людьми Солнца, и архитектор, как обычный пришлый бродяга, предложил свои услуги испанцам. А вместе с ним и солдат, который благоразумно спрятал свое копье и знаки различия под скалой, недалеко от того места, где содержался Великий Инка.
Сначала церемонию открытия судебного процесса решили проводить в закрытом помещении, испугавшись огромного количества зевак, собравшихся на центральной площади Кахамарки. Испанцы быстро сообразили, что от праведного гнева толпы их не спасет даже огнестрельное оружие. Ведь люди Солнца были в меньшинстве. Но Писарро приказал – вернее, посоветовал – судьям и корабельному капеллану, которого срочно назначили нунцием, то есть послом церкви на вновь открытых территориях, вести заседание перед зданием испанской миссии, а не в нем. В этом была доля риска. Но целиком оправданного. Никто и никогда не смог бы сказать, что Великого Инку судили нечестно. Все открыто и законно.
Атауальпа сидел на деревянном стуле с высокой спинкой и, казалось, внимательно слушал все, что говорил полноватый человек в темной мантии. С того места, где стояли архитектор и солдат, не было слышно ни слова. Чинча спросил стоявшего впереди простолюдина, не может ли тот сообщить, о чем говорят люди на помосте перед зданием. Но простолюдин не смог ничем помочь Чинче.
– Я ничего не слышу, – сказал он. – А если б даже и слышал, то что бы я мог тебе рассказать? Они же говорят на языке людей Солнца.
Прошло довольно много времени с начала суда. Участники судебного процесса и зрители, казалось, жили в разных измерениях. На помосте продолжались монотонные речи. На площади рос гул толпы. Люди устали. Часть из них покинула площадь. Правда, некоторые из них вернулись, принеся в холщовых сумках хлеб и калебасы с водой.
– Его обвиняют в убийстве брата! – сообщила вернувшимся вторая половина зрителей, которым вкратце перевел разговор судьи и Великого Инки толмач, добровольно вызвавшийся давать краткие пояснения по сути происходящего на помосте.
Вернувшиеся одобрительно вздохнули и поделились хлебом с теми, кто сообщил им эту интересную новость. А еще несколько часов спустя переводчик сообщил зрителям, что свою вину Атауальпа готов искупить золотом. И люди Солнца, мол, согласились.
Чинча вернулся в Куско, оставив своего солдата в Кахамарке наблюдать за тем, как развивается ситуация. А сам отправился в столицу. Он знал, что вскоре золотой сад начнут, дерево за деревом, переносить в резиденцию предводителя людей Солнца. Архитектор не сказал верному воину, что должен встретиться с Верховным жрецом. Он вообще не удосужился объяснить причину своего поспешного отбытия из Кахамарки. А она была, причем, весьма веская.
Как только Чинча добрался до Куско, он сразу же отправился к Вильяк Уме. Но перед входом в Золотой Храм задержался и спустился ниже, чтобы хорошо видеть всю площадь, на которой в прежние времена собирался народ, чтобы послушать Великого Инку и его, жизненно важные для Тавантинсуйу, распоряжения. Именно так, как в прежние времена. Все, что было в его стране до прихода людей в блестящих шлемах, уже никогда не повторится. Если, конечно, идея, придуманная Чинчей, не станет реальностью.
Каменный барьер, двенадцать ярусов тяжелых валунов, казался похожим на стену неприступной крепости. Это была трибуна, на которую поднимался Великий Инка, когда хотел видеть свой народ. Редкие прохожие старались проходить мимо трибуны как можно скорее, не поднимая глаз, как будто им было стыдно за то, что она пуста. Знак, прямое напоминание о том, что народ предал своего правителя. И тут Чинчу словно молнией пронзила мысль, что Великий Инка сам виноват перед своим народом. Атауальпа затеял смуту в стране. Он убил своего брата Уаскара, пусть и наполовину родного, но все же в каждом из них текла кровь создателя Империи Пачакутека. Цепочка наследственной смены власти, которая раньше мирно переходила от отца к старшему наследнику, брала начало в утробе Мамы Окльо, прародительницы всех правителей этой империи, и, видимо, закончилась в тот день, когда Атауальпа решил силой оспорить право быть первым. Он захотел власти и украл ее у брата, тем самым первым нарушив закон «Не воруй». Значит, император сам виноват в том, что огромная и мощная армия не захотела воевать за последнего из рода Инти. «Если один солдат умеет думать, – вспомнил Чинча своего товарища, оставленного в Кахамарке, – то разве этому не могут научиться остальные?»
Мысль была правильная, а значит, очень опасная. Прежде всего для самого Чинчи. Она разрушала веру архитектора в порядок. Каждый житель Тавантинсуйу был опорой этой огромной страны. Опоры теряли твердость и ломались, страна распадалась на глазах. Архитектору показалось, что ему незачем идти в Храм Солнца. Но то, что он хотел сказать Вильяк Уме, было важнее амбиций. И даже важнее веры в нерушимость того мира, в котором жил народ Империи Четырех Сторон.
– Я слушаю тебя, – сурово сказал жрец. Он встретился с архитектором в одной из боковых галерей храма, а не в золотом саду, как на это рассчитывал Чинча. «Ничего, – подумал про себя молодой человек, – я уже однажды видел сад, и мне вручили нечто гораздо более ценное, чем все золотые деревья, вместе взятые».
Повелитель храма ждал.
Чинча встал на одно колено и поцеловал ему руку. Вильяк Ума принял этот жест уважения и поклонения и не изображал из себя доброго старика, как это было во время их первой встречи.
– Я пришел поговорить о том, к чему подтолкнули меня размышления, – сказал Чинча. – Тебе это может не понравиться. Причем, настолько, что ты сочтешь меня преступником и прикажешь лишить жизни. Но я к этому готов.
– Если готов, к чему тогда это твое вступление? Говори.
– Вы хотите спасти Тавантинсуйу? – быстро заговорил архитектор. – Тогда сделайте вот что. Признайте Великого Инку вором и преступником. Откажитесь платить за него выкуп.
– Ты это всерьез, Чинча?
– Более чем. Атауальпа нарушил закон. Мы не берем ни крошки чужого добра. Он отобрал у родного брата, Уаскара, целую страну. И не смог с ней справиться. Он утратил доверие народа. Пусть не всего, пусть какой-то его части. Но именно поэтому народ не хочет воевать за своего правителя. А правитель – это свет небес, в лучах которого живет наша родина Тавантинсуйу, и он должен быть чистым, этот свет. Признайте его преступником. И назначьте на его место другого.
– Как? – только и выговорил Верховный жрец, почувствовав, что язык во рту немеет от удивления и страха перед неприкрытой правдой слов архитектора.
– От нового Инки пойдет новая династия и начнется новая история. Он поднимется на камни Кориканчи и объявит о начале нового времени. Он напомнит, что Атауальпа нарушил закон «Ама льюйя, ама сува, ама кейя». Он украл у брата власть, обманув народ, и все это Атауальпа сделал для того, чтобы проводить время в праздности, принимая ласки и утехи Дев Солнца. Разве для этого Пачамама послала нам самого первого правителя?
Вильяк Ума схватил Чинчу за плечи и долго смотрел архитектору в глаза. Очень пристально и внимательно.
– В другое время я приказал бы с тебя содрать кожу живьем. Но сейчас не совсем подходящий момент. Ты будешь жить.
Чинча поклонился. Но жрец еще не закончил свою речь.
– Ты выполнишь то, что я тебе приказал сделать, когда мы говорили в тени деревьев золотого сада.
– А если я не успею?
– Тогда дело закончат твои дети, – жрец развернулся и направился прочь от молодого человека. – Или дети твоих детей.
Чинча хотел было сказать, что в его жизни речь о семье и детях пока не идет, но промолчал и покинул галереи Кориканчи вскоре после того, как жрец скрылся в лабиринте коридоров.
Оказавшись на улице, архитектор направился к родственникам, у которых надеялся переночевать до утра. Каменные, грубо обтесанные валуны были сложены в стены без окон. Улица напоминала тоннель, в конце которого светлым пятном указывала направление центральная площадь. Чинча двинулся туда, но вдруг заметил в конце улицы три мужских силуэта. Он сделал еще три шага в сторону площади.
Силуэты стали больше. Шестое чувство подсказало Чинче, что надо развернуться и бежать в другую сторону.
Он бежал так, словно хотел обогнать ветер, и тот, рассердившись, держал его за руки, встречая Чинчу холодным дыханием темной улицы. Ноги архитектора не слушались. На мгновение ему показалось, что он видит страшный сон, ведь во сне тяжело убегать от преследователей, переставляя ватные ноги со скоростью улитки. Каменным стенам слева и справа не было конца. Они уходили вдаль и терялись в сумерках. Их серая суровость приговорила Чинчу к этому кошмарному бегу по городу, вдруг ставшему чужим. И смертельно холодным. «Нет! Не сдамся!» – думал беглец. «Нет» – любимое слово любого воина. «Нет» может означать «не знаю», «может быть», а иногда и «да», в зависимости от ситуации. Это аксиома для тех наций, которые сумели достигнуть успехов на поприще торговли. Но торговля в Империи Четырех Сторон была под запретом. Подданные Великого Инки не знали, что такое деньги, а значит, не обладали умением говорить слово «нет» с подтекстом.
Преследователи тоже говорили себе «нет», вкладывая в отрицание несколько иной смысл, нежели беглец. «Не уйдешь», – дышали они ему вслед, и Чинче казалось, что боевой клич на выдохе обжигает ему лопатки. Он прибавил ходу. Быстро! Еще быстрее! «Жизнь или смерть?» – стучала кровь в синих от напряжения венах на висках. «Жизнь!» – подсказала Чинче улица, и он увидел открытое пространство в конце серого коридора. Выскочить из него, а потом свернуть направо и скрыться в темноте прохладной ночи. До конца улицы оставалось совсем немного. Чинча, не снижая скорость, сделал шаг шире. Он представил себя горным быстрым животным, так легко и грациозно перескакивающим с камня на камень. И от этого у архитектора прибавилось сил и темпа. Он уже почти ушел от преследователей и едва коснулся рукой стены, чтобы поменять траекторию движения, свернуть направо. И тут получил мощный удар. Ему на мгновение показалось, что все двенадцать ярусов каменных блоков закачались и рухнули на него, как горный оползень. А за первым ударом последовали еще. И еще. И, не найдя в себе сил сопротивляться этой болезненной лавине, беглец позволил своему сознанию уйти в мягкое, как солома, ничто.
Cinco. Ver el Mundo
– Чинча, Чинча, строитель, ты пришел в себя?
Ему было почудилось, что голос принадлежал солдату, его товарищу по добровольной ссылке, в которую они отправились по собственной стране.
Строитель попробовал разомкнуть веки, но у него ничего не получилось. Глаза – это двери, через которые человек впускает в себя впечатления и выпускает эмоции. Но эти двери были словно заколочены. Что-то мешало Чинче взглянуть на мир. Он попытался сделать усилие над собой, но у него ничего не получилось. Веки не открывались. Сознание постепенно возвращалось к нему, растекалось водой по мышцам, наполняя сосуд его тела ощущениями. Но эти ощущения нельзя было назвать приятными. Его руки, ноги болели от ударов, мышцы непроизвольно сокращались от судороги, которая заставляла ныть и суставы. К Чинче вернулось понимание того факта, что он был захвачен врасплох и, очевидно, избит. Он застонал от нарастающей боли и попытался снова открыть глаза, теперь гораздо резче. И снова не смог. Веки отозвались целой вереницей мелких очагов боли. Не стоило обращать внимания на каждый из них по отдельности. Но вместе они представляли собой цепочку непреодолимого страдания в области глаз. И непонятнее всего был тот факт, что глаза не открывались. Чтобы облегчить боль, Чинча хотел было протереть глаза руками, но чья-то ладонь остановила порыв архитектора. Но это была не крепкая солдатская, а узкая девичья рука.
– Не пытайся открыть глаза, Чинча. У тебя ничего не получится, – нежный и в то же время низкий голос, зазвучавший в ушах у архитектора, коварным теплом соблазна уходил куда-то в подсознание. А может быть, и еще ниже. Анестезия его обертонов сняла боль. Но смысл слов, которые женщина произнесла потом, тут же вернул ее.
– Почему не получится?
– Тебе пришили веки. Верхние к нижним.
Звучало унизительно и – самое главное – непонятно.
– Они хотели, чтобы ты навсегда забыл то, что видел. Они и уши хотели тебе запечатать. И рот.
– Зачем? – искренне удивился Чинча.
– За то, что ты слышал запрещенные вещи. И говорил слова, которые тебе не подобает произносить.
Архитектор вслушивался в речь собеседницы.
– Но при чем тут мои глаза?
– Честно говоря, не знаю, – сказала обладательница красивого голоса. – Думаю, они хотели, чтобы ты превратился в ходячее растение.
И девушка, упредив вопрос Чинчи, стала рассказывать историю о том, что в древности существовало такое диковинное наказание: человека лишали всех основных чувств, и он, потеряв связь с внешним миром, медленно и мучительно сходил с ума. Обычно, в дополнение к зашитым ушам, рту и векам, жертве обрубали кисти рук и останавливали потерю крови. А затем человека прогоняли прочь. Чинча мысленно содрогнулся, представив себе, что могло бы с ним случиться, если бы не чудесная спасительница.
– Подожди, я попытаюсь обрезать нитки, – сказала она.
Тонкое лезвие неприятно и опасно коснулось его век. Кожа больно натягивалась всякий раз перед тем, как обрывался плотный шов. После каждого движения ножа Чинча морщился и стонал. А девушка лишь посмеивалась.
– Не открывай сразу глаза, – сказала она, закончив работу.
– А то ослепну от твоей красоты? – пошутил Чинча.
– Вовсе не от нее, – получил он ответ, который можно было бы счесть нескромным.
Он поднял веки, и тут же зажмурил их, получив световой удар невероятной силы. Он снова попытался открыть глаза, теперь уже медленно и осторожно, и тут заметил то, что действительно слепило глаза. Перед ним была отполированная до зеркального блеска огромная золотая плита. Она стояла посередине круглой комнаты со сферическим потолком, в центре которого виднелось отверстие. Через него бил солнечный луч, попадая на поверхность плиты, чтобы, отразившись от нее, атаковать зрачки архитектора. А по дороге оставить нервный блик на золотом ноже с мелкими фигурками животных вдоль острого лезвия, застывшем в руках девушки. Она действительно была очень красивой. Что не мог не отметить даже слегка ослепший глаз молодого строителя.
Чинча словно оцепенел. Но не от девичьей красоты, а от того, что он увидел на поверхности золотой плиты. Плита была довольно внушительных размеров. Если бы ее можно было поставить рядом со стенами улиц Куско, которые, и это всем известно, сложены из гигантских валунов, то она наверняка достигала бы верхнего ряда камней. По форме плита напоминала боевой щит воина, отполированный до зеркального блеска. Хотя смотреться в него было бессмысленно, поскольку солнечный свет, отраженный в золоте, больно бил в глаза. Глядеть на золотое зеркало можно было только под углом, и Чинча довольно быстро нашел удобную точку, как только девушка позволила ему встать. Именно так он разглядел на гладком отполированном золоте небольшие неровности. Барельефы, изображавшие солнце, землю и людей. Это была группа миниатюр, и каждая из них определенно несла какой-то смысл. Вот солнце, у самого верхнего края золотого щита. Оно разбрасывает во все стороны лучи, словно стрелы разной длины. Несколько острых наконечников нацелены на неровную волнистую линию, протянувшуюся слева направо через всю поверхность золотой плиты. Очевидно, это вода. Скорее всего, линия символизирует великое озеро Титикака, из которого вышли на берег прародительница всех жителей империи Мама Окльо и ее супруг, первый Великий Инка по имени Манко Капак. А вот они снова вдвоем, священные супруги, засевают зернами кукурузы благодатные поля, и ростки, поднимаясь все выше и выше, радуют великий народ. Воины и земледельцы идут вперед и раздают свои знания другим людям. Две тонкие фигуры обнимают друг друга. И это явно обычные люди. Не правители. Мужчина и женщина.
И еще что-то заметил Чинча на золотом поле гигантского щита. Две спирали. Они сплетались друг с другом, переползая, словно гусеницы, с левого нижнего края на правый. В некоторых местах тела гусениц пережимали искусно выполненные узелки, превращавшие линии в кипу, узелковое письмо. Смысл золотого сообщения мог осилить только опытный кипукамайок, чтец посланий. Чинча тоже умел читать узелки, но вдумываться в смысл написанного не было особого желания. Когда Чинча подошел еще поближе к щиту, он заметил, что линии, свивающиеся в спирали, составлены из мелких рисунков. Это были животные, почти такие же, как на ноже в руках у девушки. Но какие же странные это были животные. Похожие на зубастых крокодилов, но с длинными шеями и такими же длинными хвостами. Их горбатые спины были увенчаны настоящими заборами зубчатых пластин, а четырехпалые лапы оснащены перепонками, как у гигантских жаб, обитающих в священном озере Титикака. Животные держали друг друга за хвосты зубами, и как только Чинча шагнул назад, снова сработал визуальный эффект: вереница зверей превратилась в нить спирали. Рука девушки легла на плечо строителя. Его взгляд задержался на фигурах двух влюбленных, прежде чем Чинча обернулся.
– Отверстие в потолке, свет, золото, – сказал он задумчиво. – Это ведь все не случайно?
– Конечно, нет. Так было задумано, – улыбнулась его спасительница. Хотя почему нужно думать, что именно она его спасла? Она сумела открыть ему глаза, не больше. Вряд ли такая хрупкая девушка могла бы справиться с его мрачными преследователями. Надо будет все у нее выяснить.
– То, что я здесь вижу, далеко от совершенства. Нет ощущения того, что свет солнца это золото.
– Ну, не все то золото, что блестит, – улыбнулась девушка. – Этот тайник построил мой отец.
– Так это тайник, а не храм? – удивился Чинча.
Он снова окинул придирчивым взглядом помещение, в котором находился. Довольно просторное, оно действительно напоминало храм, по крайней мере, своим интерьером. Полусферическая комната, с отверстием в потолке, резные изображения людей и животных на стенах. И, конечно, золотой щит посередине.
– Так, так, так, – бормотал архитектор, продолжая осмотр.
Золотая плита с символами Матери Земли и произошедших от нее народов Империи Четырех Провинций. Хранится в музее при соборе Санто Доминго в Куско
– Тебя что-то удивляет? – спросила девушка.
– Многое, – сказал Чинча после недолгого раздумья.
– Тогда задавай вопросы.
Вопросов действительно было великое множество. Чинча начал с профессиональных.
– Скажи мне, как твой отец мог построить полусферический потолок без единой колонны, которая его поддерживает. Каменный потолок таких размеров неминуемо должен был бы рухнуть под собственным весом. А он, я вижу, опирается на несущие стены и не падает.
– Этот потолок не каменный.
– То есть как?
Чинча решил про себя ничему не удивляться, но тут же ему пришлось отказаться от собственного решения. Особенно после того, что рассказала девушка. Это было куда интереснее золотой плиты, отполированной до блеска. Сияние гения мастера, придумавшего это здание, затмевало блеск золота. Человек, заставивший потолок висеть в пространстве, придумал новый строительный материал. Для его производства нужна была известь, вода, мелкие камни и еще много всяких элементов, впрочем, не столь уж и важных. Как понял молодой строитель, все это смешивалось и превращалось в вязкую массу. Когда она высыхала, то становилась прочнее самого прочного камня. Важно было вовремя придать ей нужную форму, пока она еще влажная. Для этого использовались деревянные конструкции, с помощью которых масса, начинавшая густеть, поднималась на нужную высоту, то есть туда, где, собственно, сейчас можно было видеть потолок.
– У моего отца, который придумал, как строить такие здания, было немало секретов, – продолжала девушка слегка возбужденным голосом. Было понятно, что она гордится и отцом, и его постройкой. – Например, как придать этому новому стройматериалу необходимую форму. И отец блестяще решил эту задачу, расположив по всей форме купола специальные тонкие балки. Их не видно, строительный материал их скрыл под собой. Но они внутри, и, поверь, именно на них держится вся эта мощная конструкция. Гениально?
– Да, – восторженно согласился Чинча.
Восхищение и зависть – вот что он чувствовал, глядя на потолок. И тут же нашел, чем потешить собственное тщеславие.
– Я это сделал лучше, – он указал на отверстие, через которое в помещение попадал свет.
– Интересно, – сказала девушка, чуть наклонив голову влево. Словно пытаясь взглянуть на своего спасенного гостя под другим углом. Иначе.
– Смотри, – объяснял ей Чинча спокойным голосом, а внутри дрожал еще больше, чем тогда, когда рассказывал суть своего открытия Вильяк Уме. – Здесь свет льется равномерно, чтобы полностью заливать этот золотой щит. Если его сделать в несколько раз меньше, то можно добиться эффекта золотого дождя. Два раз в год, в дни равноденствия, солнце будет проходить над этим отверстием, и в течение нескольких часов у тех, кто находится внутри помещения, перед глазами будет литься золото.
– Ты откуда знаешь? – спросила удивленная спасительница.
– Я нашел эту точку золота. Я превзошел создателя этого здания.
Тщеславие настолько распирало Чинчу, что, казалось, он на мгновение прибавил в росте. В глазах девушки, конечно. Обычно людей из глубинки отличает сострадание и отзывчивость. Они бывают верными друзьями и великодушными врагами. Они не ведают страха и упрека. Единственный грех, с которым испокон веков неспособны совладать провинциалы, это тщеславие. Маленький червячок гордыни может в кратчайший срок превратиться в гигантского питона, если кормить его осознанием собственной важности, гениальности и благородства.
Но девушка сумела вовремя остановить рост этого ненасытного хищника:
– И кого же твой золотой дождь сумел сделать лучше или счастливее?
Чинча подумал.
– В общем-то, никого, – широко, искренне улыбнулся он. «Это самая добрая и открытая улыбка, которую я видела», – решила про себя девушка.
Чинча вспомнил, как Вильяк Ума равнодушно воспринял сообщение о столь уникальном архитектурном нововведении, которое представляла собой точка золота, и тут же вернул своей гордыне прежний рост и размер.
– И ты знаешь, что я думаю? – заговорил архитектор, словно размышляя. – Здесь вообще не нужна точка золота. Зачем – если свет падает на настоящий металл.
– Я Окльо, – представилась наконец девушка. – Мой отец очень хотел, чтобы меня звали так, как называли первую царицу.
– А где твой отец? Я хочу увидеть создателя этого великолепия.
– Его убили. И съели.
Это было нечто невероятно страшное, похожее на те истории, которыми пугают детей, чтобы не гуляли по вечерам. И вместе с тем, – почувствовал Чинча, – это было правдой.
Когда золотой свет в отверстии над плитой покраснел, а затем и вовсе исчез, Окльо достала два камешка, ударила одним о другой и высекла искру. Раскаленная частица камня попала на паклю, и через минуту на полированном золоте играли друг с другом беспечные отражения горящего факела. К этому времени Чинча узнал многое.
Семь. Становится больно
Вадим мог только догадываться о том, что же произошло на трассе. Как только его внедорожник под крики ликующей толпы покинул пределы Буэнос-Айреса, все мысли гонщика были заняты только трассой. Когда едешь за рулем, то кажется, что вся восторженная толпа приветствует тебя одного. Хотя следует сказать, аргентинцы с одинаковым воодушевлением подогревали самолюбие любого, кто был за рулем разноцветного, как палитра начинающего художника, автомобиля. А таких экипажей, как известно, в самом свободном городе двух Америк сейчас было не меньше пятисот, включая и вспомогательные, ласково прозванные «техничками». Десять минут езды через ликующий людской коридор действуют на водителя, как чрезмерно горячий душ: сначала иллюзия холода, потом обжигающая боль, а за ней наконец полное привыкание. Как только уши Вадима отключились от рева толпы, его глаза сосредоточились только на дороге и на приборах. Он и не заметил, как съехал с асфальта и оказался на стартовой позиции спецучастка. Одного из двенадцати отрезков бездорожья, которые предстояло преодолеть. «Пять, четыре, три, два, один», – пальцы комиссара отсчитывали секунды. «Пошел!» – широкий жест руки открыл внедорожнику путь к победе. Или же к бесславию, кто знает?
Он не видел ни глубины каньонов, ни песчаной прелести и редких холмов бесконечной пампы. Давил на газ в исступлении человека, который понимает – победитель получает все! Но до победы было несколько тысяч километров. Поэтому Вадим просто ехал вперед. И когда доехал до финиша спецучастка, пилоту хотелось только хлебнуть холодной воды из бутылки, а не из пластиковой канистры в горячем боку автомобиля.
Доехав до лагеря, он отдал машину механикам. Ему бы хорошо выспаться на этом месте первой ночевки, но хмурые лица, с которыми встретила его команда, впустили в сознание неспокойные мысли.
– Что-то случилось? – спросил он Валерия.
– Не у нас, – ответил главный механик.
Вадим отправился в столовую. Каждый день перед ночевкой на новом месте организаторы гонки натягивали тент и расставляли столы. И всю ночь напролет приходившие с трассы гонщики могли наслаждаться блюдами латиноамериканской кухни. Вадим уселся за деревянный стол, набрав перед этим целый поднос: тушеные овощи с мелко нарезанным мясом, крупные жареные кольца желтого картофеля, гороховый суп, сок папайи и, конечно, красную плоть арбузов, обещавшую своими неровными изломами наслаждение сладостью и влагой. Но насладиться не получилось. Напротив Вадима сидел унылый гонщик. Перед ним стояла двухсотграммовая бутылка аргентинского вина, и больше ничего. Пустой поднос.
Вадим оглянулся и заметил, что люди, сидевшие в столовой, были непривычно молчаливы. Многих Вадим знал по прошлогодним гонкам. Обычно в таких походных столовых на ежедневных бивуаках стоял веселый гул разговоров. На этот раз многие из тех, кто сидел под сенью тента, старались говорить сдержанно. Или же вообще молчали.
– Что случилось? – спросил Вадим соседа по застолью.
– Есть погибшие, – кратко объяснил тот.
Вадим понимающе кивнул и снова спросил:
– Кто?
– Жозе Азеведо и Хольгер ван дер Толен.
Двойной шок. Смерть на гонке всегда чрезвычайное событие. Но, тем не менее, катастрофы гонщиков не особенно удивляли. Езда на внедорожнике сродни прогулкам по лезвию ножа: одно неосторожное движение, и приключение превращается в трагедию. За три десятка лет, которые насчитывал всемирный внедорожный марафон, на трассе погибли не меньше пятидесяти человек, причем только половина погибших участвовала в гонке. Остальные – это журналисты, техники и зрители. Игнорируя правила безопасности, они покидали зрительские секторы и, ради любопытства, делали шаг в сторону болидов, развивающих сто пятьдесят километров в час. Как известно, даже на асфальте такая скорость делает машину трудноуправляемой. А на бездорожье любая ошибка пилота превращает автомобиль в орудие убийства. Даже основатель гонки считал главной проблемой отсутствие надлежащей безопасности на трассе. И сам он погиб, совершая облет спецучастка на вертолете: винтокрылая машина попала в пылевую бурю. Тогда была самая большая жатва смерти на гонке. Шесть человек нашли свой конец в безмолвной пустыне. Но случай в аргентинской пампе был из ряда вон выходящим. Это был первый день. Первый спецучасток. И он унес жизни двух лучших гонщиков. Жозе Азеведо был опытным и, можно сказать, потомственным байкером. Его отец неоднократно выигрывал на своем мотоцикле гонки в родной Бразилии. Мотоциклисты, как известно, рискуют больше, чем пилоты внедорожников. Они менее защищены от ударов. Оседлав двухколесного зверя, они получают гораздо больше шансов вылететь из седла, чем те, кто несется на четырехколесном.
Жозе Азеведо упал со своего байка за два километра до финиша. Он получил серьезные травмы, и было решено эвакуировать его на вертолете. В случае удара, столкновения или катастрофы сигнал из поврежденной машины через спутник летит в Париж, где собирается информация о происшествиях на гонке.
В Париже оценивают степень опасности, оттуда поступает команда: куда, когда и как выдвигаться на оказание помощи. Пять вертолетов и десять карет «скорой» – все время в состоянии боеготовности. К пациенту врачи добираются очень быстро. В среднем за девятнадцать минут с момента получения сигнала. То есть это быстрее, чем «скорая помощь» в любом мегаполисе мира.
Казалось, шансы на спасение были достаточно высоки. Жозе погрузили в вертолет. Но спешить было уже некуда. У мотогонщика остановилось сердце. Как говорят, от болевого шока. В первый же день гонок – первая смерть. И – не последняя.
Не успел вертолет с телом бразильца приземлиться возле бивуака, как медики получили еще один вызов. И тогда они снова вылетели на трассу. Но, прибыв на место, врачи сразу же поняли: здесь их помощь вряд ли уже сможет понадобиться.
Трасса первого дня проходила по мягкой аргентинской пампе. И лишь последние несколько километров спецучастка узкой тропинкой карабкалась по краю естественной каменистой стены высотой тридцать метров. А внизу блестела голубая лента быстрой и мелкой реки. Пилот вертолета быстро нашел координаты места катастрофы, но лишь на втором круге заметил внизу машину. Вернее то, что от нее осталось.
«Вольво Си Зет», шведский дебютант, который должен был стать новой звездой гонки, сорвался с тропинки, сделал несколько сальто и остановился посередине реки. Машина смогла удивить лишь тем, как быстро она превратилась в расплавленный кусок металла. Как видно, лопнул бензопровод. Вспыхнул огонь, а выбраться из автомобиля, когда он горит, непросто. Гонщик, пятидесятилетний голландец Хольгер ван дер Толен, успел вытолкать из «вольво» своего штурмана. А самому пилоту не хватило лишь доли секунды. Мощный взрыв смешал его плоть со стальной плотью машины.
– Сейчас ее подтянут сюда, – сказал сосед Вадима. – Вернее то, что от нее осталось.
У Вадима замерло сердце. Так, словно, идя в кромешном мраке, ты касаешься чего-то холодного и ускользающего. А потом, испытав неописуемый страх, пульсирующим сознанием понимаешь, что всего лишь коснулся крыла летучей мыши.
Она пролетела мимо. И чиркнула крылом. Вадим прогнал ее прочь, вместе с мыслями, мешавшими ехать вперед.
Сгоревшую «вольво» подтянули к бивуаку глубокой ночью. Штурман ван дер Толена уже был здесь. С перебинтованной рукой он стоял у главных ворот бивуака, глядя на эвакуатор с грудой железа, пытавшийся заехать на территорию лагеря и не сбить рекламные флагштоки, что было довольно трудным делом.
Вадим тоже стоял рядом. Ему бы хорошо выспаться перед вторым этапом. Но сон не брал гонщика. Прогулка на свежем воздухе успокаивала нервы. Хотя, конечно, палатку, в которой был расстелен спальный мешок, нельзя назвать душным помещением.
– Невероятно… невероятно… – бормотал британец-штурман, и Вадим подумал, что это он о маневрах водителя эвакуатора. Но англичанин думал о другом. Его – и ван дер Толена – машина была в идеальном состоянии перед стартом, и вот отказали тормоза. «Ушли тормоза!» – такими были последние слова пилота, перед тем, как машина рухнула вниз. А затем, как припоминал британец, ван дер Толен успел отстегнуть ему ремень и вытолкать из машины. Спас жизнь товарища ценой своей.
Автомобиль, на котором украинский гонщик Вадим Нестерчук участвовал в гонках «Дакар» на латиноамериканском континенте
Вадим вернулся к своей палатке. Механики все еще возились с его оранжевым болидом.
– Эта французская коробка передач просто блеск! – Один из механиков вылез из-под машины. – Должно хватить до конца гонки!
После того, как докеры в порту Лима «порвали» коробку, пришлось установить запасную. А ее, по расчетам главного механика, нужно было поберечь до середины гонки. Именно тогда и начнется самый сложный этап: мягкий и коварный песок феш-феш.
– Хорошо бы, чтобы до конца гонки хватило прокладки, – усмехнулся Вадим.
– Какой прокладки? – удивился механик.
– Главной. Между рулем и водительским сиденьем.
Механик рассмеялся не сразу. Такой самоиронии он от Вадима не ожидал, особенно в час предрассветного напряжения перед стартом.
– Вадим, ты бы вздремнул, – заботливо посоветовал главный механик, обойдя машину со стороны кормы.
– Да, конечно, – бросил гонщик и полез в спальный мешок. Он услышал, как Валера обронил вслед:
– Завтра все будет хорошо.
Но хорошо на следующий день так и не стало. Гонка оказалась фатальной и для зрителей. Один аргентинец, по имени Луис Альфредо, решил понаблюдать за трассой с воздуха. У парня была лицензия гражданского пилота-любителя и четырехместная «Сессна», на которой можно было достаточно низко пройти над спецучастком. Она рухнула на землю совсем недалеко от самого опасного, а, значит, самого зрелищного отрезка дороги. Пилота спасти не удалось. В теленовостях кратко сообщили, что у него оборвало шланги подачи топлива.
Вадим на втором спецучастке показал очень неплохой результат. Он пришел к финишу двадцатым – из пятисот экипажей, а для пилота из восточноевропейской страны это было настолько хорошо, что гонщик попал в выпуск новостей. О нем, первом украинце на самой сложной гонке в мировом рейтинге, рассказали даже больше, чем о разбившемся аргентинском пилоте-любителе. Закадровый голос эмоционально, на грани крика, сообщил зрителям:
«К началу этапа пятьдесят один экипаж выбыл из гонки, а это больше десяти процентов гонщиков. Украинец сразу же взял хороший темп. Он решил ехать быстро, но не слишком. Горный ландшафт кажется живописным только с высоты птичьего полета. Через лобовое стекло очень сложно оценить риск. На крутом спуске пилот и его штурман заметили: вверх колесами лежит багги. Вокруг никакого движения».
На экране в это время показывали оранжевый автомобиль, снятый с вертолета, который следовал за гоночной машиной на большой скорости. Следующий кадр – оранжевая машина возле груды горящего металла. И крупным планом – фамилии японских гонщиков, написанные латинским шрифтом на крыле машины, причем почему-то вверх тормашками. Вот в кадре штурман. Он говорит:
«Мы подбежали к двери, дверь была закрыта. Кто-то внутри. Разбили замок, чтобы открыть дверь. Я взял одного парня, Вадим вытянул другого. И тут видим, со спуска падает кубарем еще одна машина».
Снова закадровый текст:
«Это был экипаж японцев, стартовавший как раз перед Вадимом. Вот жизненное кредо гонщика».
В телевизоре появился сам Вадим, вернее его интервью, снятое как раз перед стартом. Такие небольшие фрагменты телевизионщики записывают заранее, перед стартом, – чтобы можно было разбавлять дневник гонки или использовать при каждом удобном случае. И вот такой случай настал:
«Человек живет в оболочке комфорта. Для того чтобы получить больше, нужно отдать больше. И вот, чтобы достичь чего-то большего, нужно разорвать оболочку, пускай даже тебе это очень трудно дается. Ведь так интереснее».
Потом через паузу, без излишней скромности:
«И у меня это получается».
А потом, как-то без видимой логики и связки, показали Робби Горовица с порванным ремнем генератора в руках. Ему задали вопрос, что-то о возможности выиграть ралли-рейд. И он в свойственной ему манере ответил:
«Never say f…king “never”!»
Грубое словечко забил политкорректный телеписк.
Об этом Вадим узнал в пересказе Валерия. В то время, когда механик, сидя на месте пассажира в автомобиле технической поддержки, развлекал себя новостями, которые показывал жидкокристаллический экран, Вадим давил на педаль и глотал жаркую пыль на бездорожье.
И еще один человек внимательно следил за выпуском новостей, на расстоянии сотен километров от гонки. Прослушав информацию об упавшем самолете, он сделал несколько пометок в записной книжке. Там уже были записи о двух гонщиках, погибших на трассе накануне. Затем дождался сюжета об украинской команде. Среди складок одутловатого лица появилась улыбка. Человек закрыл записную книжку и сунул ее во внутренний карман пиджака, облегавшего круглые плечи. Ему нужно было собираться в аэропорт. Судя по билету, его самолет из Санта-Крус, Боливия, в аргентинский Буэнос-Айрес вылетал всего лишь через три часа.
Seis. El gusto de la mujer
Чинча разглядывал Окльо. Девушка спала возле золотой плиты, положив голову на согнутую руку и укрывшись расшитым покрывалом. Через отверстие в потолке падал лунный свет. Ночь была безоблачной и ясной. После долгого и тяжелого разговора ей нужно было выспаться, тем более, что им предстоял непростой путь за пределы Куско. Понимая это, Чинча не мог заснуть. Он глядел на правильные черты лица, ставшего безмятежным, как только сон сомкнул веки Окльо и разбросал длинные волосы по руке и вязаной подстилке, на которой она лежала, подтянув к животу колени.
Перед тем, как заснуть, она рассказала Чинче о том, чего он не знал, но о чем интуитивно догадывался. А результатом этих догадок был его необдуманный визит в Кориканчу, к единственному человеку в империи, которому он доверял, – к Вильяк Уме. Следы того, что было потом, теперь навсегда останутся на его изувеченных веках.
Вот что рассказала Окльо перед сном.
– Ты знаешь, что нынешняя смута, охватившая Империю Четырех Сторон, связана не с людьми Солнца. Не они стали ее причиной. Великий Инка Атауальпа, в организаторских способностях которого не приходится сомневаться, убил своего сводного брата Уаскара, которому место в Кориканче было положено согласно законам наследования власти у нас в стране. Но Атауальпа нарушил эти законы, утверждая, что управление страной завещал ему отец. Это не так. Следующим Великим Инкой должен был стать не он. На троне отец империи видел Уаскара, но, когда он завещал Тавантинсуйу своим детям, то упомянул одно важное условие: военным советником императора станет Атауальпа. Два сына Великого Инки учились разным вещам и, конечно, каждый из них имел свое собственное видение будущего нашей страны. Уаскар считал, что надо продолжать традицию отца. Ты, конечно, помнишь, что основной закон нашей страны гласит «Не лги, не воруй, не ленись». Так вот, прежние Инки считали, что достичь государственного совершенства можно лишь в том случае, если каждый работает на государство и государство работает на каждого. Ложь, воровство и лень становятся общественными пороками тогда, когда люди отдают блага за несуществующие ценности. Это называется торговля. «Я тебе отдам золото, а ты мне дай немного еды». Это обман, порождающий грабителей и тунеядцев. Значит, нужно запретить торговлю. У каждого жителя Тавантинсуйу должна быть уверенность в завтрашнем дне. В том, что у него всегда найдется что съесть и где спать. И, кроме того, всячески поощрялась доброта и щедрость. Нужно быть готовым поделиться с соседом самым необходимым. И ты, конечно, можешь быть уверен, что никто ничего из твоего дома не возьмет без твоего разрешения. Любые сокровища, любые ценности ты оставляешь в своем доме, и они обязательно тебя дождутся. Мы хотели достичь совершенства в справедливости – и мы это сумели сделать. Наша империя расширялась такими темпами, что всего лишь за сто лет стала самым великим из всех известных государств. К нам присоединялись страны и народы не потому, что боялись нас, а потому, что понимали: лучше жить так, как живем мы. Они отказывались от торговли, принимая наши законы и наши принципы. А Великий Инка им за это обещал равенство и процветание. Один за всех, и все за одного. И если ты хочешь, чтобы было именно так, то не лги, не ленись, не воруй. Иначе и не бывает.
Но в тот момент, когда Великий Правитель назначил своего сына Уаскара наследником величия Инков – тем самым оставив второго отпрыска, Атауальпу, без всякой надежды на власть, – наступил перелом. Хотя лишь очень немногим людям стало ясно, что скоро наступит конец империи справедливости. Вернее, он уже наступил.
Чем больше Чинча слушал Окльо, тем страшнее ему становилось. Она вела свой рассказ спокойно и монотонно, слова ритмично раскачивались в воздухе, отсчитывая время, которого у Империи Четырех Сторон оставалось все меньше и меньше.
– Равенство перед этим миром обеспечивают обязанности и права. Главной обязанностью всех граждан Тавантинсуйу был труд. Главным правом людей – возможность утолить голод. В том числе голод знаний. Наши предки понимали, что свободу могут дать только знания. Чем больше человек знает, тем больше ценит свою свободу и уважает чужую. Свобода это понимание необходимости обязанностей и возможность удовлетворения потребностей. Убеди людей следовать этим принципам, и ты завоюешь мир. Но Атауальпа задумал украсть его. Впрочем, об этом я уже говорила. А вот то, о чем ты, наверное, не знаешь. Отец Атауальпы и Уаскара испугался, что, став слишком разумным, народ откажется от его власти. Именно он запретил использовать письмена, оставив вместо них только кипу, язык узелков и орнаментов. Этот шифр способна читать только элита Тавантинсуйу. А между тем еще пятьдесят лет назад искусству читать особые знаки, с помощью которых записывалась наша история, обучали в специальных школах. Этих знаков было более двух тысяч, и с их помощью можно было достичь совершенства знаний. Может показаться, что Великий Инка испугался, что потеряет власть. Многие считают, что он боялся появления в стране людей, которые будут умнее его. И однажды эти люди потребуют у него уступить место под солнцем.
Но, конечно, все объяснялось не так просто. И мой отец поначалу участвовал в этих изменениях. Ему говорили, что знания – это богатство, которое нельзя разбрасывать над засыхающим полем. А для того, чтобы его приумножать, нужно создать особую касту людей. Эти люди, сами имея неограниченный доступ к знаниям, будут ограничивать доступ к ним других людей. Отцу казалось это правильным и разумным. Далее Великий Инка собирался разрешить торговлю. Для этого он придумал ввести в обращение особые знаки. Если кто-нибудь захотел бы поесть, то за еду он должен был бы отдать определенное количество этих знаков. И если кому-нибудь было холодно, то за накидку он должен был отдавать знаки, много или немного, я уж не знаю. Все на свете предполагалось оценивать в этих знаках. Сами по себе они ничего не значат, но указ Инки делал их богатством. Заставить людей жить по новым правилам – это было сложной задачей. Но нет на свете ничего невозможного. Правитель только тогда может считаться хорошим, когда его окружают хорошие помощники. Правда, я не имею в виду, хорош или же плох правитель для народа. Речь идет о том, насколько крепка его власть.
Итак, Великий Инка задумал очень серьезные изменения в стране. И даже если мотивы этих изменений были призрачными, то меры, которые он предпринимал, меняли реальность и жизнь вокруг нас. Он не случайно приблизил к себе родственников правящей семьи из царства Кито. Это царство завоевали совсем недавно, и его жители еще помнили, что такое торговля, как нужно продавать и покупать самое необходимое, ради чего торговцы обманывают друг друга и покупателей. Ну, а правители Кито знали секрет управления сложным процессом торговли. Великий Инка ввел их в Кориканчу, а перед этим уравнял в правах с коренным населением Куско и, что гораздо более важно, с членами своей семьи. Атауальпа, если ты знаешь, воспитан своей матерью, а она, в свою очередь, родом из Кито, из царской семьи. И если остальные части Тавантинсуйу присоединились к империи добровольно, то царство Кито пришлось завоевывать силой. Конечно, большой войны не было. Великий Инка лишь повел на север свое огромное войско, и только после того, как правители царства Кито увидели, сколь хорошо вооружена и подготовлена армия вторжения, они решили отказаться от борьбы. Они думали, что сила власти нашего императора в солдатах и оружии, хотя она заключена всего лишь в трех коротких законах, которые ты знаешь: «Не воруй, не лги, не ленись». Но вот и то, чего ты не знаешь: первым, кто их нарушил, был наш собственный правитель.
За сказанное эту девушку могли судить и казнить. Правда, на суде наверняка дали бы ей высказаться. И она, пришло на ум Чинче, могла бы доказать свою правоту. Но Окльо не умолкала, продолжая рассказывать тайную историю Империи Инков.
– Итак, для того, чтобы управлять Севером без помощи оружия, Великий Инка ввел правителей Кито в свою семью. Они стали наместниками императора на вновь завоеванной территории. Как известно, только единственному человеку в этой огромной стране закон позволяет иметь больше одной жены. И этим человеком является правитель. Мать младшего царского сына, Атауальпы, была слишком красива, чтобы кто-нибудь смог устоять перед ее обаянием. И Великий Инка перестал видеться с матерью старшего сына, Уаскара. Большую часть времени император проводил в Кито. Казалось бы, новая царица использует вождя в своих целях. Но это было не так. Она всего лишь стала его главным советником. Как ты знаешь, наши великие предки давным-давно забыли о жертвоприношениях. Они понимали, что в наших горах и на наших скудных землях жизнь каждого человека имеет ценность. Каждая пара рук значила для страны больше, чем золото, которое так настойчиво ищут сейчас новые захватчики, люди Солнца. Золота у нас было много, а вот земли, пригодной для того, чтобы взрастить на ней драгоценное зерно, мало. И мы отменили жестокие церемонии ради нашего будущего. Но в царстве Кито жертвоприношение считалось нормой. Посреди их столицы был вырыт глубокий колодец. Насколько он был глубок, не знал никто, потому что его дна никогда не видел никто из живых. А мертвые, падавшие на его дно в дни жертвоприношений, уже никогда не поднимутся на поверхность, чтобы рассказать правду о царях Кито. Но мы ее и так знаем. Кроме этого колодца было немало мест, где совершались эти ужасные церемонии. И одна из них состояла в том, чтобы съесть приговоренного к смерти преступника. В этом участвовали только первые люди царства. Участие в таком кровавом застолье означало только то, что гостя посвящали в узкий круг людей, на которых не распространялись законы добра и зла, справедливости и несправедливости, любви и ненависти. Они думали, что становятся сверхлюдьми, а на самом деле теряли человеческий облик.
Чинча хотел было задать вопрос, а зачем этим людям из страны Кито нужно было практиковать столь необычные и жестокие церемонии, но рассказчица сама опередила его.
– Воины, обитавшие на севере до нашего прихода, считали, что врага можно побороть только тогда, когда он становится частью победителя. То есть отдает свою силу и свой разум противнику. А такое возможно, считали они, если поверженный враг становится едой. Они завидовали нам. И поэтому хотели нас съесть. Мой отец узнал о том, что свои варварские обычаи они, эти выскочки с севера, стали практиковать и в столице империи, Куско, что, конечно, хранилось в тайне. И тогда он обратился к Великому Инке. Он пришел к нему на прием и напрямую сообщил о том, что делают северяне. И знаешь, что ответил Инка?
– Что? – переспросил Чинча.
– Он ответил: «Я знаю». Он знал обо всем этом! И моему отцу показалось, что небо упало на землю, потому что жить, как прежде, он уже не мог, и в то же время не знал, как жить иначе.
– После этого, – продолжала Окльо, – отец стал искать тех, кому невыносимо было смотреть на то, как в жертвенной крови варварских пиршеств тонет наша родина, великая Империя Четырех Сторон. Недовольных оказалось много. И за ними была сила. Среди могущественных генералов огромной армии, среди тех, кто выращивал новые злаки в горах, и, конечно, среди жрецов. Правда, эту касту отец считал самой ненадежной – уж слишком часто они меняли свое мнение и всегда были на стороне сильного. Даже самый благородный из них человек, которому отец верил безгранично, в конце концов, перешел на сторону Атауальпы.
– Вильяк Ума, – тихо проговорил Чинча. – Верховный жрец.
Окльо грустно улыбнулась и кивнула головой, словно в знак согласия.
– Впрочем, он нас не выдал и время от времени помогает нам. У него очень острый ум и большое доброе сердце. Хотя этот человек бывает жестоким. Как и все мы.
Однако, несмотря на желание многих могущественных людей сохранить наши традиции, мы потерпели поражение. Мы поддержали Уаскара в его законном стремлении стать Великим Инкой. Но голод, охвативший Тавантинсуйу, помог победить Атауальпе и тем, кто хотел добраться до богатств этой страны. То, что принадлежало миллионам людей, захватили новые вожди, а то, что они не смогли захватить, было просто разграблено. На наших складах в горах сохранялись нетронутыми запасы провизии на десятки лет, и лишь немногие из них остались целыми. Да и то, благодаря умным, честным и дальновидным лидерам местных общин – айлью, за что им огромное спасибо. Иногда я думаю, что возрождение Империи Четырех Сторон начнется не из Куско, а из дальних горных общин, где люди умнее и чище нас с тобой.
– Я тоже из горной общины, – заметил, с долей обиды в голосе, архитектор.
– Знаю, мой дорогой, – улыбнулась Окльо. – Именно поэтому ты здесь. Вильяк Ума говорил о тебе.
Чинча подумала и сказал:
– Он мне передал символ.
– Это больше, чем символ, – заметила девушка. – Я знаю, ты сумеешь его сберечь. Тем, кто пытался сделать тебя слепым, он нужен был больше, чем ты.
– Кто они такие? – спросил Чинча.
– Северяне. Это страшные люди. Я же говорила о том, что они верят только в силу, и сила того, кого они съедают, переходит к ним.
– Ты в это веришь?
– В это верят они. Тебя они хотели наказать. Лишить всех чувств и превратить в растение. И это тоже можно считать жертвоприношением. И мы тебя спасли.
– Ты и твой отец?
Окльо вздохнула глубоко и печально. В этом вздохе было гораздо больше одиночества, чем в пронзительном крике, который издает заблудившийся путник, оказавшись один на один со своим страхом и отчаянием. Чем больше Чинча ее слушал, тем больше ему хотелось защитить ее от жестокого мира, день за днем становившегося все более и более незнакомым. Так, обычно неприятно, удивляет старый друг после долгой разлуки: ты ожидаешь увидеть прежнего человека и не хочешь брать во внимание, что между двумя вашими встречами прошла целая жизнь, полная событий, и у каждого она своя.
– Отец построил этот тайник вместе со своими товарищами. Он был главным архитектором Империи Четырех Сторон, и многое, чем ты восхищался в Куско, придумал его разум и воплотил его талант. «Воин – это тот, кто разрушает, – любил он говорить. – А строитель – это тот, кто создает». В человеке живут обе страсти – и к разрушению, и к созиданию.
– А любовь?
– Что «любовь»? – переспросила Окльо.
– Любовь это разрушение или созидание? – Голос Чинчи дрожал. Он словно боялся, что она увидит скрытый смысл в его словах. И она увидела.
– Обними меня, – позвала его Окльо.
Он обнял ее с нежностью и страстью. Она отозвалась, плотно прижавшись к нему, и притянула его голову поближе, чтобы удобно было дотянуться губами до его полураскрытых губ. Он почувствовал ее дыхание, и, хотя их губы еще не сомкнулись, у него во рту появился вкус мятной жвачки, которую она, готовясь к поцелую, плотно утрамбовала язычком под нижнюю губу. Влага их дыхания все больше и больше смешивалась, пока, наконец, их губы не сомкнулись. Ее язык ловко втиснулся в небольшой зазор между его губами. Он дал ей проникнуть в себя, а потом еще глубже нежно втянул в себя ее язычок.
Когда они в первый раз оторвались друг от друга, мужчина выдохнул:
– Сладкая моя!
Вечные слова, которые на протяжении тысячелетий любовники произносят так, словно только что изобрели их сами.
– И ты! – улыбнулась женщина, игриво укусив его за мочку уха.
Его язык скользнул от уголка ее рта, потом вниз по щеке, к самой шее. Нащупав робкий пульс вены, мужчина сначала поцеловал ее в то место, где под кожей бился кровавый пульсар, а потом очень осторожно, чтобы не причинить ей боль, дотронулся зубами до кожи. Она была чуть солоноватой от испарившегося пота. Возбуждающе солоноватой.
– Сладкая моя! – Чинча продолжал говорить банальности, которые использовали мужчины за тысячи лет до него и наверняка будут использовать и после. – Так бы тебя и съел!
Он улыбался, а она, жмурясь, как сытая хищная кошка, подставляла свои щеки, губы и глаза под барабанную дробь его поцелуев. Постепенно его объятия становились жестче, поцелуи сильнее. В любовной игре мужчина и женщина все более явно стали использовать опасные ласки. Он ее то целовал, то слегка сжимал зубы на ее коже. Она, позволяя ему многое, словно со стороны услышала крик боли.
– Ты что? – спросил он.
Тогда она поняла, что кричала сама и вовсе не потому, что ей было хорошо. Она провела рукой по шее. На ладони остался след крови. Пальцы нащупали рельефный след от его передних резцов. Это был укус.
– Ой, что же это я делаю?! – Мужчина произнес глупость вместо извинения.
Она только улыбнулась.
– Ну, вот, наконец-то ты понял.
Во время любовной игры в нем пробудился зверь. И этот зверь был голоден, а значит, действительно хотел ее съесть.
Восемь. Тот, кто пришел
Меньше всего на бивуаке Вадим ожидал встретить этого человека. Грузный пожилой зевака нелепо крутился среди мощных машин, деловито снующих по лагерю, поднимая пыль. Толстяк явно был чужаком на этом празднике бездорожья, и ощущение нелепости его пребывания здесь усиливала одежда, которую человек нацепил на себя. Клетчатые шорты невероятного размера были подтянуты под надутый живот, напоминающий небольшой аэростат. Его воздухоплавательную округлость скрывала разноцветная гавайская рубаха, вся в пальмах и желтоватых бананах-ананасах. Над лицом с двойным подбородком возвышалась зеленая туристическая панама. И, в довершение ко всему, этот человек посасывал шоколадное эскимо, невесть откуда взявшееся на бивуаке. Было очень жарко. Лица гонщиков и механиков были покрыты бархатистой пылью. Ее поднимал сухой ветер, и она, словно взвешенная в горячем воздухе, быстро прилипала ко всему, что несло на себе любые следы влаги. А к потным телам и подавно. Из-за жары мороженое в блестящем пакете довольно неуверенно держалось на палочке и слегка болталось.
Вадим закончил этап за несколько часов до появления нелепого толстяка. Его оранжевый комбинезон местами стал серым от пыли. Из-под расстегнутого ворота виднелась нательная рубаха из фибровой ткани, пропускающей влагу, вся в темных разводах от пота и грязи. Гонщик сидел на только что снятом колесе рядом с машиной, установленной на стапеле. Механики с весьма сосредоточенными лицами суетились вокруг болида, словно охотники возле большого и сильного стреноженного зверя. Техников, которые обслуживают не фаворитов, а обычных гонщиков, всегда отличает нехватка времени. Это и немудрено: ведь фавориты всегда приходят первыми, а остальные доезжают как получится и когда получится. А за оставшиеся до следующего старта часы нужно закончить примерно тот же объем работ, который не торопясь выполняют механики и Неистового Араба Насера, и короля дюн Ансельпетера, и голландского тяжеловоза Де Рота. Даже, пожалуй, больше. Они, фавориты, летят по нетронутой целине. Перед ними открываются горизонты бездорожья, не исчерченные колесами автомобилей. Первую колею оставляет лидер. Тот, кто едет за ним, старается не попасть в эту колею. Остальные, в конце концов, обречены на езду по разъезженным желобам чужих побед, выбираясь из которых они фатально бьют рычаги подвески, мучают коробки передач и сжигают начинку корзины сцепления.
Итак, Вадим заметил блуждающего чужака в тот момент, когда толстяк с любопытствующим видом прохаживался возле разобранного БМВ с номером «301». Это был мощный болид с очень сложным двигателем. Пилот машины, девятикратный чемпион марафона Ансельпетер, иногда жаловался, что сложность устройства мотора – это самое слабое место автомобиля. Но главный механик немецкой команды только улыбался и отвечал ему в том духе, что, мол, Ансельпетер хорошо крутит баранкой и управляется с педалями, а о том, что происходит внутри машины, он не имеет ни малейшего понятия. Гонщик, не слишком удрученный насмешкой механика, только пожимал своими квадратными плечами, замечал, мол, «каждому свое» и шел отдыхать, оставляя насмешника наедине с машиной.
У толстого чужака был очень острый, внимательный взгляд. Пухлые ладони с пальцами-сосисками могли создать впечатление, что их владелец ничего тяжелее вилки с ложкой в руках не держал. Но впечатление это было ложным. Коричневый загар и грубые мозоли на внутренней стороне ладоней довольно ясно говорили о том, что странный визитер, по крайней мере, знаком с физическим трудом. А черная каемка под ногтями указательных пальцев могла подсказать еще и то, что толстяку приходилось делать и грязную работу. Да что там говорить? Разве работа полицейского бывает чистой?
Это был комиссар полиции из боливийского города Санта-Крус. Вадим не сразу узнал его. Одежда беззаботного дачника и мороженое сбивали с толку. А вот комиссар наоборот – он сразу определил, где стоят палатки украинской команды. По желто-голубому флагу, который главный механик собственноручно водрузил на телескопический флагшток. Пока Валера поднимал его, он все время бормотал: «Зря мы его тащили». Но как только ветер расправил полотнище, и оно, туго сопротивляясь потокам воздуха, забилось, как птица, довольный шеф механиков модернизировал свою мантру: «Не зря мы его тащили». Это полотнище комиссар заметил давно. Хотя к людям Вадима подошел не сразу. Сначала он хотел понять, чем дышит бивуак и что собой представляют люди, собравшиеся под жарким небом аргентинской пампы.
О, это были очень интересные персонажи. Их припорошенная пылью униформа тоже могла ввести в заблуждение. Здесь они все были равны – перед жарой, пустыней и бездорожьем. А там, в жизни за пределами гонки, они обладали могуществом и ворочали огромными деньгами. Во всяком случае, некоторые из них. Два владельца металлургических предприятий конкурировали друг с другом – на рынке, и на трассе, – выступая в разных командах категории подготовленных прототипов, то есть машин, уникальных в прямом смысле, – потому, что они изготавливались в особых автомобильных ателье, а значит, существовали в единственном экземпляре.
– А сколько стоит такая машина? – спросил комиссар полиции ближайшего к нему человека в пыльном комбинезоне, опиравшегося на болид под номером 301. Нет нужды говорить, что это был легендарный Ансельпетер, но разве смог бы его отличить от сотен таких же запыленных людей обычный старый полицейский, никогда до этого не интересовавшийся автогонками?
Вообще-то это был самый глупый, а значит, самый распространенный вопрос, который гонщикам об их машинах задают не-гонщики. А раз вопрос глупый, то механик Ансельпетера недовольно и презрительно хмыкнул. Как известно, механики считаются самыми умными людьми в команде: ведь, в отличие от гонщиков, они знают, что машина это не капризное животное из железа и стекла, а всего лишь отлаженный механизм.
Ансельпетер, сквозь пыль на лице, улыбнулся своей неповторимой доброй улыбкой и внезапно стал похожим на свои фотопортреты, которые вот уже полтора десятка лет тиражируют автомобильные журналы всего мира. Но комиссар боливийской полиции не читал глянцевые издания, кому бы те не предназначались – женщинам или мужчинам.
– Понимаете, – сказал гонщик, – непросто сложить цену этой машине. Любая вещь, существующая в единственном экземпляре, стоит гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.
– Мгм, – закивал головой комиссар, демонстрируя любопытство. Ему и в самом деле было интересно.
– Сама машина стоит примерно восемьсот тысяч евро. Но ее надо обслуживать. Причем, ей требуются специальные запчасти. Которые, как вы понимаете, тоже существуют в единственном экземпляре. Иногда.
– Правда? – удивился полицейский.
– Правда, – услышал он голос рядом с собой. – Хотите, объясню поподробнее?
Толстяк повернулся лицом к человеку, произнесшему эти слова, и узнал в нем Вадима.
– Только не говорите, что здесь вы оказались случайно. Не поверю, – насмешливо сказал украинец.
– А я и не говорю, – пожал плечами боливиец. – Я пока еще ничего не сказал. По крайней мере, лично вам.
Вадим протянул полицейскому руку:
– Как, кстати, вы говорите, вас зовут?
Полицейский не спешил ответить на этот жест доброй воли:
– А я, кажется, еще не представлялся. Ни там, в Боливии, в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, ни здесь, в аргентинской пампе.
Вадим стоял с раскрытой ладонью. Он почувствовал, что неловкость трансформируется в глупость, а глупость – в злость. Но злость – и это гонщик хорошо усвоил еще смолоду – неважный советчик. Впрочем, полицейский не стал затягивать неловкую и неприятную паузу. Пухлая рука боливийца оказалась в жилистой ладони украинца, и пальцы сомкнулись в рукопожатии.
– Себастьян. Эспиноза, – сказал комиссар.
– Вадим, – просто ответил гонщик. – Неc…
– Бросьте, не стоит, – перебил его комиссар. – Я мог бы и не представляться. А вашу фамилию в этом лагере и так знают все.
Рука комиссара Эспинозы, хотя и выглядела пухлой, оказалась очень крепкой. Судя по рукопожатию, боливиец был волевым человеком.
Мимо проехал гоночный КамАЗ, только что закончивший этап. Он поднял небольшое облако пыли, в центре которого оказались Вадим, Себастьян Эспиноза и молочное мороженое на палочке. Себастьян посмотрел на желтую песочную пудру, вмиг полностью покрывшую эскимо неаппетитной глазурью, и чихнул. Мороженое, словно раздумывая, качнулось на палочке и, слетев с нее, шмякнулось на землю, а точнее в пыль.
– Бывает, – сказал Ансельпетер, снова растянув губы в улыбке. Конечно же хорошо знакомой всем любителям внедорожных гонок.
– Идемте, Себастьян, к нашей машине, – Вадим, приглашая боливийца, тоже усмехнулся. – И, кстати, зачем вы приехали?
Машине предстояло несколько несложных процедур. Правда, их количество было таким, что механики готовились к бессонной ночи. Специалист по двигателям по имени Володя, которого за шумную говорливость коллеги прозвали Бубенчиком, любил весело повторять:
– Ночь с нашей машиной это лучше, чем секс!
Но сейчас главная проблема была не в двигателе, а в подвеске. У Вадима довольно агрессивная манера езды, от которой доставалось, в первую очередь, ходовой части. На этот раз при сильнейшем ударе о камень погнулся рычаг на правом колесе. Да и левая часть нуждалась в ремонте. Гонка была жесткой, она оказалась очень серьезным испытанием и для людей, и для машин.
Вадим и Себастьян присели на деревянные стулья возле раскладного столика, заботливо расставленного механиками возле палатки Вадима. Себастьян отер пот со лба серым платком, Вадим сделал то же самое тыльной стороной ладони.
– Я так скажу, Вадим, – взял быка за рога комиссар. – Слишком много трупов. Там, где вы.
– Что вы имеете в виду, сеньор Себастьян?
Вадим неплохо говорил по-испански. Этот язык он выбрал в качестве факультативного, когда учился в киевском инязе.
– Я внимательно следил за супергонкой. После второго погибшего я понял, что должен приехать.
– Но вы наверняка знаете, что это очень жесткая и опасная гонка. Так здесь бывает! – искренне возмутился Вадим.
Себастьян достал смятую бумажку и расправил ее на столешнице. Вадим заметил, что она исписана мелким шрифтом.
– Здесь статистика несчастных случаев во время супергонки, начиная с самого первого заезда в 1979 году и заканчивая прошлогодними соревнованиями, – сказал Себастьян.
– Любопытно, – Вадим поближе придвинулся к бумажке.
– Более чем любопытно. Так вот, за тридцать лет зафиксировано пятьдесят пять случаев гибели людей на трассе. Это в среднем два инцидента за сезон. Понимаете, к чему я клоню?
– Ну да. В среднем два за сезон. А тут два за два дня.
– Три, Вадим, три! – строго поднял палец вверх комиссар.
– Да, согласен. Но третий ведь не гонщик, а зритель.
– Так ведь не все из пятидесяти пяти гонщики. Двадцать пять – это зрители. Невинные люди, случайные зеваки на этой гонке. Абсолютно случайные.
– Ага! – кивнул гонщик.
Комиссар достал еще одну бумажку. Это была газетная статья, в которой разноцветными маркерами были сделаны разные пометки. Желтый цвет выделял различные статистические данные. Синий – фамилии участников гонки. Красная полоса шла поверх фразы, прочитать которую со своего места Вадим не мог. Но в этом не было нужды.
– Вот что здесь написано, – зачитывал комиссар. – «На гонке с учетом трагических случайностей прошлого будет задействована абсолютно новая система безопасности и контроля технического состояния автомобилей. Так обещает директор соревнований господин Этьен Люпэн». Обещает! Вы понимаете? О-бе-ща-ет! И что в итоге?
– Ну, я ведь не Люпэн, я ответить не могу на этот вопрос! – пожал плечами Вадим.
– А я вам вот что скажу. Еще несколько дней назад ваше имя было знакомо лишь сравнительно небольшому кругу специалистов. А теперь вы фаворит. Но вовсе не благодаря вашему мастерству. А потому, что ваши конкуренты разбиваются один за другим. Что скажете?
Вадим молчал. Себастьян продолжал его добивать:
– Расклад такой, не иначе?
Сказав это, комиссар закашлялся: проезжавший мимо мотогонщик поднял небольшое облако пыли.
– Хотите, Вадим, я скажу, что вы обо мне думаете? – с отвращением сплевывая пыль, спросил комиссар украинца.
– Не хочу, – ответил тот. Но Эспиноза его словно не услышал:
– «Этот жирный боров с неприятным лицом, похожим на клочок смятой газеты из сортира».
«А ведь он угадал», – подумал Вадим и тут же рассмеялся своим мыслям.
– Вы считаете, это я устранил конкурентов?
Себастьян задумчиво посмотрел на Вадима. Комиссару хотелось пить. Он просто мечтал о том, чтобы холодная острота газированной воды обожгла ему язык и на некоторое время избавила от мучений жажды, которая в этих краях неотступно преследует все живое, стоит только оказаться вдали от очагов цивилизации. Если машина сломается в пустыне, отсутствие воды может сыграть роковую роль, поэтому в гоночных болидах всегда есть запас живительной влаги для людей. Хотя – и такие случаи бывают довольно часто, – если охлаждающая система пуста и жидкость уходит из двигателя, в первую очередь спасают машину, отдавая ей запас питьевой воды. Но Себастьян Эспиноза машиной не был и особой любви к ним не испытывал. Живой человек с лишним весом, он хотел пить. Хорошо бы пива, но на пиво рассчитывать не приходилось. Ах, если бы кто-нибудь принес баночку холодной колы, с легкой испариной на глянцевой поверхности, о, за такой подарок он бы отдал полцарства! Конечно, если бы был царем! Так думал Себастьян, и его простые мысли влагой выступали у него на лбу, а его взгляд блуждал по столу в надежде увидеть хотя бы недопитую бутылку воды.
Вадим не отличался особой проницательностью, но угадать мысли сеньора Эспинозы было несложно.
– Я сейчас, – сказал он, вставая из-за стола, и через пять минут вернулся назад с огромной бутылкой колы в руках. О, удача! Она была холодная.
Вадим протянул ее Себастьяну, и тот в несколько глотков осушил ее до половины. Когда газ вышел из комиссара свежей отрыжкой, он сказал:
– Спасибо! – и тут же заметил: – Если бы я вас подозревал, то не сидел бы за этим столом. Я хочу одного. А именно найти Нормана.
– Я тоже хочу, – произнес гонщик.
– Тогда взгляните на это, – и перед Вадимом оказалось любительское фото.
Небольших размеров, примерно девять на двенадцать сантиметров, карточка с пожелтевшими краями, обрезанными специальным ножом, который оставляет край в виде узорчатой линии. Снимки с такой веселой каемкой имелись в каждом себя уважающем семействе после свадеб, выпускных вечеров и корпоративных посиделок в те далекие времена, когда еще не знали, что такое цифровая фотография. Но изображения на этой фотографии имели мало общего с посиделками или свадьбами. Точнее, на фото сидел человек, одетый в роскошный костюм вождя инков, расшитый блестящими металлическими нитями. Голову человека украшал обруч, декорированный массивными искусственными, скорее всего металлическими, перьями, из-за чего вся конструкция напоминала корону, а в руках была настоящая булава с тяжелым шаром на длинной рукоятке.
Что-то она напомнила Вадиму. То ли картинка из школьного детства вдруг проступила в памяти и снова ушла в подсознание. То ли очень важное слово, произнесенное малознакомым человеком, которое не можешь вспомнить до тех пор, пока не вспомнишь имя собеседника.
Булава в руках вождя на картинке была не из этой истории. Как будто участник карнавала решил нарушить стиль своего костюма и, подшучивая над компаньоном по вечеринке, с легкостью выхватил у него из рук предмет, принадлежавший другой эпохе. Но вряд ли это был карнавал. У человека на фотографии было очень серьезное выражение лица.
– Что вы можете сказать об этом? – спросил комиссар.
– Ну, во-первых, то, что он индеец. Или же метис, – оценил Вадим портрет.
– Я это и сам вижу, – проворчал комиссар. – Я не для того взял отпуск на целый месяц, чтобы услышать то, что и сам без вас знаю.
У Вадима это старческое брюзжание вызвало легкий смешок:
– А что вы хотите, Себастьян, от меня услышать?
– Ну, например, знаком ли вам этот парень.
Гонщик слегка кивнул головой. Человек на фото удивительным образом напоминал кого-то знакомого. Но кого? Вадим внимательней присмотрелся. Нечто общее с Норманом заметил он в чертах индейца в костюме вождя. Но нет, скорее всего, это не Норман. Овал лица совсем другой. Ну, конечно, это брат индейца. Старший брат.
– Я думаю, это местный карнавал. Человек надел все это облачение для того, чтобы сделать снимок на память. Знаете, боливийцы любят делать фото в карнавальных костюмах, при этом сохраняя серьезное выражение лица.
– А почему вы решили, что этот парень боливиец?
«Действительно, почему?» – подумал Вадим. Сложно сказать, что именно говорило о национальной принадлежности фотогероя, но гонщик без тени сомнения в голосе сообщил комиссару:
– Не знаю откуда, но я уверен, что этот человек из Боливии.
– Я тоже уверен, – улыбнулся Себастьян, – и вот почему.
Он расправил фотографию на столе и положил на нее ладони таким образом, чтобы прикрыть пальцами головной убор вождя и золотые кружева на царском облачении.
– Ничего себе, – вырвалось у Вадима.
На него с черно-белой фотографии внимательным взглядом смотрел Норман.
– Это Норман! – сообщил Вадим очевидную новость. С такой интонацией, вероятно, марсовый на каравелле Колумба крикнул своим спутникам: «Земля!»
– Но почему он в этой одежде?
– А что? – переспросил комиссар.
– Да ничего. Только Норман не любит все то, что связано с Империей Инков. И он никогда не стал бы надевать такой карнавальный костюм.
– Правда? – неподдельно удивился комиссар. – Ну, к делу это не имеет отношения. Тем более, что это не Норман.
– А кто же?
– Взгляните, Вадим, на дату.
Вадим перевернул карточку и едва заметил маленькую надпись на обороте. Дата. Год, число, месяц, ничего больше. Судя по надписи, фотоснимку было пятьдесят пять лет. Человек в костюме Великого Инки вполне мог быть отцом Нормана, но Вадим знал старого Мигеля Паниагуа, и конечно же на карточке был совсем другой человек. В то же время Вадим не мог не признать, что этот человек действительно был очень похож на его боливийского друга. Как говорится, просто одно лицо.
– Где вы нашли это фото? – спросил Вадим, передавая карточку комиссару. Тот пожал плечами:
– Среди прочих вещей. В его ателье было много разных интересных фотографий.
– Много интересных, – буркнул украинец. – Но, тем не менее, вас заинтересовала именно эта.
– Ну, в общем, да, – согласился комиссар и, взглянув на Вадима исподлобья, предложил: – А знаете что? Посмотрите на этот снимок с другой стороны.
Вадим выхватил фотографию из рук Себастьяна и нарочито, для комичности эффекта, повернул ее тыльной стороной и поднес к самым глазам, которые постарался выпучить как можно сильнее.
– Слушайте, не валяйте дурака! – раздраженно заметил Эспиноза.
– Я в точности выполняю вашу просьбу, сеньор комиссар.
– Да бросьте… Скажите-ка мне, может быть, хоть что-нибудь на фотографии покажется вам знакомым? Не обязательно в связи с Норманом, его семьей. Забудьте свой латиноамериканский опыт и постарайтесь взглянуть на картинку эдак легко… Беззаботно.
– То есть open-minded, как говорят ваши друзья американцы?
– Norteamericanos! – жестко поправил его Эспиноза, сделав неопределенный жест ладонью, словно отмахивал надоедливых мошек. – Североамериканцы. Да вы глядите, глядите.
И пухлая ладонь комиссара нетерпеливо показала Вадиму, что фотографию необходимо перевернуть.
Вадим еще раз посмотрел на человека в старинном облачении инкского императора. Индеец очень строго и серьезно вперился в точку перед собой. Видно, тот, кто делал этот снимок, попросил его не двигаться несколько секунд. На лице фотогероя Вадим заметил то, чего не было у Нормана, а именно тонкие морщины, лежавшие мелкой сетью на его щеках. Сразу стало ясно, что жизнь человека в карнавальном костюме была нелегкой и, возможно, невеселой. Но разве в этом было что-то необычное, из ряда вон выходящее? И взгляд Вадима продолжил свое быстрое путешествие по черно-белому портрету. Плотный декор украшений закрывал шею. Что там дальше? Тяжелая накидка, дорого и некрасиво расшитая золотой ниткой. Или серебряной. Так сразу, по картинке, не определишь. Все очень дорого, но, в целом, ничего интересного.
Булава была атрибутом верховной власти при гетмане Богдане Хмельницком. Для украинского казачества это оружие являлось также символом достоинства и свободы. В Тавантинсуйу верховный правитель также появлялся перед своим народом с булавой, или маканой, в руках. Она была сделана из золота
Постойте-ка! А этот предмет в руках вождя? К чему он здесь?
Огромная булава с тяжелым шаром на конце. Символическое оружие украинцев. Обычно булаву вручали гетманам, после того, как войско передавало им верховную власть над берегами Днепра. «Кажется, с такой вот булавой старинные миниатюры изображали Богдана Хмельницкого», – смутно припоминал Вадим. Да, абсолютно точно. Карнавальный индеец держал в руках гетманскую булаву. Но почему здесь, в Латинской Америке? Это было, по меньшей мере, странно. Усталый старик Хмельницкий, в высокой дорогой шапке с павлиньими перьями, под которой всегда была оловянная миска, ибо гетман вполне справедливо боялся, что его сподвижники могут ударить его чем-нибудь тяжелым по голове и отобрать власть вместе с булавой. И человек, изображавший Великого Императора Тавантинсуйу. Они же были персонажами разных историй. Героями разных сказок для взрослых, без ясного начала и убедительного конца. И пусть драматургией прошлого занимаются историки, эти современные сказочники с учеными степенями. Что между вождями общего, кроме перьев на шапках? Пожалуй, только булава.
– Ну, что, заметили что-нибудь?
– Откуда у него булава?
Себастьян покрутил в руках фотографию и сказал:
– Это не булава, это макана. Главное оружие воинов кечуа.
– Странно. Эта макана очень напоминает наш национальный символ, – заметил Вадим.
Комиссар пропустил ремарку Вадима мимо ушей и продолжал рассказывать:
– У каждого воина была макана. Даже проштрафившиеся солдаты, которых в знак наказания лишали чести носить с собой оружие, имели право оставить при себе такую вот макану, только с каменным наконечником. А у командиров тяжелая верхушка была сделана из серебра или золота. Булава Великого Инки, скорее всего, была символом власти и передавалась от одного императора другому правителю.
– В точности, как у нас, – улыбнулся украинец.
Siete. La proposición
Чинча, внимательно следивший за тем, как проходил суд в Кахамарке, просто не мог знать о разговорах, которые Великий Инка вел с испанцами. Он даже не мог себе представить, где содержат плененного правителя. И если бы архитектор увидел нынешнюю тюрьму вождя, то, вероятно, был бы очень удивлен. Но еще больше поразило бы его то, как Великий Инка решил купить себе свободу. А дело было так.
Атауальпа окинул взглядом комнату, в которой он проводил бессонные ночи своего плена. Ничего необычного, простое помещение с толстыми стенами, поставленными с небольшим наклоном кверху. Так строили дома по всей империи, пытаясь добиться максимальной прочности и устойчивости. На хорошо утрамбованной поверхности пола стояла невысокая кровать. Впрочем, кроватью наспех сколоченную из неровных деревяшек конструкцию можно было назвать только потому, что на ней лежало цветастое покрывало, сшитое из лоскутков. Оно напоминало разноцветное знамя Тавантинсуйу. Великий вождь Атауальпа не отличался любовью к символике и теперь, от нечего делать, припоминал, что же означает разнообразие цветов имперского стяга. Но, как только пленник начинал задумываться об империи, все пространство его воображения заполняла нечеловеческая досада, грусть о навсегда потерянном престоле. Какой красивый и сильный взлет и какое неожиданное падение! Неужели он теперь никто, и это лоскутное одеяло – все то, что осталось ему от империи? Инка понимал, что ему уже поздно бороться за власть. Слишком много его воинов перебили люди Солнца, а те, кто уцелел, позорно бежали из Кахамарки. Тысячи отборных солдат бежали от двух сотен чужаков. Они пережили страшный позор и признали собственную трусость. Но это еще не самое страшное для Великого Инки. Император хорошо разбирался в людях и понимал, что всю вину за собственное бегство солдаты переложили на него. Власть убегала, как убегает песок из ладони сквозь растопыренные пальцы. Нужно постараться сжать их, чтобы удержать в кулаке остатки могущества. Ведь речь идет о чем-то большем, чем власть. Он знает, что воины в блестящих шлемах не хотят отпускать его. Они постараются уничтожить его при первой возможности. Они бы могли зайти сейчас в эту комнату и выпустить в правителя смертоносный огонь, которым умеют плеваться длинные трубки пришельцев. Но они не делают этого вот уже который день. Мало того, они продолжают судить императора своим судом при большом стечении народа. Значит, они боятся разгневать людей. Они, эти чужаки, хотят стать новыми хозяевами Тавантинсуйу и пытаются завоевать доверие народа Империи Четырех Сторон. А это означает, что сейчас ею по-прежнему владеет император. Великий Инка. Атауальпа. Значит, не все еще потеряно, и ворота на свободу могут открыться в любой момент. Нужно только предложить узурпаторам что-то взамен за ключ от этой двери. Они алчны, их глаза блестят, как желтый металл, который они любят.
Комната была не очень большой. Примерно восемь шагов в длину, шесть в ширину. Высота в полтора роста самого высокого воина, так что до потолка из плотной соломы рукой не дотянуться. Это помещение, до того, как его превратили в тюрьму, служило складом для долговременного хранения зерна в одной из деревенских общин – айлью. Люди хранили здесь самое дорогое, от чего зависело их выживание в сложных условиях среди негостеприимных гор. «Это может получиться!» – мысленно воскликнул Атауальпа. Его хитрый ум, кажется, придумал выход из ситуации.
Несмотря на ранний час, Великий Инка попросил привести его к Писарро, но охранник не осмелился идти к командору вместе с пленником и отправился в резиденцию сам. Дверь в тюрьму осталась открытой, и через небольшую щель в нее прокрался утренний прохладный ветерок. Он бодрил и шептал на ухо азартные слова надежды: «Будь спокоен, словно колосок маиса, случайно проросший у подножия Храма Солнца! У тебя все получится».
Писарро не стал ждать, пока охранник приведет к нему Атауальпу, и, набросив камзол, сам пошел к каменному строению на холме, где держали вождя сломанной – но не сломленной – империи. Конкистадор широким жестом открыл дверь и вошел внутрь. Атауальпа даже не встал с постели, чтобы поприветствовать наместника испанского короля. Франсиско посмотрел на Великого Инку и задумчиво намотал на палец острый локон на своей густой бороде. За командором водилась такая привычка – в особо волнительные моменты теребить растительность на лице.
– Вы хотите богатство моей страны, – сказал Инка, сидя в своем углу на постели. На его лице лежала тень, и Писарро просто не мог видеть, как шевелятся губы собеседника. Из-за этого, казалось, голос звучал сам по себе, отражаясь от каменных стен.
– Я дам вам столько золота, сколько ни один из вас не видел в жизни. Очень много золота.
– Сколько? – спросил конкистадор, не в силах скрыть алчность.
– Я могу заполнить золотом всю эту комнату. На высоту поднятой руки.
И Атауальпа поднял для наглядности правую руку вверх. Инка был невысокого роста. Писарро был явно выше императора. Он посмотрел на пленника и поднял вверх свою руку. Кончики пальцев Инки не доставали командору даже до середины запястья.
– А если так, то хватит ли у тебя золота?
– Хватит! – не задумываясь, ответил Инка.
Франсиско Писарро покинул место, где содержали Инку, но вскоре вернулся в сопровождении одного из воинов. Его недобрый рот был постоянно искривлен в щербатой ухмылке, а на месте левого глаза, потерянного в стычке в перуанских лесах, красовалась грязная повязка. Солдата звали Диего де Альмагро. Вместе с этим человеком командор отправился в первую свою экспедицию. Альмагро был смелым и жадным, как и все конкистадоры. Он отличался особой жестокостью в обращении с местным населением, но при этом был достаточно умен, чтобы проявлять ее только тогда, когда речь шла о выживании в негостеприимных условиях Империи Четырех Сторон. При этом старый солдат был честен по отношению к товарищам, что вместе с его жадностью являло поразительное сочетание человеческих качеств. Альмагро ни разу не дал своему командору повода заподозрить его в трусости или предательстве, и Писарро не скрывал, что доверял этому человеку больше, чем себе.
Писарро уже сообщил Диего о предложении Великого Инки, и тот, войдя внутрь хранилища, с порога задал вождю вопрос:
– А что есть у тебя, кроме золота?
Инка улыбнулся и пожал плечами:
– Есть серебро.
– Ну, серебро стоит куда дешевле! – скривил губы Альмагро и, брызгая слюной сквозь щели, оставшиеся на месте потерянных зубов, закричал: – Я хочу, чтобы мне за это заплатили по подобающей цене!
И он приподнял повязку над зияющей на месте левого глаза дырой.
– Никто ведь не говорит, что вам надо отказаться от золота, – спокойно заметил пленный император.
– Садитесь, сеньоры, – торжественно и одновременно примирительно сказал Писарро и указал на постель Инки. – И вы, Ваше величество, тоже.
В первый раз за все время пленения захватчик столь уважительно обратился к поверженному правителю. Все трое сели, и начался торг, возможно, самый большой, который только знала история. Речь шла о сокровищах, оценить которые в масштабах Испании было невозможно. Да что там Испании? Если собрать все достояние европейских монархов, то вряд ли его могло хватить хотя бы для того, чтобы сравнить с выкупом, который Инка предложил за свою свободу.
– Итак, – налегал Писарро, – все золото, которое мы получим, должно уместиться в этой комнате, заполнив ее от пола и до самого верха на высоту вытянутой руки. Моей. Так?
– Так, – подтвердил вождь.
– Но, – поднял палец конкистадор, – изделия из золота бывают разные, и разной формы. Значит, все, что мы получим, нужно переплавить в слитки, и уже потом закладывать ими эту комнату, как кирпичами. Согласен?
– Согласен, – император сохранял невозмутимое выражение лица, чем вызывал легкое раздражение у Альмагро.
– А теперь о серебре, – продолжал командор. – Я хочу видеть три комнаты, заполненные серебряными слитками. Три! Я достаточно ясно выражаюсь?
Великий Инка снова кивнул головой:
– Я готов повторить.
– Хорошо, повторяй, – нервно бросил Диего.
Инка набрал полные легкие воздуха, медленно выдохнул и сказал:
– За свою свободу я предлагаю вам столько золотых слитков, сколько хватит заполнить эту комнату на высоту руки…
– …командора Писарро! – вставил де Альмагро важное уточнение.
– Командора Писарро, – продолжал Великий Инка, – и три таких же комнаты, наполненных слитками серебра.
Конкистадоры кивали в такт словам Инки.
– Но… – повысил голос Инка, – как только вы получите все это, я отправлюсь к себе в Куско. Договорились?
В комнате повисла тяжелая пауза. Конкистадоры не хотели отпускать пленника. Но блеск драгоценных металлов ослеплял испанцев.
– Мы вас оставим ненадолго, – сказал Писарро и вытолкнул верного де Альмагро на свежий воздух.
Они вполголоса говорили между собой, время от времени покрикивая на солдата, охранявшего пленника. Впрочем, сейчас Инка становился уже не пленником, а заложником, за которого похитители просят выкуп.
– Договорились! – с порога выдохнул Писарро, когда оба конкистадора снова вошли в складское помещение.
Инка улыбался. Иначе и быть не могло. Слишком ярко блестели глаза людей Солнца. Так же ярко, как блестят на солнце их тяжелые шлемы.
Перед взором Атауальпы пронеслось видение битвы, случившейся в самом центре Кахамарки. Проиграв ее, Атауальпа впервые понял, что иногда надменность приводит к глупости, а уж та никогда не является спутницей победы. Правду говоря, это было самое настоящее побоище. Атауальпа вспомнил, как он появился на треугольной площади, окруженной каменными строениями с множеством входов и выходов. Его многочисленная охрана, его верные гвардейцы, покорные воле повелителя и заносчивые с простолюдинами, заполнили всю площадь. Они упирались друг в друга локтями и потеснились еще больше, когда носильщики, сгибаясь под тяжестью золотых носилок императора, оказались в центре треугольника. Император помнил, как навстречу ему вышел человек в черном облачении – вскоре Инка узнал, что означает слово «монах», – и как передал в руки Великого Императора нечто, содержавшее великое и священное знание. Атауальпа не мог поверить, что эти люди вот так, абсолютно открыто, могут раздавать знание, всегда считавшееся секретным в его империи. Он бросил символ знания на землю. И этот оскорбительный жест люди Солнца не могли оставить ненаказанным. Из черных дверей каменного треугольника посыпались воины в блестящих шлемах. Их оружие выплевывало огонь и металл, пробивая его воинов насквозь целыми шеренгами. И они, не знавшие ни страха, ни упрека на полях сражений в северном царстве Кито, здесь, в Кахамарке, в самом сердце большой империи, стали отступать и прижиматься к императорским носилкам, надеясь, что их золотой блеск, а также слава Великого Инки, заставит трепетать людей в сверкающих шлемах. Но им было все равно. И каменный треугольник Кахамарки превратился в замкнутый круг для Инки. Черные зевы домов изрыгали огненные шары. Люди, закованные в металл, управляли странными высокими животными, чьи ноги были крепче камня, – и это наверняка чувствовали те, по чьим телам топтались «лошади», так зовут этих невиданных зверей. Но спросить, каково это, умирать и проигрывать на своей земле, уже не у кого. Вся его охрана, а это тысячи воинов, вымостила своей плотью и залила своей кровью треугольник главной площади в этом городе, быстро и навсегда ставшим чужим. Люди и лошади топтались по чужим телам. А пришельцы вышли из боя целыми и невредимыми, если только не считать единственную рану, полученную Франсиско Писарро. Да и то, ранил испанца нож его солдата, когда бородатый командор пытался защитить Великого Инку от своих же собственных товарищей. Солдат привлекал блеск золотых носилок, а командор мыслил более широкими категориями. Великий Инка нужен был живым. Атауальпа не знал, о чем говорил с конкистадорами их вождь, но он прекрасно понимал это.
– Нам придется делиться со всеми, кто участвовал в битве при Кахамарке, – сказал Писарро на пути в резиденцию. – Диего, я прошу тебя составить список всех тех, кто отправился с нами в экспедицию.
– Еще посмотрим, сможет ли дикарь собрать столько золота, – проворчал де Альмагро, но, столкнувшись с сердитым взглядом командора, продолжал отвечать так, как подобает подчиненному: – Слушаюсь, мой сеньор, я подготовлю документ к завтрашнему дню.
Пока Окльо, прячась с Чинчей в храме-тайнике, открывала архитектору свои тайны, пешие караваны из разных частей Тавантинсуйу потянулись к Кахамарке. Неказистые, но выносливые, воины кечуа несли в ставку людей Солнца золото.
Девять. Перевернутый грузовик
Гонка подбиралась к Андам. Горы встали синеватой стеной между землей и небом, и если присмотреться, то в ясную безоблачную погоду можно было рассмотреть белые снежные шапки на их вершинах. Порывы западного ветра уже доносили в прохладу и безразличие вечности, и гонщики стали меньше шутить друг с другом. Как будто, взглянув на горы, каждый почувствовал, что бросает вызов чему-то величественному и равнодушному, что всегда выше поражений и побед.
Алеш Дубчек, однофамилец лидера Чехословакии, проигравшего Советской армии «Пражскую весну», был не менее известен у себя на родине, в Чехии, чем любой президент. Президенты выигрывали выборы, чтобы потом их проиграть, а Дубчек с завидным постоянством побеждал в супергонке. Когда объективы камер, размещенные на вертолетах, ловили в облаках пыли и песка колеса его «татры», становилось ясно: именно этот человек делал чешские грузовики знаменитыми.
На гонке назревала сенсация. Дубчек ехал настолько быстро, что оказался в первой десятке гонщиков, причем в абсолютном зачете, что пилотам грузовиков редко удавалось. Алеша даже вызывал судейский комитет, а его машину в очередной раз обследовали спортивные маршалы в поисках технических особенностей и уловок, не соответствующих регламенту. Но все это было напрасно. Никаких нарушений технические комиссары не находили и только разводили руками. Машина оставалась всего лишь машиной. Уникальной делал ее человек.
Вадим был очень недоволен появлением Дубчека среди тех, кто стартует первым.
– Чего тут переживать, – успокаивал его Валерий. – Он проедет, а потом его можно будет обогнать.
– «Татра» – грузовик, – терпеливо объяснял пилот свое раздражение механику. – Все остальные в первой десятке – легковые машины. Он разобьет дорогу так, что мы после него останемся без подвески.
– Да, да, – соглашался Валерий, подумав про себя, что и без помощи Дубчека украинская «мицубиси» каждый вечер приходит с разбитой подвеской.
Выбор блюд на завтраке был, как всегда, обильным. Омлет с мелко нарезанными помидорами, слегка подкопченные сосиски, картофель с луком и целая батарея напитков – от коричневой колы до местных и, кстати, более полезных для здоровья, соков. Под тонким целлофаном, штабелями, как стройматериалы, лежали всевозможные сладости – торты, кексы и французские крендели.
Вадима обилие гастрономических соблазнов не прельщало. Он взял себе легкий салат из цветной капусты и налил в пластиковый стаканчик черный кофе. Кофе был под стать посуде – выглядел таким же искусственным, – но функцию бодрящего утреннего напитка выполнял исправно.
«Он разобьет все трассу», – думал гонщик о Дубчеке, и эта мысль мешала ему сконцентрироваться и собраться перед непростым участком. Впереди ждали высокие дюны, до четырехсот метров высотой, затем короткий марш-бросок по трассе общего назначения, а за ним снова песок, переходящий в феш-феш.
Вадим Нестерчук, украинский автогонщик. Погиб летом 2013 года, когда его машина вышла из строя в пустыне Руб-эль-Хали и он остался без воды. Именно Вадим впервые в истории гонки «Дакар» стартовал под украинским флагом
Вадим выехал на старт примерно в шесть тридцать. До этого пилот успел решить много важных дел. Он смог договориться с организаторами гонки о том, что комиссара боливийской полиции, который решил ехать за гонкой во время своего отпуска и потому считался обычным туристом, возьмут в машину технической поддержки команды. Вадиму пошли навстречу. Как известно, «технички» шли по трассе общего назначения и в суровое внедорожье заезжали крайне редко. Отправив комиссара в шесть, гонщик постарался тут же забыть о нем. Его штурман, обычно веселый и психологически комфортный парень, явно был не в духе. Как выяснилось, у него отекли ноги. Вадим догадывался, почему. Накануне было очень жарко, и второй пилот налегал на энергетические напитки, которые раздавались бесплатно по всему лагерю. Пилот просил своего товарища не хвататься за каждую железную банку с рогатым скотом на гладкой поверхности. Но тот не слушал. И теперь еле передвигал отекшими ногами. «Ничего, доедем», – и эту фразу гонщик старался произнести так, чтобы партнер ее не слышал. Но, впрочем, несмотря на физическое состояние, штурман был настроен на хороший результат.
Три, два, один! Спортивный комиссар на линии старта загнул свои пальцы и махнул рукой. Украинцы браво рванули с места и тут же попали в облако пыли, которое поднял Дубчек. Впереди не видно было ничегошеньки. И только когда машина уходила влево или вправо от основного канала движения, дворники срывали пыль с лобового стекла.
Вадим шел наугад. После каждого движения стеклоочистителей в желтом мареве, которое видел перед собой экипаж, появлялся просвет. Ненадолго, буквально на долю секунды. Но этого было достаточно, чтобы оценить ситуацию впереди. Штурман посоветовал пилоту не торопиться. Вадим еще сильнее нажал педаль газа. На его лице не дрогнул ни один мускул.
«Что за странный человек, – подумал штурман. – Он все делает наперекор, как подросток». Разница между ним и пилотом заключалась в том, что гонщик был боссом, платившим деньги штурману, для которого было достаточно участия в гонке. Просто дойти до конца, хотя бы и в конце списка финалистов. А Вадим, в отличие от человека, делившего с ним кабину машины, страстно желал победы.
Вдруг под днищем раздался удар. Машину подбросило. Как только она приземлилась, ее тут же снова немного оторвало от земли, и она, казалось, поскакала, как скачет футбольный мячик во время игры дворовой команды. Когда подскоки прекратились, и машина остановилась, гонщики переглянулись. На запыленных лицах читалось удивление и надежда, что с автомобилем все в порядке.
– Кажется, поймали камень, – сообщил Вадим и так понятную новость.
Штурман серьезно кивнул.
Пилот вышел из машины и заглянул под днище внедорожника. Картина, которую он увидел, не могла обрадовать. Поворотный рычаг, от которого зависело положение колеса, был заметно погнут посередине. А под ним, как риф, пропоровший днище парусника, расположился огромный валун. Он-то и стал причиной мощного удара. Теперь о скоростной езде не могло быть и речи.
– Ну, что, попробуем завестись? – спросил пилот так, словно от штурмана зависело принятие решения.
Последовал еще один кивок партнера.
Вадим вернулся на свое сиденье и повернул ключ в замке зажигания. Машина грозно рыкнула и перешла на нормальный режим оборотов. Слегка придавив акселератор, Вадим плавно двинул вперед автомобиль. Машина мягко скатилась с камня. Гонщики переглянулись и облегченно засмеялись. И тут же обнаружили еще один позитивный момент, появившийся после непредвиденной ситуации. Пылевое облако развеялось, и дворники бессмысленно ерзали по гладкой поверхности. Стекло было чистым. Перед ними развернулась панорама предгорья.
– Это круче, чем Альпы, – вздохнул штурман, глядя на синие Анды.
– Ну да, – согласился Вадим. – Здесь даже альпинистов называют андинистами.
– Сандинистами? – пошутил штурман.
– Да, только без одной буквы, – усмехнулся пилот.
Ответный смешок застрял в горле у штурмана. На краю видимого желтого пространства он заметил столб дыма. Черные клубы столбом поднимались вместе с нагретым солнцем воздухом. Что-то горело среди безмолвия. И это «что-то» пылало так, как обычно горит топливо.
Несмотря на согнутый рычаг, украинцы старались выжать максимальную скорость из своего внедорожника. Два или три раза машине пришлось выдержать удары камней, правда, судя по звуку, менее крупных, чем тот, который заставил их остановиться. Через час они были на месте. Трасса гонки пересекала обычное шоссе. Дорожное полотно лежало на высокой насыпи, а за ней, похоже, и находился источник огня. Вадим повел машину в лоб по склону и, как только выехал на асфальт, тут же заметил огромный костер.
Горел автомобиль, зарывшись крышей кабины в песок и выставив вверх четыре колеса. Это был грузовик.
– Ты узнаешь машину? – спросил штурман.
– Да, – ответил Вадим сквозь зубы. Он давил на газ. Внедорожник резко соскочил с асфальта и начал спускаться на другую сторону насыпи. – Это Дубчек.
Они подъехали к грузовику и выскочили из своей машины, оставив двери открытыми. Подойти близко к горящему грузовику было невозможно. Жар обжигал обветренные лица.
– Надо вытащить людей! – крикнул Вадим штурману.
Тот стоял с другой стороны пожарища.
– Не надо, – ответил он боссу. – Давай сюда!
Вадим побежал к штурману и, как только обогнул грузовик, тут же заметил три тела, лежащие рядом. Пилот, штурман и механик. Разметав в стороны руки, они, казалось, не подавали признаков жизни. Но вот один из разбившихся чехов шевельнулся и повернул лицо в сторону Вадима. Пилот узнал Алеша Дубчека.
Вадим Нестерчук
– Что случилось? – спросил украинец, наклонившись к чешскому гонщику.
– Да погоди спрашивать! – крикнул штурман. – Надо оттянуть тела.
– Остальные тоже живы, – сказал он, когда пострадавшие оказались на безопасном расстоянии от грузовика.
– Я их вытянул, – проговорил очнувшийся Дубчек на английском.
– Слава Богу, – вырвалось у Вадима. – А сам-то как? Встать можешь?
Алеш попробовал подняться, но тут же застонал от боли:
– Не могу! Что-то не так со спиной.
Вадим покачал головой. Если Алеш получил перелом, то дело обстояло неважно.
– Поймал крышу, – выговорил раненый чех. – Не знаю, как это произошло.
Он перевел дыхание и снова заговорил:
– Ехали быстро. Я выскочил на эту трассу и поехал прямо. Решил махнуть по шоссе. Думал сэкономить время. И вот тебе, сэкономил.
– Не крути головой, – сказал Вадим. – Кто знает, что там у тебя с шеей?
– Думаю, с шеей у него все в порядке, если разговаривает, – заметил штурман.
Они не сразу услышали шум вертолетного двигателя. Мелкими серо-желтыми смерчами закружился вокруг перевернутой машины феш-феш. Неподвижный Дубчек уставился на медиков, десантировавшихся из вертолета местных ВВС, арендованного организаторами гонки. Взгляд словно застыл, зрачки расширились. Вадим подумал, что Алеш теряет сознание. Гибнет на глазах конкурентов. И тогда украинец принялся трясти лежавшего на песке человека за плечи. Алеш повернул голову и улыбнулся: – Я в порядке, дружище.
– Что здесь происходит? – Между чехом и Вадимом, как будто сам собой, образовался микрофон французской съемочной группы. Камера была тут же. Ее объектив, как наглый соглядатай, с любопытством рассматривал место аварии и лица пострадавших. Чех скривился, словно от боли. Он, откровенно говоря, ненавидел, когда оказывался в центре внимания в тот момент, когда был слабым и немощным, когда надежда на победу ускользала от него. Испарялась, как бензин, пролитый на горячий песок.
А Вадим поймал себя на мысли о том, что сейчас ему нравится быть в центре внимания. Он попытался взглянуть на себя со стороны и увидел стройного подтянутого человека неопределенного возраста, в оранжевом комбинезоне, занятого спасением пострадавшего товарища. Вадим представил себе, чтó именно видит французский оператор на мониторе видоискателя. Клубы пыли в лучах белого жестокого солнца. Разбитый грузовик. Жертвы катастрофы, с отрешенными лицами. И сосредоточенные лица их спасителей с припудренными пылью лицами, на которых струйки пота, словно горные реки, прокладывали себе дорогу через пустынный мэйк-ап. Оператор работал быстро и четко, меняя позиции и ракурсы. «Я снова буду в новостях», – подумал украинец не без удовольствия, и тут же принялся отгонять прочь тщеславные мысли. Тщеславие коварный попутчик. Оно похоже на неправильно выставленное зеркало заднего вида, в которое постоянно заглядываешь, чтобы увидеть свое лицо, вместо того, чтобы следить за дорогой. А заглядевшись на себя, можно пропустить удар в задний бампер своей машины.
– Поднимите его и несите, – крикнул журналист, – помогите врачам!
– Кто? Я? – переспросил Вадим и тут же схватился за край носилок, которые крепкие чернокожие санитары уже просунули под стонавшего Алеша. Жесты и движения Вадима были широкими, заметными издалека. Когда чеха наконец пристроили в десантном отделении «медэвака», украинец пожал сопернику руку и после этого обнял его. Оператор снял, как вертолет поднимается вверх. Теплый воздух опасно посвистывал, разрезанный винтами. Как только машина исчезла в облаках пыли, разбавленных лучами жаркого светила, журналисты тут же бросились прочь от перевернутой машины. Через несколько секунд их вертолет, небольшая стрекоза с опознавательными знаками французского телевидения, поднялся из-за шоссейной насыпи. Со стороны Вадима его не было видно, во всяком случае, до момента взлета.
– Отличный кадр! – говорил оператор, просматривая отснятое видео. – Клубы песка, и этот парень в оранжевом. Ну просто кино!
– Это круче, чем кино! – улыбнулся журналист. – Это жизнь.
Вертолет растворился в белесой дымке.
Ocho. El desertor
Империя растянулась на север и юг континента, она за каких-нибудь сто лет выросла из тесной одежки околиц Куско до размеров огромного государства. Так семя, брошенное в землю, впитывает в себя всю ее силу и живительные соки, а потом пускает росток, из которого вырастает дерево. Природе могут понадобиться годы, чтобы мощный ствол начал давать тень усталым путникам, а крона прикрывала их от дождя. Империя служила домом для миллионов людей. Великий Инка Пачакути, как о нем говорили, был не только жестоким воином, но и милостивым правителем, давшим равные права всем народам, если те желали вместе выращивать общий дом и общий сад под названием Тавантинсуйу. Золотой сад в Кориканче был всего лишь символом благополучия и гармонии людей, любивших свободу в виде сознательного выполнения своих обязанностей перед родиной. И только с приходом чужеземцев в высоких металлических шлемах люди почувствовали, что были несвободны. Оказалось, что родина и Великий Инка означают примерно одно и то же. Умирая на поле брани за родину, падая без сил на потрескавшуюся, высохшую без дождя пашню, они думали, что защищают империю и самих себя. Новые хозяева земли объяснили им: родина – это не люди, родина – это император. Чем больше крови упадет на землю, тем легче ее потом возделать. Свободу легче оценить в деньгах, чем с помощью абстрактных эталонов измерения. И это, в конце концов, сработало.
Солдат, которого Чинча встретил на ночной улице, долго искал своего нового хозяина. Воинам не пристало страшиться будущего, но когда солдат понял, что Чинча исчез и, быть может, навсегда, то его охватил страх. Тавантинсуйу распадалась буквально на глазах, и он чувствовал этот распад каждой клеточкой своего крепкого натренированного тела. В ту ночь, когда солдат увидел Чинчу, он размышлял об очевидности неочевидного. Понимание законов мироздания смешалось в его голове с непониманием своей роли в этом меняющемся мире. Архитектор – «архитектор! как это было важно!» – показался ему тем, на кого можно было опереться в новой и непонятной реальности. У солдата, как у нового дома, появился фундамент. Имя ему было – Чинча. И теперь, когда он исчез, исчезла и надежда. Воин почувствовал, что надежный и твердый камень, за который он, повисший на скале безвременья, держался изо всех сил, расшатался и вывалился из своей ниши, и теперь, живой и неживой, они вместе летят в пропасть. Надежда, где ты? Она лишь в том, что пропасть не имеет дна, и впереди у солдата была бесконечность свободного полета.
На полпути между Куско и Кахамаркой он встретил группу простолюдинов в истрепанных накидках. Они шли пешком по направлению к столице, в то время, как солдат возвращался к месту пленения Великого Инки. Вслед за путниками ехал бледнолицый всадник в высоком шлеме и с аркебузой, которую он держал перед собой, положив поперек седла. Воин сразу же смекнул, что испанец конвоирует подданных поверженного императора, и поэтому он не решился заговорить с ними первым.
– Постой, – услышал он, как один из путников позвал его. – Ты кто?
– Я из местной айлью, – слукавил солдат. – Меня послали в Кахамарку, чтобы я посмотрел и рассказал своим о том, что там происходит.
– Можешь спросить меня. Я тебе расскажу все подробно.
Путнику было лет шестьдесят. Его лицо, покрытое сетью мелких морщин, напоминало глиняную стену заброшенного жилища – оно было таким же старым и непроницаемым. Этот человек не понравился солдату, слишком уж бесцеремонно он остановил его на дороге. И в то же время в нем чувствовалась уверенность и сила, а значит, он, несмотря на то, что был человеком малоприятным, вызывал уважение. Даже у первого встречного, каким оказался беглый воин.
– В Кахамарке содержат нашего Инку, плененного и опозоренного, – говорил пожилой наглец, – но наш долг сделать все возможное, чтобы освободить его. Люди Солнца решили, что он должен заплатить выкуп. И вот они снарядили этих людей за золотом в Куско.
К беседовавшим подъехал всадник в металлическом шлеме. Казалось, он хотел слышать, о чем говорят туземцы, хотя это было не так – испанец не понимал ни слова на местном наречии. Всадник был молод и любопытен, он с интересом глазел на все то, что видел в новой стране. В отличие от бывалых воинов, которые составляли костяк отряда Писарро, он не был агрессивно настроенным по отношению к местным жителям. Всадник вслушивался в слова и пытался запоминать их мелодичное звучание.
– Я кипукамайок из Кахамарки, – продолжал суровый старик. – Мне велено взять в Куско столько золота, сколько смогут донести на себе эти люди.
И поднял вверх связку веревок черного и красного цвета, перевязанных в нескольких местах крепкими узелками.
«Кипукамайок, – подумал солдат. – Как я не догадался сразу, что это очень важная персона». Должность кипукамайока, чтеца узелковых записей кипу, была одной из самых важных в империи. Он не водил войско в битвы и не заставлял крестьян выходить на поле после засухи, чтобы отплатить работой сполна за то, что они должны Солнцу и Великому Инке. Но он записывал все доходы и расходы общины. Узелки на его разноцветных веревках, зашифрованные знаки сплетались в абсолютные и относительные величины, и за их причудливой конфигурацией угадывались вес, размер и объем. А также история великого народа. Легенда гласила, что в Тавантинсуйу когда-то, вместе с письмом кипу, существовало и другое, смысл которого был зашифрован в рисунках людей и животных. Отголосок этой легенды отпечатался на узорах, которые украшали накидки воинов и знати. Солдат верил, что в легенде этой есть доля правды, ведь рисунки, которые старухи вплетали в ткань, были похожи один на другой и располагались всегда в одном и том же порядке. Воин не сомневался, что мастерицы действуют так сознательно, подчиняясь тайному плану или приказу, исходившему откуда-то из Кориканчи, Храма Солнца. Солдат был очень проницательным человеком, и его собственный опыт подсказывал ему, что в этой Стране Четырех Сторон ничего просто так не делается, не происходит.
Кипукамайок подозрительно глядел на своего неожиданного собеседника. Всадник пытался сдержать своего строптивого коня, взбивавшего от нетерпения красноватую землю родины.
– Оторонко! – услышал солдат свое имя.
Ему удавалось сохранить свое имя втайне даже от Чинчи. И дело тут не в том, что архитектор мог бы использовать его в своих целях или навредить беглецу, потерявшему веру в императора. Он был родом с Севера. До победы над царством Кито его община считалась пограничной, и многие традиции северян были в ходу у его родственников. Одно из местных преданий гласило, что, кроме тебя, твое настоящее имя должны знать только отец, мать и, возможно, братья и сестры. Северяне верили, что только имя начинает сотрясать воздух, злые невидимые создания, обитающие вокруг, пожирают его, и ты, в конце концов, теряешь желание узнать этот мир получше, а затем внезапно наступает старость и смерть. Солдат не очень хотел столь рано превращаться в старика. Кто знает, может, этот чтец узелков, кипукамайок, лишь выглядит старцем, а на самом деле он молодой человек, потерявший самого себя. И поэтому, услышав свое имя, солдат поначалу себя ничем не обнаружил. Но человек из отряда книгочея продолжал звать его по имени. Воин рассмотрел его и слегка опешил. Уска, родной брат! Это был его брат Уска, вместе с которым они ушли служить в войско императора. Они оба получили имена диких зверей. Оторонко – «Ягуар» и Уска – «Лесной Кот» с детства были неразлучной парой и в драки вступали обязательно вдвоем, спина к спине. Уска знал, что его брат покинул войско самовольно.
– Оторонко, Оторонко, куда же ты пропал из Куско?
Брат, растолкав товарищей, вышел вперед и обнял его.
– Куда же ты пропал, Оторонко? Ты заставил мое сердце тосковать.
Он держал брата в объятиях очень долго. Группа носильщиков молча наблюдала за их встречей. Молчал и старый кипукамайок, а испанский верховой сумел, наконец, заставить своего коня стоять смирно. И тут брат солдата внезапно отстранился от него, не переставая держать Оторонко за плечи. Лицо его нахмурилось.
– Ты стоял в карауле на центральной площади. Ты знал, что идет война.
– Ну, судя по испанцу, – усмехнулся Оторонко, – ты теперь на другой стороне. Как и все эти люди.
– Нет, – печально и немного сердито сказал Уска. – Мы пленники. Война не окончена, она проиграна. Мы сейчас спасаем нашего императора. А что делаешь ты?
– Спасаю нашу империю, – промолвил Оторонко.
Кипукамайок внимательно наблюдал за разговором братьев. Он был не в силах утаить свой гнев, который поднимался в нем, как кипящее молоко в кувшине, поставленном на костер. Его спутники-носильщики, посмотрев в глаза кипукамайоку, испугались и расступились. Счетовод и чтец летописей шагнул вперед и громко выкрикнул:
– Так ты оставил своего командира? Ты совершил преступление, достойное смерти!
Носильщики вздрогнули и отступили от кипукамайока еще на один шаг. Всадник по-прежнему ничего не понимал.
– Да, но я нашел другого командира и повелителя. Более сильного и честного, чем тот, который заставлял меня сторожить пустую площадь посреди столицы.
– Нет! – закричал счетовод. – Нет у солдата другого командира, кроме того, который назначила ему Империя Четырех Сторон. А у командира есть свой командир, это тот, кто стоит на ступень выше. И так до самого Великого Инки. Это понятно?
Носильщики дружно закивали головами. Кивнул и брат солдата, все так же напряженно вглядываясь в лицо беглеца. За считаные мгновения он и нашел, и потерял. Нашел своего пропавшего брата. И тут же потерял его, потому что не мог доверять человеку, предавшему императора.
Кипукамайок поднял руку и указал пальцем на беглого солдата.
– Ты! – выдохнул он резко. – Ты!
Это прозвучало, как приговор. И носильщики правильно поняли его. Они бросились на Оторонко с дикими криками, которые разнеслись эхом по всему окрестному лесу, и даже птицы взметнулись вверх над кронами деревьев, услышав эти вопли. В руках у разъяренных людей Оторонко заметил невесть откуда взявшиеся палки. Но нет! За секунду до того, как подчиненные этого безумного счетовода дотянулись до беглеца, он успел заметить, что в руках у носильщиков часка-чуки. Это было страшное оружие. Длинную рукоять из тяжелой древесины украшала каменная звезда, которая оставляла на теле противника тяжелые раны. Часка-чуки это, по сути, булава, или, точнее, боевой молот. В руках любого солдата такой молот становился грозным оружием. «Солдата, но не простолюдина!» – догадался Оторо. Как только первый носильщик из этого отряда лихо крутанул часка-чуку в руке, дезертир осознал, что перед ним не рабы, а его товарищи по ратному делу, такие же упрямые и беспощадные, каким он сам был еще недавно. Странно было то, что испанец продолжал сидеть в седле, не предпринимая ничего, чтобы остановить грядущую расправу. Или же наоборот – возглавить ее. И только конь под ним снова нервно заплясал, подняв копытом облако пыли.
Первый удар Оторонко отразил весьма удачно. Он был хорошим солдатом и, пока служил в войске Великого Инки, внимательно выслушивал все, что говорили командиры, с точностью повторяя все, что они показывали. А говорили они вот что: если ты вдруг оказался без оружия, и тебе внезапно пришлось принять удар молотом, булавой или просто палкой, уклонись в сторону и прикрой голову так, чтобы оружие скользнуло по мягким тканям руки.
И Оторонко сделал так, как учили его на занятиях. Правой ногой он шагнул чуть в сторону от нападавшего, корпус наклонил вправо, а левую руку поднял под углом над головой. Если бы тяжелый наконечник пришелся по голове, то боль от удара была бы последним ощущением, которое испытал Оторонко. Но рука воина приняла на себя древко боевой булавы. Оружие, не причинив особого вреда, скользнуло по мягким тканям, и когда оно оказалось на уровне плеча, Оторонко неуловимым движением захватил его. Левая рука зажала молот под мышкой, а правая нанесла противнику сокрушительный удар по челюсти. Носильщик, опешив, отпустил свой молот и свалился набок в рыжеватую дорожную пыль. Но дальнейший ход этого сражения все еще был непредсказуем. Соотношения сил сторон были явно не в пользу дезертира.
Он завладел боевым молотом. Но ни один из ударов Оторонко не был точным. И все потому, что ему приходилось отбиваться от явно превосходящих сил противника. Теперь, сражаясь с носильщиками, он, наконец, смог посчитать их количество. Восемь бойцов размахивали оружием, девятый лежал на земле. Десятый, кипукамайок-счетовод, следил за битвой, гневно жестикулируя руками. Одиннадцатый, Уска, брат воина-дезертира, был не в счет. Он присел возле упавшего носильщика, обхватив свою голову руками от отчаяния и полного бессилия. Но был еще и двенадцатый – испанец в металлическом шлеме. Он слегка отрешенно наблюдал за сражением, но было понятно, на чьей стороне он выступит, если решит вмешаться.
Часка-чуки в руках Оторонко летала из стороны в сторону. В первые секунды боя он не пропустил ни одного удара и поэтому все еще оставался жив. Он надеялся, что брат вступится за него, но эта надежда быстро испарилась, смешавшись с диким безумием отчаянных носильщиков и яростью их начальника-кипукамайока.
Испанец знал, что носильщики, которых ему дали для того, чтобы вынести из Куско как можно больше золота, – это бывшие солдаты. А если и не знал, то, несомненно, догадывался. Люди Солнца хорошо изучили местные нравы и быстро поняли, что не в обычаях империи было доверять оружие простолюдинам. От кого защищаться, если в стране нет воров, и местные жители, уходя из дома, никогда не закрывают дверь на замок? Ни одного замка в Тавантинсуйу испанский всадник не видел. Кроме, пожалуй, тех, что навесили сами испанцы.
Солдаты – это совсем другое дело. Они никогда не расставались с оружием, в любой момент готовые выступить в поход. Защищать честь и славу Великого Инки во имя Инти, Солнца, которое особенно ярко светит над вершинами суровых белых хребтов. И Пачакамака, создателя всего земного.
Солдат испанцу дали с тем, чтобы они защищали сокровища. Богатство Земли Четырех Сторон это символ власти. Власть переходит от Инки к людям Солнца. Воины служат новой власти и спасают старую. Все честно. Никто не нарушает клятву верности. Кроме этого дезертира Оторонко, по случайности названного этим прекрасным и гордым именем, которое достоин носить великий воин, а не беглец. Носильщики думали, что они все еще солдаты, а значит, молот правосудия у них никто не отбирал, и этот молот должен наказать преступника. Но преступник не желал подчиняться жестоким законам и сопротивлялся изо всех сил. Вот один из солдат схватился за раненую руку, выпустив оружие. Вот и другой рухнул на землю, получив удар в живот. Но силы Оторонко иссякали в восемь раз быстрее, чем у нападавших. Он сделал одну ошибку, отражая удары, потом другую, а третья уложила его на обе лопатки. И вот, в то мгновение, когда сильная рука занесла над его головой молот, он услышал дикий, душераздирающий крик. Это кричал его брат Уска. От вопля лошадь испанца испугалась и встала на дыбы. Наездник потянул было повод на себя, но сделал это слишком резко. Конь занервничал еще больше и рванул в сторону. Всадник вылетел из седла и оказался на земле. Его начищенный до блеска шлем слетел. И в этот момент животное решило снова встать на четыре ноги. Незащищенная голова оказалась под быстрым копытом. Битва остановилась, кто-то из носильщиков бросился к человеку на земле, но было поздно. Пришелец бился в предсмертных конвульсиях. На голове зияла страшная рана. Кровавые пятна казались не слишком заметными на красноватой земле.
– Беги, брат! – услышал Оторонко, так и не увидев напоследок лицо родного человека. И стремглав бросился в сторону ближайших зарослей. Они больно стегали его по лицу, словно одержимые желанием добить его вслед за носильщиками, но эта боль ничего не значила по сравнению с той, которую Оторонко переживал внутри. Он бежал и бежал вперед, пока не стемнело, и, когда, не заметив мощного корня под ногами, споткнулся и рухнул, то не стал подниматься. Он перевернулся на спину и посмотрел наверх. Небо чернело, и первые звезды заглянули сверху в его глаза, полные слез. Оторонко оплакивал страну, которой не стало. Чинчу, который растворился в хаосе катастрофы. И брата, которого нашел и потерял в течение одного безумного дня.
Правая рука Оторонко по-прежнему сжимала рукоятку молота. А в левой было нечто необычное. Несколько разноцветных веревок, перевязанных узелками. Кипу, узелковый шифр, который был у сердитого кипукамайока, неизвестным образом перекочевал к Оторонко. Возможно, дезертир в пылу битвы перехватил веревки у счетовода и теперь сжимал их, сам не понимая, что держит в руках послание невероятной важности.
Десять. Рада
Никто не знал, что случилось этой ночью, но утром штурман украинского экипажа объявил, что дальше никуда не поедет.
– Все, я выбываю из гонки! – сказал он Вадиму на рассвете, сидя в палатке и набивая спортивную сумку нехитрым скарбом.
– Но почему? Ты можешь объяснить? – Вадим старался быть спокойным, насколько это позволяла ситуация. А она, в смысле «ситуация», не давала ни малейшего повода к спокойствию и уверенности, особенно в завтрашнем дне. Потому что день сегодняшний обещал быть самым последним для оранжевого экипажа в этой великой гонке: по правилам регламента без штурмана могли ехать мотоциклы и квадроциклы, но никак не экипажи легковых авто. Мало того, в правилах четко было сказано: экипаж без штурмана снимается с соревнований.
– Объясни мне, пожалуйста, что произошло, – попросил пилот.
– Все, без комментариев, Вадим!
Лидер команды нахмурил брови и вздохнул:
– Ладно, пойду собирать наших!
– Не надо нас собирать, – услышал он голос Валеры, доносившийся снаружи. – Мы уже здесь!
Вадим широким движением откинул полог палатки. Валера стоял, широко расставив ноги. Его мощные ручищи грозно сложились на груди, подперев кулаками бицепсы, отчего те казались еще больше. Штурман всеми частями тела почувствовал, что его сейчас могут побить и весьма больно. Правда, к своей чести, партнер Вадима, теперь уже бывший, задумался лишь на минуту и вернулся к своему занятию. Его сумка продолжала наполняться нижним бельем, перчатками без пальцев, очками, грязными комбинезонами, и с каждым новым предметом места в ней становилось все меньше.
– Ты нас подставляешь! – подал голос Бубенчик.
– Еще неизвестно, кто кого, – огрызнулся штурман.
Валерий не выдержал:
– Что-о-о! Да как ты смеешь!!!
Вадим встал между ними.
– Ну, хватит кипятиться. Это его решение. Единственное, что я могу сделать, это оставить его без денег. Не заплачу ему ни копейки.
– Ну, это мы еще посмотрим. Суд, он разберется.
Бубенчик снова подал голос.
– Суд у нас, как ты знаешь, самый справедливый в мире. А закон украинский, как дышло, куда повернул, туда и вышло. Он поворачивает, – кивнул говорливый механик на Вадима, – а не ты.
Штурман не мог сдержать досады. Он вздохнул и, подняв сумку, изо всей силы швырнул ее оземь. Рыжая пыль тут же взвилась в воздух, чтобы долго не оседать. Штурман сел на сумку сверху и снова вздохнул. Он долго подбирал слова, но команда терпеливо его ждала.
– Все соперники нас обвиняют в этом, – дождались они ответа.
С точки зрения конкурентов, ситуация была, мягко говоря, странной. На трассе – катастрофы, смерти и просто неприятные сюрпризы один за другим. И только украинский экипаж, как ледокол, идет вперед, выигрывая в любой ситуации время и место. Странный такой ледокол, затерявшийся в сухих и опасных дюнах. «Почему у вас все так идет?» – спросил штурмана американец Робби Горовиц, прижав его своим мощным телом между душевой и туалетом. В пластиковой кабинке, очевидно, было отнюдь не пусто, потому что из-за тонкой стенки донеслось дежурное: «Sorry!». Это было вчера, а сегодня штурман признался в том, что с ним случился этот неприятный инцидент. И особенно неприятно удивил штурмана нервный холодок, который внезапно возник где-то под самым желудком, этакий сигнал о легком испуге. Робби не отличался галантностью, это всем было известно, а широкие плечи и мощный вес сообщали, что выбирать американца в качестве противника для мордобоя было опасно и, в целом, бесперспективно. Штурману не хотелось по морде, вот это он для себя понял в тот момент, когда «Sorry!», произнесенное за стеной из синего пластика, так соответствовало извинениям, которые он начал произносить в адрес Робби. Правда, это были, скорее, извинения за то непонимание языка, которое свойственно не-носителям английского. «Да, ладно, ты все понимаешь», – сказал Робби с хмурой ухмылкой.
– Он что, хотел тебя ударить? – спросил Вадим, услышав от штурмана эту историю.
– Думаю, да. Было у него такое желание, – признал штурман.
Бубенчик засмеялся, как это он обычно делал в кризисных ситуациях. Смех придавал ему энергию, бодрил, а заодно и развеивал страхи, если таковые находились. Мол, нам и это нипочем.
– Нас больше! – сказал он весело. – Пусть только попробует!
– Успокойся! – серьезно оборвал его Вадим. – У Робби очень большая группа поддержки. Только механиков по четыре на каждого. Но вообще-то не в этом дело. Они правы.
– В чем, Вадим? – возмутился Бубенчик.
Лидер команды почесал свой круглый затылок, как бы подыскивая нужные слова. Он понимал, что происходящее на гоночной трассе выглядит странно, и катастрофы уже почти невозможно списать на опасность и риск непредсказуемой гонки. Но в то же время доказательств причастности украинцев к этим катастрофам не существует. Как, впрочем, и других рациональных объяснений. Все это Вадим и высказал.
Вадим понимал, что не сможет уговорить штурмана остаться. Есть люди, которые легко расстаются с партнерами и даже друзьями. И гонщик относился именно к таким. Людей такого склада полным-полно в бизнесе. Они дружат, искренне делая добро своим друзьям, но как только им кажется, что друзья имеют свою собственную точку зрения на происходящее или же становятся обузой для общего дела, то дружба заканчивается. И заканчивается дело. Кто не с нами, тот против нас. Нужно шагать вперед, переступая через рефлексии и предрассудки. Вот таким человеком и был Вадим. Он любил говорить о демократичности и необходимости иметь собственное мнение, но из всех мнений, в глубине души, признавал только свое.
– Ладно! – сказал он, и по его интонации стало понятно, что стихийное собрание команды окончено. – Кто хочет уехать, пусть уезжает. Кто хочет остаться, пусть подумает над тем, что в моей машине есть одно вакантное место. Мне нужен штурман.
Штурман забрал свою сумку и направился к выходу из бивуака. Ближайшие три дня у него были расписаны по часам, как информация на табло аэропорта. Он собирался сесть на рейсовый автобус, добраться до Сантьяго, а затем вылететь на остров Пасхи. «Раз уж я здесь, и раз уж я один, – думал штурман, – то надо увидеть эти каменные фигуры, о которых так долго говорят ученые и путешественники. Нужно побыстрее забыть о гонке».
Билеты на самолет до острова Пасхи он уже заказал через интернет, еще до того, как состоялось общее собрание.
Вадим вышел из палатки и направился к оранжевой машине. Он откинул брезентовый полог и посмотрел на стального зверя. Впрочем, как человек, лишенный сантиментов, Вадим не считал машину живым существом. В прежние времена, когда личный автотранспорт был большой редкостью, владельцы «запорожцев» и «жигулей» вкладывали в стальные самодвижущиеся повозки столько сил и энергии и, откровенно говоря, денег, что волей или неволей из хозяев автотехники превращались в ее рабов. А рабам, как известно, свойственно поклоняться своим хозяевам. Вадим давно понял, что люди, называющие свои машины «моя ласточка», «моя красавица», «мой зверь», раздающие железным конструкциям ласковые эпитеты, несвободны. Они не хозяева – ни над машиной, ни над судьбой, – а Вадим всегда хотел быть хозяином. И вот сейчас он по-хозяйски смотрел на железный агрегат оранжевого цвета с разрисованными боками. А мысли гонщика были далеко, уже на финише, и он понимал, что без штурмана он сможет добраться туда только на транспорте своего воображения.
– А что это у вас нарисовано? – услышал он голос Эспинозы. Себастьян, тяжело дыша, подошел к лидеру команды и, видимо, решил завести пустой разговор.
– Тут много чего нарисовано, – усмехнулся Вадим. – Что именно вас интересует?
– Да вот этот странный символ, – и Эспиноза указал на две скрещенные булавы.
Рисунок был довольно неаккуратно набит на левое крыло, несколько криво и с морщинами. Под лентой, на которой был нанесен этот довольно амбициозный символ, остались мелкие пузырьки воздуха, и сразу было ясно, что изображение клеили в спешке. Вадим очень хотел, чтобы символ украинских гетманов красовался на его машине. Храбрые безжалостные предводители казацкого войска, бойцы и полевые государи, чье воинское искусство оттачивалось годами, а политическая хитрость – опытом выживания в неимоверно трудной и враждебной среде, с детства впечатляли честолюбивого гонщика. И право носить булаву, как известно, в полевой республике Запорожской Сечи имел только один человек, гетман. Все это и попробовал объяснить Себастьяну украинец, не упомянув лишь о своих скрытых амбициях. Но это и не было нужно, поскольку Себастьян был очень проницательным человеком.
– Недавно вы показывали мне фото человека в костюме вождя, – напомнил Вадим. – У него в руках тоже была булава.
– Какие, однако, странные совпадения! – воскликнул Эспиноза.
Вадим удивленно поднял на него глаза.
– Великие Инки выходили к людям с булавой в руках. Ее ручка обычно была деревянной, а навершие – из камня или серебра. И только император, единственный человек во всей большой империи, имел право держать в руках священное оружие, целиком сделанное из золота.
Сказав это, Себастьян усмехнулся, и его смешок напомнил фырканье сытой лошади. Он сделал краткое резюме диалога:
– Ваши и наши вожди похожи. Как родные братья.
Вадим хотел добавить, что все вожди в подлунном мире похожи друг на друга, но вместо этого произнес:
– Знаете что? Спрошу как мужчина мужчину. Будете моим штурманом, а?
Себастьян осекся. Он внезапно ощутил, что его лишний вес вдвойне давит на его сердце.
– Как мужчина мужчине замечу: странный вопрос. Звучит как предложение руки и сердца.
Перед толстяком оказалась раскрытая ладонь Вадима. Полицейский задумался ненадолго, а потом звонко хлопнул по ней своей ладонью.
– Короче говоря, я согласен!
Nueve. El hombre y el jaguar
Ему снилась прекрасная незнакомка. Он ловил на губах ее дыхание в то время, как ее нежные губы влажно касались его щек. Но когда их глаза встречались, он замечал в них яркий блеск и недобрый огонек. Он попробовал оттолкнуть девушку от себя и в этот момент проснулся. Перед ним была хищная кошка, отскочившая от него на два шага и готовая снова прыгнуть. Оторонко сообразил, что ягуар – а это был именно он, повелитель леса! – уже подкрался к нему незаметно и успел лизнуть свою добычу. Но добыча отказалась повиноваться неминуемой судьбе и встала в боевую стойку. Такой непредвиденный поворот событий напугал кошку, и ягуар на всякий случай отпрыгнул подальше.
Оторонко и ягуар смотрели друг на друга, пытаясь определить малейший намек на провокацию или бросок. Оба считали, что противник может быть смертельно опасным. Но с течением времени точка зрения ягуара менялась. Как только природный страх отпустил быстро бившееся сердце зверя, он смог спокойно рассмотреть опасное существо. И оценить, что оно вовсе не опасно. Невысокий, худощавый, двуногий… К тому же эти две ноги его с трудом держали. И отсутствие шерсти намекало на то, что перед ягуаром все-таки добыча. Хотя и смелая. Ягуар пригнул голову к земле, лениво прикрыв глаза веками. Но это был лишь обманный маневр, и Оторонко разгадал его. Ведь недаром в могучей – некогда могучей! – армии Великого Инки солдат учили искусству выживать. А Оторонко был хорошим и пытливым учеником. Он тоже попытался обмануть ягуара и, чуть согнув ноги, широко развел ладони и зарычал. На хищника это должно было произвести впечатление. Оторонко надеялся, что тот примет его за готовящегося к нападению зверя. Но более одного раза ягуар обманываться не хотел. Он первым прыгнул на человека и тут же пожалел об этом, получив чувствительный удар по голове. Оторонко сам удивился, откуда в его руке появилось оружие. Вернее, оружием тяжелую палку сделали обстоятельства и сильная рука Оторонко, произвольно и незаметно для воли и желания самого хозяина отхватившая ее от ствола ближайшего дерева. Ягуар упал на траву и завертелся на месте, цепляясь лапами за воздух. Ему, однако, удалось вскочить на все четыре конечности, но повторно атаковать добычу он не решился.
– То-то! – погрозил ягуару палкой дезертир.
Зверь облизнулся, издав грозный рык.
– Я Оторонко и ты «оторонко»! – сказал воин. – Мы оба «ягуары».
Имя беглеца на языке кечуа означало «ягуар». Зубастому ягуару было все равно, что говорит двуногий Ягуар. Зато он внимательно наблюдал за ним. Хищник чувствовал: все, что делает этот двуногий, может скрывать угрозу, а значит, перед ягуаром был еще более опасный хищник.
Оторонко, не выпуская палку из рук, принялся искать на земле что-нибудь тяжелое и острое. Особого выбора не было. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Оторонко поднял с земли тяжелый камень и распахнул свой плащ. Под тканью у него был веревчатый пояс, с которым воин никогда не расставался. За него-то он и засунул несколько змей-кипу, оставшихся у него в ладони. Теперь руки были свободны. Камень не помешает. Ягуар все еще может напасть.
О проблеме со зверем можно было ненадолго забыть, задвинуть куда-нибудь на задворки подсознания. Решать надо было с направлением. Он должен был определить, куда направить свой путь.
«Как учили в армии, – принялся вспоминать Оторонко. – Сначала успокоиться, потом определить стороны света».
Каждый воин императора знал: северная сторона дерева покрыта мхом меньше, чем южная. С помощью прикладной ботаники Оторонко быстро определил стороны света. Он знал, что на западе горы, а за ними – великий океан. На востоке лес, а за ним – главная дорога инков. Но она под контролем людей Солнца. И это стало ясным, как сухое небо над пустыней. Но выхода не было. Либо ягуар загрызет его здесь, либо люди Солнца возьмут в плен – там, на востоке. Оторонко выбрал второе.
Он стал пробираться сквозь заросли леса напрямую, памятуя, однако, о том, что левая нога делает шаг меньше, чем правая, и путник, который думает, что идет прямо, возвращается туда, откуда он пришел. Именно поэтому человек по имени Ягуар иногда поворачивал вправо. Он старался считать шаги, и после каждой тысячи делал небольшой поворот направо.
Сделав около десятка таких поворотов, Оторонко решил немного отдохнуть. Когда воин остановился, он заметил в кустах движение. Из листвы на него смотрел ягуар. Глаза в глаза. Желтое мерцание смерти было во взгляде животного. Оторонко показалось, что он читает мысли зверя. Впрочем, они были довольно простыми. И, словно в ответ на них, дезертир поднял вверх палку и камень. Ягуар попятился глубже в кусты, но совсем уходить не стал. Тогда Оторонко решил запутать зверя. И это была его ошибка.
Оторонко быстро шел по лесу, откинув все, чему его учили в армии. Он перестал ориентироваться, думая, что обманывает ягуара. И, в конечном итоге, обманул себя. Солдат развалившейся империи не блуждал по кругу, но и не вышел на открытую местность, к людям. Хотя, по его расчетам, лес должен был кончиться. Но роскошная зелень не давала и шанса на скорое избавление от леса.
Зато от ягуара было не избавиться. Зверь терпеливо брел за человеком через заросли, ни на мгновение не упуская добычу из поля зрения.
Оторонко сообразил, что заблудился. Пришло время отдыха, тяжелый путь через лес измотал воина. Но хищный спутник, облизываясь в сумерках, давал понять, что тоже будет ждать темноты.
«И не боится меня нисколечко», – весело удивился Оторонко. Хотя для веселья не было повода. Ягуар внимательно следил за человеком, пытаясь познать его слабые места.
Человек долго думал, где и, главное, как он будет спать. И наконец додумался. Оторонко выбрал самую разлапистую ветку, которая, по замыслу солдата, должна служить ему постелью. Он развязал веревку, служившую ему поясом, а перед тем намотал на запястье короткие нитки посланий кипу, и привязал на непрочный узелок пружинистую ветку под собой. Веревка была завязана так, чтобы ягуар, позарившись на легкую добычу, задел ее, и узел конечно же развязался. Пружина ветки разожмется и, в лучшем случае, сбросит нападающего, ну или, в худшем, просто больно ударит его. И то и другое устраивало Оторонко. Он быстро справился с поставленной задачей и забылся тяжелым сном усталого и голодного путника.
Когда он проснулся, ягуар был там же. Солнце позолотило его удивительно красивую шерсть. Зверь не осмелился подобраться к человеку, и это хорошо. Но в то же время – и Оторонко, думая о звере, хорошо знал, о чем идет речь, – хищник не уходил. В другое время воин наверняка посмеялся бы над своими страхами, но ягуар мог стать для беглеца самым последним кошмаром. И об этом с большой долей вероятности говорило его упорство.
Как ни странно, кроме упрямого зверя да пугливых птиц среди крон деревьев Оторонко не встретил никакой другой живности. Его начал одолевать голод. Воин стал было срывать листья и попытался их съесть. Но вскоре его рот наполнился неприятной горечью, а живот свело от судороги, и Оторонко вынужден был отказаться от попыток решить проблему голода за счет растений. Он принялся искать коку, зная, что целебные листья помогут снять ощущение голода и наполнят его сердце иллюзией силы. Но, видно, кока не росла в этих краях. С помощью деревянной заостренной палки он стал разгребать сухую землю под деревьями. Он собирался пообедать червяками, если бы ему повезло их найти. Но чем глубже он копал, тем меньше надежды оставалось, и тем сильнее становился его голод.
Ягуар испытывал похожие чувства. Голод сделал его смелее. Острые ребра все чаще дрожали под золотом его шерсти, набирая воздух для решающего прыжка. Хищная кошка не спеша бродила в нескольких шагах от воина и перестала прятаться в кустах, когда деревянная палка в руке воина угрожающе поднималась вверх.
Но ягуар не мог рассмотреть, что происходит с сознанием человека. Вернее, с его страхом. Голод совсем съел его, и, напитавшись кошмарами, превратился в неистового монстра, диктовавшего свою волю существу на двух ногах. Двуногий все больше становился хищником. И все меньше оставался человеком.
Оторонко и сам наблюдал за ягуаром. Он больше не размахивал палкой, понимая, что деревянное оружие отпугивает зверя. Планы Оторонко несколько изменились. Он начинал думать о звере так, словно тот мог стать его добычей.
На исходе был четвертый день блужданий по лесу. Язык Оторонко распух от жажды, живот впал от голода. Его спасали мясистые листья, которые он, превозмогая тошноту, время от времени отправлял в рот. Потом его желудок сжимался в спазмах, пытаясь исторгнуть из себя зеленую тошнотворную массу, но при этом в организме оставалось немного влаги, которая, несмотря ни на что, спасала жизнь дезертира.
Каждый раз, устраивая себе ночлег, он искал глазами ягуара. И всякий раз он находил его все ближе и ближе к своему ложу среди ветвей. Оторонко понимал, что скоро настанет день, когда его рука больше не сможет согнуть ветку и, перевязав веревкой, превратить ее в пружину. А может быть, наутро его затуманенное сознание забудет дать команду его руке снять веревку с дерева. И тогда он не сможет обустроить ловушку и защитить себя.
Хищник все больше заполнял собой его сознание. Тот самый внутренний хищник, который думал о голоде и жажде. Именно он распорядился, чтобы Оторонко подпустил ягуара поближе к себе. Настолько близко, насколько это было возможно для внезапного удара палкой. Острого и точного, как молния.
Ягуар продолжал следовать за человеком. Он заметил, что палка была тяжелой и быстрой. Но с каждым днем этого медленного и неотступного преследования она становилась все медленнее и медленнее. Ягуар решил дождаться темноты.
На этот раз двуногий не стал суетиться под деревом, перематывая ствол длинной веревкой. И это был хороший знак. Люди слишком мало знают о животных и часто не понимают, что звери несколько умнее, чем может показаться на первый взгляд. Ягуар, может быть, и не знал, каково назначение веревки, но интуитивно чувствовал: все, что делает человек, направлено против него. А если он перестал совершать свои обычные движения, это означает, что слабость одолела его. Значит, подошло время для прыжка.
Но ягуара не зря называют императором леса. Каждый зверь рискует на охоте – и охотник, и намеченная жертва. Не только для добычи она может оказаться последней. Хищник, совершив неловкий прыжок, рискует пораниться, причем, смертельно. А в случае с ягуаром, преследовавшим человека, зверю просто могло не хватить сил для второго прыжка. Первый наверняка окажется последним, чувствовал ягуар, и поэтому не хотел ошибиться.
Он тихо подошел на расстояние вытянутой ветви и внимательно втянул в себя воздух. Ничего особенного, как всегда, пахнет страхом, пóтом и испражнениями. На мгновение королю леса показалось, что в сложной гамме ароматов присутствует и какой-то новый оттенок, которого он не заметил ни вчера, ни позавчера. Для того, чтобы понять его происхождение, нужны новые источники информации. Левое ухо хищника завертелось слева направо, а потом в обратном направлении, пытаясь получить новые данные о своей добыче. Как он дышит, ровно или нервно? Шевелится или нет на своей ветке? Правое ухо не отставало от левого в поисках малейших шорохов со стороны человека. Но все было так же, как и вчера. Все-таки показалось. А если все сегодня, как обычно, значит, пришло его время. Время хищника.
Одиннадцать. Хорошие новости
– Наш мир болен, – сказал однажды Норман Вадиму без всякой видимой причины. – Но, я думаю, не безнадежно.
Вадим спросил своего друга, что тот имеет в виду, и профессор-индеец постарался объяснить:
– Сегодня я открываю сайт Би-би-си и вот я читаю подборку новостей, которые мне предлагает это уважаемое информагентство. «Племенной лидер убит в Судане», «Сирийский военно-промышленный объект атакован израильскими самолетами», «Пятеро сгорели в лимузине в Америке», «Член британского парламента обвиняется в изнасиловании». Ну, что ты тут скажешь?!
– И что, ни одной какой-нибудь положительной новости? – улыбнулся Вадим.
– Есть. Одна. Очень важная. Выборы в Малайзии выиграла правящая партия. На фоне предыдущих новостей это, безусловно, положительная новость.
Вадима удивляли внезапные импульсы негодования в его друге, но они были неизбежны и, одновременно, непредсказуемы, как вспышки на солнце. Как правило, причиной этих эмоциональных катаклизмов становилась всемирная несправедливость. Или человеческая природа. На оба явления ни гонщик, ни профессор не могли оказать влияния.
– Если ты не можешь ничего изменить, просто расслабься, – поучал Вадим.
Норман расслабляться не хотел и только принимался возмущаться еще больше.
– Пойми, такие новости не учат нас добру, они учат нас примиряться со злом, – отвечал Вентура.
– Ну, знаешь ли, – рассуждал Вадим. – Новости не должны ничему нас учить, они просто рассказывают, что вокруг нас в этом мире происходит.
– И ты веришь, что ничего хорошего в этот день не произошло? Безусловно, кроме того, что в Малайзии выиграла правящая партия?
Вадим пожал плечами. Нормана это не убедило:
– Вот, смотри, это пишет студенческая газета университета имени Габриэля Морено. Моего университета.
И он распрямил ворох дешевой бумаги, который тут же превратился в черно-белый разворот газеты.
– «В провинции Санта-Крус селекционеры вывели новый сорт кукурузы, устойчивый к холодам. Теперь можно будет накормить жителей горных и пустынных районов, испытывающих трудности с продовольствием», – читал Норман. – Еще. «Дороги провинции решено оснастить дополнительными «лежачими полицейскими», во избежание аварий». Кстати, у нас их называют «Дон Педро». И еще. «Студентам филологического факультета удалось идентифицировать одно из древних наречий языка кечуа. Оно считалось исчезнувшим как минимум триста лет назад». Вот! Вот это хорошие новости!
– Что ты этим хочешь сказать? – Вадим начал уставать от эмоций.
– Только то, что ваши, мировые медиа трубят о плохих новостях, а наши, деревенские газеты, о хороших. Кажется, кто-то прогнал все хорошие и добрые слова из столиц в провинцию.
Норман вздохнул и вновь улыбнулся.
– Но знаешь, что хорошо? – подмигнул он. – То, что этот кто-то, как он ни старался, не смог прогнать их совсем.
И Норман запел старую местную песню, что-то о четырех погонщиках мулов, один из которых высокий и сильный, – кажется, так, – а чтобы песня звучала увереннее, стал отбивать ритм, помогая себе руками.
«Ay, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, palmitas mías que van al agua, que van al agua».Вот этот ритм и вспомнил Вадим, когда молчаливый Эспиноза, трясясь на штурманском месте, запел ту же песню, которую напевал индеец. Машину подбрасывало на ухабах, кочках, дюнах и камнях, а штурман напевал песню о четырех мулах, временами негромко ударяясь о каркас безопасности. Но это было не слишком чувствительно, ведь на Эспинозе был шлем. А песня незаметно помогала комиссару привыкнуть к новой роли, в которой он оказался.
«El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mulilla torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma!»[1]Он привыкал к новым ощущениям скорости. И к совершенно новой работе. Он штурман. Значит, за маршрут отвечает он.
Diez. El carnívoro y su extracción
Ягуар прыгнул легко и грациозно. Зверь постарался, чтобы момент прыжка был неожиданным даже для него самого. Он всегда так делал и всегда выходил победителем в поединке с добычей. Ведь если ты сам не знаешь времени атаки, как его сможет определить твой противник? В ушах зверя засвистел воздух. О, как он любил этот звук! Свистящее мгновение, за которым набитый досыта желудок либо досада голодного дня. В этом случае, чувствовал зверь, выбор невелик. На второй прыжок сил у него уже не хватит. Поэтому мгновение равнялось вечности, а охота на человека превращалась в самую настоящую битву за жизнь. В прыжке обострились все основные чувства охотника. Зверь словно ощущал каждую клеточку своего тела – от острого когтя до кончика пятнистого хвоста. Щелочки его узких зрачков от начала и до конца видели всю траекторию прыжка. Вот он отталкивается от земли, распрямляя пружины задних лап, и подлетает все ближе и ближе к добыче. А спящий человек не шевелится и не знает, что сейчас в него вонзятся готовые к атаке ножи звериных когтей. Он мгновенно приблизился, этот хитрый двуногий. Безволосое создание, защищенное от непогоды лишь собственным упрямством и куском дырявой материи. Достойное только того, чтобы быть съеденным посреди чащи. Или ягуар ошибся?
Когда когти выскользнули из подушечек на кошачьих лапах и уже были готовы разрезать чужую плоть, когда на клыках в оскалившейся, высохшей от голода и жажды пасти появились жадные слюни, а зрачки-щели сосредоточились на точке, в которую нужно вонзиться и впиться, зверь ощутил мощный удар. Или, скорее, толчок в живот. Ягуар, обычно такой внимательный, пропустил мимолетное движение быстрой руки. Зверь не обратил на это никакого внимания, но его лапы так и не достали человека. В тот момент, когда охотник должен был приземлиться на добычу, та откатилась в сторону. Зверь хотел было прыгнуть туда, куда отскочил человек, но так и не смог это сделать. Что-то останавливало его движение, цепляясь за сухую землю. Он посмотрел вниз и увидел, что из его живота торчит палка, поскребывая по земле и подбирая тупым концом траву и листья. Ягуар не мог видеть, что острый конец выглядывает из пятнистой шубы у него на спине, а к черно-желтым пятнам, складывающимся в причудливый узор, добавляется еще одно, красное. Зверь поднял голову и лег. Он грустно посмотрел на человека, его зрачки сузились, потом расширились, потом снова превратились в щели, теперь и вовсе неподвижные. Человек взглянул в эти черные щели и, увидев в них свое, слегка вытянутое, изможденное лицо, тоже потерял сознание.
– Он жив! – услышал Оторонко издалека. Голос показался знакомым. Дезертир ощущал чужие ладони, касавшиеся высохшей кожи на его теле. Голос звучал рядом, но Оторонко не совсем разбирал отдельные слова, как будто говоривший находился за глиняной стеной. К тому же голос вибрировал и дрожал, словно говорившего тащили на носилках-волокушах по камням, и он старался перекричать толпу солдат, которые несли его в неизвестном направлении. Но никакой толпы не было, а был только раненый человек, лежавший на земле, и те, кто его нашел, пытались привести его в чувство. Их было двое. Это раненый понял из их разговора. Говорить с ним было бесполезно, но его уши вслушивались в чужой разговор, полный радости и удивления.
– Он жив, и мы нашли его! – сообщил мужской голос так, словно докладывал о необычайном достижении, и тут же с иронией добавил: – Все-таки этот кипукамайок не соврал!
Видимо, у кипукамайока были веские причины на то, чтобы соврать о местонахождении дезертира, но по интонации говорившего было ясно, что он не переносил вранья. Особенно в исполнении должностных лиц, к которым, безусловно, относился кипукамайок, обязанный точно и дословно расшифровывать узелки и орнамент кипу для вышестоящего начальства.
– Врать нехорошо и незаконно! – согласился женский голос, на что мужской, вероятно, хотел ответить, что мир изменился и что понятия «хорошо» и «плохо» смешались, и что в этой смеси порядка и беспорядка старые законы не действуют, а новых никто не придумал. Но вместо долгого ответа получился короткий смешок, впрочем, сохранивший общий смысл несказанной тирады.
– Он что, ранен? – тревожно переключился на другую тему женский голос.
– Непохоже, – засомневался мужской, и чужие руки вновь стали тревожно ощупывать его тело. – На нем все пропитано кровью, но я вижу, у него нет ни одной раны, не считая небольших царапин на руках. И он жив.
Веки Оторонко чуть дрогнули, но он так и не смог их открыть. Клейкая субстанция залила все его лицо. И по мере того, как сознание возвращалось к бывшему солдату императорской армии, он начинал понимать, что у него на лице кровь.
– Мне кажется, он не может открыть глаза. Точь-в-точь, как и я, несколько дней назад, – сказал мужчина.
– С твоими глазами, Чинча, все могло быть гораздо хуже, если бы я не оказалась рядом, – вздохнула женщина. – Но я не ищу похвалы. Давай-ка умоем ему лицо.
На Оторонко полилась тонкая струйка из кожаного мешка, в котором обычно крестьяне и путники носили воду, но ему показалось, что его с ног до головы обдал водопад свежести и прохлады. Каждая клеточка его тела просила влаги и кричала от радости. Его пробудившийся разум не мог позволить, чтобы такое богатство тратили даром. Рука воина задержала спасительную руку женщины и направила струю к сухим губам.
– Он очнулся, Чинча! – радостно воскликнула та.
– Пусть пьет мелкими глотками, – сказал Чинча, – тогда больше влаги сохраняется в организме.
– А ты попробуй ему объяснить это, – засмеялась женщина и сказала уже воину, лежавшему на земле: – Пей, добрый человек, пей, сколько хочешь.
Уговаривать дезертира не было нужды.
– Как его зовут? – спросила она Чинчу.
– Оторонко, – тихо произнес воин, не дожидаясь, пока за него ответит архитектор.
Женщина, видимо, плохо расслышала ответ и наклонилась, подставив свое ухо прямо под губы воина.
– Оторонко, – прошептал тот. – Ягуар.
Она думала, что слегка измазала кровью щеку, коснувшись Оторонко, но кровь лежала на его лице запекшейся корочкой и лишь слегка поцарапала нежную кожу женщины причудливо застывшим рельефом.
– Давай-ка умоем ему лицо.
Когда корочка превратилась в грязную кашицу, женщина сорвала с ветки пучок суховатых листьев и, плеснув в ладонь немного воды, крепко сжала его. Зеленоватой массой, оказавшейся у нее в ладони, она стерла с лица Оторонко бурые пятна. Теперь воин-ягуар мог открыть глаза.
Он увидел, как архитектор Чинча озабоченно смотрит на него, а незнакомая женщина – или, вернее сказать, молодая девушка – радостно улыбается. А еще он разглядел, что в глубине ее необычно больших для кечуа глаз прячется солнце, и его блики должны были время от времени освещать лица тех, на кого она смотрела.
Но вдруг ее светлое настроение сменилось, словно на солнце в ее глазах наползла туча. Оторонко невольно напрягся, как согнутая ветка, с помощью которой он все эти ночи изнурительного бегства от ягуара готовил смертельную ловушку для хищного зверя.
– Кто это? – спросил он Чинчу.
Тот немного церемониально ответил:
– Ее зовут Окльо. Она дочь главного архитектора Тавантинсуйу. И она знает, как спасти наш народ.
Девушка не стала смущенно опускать ресницы, как это сделала бы на ее месте любая красавица, получив громкую похвалу от мужчины, даже если эта похвала не касается ее внешности. Она властно подняла руку, прерывая тираду Чинчи. Строитель, слегка раздосадованный тем, что его мужское слово оставили без должного внимания, хотел было придать своему лицу суровое выражение, но вовремя сообразил, что это было бы глупо, и что эта девушка имеет право на самостоятельность хотя бы потому, что она спасла ему жизнь. И даже больше. Она спасла ему мир, который он может видеть. И теперь этот солдат тоже открывает свои залитые кровью глаза.
– Чья это кровь? – спросила Окльо воина.
Тот медленно вспоминал все, что с ним происходило все эти дни. И вся история долгой опасной гонки с ягуаром развернулась перед ним, словно узоры на лентах, которые кипукамайоки отдают женщинам в общинах-айлью, потому что считают описанные на них истории глупыми сказками. Это была страшная сказка с хорошим концом, но, впрочем, кто сказал, что она окончилась?
– Это кровь ягуара.
– Ты сказал «оторонко»? Ягуара? – переспросил Чинча.
– Не моя, – Оторонко приподнялся и прислонился к дереву. Он был истощен, он нуждался в отдыхе, но жизнь в его теле уже победила жажду и голод. Теперь он мог идти вперед.
– За мной шел ягуар. Он хотел меня убить. Я его убивать не хотел. Я хотел выжить, вот и все, к чему я стремился. Он был голоден, а я уже умирал от голода. И тогда ягуар решил меня атаковать. Я успел его поразить. Когда он упал, я решил выпить его кровь и съесть мясо ягуара. Он был еще теплый, когда я смог прокусить ему артерию, и жажда заставила меня отведать его крови. Она была очень густая и соленая. Но это был вкус жизни. Погибнув, ягуар спас меня. Потом случилось нечто совершенно необычное. Из леса вышли еще три ягуара. Пока я пытался уйти от зверя, я не заметил присутствия других хищников. Но эти подошли ко мне и заглянули прямо мне в глаза. Я увидел, что они плачут. Их злые глаза были полны грустных слез, и я никогда не забуду, как они смотрели на меня. Я откатился от моей добычи, и тогда они осторожно взяли зубами поверженного мной ягуара. За холку, за шкуру на спине и на бедре. Потом они попятились назад в лес. А я упал вот здесь и решил, что пришло время увидеть, как яркое солнце сжигает мою совесть. И я увидел его, сейчас.
– Он, наверное, бредит, – решил Чинча.
Девушка с ним не согласилась.
– Я думаю, все, что он рассказал, правда. Ягуар не должен убивать ягуара. А твое имя Оторонко. Ягуар. Ведь так?
Оторонко кивнул:
– Пусть это останется со мной.
Архитектор тут же заметил:
– Все равно, то, что сделано, уже не переделаешь. Ягуар – это священный зверь. И жизнь его тоже священна.
И это замечание вызвало такой бурный поток эмоций, которого от измученного путника молодой человек совсем не ожидал.
– Так что же, – закричал Оторонко, – мне нужно было подыхать в этом мертвом лесу, на этой мертвой земле?! С голоду подыхать, от жажды?! Или нужно было дать этому зверю съесть меня, сожрать с костями и дерьмом?!
И откуда у дезертира взялись силы? Он вскочил на шатающиеся ноги и, размахивая, как плетьми, вялыми руками, продолжал кричать на Чинчу.
– Вы, двое?! Вы знаете, что это такое – голод и жажда? Вы знаете, что это такое – ждать, когда на тебя нападет ягуар?
Чинча и Окльо молчали.
– Да, вы не знаете… – вздохнул Оторонко. – Если бы знали, то сразу бы поняли, какая разница между человеком и зверем.
– И какая? – спросила Окльо, скорее по инерции, чем из любопытства.
Оторонко сел на корточки – видимо, короткая и эмоциональная речь съела все скрытые резервы его организма, – и кратко объяснил:
– Никакой.
Двенадцать. «Акуна матата!»
Эспиноза оказался неплохим штурманом. Мысли его были быстрыми и расчетливыми, и ему не составило особого труда разобраться в хитрых символах, испещряющими страницы дорожной книги, которую каждый вечер на недолгом брифинге возле столовой организаторы гонки выдавали ее участникам. Несмотря на то что в ходу на гонке в основном были французские термины, дорожные книги все именовали по-английски «road-books», и, получив их, штурманы обычно садились за деревянные столы в кантине, чтобы уяснить себе, что ждет их на следующий день. Пилотам было необязательно появляться на брифингах, но Вадим в первый день решил нарушить традицию, чтобы поддержать Эспинозу. А заодно – чего там скрывать – убедиться в том, что комиссар полиции может не только злодеев преследовать.
Себастьян внимательно читал условные обозначения, все эти бесконечные стрелки, указывающие направление движения, восклицательные знаки и, самое главное, схематичные и загадочные, как египетские иероглифы, изображения ям, речных бродов и прочих опасностей, обещавших сделать грядущий день долгим и нервным.
Утром на старте комиссар встал раньше всех остальных членов команды, чтобы незаметно для бывалых гонщиков втиснуть свое грузное тело в плотный комбинезон, доставшийся ему от предшественника. Задача была не из легких. Толстые икры не давали застегнуться молниям внизу штанов, над ботинками, и он оставил их расстегнутыми. Себастьян справедливо рассудил, что на скорость движения автомобиля они не влияют, и решил забыть о них. Другое дело молния на животе. Он не давал ей застегнуться, выпирая, как дрожжевое тесто из кадушки у нерадивой хозяйки. Но оставить все, как было, Себастьян не мог, справедливо полагая, что его засмеют все автолюбители мира. Экипаж Вадима наверняка попадет в объективы телекамер, ведь благодаря журналистам, если верить рекламе, гонку смотрят в девяноста шести странах. Молния, похоже, разозлилась на живот. Она хотела укусить его, но только ущипнула и зажевала футболку. Эспиноза тоже разозлился. Одной рукой он резко рванул молнию вверх, а другой постарался запихнуть вниз живот. Это у него получилось, несмотря на то что на футболке осталась дыра. Но о существовании дырки знал только комиссар. Молния сошлась у ворота. Комиссар сходил к общему умывальнику, сделав вид, что плещет теплой водой в лицо. На самом деле он хотел заглянуть в небольшое зеркало над железным краном, чтобы проверить, как он теперь выглядит. Он нашел себя очень убедительным, несмотря на то, что комбинезон подчеркивал все, мягко говоря, несовершенство его сложения. Но Эспиноза никогда особенно не думал о недостатках своей фигуры. И не отказывал себе в удовольствии, хорошо пообедав, еще и плотно поужинать, что, безусловно, находило свое воплощение в лишних килограммах и округлостях в районе талии.
Себастьян обнаружил, что Вадим и за рулем оставался человеком завидного самообладания. Когда машина рвала покрышку на камнях или зарывалась в песок, украинец, абсолютно не меняясь в лице, открывал свою дверь и принимался за дело: менял колесо или спускал воздух из покрышек. Ведь чтобы ехать дальше по песку, нужно было снизить давление в шинах. Иначе машина садилась в песок еще глубже. Любая физическая работа на жаре плюс пятьдесят становилась тяжелой, почти невыносимой для грузного Себастьяна. Пилот замечал, что штурману тяжело и жарко, и брал на себя все то, что должен был делать штурман. Эспиноза смотрел на капли пота, обильно стекавшие с бритого затылка Вадима, и тихо спрашивал:
– У нас серьезные проблемы?
– Разве это проблемы, Себастьян? – смеялся Вадим. – Акуна матата!
«Да-да, акуна матата, – вспоминал Себастьян песенку из детского мультфильма. – Это же на суахили, ноу проблем!»
А Вадим, продолжая возиться возле разогретого, как печка, колеса, уже напевал:
– «Акуна матата, золотые слова! Акуна матата, не болит голова…»Голова болела у Себастьяна. И боль усиливало чувство стыда и вины. Да, он вызвался добровольцем, чтобы занять место штурмана и спасти команду от схода с гонки. Но в то же время его руки оказались ненадежным подспорьем. Впрочем, в отличие от головы.
На одной из остановок Вадим забрался под задний мост.
– Елки-палки! – донеслось оттуда.
– Что-то не так, Вадим? – крикнул штурман.
Пилот, кряхтя, выбрался из-под автомобиля.
– Греется редуктор. Если мы не придумаем, как его охладить, мы застрянем в пустыне.
Это была очень большая проблема. Никто не стал напевать «акуна матата». Редуктор раскалился настолько, что от прикосновения к нему у Вадима на пальце выскочил волдырь. Нужно было стоять и ждать, пока редуктор остынет. Если же ехать дальше, то задний мост может выйти из строя в любой момент. И тогда никто никуда уже не поедет. Эспиноза вникал в ситуацию, потягивая через трубочку воду из питьевого бачка. И тут ему в голову пришла идея.
Набрав полный рот воды, он издал непонятные звуки, что-то вроде «мгаам!», и полез под задний мост. Сделать ему это было сложнее, чем Вадиму, но он добился своего и с силой выпустил струю изо рта прямо на редуктор. Металл злобно зашипел. Себастьян вылез и снова набрал воды. Вторая порция обдала редуктор. Шипение стало чуть менее интенсивным. После третьей водяной струи деталь уже не шипела.
– Гениально! – воскликнул Вадим. – Можно ехать!
Он явно повеселел. Себастьян это чувствовал интуитивно, ведь по лицу Вадима сложно было понять, злится он или радуется. На следующей вынужденной остановке экипаж остановился, и штурман без лишних разговоров полез поливать редуктор. Система принудительного охлаждения работала отлично, и Эспинозе пришла на ум еще одна мысль, которую он счел гениальной. А именно запатентовать столь простой и эффективный способ решения проблемы перегрева.
До конца гонки оставалось четыре дня. Вадим понимал, что у него, впервые в истории его страны, появился шанс выиграть бронзового бедуина. По условиям ралли-рейда, победитель гонки получал статуэтку, стилизованный бюст хозяина пустыни, спрятавшегося в широких складках своего традиционного костюма. Впрочем, даже тот, кто просто доезжал до конца этого тяжелого марафона, не покидал триумфальный подиум с пустыми руками. Каждый экипаж получал бронзовую медаль с логотипом рейда. Никакого золота, только бронза, самый демократичный металл.
На бивуаке Вадим и Себастьян щедро поделились новым способом охлаждения с соперниками. Дело было под широкими тентами спешно развернутой столовой. Вадим и Себастьян весело болтали с друзьями из России и Франции, а те, запихивая в себя латиноамериканские вкусности, обильно заливали их водопадами безалкогольного пива. Вадим не любил пива, и Себастьян из чувства солидарности решил отказаться от напитка, мотивируя это тем, что не стоит травить душу и обманывать себя безалкогольным. Алкоголь, как известно, среди гонщиков не приветствовался.
– В общем, мы никогда не останавливаемся, – подвел итог своей автобайке комиссар. И указал на футболку Вадима, на которой был изображен автомобиль вместе с надписью «We never stop!» Что отличает любого славянина от европейца и, уж тем более, жителя Штатов? И что роднит с темпераментными латиноамериканцами? Правильно, душевная щедрость. Придумает гринго какую-нибудь ерундовую технологию и раззвонит об этом на весь мир, запатентовав перед этим, – чтобы денежки капали. А славянин – или такой вот сметливый южанин, как Себастьян, – найдет гениальное и простое решение сложных проблем, расскажет об этом друзьям ради минутного бахвальства, да и забудет об этом. А потом, когда понадобится, купит свое же изобретение. В яркой упаковке. У американца.
– Этот парень подходит к нам уже в третий раз.
Вадим показал на молодого человека индейской внешности, работника столовой, уносившего подносы с остатками трапезы. Парень улыбнулся, видимо, не совсем понимая, о чем идет речь. Хотя он должен был разобрать окончание фразы. Пилот произнес ее по-испански.
– Ему не нравится, что мы собираемся оставить поднос с тарелками на столе, – догадался Эспиноза. – Здесь все уносят грязные подносы сами. Это столовая, а не ресторан.
– Так и быть, унесем и мы, – с улыбкой сказал Вадим. – У тебя ведь нет короны?
Они уже стали мало-помалу переходить на «ты». Проводя целый день в жаркой машине, потея под гоночными комбинезонами, очень сложно придерживаться условностей политеса.
– Вроде нет, – похлопал себя по макушке Себастьян, и на его затылке затрясся каскад тяжелых складок.
– Вот и хорошо. Тогда нечему падать, – подмигнул штурману гонщик.
И оба раскатисто захохотали. Индеец, бродивший между столами, сдержанно улыбнулся.
Этот парень один из немногих, кто переезжал вместе с гонкой из лагеря в лагерь. Таких среди обслуживающего персонала были единицы. Администрация ралли считала их особо ценными работниками. Вскоре Себастьян еще раз увидел индейца. Но уже при совсем иных обстоятельствах.
Что случилось с машиной в каменистой и пустынной местности невдалеке от бразильской границы, Вадим так и не понял. Он подумал, что просто не вписался в поворот, проходя на скорости около сотни километров в час вдоль русла высохшей реки. Она протекала здесь настолько широким потоком, что противоположная стена каньона стояла в нескольких километрах от трассы. А может быть, здесь было древнее море или озеро. С левой стороны трассы виднелся обрыв, переходивший нижним краем отвесной стены в длинную насыпь. Рельеф трассы напоминал боливийское плоскогорье Альтиплано, так что без опасений можно было держать скорость сто пятьдесят километров в час. Но вдруг внедорожник повело так, что пилот не смог справиться с управлением и вернуть над ней контроль. А через мгновение он увидел, что оранжевый болид обгоняет колесо. Оно катилось, словно предвосхищая траекторию, по которой за ним следовала машина. Колесо вращалось как бешеное, и Вадим понял, что это его собственное. А дальше машина кубарем сорвалась вниз, прямо в каменный каньон сухого русла. Каркас безопасности защищал экипаж от серьезных травм. Система ремней накрепко фиксировала гонщиков в жестких креслах полукруглой формы. Сферические шлемы предохраняли от случайных ударов. Одного мгновения было достаточно, чтобы Вадим успел заметить, как колесо продолжает свой путь по трассе вдоль каньона. «Главное, не попасть в более глубокий разлом!» – крутилась в голове мысль. Если машина рухнет с большой высоты, то экипаж не спасет даже жесткий внутренний каркас.
А она все кувыркалась кубарем, увлекая за собой камни. Догоняя болид, они дождем молотили по легкой оранжевой обшивке. Склон был пологим, но длинным. Вадим что было сил вжался в сиденье. В ушах стоял вой и крик. Пилот догадался, что кричит штурман. Ему было не до Эспинозы, но он догадался, что большой и рыхлый живот не оставлял возможности плотно зафиксироваться в кресле. Значит, комиссара болтало и швыряло под ремнями. В кабине неприятно пахло чем-то сладковатым. Толстяка стошнило. Следы плохо переваренного завтрака попали на переднюю панель, в которую Вадим вперил свой взгляд. Его так учили: чтобы не кружилась голова, чтобы оставаться в сознании, нужно выбрать какую-то одну точку перед собой и стараться удержать на ней свой взгляд настолько долго, насколько это возможно.
Казалось, машина катится вниз целую вечность. Крик Эспинозы стал невыносимым. Животный страх смерти вытеснял из сознания все остальные мысли. Организм начинал паниковать. Руки хотели схватиться за руль, но Вадим усилием воли удержал их на груди. Чем ближе к телу, тем больше шансов избежать переломов. Переднее стекло покрылось паутиной трещин, а за ними небо и земля смешались в невероятный калейдоскоп. Синий верх и серый низ ежесекундно менялись своими местами, и только на стекле с каждым новым оборотом становилось больше трещин.
А потом вдруг оказалось, что нет неба, а есть только серая земля, вошедшая внутрь машины огромным валуном с острыми краями. Он напоминал клык чудовищных размеров, разорвавший паутину и остановившийся в десяти сантиметрах от лица пилота. Вадим примерно минуту смотрел на него, пытаясь осознать, что будет дальше. Но машина не двигалась. Она лежала на крыше, вверх оставшимися тремя колесами.
Хорошей новостью было то, что внутри не пахло бензином. Это значило, что топливные шланги были целыми, и можно не опасаться возгорания. Если бы топливо попало на раскаленный коллектор, пожар был бы неминуем, а в том положении, в котором оказался экипаж, очень сложно выбираться из горящей машины. Вадим хорошо помнил, что случилось с ван дер Толеном, не успевшим выбраться из пылающей «вольво Си Зет» в первые дни марафона.
Он медленно отжал рычаг системы ремней безопасности и, упираясь одной рукой в потолок, другой попытался открыть дверь. Сразу она не поддалась. Несмотря на каркас безопасности, деформированная крыша слегка примяла дверь. Но несильно. Два-три интенсивных движения – и гонщику удалось ее открыть. Через секунду он был уже снаружи и встал на ноги. Его слегка шатало, в голове был полный кавардак. Вадим присел на камни, прислонившись спиной к оранжевому борту. Но тут же сказал себе, что рассиживаться некогда.
Он открыл дверь со стороны штурмана и попытался расстегнуть замок на его животе. Ремни отпустили Себастьяна, и он мягко вывалился из них. Застонал. «Это хорошо, – отметил про себя Вадим. – Значит, жив». Он с трудом вытащил грузного комиссара и стянул с него измазанный следами рвоты шлем.
Лежа возле машины, Эспиноза начал приходить в сознание.
– Мы живы? – спросил он.
– Живы, – ответил Вадим. – Думаю, минут через десять появятся медики.
Прошло десять минут. Потом еще десять, а медики все не появлялись. Вадим залез в машину, чтобы проверить приборы. Система спутникового слежения, автоматически передававшая в штаб гонки сведения об автомобиле, не работала, хотя сам аппарат выглядел неповрежденным. «Чушь какая-то», – пробормотал Вадим, продолжая исследовать внутренности машины. В обязательный набор средств связи входил и спутниковый телефон. Пилот перерыл все. И не нашел его. Странно, но вечером накануне старта телефон был на месте. Вадим, не долго думая, вытащил из внутреннего кармана обычный мобильник. Шансов на то, что здесь, в этой каменной пустыне, есть мобильная связь, почти не было. Так и есть, грустно отметил украинец, на индикаторе-антенне нет ни одного деления. Все говорило о том, что выбираться экипажу предстояло самостоятельно. Но, внимательно изучив состояние автомобиля, Вадим осознал, что без техподдержки машина уже больше никуда не поедет. Ему самому, в одиночку, без посторонней помощи, даже не сдвинуть огромный кремниевый клык, пробивший переднее стекло. Он оказался выступом монолита немалых размеров, этакого сухопутного айсберга, большая часть которого была скрыта под ровной каменистой поверхностью склона.
Тогда Вадим подошел к Эспинозе. Вскоре он понял, что комиссар не помощник, а скорее обуза. Ему самому нужна была помощь. Он мог двигать только правой рукой. Левая вытянулась вдоль тела, и, как Себастьян ни старался, он не мог ее заставить шевелиться. Похожее дело было и с ногами толстяка. Правда, боливиец не чувствовал боли, и это в некоторой степени поднимало ему настроение. Если, конечно, в таком положении можно было говорить о хорошем настроении. Вадим же не спешил радоваться. Он нахмурил брови. Он достаточно хорошо разбирался в травмах, чтобы с ясной безнадежностью понять: отсутствие боли говорит о том, что задеты крупные нервные узлы. Возможно, ситуация была обратимой, но сказать об этом можно только в госпитале. А здесь, посреди пустыни, нужно, как ни крути, самому спасать себя и своего товарища.
Пластиковая канистра в водительской двери была смята ударом. Крышка отлетела в сторону и вода, почти до капли, вытекла из бачка. Это уменьшало шансы на спасение. Четырехлитровая канистра штурмана тоже была пробита, но крышка с вмонтированными трубками осталась на месте. Она смогла удержать литра полтора, не больше, к тому же вода сочилась через трубки и каплями падала на трубу каркаса, с нее на крышу и потом вытекала наружу, на разогретые солнцем камни. Дотронься до них открытой ладонью, и сразу поймешь, что при желании на валунах можно жарить яичницу. Вадим быстро завязал трубки узлом, спасая самое главное, в чем нуждался экипаж, – а именно воду. Итак, полтора литра. Возможно, этого хватит, чтобы продержаться до прибытия спасателей. Они же должны, в конце концов, обнаружить, что украинский экипаж не доехал до бивуака. И еще был шанс, что по той же дороге, вдоль каньона, проедут и остальные экипажи. Значит, надо только подняться наверх.
– Себастьян, ты как? – слегка встряхнув товарища, спросил Вадим.
– А как машина? – вопросом на вопрос ответил комиссар.
– Ей, похоже, кранты, – не стал скрывать истинного положения вещей пилот.
– Ну, тогда мне значительно лучше, чем ей, – улыбнулся Эспиноза. Боли он не чувствовал, но при этом явно балансировал на грани потери сознания.
– Себастьян, послушай, – Вадим взял руку штурмана в свою ладонь. – У нас есть два варианта. Первый: оставаться возле машины. И ждать, пока врачи долетят до нас на «медэваке».
– Девятнадцать минут?
– Нет, дружище. Значительно дольше. Иритрак и навигатор вышли из строя. Спутниковый телефон не могу найти. Мобильный не работает.
– Понятно, – без тени эмоций сказал комиссар. Их спасение теперь напоминало лотерею, в которой главным призом была жизнь.
Они немного помолчали. Потом гонщик продолжил:
– Второй вариант. Я оставляю тебя здесь, а сам поднимаюсь наверх. Возможно, там будет ехать кто-то из наших конкурентов. Возможно, кто-нибудь остановится и заберет нас отсюда. И уж наверняка сообщит в штаб-квартиру гонки. И тогда за нами обязательно прилетят.
– То есть до спасения осталась целая вечность плюс девятнадцать минут? – скривился Эспиноза.
– Но это лучше, чем просто вечность, правда? – и Вадим пожал руку штурмана, хотя понимал, что тот, скорее всего, не почувствует рукопожатия.
Перед тем, как оставить Себастьяна одного, Вадим должен был решить еще одну жизненно важную задачу. А именно разделить на двоих полтора литра воды. Решение усложнялось тем, что относительно пригодной для хранения была всего одна канистра. И то установленная в таком положении, чтобы вода находилась ниже случайной пробоины. Вадим порылся в запчастях и нашел пластиковую бутылку на поллитра. Она была грязной и пустой. За то, что в машине остается мусор, Вадим обычно наказывал механиков. Машину укомплектовывал Бубенчик, и в другое время ему наверняка влетело бы за забытую бутылку. Но сейчас пилот был искренне благодарен ему за невнимательность и нерадивость. Когда Вадим наполнил бутылку доверху, большая часть воды оставалась в бачке. Он хотел было отпить немного, ведь, даже исходя из братских отношений экипажа, Вадим имел право еще на двести грамм спасительной жидкости. Но пилот подумал и решил не пить воду. «Полным-полно воды осталось в радиаторе», – подумал он.
Но радиатор оказался пробит. Почти вся вода оттуда вытекла. Вадим отрезал кусок пластика от смятого бачка в водительской двери и подставил его под радиатор. Оттуда капала горячая и серая, как чай в студенческой столовой, вода. Всего грамм двести, не больше, но пилот был и этому рад. Он не думал о металлическом вкусе воды из радиатора и том, сколько не совсем полезных химических элементов заливает внутрь себя вместе с этой жидкостью. Выхода не было. Плюс сорок пять слишком опасная температура, особенно когда вокруг нет ни деревца, ни пещеры, ни чего-нибудь еще, что могло бы дать хоть немного тени и укрыть человека от безжалостных солнечных лучей. Нужно было пить, чтобы спастись от теплового удара и обезвоживания. Причем, пить много.
Он подтянул неподвижного Себастьяна к машине.
– Послушай, примерно через полчаса тень окажется с этой стороны. Подними-ка правую руку.
Себастьян попробовал еще раз пошевелить рукой. Получилось лучше, чем в первый раз. Вадим удовлетворенно кивнул головой.
– Дальше вот что, – продолжал он. – Я поставлю рядом с тобой эту канистру. В ней примерно литр питьевой воды. Канистра пробита, но я поставлю ее так, чтобы она не вытекла. А тебе придется все время придерживать трубку, чтобы контролировать воду. Сможешь?
– Смогу, – с легким сомнением подтвердил Эспиноза.
– Захочешь пить, тогда потянешь воду в себя, как мы это делаем в дороге, – и Вадим протянул штурману свободный конец трубки.
– Буэно, понял, – подтвердил Себастьян.
– Я постараюсь вернуться быстро. Впрочем, дружище, это не от меня зависит.
Но Себастьян и так все понял. Он заметил, что Вадим взял себе меньше воды, чем оставил в канистре, но ничего не сказал товарищу: догадался, что пилот ни за что не согласится, даже если боливиец отдаст ему лишнюю часть своей порции.
– Ну, все, vamos! – подбодрил себя Вадим и двинулся вверх по склону, даже не посмотрев на Себастьяна. На долгие прощания не было времени. Каждая минута бездействия могла стоить жизни им обоим. Склон казался бесконечным, но преодолеть его – это было еще полдела. А вторая половина – найти способ взобраться на отвесную стену каньона.
Чем выше вверх, тем тяжелее идти. Было жарко. Через час после начала восхождения губы Вадима покрылись сухой коркой, а затем растрескались. Он время от времени проводил по ним языком, но язык тоже пересох, и каждое прикосновение к трещинам только добавляло неприятных ощущений. Пилот решил, что пришло время попить воды. Ему хватило воли уговорить себя всего лишь смочить губы и сделать один глоток. Воду нужно было беречь.
Вадим расстегнул комбинезон и снял футболку, подставив свой торс под лучи солнца. Это было рискованно, но Вадим понадеялся, что коричневый загар избавит от солнечных ожогов. Действительно, когда сухой ветер прошелся по открытой коже, стало немного прохладнее. Рукава гонщик завязал на поясе, а футболку пристроил на голове так, что она стала напоминать арабский тюрбан. Шея оставалась открытой. Вадим выпустил край футболки, и он прикрыл шею и плечи. Теперь можно было идти дальше.
Сверху машина казалась небольшой точкой, но у пилота всегда с собой был маленький «цейсовский» бинокль, и Вадим периодически смотрел на болид. Правда, даже в бинокль не было видно, шевелится ли Себастьян или же лежит без сознания. В любом случае, надо было торопиться.
Вдруг откуда-то сверху донеслось хищное жужжание. «Не хватало еще местных насекомых», – разозлился украинец. Но жужжание становилось сильнее, и Вадим понял, что это двигатель. «Вертолет!» – догадался он и обрадовался. Гонщик хотел было закричать, но сил было мало. Сухое горло оказалось неспособным издавать мощные звуки. Тогда Вадим достал свой бинокль и стал искать вертолет в монохромной синеве неба.
Это был небольшой двухместный «Алуэтт» синего цвета, как у организаторов гонки. Правда, когда Вадим рассмотрел винтокрылую машину, его удивило отсутствие опознавательных знаков. Ни логотипа, ни номера, ни красного креста. Впрочем, могло быть и так, что для спасения пришлось нанимать частный вертолет.
– Но как они собираются грузить раненых в двухместный «Алуэтт»? – пробормотал Вадим и, не отрывая глаз от бинокля, медленно развернулся, чтобы спуститься вниз.
Из вертолета вышли двое. Оба индейской внешности. Один среднего возраста, другой – помоложе. Что-то знакомое было у него в лице. Вадим остановился, чтобы внимательнее разглядеть этого человека, И очень удивился. Он узнал его. Это был тот самый официант из столовой, который забирал подносы с объедками. Но почему он здесь? Неужели у работников столовой есть личные вертолеты?
Это было очень подозрительно. Кто же второй? Вадим, на всякий случай, остановился и присел, чтобы стать менее заметным на практически открытом склоне.
С большого расстояния не было слышно, о чем говорят люди, прилетевшие на этом вертолете.
«Прилетит вдруг волшебник, В голубом вертолете, И бесплатно покажет кино…»– вспомнил гонщик старую детскую песенку и вполголоса напел ее.
Что-то много было воспоминаний из детства в этот совсем не по-детски тяжелый день. То, что он вскоре увидел в бинокль, действительно напоминало кино. Отснятое в жанре фильма ужасов.
Второй человек, прилетевший на вертолете, появился из-за перевернутой машины. Вадим все еще не мог рассмотреть его лицо. Человек яростно жестикулировал: он, видимо, о чем-то спорил с индейцем-официантом. С того места, где находился Вадим, разговора не было слышно. Слишком большое расстояние отделяло гонщика от его автомобиля. Но он все мог видеть. Бинокль был достаточно мощным, чтобы позволить разглядеть детали.
Двое пришельцев, похоже, говорили между собой на повышенных тонах. Тот, который вышел из машины, оживленно размахивал руками и вышагивал быстрыми и широкими шагами вокруг товарища, официанта из походной столовой. Вадим заметил, что этот подозрительный официант лишь слегка открывает рот и время от времени разводит руками. «Явно оправдывается, – догадался Вадим. – Значит, другой в этой паре старший». Он так и назвал его про себя – Предводитель.
Вадим перебросил бинокль чуть правее, чтобы увидеть, что делает Эспиноза. Комиссар по-прежнему лежал на том самом месте, где его оставил пилот. Себастьян тянул вверх свою единственную действующую руку, как будто собирался поздороваться с гостями. Или же хотел от них защититься.
Те продолжали спорить и словно не замечали лежащего на земле человека. Но потом нервный предводитель этой загадочной пары подскочил к Себастьяну и схватил его за руку. Он долго тряс ее, потом бросил. Спасатели так себя не ведут. Человек встал в полный рост, приложив руку ко лбу козырьком. Он явно разыскивал кого-то. «Меня», – понял Вадим и на всякий случай лег плашмя на землю. Надо сказать, вовремя, потому что официант протянул своему боссу бинокль.
В линзах блеснуло солнце. Оно светило как раз в глаза наблюдателям. Прямо в линзы. Загар, практически в тон каменного склона, а также невыгодный для наблюдателей ракурс позволили Вадиму остаться незамеченным. Предводитель этой парочки продолжал безуспешно водить своим биноклем из стороны в сторону. А Вадим на минуту отложил в сторону свою оптику. Когда он взглянул в нее вновь, то увидел, как двое перетягивают грузного Себастьяна на выступ одинокой скалы, о которую машина ударилась лобовым стеклом. Сердце Вадима тревожно забилось. Включились древние страхи и инстинкты. Что-то должно сейчас произойти, почувствовал он. Но инстинкты – это бессловесные советчики. Когда они управляют телом, разум замолкает. «Лежи и смотри», – успел Вадим отдать приказ самому себе. Двое внизу уже не обращали внимания на осыпавшийся склон каньона. Наверное, Эспинозе было очень больно, но он не шевелился, если не считать редкие жесты правой руки. А может быть, у него был перебит спинной нерв, и он вообще не чувствовал ничего. Почти ничего.
Эспиноза уже лежал на камне. Предводитель резким движением попробовал разорвать у него на груди комбинезон. Тот не захотел поддаваться. Тогда другой, Официант, расстегнул змейку, деловито поправляя складки на животе комиссара. Они мешали Эспинозе одеваться и точно так же не давали раздеть комиссара, махавшего правой рукой. Когда индеец справился с комбинезоном, он сорвал с беспомощного человека футболку. Вадим заметил, как, отлетая в сторону, она мелькнула надписью «We never stop». А дальше…
А дальше в руках Предводителя вдруг показался предмет, напоминавший штык или шило, только гораздо большего размера, почти как меч. Он взял его за рукоятку обеими руками и, что было сил, вонзил страшное оружие в обнаженную грудь Эспинозы. Вверх брызнул фонтан крови. Рука Себастьяна задергалась в конвульсиях, а потом безжизненно, как плеть, упала вниз. Кровь долго не останавливалась, но Предводитель даже не старался уклониться от красного потока. Он возился возле убитого комиссара, но что именно делал убийца, Вадим так и не рассмотрел, поскольку тот повернулся к гонщику спиной. Официант подбежал к вертолету и вскоре извлек из кабины нечто, отдаленно напоминавшее контейнер. Судя по серому блеску, он был сделан из металла. Помощник услужливо, как и подобает обслуживающему персоналу, открыл металлическую крышку и посмотрел на своего шефа. Предводитель развернулся и высоко вскинул правую руку. В его ладони лежал бесформенный красный кусок плоти, с которого стекала кровь. Это было сердце Эспинозы. Алые ручьи текли вниз по запястью и одежде человека с ножом. Он поднимал вырванное сердце вверх, а его губы бормотали неизвестные слова. Ассистент упал на колени. Все это напоминало какой-то ужасный кровавый ритуал. Наконец Вадим сумел рассмотреть лицо Предводителя. И ужаснулся. Невозможно было поверить! Человек с чужим сердцем в руке – Норман! Широкие скулы и слегка раскосые глаза на коричневом лице. Обычно они светились добрым и умным блеском, но сейчас в них была только злоба и ненависть. Да, это Норман! Шокированный Вадим чуть было не выронил бинокль. Когда он снова взглянул в него, попробовал взять себя в руки.
– Сон разума рождает чудовищ! – пробормотал гонщик самому себе. Он хотел сохранить присутствие разума, чтобы разобраться в ситуации, насколько это было возможно в его случае.
Индеец был очень похож на Нормана. Но явно чуть менее упитан. Впрочем, это еще ничего не значило. С момента своего таинственного исчезновения Норман мог и похудеть. Вадим навел резкость в бинокле. А вот сетка морщин на лице убийцы комиссара говорила о солидном возрасте. Так быстро профессор не мог состариться. Вадим еще внимательнее пригляделся. Человек возле машины был крепким, в нем чувствовалась мощная физическая сила. Габариты машины позволяли оценить его рост. Он был значительно выше, чем Норман, сложение которого подтверждало теорию о том, что индейцам в Андах не нужен высокий рост. Вадим слегка успокоился. Его друг не убийца. Внизу стоял индейский вождь с фотографии, которую Эспиноза привез с собой на бивуак. Да, сомнений быть не могло. Лицо на фото принадлежало человеку, которого Вадим увидел в бинокль. Только на нем, вместо царского наряда, красовалась футболка с логотипом гонки. Вот и вся разница.
Вадим не стал долго раздумывать над этим совпадением. Иначе он бы вспомнил, что черно-белой фотографии, которую ему показывал Эспиноза, около пятидесяти лет – судя по дате, – а вождь, прилетевший в голубом вертолете, стариком не выглядел.
Вождь положил сердце в контейнер, его помощник закрыл крышку и понес его в вертолет. «Через минуту вертолет поднимется! – дошло до украинца. – Они будут меня искать. И обязательно найдут». Оплакивать друга не было времени. Для того, чтобы подумать над тем, что произошло, не было сил. Вадим принялся тихо, по-пластунски, карабкаться по склону в направлении гоночной трассы. Его могла спасти только случайность.
За спиной он слышал рокот двигателя. Свист вертолетных лопастей вызывал дрожь в спине и в мышцах. Ни с чем не перепутаешь этот звук. И если раньше Вадим думал, что он обещает спасение, то сейчас знал наверняка: так посвистывает смерть. Все ближе и ближе она подлетала к нему против солнца.
И солнце снова помогло ему остаться невидимым. Пилот – похоже, это был Предводитель – не заметил его на склоне. Голубой вертолет улетел дальше. «Он развернется. И вернется», – обреченно понял Вадим. Но когда он снова услышал этот вызывающий дрожь свист, склон оказался в тени. А потом наступили сумерки. Почти моментально, как это всегда бывает в тропиках, особенно, если солнцу помогают спрятаться высокие горы.
Уже в темноте Вадим увидел сноп огня. Он появился примерно на том месте, где лежала гоночная машина.
Надо было подождать утра на склоне. А потом идти вперед. Для того, чтобы выжить, у Вадима оставалась только бутылка воды.
Once. El rescate
Золото само шло в руки к испанцам. Цепочки носильщиков бесконечной вереницей двигались в Кахамарку, где в ожидании своей судьбы томился Великий Инка. Каждую группу сопровождал чиновник-кипукамайок, чтобы фиксировать количество золота, поступавшее в распоряжение людей Солнца, а действия и расчеты инкского чиновника контролировал испанский солдат. Как правило, испанцы ехали вслед за группами носильщиков на лошадях, и умение подчинять себе неизвестное индейцам животное вызывало у тех священный трепет. И в самом деле, на первый взгляд, люди Солнца казались простым обитателям империи могучими волшебниками, хотя вскоре всем стало ясно, что испанцы такие же люди, как и подданные Великого Инки: слабые перед природой и вышестоящим начальством. Все, что им приказывал бородатый старик в блестящем шлеме, они торопились исполнять без промедления. Они звали старика Писарро. Конечно, его настоящий возраст еще не позволял назвать его старым, но время, проведенное им в колониях Испании, к северу от Тавантинсуйу, не могло не сказаться на его внешности. Седина и морщины говорили о том, что у Писарро оставалось слишком мало времени на подвиги и он экономно использовал его, каждый новый день наполняя делами.
Носильщики далеко не всегда приносили много золота, но они никогда не приходили в Кахамарку с пустыми руками. Они с удивлением наблюдали за своими надсмотрщиками, сидевшими в высоких седлах. Индейцы не могли понять, почему те так внимательно разглядывают их руки в тот момент, когда из походных мешков вынималось золотое содержимое перед тем, как оказаться на чаше мерных весов. А потом всадники спускались на землю и, не успев освободить ноги из стремян, принимались осматривать одежду носильщиков. Жители Тавантинсуйу не знали, что такое воровство и что такое уклонение от налогов. Все, чем приказано им было делиться, появлялось перед глазами сборщиков без утайки. Индейцы и не думали прятать на себе золото, и внимательные обыски только удивляли их. Испанские солдаты, тщательно, но тщетно разглядывая складки хитонов, начинали злиться. Носильщики примирительно улыбались. Солдатам казалось, что те издевательски посмеиваются над ними. В некоторых случаях индейцам крепко доставалось от надсмотрщиков, причем, совершенно зря, ибо те не могли знать закона «Не воруй, не лги, не ленись», благодаря которому веками жила страна. Ситуация накалялась. Писарро это заметил первым и спросил Атауальпу, почему его подданные все время глупо улыбаются.
– Они не могут вас, испанцев, понять. Что вы ищете?
– Золото. Украденное золото, – пояснил конкистадор.
– Украденное? – засмеялся Атауальпа. – У нас не воруют. У нас не знают воровства.
Захваченное в Тавантинсуйу золото было переплавлено конкистадорами в слитки. Редкие предметы, избежавшие этой участи, свидетельствуют о таланте и фантазии ювелиров доколумбовой Америки. Есть версия, что большая часть золота инков была спрятана в секретных хранилищах, которые не найдены до сих пор
– Везде воруют, – уверенно возразил Писарро. – И в Европе, и в Новом Свете. Я знаю, например, одного правителя, который украл у брата целую страну.
– Да, – вздохнул Великий Инка. – И, наверное, поэтому однажды ему пришлось отдать ее еще более вороватым пришельцам.
Слова Инки разозлили Писарро не на шутку. Он вышел из кельи, в которой держали вождя, при этом хлопнув дверью так, что охранник едва не выронил из рук алебарду. Но, побродив около импровизированной тюрьмы, вскоре вернулся к Атауальпе.
– Могу обещать, что обыски носильщиков прекратятся, а своим людям я передам о том, что в Тавантинсуйу нет воровства.
Золотых изделий становилось все больше. Какова их реальная стоимость в Старом Свете, в Кахамарке понимали только двое – сам Писарро и его ближайший друг, Диего де Альмагро. Чем больше блестели глаза у Диего, тем больше это беспокоило Писарро. Он понимал, что алчность друга рискует превратиться в болезнь. А может, де Альмагро уже был безнадежно болен?
– Диего, – спросил его Писарро, – что ты думаешь по поводу золота? Что нам делать с ним?
Вопрос был с подвохом. Франсиско уже давно решил, что бóльшую часть выкупа он отправит в Испанию, а меньшую разделит между солдатами.
– Как что? – рассмеялся Альмагро. – Теперь мы богаты. Мы так богаты, что можем купить самого короля.
– Хорошо, – продолжал Писарро без тени улыбки на лице. – А что ты будешь делать со своей долей?
Диего задумался и, запустив руку в густую бороду, почесал подбородок.
– Сначала побреюсь! – улыбнулся он. – Потом женюсь! А впрочем, зачем мне жениться? Теперь все красавицы света – и Старого, и Нового – мои.
Писарро ткнул друга эфесом меча в живот:
– Ты старый сатир, Диего! Тебе шестьдесят, а ты все о красавицах думаешь. А если вдруг не справишься? В этом деле золото не сильно помогает.
Диего слегка нахмурился. Видимо, в словах Писарро была доля правды, и они зацепили де Альмагро за живое. Годы, проведенные в Новом Свете, в сражениях и лишениях, в борьбе с дикими племенами и опасными животными, давали о себе знать.
– Тогда? Тогда я куплю себе кусок этого королевства и буду там делать все, что мне заблагорассудится. Напишу свои законы и буду карать за их невыполнение. Меня будут носить на руках до конца дней. Памятники мне украсят площади моей страны.
Писарро наморщил лоб и хмыкнул:
– Дружище Диего, сначала пойди и побрейся!
Де Альмагро постарался осклабиться так, чтобы его оскал, затерявшийся в дебрях густой бороды, был похож на доброжелательную улыбку, а не на гневную гримасу. На самом деле он разозлился на Писарро. Долгие годы странствий по неизведанным доселе просторам Нового Света словно законсервировали его разум и чувства. Впрочем, не только его. Все те, кто давно уже участвовал в конкисте и дожил в этих неласковых местах до шестидесяти, были похожи на библейских стариков, какими их изображали великие художники. Густые бороды, измученные суровые лица, глубокие морщины – и мощное, богатырское телосложение, более свойственное тридцатилетним воинам, чем престарелым авантюристам. Вот на этой тридцатилетней отметке – а может, даже и двадцатилетней, – остановилось их эмоциональное и душевное развитие. Конкистадоры оставались жестокими и непоследовательными, как дети. Они клялись друг другу в вечной дружбе, отдавая за товарищей самое дорогое – жизнь, и в то же время могли смертельно обидеться на пустяк. И не пустяк даже, а какой-либо незначительный штрих в отношениях. Неловкое движение руки, напоминающее оскорбительный жест. Или блуждающий взгляд. Ну что тут поделаешь? Не смотрит собеседник в глаза, и все тут. Но нет. За такую мелочь могли и на дуэль вызвать.
Свою бороду Диего де Альмагро решил сбрить. Всякий раз, когда зазубренное лезвие царапало кожу, он злился на Писарро и на себя. Он хотел, чтобы его друг увидел, что свои слова нужно контролировать, не теряя грани между дружеской шуткой и глупым приказом. Но когда старый конкистадор увидел свое собственное отражение в отполированном куске бронзы, он сообразил, что предводителю, в сущности, все равно, выбрит де Альмагро или нет. Выходит, сей тонкий намек, который Диего готовил со всей старательностью пожилого человека, Писарро оставит без внимания. «Ему все равно», – подумал де Альмагро и с размаху, резким отработанным движением вогнал двуручный меч в глиняный пол своего жилища. О женитьбе, честно говоря, в этих местах тоже говорить не приходилось. Ну разве что взять в жены одну из многочисленных родственниц Атауальпы, кривоногих и низкорослых, с широкими и плоскими чертами лица, по непонятно каким причинам считающимися первыми красавицами империи.
Писарро действительно больше ни разу не вспомнил фразу о бритье, которую он бросил от невозможности что-либо сказать другу. «Что делать дальше? – Эта мысль не покидала его. – Остановиться на указанном размере выкупа или взять еще?»
Один из его солдат, лет сорока на вид, а значит, человек, прибывший на новый континент со второй или, пожалуй, даже с третьей волной конкисты, сообщил Писарро, что часть золота уже переплавлена, и охрана собирается выкладывать остывшие слитки в камере плененного императора. Писарро поспешил к месту, где держали пленника.
Атауальпа сидел возле входа в земляную хижину, служившую ему и тюрьмой, и жилищем. У него были развязаны руки и ноги. Но шансов на побег у Инки не было. Рядом стояли полтора десятка испанцев в полном снаряжении, с алебардами и острыми палашами. У некоторых были аркебузы, с длинными стволами и прямыми прикладами. Вождь уже хорошо знал назначение этих трубок, умевших выплевывать огонь и свинец, и понимал, что пробежать ему удастся шагов пятнадцать-двадцать, не более. «Лучше выжить сидя, чем умереть стоя, – сказал он самому себе. – Золото само откроет дверь на волю». Слитки тяжело постукивали один о другой, когда люди из подвластного инкам народа аймара – о, подлые предатели! – под присмотром испанцев подвозили выкуп к хижине.
– Давай осторожнее! – крикнул солдат носильщикам по непонятной причине, ведь золотые кирпичи невозможно было разбить, уронив их с такой высоты на глинистую землю.
Слитки ложились на пол один за другим. Медленно, но уверенно, они сначала покрыли весь пол.
– Оставьте место для командора! – приказал все тот же солдат. «До чего же он нервный, этот испанец», – подумал инка про себя, но, впрочем, довольно бесстрастно. Носильщики убрали часть слитков сразу же за входом в хижину и освободили место для Писарро. Дальше они укладывали слитки с таким расчетом, чтобы командору хватило места встать и попытаться дотянуться до потолка. Вскоре золото поднялось до его щиколоток. А к вечеру его уровень достиг колен испанца. Столько сокровищ не было даже в королевской казне (Диего был прав), и вскоре их должно было стать еще больше.
– Командор, я хочу кое-что показать, – сказал Атауальпа.
Вот как, Великий Инка здесь. А ведь Писарро на некоторое время забыл о его присутствии.
– Что еще? – сердито спросил императора конкистадор.
– Много, правда? – вопросом на вопрос ответил Инка.
Высокомерный испанец ничего не сказал. Но Инка, могло показаться, и не ждал никаких слов. Писарро чувствовал уверенность пленника в том, что ему хватит золота откупиться. А Инка понимал, что Писарро это понимает. Атауальпа указал рукой на кучу мелких камней, рассыпанных рядом с хижиной. Их навалили, когда внутри выравнивали пол, подготавливая его для измерения выкупа. Куча вышла небольшая, но довольно объемная, с пологими склонами. Атауальпа поднял с земли камешек.
– Теперь, наконец, вы верите, что я заполню эту хижину золотом, а еще три – серебром? – ухмыльнулся Инка.
Писарро молча его слушал.
– Ну, тогда я скажу больше, – медленно продолжал пленный вождь. – Вот это, – он подбросил камешек на ладони, – золото в моей хижине. В вашей хижине, где вы меня держите. – А вот это, – и он с силой швырнул камень в кучу мелкого щебня, – то золото, которое у меня осталось. И которое будет принадлежать Инкам.
Камешек было не различить от остальных в огромной куче. Что Инка имеет в виду? Следует ли его слова понимать так, что у него остается в сотню, тысячу раз больше сокровищ, чем в этой хижине?
Испанцы замерли. Нервный солдат в изумлении застыл, глядя на кучу щебня. У Писарро перехватило дыхание. Лязгнула алебарда, выпав из рук у охранника. И только желтые бруски глухо стучали один о другой. Предатели аймара продолжали складывать золото.
Тринадцать. Двое над пустыней
– Мы так и не нашли то, что собирались найти в машине. Что мы будем делать с его сердцем?
– Это ценный трофей. И это важная жертва.
– Да, мой вождь, я это понимаю. Но время идет, и мы не успеем положить его в чашу у подножия святилища.
– Да, ты прав. Ты должен вернуться в лагерь. Дай-ка мне подумать. А знаешь что?
– Что, мой вождь?
– Контейнер – ведь это тоже сосуд?
– Ну, в некотором смысле.
– И чаша это сосуд, да?
– Да, конечно.
– Значит, оно уже в чаше.
– Но, вождь, а как же святилище?
– Строго говоря, с философской точки зрения мы с тобой и есть святилище, пока мы храним верность нашим традициям.
– Значит, жертва уже принесена?
– Нет, парень, нет. Для того, чтобы завершить церемонию, мы должны найти масло и немного маиса.
– Оливковое пойдет? У меня есть немного.
– Конечно. И даже консервированный маис пойдет.
– А кто будет готовить сердце? Вы?
– Нет, в этом нет необходимости. Приземлимся возле вон того поселка. Там есть отличная таверна. Хозяйка умеет готовить не хуже меня.
– А она не спросит, откуда сердце?
– Нет, ни за что не спросит. А ты молодец, парень. Еще немного, и сам возьмешься за дело.
– Но мне кажется, мы испортили обычай.
– Ты это о чем?
– Вы же сами говорили: сначала костер, потом сердце. А у нас что вышло? Сначала достали сердце, потом сожгли автомобиль. Мы не одурманили жертву, и он чувствовал все до конца.
– Послушай, иногда можно нарушить порядок. У нас не было времени его соблюдать. Но поверь, мы обязательно будем придерживаться регламента в следующий раз.
Четырнадцать. Конец географии
Он уже плохо помнил, откуда он пришел и куда идет. На его теле было такое множество ран, порезов и нарывов, что отдельные болевые эпицентры уже не напоминали о себе, а боль охватила все его естество. Видимо, сознание само по себе научилось управлять болью. Оно отключило ее сигналы от мозга, и он просто шел вперед. Боль погасла так, как гаснет экран у мобильного телефона, если разряжается батарейка. Хотя и с погасшим экраном аппарат еще может принять один звонок.
Воспоминания о проделанном маршруте оставили его, а вот раны вполне могли бы стать открытой книгой для опытного хирурга-травматолога: он сразу бы рассказал, на что, где, как и когда натыкался путник. Впрочем, даже доктор не смог бы определить замысловатую траекторию движения этого человека в порванном оранжевом комбинезоне и с почерневшей футболкой на голове вместо шляпы.
Пластиковая бутылка все еще была с ним, хотя жидкости в ней оставалось мало. Да и не была это чистая вода из питьевой канистры. Пресная – да, но не чистая. Он набирал ее по дороге, время от времени находя ручьи, полные листьев, осыпавшейся коры и водомерок, скользящих на тонких лапках по поверхности жизненно важной субстанции. И он набирал эту субстанцию, сначала разгоняя насекомых и вылавливая мелкую деревянную труху, но на третий или четвертый раз перестал делать и это.
Пока он шел по пустыне, он мечтал о лесной тени. Солнце немилосердно жгло его плечи. Он снимал футболку с головы и прятался в комбинезон. Но очень скоро вся грудь и спина под оранжевой тканью покрывались пóтом, и он начинал думать, что так вода из организма уходит быстрее. Он снова стягивал с себя верх комбинезона и повязывал рукава на поясе. Так было легче. Но солнце немилосердно пекло, сжигая кожу на затылке и медленно сводя с ума. Он смотрел вперед, и ему начинало казаться, что перед его глазами сворачивается пространство: линия горизонта переставала быть прямой, ее концы сворачивались поближе друг другу и закрывали солнце вереницей каменных ландшафтов. Хотелось спрятаться от яркой точки посреди видимого поля зрения, но это не получалось, и тогда он пробовал нырнуть в нее, прыгнуть в центр неба, образованный камнями, солнцем и согнутым горизонтом. А когда он падал на острые, как зубы зверя, камни, разрывая локоть или бедро до мышцы, то сознание молчало, и только мощная воля – только она! – подсказывала, что он просто сходит с ума. «Надо встать», – командовала она. И он вставал. Следующее видение, которое возникало в его сознании, это стена хвойного леса. Он видел ее уже давно, несколько часов. Когда горизонт после очередного прыжка в центр неба снова распрямился, он заметил, что вместо камней на него пиками нацелились высокие сосны. «Иди в лес», – подсказывала ему воля. А сам он, вступая с ней в диалог, пытался отшутиться: «Гуляй лесом!» Грубо, но верно. И, главное, заставляет идти вперед.
Некоторое время спустя он оказался под кронами деревьев. И это был не мираж. Ему повезло, что воля вела его в нужном направлении. Только пройти нужно было вовсе не десяток шагов, а в тысячу раз больше. А может, и в десять тысяч раз. И вода, расчерченная следами водомерок, оказалась здесь тогда, когда он без нее уже не мог выдержать.
Стало легче. Правда, ненадолго. К ранам и ожогам добавились комариные укусы. Он яростно расчесывал зудящие участки кожи, до крови, и его тело покрывалось красной рябью точек запекшейся крови. Но зуд не проходил, и тогда он принимался срывать грязными длинными ногтями бурую корку на ранах. Они вскоре превратились в гнойники, и если его палец случайно прикасался ко вздувшейся коже, она рвалась, и из разрывов выползала вязкая зеленоватая субстанция. Он шел очень долго, но если бы его спросили, что он ест в пути, он не мог бы сказать ничего. Он просто не помнил, что именно приходилось ему есть, находя пищу под мохнатыми стволами тропических растений. Но инстинкт и логика подсказывали ему, как можно выжить, и когда логика сказала, что больше не будет участвовать в его спасении, тогда один лишь инстинкт остался на его стороне. Он-то и вывел его к реке. В ней отражалось небо, и облака, и две восьмидесятиметровые стены леса по обеим сторонам величественного течения. Впрочем, в реальности деревья были в два раза ниже, это водная гладь и ясный день зеркально удваивали их высоту, но не их великолепие. Разве можно увеличить совершенство?
Первым делом он напился речной воды. И понял, что устал бесконечно. Он не знал куда идти, и не мог больше идти. «Вот он, конец географии», – смутно улыбнулось его сознание его инстинкту, и тот напоследок сумел найти в зарослях старую, брошенную кем-то много лет тому назад лодку. Ее борта готовы были трухой рассыпаться под слабыми пальцами, но дно оказалось достаточно крепким. Он лег на него лицом вверх, но сначала оттолкнул лодку от берега. Течение мягко подхватило суденышко и бережно понесло его на восток. А может, ему показалось, что на восток, ведь все ориентиры были потеряны. Лодка вскоре оказалась на середине реки, и небо словно остановилось над ним. Он не чувствовал и малейшего покачивания волн, а белое облако пушистыми хлопьями нависло прямо над ним. И он догадался, что облако и лодка просто движутся в одном направлении с одинаковой скоростью. Эта догадка успокоила его, и он уснул глубоким, почти коматозным сном, без боли и сновидений. Старые доски становились влажными и теплыми, как лоно женщины. Как утроба матери.
Река называлась Мадре-де-Дьос. Она словно собиралась защитить его. И доставить к людям.
Отсюда начиналась заросшая лесами, неизведанная земля, которая не признавала границ, начерченных на карте людьми. Белые пришельцы называли ее Амазония, хотя у нее было и другое имя, настоящее. Его произносили только те, кто жил здесь из поколения в поколение, еще до прихода белых. «Пусть будет Амазония», – улыбались они каждому пришельцу, который наивно думал, что здесь он свой.
Первыми лодку увидели рыбаки. Ее вынесло на середину реки, очень широкой в том месте, где ловили рыбу индейцы. Лодку заметили не сразу. Да и, признаться, поначалу ловить ее никому из рыбаков не хотелось. А какой смысл гоняться за старой посудиной, оторвавшейся от причала? Сразу видно: старая бесхозная лодка. Так бы и унесло ее в Амазонку, а потом, пожалуй, и еще дальше, в океан.
Рыбаки сидели в своих узких лодках. Сами по себе эти суденышки не представляли ничего любопытного, кроме того, что были чуть новее той, которую несло по течению. Но вот на корме каждой красовались отличные моторы. Узкая клиновидная форма позволяла разгонять лодки до приличной скорости.
– Как-то тяжело она идет, – сказал пожилой индеец, самый старый из всех рыбаков. – Может, груженая?
Их было трое. Они тихо переговаривались, а их лодки время от времени постукивали бортами одна о другую. Услышав предположение старика, двое младших решили поспорить, кто первый домчит до середины реки.
– Кто выиграет, тот получит приз, а? – крикнул самый младший, заводя мотор.
– А какой приз-то? – спросил возможный соперник. И тоже запустил двигатель.
– То, что найдем в лодке. По рукам?
Через мгновение обе посудины, как две стрелы, помчались по реке, задрав свои острые носы.
Со своего места старик увидел, как две лодки достигли цели почти одновременно. И оба рыбака потянули к себе старую лодку, один за правый борт, а другой за левый. И тут же, заглянув внутрь, ахнули и отпустили добычу.
– Что там, парни? – крикнул старый рыбак.
– Тут человек!
– Живой?!
– Непонятно!
Тогда старик завел мотор своей лодки и направился к двум своим напарникам, хотя в этом и не было необходимости. Самый младший рыбак зацепил старую лодку багром и неспешно, малым ходом, поплыл в сторону берега. Его товарищ плелся за ним.
– Вот так улов!
Человек в лодке был весь в бурых пятнах засохшей крови. Лохмотья одежды едва прикрывали его израненное тело. Судя по чертам лица, он явно был не из местных, сколько времени человек провел в этой лодке, как и когда он в нее попал, было неясно.
Старик положил руку ему на ключицу. Пульс не прощупывался. Тогда старый рыбак плюнул на ладонь и растер ее другой, чтобы поверхность была влажной. Он поднес ладонь ко рту найденного человека как можно ниже, но не касаясь губ, и вот почувствовал легкое, совсем слабое движение воздуха.
– Он дышит, он жив! – сказал радостно старик. – А теперь, ребята, заводим наши крейсера и вперед!
– Куда вперед, дядя? – недоуменно спросил младший из рыбаков. Старик не приходился ему дядей, просто в тех местах так называют старших. Иногда уважительно, а иногда и насмешливо. На сей раз никто смеяться не собирался.
– Куда-куда? – передразнил молодого старик. – Куда не ходят поезда!!! А мы ходим. Нужен Пуэрто-Мальдонадо. Там есть госпиталь, гостиница. И все остальное, что может понадобиться нашему новому другу. Теперь он наш друг!
– Си, он наш друг, амиго!
До Пуэрто-Мальдонадо, большого города, стоявшего на реке Мадре-де-Дьос, было не меньше четырех часов пути. Это при обычных обстоятельствах. Сейчас же рыбакам приходилось спешить. Речь шла о спасении человека. Рыбаки чувствовали, что с этим несчастным связана какая-то тайна, и желание узнать ее тоже добавляло немного скорости остроносым лодкам.
Через два часа после того, как рыбаки нашли странного человека, между кронами деревьев они увидели разноцветные крыши домов. А еще через четверть часа три рыбацкие лодки уже швартовались возле плавучих домов, не дававших быстро подойти к узкому городскому причалу. Хозяйки, развешивающие белье, готовившие нехитрые обеды, а заодно и переругивающиеся с такими же соседками, глазели на то, как мужчины пытались добраться до деревянной пристани.
– Понаставили тут, – ворчал старый рыбак, – места им мало.
Он был прав. Места на причале в Пуэрто-Мальдонадо не хватало. Город аккуратно отвоевывал себе пространство у реки и у джунглей. За причалом уже стоял старый джип, от руки расписанный граффити разных цветов. Как только на телефоне старого рыбака появилась индикация мобильной сети, он тут же позвонил в местную больницу. Но, к сожалению, в больнице машины не оказалось, и главврач попросил своего брата съездить в порт и забрать раненого. А брат главврача в этот момент был занят очень важным делом: он был на приеме у местного парикмахера. Бритье для него было чем-то вроде священного ритуала, важного акта, который никак нельзя было пропустить. И это было вполне объяснимо. Брат главврача отрастил роскошные усы, за формой и размером которых он тщательно следил, а потому доверял подрезать их только одному парикмахеру в городе. Ну, и, конечно, кроме усов, нужно было держать в порядке и окрестности, вовремя стричь и подбривать их. В итоге, брат эскулапа попросил смотаться в порт своего соседа. А у соседа не оказалось машины, и тот не придумал ничего лучше, как пойти в ближайшую гостиницу и попросить одну из машин, на которых здесь возят туристов в джунгли и на рыбалку. Все в этой расписной, как русская матрешка, машине было прекрасно, кроме одного. О чем старый рыбак не преминул сказать соседу брата столь уважаемого человека, коим был главврач.
– Здесь сиденья не откидываются! Они же приварены! – зарычал старик на водителя.
– Да, но места вполне хватает для пятерых, – промямлил тот.
– Пятерых здоровых, осел! А нам надо положить вот его. Я уже не говорю, что мы несем раненого на руках. Где носилки?!
– Ну я же не «скорая помощь», – нашелся что ответить сосед.
– Не скорая он помощь! – проворчал рыбак. – Ладно, ребята, поехали в госпиталь. Трогай!
Всего этого Вадим не слышал. И не помнил, что ему разжимали челюсти деревянной дощечкой, как это делают эпилептикам, а затем в образовавшуюся щель по капле заливали соленую воду. Соль, говорят врачи, удерживает воду в организме, и это то, что нужно было Вадиму в первую очередь. С него сняли комбинезон и обработали раны. Их было так много, что несложная процедура продолжалась дольше, чем хирургическая операция. Впрочем, некоторые глубокие порезы пришлось сшивать. Врач ввел раненому противошоковый препарат – это на тот случай, если бы пациент пришел в сознание от боли. Но, видимо, это была перестраховка, и боль до сознания Вадима еще не доходила, не могла дойти. Разум, до поры до времени, отсекал чувства. И включил сознание только на следующий день.
– Как вас зовут? – спросила его медсестра, как только Вадим открыл глаза.
Доктор, стоявший рядом, покрутил пальцем у виска:
– Ты сумасшедшая, да? Или из полиции? Зачем спрашиваешь имя? Сначала убедись, что у него все рефлексы в порядке.
– В порядке, доктор, – сказал Вадим по-испански. – У меня теперь все рефлексы в полном порядке.
Медсестра, немолодая, но все еще красивая креолка, в которой возраст еще не уничтожил следы привлекательности, вышла из палаты, вильнув напоследок бедрами. У этих южных женщин, с примесью негритянской крови, самой выдающейся частью тела была именно задняя. «Попа, как полочка», – отметил Вадим и подумал про себя, что реакции у него, действительно, приходят в норму. За медсестрой, вильнувшей, как рыбацкая лодка, кормой, выскочил и доктор. Невооруженным взглядом было видно, кто в этом дуэте играет первую скрипку, а кто только подыгрывает.
– У него нет документов, мы не знаем, кто он и откуда, мы не знаем, почему он так изранен! – услышал Вадим женский голос из-за двери.
– Ты можешь говорить не так громко! – яростно зашептал в ответ мужской.
– Мне все равно, – сказала креолка. – Но я не хочу, чтобы в твоей больнице появилась полиция и распугала пациентов. Это наш бизнес, наш хлеб!
Мужской голос ее успокоил:
– Хорошо, хорошо, мы выясним все сами.
Удивительно, что иногда достаточно послушать короткий диалог, чтобы понять, что к чему. Пациенту стало ясно – осматривал его главврач, ему помогала медсестра, она же его жена или верная спутница жизни. И, по совместительству, реальная хозяйка положения в той клинике, где ему предстояло залечивать раны.
Вадим решил, что говорить о себе пока не будет. Сначала ему нужно было выяснить, сколько времени прошло с того момента, когда он избежал смерти, столь похожей на жертвоприношение. Потом – и это было самое важное – что случилось с гонкой, кто выиграл ралли. Понятное дело, все закончилось без него. Но история о погибшем экипаже должна была облететь весь мир. Ведь где-то в интернете он прочитал сообщение о том, что сто восемьдесят восемь стран сообщают о новостях на трассе.
Полицейским о новом пациенте не сообщили. Хотя главврач и его жена-креолка хорошо понимали, что однажды они узнают о странном пациенте. От кого? Да хотя бы от рыбаков, которые его сюда привезли. Или от этого соседа («вот идиот, брат, нашел, кого просить!»), человека явно недалекого. Но с соседом удалось быстро разобраться: не в его интересах лишний раз встречаться с полицией. А рыбаки могли проговориться. И обязательно проговорятся, ввернут красивый рассказ в разговоре со своими товарищами-собутыльниками. Повезло, правда, что они тут же умотали на свой промысел. А там, понятное дело, ни мобильной связи, ни телеграфа, ни интернета нет. Так что пару недель на лечение и выяснение обстоятельств у медицинского тандема было. Но в первые дни в больничной палате на вопрос о том, откуда он, Вадим отвечал: «Не помню». В истории болезни пришлось большими буквами написать «Амнезия» и ждать, пока у пациента наступит просветление памяти.
Он попросил в палату телевизор, газеты и компьютер. В третьей просьбе ему отказали. Слишком дорого оказалось протянуть интернет в палату, а тем более, устанавливать wi-fi порт на этаже. Но и газет было достаточно, чтобы узнать новости о гонке. Ее пришлось закончить досрочно. На предпоследнем этапе некая подпольная группа, называвшаяся «Революционный фронт имени Манко Юпанки» пообещала устроить мощный теракт, если символ неоколониализма – а именно так революционеры обозвали всемирную гонку – не прекратит свое существование, а развлекающиеся в Андах миллионеры не перестанут загрязнять чистейший воздух латиноамериканских просторов своими машинами. О том, что это нешуточные угрозы, стало ясно после того, как спасатели нашли остов обгоревшего автомобиля и в нем тело одного из гонщиков. Вернее то, что от него осталось. Речь шла об украинском автомобиле и его пилоте. А где находится штурман, гражданин Боливии, ни пресса, ни полиция не знает. Ну, а согласно итогам соревнований, победителем признали американца Робби Горовица.
В другой газете Вадим нашел свою фотографию, а под ней интервью Стампы, наткнувшегося на обгоревший болид в каньоне реки. Много было в этом интервью о профессионализме гонщика и бескорыстии того, кто о нем рассказывал. Мол, Стампа помогал поднимать украинскую команду, потому что ему, как профессионалу, очень понравились эти самоотверженные ребята из Восточной Европы.
Вадим слегка улыбнулся, читая это. В интервью ни слова не было о тех высоких гонорарах, которые получал от команды франко-итальянский альтруист.
В третьей газете выздоравливающий пациент провинциальной клиники обнаружил выдержки из технического отчета о состоянии его машины. Комиссары нашли колесо в нескольких километрах от автомобиля, и сразу же возник вопрос о том, кто его прикручивал. Местная полиция арестовала было Бубенчика и прочих механиков. Но вскоре отпустила, поскольку было установлено, что последний раз гайки закручивались, – и, вероятно, раскручивались! – инструментами, которых не было в командной «техничке». Установить это было довольно просто, по следам металла, оставшимся на болтах. Вадим прочитал фразу несколько раз, чтобы понять ее смысл. И наконец понял – кто-то специально ослабил болты. И это основная версия гибели украинского экипажа.
Штурман экипажа – о нем сообщалось только, что он являлся гражданином Боливии, – находился в розыске. «Это значит, – догадался Вадим, – что тело Эспинозы или то, что от него осталось, они приняли за мое. И это, откровенно говоря, странно».
Судя по тому, что в теленовостях ничего не говорили о террористах, из-за которых пришлось прекратить гонку, история эта уже не являлась «хэдлайном», так что нетрудно было сообразить – времени прошло немало. Нарисованный компьютером календарик, который обычно появляется за спиной у ведущего новостей, помог определить, что без памяти Вадим продержался три недели. Правда, врачи, эта веселая семейная парочка эскулапов, считали, что память к нему все еще не возвращается. Хорошо еще, что они не интересовались спортом вообще и гонками в частности, а то непременно догадались бы, кто он. Тем более, гонщик сообщил, что вспомнил свое имя: Вад.
– Бад? – произнесла креолка-медсестра. И украинец вспомнил, что почти так же называл его старый друг Норман: Бадын. Так очень часто в испанском языке звук «v» превращается в твердый «b», а вместо «m», оказывается, удобнее выговаривать «n», и Вадим никогда не поправлял своего друга.
– Хороший прогностический признак, – сказал главврач. – Он уже вспоминает свое имя.
Через неделю Вадима собирались выписать из больницы. Но вот куда? – это был вопрос, который главврач задал вслух.
– У меня есть идея, – сказала его жена. – Он ведь иностранец?
– Tú eres un extranjero, si? – немного фамильярно спросила креолка, обратившись к Вадиму, и ее красивые бедра слегка качнулись из стороны в сторону.
– Si, señora, – Вадим сохранил вежливую субординацию.
– T’eres un extranjero más inteligente? – продолжала свой опрос-допрос женщина.
– Un inteligente, si, – кивнул Вадим, при этом подумав, что она слизывает звуки, как помаду со своих надменных губ, и что слово «más», то есть «более», к понятию «интеллигентный» не очень подходит. «Ну, да ладно», – улыбнулся он про себя.
– Иностранец-интеллигент, – говорила креолка мужу. – Таких в нашем городе двое. Сэм Уильямс да еще этот.
– Сэм Уильямс, да, – согласился главврач с женой. – Но при чем тут наш Бад?
Женщина покрутила рукой у виска. Это было привычное движение, которое в разговорах с мужем креолка использовала порой по несколько сот раз в день.
– Ты не понимаешь, да? Так я тебе объясню. Его надо выписывать. Но ему некуда идти. У него нет денег, нет и документов.
– А-а-а, – сказал главврач. – А почему ты думаешь, что Уильямс согласится принять к себе в дом такого бесперспективного постояльца?
На что жена только усмехнулась.
– Пусть только попробует не принять. Тогда я позвоню в Нью-Йорк твоей сестре и попрошу ее сообщить в Службу внутренних доходов Соединенных Штатов о том, что гражданин США Сэмюэль Уильямс зарабатывает на жизнь, показывая туристам джунгли Амазонии, а также издает под чужим именем книжки, при этом уклоняясь от уплаты налогов на родине. И поверь, твоя сестра мне не откажет.
При всей непередаваемой прелести маленьких затерянных городков, жизнь в этих оплотах провинциальной сплоченности имеет единственный, но весьма существенный недостаток: здесь каждый знает все обо всех, и все знают все о каждом. И некоему Сэму Уильямсу, знакомство с которым для Вадима становилось неизбежным, еще предстояло это осознать.
Doce. Tres niveles del conocimiento
На вопрос о том, как его нашли Чинча и эта красивая девушка, Оторонко так и не получил ответ. «Всему свое время», – только и слышал он от них. И почему это его должно было волновать? Какая воину-ягуару была разница, кто его нашел в этих местах? Его спасли, и это было главным. Он многое понял о себе и о звере, пытавшемся его убить. Да, ягуар хотел убить человека. А в итоге спас. Его кровь влилась в тело человека, значит, погибший хищник и живой воин теперь одно целое. Но зачем же теперь думать об этом.
Чинча и Окльо теперь знали, что воин ел плоть погибшего священного животного. Это было преступление перед небесами. Еще большее преступление, чем есть человечину. Жертвы предназначаются высшим силам, а их слуги, то есть люди, должны жить по правилам и законам.
Вот о чем рассуждал Оторонко, мысленно раскаиваясь перед небом в содеянном. А Чинча тем временем пытался прочитать связку кипу, которые он обнаружил в руке раненого воина.
Чинча был знаком с искусством чтения кипу, ведь его, архитектора, посвящали в тайны знаний, правда, настолько, насколько это было необходимо человеку его профессии. Он мог считать узлы и понимать статистику сообщений, но глубинный смысл посланий создавался не только с помощью узлов, но и при участии различных оттенков, в которые были выкрашены веревки. При желании такая сложная система записи могла хранить сокровенные тайны прямо на глазах у тех, кому не положено было знать великие секреты.
Чинча долго перебирал узлы, считая расстояние, которое они описывали. Речь в послании шла об очень далеком месте на Востоке, где должно было произойти знаменательное событие. Какое именно – Чинча не понял. Важное сообщение было предназначено для особых людей, посвященных в государственные секреты. И хотя сейчас на архитектора была возложена, возможно, самая главная миссия в Тавантинсуйу, у него имелся значительный пробел в образовании: его обучили расшифровывать информацию первого уровня, отвечавшую на вопросы «Что?», «Где?» и «Когда?» Более глубокие знания, передававшиеся с помощью узелковых шифров, оставались для него закрытыми. Чинча пытался складывать узелки и так, и сяк, но сумел понять только три образных выражения – «без пределов», «на Востоке» и «такой же точно». Окльо, сидя рядом, терпеливо ждала, когда ее спутник прекратит крутить между пальцами радугу длинных нитей и перестанет гримасничать, силясь произнести незнакомый текст. Наконец, когда ее терпение лопнуло, она поднялась со своего места и принесла сумку Чинчи, в которой лежал тяжелый продолговатый предмет. Она бросила ее к ногам архитектора.
– Может, это поможет тебе хоть немного стать грамотным?
Она бывала язвительной, а иногда могла и перейти ту невидимую грань, за которой сарказм превращается в оскорбление. Девушка, которую Чинча выбрал в качестве спутницы, вызывала в нем одновременно и страх, и любопытство. Наверное, когда эти два чувства смешиваются, то возникает третье – любовь. Но вот в какой пропорции должны быть представлены ингредиенты этой смеси, Чинче было неведомо. Как неведомо и остальным людям.
Он подтянул к себе сумку. Теперь ему предстояло сделать то, что умел делать только Великий Инка. Ну, и еще, может быть, два или три человека во всей империи. Чинча засунул руку в холщовые недра сумки и достал оттуда самый главный предмет своей жизни. То, ради чего Вильяк Ума обрек его на опасные странствия. Чинча поднял над головой священный предмет. Солнце заиграло на золотых рисунках, сплетавшихся в сеть узоров на его поверхности. В руках у архитектора была макана, булава Великого Инки. Та самая, которую приказал сделать для себя великий полководец и создатель империи Пачакути перед тем, как отправиться в свой первый большой поход. А золотые рисунки были не просто украшением этого грозного оружия. Они помогали читать тайные депеши. И писать великолепные нежные стихи.
Испытывая священный трепет, Чинча поднял макану над головой. Он держал в руках предмет, увидеть который миллионы людей, населявших четыре провинции империи, просто не имели права. Впрочем, большинство граждан Тавантинсуйу вообще не знали о том, что он существует, этот могущественный ключ ко всем шифрам тайных знаний.
Оторонко, увидев жезл власти и могущества в руках у Чинчи, вздрогнул. Он почувствовал, как по его спине предательски пробежали мурашки. Так же, как и в первый раз, на ночной площади в Куско, когда Чинча трепетно и в то же время грозно держал в руке золотую макану Великого Инки. Это был знак власти и сигнал для Оторонко – нужно подчиниться этому человеку. Теперь Чинча спас его. И снова показывает свою власть.
Но Окльо, не выказав ни малейшего почтения к верховной власти, материальным воплощением которой была булава, стала рядом с Чинчей так, что ее голова оказалась выше этого царского символа, что было верхом непочтительности по отношению к традициям империи.
– Ну, что, ты сможешь прочитать послание с помощью этой апикайкипу? Или тебя нужно учить грамоте? – сказала девушка.
Во взгляде Чинчи было столько же вопросов, сколько узелков на связке разноцветных кипу, которые нужно было прочесть. Окльо сообразила, что надо оставить эти вопросы без ответов. Правой рукой она взяла сообщение, а левой перехватила у Чинчи часка-чуки. Оружие показалось ей неожиданно тяжелым. Она чуть было не уронила его, но смогла поддержать, подставив другую руку.
– Тяжелая, – усмехнулась Окльо.
Ее спутникам было не до смеха. Ее непочтительное поведение казалось им почти кощунством. Оторонко был готов наказать эту строптивую девку, как сделал бы на его месте любой солдат империи, но, взглянув на Чинчу, он понял, что эта странная женщина имеет какое-то внутреннее право вот так, панибратски, вести себя с государственными символами.
Чинча смотрел на священное оружие. Это была самая важная вещь в империи и, одновременно, самая прекрасная. Так думал архитектор. Ее очертания давали полное и однозначное представление о совершенстве Вселенной, в которой появилась империя. Тонкая и длинная рукоятка чуть расширялась в сечении поближе к массивному шару с шипами пирамидальной формы. А на ней были изображены миниатюры, рассказывавшие о первых днях страны, возникшей вокруг небольшой крепости в горах. Чинча мог разглядеть портреты Манко Капака и Мамы Окльо, первой царской семьи новой империи, и других королей, еще не научившихся побеждать соседей. И только на зубчатом шаре – это молодой архитектор знал хорошо, потому что не в первый раз он разглядывал священный предмет – был изображен первый по-настоящему Великий Инка, господин и повелитель по имени Пачакутек, создатель, воин, певец и строитель. Так в истории долгое и трудное время посредственностей заканчивается триумфом и величием настоящего лидера. Именно такой, как он, может превратить часка-чуки, оружие, которым убивают, в апикайкипу, ключ от знаний, шифр, открывающий тайны узелкового письма. Правда, какой ему, Чинче, прок от ключа, если он не умеет им пользоваться? Зато ключом владеет эта девушка. А она, вместо почтительного раболепия, которое должен был выказывать по отношению к символам власти любой, кто не принадлежал к царскому роду, как-то слишком обыденно взяла в руки этот, без сомнения, священный предмет. Что это, как не святотатство? Потому-то и вспылил горячий воин Оторонко, сбежавший из войска своего государства для того, чтобы его спасти. О, как он кричал и рычал, этот пожиратель одиноких ягуаров, какие слова произносил вслух! Словарный запас воина весьма удивил Чинчу, таких сложных оборотов речи в его горной общине не использовали. Причем, все крепкие выражения строились на основе нескольких базовых слов, имевших отношение к сфере приятных и тайных моментов супружества. Но девушка не была ничьей супругой. А Чинча, заслушиваясь хамских трелей Оторонко, слишком поздно вспомнил, что хотя спутница и не жена ему вовсе, но вполне может стать таковой. А значит, именно он, Чинча, должен заткнуть ему рот.
Но пока он думал об этом, девушка едва уловимым, коротким движением развернулась в сторону яростного дезертира. Тяжеленная булава мелькнула, как молния, золотые рисунки ударились о гневный оскал зубов, нарушив ровный верхний ряд. Оторонко потерял дар речи, а вместе с ним и дар ругаться. Он рухнул, как срубленное дерево.
– Ты убила его! – воскликнул Чинча.
– Нет, – спокойно ответила девушка, – только слегка отключила. Нужно думать, какие слова из себя выпускаешь и в чью сторону унесет их ветер.
И, мило улыбнувшись, она села на камень, чтобы читать важное послание. Любое ее движение разогревало в архитекторе и страх, и желание.
Она перебирала узлы и разглядывала рисунки. Посчитав их определенным образом, Окльо указательным пальцем водила по миниатюрам. Ее губы помогали рукам считать длину и ширину палицы, то отступая от края, то двигаясь к геометрическому центру, то блуждая по поверхности шара, украшавшему вершину часка-чуки. Чинча, наблюдая за ней, заметил определенные закономерности в орнаменте, покрывавшем булаву, ведь рисунки тоже были связаны не только смыслом, но и орнаментом. Он обрамлял каждую миниатюру, от самого начала и до самого конца. А на границе между рисунками Чинча рассмотрел узелки. Золотое плетение точь-в-точь повторяло стиль узелков кипу. И как это он сразу не рассмотрел их в тот день, когда Вильяк Ума назначил его хранителем секретной булавы? Впрочем, архитектор признавал, что это отчасти помешал ему сделать очень сильный страх, совершенно не знакомый этой женщине – страх перед верховной властью.
Она читала кипу, сверяясь по рисункам апикайкипу? Или, быть может, наматывала цветные нити на универсальную историю, размазанную по поверхности маканы? Как ни назови этот странный процесс чтения, он имел определенный смысл и внутренний порядок. Чинча не знал его. Ну и что? Он был простолюдином по крови, а значит, чтение тайнописи для него было запрещенным знанием. Но ведь запретный плод всегда сладок! И сладкими были губы Окльо – он узнал это, переступив однажды через барьер крови и сословия. Теперь ему постоянно хотелось пробовать ее губы: и тогда, когда они молчат, и тогда, когда с них слетают слова.
Слова, которые она произносила сейчас, были особенно важными. Она умела читать кипу, причем, настолько, насколько глубоко неизвестный шифровальщик прятал полученное знание. Окльо читала узелки так хорошо, что сама не замечала, как информация превращается в знание. Она уже забыла, вернее, не думала о том, что узелковое письмо скрывает три уровня информации. Об этом узнавал на первом занятии по чтению кипу каждый, кого готовили к профессии кипукамайока. Любой кипукамайок – и чтец, и бухгалтер, и курьер в одном лице – мог прочесть знание первого уровня, то есть базовую информацию. Ему были доступны цифры, факты и расстояния. Второй уровень любого сообщения являлся синтаксическим кодом. Третий, расшифровать который было сложнее всего, формировал образы, эмоции, придавал силу повествованию и превращал разноцветные веревочки в настоящую литературу, красивую и мощную. Человек, способный расшифровать этот уровень, мог, помимо всего прочего, читать между строк. Или, как говорили в Тавантинсуйу, между узелков. Взяв в руки связку разноцветных веревок, можно было испытать невероятное удовольствие от понимания смысла узелковой книги. Правда, такое наслаждение было доступно немногим в Тавантинсуйу. И эти немногие составляли элиту могучей империи. Простолюдины, работавшие на императора, даже и представить не могли, насколько полной и богатой на удовольствия была жизнь элиты, умело и методично объяснявшей подданным, что праздность и лень это преступление. Знания приносили радость, но раздавались маленькими порциями. И только самым верным людям.
Чем дольше читала послание Окльо, тем серьезнее становилось ее лицо. У нее были не столь широкие скулы, как у ее соотечественниц, а глаза имели скорее миндалевидную, чем раскосую форму. Возможно, поэтому любая эмоция – и радость, и печаль, и гнев – хорошо читалась на ее лице. А ее глаза иногда могли сказать Чинче больше, чем связки кипу, которые она сейчас держала в руке. Когда Окльо оторвала их от веревок и узелков, Чинча увидел в этих глазах гнев. Две молнии холодно сверкнули, посулив опасные перспективы тем, в кого они были направлены. Чинча отдал бы многое, чтобы во что бы то ни было оставаться другом этой женщины, но ни за что бы не захотел стать ее врагом, заглянув однажды в эти опасные глаза.
– Что там, Окльо? – спросил он, преисполненный трепета и любопытства. – Всему конец?
– Это хуже, чем конец. Пожиратели человечины договорились с пришельцами. Они знают, что такое Пайкикин. И они отведут туда чужеземцев. У нас не останется ни малейшего шанса на восстановление страны. Они отдадут им все, чем жили мы. В обмен на право выжить.
– Пайтити? Кто такой этот Отец Ягуара? – спросил удивленный Оторонко. Придя в себя, он не высказал ни малейших претензий к Окльо, которая уложила его на землю одним ударом. Возможно, он понял, что это не простая женщина, достойная порицания и наказания, а человек, имеющий право управлять другими и наказывать их. Впрочем, его заинтересовало и словосочетание «Pai Titi» – именно так в его помутившемся сознании отразилось то, что сказала Окльо, – означавшее «отец» и «ягуар» на языке лесных дикарей, против которых так часто и долго воевала империя. И потом, его собственное имя Оторонко на вражеском дикарском языке звучало, как «Titi». Но Чинча уловил совершенно другое значение в этом словосочетании. Вырванное из контекста, оно звучало несколько нелепо, но в комбинации с другими словами могло означать «…точно такой же, как…». «Наш язык и могуч, и велик!» – с восторгом подумал Чинча, не зная, что и до него эту фразу в разных частях света произносили экзальтированные и возбужденные интеллектуалы, складывавшие литературные шарады и сами же успешно их отгадывавшие.
Женщина бросила быстрый взгляд в сторону спутника, как будто в поисках поддержки и ответа на вопрос, стоит ли доверять этому несуразному и странному парню. Но Чинча задумчиво молчал, произнося про себя: «Пайкикин, Пайкикин, Пайкикин…» Тогда Окльо приняла решение самостоятельно.
– Тебе, видимо, слишком много досталось, – сказала она Отронко. – Прости, что я добавила тебе еще немного страданий. Возможно, мне следовало бы рассказать то, что я знаю, хорошо организованным воинам или чиновникам. Но у меня в подчинении нет чиновников, кроме вот этого человека, моего Чинчи. А из воинов в моем распоряжении есть только ты. Ягуар, сбежавший из стаи и съевший ягуара.
– Мне надо было выжить, Мама Окльо! – возразил Оторонко, не заметив, что называет женщину священным именем основательницы Земли Четырех Сторон.
Она на это никак не отреагировала и продолжала свою разъяснительную лекцию.
– Пайкикин! «Такой же точно»! Расширяясь, наша империя сталкивалась с врагами, делая из них друзей. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что человек, превратившийся из врага в друга, не совершит превращение в обратном направлении. Эти невидимые враги могли, как океанская соль, вытравить нашу землю изнутри, сделав ее бесплодной. Поэтому Великий Инка Пачакути принял решение о строительстве еще одной столицы. Еще одного Куско. В этот город свозились точно такие же ценности, которые приходили в Куско, только в десятикратном, двадцатикратном размере. И если в Кориканче был золотой сад, то в новом городе поставили золотой лес. Настоящее название города могло выдать его расположение. Поэтому в узелках его обозначили как Пайкикин. Такой же! Понятно не для всех. Они, наши великие предки, шифровали все свои сообщения, чтобы враги империи, внешние и внутренние, не смогли разгадать план нашего выживания.
Чинча слушал свою спутницу, понимая, что она права. «Она всегда права!» – стучали в его голове слова. Эта правота делала ее лидером. Вождем. Единственной женщиной, имевшей право командовать другими людьми. Вот, поглядите на нее, на ее мимику, на страстные губы, умеющие целовать и убеждать, и при этом то и другое делающие в совершенстве. На ее глаза, сияющие, как солнце над вершинами Великих Анд. На ее тонкие пальцы, сжимавшиеся в кулаки и снова разжимавшиеся в такт словам. И так же бешено и ритмично, должно быть, сжималось и разжималось сердце в ее прекрасной груди. «Эта женщина учит меня думать и анализировать, а мне вместо этого хочется ей просто верить», – так думал архитектор. И качал подбородком в такт ее жестким и порой жестоким словам.
Связки кипу, разноцветных ниток, перетянутых узелками, считаются формой записи информации. В связке может находиться от нескольких до нескольких тысяч ниток. В 1923 году было доказано, что с помощью кипу передавалась важная бухгалтерская информация, а в 2006-м исследователи определили, что в основе записи лежит двоичный код, допускавший 128 вариаций. Но вполне возможно, что кипу – это всего лишь часть очень сложной системы шифрования и записи, принципы которой современным ученым неизвестны
– Пожиратели человечины с Севера предали не Атауальпу (он ведь ничем не лучше их), они предали Пачакути. Они предали наших отцов и свой род. Империя в опасности.
– Мы должны найти этот город? – спросил женщину Чинча.
– Мы должны остановить тех, кто ищет Пайкикин, – ответила она.
Оторонко встрепенулся и даже подпрыгнул на месте, приняв боевую стойку солдата, готового поразить любого, кто только взглядом выкажет неуважение к ценностям Великой Страны Четырех Направлений.
– Скажи мне, о госпожа, кого надо остановить! Я, Оторонко, человек, съевший ягуара и сам ставший настоящим ягуаром внутри, отдам всю свою силу за тебя и за нашу землю! Я буду рвать каждого, кто встанет у тебя на пути!
– Не у меня. У нас, – уточнила девушка более спокойно. – Это наша страна и наши знания. Общая память. В общем, рвать никого не надо.
– А что же надо делать? – дружно, почти в один голос, удивились мужчины.
– Надо запутать. Впрочем…
Окльо задумалась. Она подняла глаза вверх. Небо было голубым и нежным, как покрывало матери, заботливо дававшей поспать еще мгновение перед неминуемым пробуждением. Окльо поняла, что устала от страсти и затосковала по нежности, не обремененной влечением и какой-либо целью. Но этого чувства ей уже не изведать никогда. Ее дорога вела в сторону от нежных чувств. А Чинча не в счет. Для войны, которую она начинала, был важен его интеллект и знания. И тот предмет, который поручил сохранить Вильяк Ума. Любить друг друга некогда… Любовь это роскошь для сытых и мирных людей, а не для одиноких беглецов под синевой бесконечности.
– А впрочем, Ягуар, понадобятся и твои зубы.
Среди грусти и одиночества кровавые естественные краски пятен на одежде спасенного Оторонко смешались с желтыми и зелеными тонами предгорий, и в этой палитре рождался план новой войны, которой суждено было длиться очень долго. До последнего солдата. И это будет война тайная. Незаметная. Но оттого не менее жестокая.
Trece. Dos amigos y un prisionero
– У него есть еще что-то, – губы Диего дрожали, когда он это говорил. Писарро, слегка скривившись, кивнул головой в знак согласия. Он был спокоен.
– Он нам готов продать свои несметные сокровища за небольшую, в сущности, цену. За свою жизнь.
– Диего, я услышал, что ты сказал. Причем, с первого раза понял смысл сказанного.
Франсиско долго думал над тем, что же следует делать с Атауальпой. Он уже стал владельцем огромного богатства, просто-таки гор золота. И это после всех расчетов, которые, кстати, командор доверил проводить Альмагро. Диего был верным другом. Он всегда подставлял свое плечо и прикрывал спину, если в том была нужда. А такое часто случалось во время стычек с дикарями и в более опасных ситуациях, когда сходившие с ума вдали от родины конкистадоры готовы были пронзить насквозь даже своего офицера – от накопившейся ненависти или вследствие скуки, часто овладевающей душой после неблаговидных поступков, как похмелье овладевает телом после угрюмой попойки. Да, и правду сказать, неблаговидными были почти все поступки, совершаемые этими людьми в чужой сельве. Ведь героями конкистадоры становились после того, как далекая прожорливая родина, удовлетворившись новыми землями и богатствами, объявляла их «аделантадо», первооткрывателями, – был и такой жалованный королем титул. А сначала для всех они были преступниками и авантюристами.
Диего был одним из самых честных людей, которых знал Писарро. Если, конечно, о такой добродетели, как честность, можно говорить, имея в виду тех, кто бежал сюда от закона, судебных преследований и родственников врагов, заколотых на дуэлях. У Диего был свой особый кодекс чести. Он мог обмануть или со всей подлостью первооткрывателя убить своего противника, но другу оставался верен настолько, что ему смело можно было доверять и жизнь, и кошелек. Вот, кстати, в отношении кошельков де Альмагро и был предельно щепетилен. Все, что удавалось вырвать конкистадорам из диких лап этого нового враждебного мира, Диего делил на всех. Не поровну, конечно, но честно, в зависимости от составленных ранее договоров. И если кому-то была обещана двадцатая часть добычи, то будь то просто солдат или всадник, он получал сполна все, что обязан был получить. Именно за этим и следил Альмагро, взвешивая золотые украшения и что-то царапая на кусках пергамента, которые были спрятаны в различных местах его поизносившейся одежды.
Корона получала львиную долю выкупа Атауальпы. Но и того, что оставалось конкистадорам, было достаточно, чтобы обеспечить им безбедную жизнь. Да что там им! Их далекие потомки через века могут быть благодарными героическим прадедам за это богатство, найденное на чужом континенте. Одного только не понимал Диего: почему бы не взять еще больше? И почему его друг Писарро не хочет получить все, вместо того чтобы довольствоваться частью? Он уже спрашивал об этом командора и не услышал ответа. Между тем, это никак не повлияло на список участников дележа, в котором были учтены интересы всех, кто так или иначе способствовал поимке Атауальпы.
Из всей группы испанцев первым получил официальное звание «аделантадо» дон Франсиско Писарро. Именно с ним, со своим верным другом и покровителем, Диего де Альмагро обсуждал список будущих обладателей сокровища.
– Итак, – говорил Писарро, – сколько мы отдаем короне?
К тому времени, когда пришло время делить деньги в этом прибыльном проекте, общий объем сокровища был измерен, его вес посчитан, а Диего оставалось скрупулезно перенести все исходные данные с обрывков пергамента на свиток хорошего качественного пергамента, оказавшегося в распоряжении брата Висенте де Вальверде. Так звали монаха, сумевшего спровоцировать аборигенов на действия, которые обоснованно можно было считать оскорбительными. И это дало испанцам вполне легальный CASUS BELLI, повод к войне. Все хорошо, что хорошо кончается! Теперь слитки надо было разделить.
– Король получает сто тысяч песо золота, – сверился со списком Диего.
– Сто тысяч? – хмыкнул Франсиско. – Но это значительно меньше пятой части.
По испанским законам, государство должно было получать пятую часть всех найденных во время экспедиций сокровищ. В самой нижней строчке этого списка стояла цифра 1 262 682 песо. Если бы король оказался одним из участников дележа, то он бы не допустил явного унижения короны и ущемления своих прав суверена и монарха, а эти два героя тут же отправились бы на дыбу или на костер. Но монарх и суверен был далеко, а чужое золото – совсем рядом, в нескольких шагах от того места, где находились двое «аделантадо». Франсиско проявил щедрость:
– Набрось государю еще серебра.
– Сколько? – спросил де Альмагро.
– А сколько у нас есть? – переспросил командор, хотя и так уже знал все цифры.
– Пятьдесят две тысячи двести девять марок, сеньор. – В голосе Диего прозвучали сухие нотки официального обращения к старшему по званию. – Если быть точным.
– Тогда отпиши ему… ну, скажем… пять тысяч. Для ровного счета.
Диего тут же принялся вписывать цифры в третью колонку, для которой он заранее подготовил место на желтоватой поверхности пергамента. Во второй колонке были указаны золотые песо, которые предполагалось раздать соратникам. А в первой в столбик были выписаны их имена. Что касается золота, то с каждым из солдат его доля обсуждалась заранее. Неутвержденной и не расписанной пофамильно оставалась часть выкупа, состоявшая из серебра. Ведь само количество драгоценного металла – пятьдесят тысяч марок в серебряных слитках – впечатляло не только на первый взгляд, но даже и на слух. Любой испанец потеряет дар речи, пытаясь выговорить эти слова: «пятьдесят тысяч марок в слитках». Попробуйте произнести: ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ МАРОК СЕРЕБРА! Прислушайтесь к себе, и вы почувствуете, как от этих слов начинают вибрировать ваши мышцы – особенно в нижней части живота. И вот сказка о несметных сокровищах страны Эльдорадо становится былью. Но, правда, только для двухсот счастливчиков, терпевших страшные лишения новых земель не годы, а десятилетия. В список счастья, кроме монарха, пришлось внести еще и церковь. Что поделаешь, без них, братьев в серых и черных клобуках, проповедующих мир, согласие и взаимопонимание, не обходится ни одна война, даже такая странная, как та, которую ведет здесь старый командор Писарро. А ведь это, кажется, он первым назвал количество золота, которое собирался передать церкви. «Мне нравится число девять тысяч девятьсот девяносто», – усмехнулся он во время первого обсуждения размеров выкупа. И Диего просто вписал указанную командором сумму в список. А теперь Франсиско увидел, что в графе «католическая церковь» было написано: «Две тысячи двести двадцать песо».
– Где остальные деньги? – указал он пальцем на явную недостачу.
– Здесь, – поправил его де Альмагро. – Хуан де Соса взял себе остальное и сказал, что позаботится о церковных средствах.
Хуан де Соса был одним из первых священников, который согласился отправиться в неизведанные края. И, видимо, на правах первенства решил воспользоваться правом управления церковными деньгами. Хотя, как справедливо считал Франсиско, больше других в этой миссии рисковал брат Висенте, согласившись выйти на треугольную площадь и начать разговор с Атауальпой и его свирепой охраной.
– А почему я не вижу в этом списке нашего храброго монаха? – заметил де Альмагро как бы невзначай.
– Брат Висенте? – уточнил Диего и произнес: – Он отказался от своей доли,
– Что? Это еще почему?! – не удержался от возгласа Писарро.
Диего пришлось терпеливо объяснять командору, что, мол, монах долго размышлял над событиями до и после пленения столь могущественного и, одновременно, наивного императора, и затем пришел к выводу о том, что намерения конкистадоров были корыстными, а значит, противоречащими истинам Господа нашего Иисуса Христа и постулатам Святой Церкви. И в этой связи, не имея ни малейшего права судить деяния Церкви, он не выступает против того, чтобы конкистадоры передавали ей выкуп, но как служитель Церкви и ее малая часть отказывается от возможности обогатиться за счет поверженного императора этих земель.
– Ну что ж, – согласился Писарро, – его право. Мы не против свободы выбора.
Он мельком взглянул на строчку напротив своего имени и с удовлетворением отметил, что пятьдесят семь с лишним тысяч песо прекрасного инкского золота делают его одним из богатейших людей Испании.
Они продолжали обсуждать детали, касающиеся серебра Великого Инки. И Альмагро подумал, что Писарро ни разу его не спросил, доволен ли друг своей долей от выкупа Атауальпы. Конечно, после того, как список был составлен, Диего из старого солдата-конкистадора превратился в весьма обеспеченного сеньора. Но ему досталось в три раза меньше золота, чем командору. К тому же это золото он обещал разделить вместе с ветеранами конкисты, выполнявшими во время атаки его, де Альмагро, приказы.
Разве мог Франсиско не заметить эту несправедливость? Конечно не мог. И если бы его спросили, почему его близкий друг получает так мало по сравнению со своим командиром, он бы нашелся, что ответить. Ответ был заготовлен. Писарро многократно повторял про себя фразу: «Диего, если тебе мало, я готов отдать тебе половину моего богатства!» И командор верил, что поступит именно так. Но его друг ни о чем не спрашивал и ни о чем не просил. Поэтому командор не торопился делиться.
Все же алчность испанца имела свои пределы. На марше, в походе, преодолевая непролазные джунгли и с риском для жизни перебираясь через каньоны быстрых рек, он любил подбадривать своих людей рассказами о золоте, которое их ждет в далеком Эльдорадо. И тут же, когда кто-нибудь из испанцев робел на краю обрыва, шутил, что это не пропасть, а рытвина на их пути. «Самая большая пропасть, ребята, это алчность. Падать в нее можно всю жизнь, – говорил он, – и при этом так и не достичь дна».
Его собственной, личной пропастью была не жадность, а непомерное, неутолимое честолюбие. Он завидовал Кристобалю Коломбу, первому из европейцев, ступившему на новый берег. Соревноваться с Коломбом в славе было бесполезно. И Писарро это очень хорошо понимал. Конкистадоров много, но славных «аделантадос», людей, носивших официальный статус первооткрывателя, были единицы. А сеньор Кристобаль Коломб, он – единственный. Шагнув на мокрый песок острова Эспаньола, он поставил свой личный оттиск на пропуске в вечность. И те, кто пошел за ним, возможно, были храбрее и благороднее этого наемника-итальянца. Но они всего лишь шли вслед за ним. Та мечта, которую воплощал в жизнь Писарро, заключалась лишь в том, чтобы быть в первых рядах идущих вслед. И это было вполне достижимо. Ему хватало и смелости, и силы, и жестокости для победы над врагами. Но обстоятельства были сильнее его врагов. Он мог бы стать победителем ацтеков, но слава выбрала другого, баловня авантюрной судьбы Кортеса, бросившего к ногам короля сокровища Монтесумы. Он собирался выйти на западный берег нового континента вместе с экспедицией Вашко Нуньеша де Бальбоа, но этот португальский выскочка сказал, что проткнет своим мечом любого, кто раньше него омоет сапоги в Тихом океане. И вся немногочисленная экспедиция стояла на берегу и смотрела, как вода плещется у ног командора Вашко. Первые всегда бывают жадными и тщеславными, усвоил Писарро урок истории. Но вот появился верный шанс. Не просто верный, а единственный. И это Писарро почувствовал сразу, как только услышал в Панаме легенду о стране Биру, в которой золото используют для того, чтобы выкладывать из него стены домов и мостить широкие улицы. Мечта стоила того, чтобы рисковать. И он рисковал, пробиваясь сюда с упорством быка на корриде, не желающего замечать тореадора и чувствовать шпаги в своей холке. На то, чтобы снарядить поход в страну Биру, ушли годы. Удачной экспедиции предшествовали несколько неудачных. Больше всего Писарро рисковал тогда, когда его солдаты, умирая от малярии и не заживающих во влажном климате ран, едва не подняли мятеж. Они не просто устали от тяжелого похода, они потеряли терпение и веру – именно то, что в любых обстоятельствах заставляет человека идти вперед. Писарро, воплощение безмерной любви и доверия конкистадоров, стал для них объектом ненависти. Им казалось – устрани они командора, и бессмысленный поход тут же закончится. Командор Франсиско находился на волосок от смерти, но сумел собрать волю в кулак и произнести речь, которая охладила и одновременно зажгла его людей.
«Мы стоим на пороге, – сказал Франсиско, – за которым нас ждут богатство и слава. Шагнув за него, мы разделим славу на всех и наполним наши карманы золотом. Никто не останется обделенным, я вам обещаю. Мы рискуем умереть, это правда. А те, кто сейчас остановится и примет решение возвращаться назад, останутся в живых. Но они никогда не добудут себе ни славы, ни денег. Решать вам и только вам». После этих слов лишь несколько солдат решили вернуться назад, в Панаму, где была основная база испанцев. Большинство, даже те, кто грозился вызвать пожилого командора на поединок, решили остаться с ним. И он не обманул ни одного человека из славной когорты своих суровых и жестоких спутников. Они держали в руках славу и слушали звон золота, пожалуй, самую веселую мелодию из тех, которые знали конкистадоры.
Все шло так, как хотел Писарро. Но мысль о монахе, отказавшемся от своей части вознаграждения, не давала ему покоя. Почему он вспомнил о святости церкви именно сейчас, когда решалась судьба инкского короля Атауальпы? Это неспроста. Это знак. Опытный командир должен уметь их читать и даже видеть между строк то, к чему, казалось бы, эти знаки не имеют отношения.
Брат Висенте, тот самый, кто заманил Атауальпу в руки конкистадоров, считал, что совершил неправедный поступок. Согрешил, иными словами. Сейчас он искупает вину перед своей болезненной совестью, отказываясь от вознаграждения. Да, такой человек в его конкисте пока был один – среди двух сотен ни в чем не сомневающихся авантюристов. Но, возможно, вслед за ним появится еще один святоша. И еще. И еще. Когда сомневающихся будет большинство, тогда императора дикарей придется отпустить. И вся их немногочисленная экспедиция погибнет под мощными ударами тысяч и тысяч солдат, которые вновь встанут под знамена Великого Инки. «Каков же вывод?» – не удержался от вопроса к самому себе Писарро. Ответ он уже знал заранее. Человека по имени Атауальпа ни в коем случае нельзя отпускать на волю. И нельзя соглашаться на заманчивые посулы императора, даже если он говорил правду и где-то в джунглях у него припасены несметные сокровища. И даже если эти сокровища в сотни, тысячи раз больше, чем те, которые удалось собрать в Кахамарке, не стоило давать волю своей алчности. Сейчас риск не был оправдан. Вместо того чтобы сохранить часть, можно было потерять все. Теперь Франсиско знал, что делать. И знал, как остановить свое падение в пропасть под названием «алчность». Он сделает то, что задумал.
Пятнадцать. Выкуп и манускрипт
Сэмюэль Уильямс числился профессором сразу в нескольких университетах Соединенных Штатов Америки. Его главной специализацией была история и археология, но когда наука перестала приносить много денег, он переквалифицировался в специалиста в области оценки старинных документов. А с тех пор, как с началом мирового кризиса обрушился и рынок антиквариата, Сэм Уильямс, будучи довольно предприимчивым человеком, нашел себя и в профессии туристического гида, в которой он оказался востребованным и конкурентоспособным именно благодаря хорошему знанию истории. Но не только.
Он мог бы убедить любого, что свобода может быть слишком навязчивой. Особенно американская. Родина не давала покоя профессору даже вдали от родных пенатов. В самый неподходящий момент она напоминала о себе письмецом в желтом плотном конверте с гербом налоговой службы. Сэм Уильямс давно и безуспешно пытался порвать связи с родиной. Но эти попытки носили – как бы это помягче сказать? – односторонний характер. Америка настигала профессора в любой точке мира с одной только целью: заставить уплатить налоги. Причем, налоговая служба непостижимым образом узнавала все детали о финансовом состоянии гражданина Уильямса, Сэмюэля: она знала где, в какой стране он находится и что делает. Профессору впору бы отказаться от американского гражданства, но паспорт с грозным орлом на обложке служил надежным пропуском во многие двери, закрытые для выходцев из других стран. К тому же американские туристы, в большом количестве зачастившие в Пуэрто-Мальдонадо в поисках приключений, предпочитали работать с американскими гидами и бывало даже просили показать Сэма его паспорт. Так что налоги были своеобразной оплатой за услуги и бонусы, от которых Сэм не хотел отказываться.
Туристы приносили стабильный и порой немалый доход. Сопровождая в джунгли Амазонии небольшие группы, Уильямс успел насмотреться на разных персонажей занимательной пьесы под названием «жизнь». Моложавые работники офисов, упорно не признающие, что «немного лишнего веса» не дает им возможности адекватно и быстро реагировать на всякую опасную живность, встречающуюся тут и там в зеленых зарослях. Худощавые и желчные пенсионеры, желающие получить всю полноту эмоций и удовольствия за каждый доллар, вложенный в экзотический отпуск. Веселые и слегка пьяные нувориши с европейских окраин, без колебаний разбрасывающие вокруг себя огромные деньги, скупающие все самое дорогое и бесполезное и в то же время готовые торговаться до последнего сентаво за сущую ерунду. Эту публику профессор недолюбливал. Но не в его положении было перебирать клиентами. Ему нужны были деньги, поскольку в его голове зрели честолюбивые и тайные планы. А какие именно, в этом городке, Пуэрто-Мальдонадо, не знал никто.
Когда Сэму сказали, что его дом собираются превратить в лазарет и поселить в нем человека с частичной амнезией, профессор хотел было возмутиться. Далее все происходило по сценарию, написанному женой главврача госпиталя. Праведный гнев Уильямса охладило упоминание о налоговой службе. Как все-таки легко напугать этих американцев!
Они не боятся ни приключений, ни опасных путешествий, но тут же становятся очень покладистыми, услышав зловещее название конторы налогов и сборов. Им всем кажется, что налоговый инспектор висит у них на хвосте. И так может продолжаться всю жизнь. Профессор Уильямс в этом смысле не был исключением из универсального всеамериканского правила, тем более, что его опасения были вполне оправданы, судя по описанным в международной прессе случаям. Вот только недавно Уильямс наткнулся в интернете на историю о том, как у главы Международного банка реконструкции и развития обнаружился целый шлейф из неоплаченных налоговых счетов, и за это чиновника посадили в тюрьму во имя торжества справедливости и финансовой дисциплины. Финансиста сумели было вытащить адвокаты. Но вскоре уважаемый банкир снова оказался за решеткой, правда, по обвинению в домогательстве горничной в парижском отеле, где за ним был забронирован именной номер.
На требования главврача и его второй половины, этих наглецов из городского госпиталя, Уильямс согласился не сразу, но согласившись, ни разу не пожалел об этом. Бад, как назвал себя странный пациент, не был похож на нуворишей из Восточной Европы, куда, услышав его акцент, мысленно поселил его Сэмюэль. То, что его гость состоятельный человек, Сэм понял довольно быстро. Ну, во-первых, он был образован. А на Востоке роскошь хорошего образования была доступна лишь богатым. Так себе представлял профессор, и, в общем-то, он был не так уж далек от истины. Во-вторых, в Баде ощущалось присутствие спокойной силы – верный признак богатого человека. Уильямс часто замечал, что человек, обладающий внутренней силой и уверенностью, не может быть бедным. Он не может позволить себе влачить нищенское существование по причине своей силы. Это был вполне естественный механизм, которым управляли законы природы, а эти законы американец уважал больше, чем те, которые были написаны людьми. Итак, Сэм Уильямс, профессор и беглец от налоговой системы, сумел рассмотреть в своем госте то, что пропустили мимо глаз другие.
Но только не она, Кристина. О, эта тихая девушка, эта странная красавица во влажной тропической глубинке напоминала жемчужину на редком ожерелье, которое случайно порвалось и отпустило перламутровое зерно на волю. Но воля оказалась не слишком приятной, и жемчужина свалилась в грязь. Редкие прохожие замечали ее, восхищались, но поднять так и не пытались. Так бывает, когда добропорядочный человек замечает потерянную драгоценность и проходит мимо, побаиваясь общественного мнения: мол, другие люди или, еще хуже, полицейские могут подумать, что он хочет присвоить чужую вещь. Кристина была настолько красива, что любой потенциальный ухажер от пятнадцати до пятидесяти понимал, что природа не дала ему ни прав, ни шансов когда-нибудь назвать ее своей.
Вообще-то ее звали не Кристина, а Кирсти. Скандинавское имя ей дал отец, аптекарь из Лимы, закончивший мединститут в Осло. Там у него был бурный роман с высокой белокурой и до прозрачности белокожей преподавательницей гистологии. Ее звали Кирсти. Перуанский студент был остроумен и, возможно, именно поэтому приглянулся статной норвежке. Она задорно смеялась, когда он говорил ей, что ее кожа настолько светла и прозрачна, что под ней видны голубые прожилки вен, и, значит, в некоторых случаях она может использовать себя в качестве учебного пособия во время семинаров и лекций. Вернувшись домой, студент завел себе дело, а вместе с ним и благоверную спутницу, таких же, как и он сам, перуанских кровей. Вскоре у них родилась дочка, которая ничем не напоминала светловолосую норвежку. У девочки была слегка смуглая, словно натертая ореховым маслом, кожа и густые, черные как смоль волосы. Отец сам любил расчесывать непослушные проволочки ее волос. Похожим было только чувство безграничной любви, которое отец испытывал к дочери и которое он когда-то испытывал к высокой скандинавке. Жена, типичная перуанская домохозяйка, предложила аптекарю выбрать имя. Он, не задумываясь, произнес «Кирсти», и жене это имя понравилось. Она догадывалась о северных приключениях своего мужа, но при этом перуанка была мудрой женщиной и не задавала тех вопросов, ответ на которые не совпадал с ее ожиданиями.
Красавица по имени Кирсти работала ассистентом травматолога в Пуэрто-Мальдонадо. Свою работу Кирсти очень любила. В самом начале своей провинциальной карьеры она пыталась поправлять коллег, называвших ее Кристиной вместо Кирсти. Но вскоре она поняла, что это бесполезно – слишком неудобным оказалось скандинавское имя для весьма консервативных обитателей Амазонии.
«Почему она оказалась здесь?» – эта тема долгое время возглавляла хит-парад местных сплетен. Когда Кирсти-Кристину спрашивали о ее прошлом, она лишь мило улыбалась или отшучивалась остроумными, но бессодержательными фразами. Опираясь на них, было сложно выстроить связную картину прежней жизни девушки. Но сплетницы (и, по совместительству, завистницы) смогли это сделать. По их версии, девушку бросил богатый наркоторговец, и она решила спрятаться от суеты столичной жизни, от неудавшейся любви и тоски здесь, на окраине амазонских лесов.
На самом деле все было гораздо прозаичнее. Заниженная самооценка не позволила Кирсти найти место в столице после медицинского факультета, который она закончила по настоянию отца, а продолжать семейный аптекарский бизнес она не хотела, сославшись на отсутствие необходимого опыта. Набираться его она приехала сюда. Амазонская действительность оказалась достойным продолжением ее нехитрой истории. Вот, например, ее должность – хотя она и называлась довольно громко: «ассистент специалиста», фактически девушке приходилось делать работу медсестры и даже обычной технички, убирая палату после выписавшихся рыбаков, мало следивших за своей внешностью и не злоупотреблявших гигиеной.
Но этот человек, потерявший память, был совсем другим. Он, как и она, не рассказывал о своем прошлом. Но девушка лучше врачей понимала, что у Бада нет никакой амнезии. Как и у нее самой. Разница только в том, что она хочет переписать свою историю, а он свою – забыть. И, кстати, несмотря на свой ужасный акцент, он был здесь единственным, кто правильно произносил ее настоящее имя: Кирстин.
Она часто приходила в его палату. Сначала приносила кое-какие медикаменты, потом, зацепившись за его маловразумительный ответ на ее незначительный вопрос, Кирсти вступила в долгую дискуссию по поводу охраны окружающей среды. Она доказывала, что мир без автомобилей – это единственный способ спасения человечества. Он утверждал, что человечество слишком тщеславно и слишком лениво, чтобы отказаться от скорости передвижения. Это не был роман, но оба они были друг другу интересны.
Главврач поддерживал их взаимный интерес, надеясь на определенную выгоду от этих отношений. Профессор Сэм Уильямс выдвинул условие – за больным будет ухаживать не он, а медсестра. Но любая сотрудница больницы попросила бы дополнительную оплату за сверхурочную работу. «Любая, кроме Кристины», – догадался эскулап, и тут же предложил ей сопроводить Бада к нему.
К тому времени она уже знала, что загадочный пациент родился в далекой стране с красивым названием Украина. Вадим решил слегка приоткрыть перед ней завесу своего прошлого, а она, в свою очередь, рассказала об этом Сэму. Конечно, попросив на то разрешения у Вадима. Но профессор к вопросу о происхождении своего гостя не проявил большого интереса.
– Ва-дим, Ва-дим, – терпеливо учила она профессора правильно произносить имя гостя. Она и сама едва научилась делать это, после того, как испытала угрызения совести, услышав от Бада «Кирсти» вместо привычного «Кристина». Сэм тоже старался. Он повторял неудобное сочетание длинных гласных и протяжных согласных. Но в конце концов признал:
– Да, Бад – это неправильно. Но удобно. Не правда ли, Бадди?
Вадим, которому и было адресовано это «buddy», то есть «дружище», очень быстро обнаружил себя в состоянии приятельских отношений с Сэмом. Профессор, хотя и был старше на пару десятков лет, выглядел подтянутым и моложавым. А после больницы, даже самой лучшей, человек, как известно, чувствует себя немного состарившимся, что немедленно отражается на его внешности. Вадим и Сэм могли сойти за ровесников, и даже однокашников. И лишь легкое, едва уловимое, менторское высокомерие иногда сквозило в беседах гостя и хозяина. А что еще можно ждать от человека, закончившего один из лучших университетов Америки и успевшего чему-то научить там новых студентов? Профессор – он и в джунглях профессор.
Вадим прижился в доме у Сэма. Если и было место на свете, которое точно соответствовало понятию «между небом и землей», то оно находилось здесь. Дом Сэма находился на окраине Пуэрто-Мальдонадо. Не в лесу и не в городе, не бунгало, но и не особняк. Внутри контролируемый хаос холостяцкого мира, но, с другой стороны, Уильямс примерно раз в месяц приглашал к себе горничную, чтобы после ее ухода тут же оставить липкую окружность от стакана виски на идеально отполированной поверхности журнального столика. Окружность недолго оставалась на виду, так как профессор набрасывал сверху кипу своих рукописей, а потом ругал природу и человечество, когда обнаруживал на них темные следы непонятного происхождения.
Необходимость вызывать горничную исчезла вместе с появлением Кирсти-Кристины. Хозяин прилагал немало сил, чтобы правильно называть Вадима по имени, и методом проб и ошибок нащупал компромисс, то есть обращался к гостю «Бадди». В случае с Кирсти он был менее усерден, и вариантов скандинавского имени появилось множество. Все они были мужские: от древнеперсидского Кир до англосаксонского Крис. Черноволосая красавица совсем не обижалась. А однажды она сказала ему:
– Давайте я у вас уберу.
Уборка заняла несколько дней. Сэм, подавив в себе зачатки недовольства, и сам присоединился к процессу, в результате чего комната, напоминавшая склад макулатуры, стала напоминать то, чем она, в сущности, и являлась – библиотеку. Вадим с удовольствием бродил вдоль высоких полок с книжными корешками и время от времени задавал профессору вопросы.
– О, у вас так много книг по истории инков. Вы специалист по ибероамериканским цивилизациям?
– О, у вас так много интересных слов в лексиконе, Бадди! – передразнивал его профессор. – «Иберо… американским»! Вы говорите, как слишком умный студент!
Но вскоре Сэм, убедившись в остроте ума своего гостя, перестал так грубо иронизировать. Диалоги с Вадимом давали пищу для ума, а монологи питали профессорское тщеславие: Бадди умел слушать долгие лекции.
– Инки это самый больной вопрос современной исторической науки, дружище, – пояснял профессор. – И вот почему. Ни об одной исчезнувшей цивилизации наука не собрала такого огромного количества фактов, как об Империи Инков. И, в то же время, ни об одной местной культуре мы не знаем столь немного, сколько нам известно о Тавантинсуйу. Все факты, собранные и обработанные учеными, не создают цельной картины, а наоборот, противоречат сами себе. Вот, например, тезис о том, что в Империи Инков не было письма, а люди пользовались системой записи знаков, известной как кипу, узелковые шифры. Но в то же время фольклор и официальная историография империи были сложны и точны, чего вряд ли можно было добиться с помощью веревочек и узелочков разных цветов. Не хватает какого-то ключевого звена, объясняющего этот феномен. С другой стороны, мы четко знаем, что, несмотря на человеческие жертвоприношения, инки жестко запрещали каннибализм. Но имеются сведения о ритуальном поедании человеческой плоти в разных частях Тавантинсуйу, так они называли свое государство.
– Однажды я это уже слышал… – пробормотал Вадим.
– Что вы сказали? – переспросил Уильямс.
– Да так, ничего… Навеяло воспоминания…
– Ну да ладно, – профессор продолжил рассказ. – И знаете, что интересно? То, что потомки жителей империи, говорящие на языке кечуа, очень хорошо знакомы с ее историей и фольклором. Даже сегодня! Сегодня, Бадди, когда прошли сотни лет после ее исчезновения! Может, индейцы скрывают свои письмена? Скажите, вы их от меня скрываете?!
Шутливый вопрос был адресован Кирсти. Она, старательно отмывая на кухне посуду от остатков завтрака, заслушалась, вошла в гостиную и прислонилась к двери, продолжая держать в одной руке чашку, а в другой – влажную губку для мытья посуды. Кирсти, с ее черными волосами и широкими скулами, словно всем своим перуанским видом напомнила мужчинам в комнате, что они на этой земле пришельцы. И после вопроса зависла пауза.
– Да садитесь же! Слушать меня интереснее, чем мыть чашку, – попытался разрядить обстановку профессор. Девушка отставила чашку в сторону и села на диван, рядом с книжными полками.
– Меня невероятно волнуют тайны этой империи! А они остаются закрытыми для нас. Помните Хирама Бингхема, нашедшего Мачу-Пикчу?
И профессор взял с полки книгу, на обложке которой красовался черный портрет человека в шляпе. Этакого Индианы Джонса, с классическими, почти арийскими чертами лица и авантюрным блеском в глазах.
– Здесь описаны почти все находки, сделанные в городе Мачу-Пикчу. А их немало, почти сорок тысяч. И ни одна из них не дает ответ на вопрос, кто же его построил. И главное, для чего. Есть только предположения. Одни считают, что здесь была казна, другие – святилище. Хирам Бингхем доказывал, что это был специализированный роддом, где появлялись на свет Девы Солнца, будущие наложницы императора. Как бы то ни было, здесь хватает места и для казны, и для роддома.
Уильямс стал перелистывать перед глазами Вадима и Кирстин страницы с фотографиями заброшенного города.
– Бингхем нашел здесь сто семьдесят три захоронения, в основном, женские. В гробнице «Верховной жрицы», как назвал ее американец, он обнаружил скелет женщины и останки собаки. При этом – ни одного украшения, ни в могилах, ни в домах. А где вы видели женщин без украшений? А, Крис?
Девушка лишь слегка подняла черную бровь. Многим мужчинам в этот момент захотелось бы бросить к ее ногам все золото мира. А заодно и серебро. Но профессора в этот момент интересовало богатство, которое исчезло много веков тому назад.
– У инков было много золота. Они действовали, как коммунисты: отрицали частную собственность и, одновременно, собирали золото в секретных хранилищах. Перед тем, как одного из правителей Тавантинсуйу казнили, он попытался откупиться от палачей-конкистадоров. И предложил им наполнить свою камеру золотом снизу доверху, на высоту поднятой руки. А к этому добавить еще три такие комнаты с серебром.
– Я что-то читал об этом. Как звали императора? – переспросил Вадим.
– Атауальпа, дружище, – сказал Сэм. – И он сумел откупиться от конкистадоров. Вернее, свою часть обещания он выполнил. А те свою не выполнили. Такие дела, Вадим.
«Он правильно называет меня по имени, – мысленно усмехнулся гонщик. – Значит, волнуется. Не свихнулся ли гостеприимный хозяин на почве сокровищ древних инков?»
– Послушайте, а сколько мог бы стоить выкуп Атауальпы в современных ценах? – спросил Вадим.
Сейчас Сэм удивительно напоминал сумасшедшего профессора из какого-то старого фильма. Его настолько удивил вопрос, что глаза его округлились, отчего беглый ученый стал еще больше похож на пациента лечебницы для душевнобольных. Вадим рефлекторно отодвинулся от него на малозаметные несколько сантиметров.
– Ну, что ж, давайте считать, – сказал хозяин дома.
И занялся забавной арифметикой:
– Всего конкистадоры получили 1 262 682 песо золота. Это известно благодаря точным записям, которые велись кем-то из ближайшего окружения Писарро, а потом перепроверялись служителями церкви, которые, как очевидно, были самыми грамотными людьми среди сброда авантюристов, известного под названием «конкиста». Песо – надеюсь, вы знаете – это не деньги, а мера веса, принятая в то время в Испании. Ну, и, соответственно, в колониях.
Вадим кивнул в знак понимания и согласия.
– Идем дальше, – продолжал ученый, листая свои записи. – Песо как мера весов составляла четыре с половиной грамма. Умножив одно число на другое, мы получаем 5993 килограмма золота. Почти шесть тонн этого проклятого металла, из-за которого в нашем мире пролилось столько крови. И проливается по сей день.
– Да, впечатляет, – проговорил Вадим, задумавшись над цифрами, словно продолжал вести в уме арифметический подсчет. – Но в этой цифре нет ничего фантастического. Золотые запасы некоторых стран гораздо больше этого выкупа.
– Не торопитесь с выводами. Там было еще и серебро. Причем, его собралось в два раза больше, чем золота. Правда… – и тут забавный профессор скривился в ухмылке, отчего стал еще забавнее, – …правда, Атауальпа обещал Писарро, что серебра будет больше, чем золота, в три раза. Но разве это так важно, когда нужно разделить пятьдесят тысяч марко серебра на двести соучастников пленения монарха. А пятьдесят тысяч марко это… это…
Ученый, послюнявив большой и указательный пальцы, перелистывал свои записи и вел разговор, казалось, не с гостем, а с самим собой.
– Так-так, у них в руках оказалось… А сколько у них оказалось? Пятьдесят? Не-ет, пятьдесят две. Вот, пятьдесят две тысячи двести девять марко серебра. Ого! Пррродолжим!.. Марко это… это… примерно 230 грамм. Если, конечно, считать вес в этих ваших европейских граммах-килограммах-тоннах… что, впрочем, мы и так делаем. Так и будем делать впредь! Умножаем марко на эти двести тридцать. И в итоге получаем двенадцать тонн!!!
Профессор оторвался от своих бумажек и взглянул на гостя. В его глазах сверкал азарт и триумф, как будто он был одним из тех двухсот испанских солдат, деливших столь заманчивый приз.
– Шесть тонн золота и двенадцать тонн серебра, мой друг. А это, я вам скажу… Это будет…
И тут Вадим сумел раньше гостеприимного хозяина проявить коммерческую жилку, которая позволяла ему зарабатывать деньги на рискованные проекты.
– Я уже подсчитал, – сказал он вполголоса. – Это будет семь миллиардов долларов в ценах прошлого года.
Оба замолчали, вслушиваясь, как эхо повторяет: «семь»… «миллиардов»… «долларов»… Впрочем, эхо звучало только в их воображении. Иначе откуда бы оно появилось в захламленной хижине беглеца от цивилизации?
Молчание прервал Вадим:
– И все равно не впечатляет.
Профессор сердито уперся кулаками в пояс:
– То есть как «не впечатляет»? Это же миллиарды. Миллиарды долларов!!!
– Я же говорю, – улыбнулся Вадим, – это даже не годовой бюджет… ну, скажем, Украины. Слышали о такой стране?
– Видел на карте, – профессор не оценил сарказма. А может, его и вовсе не было в словах этого весьма интересного гостя. – Слышал… А знаете что?
– Что? – снисходительно произнес Вадим.
– Ведь инкский вождь сказал, что выкуп, который он отдает, это всего лишь песчинка по сравнению с горой того золота, которое остается под его контролем. И это зафиксировали сразу несколько человек, включая командора Франсиско Писарро. Песчинка!!!
– И где же тогда гора? – задал профессору резонный вопрос гость. – Почему ее никто и никогда не видел? Где остальное богатство?
Профессор внимательно – очень внимательно! – и немного грустно посмотрел Вадиму в глаза. Странного противника американской цивилизации волновали не деньги, а тайна. Нераскрытые тайны запечатывают так же надежно, как и моряки – свои послания в бутылки. И потом они качаются на волнах истории, пока наконец не подберет их случайная рука человека, мало смыслящего в тайнах. Не умеющего хранить чужие и создавать свои. Но бутылка, которая была у него в руках, явно была приоткрыта.
– Вы когда-нибудь слышали о «Манускрипте 512»?
– Никогда. Что это за манускрипт?
– Его называют самым большим мифом бразильской истории. Хотя при этом ни один из бразильских историков – да и не только бразильских – не усомнился в его подлинности. Дело не в документе, а в том, что в нем изложено.
– То есть из ваших слов следует, что документ подлинный, но его содержание фальшивка?
– Давайте-ка я начну с самого начала. В начале девятнадцатого века Бразилия стала независимой страной. Мало того, новые власти Бразилии решили объявить ее империей. А империи нужно было найти исторические аргументы для собственного величия. Или придумать их. Сотни новоиспеченных историков – или уж не знаю, как их назвать – перелопачивали тонны документов в старых архивах, оставшихся от португальцев, и после долгих лет кропотливой работы один из них нашел старое, изъеденное крысами и плесенью письмо. Судя по дате, письмо было написано в 1754 году человеком, не лишенным дара писательства. Это был отлично написанный отчет об экспедиции в глубь джунглей Амазонки, напоминавший скорее захватывающий рассказ, чем официальный документ. И форма обращения к адресату не оставляла сомнений, что между ним и человеком, написавшим отчет, были весьма доверительные и, я бы сказал, дружеские отношения. Несомненно, адресат был большим колониальным чиновником, как и то, что этот чиновник ценил мнение автора письма и верил всему, что тот рассказывал. И, похоже, в те далекие колониальные времена верил ему только он, потому что никто более не писал о странном открытии. Если, конечно, это открытие имело место в реальности. В общем, писавший был командиром группы бандейрантов – так португальцы называли людей, которых колониальная администрация нанимала с целью исследований труднодоступных регионов. Как звали автора письма, неизвестно. Есть несколько версий, но пока они не подтвердились. Да это и не слишком важно. Ясно одно: командир бандейрантов возглавлял экспедицию, десять лет бродившую по джунглям в поисках золотых и серебряных рудников, принадлежавших индейцам. Или в надежде найти месторождения золота.
К сожалению, время не пощадило документ. Но его уцелевшие части описывают удивительное путешествие бандейрантов настолько детально и поэтично, что однажды прочитав первую строчку, уже не отпускаешь его, пока не дочитаешь до последней. Этот неизвестный командир был наверняка харизматичным и талантливым человеком. Представьте себе: десять лет среди джунглей, в окружении диких животных или же – что намного опаснее – враждебно настроенных племен.
Ни золота, ни серебра они не нашли, иначе бы имена участников этой группы бандейрантов были бы вписаны золотыми буквами в историю португальских колоний. Но, если верить автору письма, отчаянные искатели приключений и сокровищ увидели нечто гораздо более ценное, чем россыпи драгоценностей. Они шли, изможденные влажным климатом, духотой, постоянными нападениями индейцев, отсутствием достаточного количества пищи и воды. В общем, в походе их сопровождали все прелести средневекового экстремального туризма. Этакий квест, в конце которого их должен был ожидать дорогой приз. И этот приз поистине был уникален.
Однажды, после нескольких лет странствий, они увидели нечто напоминавшее въезд в город. Это были парадные ворота, вроде Триумфальной арки в Париже. Но, в отличие от французской, эта арка состояла из трех перекрытий. Три свода, как в классических римских триумфальных воротах, взятых за образец творцами французской арки. Казалось бы, что тут удивительного? Территория Бразилии частично входила в состав Тавантинсуйу, Империи Инков, а инки умели строить города. Странным было то, что эти ворота стояли посреди джунглей, и зеленые заросли уже начали обвивать колонны, поддерживающие три арки. Бандейранты направились прямо к ним. Они заметили, что ведущая к арке дорога вымощена камнем. Это был вход в город.
Но вошли они в него не сразу. Для того, чтобы подойти к арке, разведчикам-португальцам понадобилось сначала преодолеть препятствие – форсировать небольшую реку. Это оказалось непростым делом, ведь берега реки были илистыми, заболоченными и сплошь покрытыми колючим и жестким кустарником, способным разорвать кожу острыми и прочными, как гвозди, колючками. Но желание попасть в неизвестный город было гораздо сильнее боли, и, к тому же, за время долгих странствий бандейранты научились преодолевать куда более серьезные преграды. В конце концов, они перебрались на тот берег, где возвышалась арка. Когда путники подошли к ней поближе, они смогли рассмотреть странные знаки над центральным сектором тройных ворот. Лидер бандейрантов попросил дать ему лист бумаги или пергамента и тщательно перерисовал эти знаки с соблюдением пропорций и даже интервалов между ними. Он был уверен, что эти загадочные символы не что иное, как письмена, и вполне возможно, что в них содержалось название города в джунглях. Но лично я думаю, что над аркой было написано стандартное приветствие, которое вы повсеместно встречаете, въезжая в более-менее значительный населенный пункт. Ведь правда же, и у нас в стране, и у вас на въезде в большие города часто стоят либо стелы, либо арки из камня и металла, на которых высечены разные месседжи, смысл которых определяется одним словом. Или, максимум, двумя. В зависимости от языка, на котором говорят люди в той местности.
– Кажется, я понимаю, – сказал Вадим.
Профессор улыбнулся:
– Ну, говорите же!
– Welcome! Добро пожаловать! Bienvenido!
– Браво, мой друг! А теперь снова к бандейрантам.
Вадим заерзал, устраиваясь поудобнее, готовый и дальше слушать старинную легенду, в которой, возможно, была и доля истины.
– Ну вот, бандейранты прошли под аркой и оказались в городе. Он был достаточно большим и, как видно, построенным не стихийно. Его мощеные улицы вели прямо к центру, через определенное количество домов основные магистрали соединяли перпендикуляры небольших улочек. Вы, наверное, знаете, что европейские города того времени, как правило, представляли собой тесные кварталы трущоб, клеившиеся поближе к небольшим районам, где обитала элита. Так что незнакомый город был слишком масштабным для европейцев, и путешественники не сразу поняли, что центральные проспекты идут не параллельно, а немного под углом по отношению друг к другу и сходятся на центральной площади города. Стены домов были сложены из крупных отполированных камней в нижней части строений и менее крупных – на верхних этажах. Кровля на зданиях была местами разрушена временем и непогодой, но там, где она сохранилась, дома снаружи выглядели вполне пригодными для жизни, причем, весьма комфортной по колониальным представлениям.
Разведчики зашли в один из домов. Стало ясно, что он давно заброшен и, возможно, обчищен грабителями. В комнатах на стенах был мох, в трещинах полно земли, поросшей травой. И, самое главное, никакой обстановки. Пустые комнаты без мебели заставили храбрых бандейрантов содрогнуться от необъяснимого страха. Они вышли на улицу, которая показалась им враждебной и унылой, и решили зайти еще в один дом, на всякий случай. И там они увидели похожую картину: голые, как говорится, стены. Не стоит добавлять, что они неоднократно повторили свои незваные визиты в дома этого странного города, и в каждом их встречал все тот же хозяин – молчаливая и равнодушная пустота. В этом смысле открытие бандейрантов напоминало исследование Мачу-Пикчу знаменитым авантюристом Хирамом Бингхемом. Все то же самое. Джунгли, река и целый город пустых домов. И масса вопросов, главный из которых: к чему все это? Зачем, для чего построили этот город? Бандейранты бродили из дома в дом и не знали, что им делать дальше. Уйти? Остаться? Но тогда ради чего? Здесь не было ни золота, ни украшений, ни предметов искусства. Если помните, с этим необъяснимым отсутствием драгоценностей, столь любимых, или, правильнее сказать, распространенных в Южной Америке, столкнулся Бингхем в Мачу-Пикчу, городе инков. Кроме того, и тут и там не было хозяев, которые могли бы дать португальцам внятные объяснения. Впрочем, кое-что они нашли. Причем, судя по описанию, нечто загадочное и, как мне представляется, коренным образом отличавшее бразильский город-призрак от перуанского. Бандейранты, наконец, дошли до центральной площади города, от которой лучами расходились улицы. Если вы знаете, именно так был спланирован Париж во Франции. Или Полтава – в вашей стране.
Площадь, как и улицы, была вымощена отполированными множеством шагов камнями. В некоторых местах брусчатка сместилась из-за деревьев, которые, вырастая из-под камней, утверждали приоритет природы над волей и желаниями человека. Растительность на площади еще раз убедила бандейрантов, что город достаточно давно был оставлен его неизвестными жителями, ни язык, ни культура которых не были знакомы португальцам. В центре площади находился постамент, а на нем путешественники увидели скульптуру юноши или молодого человека, поднявшего руку в победном жесте. На левом плече триумфатора лежала накидка, напоминавшая римскую тогу или греческий хитон, а на голове – лавровый венец. Накидка спускалась ниже пояса, а из-под нее, прикрывая мощные бедра героя, выглядывала юбка наподобие шотландского килта. В том, что это был герой, бандейранты не сомневались. Такие скульптуры командир группы, несомненно, видел в Европе. Греческие или римские оригиналы или же их более поздние копии. Да, судя по довольно подробному описанию лидера бандейрантов, скульптура невероятным образом напоминала римские памятники, именно этот факт и заставил исследователей «Манускрипта 512» заподозрить его автора в фальсификации. Казалось бы, неглупый, судя по стилю манускрипта, человек должен был понимать, что именно сходство с римскими образцами вызовет подозрения относительно правдивости изложения. Но командир, как будто упорствуя в стремлении прослыть лжецом, продолжал рассказывать о том, что в городе он и его группа нашли еще несколько прекрасных скульптур, в том числе и возле той площади, в центре которой возвышался памятник неизвестному герою. Эти произведения искусства загадочного народа заставили бандейрантов задуматься о том, что хозяева города могли быть технологически развитыми, а значит – такой вывод было вполне логично сделать в неспокойные колониальные времена – и опасными людьми. Так всегда было в истории человечества, не правда ли? Кто более совершенен, тот более опасен.
Разведчики поспешили вернуться к реке. Они вышли через тройные ворота и направились к берегу. И тут командир бандейрантов заметил следы пребывания чужаков. Причем, это были свежие следы. Срез илистого, слегка заболоченного берега, песок – что там еще было? А в песке вмятина, оставленная килем и носом довольно большой лодки.
Командир группы приказал своим людям спрятаться и смотреть в оба. Он выслал наблюдателя, и тот, прекрасно замаскировавшись в кустах, вскоре заметил двух людей, сначала одного, потом другого. Две фигуры в лодке посреди реки. В длинных рубахах до пят, с черными волосами до плеч, они стояли и смотрели в сторону португальцев. Командир подумал и решил, что прятаться нечего. Во-первых, бандейрантов было в несколько раз больше, чем людей в лодке. Во-вторых, сразу стало ясно, что у тех двоих никакого оружия, а португальцы были неплохо вооружены. Десяток мушкетов, пара пистолей, ножи размером с хороший тесак – это ведь вполне серьезная сила против дикарей. Ну вот, командир поднялся в полный рост и громким криком приказал незнакомцам остановиться. Те не шелохнулись. Река медленно тянула лодку прочь от бандейрантов, точно так, как пастух ведет ленивую отбившуюся овцу назад в стадо. Разведчикам в какой-то момент показалось, что эти двое похожи на неподвижные статуи в загадочном городе.
Командир приказал одному из своих людей зарядить мушкет. Когда тот снарядил оружие, бандейрант прицелился и выстрелил так, чтобы пуля легла по курсу лодки. И что вы думаете, незнакомцы остановились? Нет, и не подумали. Они продолжали спокойно глядеть на берег, и бандейрантам даже не было ясно, говорят ли они друг с другом или просто стоят, крепко сжав губы.
Командир попытался еще раз выстрелить, теперь уже прицельно. Но течение уже довольно далеко отнесло лодку, так что мушкет не мог стрелять на такое большое расстояние.
Итак, бандейранты остались одни. Они разбили лагерь, приготовили ужин и съели его в полном молчании, как будто молчаливые фигуры в лодке заставили их онеметь от страха. Утром, перебрасываясь лишь самыми необходимыми словами, португальцы собрались и ушли. Вот и вся история. Ну, а потом командир рассказал обо всем, что с ними произошло, на страницах письма, адресованного высокопоставленному чиновнику. И, я не помню, говорил ли я об этом или нет, но если и говорил, то скажу еще: тот, кто писал письмо, и тот, кому оно было адресовано, явно давно и близко знали друг друга.
Так называемый «Манускрипт 512» является самой большой загадкой бразильской истории. Неизвестный автор рукописи описывает, как во главе отряда португальских первопроходцев он нашел заброшенный город, предположительно в районе границы современных Бразилии и Перу. Изображенные в документе знаки неизвестного алфавита, как утверждает автор, были тщательно срисованы им с надписей на воротах и зданиях затерянного города. Экспертиза подтвердила, что рукопись не является подделкой
– Выдумка! – пожал плечами Вадим. – Такая же красивая и наивная, как все истории колонизаторов про Эльдорадо.
– Вполне возможно, – улыбнулся профессор. – Только вот что. М-м-м, знаете ли вы историю Перси Фосетта?
– Сумасшедшего миллионера, исчезнувшего в джунглях то ли сто, то ли пятьдесят лет назад? Что-то слышал об этом.
Профессор удовлетворенно закивал головой. Так он кивал, когда кто-нибудь из его студентов демонстрировал знание предмета выше среднего.
– А что вы еще знаете о Фосетте?
Вадим с хитринкой в глазах посмотрел на профессора.
– Перси Фосетт исчез где-то в джунглях бразильского штата Мату-Гроссу, известного своими невероятными размерами и огромным количеством неисследованных территорий. По большому счету, весь Мату-Гроссу это сплошная географическая загадка.
– Отлично, мой друг! – воскликнул ученый. – Хочу от вас услышать еще что-нибудь о Мату-Гроссу.
– В контексте истории, которую вы мне только что рассказали? – переспросил Вадим и тут же, без пауз, продолжил: – Я же уже сказал. Именно в этом районе, в лесах Мату-Гроссу, исчезла экспедиция британского полковника Фосетта. Он был известным в Англии искателем приключений. И сокровищ. Кажется, он отправился в экспедицию вместе с сыном и его другом, и вскоре британцев захватило какое-то племя в Амазонии.
– Индейцы их не просто захватили…
– …а захватили во время поисков загадочного города, о котором идет речь. И я вам скажу больше, дорогой мой профессор. Перси Фосетт читал манускрипт, о котором вы сейчас говорите. Теперь, когда вы мне все это рассказали, я уверен, что он видел этот документ. Правильно?
Профессор глядел на собеседника. Ему нравился проницательный взгляд Вадима. Он не мог не оценить степень образованности украинца, прекрасно говорившего по-испански. Легкая улыбка, словно блуждающая в складках открытого лица гонщика, вызывала симпатию. «И это умение слушать, – думал про себя ученый, – какое важное свойство характера. И как его не хватает многим, в том числе и весьма уважаемым людям». Впервые за много лет он почувствовал, что его знания оказались востребованными, что малознакомый иностранец, волей случая или провидения оказавшийся напротив него, тянется к его словам, как росток к солнечным лучам. А ведь многие соотечественники – да что там многие, все! – откровенно считают специалиста по древним манускриптам выжившим из ума старым маразматиком и больше не верят его историям. А этот, похоже, верит!
– Я хочу сказать вам нечто важное, Вадим! – это было сказано профессором медленно, но твердо.
Вадим молчал и глядел на ученого. Тот продолжил:
– Да, действительно, принято считать, что Фосетт читал «Манускрипт 512». Но как раз тогда, когда готовилась его последняя экспедиция, документ находился в специальном хранилище с ограниченным доступом. Его полный текст, несмотря на желание бразильских властей создать новые исторические мифы, являлся одной из государственных тайн новой южноамериканской империи. А потом и республики, но сейчас не об этом… Так что искатель приключений узнал о городе из других источников. А если источников какого-либо исторического факта или события больше одного, то как вы думаете, что это означает?
– И что? – переспросил гонщик. Он, конечно, любил историю, но его с трудом можно было назвать охотником за историческими сенсациями. Во всяком случае, профессиональным ловцом.
– О, мой друг! Если у вас есть три разных источника информации, то можно почти со стопроцентной уверенностью говорить о том, что событие, о котором они сообщают, это не легенда, а факт.
– А сколько источников информации о городе в джунглях?
– Как раз три. Загибайте пальцы, – и профессор потряс перед лицом Вадима свой раскрытой пятерней. – Первый – кипукамайоки инков, сообщавшие о неком городе, в который были переправлены ценности империи во время конфликта с испанцами. Второй – это «Манускрипт 512», который я только что пересказал. И третий…
– …это неизвестный источник, который и привел богатого и любопытного британца Фосетта прямо к месту его смерти. Так? – закончил гонщик вместо профессора.
Ученый ничего не сказал. Ему вдруг показалось, что он отчетливо видит черный след посреди пронзительной голубизны небесного покрывала, развернутого над бескрайними джунглями. Это был черный дым сигнального костра, сообщавшего об опасности, в которой оказались белые люди… Дым просил о помощи… Он висел над лесом настолько давно, что точно определить координаты костра не представлялось возможным. А потом повеял ветерок, и воображаемая картина развеялась без следа. Но Вадим успел распознать мысли Уильямса и понять, что именно увидел профессор в зеркале собственной фантазии.
– Итак, – подвел итог Вадим, – миллионер и авантюрист знал, где находится сокровищница инков.
Пока продолжался рассказ профессора, иногда прерываемый репликами Вадима, в дверях кухни стояла Кирстин, тщательно оттирая губкой следы кофе с внутренней поверхности чашки. История сокровища инков и таинственного города в Амазонии ее увлекла и загипнотизировала. Слушая эту историю, она внезапно вспомнила, что до Мату-Гроссу отсюда рукой подать, и, как говорили рыбаки, лечившиеся в больнице, попасть в соседнюю Бразилию было проще простого. Границу в джунглях невозможно контролировать. Она, как и Вадим, не могла не заметить блеск в глазах профессора и трепетную дрожь в его голосе, когда он рассказывал историю неизвестных бандейрантов. И в ее сознании мелькнула крамольная мысль, почти догадка: «Уильямс хочет тайно попасть в Мату-Гроссу. Он хочет найти этот город».
– Скажите, Сэм, а вы знаете ваших коллег из Боливии? Тех, кто тоже занимается историей Тавантинсуйу?
Уильямс хмыкнул:
– Друг мой, мир ученых – это большая деревня. Даже если ты кого-то не знаешь, ты наверняка читал его работы. Или знаешь того, кто знает того, кого ты ищешь.
Сложная лингвистическая конструкция не сразу стала понятна Вадиму. «В общем, «цепочка», хотел сказать профессор», – улыбнулся про себя гонщик.
– На любой международной конференции ты можешь смело здороваться с каждым, кого видишь в первый раз. И, может быть, в последний, – продолжал Сэм.
– А знаете ли вы профессора Паниагуа? – спросил Вадим.
– Что-то припоминаю. Из университета имени Габриэля Морено, кажется?
– Да, он и там преподавал.
– Помню, что у него, как и у всех латиноамериканцев, длинное имя, – Сэм откинулся на мягкую спинку дивана. – Норман Рауль Паниагуа… и еще что-то в конце.
– Вентура, – уточнил Вадим.
– У него была довольно интересная работа об экономическом устройстве империи. Спорная, впрочем. Слишком много сарказма и личного отношения. Негативного. А это портит любое исследование, – припоминал Уильямс, прищурив левый глаз, как будто пытался сфокусировать свою память на коллеге. – И где он сейчас?
– Он исчез. И тот, кто обвинил меня в его исчезновении, вскоре стал моим другом. А потом погиб. Это если рассказывать кратко. Для более длинного рассказа еще не время.
Кирсти вздрогнула от необъяснимого страха. Ей показалось, что у истории бандейрантов было продолжение. А начало ее теряется в кровавом и таинственном прошлом Земли Четырех Провинций, лишь на время разделенных нынешними границами.
Catorce. La última palabra del Emperador
Атауальпа был уверен, что этот день никогда не настанет, что он сумеет обмануть Вселенную, однажды написавшую ему свою волю на черном полотне ночного неба. Он, хорошо изучив испанцев, догадался, что размеры их алчности больше, чем океан за хребтом гор. Но он ошибся. Испанцы сумели победить свою алчность, как они сумели победить его, правителя необъятной страны, владыку великих народов и сына великих предков. Они были прирожденными победителями, не признававшими порядка и логики.
Он принял их веру, так до конца и не разобравшись в некоторых деталях, описанных в священных книгах. Но главное, что он принял всей душой, – это то, что мир создан Единым Богом, у Которого может быть много имен. И чтобы легче перенести понимание своего поражения, он стал обращаться к Нему, как умел. Брат Висенте ни разу не зашел в его келью до того, как ее заполнили драгоценным металлом. Но после того, как золото стали взвешивать, и делить, и затем переносить в другое помещение, он стал частым гостем в камере императора. Сначала Великий Инка умолял простить его за то, что попытался унизить испанцев, бросив их священную книгу на землю. Брат Висенте сказал ему, что только Всевышний вправе прощать людей. И, в свою очередь, сам попросил прощения.
– За что? – спросил его Атауальпа.
– За то, что мы заманили тебя, Инка, – ответил Висенте, смиренно наклонив голову в сторону пленника.
Это ведь он, Висенте де Вальверде, с удовольствием обучал Атауальпу испанскому по просьбе командора. В некоторой степени он воспринимал свое невольное учительство как необходимую повинность, которую обязан был выполнить перед императором уничтоженной страны.
Его приговорили к смерти за смерть. Он стал причиной гибели своего брата Уаскара. Тот был законным императором по рождению, но не слишком способным и недостаточно жестким администратором. Победив его в гражданской войне, Атауальпа вполне мог бы справиться с остальными очагами сопротивления в Тавантинсуйу. «Если бы не испанцы, то я продолжал бы царствовать», – думал он. И понимал, что реку событий не повернешь вспять.
Вождю предложили выбор – быть сожженным на костре либо задушенным гарротой. Ни та ни другая казнь не сулила смерть без боли, но Атауальпа хотел, чтобы после казни его тело похоронили со всеми императорскими почестями, и потому он выбрал второе. В последнюю свою ночь он много думал о том, сколь много способов убийства придумали хитроумные испанцы. И тут же вспомнил, что и его приказы приносили смерть другим, не менее мучительную, чем предстоящая казнь. Он был спокоен. Думая о завтрашнем рассвете, он пытался обнаружить в себе хотя бы тень негодования по поводу того, что его обманул Писарро. Но ничего, кроме легкой досады, в его душе не было. Он переживал решение командора передать его во власть церковного суда так, как переживают за друга, допустившего ошибку, а не за врага, совершившего предательство. Атауальпа, видевший немало жестокости, раньше удивлялся, почему приговоренные к смерти не пытаются сбежать и не кричат от страха, оказавшись у последней черты. Теперь, когда у него появилось немного времени, чтобы подвести итог, он испытывал лишь страх физической боли. Но потом и он испарился. И плененный император остался наедине с мыслью о том, что он не сделал и что бы он сделал иначе, если бы у него было немного времени. Теперь он знал, что подводит не просто личный итог. Река его жизни стала вдруг чистой и прозрачной, и он обнаружил, что видит себя до дна. И то, что Атауальпа поднимал на поверхность, он тут же взвешивал на весах, имя которым было совесть, но он не знал его, потому что раньше ими не пользовался. Смерть делает человека мудрее, а мудрость никогда не бывает беспокойной.
На рассвете Атауальпа услышал, как чиркают о камень подковы на сапогах испанцев, и древко алебарды ударяется о землю при каждом шаге державшего ее воина. В келью вошел брат Висенте. Солдаты остались снаружи. В одной руке у монаха был хлеб, в другой – глиняная чаша с вином. Еще совсем недавно Атауальпа мог бы резко заметить, что укравшие его золото конкистадоры поскупились на металл для кубка, но сейчас он делать этого не стал.
Уаскар, сын Уайна Капака, законный правитель Империи Инков. На испанских гравюрах его традиционно изображали задумчивым миролюбивым меланхоликом, хотя вряд ли миролюбивый человек смог бы собрать за короткий срок шестидесятитысячную армию. По всей видимости, армия Уаскара оказалась слабее, чем армия Атауальпы
– Я просил испанцев заменить костер на другой вид казни. По нашим обычаям, тело императора нельзя разрушать. Вы обещали не делать этого, – сказал Атауальпа.
– Это обещал Писарро, – грустно уточнил Висенте де Вальверде. – Но для этого нужно причаститься.
Инка отломил кусок хлеба и сделал глоток вина. Брат Висенте сказал, что теперь он часть церкви и готов предстать перед Всемогущим Господом. Пленник стал на колени и наложил на себя крест, так, как это сделал монах, а затем попросил снять цепи с рук и ног. Ведь испанцы после вынесения приговора надели на него кандалы, испугавшись, что обманутый конкистадорами император начнет бунтовать. Монах посмотрел на оковы и вздохнул. Его вполне могли сурово наказать за нарушение приказа командора, и он отказал пленнику. – Понятно, – с досадой выдохнул Атауальпа на кечуа.
Кахамарка бурлила. Весть о том, что императора собираются казнить, разнеслась по всей округе. Люди сходились в город, чтобы посмотреть на смерть Инки. Смерть преступника для простолюдина была зрелищем, а смерть потомка и наместника Солнца – поистине космическим событием. Но к месту казни допустили не всех. Народ роптал: суд проходил на глазах у толпы, а на приговор позвали лишь избранных. Брат Висенте сделал про себя наблюдение: получив свободу, люди первым делом начинают роптать. Чтобы ропот не перерос в бунт, Писарро твердым голосом приказал вывести перед толпой нескольких всадников в доспехах. Вид блестящих шлемов напомнил толпе, что перед ними люди Солнца, которых нужно слушаться. Гул с появлением всадников затих, и во внезапно образовавшейся тишине вдруг отчетливо послышались слова того, кто навсегда прощался со своим народом. Спокойные, как осенние облака, слова.
– Великий Создатель, посмотри, как враги наши проливают нашу кровь.
Слова эти стали достоянием каждого человека в толпе: тем, кто не смог их услышать, потому что стоял далеко от дверей во внутренние покои, фразу Атауальпы пересказали соседи.
Не многие видели, что происходит внутри. Рядом с креслом для гарроты, на котором, связанный, сидел Великий Инка, стоял Франсиско Писарро со свитой и священники, сопровождавшие воинов конкисты в походе. Из подданных империи в зал, где проходила казнь, пустили только женщин Великого Инки. Услышав, что сказал их повелитель, они тут же упали на пол и поползли, извиваясь, как пресмыкающиеся, к ногам привязанного к креслу человека. Но охранники довольно грубо и бесцеремонно отогнали их.
Атауальпа словно не замечал их, едва прикрыв глаза. Его коричневое лицо оставалось непроницаемым, как бронзовая маска. В сущности, это и была маска, и ее хозяин был уже мертв. И в то же время еще жив.
Но с этим Писарро хотел покончить как можно быстрее. На шею Великого Инки палач надел стальной обруч из гибкой проволоки. Два ее свободные конца входили в небольшие отверстия в деревянной доске, заменявшей спинку кресла, на котором сидел Атауальпа. А сзади концы переплетались. К ним была прикреплена крепкая деревянная палка. Как только палач начинал ее вращать, концы проволоки наматывались один на другой все больше и все сильнее сокращали петлю, в которой была шея приговоренного преступника. В конце концов наступал момент, когда металл перекрывал дыхание обреченного человека полностью и ломал шейные позвонки. Те, кто изобрел этот варварский инструмент, утверждали, что, в отличие от прочих орудий убийства, он быстрее убивает человека и причиняет меньше боли. Но это были лишь отговорки. Даже самый необразованный подданный испанской короны знал, что арсенал любого палача отличается разнообразием как раз для того, чтобы доставлять боль, а не избавлять от нее.
Командор Писарро испытывал странное чувство. Он глядел на инкских женщин, царапающих глиняный пол. Он видел священников, читавших молитвы возле гарроты. Он почувствовал внезапный прилив крови к голове и на секунду потерял сознание. Но не упал, а удержался на ногах. А когда пришел в себя, к нему сразу вернулось зрение, но не сразу – слух. И он увидел беззвучную картину казни, отчего на него навалилось чувство абсурдности и нереальности происходящего. «Театр комедиантов, вот на что это похоже, – подумал он. – Актеры в диковинных костюмах развлекают смеющихся зрителей». В его власти было остановить балаган. Но он не стал это делать. А палач уже вращал деревянную перекладину в ту сторону, в которую Солнце обычно двигает тень на циферблате солнечных часов.
Атауальпа больше не сказал ни слова. Когда проволока врезалась в кожу на его шее, под ней забился в нервных спазмах кадык, словно пытаясь вырваться на волю, на свежий воздух. Но проволока немилосердно сжималась все сильнее, и когда он остановился, все тело императора инков задрожало, охваченное предсмертной лихорадкой. Глаза широко открылись и выкатились из орбит. Пальцы рук вытянулись, ноги выпрямились в коленях, тело подалось вперед. Рванулось в последнем инстинкте остаться в этом мире. Но палач не оставил шанса. Послышался хруст, и голова правителя неестественно свалилась набок. Его ноги потянулись вверх и тут же упали на пол. Прямые пальцы рук согнулись, конвульсивно зацепившись за жизнь. Но глаза его остекленели. Он был уже не здесь. Женщины Атауальпы взвыли на разные голоса. Вой услышала толпа на улице, и гул снаружи начал нарастать. А вместе с ним и ругань всадников. Они пытались успокоить людей. Ропот толпы перерастал в вой. Писарро сообразил, что не доживет до конца дня, если не возьмет ситуацию под свой контроль. Надо было что-то придумать. Он раздавал указания своим солдатам и, отгоняя священников от мертвого тела, перевесил свой меч поудобнее, чтобы его можно было быстро выхватить в случае опасности. Если не отобьется – тогда все его золотые песо и серебряные марко окажутся бесполезными и будут служить другим людям. Нужно было очень быстро найти правильное решение. Но на то и был Писарро командором, чтобы хорошо ориентироваться в меняющейся обстановке.
– Кровать! Несите сюда мою кровать! – крикнул он солдатам. Те взашей погнали в командорские покои слуг, тщательно отобранных среди местного населения. Вскоре в центре зала стояло огромное ложе командора, покрытое самыми дорогими тканями, которые нашлись в резиденции испанцев. На кровать уложили тело Великого Инки.
– Священники! – крикнул Писарро. – Вы пойдете вперед и скажете им, что Атауальпа перед смертью принял нашу веру и отказался от веры предков. После этого вы все окажете ему императорские почести!
Командор выстроил своих солдат:
– Несите его к его подданным! Несите так, словно это король испанцев, а не вождь дикарей! Ясно?!
– Так точно, сеньор! – грохнули в ответ сто хриплых голосов.
Священники пели псалмы. За ними шагали двадцать солдат, неся на плечах скорбный груз. Остальные маршировали с алебардами на плечах, соблюдая церемониальный шаг. Женщины Атауальпы ползли на коленях вслед за процессией, не переставая громко рыдать. Ревущая на все голоса, лязгающая металлом мечей, пахнущая конским потом, страхом и болью вереница вовремя появилась на треугольной площади в центре Кахамарки. Толпа уже бросала во всадников, охранявших вход в резиденцию, комья глины, а самые смелые пытались их стащить с лошадей. Лежащего на земле легче бить. Но вдруг беспорядки остановились. Улица ожидала от испанцев чего угодно, но только не почестей, оказанных осужденному императору. Над толпой повисла тишина, и этой молчаливой паузы было достаточно священникам, громогласно пропевшим, что король перед смертью добровольно принял церковь и церковные законы. Все это перевели толмачи, и толпа загудела снова, да так, что было непонятно – то ли осуждая слова священников, то ли одобряя. Но, поскольку всадников оставили в покое, испанцам показалось, что опасность бунта снизилась. А потом в толпе послышался голос:
– Раздайте все зерно с его складов голодным!
Когда Писарро перевели это требование, он решил сам ответить недовольным:
– Мы не знаем, где склады Атауальпы. Но как только узнаем, то…
– Тогда отдайте нам его самого! Этого нам на обед хватит!
– Возьми топор и отдели голову от тела!
Казнь Атауальпы с помощью гарроты 26 июля 1533 года. Поводом для смертного приговора, который вынесли конкистадоры, стал тот факт, что Атауальпа захватил в плен и казнил собственного брата Уаскара, являвшегося законным правителем Тавантинсуйу
Переводчик начал пересказывать его слова почти одновременно с речью самого командора. Но толпа не дала ему закончить.
И улица снова загудела. Теперь, правда, от смеха. Писарро понял, что сегодня останется в живых. И тогда он позвал к себе палача.
– Мой аделантадо, – возмутился стоявший недалеко от командора брат Висенте. – Это же вы дали слово Инке не разрушать его тело!
– Это мое слово! – расхохотался Писарро. – Сам дал, сам и забрал!
Вслед за ним засмеялись конкистадоры.
Шестнадцать. Светлый путь в сторону тени
Что делать, когда ты останавливаешься за один шаг от тайны? Бывает ли тайна полураскрытой? Считается ли это победой? И не похожа ли жизнь среди нераскрытых тайн на сон? Вадим любил реальность. В юности его считали фантазером, но он стремился к тому, чтобы мечты превратить в реальность, и это у него получалось. Реальность не терпит недомолвок. С ней Вадим играл «в открытую». А тайны это и есть недомолвки, которые нарушают баланс между внутренним миром человека и тем, что его окружает. Так думал Вадим и старался, чтобы его поступки не расходились с мыслями.
Профессор Уильямс был знаком с профессором Паниагуа. Оба занимались империей Тавантинсуйу, но одного интересовала экономика, а другого нечто более таинственное, а именно сокровищница империи. Сэм не делал громких заявлений о сфере своих интересов, но Вадиму достаточно было услышать его страстный и подробный рассказ о бандейрантах.
Что сталось с Норманом? Куда исчез его старый друг после обычной болтовни за столиком в кафе, оказавшейся ящиком Пандоры, полным сюрпризов, преимущественно опасных. Вопрос не давал покоя Вадиму на гонке. За ответом на этот вопрос к нему приехал Себастьян и погиб, так и не узнав его. И вот он, рискуя потеряться в каменистой пустыне или умереть в лодке посреди безразмерной Амазонии, оказался вместе с тем, для кого имя Норман Рауль Вентура Паниагуа не пустой звук. Тайна…
– Он сложный человек, этот профессор Паниагуа. Очень сложный, – Сэм сложил руки на груди, задумчиво уставившись на корешки книг в комнате, которую называл библиотекой. – А вы, Бадди, откуда его знаете?
– Когда-то учился с ним вместе.
– В Киеве, насколько я помню?
– Да, там.
– А чем он был известен до Киева, Вы слышали?
Вадим помнил рассказы Нормана о конфликтах с полицией, но он никогда не придавал им особенного значения. Конфликты с полицией вписываются в нигилистическую схему на пути самоутверждения любого юноши. Так для чего же обращать на них внимание? Юноши бывают разные, а юность у всех более или менее одинаковая – во всяком случае, с биологической точки зрения.
– В нашей среде слухи почти всегда оказываются аксиомой, не требующей доказательств, – говорил профессор. – О коллеге Нормане ходили разные слухи. Учился он здесь, в Перу…
– Учился он в Боливии, в Санта-Крус. А потом у нас, в Киеве, – поправил Сэма украинец.
– Да, это так. Но знаете ли вы, что его университет обменивался с университетом в Лиме студентами. Иногда на целый семестр. На волне такого академического обмена и попал в Лиму будущий профессор истории. А здесь он сошелся с ребятами из «Светлого пути» и…
– «Светлый путь?» А что это такое? – перебил собеседника Вадим.
– «Сендеро луминосо» по-испански… На мой весьма субъективный взгляд, это смесь коммунизма и религии. О, некогда это была мощная организация, очень популярная в столице. А теперь ее остатки прячутся по лесам. Вы знаете, многие из последователей местной разновидности коммунизма верят в старые легенды?
– Какие, Сэмми?
– Ну, вот какие. Вы помните, что Франсиско Писарро приказал отделить голову от тела Великого Инки Атауальпы. Так вот, эти ребята множат россказни, что голова эта находится в сокровенном тайнике и – как бы это сказать? – отращивает себе новое тело. Что-то вроде этого. И однажды он появится, чтобы отомстить испанцам.
«Ничего особенного, – подумал Вадим. – Всем свойственно мечтать о герое, который однажды спасет всех отверженных».
А Сэм продолжал свой рассказ:
– Норман, будучи студентом, жаждал справедливости. Он хотел изменить мир к лучшему задолго до того, как об этом заявили пылесосы «Филипса». Он был страстным оратором, особенно на семинарах, и это быстро заметили «сендеристы». Именно таких, как он, и набирают в тайные сообщества. Ведь революционеры, как известно, делятся на дураков и подлецов. Разница только в том, что одни не ведают, что творят, а другие прекрасно ведают. Его втянули в организацию. Естественно, отнесли к первым. Но он быстро разобрался, кто есть кто, и не захотел быть ни тем, ни другим.
Такой социальный примитивизм в устах ученого слегка покоробил Вадима. Занимаясь бизнесом, Вадим усвоил, что мир нельзя рисовать только в двух красках. На деле их гораздо больше. А Сэм рассказывал дальше:
– Слишком умен оказался сеньор Норман для дела всеобщего равенства. Он возненавидел левые идеи. Говорили, что это произошло после теракта. Они что-то взорвали в Лиме… Якобы Норман был ни при чем… Но кто его знает, как там было… В любом случае, прививку от коммунизма он там получил.
– И при этом учился в Советском Союзе, – съехидничал Вадим.
– Ну, видимо, на деньги «сендеристов». Другим способом юный боливиец из небогатой семьи к вам попасть не мог, я так понимаю?
– У нас уже тогда многое менялось, – улыбнулся Вадим.
– Хорошо, что «сендеристы» этого не знали, – так же весело поддержал его профессор Уильямс.
Новая сторона жизни друга открывалась Вадиму, совершенно неизвестная. Открытие было сродни шоковой терапии. Белые пятна биографии стали расплываться темной тенью на карте их дружбы. Вадим усилием воли остановил этот процесс, иначе он потерял бы друга во второй раз.
«Он был «сендеристом», но потом увидел нечто такое, что заставило его возненавидеть мир, где счастье навязывают силой, – рассуждал Вадим. – Это многое объясняет. Ему очень нравился Киев, но он всегда насмехался над тем, как мы тогда жили и о чем мы мечтали».
И еще какая-то мысль мелькнула у Вадима юркой и хищной рыбой, оставив в сознании нечеткий, расползающийся след. Но в последний момент он успел поймать ее за хвост.
– Сэм, а можно взглянуть на письмена?
– Какие еще письмена?
– Эти ваши «велкам» и «бьенвенидо»…
– Над входом в заброшенный город?
– Да, я говорю о них.
Сэм и сам заинтересовался реакцией Вадима. Он мгновенно оказался у книжной полки. Этот парень ему нравился все больше. Уильямс перебирал фолианты:
– Сейчас, Бадди, попробую поискать рукопись… Так, здесь копии ронго-ронго – о, это очень интересно! Но они нам сегодня не понадобятся. Аристотель, Сенека, Апулей – это скучная античность с ее показушным гуманизмом. Где же у меня был «Манускрипт»? А, вот он!
В руках у Сэма оказалась довольно толстая папка из красного пластика, перетянутая резинками. Уильямс оттянул их, и резинки звонко хлопнули по тыльной стороне папки. Внутри оказались плотные исписанные витиеватым колониальным почерком листы бумаги, упрятанные в прозрачные файлы. Если бы не глянец, можно было бы подумать, что легендарный манускрипт хранится не в Национальном банке Бразилии, а в хижине у Сэма.
– Фотокопия, – словно угадав мысли Вадима, произнес тот. – Очень качественная, впрочем. Вы на это хотите посмотреть?
Профессор протянул Вадиму блестящий листок. Это была копия страницы манускрипта, на которой командир бандейрантов пытался изобразить надпись над входом в таинственный город. Буквы чем-то напоминали амхарский алфавит – такие же пересекающиеся крестообразные линии, с закорючками, похожими на погнутые гвозди. Украинец внимательно разглядывал надпись. Он щурил глаза, как будто сквозь узкие щели лучше просматривался скрытый смысл древнего изречения. Эта надпись ему напоминала кое-что знакомое, нечто такое, что он неоднократно видел. Он плотно сомкнул веки, сильно зажмурился, так, что перед глазами возникли разноцветные круги. Но вспомнить все помогла не зрительная память, а тактильная. Он догадался, что его рука уже ощущала рельеф тайных знаков. Однажды он гладил желобки букв на очень важном для него предмете. Его глаза открылись. Его пальцы заскользили по бумаге. Португалец хорошо постарался. Он точно изобразил эти знаки. Выбитые над воротами города в джунглях слова украшали старое оружие его земли, его родины. А может, и не слова это были? Клинья и царапины на грозном золоте молчали и ждали того, кто сумеет их прочесть. Он вспомнил, как брал холодное золото булавы и слегка подбрасывал ее вверх, чтобы лучше почувствовать вес. Какая приятная тяжесть! Так же приятно тяжела, должно быть, власть, доставшаяся усатым старцам в дорогих одеждах и с одинаково грустными лицами. Его пальцы внимательно и постепенно ощупывали поверхность оружия. Царапины – это ухабы на пути, а вот тайные знаки – это колея, по которой стóит двигаться вперед. Равносторонний крест, треугольные волны, перевернутый полумесяц – все это было написано в манускрипте и все это было вырублено на золотой гетманской булаве. Теперь он уверен в этом.
Замыкается круг. Норман, «сендеристы», Украина. Сколько еще невидимых мостов соединяют две окраины? Он сам стоит посередине одного из них, размышляя над тем, в какую сторону идти. Не было вокруг ничего – ни бунгало Сэма, ни растрепанного города за стенами дома. Осталась только мощная река с прекрасным и добрым именем. И два берега, до которых было одинаково далеко дотянуться. Он погрузился в свои мысли, а мысли стали бесконечным космосом, в котором не было ни времени, ни расстояния, ни вчера и ни завтра. Только здесь и сейчас. Лицо – каменная маска, глаза – зеркало души и вход во Вселенную мысли. Но зрачки прикрывали веки. Как на изображениях Будды. Со стороны можно было подумать, что Вадим остолбенел или с ним случился приступ. Сэм было бросился к нему, но Кирсти легким движением ладони остановила его. Что-то в этом движении было от индийской мудры, мягкого слога древнего языка жестов. Вадим не прочитал его. Но в его застывшую Вселенную прорвался вдруг поток теплоты, и благодаря ему он снова обрел кожу и плоть, а значит, вернулся в дом американского профессора. Когда его веки приподнялись, перед его глазами было лицо черноглазой девушки, тревожно смотревшей снизу вверх. Ее руки легли на его руки. Он внезапно понял, что перед ним самое прекрасное создание на земле – и, несомненно, самое доброе.
Она была красавицей. Но девушек с такой внешностью, как у нее, можно было найти на любой перуанской дискотеке или в кафе, работающем до и после полуночи. Все дело в том, что она была первой, кого он увидел после того, как его сознание вернулось из воображаемой реальности в реальный мир. И она заполнила тот отсек его души и его сознания, в котором должна была размещаться любовь, и который долгое время стоял пустым. Она, возможно, сама того не понимая, заполнила его полностью, и тот вес новых чувств, которые обрел Вадим, ему был очень приятен. Как приятен был вес драгоценной булавы.
– Не бойся, – сказала она. – Я с тобой, я с тобой.
Их ладони сомкнулись. Их пальцы сплелись между собой. Как амхарские письмена. Как таинственные знаки португальского манускрипта.
Quince. Chaska-chuqui
Писарро с трудом читал и писал. По правде говоря, его, скорее, можно было назвать неграмотным и необразованным человеком. Сначала он это скрывал от своих людей. Но потом, когда стало ясно, что его воля к победе и целеустремленность с лихвой компенсируют отсутствие знаний, он перестал это делать. Его авторитет среди конкистадоров был заработан собственным пóтом, чужой кровью и упрямством человека, играющего в лотерею, где на кон поставлена его собственная жизнь. Он не мог проиграть.
Впрочем, в рядах его спутников было немало образованных людей. А среди них попадались и те, кто старался жить по определенным нравственным правилам. И эта нравственность единиц – пусть и весьма несовершенного свойства – вступала в конфликт с нравами, царившими в конкисте. А если смотреть глубже, то такие люди оказались между молотом и наковальней. Их командиры говорили об утверждении Законов Христовых в новых землях, но сами эти законы нарушали. А их противник не умел лгать, грабить и бездельничать, но при этом верил в то, что, по мнению пришельцев из Европы, было по ту сторону добра и зла. Брат Висенте, монах, отказавшийся от своей добычи, был именно таким человеком.
Писарро считал, что за этим кроется нечто большее, чем просто высокая мораль священнослужителя. Он привык доверять своей практически животной интуиции, которой щедрая природа часто наделяет людей необразованных и недалеких, и они отлично управляются с ней, не испытывая недостатка в образовании и тяги к непрочитанным книгам. Но Писарро был еще и умным от природы человеком, что множило силу его чувств.
Боялся ли его брат Висенте? Да, он очень страшился этого человека. Он понимал его звериную сущность лучше, чем кто-либо другой в Кахамарке. Он много раз видел, как ненависть и отчаяние своих спутников дон Писарро умел превратить в отчаянную преданность и готовность идти до конца. И не только ради денег. Они верили, что только он их может спасти, и это заставляло испанцев забывать о настоящем Спасителе, а этого допустить было нельзя. Именно для этого брат Висенте отправился в неизвестность с конкистадорами.
А теперь он думал, что делать дальше. Он узнал о Писарро нечто такое, что ему не предназначалось. Что вообще не предназначалось никому другому, кроме участников подслушанного монахом разговора.
Правду следует признать, он ничего не делал сознательно для того, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, а точнее говоря, в не слишком удачное время не в самом правильном месте. Он отправился поглядеть на золото. Священники, оказавшиеся в конкисте, не любили касаться награбленных богатств. Хотя ими пользовались. Была очень ясная и тихая ночь. Висенте отправился в хранилище, где находился выкуп Атауальпы. Охранники, ежедневно имевшие дело с несметным богатством, уже начинали терять бдительность. Когда люди кечуа стали сносить в Кахамарку золото, испанцы сначала онемели от удивления. Потом ошалели от алчности. Теперь их состояние можно было назвать деловитой беспечностью. Отчасти они относились к золоту под своей охраной так же беспечно, как и к любому другому грузу, оставленному на складе, то есть отлучались с поста по малейшему поводу или надобности. Вот таким моментом как раз и воспользовался монах. Охранники пили местный горячий напиток, сидя за хранилищем. Они громко смеялись своим сальным шуткам. Брат Висенте беспрепятственно вошел в помещение.
Золото не привлекало его, а – как бы точнее выразить это странное чувство? – удивляло. Ну что это, золото? Холодное на ощупь, правда, быстро теплеет, если берешь в руку. Довольно мягкое и податливое. На его поверхности легко оставить царапину даже неострой стороной лезвия ножа. Правда, имеющее внушительную массу: нож, сделанный из золота, был бы тяжелее железного. В остальном же – просто металл. Почему же на этом металле столько крови? Почему при виде этих желтых слитков в глазах его спутников появляется алчный блеск, а руки готовы творить страшные вещи. Нет такого преступления, на которое они бы не пошли ради золота. И когда он понял и принял это как факт, то смог найти в себе силы отказаться от своей доли добычи. Удивительно, но после этого на сердце сразу стало как-то легче. Душа успокоилась, а пытливый разум продолжал удивляться. А еще Висенте любил разглядывать золотые изделия, еще не переплавленные в слитки. Их было здесь немного – ведь Писарро приказал выстроить целую мануфактуру для переплавки желтого металла. Говорил, что в виде слитков золото удобнее и хранить, и перевозить… и делить. Но когда Висенте в первый раз взял в руки удивительные вещи, сделанные придворными мастерами Великого Инки, то понял, что Франсиско хочет уничтожить само воспоминание об их мастерстве. Ведь удобнее врагов считать дикарями, нежели равными себе. А возможно, в чем-то превосходящими своих победителей.
Висенте нравились многие вещи, ожидавшие своей очереди попасть в жаркую пасть плавильного тигля. Особенно приятно было брать в руки золотой плот с фигурками мореплавателей. Монах слышал легенду о том, что Великий Инка по имени Пачакути некогда совершил плавание через Тихий океан на деревянном плоту, и, видимо, предмет, который Висенте сейчас вертел в руках, изображал царскую экспедицию. Инка стоял в центре плота, под мачтой. Золотые лепестки его одежды и головного убора не оставляли сомнения в том, что это царь. Но больше внимания на себя обращали фигурки моряков. Кормчий изо всех сил старался удержать весло, служившее рулем. Море вырывало его, но моряк был сильнее течения. Один из его товарищей помогал кормчему, но тот мог бы справиться и сам. Золотая фигурка силача была внушительнее других. Капитан же стоял на носу плота. Он смотрел вперед, пытаясь увидеть опасность еще до того, как она станет угрозой для золотого корабля. А в фигуре Инки не было динамики. Только неподвижность символа. Лишь часка-чуки, булава, которую держали руки-проволочки вождя, весьма грозно торчала вверх.
И вдруг Висенте услышал голос. Вернее, два голоса.
– Вы никогда не добьетесь своего, дон Писарро, пока не получите это, – сказал один, незнакомый.
Второй голос был монаху слишком хорошо знаком:
– А что ты имеешь в виду, говоря «это»?
Говорили снаружи, но у самой двери хранилища. Голоса звучали чуть приглушенно. «Это чтобы не привлекать внимание охранников», – догадался Висенте.
– Давайте зайдем. Надеюсь, то, что я хочу вам показать, еще не переплавили в обычный кусок металла.
И в комнату вошли двое. Один был одет, а точнее завернут в традиционную индейскую накидку. Она делала очертания незнакомца бесформенными, а приглушенный голос не давал возможности определить возраст. Но человек, скорее, был немолодой, поскольку говорил без страха и заискивания перед спутником. Это было очень важно, поскольку спутник был не кем иным, как самим командором Франсиско Писарро. Монах легко узнал его по росту и по очертаниям. Да что там очертания? Этого человека он мог узнать даже по звуку шагов. «Да, я боюсь его, – в который раз признался себе Висенте. – Боюсь, что однажды он проткнет меня своим мечом». Более того – он боялся, что это «однажды» настанет прямо сейчас. Висенте спрятался за сложенными штабелями слитками золота. Его сердце стучало так, что могло выскочить из груди, как птица из клетки. Монаху казалось, что этот стук слышен и тем, кто вошел в хранилище, и от этого сердце забилось еще сильнее.
Золотой плот с фигурками моряков и царя Висенте, впрочем, успел отставить в сторону. Тонкой работы изделие стояло на самом видном месте, ведь в руках у вошедших были светильники. Огонь плясал в медных плошках. Золотые моряки отбрасывали тени на глиняные стены. Черные силуэты тоже извивались и дрожали в такт пламени. Казалось, что воображаемое море ожило, и экипаж суденышка вступил с ним в борьбу за выживание. Неравную, безнадежную и потому героическую.
– О, вот он! Царский плот! – сказал человек, завернутый в пончо. «Экая странность, – вдруг заметил про себя монах, – индеец, а так хорошо говорит по-испански». Это небольшое открытие приглушило страх, но возбудило любопытство. Так что сердце прячущегося человека продолжало стучать в прежнем ритме.
– Взгляните, дон Писарро, на это произведение искусства, сделанное великими мастерами. О чем оно вам говорит?
Писарро хмыкнул, развернувшись лицом к собеседнику. Тяжелый меч, висевший у него на поясе, звякнул, зацепившись о слитки.
– О том, что вы, туземцы, слишком хитры, чтобы оставить вам в живых вашего короля.
– Не «хитры». Хитрость – это добродетель, редко встречающаяся в наших краях. Мы слишком прямолинейны, чтобы быть хитрыми. В свое время Пачакути не научил нас хитрости. А стоило бы. Тогда я мог бы оказаться на месте Атауальпы.
– И гаррота затянулась бы на твоей шее, – с угрозой в голосе засмеялся конкистадор.
Но гость не испугался и довольно смело ответил:
– Если бы я был Инкой, ни один из вас не покинул бы живым пределы треугольной площади в Кахамарке.
И тут Висенте очень сильно удивился, потому что Писарро вместо того чтобы изрубить наглеца на мелкие и равные кусочки, лишь хлопнул того по спине, причем, скорее дружески, нежели в назидание.
Золотой плот, символ Эльдорадо, был найден в 1969 году в пещере в департаменте Кундинамарка (Колумбия). Он был спрятан в сосуде, украшенном фигурой человека с острыми зубами хищника. После того, как была сделана находка, в очередной раз активизировались поиски исчезнувших сокровищ в Южной Америке. Сейчас плот хранится в Музее Золота в столице Колумбии Боготе
– Ладно, – примирительно сказал дон Франсиско, – что ты хочешь мне показать?
– То, что вы и сами видите, – спокойно проговорил индеец. – Вы сейчас видите то, что должны видеть, но еще не понимаете до конца, что же в ваших руках.
Писарро вертел в руках золотую безделицу. Он чувствовал тяжесть предмета и мысленно переводил ее вес в песо. Ничего он не мог поделать с хищным хватательным инстинктом, с юности заполнявшим все его существо. И еще какое-то смутное чувство слегка раздражало командора. Тоже на уровне инстинкта. Связано оно было с тактильными ощущениями, а значит, с золотом в его ладонях.
– Повертите этот предмет еще, – сказал индеец.
Франсиско послушался. Пальцы, привыкшие сжимать рукоять меча, неловко прошлись по изгибам золотых фигурок. И воин Писарро заметил то, на что не обратил внимания монах Висенте, прятавшийся за золотыми слитками.
– Интересно, а почему это только царь вооружен? Правильнее было бы вооружить охрану, нежели государя.
Писарро несколько раз подряд зацепил заскорузлым пальцем булаву, да так, что она со звуком порвавшейся струны задрожала в руках золотого Инки.
– Правильно, командор, – с удовлетворением заметил индейский гость, – но лишь в том случае, если эти люди плывут воевать и захватывать новые земли.
Командор осклабился:
– Ты намекаешь на меня?
– Нет, я просто говорю, что вижу. Искусство намека это искусство лжи. «Ама льюйя, ама сува, ама кейя». Мы этого никогда не делали.
– Зато теперь научились, – буркнул Писарро, постаравшись придать своему голосу как можно больше недовольства. – Иногда соврать можно, сохраняя молчание. Не произнеся и единого слова.
– Вам виднее, командор, – покорно произнес гость.
– Послушай, я не люблю медлительности. Я как-то не очень понимаю, к чему ты ведешь.
Гость, завернувшись в пончо, продолжал:
– Если изображенные ювелиром люди собирались бы воевать против чужеземцев, они отправились бы с оружием. А Инка командовал бы ими. Но воины безоружны. Значит, это вовсе не воины, а в руках Инки не часка-чуки. Это не боевая булава. Но, вместе с тем, это бесценное сокровище, которое царь не доверяет держать никому. Эта вещь символична. Обладание ею дает право на верховную власть, и, вместе с тем, его противникам булава несет мир и делает их друзьями. Боевая булава на кечуа звучит так: часка-чуки. Но это не часка-чуки. Что может сделать врага другом?
– Золото? Сила? – Писарро лишь ждал, пока закончится речь гостя, а потому не особенно утруждал себя поиском логичных ответов.
– Нет, мой командор, и еще раз нет. Знания. А ключ к этим знаниям у вас в руках. Вот у него в руках! – Индеец указал на золотого царя.
– Инка Пачакути имел великую власть над империей потому, что делился знаниями. И ключ ко всем знаниям, ко всем записям, летописям и цифрам он держал в своих руках. Это не часка-чуки, мой командор! Эта вещь называется апикайкипу. И это есть ключевой символ власти. Если вы ее переплавили в слитки, то вы ее потеряли. Если нет, то найдите ее. Постарайтесь.
Дон Писарро мыслил быстро. Но быстрота его ума носила своеобразный характер. Он всегда считал знания обузой для достижения власти и предпочитал действовать все больше шпагой, чем пером. Тем более, что, как говорили о нем злые языки – о которых вспомнил брат Висенте в своем укрытии за штабелем золота, – писать он не умел вообще. Наверное, потому и спросил Писарро гостя:
– Где может быть эта вещь?
– Возможно, она здесь, – звонко и весело хлопнул ладонью по золотым слиткам индеец. – А возможно, все еще в руках тех, кто умеет с ней обращаться.
– Что получит тот, кто умеет с этой вещью обращаться?
– Многое, – несколько странно ответил человек в теплом пончо. – Каждый получает то, что ищет.
И засмеялся.
Командор внимательно смотрел в глаза гостю. Смех закончился и превратился в добрую улыбку на узкоглазом лице индейца. Он не знал, что в этот момент командор размышлял не над смыслом сказанного, а о том, не проткнуть ли наглеца мечом. Дон Писарро даже определился с местом, куда он вонзит свой меч – в сердце, и молниеносно! Чтобы гость не закричал и не разбудил ленивых охранников, задремавших на свежем воздухе. Но передумал. Возможно, потому, что угадал: гость подготовлен к такому повороту событий, и неизвестно, что у него спрятано под накидкой. Но и гость не желал конфликта. Висенте внимательно вслушивался в его рассказ:
– Великий Инка Пачакути придумал систему тайных знаков, с помощью которой легко записывались знания. Говорят, что именно он же ее и зашифровал. Возможно, для того, чтобы эти знания не попали в руки людям злым и неподготовленным. И это были самые совершенные шифры в мире. Допустим, к деревенскому кипукамайоку в какой-нибудь отдаленной общине приходит гонец и приносит кипу, узелковое послание: «В такой-то день, в такой-то час мне понадобится десять отборных воинов из твоей айлью и понадобится десять мешков маиса от твоей айлью». Кипукамайок передает распоряжение деревенскому старосте. И то, что нужно отправить в Куско, тут же отправляется. Но тот, кто обладает кодом, может сложить узелки в целую историю. «Нам нужны всего десять воинов, потому что война будет затяжной, и мы не хотим заранее обескровить деревни. Нам нужны десять мешков маиса, потому что хранилища мы открывать не готовы. В такой-то день все это нужно, потому что будет великая битва». А час? Это может быть всего лишь обозначение какого-либо из враждебных народов. Например, чиму или чачапояс, в зависимости от номера, присвоенного им канцелярией Великого Инки. Так же может быть зашифровано и место битвы. Но все это возможно прочитать лишь обладателю апикайкипу – золотому жезлу, на котором были написаны секретные знаки, делавшие тайное знание явным.
Такие жезлы были в каждой из четырех провинций Тавантинсуйу. Конечно, упрощенные, имевшие не совсем полный набор знаков. А полный существовал только в одном экземпляре.
Индеец вздохнул:
– Но главный жезл всегда находился в руках у одного человека – Великого Инки. Именно у него был апикайкипу, с помощью которого открывались все замки на единственных закрытых дверях империи – дверях, ведущих к знанию.
Пачакути Юпанки был 9-м правителем Тавантинсуйу. Правил с 1438 по 1471 год. Великий Инка Пачакути присоединял к империи новые земли и довел до совершенства систему управления страной. Пачакути – это прозвище, в переводе с кечуа оно означает «Человек, изменивший мир». Считается, что затерянный город Мачу-Пикчу был построен именно при нем
Индеец еще раз взял в руки плот:
– Вот он плывет в чужие края. Без оружия, но с ключом к знаниям. Это Пачакути. Великий Пачакути, который предпочитал не воевать, а просвещать. Он был победителем… из-за которого мы… все вам, чужеземцам… проиграли… И теперь спасти нас может только великая жертва. Человеческая.
Индеец все говорил и говорил:
– Он построил империю на знании, а не на страхе. Его потомок, которого вы казнили, Атауальпа, вовремя опомнился и дал нам возможность восстановить наши исконные традиции, на которые Пачакути наложил запрет. Мы снова могли говорить открыто о наших истоках. Мы опять стали приносить жертвы во имя единства нашей страны. И она опять стала единой – потому что мы съедали сердца погибших врагов на глазах врагов живых. И они становились… нет, не друзьями, конечно, но послушными и дружелюбными. Мы могли бы легко вас, испанцев, победить в бою… если бы наша армия хотя бы наполовину состояла из «людей, верных крови». Но нас еще мало. И у нас больше нет знания. Мы не знаем, где находятся тайные склады с оружием, где спрятаны запасы продовольствия, какие технические новшества готовили строители наших городов. И – что, возможно, интересует лично вас, – где находятся запасы того металла, частицей которого имел неосторожность поделиться с вами несчастный Атауальпа.
– Так он говорил правду?! – не удержался от восклицания Писарро, и сердце Висенте, которое начало было возвращаться к прежнему ритму, снова застучало, как кузнец по наковальне.
– Да, дон Франсиско, и еще раз «да». Но теперь мы не враги больше. В моей руке нет ни копья, ни камня, ни пращи. И я протягиваю ее вам.
Индеец протянул командору свою коричневую руку. Тот смотрел на нее с подозрением.
– А чего ты хочешь от меня? – спросил Писарро.
– Вы хотите золото, еще больше золота, правильно?
– Правильно.
– А для чего оно вам? Чтобы купить короля вашей страны?
– Считай, что так.
– Для чего?
– Чтобы стать первым там, где я имел счастье родиться последним, без прав на родной дом, на отца и даже на имя, которое ношу, как доспехи. Его тяжесть давит, но оно защищает от ударов судьбы.
– Я предлагаю вам больше. Вы будете первым… во всем мире. Перед вами будут преклоняться народы нашей империи и вашей, и десятков других, если они есть за великим морем.
Писарро смотрел на гостя, как на сумасшедшего. «Что он несет? Власть над миром? Какая чушь. Но, впрочем, судя по всему, казненный Атауальпа не соврал насчет золота. Может, и этот дикарь не врет?»
– Я буду сеять страх и получу ключ к знанию. Страх и знание помогут добраться до золота. Страх, знание, золото – это даст неограниченную власть. И мы построим новую Тавантинсуйу! Империю Четырех Сторон! Империю для всех народов, какие только есть на этой стороне океана и на той!
– И кто же будет ее императором?
– Вы, дон Писарро.
«Что это, я не ослышался?» – подумал конкистадор.
– Вы, дон Писарро.
Командор взглянул снова на протянутую ладонь. Хлопнул об нее своей и почувствовал, что рука у гостя, несмотря на небольшой размер, довольно крепкая.
Великий Инка Виракоча, 8-й правитель Тавантинсуйу. Он сумел преодолеть первый кризис инкской империи, разразившийся за сто лет до прихода испанских завоевателей. А изначально имя «Виракоча», согласно мифологии народов, населявших Страну Четырех Провинций, носил сотворитель мира, который вместе со своей женой Мама-Коча родил Килья (Луну) и Инти, то есть Солнце, и затем почему-то устроил потоп на Земле. Только когда сошла вода, наступили благодатные времена
– Хорошее предложение. Не могу не согласиться.
Он хотел было отпустить ладонь гостя, но передумал и сжал ее настолько сильно, насколько мог. Человек в длинном пончо даже не поморщился от боли, которую наверняка испытывал.
– А какую роль ты себе уготовил в этом новом мироустройстве? – вопрос Франсиско задал с подвохом.
– Вторую. И мои потомки, и потомки моих потомков всегда будут при ваших потомках, и потомках их потомков, вторыми. Лучше быть вторым при Великом Императоре, чем первым в голодной деревне. Но нужны жертвоприношения… Много… их… надо.
Дон Франсиско Писарро взял в руки плот, который только что поставил на слитки человек в пончо. Он еще хранил тепло руки гостя, но быстро его терял и становился холодным на ощупь. И он вдруг сообразил. Ах, как же догадлив был неграмотный дон Франсиско Писарро! Это было то самое ощущение, которое он уловил в начале разговора, но не мог найти ему объяснения. Теплое золото становилось холодным. И он догадался.
– Тебе нужны жертвы? Так вот она, первая. За этой горой металла. Делай с ним, что хочешь!
И монах, перед тем, как встретиться глазами со взглядом индейца, лишь успел помолиться.
Семнадцать. Год в сельве
Они уже целый год были вместе. И ни разу за это время они не сказали друг другу ни одного обидного или злого, полного раздражения слова. Все их слова были полны любви и нежности. В общем, Вадим и Кирсти были счастливы. Их счастье просыпалось с первыми лучами рассвета, но так и не засыпало на закате, а ожидало, пока сначала не заснут эти двое. Кстати, о закатах в здешних краях Вадим написал в своем дневнике: «Солнце садится настолько внезапно, что кажется, чья-то рука выключает освещение, и влажная сельва проваливается в сон, как утомленная любовью женщина». Он снова начал писать в свой дневник. По странному стечению обстоятельств, истрепанная тетрадка случайно уцелела во время его странствий по пустыне, и он, прочитав собственные письмена, решил описывать и дальше все свои мысли, чувства и события.
Событий за этот год было много. Во-первых, Сэм убедил Вадима отправиться на поиски Пайтити – так в южноамериканских легендах назывался затерянный город, где, по преданию, находилась сокровищница древних царей. Согласившись, Вадим написал в своем дневнике: «Все южноамериканцы мечтают найти Пайтити. Они думают, что сокровище сделает их счастливыми и избавит от необходимости ежедневного труда. Пайтити – это синоним вечного блаженства. Но, кроме того, это великая латиноамериканская мечта, ведь люди, которые меня сейчас окружают, готовы поделиться этим блаженством со всем миром. Они самые щедрые люди, которых я знаю, потому что хотят разделить мечту на всех. В любой точке южного континента можно найти упоминание о Пайтити. Они, как древние язычники, готовы называть именем этого несуществующего города все вокруг, от элементов одежды до традиционных блюд. А может быть, он существует?» Сэм Уильямс развеял все его сомнения:
– Этот город не вымысел. Нам осталось только догадаться, где, в какой части этого континента спрятана самая большая загадка современной археологии.
Вадим отправился в это долгое путешествие не только и не столько из-за великой тайны города. С ним была Кирсти. Она хотела увидеть Пайтити, и Вадим понимал, что ее желание сродни попытке поймать ладонью золотую рыбку в аквариуме.
«Каждый раз, когда она ускользает, – было написано в его старой тетрадке, – в твоей голове, как на табло игрового автомата, появляется неоновая надпись: «В следующий раз повезет». И ты веришь ей. И снова опускаешь в воду свою ладонь».
Если женщина верит в мечту, ее мужчина готов идти на край света, даже не имея уверенности в том, что там он сможет найти обратный билет. К тому же Вадиму он больше не был нужен. Часть его капиталов находилась за пределами Украины. Доступ к деньгам был оформлен так ловко, что получить их мог человек, знавший особый код. И этим единственным получателем, понятное дело, был он сам, человек, которого официально уже не было. Но он сумел перевести деньги в Латинскую Америку. А Сэм Уильямс подключил все свои научные возможности, чтобы раздобыть подробные сведения о «Манускрипте 512» и других документах, из которых становилось ясно, что поиски таинственного города никогда не прекращались.
«Нам нужны эти документы. Мы должны изучить их подробно, чтобы не повторять ошибок предшественников», – говорил Сэм.
Они и в самом деле хорошо подготовились и ошибок не совершали. Профессор Уильямс был счастлив. За год они так и не нашли Пайтити, но успели сделать несколько важных открытий. Они нашли домашнюю утварь, явно относившуюся к XVI столетию. Характер того, как она была изготовлена, позволял заявлять, что принадлежала она жителям Тавантинсуйу. А это означало, что границы Империи Инков простирались далеко на восток, в непроходимые заросли Бразилии. В ее владения входила огромная территория Амазонас и даже часть лесов штата Мату-Гроссу. Сэм имел научную наглость заявлять это и раньше, но теперь его уверенность базировалась на вполне материальных предметах, одним из которых был булыжник. Он тянул его в своем рюкзаке, намереваясь довести до сведения своих потенциальных оппонентов, коих в американских университетах было не счесть, что камень он выковырял из старой дороги инков, на которую экспедиция наткнулась на границе штатов Амазонас и Мату-Гроссу одним прекрасным дождливым утром.
– Выбросьте вы, профессор, этот камень, – советовал Вадим. – Если мы найдем Пайтити, то камень нам не понадобится.
– А если не найдем, – добавила еще одну трезвую мысль Кирсти, – то булыжник вам не поможет. В научном мире нужны более убедительные доказательства.
К тому моменту, когда Вадим затеял этот разговор, группа уже отдыхала, разведя небольшой костер. Солнце было высоко. Оно до невозможности разогревало влажный воздух, и смельчаки мечтали о прохладе вечера, когда пот перестает струиться по лицу, прокладывая липкие дорожки через равномерный слой грязи на коже.
– Ничего, – весело сказал профессор, подкладывая дров в огонь. – Если они мне не поверят, то по крайней мере, у меня будет возможность разбить окно этим булыжником в кабинете ректора.
Разводить огонь было просто необходимо. Дрова для этого выбирали более влажные, чтобы хорошенько пропитали дымом одежду – ведь местные комары вели себя довольно странно. Они абсолютно не боялись репеллентов и безжалостно кусали путников даже после литров вылитых на себя химических соединений, отпугивающих насекомых. Но в то же время москиты терпеть не могли даже легкого запаха дыма и, заслышав его, убегали со всех ног. Точнее, улетали со всех крыльев.
Дорога инков не только подарила профессору булыжник, это орудие пролетариата умственного труда, но и дала всей экспедиции подсказку, в каком направлении двигаться дальше. Ведь должна же она была куда-нибудь привести эту группу отчаянных искателей приключений. А инки, как известно, не строили дороги в никуда, у каждой магистрали в этих краях всегда была цель, а значит, и направление. Вот в этом направлении и двинулись путники.
У каждой экспедиции есть свои особенности и преимущества, но недостаток всегда один – большой груз палаток, снаряжения и еды. Все это абсолютно не зачтется в момент, когда история будет решать, внести или не внести в свои анналы научный подвиг подвижников. Но без этого ни один большой шаг для всего человечества не может состояться. Людям свойственно что-то есть и где-то спать. Вся закулисная сторона подвига называется красивым словом «логистика», но, откровенно говоря, планирование – занятие скучное и рутинное. А как скучно нести бытовые комплекты на себе! Поэтому с давних пор для переноски материальных ценностей в любой экспедиции нанимают проводников и носильщиков. В походе, организованном Сэмом и Вадимом, переноской вещей занимались специально нанятые для этого жители Пуэрто-Мальдонадо, числом четыре. Так что общее число штурмовавших джунгли достигало семи человек.
– Обратите внимание, господа, как, однако, темно бывает в это время в джунглях, – удивлялся Сэм.
– Эй, дружище профессор, а ну-ка взгляните на кроны! – весело кричал Вадим.
И впрямь, кроны деревьев на высоте примерно сорока метров сплетались в зеленый потолок, пропускавший в пространство под собой слишком мало света.
– Эй, Бадди, – парировал ученый муж, – а вы не менее наблюдательны, чем я.
– И даже более, – улыбался гонщик, передавая улыбку из своих губ в губы Кирсти поцелуем.
Кто по-настоящему был счастлив, так это она, перуанская девушка со скандинавским именем. Долгий разговор о судьбе Перси Фосетта как спусковой механизм включил внезапный порыв страсти. И он не выключился в этих лесах, готовых в любой момент убить непрошеных гостей. Даже после года совместных блужданий. А значит, это было чувство долгое, упорное, способное сопротивляться всем тяготам и лишениям кочевой жизни. Иными словами, имя этому чувству придумали задолго до того, как Кирсти и Вадим научились его выговаривать: любовь. Украинец вообще очень редко давал имя своим чувствам, справедливо считая, что обсуждать с кем-нибудь свое внутреннее состояние так же бессмысленно, как обсуждать решение теоремы Ферма с людьми, далекими от математики. Но здесь был абсолютно уникальный случай. Скорее интуитивно, нежели осознанно, он понял: то, что с ним произошло в бунгало у Сэма и продолжает происходить сейчас, слишком надолго. Быть может, навсегда. Да-да, именно так, навсегда. Теорема любви снова доказана. Эх, следовало бы, как говорили мудрые люди, ей доверять как аксиоме, не требуя доказательств! И от этих мыслей, казалось, воздух становился чуть менее влажным, и москиты становились добрее, чуть меньше кусая покрасневшие от волдырей руки.
Им вдвоем было хорошо в палатке. Они привыкли к жаре и влаге. Запах его вспотевшего тела казался ей самым прекрасным в мире. Она постоянно была готова протянуть ему бутылку кипяченой воды, которая у нее всегда была под рукой. И она смотрела, как ходил вперед-назад кадык на его шее, когда вода с шумом входила в его высохшую за день глотку. Так топливо из шланга с напором заливается в пустой бак. Она всегда была с ним. Хотя бы мысленно. Даже тогда, когда экспедиция разделялась на несколько групп, каждая из которых имела свои отдельные и особые задачи, она включала всю свою женскую сообразительность, чтобы оказаться вместе с Вадимом. А если это у Кирсти не получалось, перуанка думала о нем все время, пока наконец разделенные группы не становились одной сильной командой.
И как было хорошо, когда после тяжелого дневного перехода наступал спокойный вечер. Он ни разу ее не предал, теплый тропический вечер… Он всегда приходил на помощь с необходимым арсеналом естественных афродизиаков. Легкий ветер, шуршащий листвой, как джазовый ударник палочками-щетками по натянутой коже барабана. Пение цикад, плотное, как ударная волна. Ароматы растений, сливающиеся в общий сладковатый запах дикого меда.
О своей истории он не любил рассказывать. Он хотел начать все сначала в этих джунглях, с этой женщиной. Иногда он думал о том, что цель похода потеряна, имеет смысл только движение вперед, и он рад, что это движение не заканчивается, потому что каждый новый день дарил ему ее и новый вечер с ней. В один из таких вечеров он расслабился и рассказал о том, что богат и что оставил за своей спиной лучшую страну в мире и самых красивых женщин на Земле. «Ведь ты знаешь, надеюсь, – сказал он опрометчиво, – что красота именно украинских женщин считается идеалом».
Она ничего не ответила. Встала. Исчезла во мраке ночи. Потом он рассмотрел, как в темноте появилась горящая оранжевая точка, похожая на глаз хищной кошки. Точка беззвучно приближалась к нему, и Вадим уже было вскочил, чтобы принять боевую стойку. Но в этот момент глаз превратился в огонек сигареты, а потом вслед за ним в темноте прорисовалась фигура Кирсти. Он вдохнула табачный дым, выдохнула его и села возле костра рядом с Вадимом. Помолчав, стряхнула пепел нервным движением.
– Ты куришь? – удивился Вадим. Это было что-то новенькое для него.
– Только когда злюсь, – ответила Кирсти. – Вот пошла стрельнула у носильщиков.
Она замолчала. Повисла неловкая и опасная пауза. Кирстин в тишине сделала еще пару затяжек. Когда сигарета начала превращаться в окурок, она сказала мужчине рядом с собой:
– Дай мне руку.
Он не спросил ее зачем. Просто протянул ей левую ладонь. Она перевернула ее и засучила вверх до локтя рукав его рубахи, ведь по вечерам искатели приключений и сокровищ старались не ходить с обнаженными руками и ногами, чтобы не провоцировать малярийных комаров. Рука была сильной, покрытой густыми рыжеватыми завитушками. Кирсти сделала еще одну затяжку и очень спокойно, глядя в глаза своему спутнику, принялась тушить окурок о его руку, чуть выше запястья. Боль пронзила все его естество, и он готов был закричать. Он услышал шипение и понял, что это шипит его собственная кожа. Как ни странно, но этот страшный звук успокоил его. Он нашел в себе силы взглянуть в сумасшедшие глаза неистовой перуанки. Он думал, что увидит ярость, но взамен открыл для себя, что девушка глядит на него с любопытством, как будто говорит себе: «Давай же посмотрим, что будет». И она ждала, что он ударит ее, отбросит прочь от себя, что издаст хотя бы крик. А когда этого не случилось, она щелчком отправила потухший окурок в темноту и забарабанила по его груди быстрыми кулачками.
– Никогда не говори со мной о других женщинах, слышишь, никогда!!!
Вдруг он почувствовал, как она прижимается к нему щекой, по которой текут горькие слезы любви и ревности, и неизвестно, чего в них больше – первого или второго.
– Прости меня, милый, прости, прости!
Этого набора из трех слов ей хватило, чтобы заполнить всю ночь.
А наутро они снова собрали палатки и, распределив всю свою поклажу среди носильщиков, двинулись вперед. Им предстояло совершить переход в пятнадцать километров – а продираясь сквозь плотные заросли Амазонии, на это можно потратить целый день. В электронный навигатор были загружены всевозможные карты здешних мест: от старинных, нарисованных от руки, до самых современных, авиационных, где подробно указываются площадки для аварийной посадки. Но, к большому сожалению Сэма Уильямса, который отвечал за навигацию, значительная часть бассейна Амазонки представляла собой сплошное «белое пятно». Или, точнее, зеленое. Если смотреть на него с высоты птичьего полета. Поэтому никто из горстки смельчаков не знал до конца, что их поджидает в ближайшее время.
Они уверенно двигались вперед, рассекая острыми палашами-мачете лианы, когда внезапно у самых ног появился глубокий каньон неизвестной реки.
– Так, – сказал Сэм, – если это то, что я думаю, то мы уже близки к цели нашего путешествия.
– Сэмми, – раздраженно заметил Вадим, – я хочу напомнить, что то же самое ты говорил, когда нашел тот камень, который ты таскаешь за своей спиной в рюкзаке вот уже сколько дней. Или погоди! Не дней, а недель!!!
– Но мы же нашли дорогу инков, – попытался урезонить его Уильямс.
– Но я хочу напомнить, – Вадим удачно спародировал интонацию профессора, – что дорога оборвалась и никуда нас не привела. Брусчатка закончилась, Сэмми. Это была недостроенная дорога.
– Да, это так. Но в случае с рекой… Друзья! – обратился Сэм ко всей экспедиции. – Я читал об этом в библиотеке Лимы. Рассказывал я вам или нет?
Его друзья отрицательно покачали головами, и профессор объяснил.
– В одном из местных племен проводили довольно странную инициацию юношей. Они самостоятельно отправлялись на восток по руслу очень быстрой реки и возвращались домой через несколько месяцев. Причем, обязательно с золотым обручем на голове.
– Ну и что? – устало высказал удивление один из носильщиков.
– Как «что»? Да то, что назад, в расположение племени, они возвращались вниз по течению совсем другой реки. А значит, в той точке, где сходились эти две реки, и находится «золотой город».
– Но при чем же эта речка? Здесь таких десятки, если не сотни!
Сэм торжествующе взглянул на своих спутников.
– Смотрите!
Он отрубил мачете кусок коры от ствола и бросил его вниз. Когда щепка долетела до воды, та подхватила ее и понесла прочь.
– Заметили?!
Спутники Сэма пожали плечами. Вода уносит древесину – что же тут необычного?
– Слишком сильное течение? – попробовала догадаться Кирсти.
– Да… наверное, и это. Но вы не видите главного. В каком направлении несется кора? – снова спрашивал Сэм.
Вадим попробовал свериться с картой:
– GPS подсказывает, что на запад.
– Правильно! – воскликнул Сэм. – Наконец-то!
Чему он возрадовался, никто из его товарищей поначалу не понял, пока профессор не разъяснил, что все реки (ну, или подавляющее большинство рек) здесь текут на восток, чтобы попасть в Амазонку. А эта течет в другом направлении. Что полностью совпадает с версией о «другой реке, текущей на запад», по которой юноши отправлялись на коронацию золотом.
Догадка осенила Вадима так же, как до этого она осенила и Сэма.
– То есть нам стоит попробовать идти против течения этой реки, – сказал украинец, – и мы…
– …попадем в Пайтити! – закончил за него ученый.
Им показалось, что до цели их путешествия рукой подать. Но их, как затаившийся хищник, поджидала беда. Край каньона показался путникам достаточно твердым, чтобы вдоль него двигаться на восток, но природа их обманула.
Через несколько часов путешествия, не дожидаясь темноты, они решили разбить лагерь. Впереди, несмотря на собиравшиеся сумерки, они разглядели, что русло реки завалено скалами странной формы. Пока растягивали палатки и расчищали для них площадки, Кирсти задумчиво глядела на реку. И в конце концов сказала:
– Это не скалы…
– Что? – не расслышал Вадим. – Какие скалы?
– Я говорю, это не скалы. Это сделано руками людей.
Две странные конструкции посреди реки действительно напоминали что-то рукотворное. «Но что?» – пытался догадаться Вадим. Какая-то мысль крутилась в его голове. Нечто очень знакомое. Два огромных валуна посреди реки. Примерно на одинаковом расстоянии один от другого и от берега. Они поросли мхом и травой, но даже так было ясно, что плоские верхушки двух камней расположены вровень друг с другом и, одновременно, на одном уровне с противоположными краями каньона, на дне которого текла река.
И он вспомнил. Похожую картину он видел в родном Киеве. Овальные серые опоры моста через Днепр, взорванного, по легенде, отступавшими советскими войсками. Моста давно не было, но любого коренного киевлянина спроси, и он показал бы, где находилась уничтоженная конструкция: ведь над днепровской водой мрачно возвышались серые, поросшие кустарником «быки» – опоры. Их хорошо видели те, кто проезжал на поезде через Днепр по железнодорожному мосту. Да и с моста Патона их тоже было неплохо видно.
Эти валуны когда-то тоже были опорами моста. Те, кто его строил, позаботились о его прочности, но время перехитрило строителей. А теперь очередь искателей сокровищ Пайтити перехитрить время. И они стали думать над тем, как перебраться на противоположную сторону реки.
Это им не удалось. Вернее, не всем. Вадим услышал двойной крик. Вскрикнули два носильщика, причем одновременно. Каждый из них схватился за шею, а потом они, извиваясь в конвульсиях, повалились на землю.
– Берегись! – крикнул Сэм, пригибаясь. – Индейцы!
Он подполз к одному из носильщиков и вытянул у него из шеи острый и длинный шип с капелькой крови на конце.
– Они выплевывают их через трубки! – понял Вадим, закрывая собой Кирсти.
– И эти иголки отравлены! – предупредил третий носильщик. Это последнее, что он успел сказать товарищам, потому что тут же повалился наземь рядом с первыми двумя. Те уже лежали совсем неподвижно.
– Бежим! – вскочила Кирсти и потянула за собой Вадима. – Они никого не пощадят.
Ей вслед полетели две иголки. Но цели они так и не достигли, вонзившись в кору дерева, оказавшегося у них на дороге. Стрелки´ ничем не обнаружили свое присутствие. Откуда летели ядовитые иголки, можно было только догадываться. Но на это не хватало времени. Их оставалось четверо. Они побежали прямо к «быкам», надеясь перебраться на тот берег.
Четвертый носильщик, потомок местных пастухов, разматывал на ходу веревку, висевшую у него на плече. «Дайте мне хотя бы один куст на опоре, – думал он, – и я заброшу на него аркан!» Идея была не очень продуктивной. Во-первых, кустов на «быке» не было. А во-вторых, веревка оказалась короткой для таких целей. К носильщику подбежали Вадим, Кирсти и Сэм. Они были обречены.
И тут край каньона, на котором они стояли, не выдержал и обрушился.
Пока Вадим летел вниз, к реке, он дважды на мгновение терял сознание и дважды приходил в себя. Второй раз обрести контроль над собой помогла холодная вода, в которую он со страшным всплеском рухнул.
Когда вынырнул на поверхность, стал грести к противоположному берегу. Это у него плохо выходило. Река сносила его мощным течением. «На запад!» – Вадим слегка улыбнулся, странно и неподходяще для такого момента – самому себе. Перед лицом его бурлила вода. Из-за белой пены он не мог разглядеть друзей, но понял, что они живы, когда через несколько минут болтанки в гигантском джакузи заметил, что сверху свисает неплохо сплетенная веревка.
Вадим схватился за нее. Удержался. Затем подтянулся. Пока полз по вертикали, старался не думать о Кирсти, о том, как помочь ей. Выбиваясь из сил, лез вверх, царапая когтями свой канат. Последние сантиметры преодолевал на пределе возможностей. Кричал от изнеможения, пока не увидел край обрыва на расстоянии вытянутой руки. Но у него уже не было сил – ни разжать канат, ни дотянуться до края. И тут он увидел руку с широкой раскрытой пятерней. Вадим сделал невероятное усилие, чтобы сунуть в растопыренную ладонь свою руку. И когда пальцы сомкнулись на его запястье, он понял – его тянут наверх. Но чужая рука была темно-коричневого цвета и вся в странных наколках, извивавшихся по шероховатой коже орнаментом из обезьян, крокодилов и змей. Ни у одного из товарищей он не припоминал таких знаков. «Кто эти люди?»
– Где Кирсти? – крикнул Вадим, как только его вытянули из каньона, и он почувствовал под ногами твердую землю. И тут же потерял сознание от боли. Словно на голову ему обрушился камень с Дороги Инков, который повсюду таскал за собой американский профессор.
Dieciséis. El Arte de Enmascaramiento
Разделив добычу между собой, рядовые конкистадоры думали, что война закончилась и что нужно подумать о возвращении домой. Но дон Франсиско объявил, что настало время позаботиться о более важных вещах, чем богатство:
– Перед нами, братья, стоит великая задача распространения законов и норм нашей просвещенной страны в этом диком краю. Поэтому я повелеваю, – нет! не так – прошу всех вас оставаться в состоянии повышенной боеготовности для отражения возможных атак, для совершения контратак и перехода в наступление. Но нашим арьергардом будет человек без оружия. Монах Висенте Вальверде, которого я отправляю нести слово и закон в дальние пределы и дебри этой страны. Собственно, я это уже сделал, и брат Висенте уже в дороге.
Конкистадоры удивились столь изысканному слогу, с помощью которого командор доносил свои мысли. Никогда раньше он еще не говорил так красиво. А священники зароптали. Как это так? Писарро, конечно, был лидером конкисты, но принимать решение, не испросив благословения святых отцов, – это было не слишком почтительно. Впрочем, возмущение в стане черных клобуков продолжалось недолго. Брат Висенте всегда держался обособленно и ни с кем из остальных братьев не заводил приятельских отношений. Соответственно, никто из святых отцов и не стремился к дружбе с ним. К тому же всем было известно, что он отказался от своей части добычи, а это звучало как вызов всей католической церкви. Тем самым Висенте упрекал остальных священников в алчности и сребролюбии, а значит, хорошо, что такой желчный человек будет далеко от лагеря испанских солдат. Но высказать свое возмущение было необходимо, все больше для порядка. Чтобы этот выскочка и неуч Писарро впредь не задирал нос и не думал, что он здесь один распоряжается подданными испанской короны.
– А куда он держит путь, командор? – спросил одноглазый де Альмагро.
У дона Писарро уже был заранее приготовлен ответ.
– Брат Висенте отправится в Куско, столицу Атауальпы. Он должен провести переговоры с тамошними грандами. И я надеюсь, они будут успешными. Такими же успешными, как те, что он провел здесь, в Кахамарке.
Все рассмеялись этой последней фразе командора. Каждый из воинов хорошо помнил, что именно разговор Висенте с туземным императором усыпил бдительность Атауальпы и одновременно дал повод к внезапной атаке на дикарей.
А в это время человек в монашеской одежде шел вперед, на юго-восток, через горы. Он был один, без сопровождения. И это говорило о его смелости либо глупости. В стране шла война, и далеко не везде испанцы чувствовали себя хозяевами или долгожданными, зваными гостями. В горах монашеская одежда могла вызвать раздражение. Но, видно, чужаком этот человек себя не чувствовал. На его ногах были надеты сандалии, сшитые из кожи ламы и утепленные шерстью, а легкая походка говорила о том, что он не испытывает сорочи – разновидности горной болезни, которую, поднявшись столь высоко, обычно испытывают люди Солнца в блестящих шлемах. У тех в горах болит голова, наступает тошнота, появляется раздражение, от которого они сходят с ума и вместо ответа на вопрос более выносливых товарищей, что же случилось, размахивают мечами и яростно брызжут вонючей слюной. А этот человек слюной вовсе не брызгал и мечом не размахивал. При нем, правда, был набор острых бронзовых ножей, который скорее походил на хирургические инструменты, чем на вооружение. Но все равно ясно было, что пешеход умеет и любит сражаться. Возможно, потому, что он напевал песню о бравом герое древности, полководце Ольянтае, а ее мелодия напоминала военный марш:
«Весь народ тобой гордится, Правишь андской ты страною, И короной поделиться Инка сам готов с тобою!»[2]Заснеженные вершины, как бравые воины на параде, встречали солнце. Оно поднималось вверх – «тяжелый огненный шар, дарующий жизнь и забирающий ее. Небольшое озеро, мимо которого шагал путник, блестело, как расплавленный металл, а стадо лам у кромки воды, заслышав песню путника, как по команде, повернуло головы в его сторону. Эхо многократно усилило и без того громкие звуки песни. Они тоже казались здесь своими, придающими завершающий штрих совершенной картине горного рассвета. Путник пел на кечуа, местном языке.
За день, пропев всю историю великого генерала до конца, пешком он преодолел расстояние, на которое у испанских всадников уходило двое суток. Путника гостеприимно встретили в малонаселенной деревне, зажатой между двумя остроконечными скалами. Ему постелили в пустой опочивальне с глиняными стенами, но он не стал ложиться, а сел рядом с двумя мужчинами в простой одежде, гревшимися у костра перед хибарой. Они долго беседовали, время от времени доставая горячие клубни картофеля из широкого листа, свернутого в зеленый мешок, над которым поднимался сизый парок. Запивали еду кисловатым напитком из листьев коки. Усталость постепенно отступала. Вместо нее появилась ясность мысли. И понимание, что делать дальше.
Человек в монашеской одежде вытащил из-под плаща руку и сделал на ней надрез бронзовым ножом с орнаментом из хищных птиц. Из раны потекла кровь. Он подставил под нее деревянный стакан с питьем, и красные капли щупальцами расползлись по всей поверхности мате из коки. Потом человек в черном плаще протянул нож и чашу соседу слева. Тот, слегка помешкав, проделал то же самое со своей рукой, что и гость. Затем чаша перекочевала к третьему собеседнику. Когда мате стало не только красным, но и густым от крови, люди у костра по очереди сделали несколько глотков из чаши. Первый, ясное дело, достался гостю. Он отхлебнул полный глоток жидкости и передал чашу гостеприимным хозяевам. От напитка исходил тяжелый запах свежей крови, от которого мутнеет в глазах, и старые зарубцевавшиеся шрамы начинают напоминать о себе тупой фантомной болью. Зато на вкус кровяной чай был одновременно и сладковатым, и соленым, его хотелось пить вновь и вновь, и те, с кем ты его пил, превращались из случайных спутников в самых главных людей на твоем пути. Вот почему все трое обнялись и, сомкнувшись головами, выкрикнули боевой лозунг северных полков имперской армии.
А наутро, когда человек в одежде монаха, пряча перевязанную руку под плащом, покинул селение, вслед двинулись и те, кто накануне делил с ним место у костра. Они вышли из деревни не вместе с монахом, а чуть погодя и, как видно, не собирались сокращать расстояние между собой и вечерним гостем. Примерно через полдня пути они увидели, что каменная дорога, ведущая на юго-восток, пересекается с более узкой тропинкой. Не сговариваясь и не прощаясь, один из пешеходов свернул налево, по направлению к великому океану, лежавшему за хребтами гор. Другой быстро повернулся к товарищу спиной и зашагал строго на восток. Стоит ли говорить, что у каждого из путников был одинаковый набор ножей со странным орнаментом из миниатюрных обезьян, змей и других животных, похожих на зубастых крокодилов?
Вечерняя трапеза с кровопусканием повторилась еще дважды. Один раз, когда первый из путников спустился с прохладного хребта в теплую сельву и был встречен в селении, где люди вместо домов жили под навесами, растянутыми на четырех опорах, и носили только обмотанные вокруг чресел широкие повязки. Другое чаепитие состояло в старой хижине с дырявой крышей на краю великого плоскогорья, до которого сумел дойти второй путник. Оба они переночевали в пунктах назначения, чтобы вслед за ними шли новые и новые гонцы. Это был сигнал к сбору, но непосвященный никогда бы не сумел понять, что за призыв несут в себе молчаливые люди.
На четвертые сутки после того, как разошлись в разные стороны жители одного поселения, количество разбавивших коку собственной кровью было шестнадцать, и всякий раз, когда наступал новый вечер, оно удваивалось. Пившие свою кровь разбегались в разные стороны, искали только им одним известные тропы, находили проходы в скалах и прятали бронзовые лезвия в перевязанных руках. И внезапно, когда число посвященных в таинственный ритуал перевалило за сотню, они перестали искать новые поселки. Возможно, для достижения неизвестной цели было достаточно сотни мобилизованных. И если бы их поймали и стали пытать – хоть сторонники Великого Инки, а хотя бы и сами испанцы, – обладатели острых ножей не проронили бы ни слова. Они не собирались врать. Этого не позволял кодекс чести. Они собирались молчать. Ведь для хорошей маскировки охотнику достаточно просто молчать, чтобы подманить свою дичь. Молчавшие были лучшими из охотников.
Каждый из этих тихих индейцев знал, чтó за дичь ему надо поймать. У каждого в арсенале была тысяча уловок, как это сделать. Но для начала нужно было разузнать как можно подробнее, где следует искать добычу, которая все еще уверена, что никто не идет по ее горячим следам.
Через месяц, когда сеть шпионов охватила всю центральную часть империи, человек в черном плаще снова встретился с людьми, которые пили его кровь в самую первую ночь большой охоты. Они снова сидели возле костра, у подножия холодных гор на Юге. И они не были столь гостеприимными, как селения в центре империи.
– Что ты знаешь, Змей? – спросил старшего лазутчика загадочный индеец в испанском плаще.
– Знаю немного пока. Два человека, мужчина и женщина. И, возможно, третий. Он воин. Он очень мало знает, но многое умеет. Поэтому довольно опасен. Но эти двое еще более опасны. Они обладают знанием. У них есть цель.
– Цель. Я хочу больше узнать о цели, – сказал человек в одежде монаха.
– Я не знаю точно, – с сомнением произнес его собеседник. – Думаю, это то, что мы ищем.
– Хорошо. А что принес мне ты? – обратился человек к другому лазутчику.
Тот улыбнулся.
– Я не знаю, кто эта женщина. Но я узнал имя мужчины.
– Назови мне его.
– Чинча. Его имя Чинча.
– Хорошее имя. Главное, редкое. Так называется целая провинция империи.
Лазутчик согласился:
– Да, там у них всех так называют. Чтобы долго не думать.
– Кто этот Чинча?
– Архитектор. Строил храмы в новом городе на востоке.
Монах, говоривший на кечуа, задумался:
– «Восток»… «строил город»… А скажи мне, если он архитектор, то почему свое смешное имя он не поменял на более благородное?
– Возможно, он собирался. Может быть, именно для этого вызывал его в Кориканчу ее главный служитель, Верховный жрец Солнца.
– Вильяк Ума? – оживился человек, все время задававший вопросы.
– Да. Этот Чинча сумел сделать нечто замечательное в одном из храмов. Он сложил из квадратных камней полукруглый свод…
– Вот как? Интересно. Продолжай.
– …а в этом своде ловко проделал отверстие, через которое в помещение попадал солнечный свет, причем, совершенно необычным образом.
Рассказывая об этом, лазутчик делал паузы. Он хотел, чтобы каждое его слово воспринималось с ожиданием и восхищением. Но человек в плаще прекрасно понимал, что именно чувствует его агент. И поэтому терпеливо ждал, не давая тщеславию лазутчика вырасти до непомерных размеров. И дождался.
– Когда наступает особый день в году, солнечный свет, проходя через отверстие в куполе, проливался внутрь помещения, как золотой дождь. Любому, кто становился в луч света, казалось, что поток небесного золота выливается прямо на него.
Человек в плаще хитро улыбнулся:
– А где находится этот храм?
– Теперь уже нигде.
– То есть как?
Лазутчик вздохнул и пожал плечами.
– Говорят, что люди чанка разрушили его. Им в этом помогали люди Солнца.
Объяснение выглядело странным, поскольку индейцев чанка давным-давно уничтожили войска императора. И человек в плаще не преминул это заметить. Но лазутчик уточнил:
– Я же не сказал, что это сделали люди чанка. Я сказал «говорят, что это сделали люди чанка». Я рассказал то, о чем узнал. Во всяком случае, храм золотого дождя разрушен. Это известно достоверно.
– Это все, что вам удалось узнать?! – разозлился вдруг человек в монашеском одеянии. – Целый месяц сотни лучших гонцов часка шатались по империи, чтобы рассказать мне то, что я и так мог узнать, не покидая пределы Кахамарки?!
Он вдруг стал похож на людей Солнца. Это только они, потеряв терпение и давая волю ярости, могли утратить на мгновение человеческое обличье и предстать в истинном виде – в подобии дикого зверя. Ярость делала человека страшным для окружающих и, в то же время, она открывала его никчемность и ничтожество. Но человеку в плаще нельзя было терять лицо, и он вовремя взял себя в руки: его гнев напугал собеседников, в то время как бессилие ярости еще успело дать им повод к внутренней насмешке над начальником.
Лазутчик, которого назвали Змеем, дождался, пока его начальник успокоится. Потом сказал:
– Я, кажется, знаю, как зовут второго мужчину. Опасного. Судя по тому, как он дрался с нашим кипукамайоком и его охраной, он солдат. Или дезертир. Они говорили, что дрался он, «как ягуар». И это была цитата.
– Дрался, как оторонко, – задумчивым эхом прозвучал голос человека в плаще. – Значит, ищем ягуара.
– А ягуар ищет добычу.
К беседе этих троих присоединился и четвертый. Эту короткую фразу произнес именно он, сев рядом с костром. На человеке была надета простая холщовая накидка крестьянина. Но крестьянином, судя по выговору, он не был. Да уж так ли это важно? В эти дни все перемешалось в Тавантинсуйу, а привычный порядок вещей сменился хаосом и обманом.
– Никогда не убегай от ягуара, я всегда это говорил. Побеждает тот, кто идет за ним по каплям крови, стекающим с его клыков, пока он несет добычу в пасти.
– Ты всегда отличался поэтичностью, Кооча!
Тот, кого назвали Кооча, вальяжно расположился рядом с лазутчиками. Он и сам был из их породы, незаметный человек-тень, знавший много, а говоривший мало. Впрочем, сейчас избыток знания сделал его болтливым. Имя «Кооча» означало «Горное озеро», и по характеру новый гость очень напоминал воду, иногда спокойную и ровную, а иногда журчащую бурным нескончаемым потоком тщеславного сознания, вырвавшегося из плена заведенного порядка.
– Говори! – приказал тот, кто заставил лазутчиков рыскать по империи в поисках информации.
Спокойное озеро превратилось в говорливый ручей:
– Вы помните, повелитель, что любого кипукамайока за утерянное сообщение ожидает смертная казнь. И несмотря на то, что люди Солнца утвердили у нас свои правила, старые законы продолжали действовать. Я нашел единственного кипукамайока, которого суд оправдал даже после потери очень важного послания.
– Что это за послание?
– Об этом позже. Сначала о том, что случилось. Кипукамайока сопровождал испанец на коне и группа наших солдат. Внезапно они наткнулись на дезертира. Никто не должен был знать о дружбе некоторых наших важных особ с испанцами. Дезертир – это лишние глаза. Значит, он должен был умереть. Но человек не хотел умирать и решил принять бой с посланцами. И знаете, что было самым удивительным? Он победил. В одиночку победил десяток человек. И выхватил напоследок кипу с посланием из рук секретного гонца. Дезертира звали Оторонко. Ягуар.
– Откуда это известно?
– Среди солдат был его брат. Вот как причудливо складываются обстоятельства. Брата, конечно, пришлось отправить к предкам. Но перед тем у него выпытали имя нападавшего. Его звали Оторонко.
– Оторонко… – задумался начальник шпионов. – Он мало знает, но многое умеет. Итак, у нас есть два имени – Чинча и Оторонко. И есть два человека – умный простак и простоватый воин.
– И вот что, мой повелитель, – добавил Кооча, – я знаю, что было в послании. Но скажу это я только вам.
Услыхав эти слова, Змей и еще один лазутчик встали и отошли от костра в плотную, теплую и липкую, как маисовая каша, темноту. Когда они вернулись, человек в монашеском плаще объявил:
– Мы ищем любые следы, которые оставили Чинча и Оторонко. Эти следы приведут нас к главной цели. Я разрешаю использовать любые методы дознания. Но если носитель информации откажется поделиться своим знанием… то, как предписывают наши правила и традиции, вы должны сделать так, чтобы его плоть стала вашей.
Трое лазутчиков поклонились. Они ожидали, что их повелитель произнесет нечто в этом роде. Но то, что они услышали потом, прозвучало вполне неожиданно:
– Если мы не найдем в этой жизни ни этих людей, ни их следов, то поиски должны продолжить наши потомки. Или потомки наших потомков. Только так мы дадим шанс империи возродиться. И не важно, какое имя примет ее следующий император. Слишком высокую цену имеет цель наших поисков.
Когда настало утро, хозяин хижины, в которую попросились на ночлег странные путники, обнаружил лишь теплые угли. Это было все, что осталось от ночного костра.
Diecisiete. El fuego y la cúpula
Окльо не знала, да и не могла знать, что такое карта. Но, тем не менее, она безошибочно вела двух мужчин на запад. Постоянно сверяя узелковые знаки с тем, что было написано на золотой апикайкипу, она заставляла свой маленький отряд идти вперед. Мужчины, у которых нет цели, часто бывают слабее женщин, если у тех есть цель. Окльо видела, что ее спутники теряют силы, и тогда она поднимала им дух уговорами, а когда спокойные слова не помогали, прибегала к помощи своего гипнотического голоса – то есть брала их криком. Кроме того, она научилась манипулировать любовью. Когда она пускала в дело свои женские чары, Чинча, начинавший было роптать от усталости, переходил на ее сторону, и тогда Оторонко оставался в меньшинстве.
От воина зависело многое. Он был главным добытчиком пищи для отряда. О воде он тоже сумел позаботиться, сшив из кожи ламы объемистый курдюк, который удобно висел на его плече во время передвижения.
В глубине души он считал Чинчу бесполезным балластом. Горы сменились джунглями. Архитектор не умел охотиться в лесу, да и определить месторасположение группы он тоже не мог. Особой физической силой не отличался и не мог взять на себя столько провианта, сколько нес Оторонко. Апикайкипу, которым архитектор размахивал в первый день их знакомства, теперь всецело был в распоряжении Окльо, так что без лишних разговоров стало ясно, кто же среди них главный.
Но Окльо зачем-то берегла своего мужчину днем, разделяя с ним ложе ночью. Оторонко ее боялся и, поскольку других женщин рядом не наблюдалось, испытывал желание обладать ею. Окльо не замечала этого. Ее любовь была средством, а не целью. А цель – найти Пайкикин – подчинила все ее естество.
– Найти и защитить! – повторяла она про себя, и ритм этой фразы заставлял ее ноги шагать в нужном направлении.
– Вот так всегда бывает в жизни, – ворчал вполголоса Чинча, – думает голова, а устают ноги.
Усталость часто казалась нечеловеческой. Незнакомые леса грозили неизвестными напастями на каждом шагу. Он уставал с этой женщиной днем, но отдыхал с ней ночью. А у его товарища, Оторонко, не было даже такой возможности. Он сам не знал, чего хотел.
Деревья закрывали от него свет солнца. Крики обезьян и прочей лесной живности раздражали отсутствием смысла. Вода в ручьях, бежавших в сторону Великой Реки, пахла водорослями. Негостеприимные западные леса не жаловали гостей. Однажды утром Окльо сказала:
– Сегодня нужно, чтобы ты, Чинча, выкопал уатья – земляную печь. А ты, Оторонко, принеси побольше добычи.
На привале, не дожидаясь темноты, Чинча принялся за строительство печи. Казалось бы, оно не требовало особого умения: копай себе яму да обкладывай ее камнями и вулканической пемзой. Но на деле строительство уатья требовало знаний особого рода. В центре ямы нужно сложить круг из камней, в центре которого развести костер. Вокруг очага уложить завернутое в листья мясо, кувшины с размоченным маисом, бобы и перец. А потом воздвигнуть над ямой каменную пирамиду или купол. Когда огонь разгорится и раскалит докрасна валуны, купол нужно обрушить так, чтобы яма заполнилась камнями. Через несколько часов после этого, когда камни, наконец, остывают, из уатья можно доставать пропитавшиеся ароматом листьев яства. И начинается трапеза. Пока Чинча строил уатья, его женщина старалась обойтись без лишних советов. Мужчина, занятый своим делом, не любит, когда его поучают.
Оторонко вернулся из леса с богатой добычей. У Окльо в кожаных походных сумках было припасено много маиса и перца. Все это завернули в листья и уложили в печь. Ужин обещал превратиться в настоящий пир.
Чинча приложил все свое умение, чтобы построить над уатья высокий купол. Камни настолько искусно прилегали один к одному, что невольно напоминали кладку крепостных стен в Куско. Местами изнутри конструкции через щели пробивался красноватый свет, исходивший от очага. Архитектор слегка прикрыл глаза, и ему показалось, что вокруг каждого из камней сияет ореол огня. И это сияние образует золотую сеть, наброшенную на купол.
– Жалко ломать, правда? – сказал Оторонко, завороженно глядя на печь. Он словно прочитал мысли своего товарища.
– Жалко, но придется, – промолвил архитектор.
И тут же решил задать солдату вопрос:
– Как ты думаешь, по какому камню нужно ударить, чтобы купол точно обрушился вниз?
Оторонко задумался. Он был сообразительный малый, и архитектор это знал со времен их первой встречи.
– Конечно, по тому, который удерживается слабее других…
– И какой же это камень?
– Тот, вокруг которого больше огня! Это значит, что щели между ним и соседними больше, – попробовал догадаться бывший воин.
– Тогда ударь по нему, – предложил архитектор.
Оторонко некоторое время бродил вокруг уатья, разглядывая камни. Затем ухмыльнулся и, размахнувшись деревянной дубиной, которую держал в руке, нанес удар по раскаленному камню. Валун провалился внутрь, выпустив наружу целый столп огня. Оторонко быстро отскочил в сторону, опасаясь, что пламя будет еще больше, когда рухнет вся конструкция. Но купол устоял на месте.
– Посмотри, друг, – сказал Чинча. – Знание и логика не всегда идут по одной дороге.
Он медленно обошел вокруг купола, взял из рук Оторонко тяжелую палку и показал на камень, плотно зажатый другими со всех сторон, да так, что сквозь щели почти не пробивался свет от костра. Камень этот находился очень близко от вершины купола. Чинча ткнул в него палкой, не очень сильно, но достаточно резко, и вся конструкция начала обваливаться вниз. Но не сразу, а постепенно. Сначала осыпался свод купола, потом его основание. Как только горячая зола поднималась вверх, ее тут же накрывала следующая порция камней, и, таким образом, костер становился безопасным для стоявших рядом людей. Осталось дождаться, пока камни остынут.
Окльо внимательно наблюдала за Чинчей, пока тот строил, а затем разрушал купол над очагом. Она что-то хотела сказать, но внезапно передумала. Оторонко показалось, что она пробормотала что-то вроде: «Не время».
– Что ты сказала? – спросил охотник.
– Что сказала? Сказала, что пришло время, – улыбнулась девушка. – Время ужинать.
Трапеза была обильной и сытной. Чинча и Оторонко запихивали в себя куски мяса и заливали их сверху потоками густой похлебки из бобов. Еда перед сном – это заслуженная награда за тяжелый день. И только Окльо едва прикоснулась к трапезе, съев немного маиса и запив его чистой водой из ручья.
– Почему ты не ешь? Все это надо съесть! – с набитым ртом сказал Чинча.
– Не хочется. Я лучше сложу это в сумки. Да ты не бойся, еда не пропадет, нам это еще в дороге пригодится. Ложитесь-ка лучше спать, я послежу за костром.
Ранним утром, когда мужчины встали, все уже было собрано. Оторонко и Чинче оставалось только взвалить на плечи кусок ткани, служивший им тентом, – он был свернут в тяжелый рулон. А сумки с едой несла Окльо. Она постоянно сверялась с узелками на веревочной связке и часто останавливалась, рассматривая знаки на золотой булаве «апикайкипу». Она говорила себе: «Правильной дорогой идем». И мужчины послушно несли свой нелегкий груз вслед за ней.
Вскоре дорогу им преградила река. Неширокий, но мощный поток лентой извивался между деревьев. Коричневая от ила вода, пенясь, текла туда, куда хотела, по дороге вымывая почву из-под мощных корней. Вековые деревья пытались зацепиться за дно. Их корни напоминали щупальца осьминога, схватившего добычу. Но в действительности добычей были они сами. И река недвусмысленно напоминала об этом, унося рухнувшие стволы в сторону восходящего солнца.
– Что будем делать? – уточнил Оторонко. – Идти вдоль реки или перебираться на тот берег?
– Ни то ни другое, – ответила девушка. – Остаемся здесь. Будем ждать.
«Чего ждать? – подумал про себя Чинча. – Или кого?» А вслух сказал:
– И сколько придется ждать?
– Не знаю, – ответила красавица. – Может, день. Может, месяц. У тех, кто придет за нами, нет понятия времени.
– Кто они?! – Оторонко инстинктивно оглянулся и принял боевую стойку.
– Сами увидите. – сказала Окльо. – Да не бойтесь вы. Оружие вам не понадобится. По крайней мере, сейчас.
Они снова разбили лагерь. Первым делом развели огонь, чтобы распугать комаров. Здесь, у реки, было невероятное количество москитов, и к тому же злых и голодных. И даже несмотря на костер, путники постоянно хлопали себя по разным частям тела, не давая комарам возможности попробовать их свежей крови. Чинча предложил было перебраться в другое место, но Окльо категорически возражала:
– Те, кого мы ждем, появятся именно здесь. Мы не должны пропустить их, они не должны пройти мимо нас. Так что остаемся здесь.
Ждали несколько недель. Оторонко сначала делал зарубки на дереве, считая дни. Но потом ему это надоело, он как бы случайно пропустил один день, другой, а потом и вовсе забросил это занятие.
Примерно через месяц, когда люди привыкли и к влажности, и к жужжанию комаров, и даже к красным волдырям после укусов, пришли те, кого они ждали.
Сначала стоявшие лагерем путники услышали отрывистый крик, заставивший дрожать листья в одном ритме. Это была команда для остальных – идти нога в ногу, не сбиваться. Потом они появились из-за деревьев. Это были люди леса. Цветом кожи и очертаниями лиц они напоминали Чинчу и его друзей. В остальном же выглядели настоящими дикарями. Кроме набедренных повязок из листьев, на них не было никакой одежды.
– Э-о! Э-о! Э-о! – командовал тот, кто был впереди остальных. И они передвигали свои босые ноги в такт восклицаниям вожака.
За собой, на длинной привязи, они тянули деревянный плот. Это было нелегко, поскольку тянуть приходилось против течения. Лесные люди никуда не торопились. Они поравнялись с лагерем беглецов и, не обращая на них внимания, двинулись дальше по низкому противоположному берегу.
– Чинча и Оторонко, – серьезно сказало Окльо, – вы должны быть очень внимательными, особенно сейчас.
– Что надо делать, госпожа? – покорно спросили мужчины. Госпожой эту женщину они назвали невольно, подчинившись спокойной и уверенной интонации ее голоса.
– Эти люди подтянут плот вверх по реке, затем запрыгнут на него и пройдут мимо нас. В тот момент, когда плот с нами поравняется еще раз, мы должны будем запрыгнуть на него. Ясно?
– Ясно, Окльо.
– И запомните, река бурная, а у нас есть только одна попытка.
– Давайте станем вдоль берега на расстоянии друг от друга, – предложил Оторонко. – Первым прыгну я, потом девушка, а последним Чинча.
Предложение выглядело вполне разумным. Все согласились, и на губах у солдата мелькнула тень недоброй улыбки.
Они заняли свои позиции и принялись ждать. Прошло полдня, прежде чем деревянный плот снова появился возле лагеря. На этот раз он резво бежал по течению, а лесные люди управляли им с помощью длинных шестов, ловко маневрируя между валунами, возле которых бурлили водовороты.
– Внимание! – скомандовал Оторонко.
Все приготовились.
Когда плот подошел к тому месту, где стоял Оторонко, воин прыгнул вниз и легко, как хищная кошка, приземлился на деревянную палубу. Плот качнулся. Полуголый экипаж помог Оторонко стать на ноги.
– Прыгай! – крикнул он девушке.
Окльо так же легко соскочила вниз, но силы толчка не хватило, и она оказалась в реке. Оторонко быстро протянул ей руку. Она схватилась за нее, и воин легким движением вытащил ее из воды на плот.
Теперь настала очередь Чинчи. Плот набирал скорость, и архитектор сообразил, что до него ему не допрыгнуть. На раздумья не было времени. Чинча разбежался и сиганул с берега как можно дальше. Он упал в воду рядом с плотом и даже успел схватиться за дерево. Но край был скользкий, и рука соскочила.
– Дай мне руку! – крикнул он солдату. Тот схватил крепкой пятерней ладонь архитектора. Их пальцы судорожно сцепились. Они посмотрели друг другу в глаза. И Чинча в зрачках своего спутника увидел злые огоньки.
Первое европейское изображение инков в «Хронике Перу», автор Педро Сьеса де Леон, 1553 год
Это была ревность. Оторонко представил себе, что без этого никчемного архитектора он сможет заявить свои права на эту прекрасную женщину, красивую, как настоящая Дева Солнца, умную, как великие жрецы, выносливую, как легендарный полководец Ольянтай. Он никогда не говорил вслух о том, что хотел обладать ею, но чем дольше эта троица бродила по джунглям, тем больше внутри воина разгоралось пламя страсти. Мужчины смотрели друг на друга всего мгновение. И в это мгновение между ними сверкнула молния противостояния двух самцов из-за самки. Древнего, а потому и жестокого. Спустя мгновение Оторонко разжал руку.
Чинча вскрикнул и попытался удержаться рядом с плотом, но пловцом он был средним, и сил бороться с течением не хватало. Его относило в сторону. Расстояние между архитектором и плотом увеличивалось. Окльо вскрикнула и со злости ударила Оторонко кулаком в плечо. И что-то моментально переключилось в сознании воина. Он выхватил у стоявшего рядом кормчего длинный шест и протянул его человеку в воде. Чинча моментально схватился за него и вмиг оказался на плоту рядом с Оторонко.
– Ты что, хотел убить меня? – спросил он, отдышавшись.
– Ага, – ехидно осклабился солдат. Он сидел на плоту, обхватив руками колени.
– За что? – удивился строитель.
– Если бы знал, за что, точно бы убил тебя. А так я тебя спас, – засмеялся Оторонко. Он чувствовал досаду и хотел это неприятное чувство спрятать за грубой шуткой. Воин попробовал представить, как бы он делил ложе с Окльо, убив архитектора. И не смог. В глубине души Оторонко ругал себя последними словами: «Никогда, никогда больше я не захочу отобрать женщину у ближнего своего!»
Неизвестно, догадался ли Чинча, о чем думает его товарищ, или же оставался в неведении о внутренних переживаниях солдата, но он открыто и по-доброму улыбнулся в ответ. И протянул раскрытую ладонь. Оторонко хлопнул по ней своей крепкой рукой, а потом крепко обнял Чинчу за плечи.
Им предстоял еще долгий путь. Лесные люди деловито управляли плотом и не вступали в разговоры с пассажирами. На борту своего утлого суденышка они словно жили в другом измерении. Иногда они приставали к берегу, чтобы поохотиться с помощью двухметровых духовых трубок. Эти трубки плевались отравленными иглами, а туземцы настолько метко умели из них стрелять, что всякий раз возвращались с добычей. Мясом диких животных они щедро делились с пассажирами. Но во время трапезы лесные люди не произносили ни слова, и, как ни пытались архитектор и солдат их вызвать на разговор, лесные моряки не нарушили обет молчания.
Окльо старалась не выпускать из руки апикайкипу. Она большую часть времени стояла посреди плота и крепко держала ее в ладонях. Металл был тяжелым. Чем крепче она сжимала золотую булаву, тем рельефнее становились бугорки вен у нее под нежной кожей.
Засыпáли тут же, на плоту, редко сходя на берег. Забывались долгим сном, когда темнота сменяла сумерки, царившие в непроглядном лесу из-за того, что солнце плохо проникало сквозь спутавшиеся кроны деревьев. Когда спали молчаливые лесные люди, было загадкой. Казалось, бессонница может доконать любого. Чинча заметил, как днем люди леса на краткое время забываются в дреме. А ночью он, как ни старался, не мог застать их спящими. Плыли они по наитию: на носу плота был установлен глиняный горшок, в котором на ночь разводили огонь. Это был единственный источник света, который помогал навигаторам плыть в кромешной темноте.
Однажды на рассвете предводитель людей леса издал громкий гортанный звук. Через мгновение откуда-то с берега послышался похожий клич. Стало ясно, что плот в этих краях ждали. Путешествие подходило к концу.
Лес по обеим сторонам от реки напоминал две сплошные зеленые стены. Но вот с одной стороны стена закончилась, и странники заметили нечто вроде деревянной пристани. Плот направлялся именно к ней. Пока причал приближался, на нем стали появляться люди. На них были такие же зеленые юбки, сплетенные из листьев, а в руках они держали длинные, в человеческий рост, духовые трубки. Это было племя лесных людей. Моряки на плоту невозмутимо смотрели на соплеменников, словно в возвращении домой после долгих странствий не было ничего необычного.
Но пока плот швартовался, Чинча рассмотрел за спинами дикарей нечто такое, что его весьма и весьма удивило.
– Посмотри, Окльо, – воскликнул он, – за ними стоят наши воины!
И действительно, за толпой в набедренных повязках стояли крепкие люди в парадном снаряжении воинов императорской армии. У многих были часка-чуки, похожие на булаву в руках Окльо. Но ее это нисколько не удивило.
Она грациозно поднялась на причал. Дикари расступились, и девушка шагнула навстречу воинам.
– Приветствуем тебя, госпожа! – сказал пожилой солдат, который, видно, командовал остальными. – И ждем твоих распоряжений.
Их глаза самым магическим образом были прикованы к ней, а точнее, к апикайкипу в ее руках. Она взмахнула булавой и дала сигнал двум своим спутникам сойти на берег.
– Где это? – спросила она.
– Идем с нами! – сказал старый воин. – Я покажу тебе.
Он словно не замечал двух мужчин, что шли вслед за девушкой.
– Долго нам идти?
– Нет, моя госпожа, это рядом.
Старый воин шел первым. За ним торопилась Окльо. Десяток имперских солдат выстроились в цепочку. А замыкали ее Чинча и Оторонко. Дикари в юбках из листьев остались на берегу возле деревянной пристани. Вскоре процессия достигла невысокого холма и поднялась на него.
– Смотри, моя госпожа. Вот это.
Но в приглашении солдатского начальника никто уже не нуждался. Окльо ахнула. Оторонко присвистнул. А Чинча завороженно глядел на землю у холма. Он уже видел нечто подобное.
Золотые деревья. Мощные стволы и нежные листья. Это напоминало золотой сад в Кориканче, который показывал ему Вильяк Ума. Тогда искусно сделанные из желтого металла деревья удивили его. Но сейчас он чувствовал, что теряет дар речи. Это был не сад. Это был целый лес, изготовленный из красноватого золота. И он казался огромным. Он был гораздо больше выкупа Атауальпы, и переплавленные в слитки обломки золотого сада из Кориканчи могли показаться жалкими кустами по сравнению с этим лесом. Чинче стало страшно. Он представил себе, сколько сил было потрачено на то, чтобы сделать этот золотой лес. И сколько жизней загублено, чтобы перенести его сюда. Но самое ужасное открытие его сознание совершило, когда он понял, что его любимая, его Окльо, знала, что ждет их в смертельно опасных восточных джунглях. Он был частью ее плана! Она неслучайно нашла и спасла его тогда, в ночном Куско… Она очаровала его, потому что ей нужно было поработить его сознание… Она вела его за собой, а этого дезертира, Оторонко, держала, так сказать, «про запас», на тот случай, если с Чинчей что-то непредвиденное случится…
Он схватил девушку за плечи и хорошенько тряхнул:
– Я нужен тебе! Ты все подстроила! Зачем, зачем я тебе нужен?
Он повторял это, разрывая криком плотный воздух. Окльо болталась в его руках, как вяленая рыба на веревке перед домом рыбака. Она дождалась, пока Чинча успокоится. А он, излив свое слепое негодование, уселся на траву под золотыми деревьями.
– Ты прав! Ты мне нужен. Во-первых, чтобы построить надежное хранилище для этого золота.
Так она сказала. А еще рассказала, что золотой лес здесь начали собирать еще во времена Великого Пачакути. Он вел себя так, словно не верил в предсказание о людях Солнца. Но это только на людях. А втайне от своего народа начал свозить несметные сокровища туда, куда ни один из его современников не мог попасть.
– Но все поменялось, – произнесла Окльо. – Мы пришли сюда. Значит, могут прийти и остальные.
– Чего ты от меня хочешь?! – крикнул Чинча.
– Не «хочешь», а «должен»! Ты должен выстроить надежное хранилище для золотого леса. Оно должно быть надежно спрятано от взоров тех, для кого оно не предназначено. Но в то же время путь к нему должен легко открываться перед теми, кто им владеет. Ни опознавательных знаков, ни дорог, ни дверей – вот главное условие. Но при этом должен быть ключ. И я его держу в руках.
Окльо подняла вверх булаву из золота.
– Вот как? – проворчал Чинча. – Двери нет, но зато есть ключ!
– Это то, что ты должен стране! И то, что я должна. Но вот и то, что я хочу. Я хочу любить тебя, и мне все равно, где я буду любить тебя.
И тут Чинча снова заключил ее в объятия. На этот раз очень нежно. Он плакал от счастья, а девушка, ловя губами его слезы, шептала:
– И еще мы должны построить город. Это будет новая столица империи.
Он улыбнулся.
– Ты, верно, шутишь, любимая? Всей нашей с тобой жизни на это не хватит.
– Хватит, – успокоила она. – У нас есть целая вечность впереди. И тысяча пар крепких солдатских рук.
Оторонко, услышав это, обхватил голову руками.
Восемнадцать. Пункт назначения
«Почему здесь коричневый цвет берет верх над остальными? Почему голубой свет, пробиваясь сквозь листья, окрашивает их в коричневые тона? Почему вода, в которую падает увядшая листва, тоже становится коричневой?»
Это он написал в своем дневнике за несколько дней до того, как оказался в быстрой реке, прорезавшей глубокий каньон в джунглях. А теперь он мог бы к написанному тексту добавить еще кое-что: люди здесь тоже коричневые.
Густые листья над ним мелькали однообразной мозаикой, лишь иногда позволяя увидеть редкие клочки бесцветного неба. Носилки, на которых его несли, были сплетены из прочных и гибких веток; на них был равномерно уложен слой вялой травы.
«Прямо-таки уложен чьей-то заботливой рукой», – он усмехнулся про себя, вспомнив заезженный литературный штамп, которым изобилуют дешевые романы. «Жизнь вообще похожа на дешевую литературу!» Кто это сказал? Кажется, Норман Вентура… Нет, не он, а семинарист-каннибал, о котором рассказывал профессор. О, Норман, если бы ты знал, насколько прав был этот парень из городской легенды, которую ты рассказал! Но ты об этом, вероятно, никогда не узнаешь.
Мысли Вадима качались маятником в такт покачиваниям носилок. Стучали в голове вместе с учащенным пульсом, норовившим прорвать кожу на висках.
Он посмотрел по сторонам. Несколько пар коричневых рук несли его носилки. Свирепые лица с раскосыми глазами и широкими ртами время от времени смотрели на него, но по их выражению трудно было понять, собираются ли они его спасти или же считают своей добычей. От того, каков его статус, зависит его дальнейшая судьба. Но какой бы она ни была, Вадим собирался оставаться ее хозяином. Он попытался соскочить с носилок. Это у него плохо получилось. Едва Вадим поднял голову, как она у него настолько сильно закружилась, что он снова провалился в глубокий сон без сновидений.
А когда очнулся и снова обнаружил себя лежащим на носилках, то не стал предпринимать столь резких попыток оставить свое передвижное ложе.
Сначала он посмотрел по сторонам. Людей, к которым Вадим попал в руки – и это было именно так, буквально, ведь они несли его с собой! – он насчитал около двух десятков. «Большой отряд дикарей», – так назвал он про себя эту группу. То, что это были именно дикари, Вадим решил по отсутствию привычной одежды. Взамен нее на людях были надеты юбки из плетеных листьев. А за спинами, на веревках, сплетенных из лиан, болтались длинные, почти двухметровые, трубки.
Он попал в плен, и, чем бы это пленение ни было вызвано – желанием его спасти или, наоборот, уничтожить, – его свобода была потеряна. Вадим осторожно оглянулся вокруг в поисках своих друзей и не увидел никого. Ни носильщиков-перуанцев, ни американского профессора, ни своей возлюбленной Кирсти-Кристины. Это означало, что, возможно, эта группа дикарей не единственная, и остальные сопровождают других пленников.
Вадим решил дождаться, пока его кортеж устанет, и тогда попытаться сбежать. Но лесные люди, сколько ни шли, все не выказывали никаких признаков усталости. Они не останавливались ни для отправления естественной нужды, ни для того, чтобы поесть или напиться воды. Лишь ближе к вечеру они внезапно поставили носилки с Вадимом на землю и обустроили привал.
Трубки на плетеных веревках оказались страшным оружием. Дикари заряжали их отравленными иголками и выплевывали острые и опасные жала на несколько десятков шагов. С помощью духовых трубок они быстро раздобыли нехитрую дичь и принялись разводить костер.
Разожгли они его древним способом: в одну деревяшку с круглым отверстием вставили другую и принялись ее вращать. Когда она задымилась от трения, к ней поднесли кусочки сухой коричневой субстанции – видимо, навоз. Он вспыхнул, и его бросили в костер, сложенный из веток. На нем и приготовили ужин. Мясо делили поровну. Первый кусок достался Вадиму, и это был хороший знак. «Значит, меня уважают», – подумал украинец.
Но уважение имело свои границы. Поев, он попытался сбежать с поляны, на которой расположилась группа. Поднявшись в полный рост, Вадим быстро шагнул в сторону стены деревьев. И, как только он ускорил шаг, то тут же рухнул, как подкошенный. Ноги ему спутала веревка, на концах которой были закреплены два круглых камешка. Этот снаряд был ловко послан вслед Вадиму коричневой рукой одного из охотников.
Его снова усадили возле костра. Ни ярости, ни сарказма по поводу неудачной попытки побега лесные люди не высказали. Словно ожидали, что уважаемый гость пренебрежительно отнесется к их гостеприимству и попытается сбежать. Ему снова, как ни в чем не бывало, предложили кусок жареного мяса. И он не стал отказываться.
«Где остальные? – думал он. – Где Кирсти?»
Никто не ответил ему на этот вопрос. Ни равнодушный лес, ни его дикие обитатели.
Они шли день и ночь. И еще один день. А наутро после второй ночевки в компании дикарей Вадиму позволили самому передвигаться по тропе. Правда, как только он делал попытку сбежать, его тут же возвращали назад.
Когда Вадим зашагал в составе группы, носилки свернули. Он рассмотрел, что две перекладины, к которым были привязаны ветки, имеют еще одно предназначение. А когда люди из леса согнули перекладины и туго повязали на них очень прочные веревки, гонщик понял, что это два лука. У одного из индейцев кроме духовой трубки были еще и стрелы, на что раньше Вадим не обратил внимания.
С помощью этих луков охотникам удавалось добыть куда больше мяса, чем отстреливая дичь шипами из трубок. Когда добычу делили, Вадим обратил внимание на то, что, нарезая мясо, распорядитель трапезы – всякий раз это был новый индеец, – не считал куски, а раскладывал кучки таким образом, чтобы в каждой было примерно поровну еды. «Похоже, эти ребята не умеют считать», – подумал Вадим и сказал себе, что выяснит, так это или нет, чуть позже.
Он несколько раз пытался заговорить со своими конвоирами на испанском. Но те не знали языка Кортеса и Писарро. Между собой они говорили на языке, изобилующем гласными звуками и глухими, на резком выдохе, согласными.
Как-то на привале Вадим попытался ткнуть себя в грудь. Он сказал:
– Я Вадим. А ты?
И он указал на грудь самого пожилого охотника. Тот пожал плечами, мол, ничего не понял.
Это лингвистическое упражнение украинец повторил несколько раз, но не добился ни малейшего результата. Тогда он решил сменить тактику и попробовал найти путь к сердцу дикарей через арифметику. Он сорвал с ближайшего дерева несколько незнакомых плодов и стал по одному складывать в кучу:
– Оди-ин! – говорил он, перекладывая фрукты. – Ды-ва-а! Три-ии!
Индейцы с любопытством поглядели на бывшего раллийного пилота, но ничего не сказали.
Тогда Вадим повторил действия, комментируя их на испанском:
– Uno, dos, tres!
Снова никакой реакции.
Вадим начинал злиться и произносить слова, которые не найдешь ни в одном толковом словаре мира. Тогда пожилой индеец присел и сделал из кучи фруктов две. Одну маленькую, другую большую. А затем произнес два слова. Первое явно относилось к небольшой куче, другое, как видно, обозначало большую. Решив после этого, что он сказал все, лесной человек встал, вытащил трубку и занялся ею. Она, похоже, интересовала его больше, чем говорящий чужестранец.
«Что случилось с моими друзьями?» – стучал в мозгу вопрос.
Больные вопросы тем и опасны, что требуют ответа на них. Оставаясь без ответа, они понуждают к действию. Вадим не мог дождаться ответа хотя бы по той причине, что не говорил на языке аборигенов. А они, в свою очередь, вообще не желали говорить. И тогда, после одного из привалов, изъеденный изнутри до обнаженных нервов мыслью об исчезнувших друзьях, Вадим набросился на того, кого считал старшим в этой группе дикарей. Он приложил все свое умение и силу, чтобы в него не попала та самая веревка с грузилами, ловко спутавшая ему ноги во время первой попытки побега. Поэтому, чтобы исключить саму возможность использования против него столь опасного оружия, он держался как можно ближе к предводителю, пытаясь нанести ему один за другим удары в лицо. Кулак Вадима ловко достал коричневую челюсть, но всего лишь раз. Абориген успевал уходить от ударов, и украинец рассекал лишь воздух у его лица.
Противник, оказалось, имеет в арсенале и средства активной защиты. Охотник искусно применял лук, правда, не только для стрельбы: он размахивал им, как дубиной, и наносил чувствительные удары Вадиму то слева, то справа. Один из таких боковых ударов свалил его наземь.
Поверженный украинец кричал на весь лес, но помощи ждать было неоткуда. Лесные люди набросились на него и связали веревками с ног до головы. А на голову положили огромный зеленый лист и сделали несколько оборотов веревкой. Можно было дышать носом и ртом, можно было даже вращать головой. Но невозможно было рассмотреть, куда несут аборигены Вадима. Его бросили на что-то деревянное и узкое. Оно качалось из стороны в сторону, поднималось вверх и опускалось вниз. По шелесту волн Вадим догадался, что лежит в лодке, а под ним течет сильная и бурная река. И к тому же, судя по тому, сколько они плыли, очень широкая.
«Они что, собираются выбросить меня за борт?!»
Вскоре он услышал шорох песка. Лодка уткнулась носом в берег. Его вынесли на руках, затем поставили на ноги. Пока две пары рук его удерживали, еще несколько принялись разматывать веревки. Наконец, упали веревки на запястьях и лиственная повязка с глаз.
И тут Вадим увидел, что шестеро его надсмотрщиков истово гребут в сторону противоположного берега. Они бросили его на сыром белом песке и теперь гребут прочь! Вадим побежал за ними.
– Стойте! – кричал он. – Стойте, твари! Куда вы?!!!
Но люди леса на борту лодки не отвечали и даже не обращали на него внимания. Вадим хотел было поплыть за ними, но, взглянув на поверхность реки, передумал. Недалеко от берега плавали темно-зеленые бревна. Их было несколько штук. Бревна, вопреки течению, самостоятельно меняли направление движения. Плавали, как хотели. «Крокодилы», – страшная догадка заставила его судорожно вздрогнуть.
– Бросаете меня одного, да?!!! Бросаете на этом острове?!!! Ну ничего! Я припомню вам это!
Почему он, так вдруг, решил, что это необитаемый остров? Да потому, что за нападение на вождя – или кем он у них был? – его должны были наказать: то ли сбросить в бурные воды, то ли убить другим, еще более изощренным способом.
Люди леса даже не смотрели в ту сторону, откуда доносились крики.
«И где они лодку взяли?» – этот вопрос грозил остаться риторическим.
Вадим долго смотрел вслед аборигенам. Потом зачерпнул воду в реке широкой ладонью. Умыл лицо, собираясь подумать над способами выживания. Развернулся спиной к реке. И тут увидел нечто.
Страх – это универсальный рецептор опасности. Если человек не чувствует страха, то он просто сумасшедший, а на сумасшедших, как известно, не стоит полагаться, особенно когда нужно выполнить опасную работу. Трус – это человек, который всецело подчиняется страху и впадает в оцепенение, теряя способность действовать. Настоящая смелость находится где-то посередине между трусостью и сумасшествием. Страх позволяет заметить опасность, воля помогает контролировать страх, а разум продолжает спокойно работать и подсказывает человеку, что нужно делать.
При виде крокодилов Вадим понял, что догонять аборигенов не нужно. Но увидев то, что было за его спиной, он на время потерял способность действовать. Это был не страх, а другое чувство. Он умел выходить из зоны комфорта. После всего того, что Вадим пережил в каменистой пустыне и в Пуэрто-Мальдонадо, ему казалось, что он легко сможет выйти из зоны здравого смысла. И это оказалось несравнимо сложнее. Он остолбенел. С тех пор, как Вадим познакомился с профессором Сэмом, он хотел увидеть то, на что сейчас глядели его глаза. Но когда этот момент настал, эмоции взяли верх над разумом. И он оцепенел.
Перед ним была мощенная крупным булыжником широкая дорога. Через щели между камнями пробивалась высокая желтоватая трава. Когда-то дорога одним концом подходила к самому берегу, но время помогло речному песку занести первые ряды камней. А на другом конце виднелись каменные ворота. Их увивали лесные лианы. Они бахромой свисали с квадратных колонн. Растения прикрывали верхнюю половину арок. Впрочем, они были достаточно высокими, и лианы не могли помешать путнику пройти под ними.
Арок было три, точно так, как было написано в старинном манускрипте, который ученые считали литературной фальсификацией.
Он видел это.
Он стоял перед воротами в город Пайтити.
Который инки называли Пайкикин.
Который конкистадоры называли Эльдорадо.
Который так ярко живописали бандейранты.
Из которого так и не вернулся Перси Фосетт и еще сотни людей…
Вадим потерялся во времени. Он не знал, сколько минут, а может быть, часов, он простоял перед воротами в Пайтити. И понял, что снова обрел способность говорить и действовать только тогда, когда его взгляд начал искать надпись «Welcome», написанную длинноногими паучками чужих букв.
Но надпись, даже если бандейранты ее правдиво описали, было не разглядеть под густым сплетением коричневых веток. И Вадим зашагал по каменной дороге в город.
Он прошел через центральную арку ворот и попробовал дотянуться до лиан, свисавших сверху клочьями великанской бороды. За воротами дорога сужалась. Слева и справа вдоль каменной брусчатки тянулись серые стены. Вадим оценил их высоту. Они поднимались метра на три, не меньше. Об этом бандейранты, кажется, ничего не рассказывали. Вадим медленно шел вдоль стен, поглаживая рукой стыки между каменными блоками. Несмотря на то что камни были уложены без видимого порядка, они были так искусно подогнаны один к другому, что между ними не прошло бы и лезвие ножа. Такую кладку Вадим видел в Куско. Первые этажи домов в центральной части древней столицы инков были построены до прихода испанцев. А конкистадоры использовали старую инкскую кладку, достраивая верхние ярусы зданий.
Галерея каменных стен вела прямо, в конце она расширялась и превращалась в круглую площадь. Вокруг нее стояли невысокие здания с крепкой кладкой, почти без окон, но с большим количеством дверей. К высоким дверным проемам вели короткие, не больше пяти ступеней, лестницы из красного камня. Дома разделяли проемы одинакового размера. Некоторые из них переходили в улицы, вдоль которых тоже стояли здания. Улицы были выложены крупными шероховатыми камнями. Тротуаров не было, мостовая подходила прямо к строениям. Везде царили серо-коричневые оттенки, лишь только красные ступени перед домами слегка выделялись на общем темном фоне.
«Это правда, – твердил про себя Вадим. – Это правда. Я до конца не верил в Пайтити. Но вот я здесь».
Все вокруг было одновременно и так и не так, как описывали Пайтити португальские бандейранты. Город производил впечатление опустошенного, но почему жители оставили его, сказать было трудно.
Вадим постоял некоторое время на круглой площади, а затем решился войти в один из домов. Красные ступеньки на входе зашуршали. Что-то странное показалось Вадиму в этом звуке.
Он зашел в дом. Сумрак не давал возможности оценить размер внутреннего пространства.
– Есть тут кто-нибудь? – крикнул Вадим.
Темнота лишь отозвалась гулким эхом.
Спустя несколько минут, или около того – без часов Вадиму трудно было оценить время – он рассмотрел пустое помещение, в котором не было ничего: ни мебели, ни украшений, ни даже следов пребывания животных. А ведь зверье любит заселять брошенные города. На стенах лежал слой пыли. На полу ее с течением времени накопилось так много, что она напоминала засохшую грязь. Из глубины большой комнаты, как на фотобумаге, погруженной в проявитель, проступил угол лестницы. Переступая через холмы грязи, Вадим добрался до лестницы. Она вела наверх, на второй этаж. Гонщик решил подняться по ней.
Это был самый верхний этаж сооружения. Выше не было ничего, даже крыши. Поэтому здесь было светло. В остальном почти все на втором этаже было так же, как и на первом. Ни мебели, ни украшений. Вадим принялся разглядывать пол в поисках следов пребывания человека. Если здесь жили, то хотя бы что-нибудь должно было остаться от обитателей города. Следы ног. Остатки еды или одежды. Надписи на стенах, наконец. «Здесь был Уска», «Окльо – дура!» «ДМБ-1533» или что-то в этом роде. Ничего подобного Вадим не нашел.
Он вышел из этого дома и зашел в следующий. Его глазам предстала похожая картина. Двухэтажные дома. На первом этаже запыленная, загрязненная пустота, отвечающая лишь эхом из полумрака. На втором – много света и отсутствие крыши.
«Она, пожалуй, была остроконечной, если судить по конькам на здании», – решил путник. И только на одну деталь не обратил он внимания: нигде – ни рядом со строениями, ни внутри них, на полу – не было видно никаких обломков кровли. Но разве это важно?
После третьего здания Вадим решил прекратить бесцельное обследование. Одно помещение было похоже на другое. Найти что-либо ценное или важное не удалось. И нужно было решить, что делать дальше. А размышлять, подумал он, лучше на свежем воздухе, чем в полумраке пустых комнат.
На улице Вадим вдохнул полную грудь воздуха, выдохнул и стал искать центр города. Он справедливо рассудил, что в центре должны быть какие-то важные сооружения – ратуша, храм, дворец правителя, наконец, или что-то в этом роде. Только там можно выяснить, что это за город, и почему его оставили жители. Но как найти центр? И Вадим решил прибегнуть к одному способу, который он однажды придумал. Этот способ мог показаться довольно странным, но его он всегда выручал. Вадим абстрагировался от конкретных объектов и пытался представить себя точкой на экране GPS, на котором видна карта незнакомого города. Его сознание словно поднималось вверх, над городом, и он каким-то третьим чувством, необъяснимым с точки зрения здравого смысла, мог видеть паутину чужих улиц и себя на этой карте местности. А значит, мог понять, куда ехать. Или, в данном случае, идти.
И он пошел, свернув в один из промежутков между домами.
Это было начало неширокой улицы. Вдоль нее выстроились двух– и трехэтажные дома, мало чем отличающиеся от тех, которые он видел на круглой площади. Все та же неровная кладка грубых стен. И темные проемы узких дверей.
Вадим словно видел себя в двух измерениях. Вот он идет по пустой улице. А вот он видит сверху весь город на жидкокристаллической карте. И движение яркой пульсирующей точки: себя самого. Умение видеть мир по-другому снова помогло.
Улица, начинавшаяся от площади, заканчивалась опять же площадью. Эта, правда, была не круглая, а скорее шестиугольная. Или, пожалуй, овальная. Углы строений, образовавших ее, были закруглены. В центре площади стоял монумент. Человек в странном головном уборе, напоминавшем одновременно и корону, и венок из листьев, держал в правой руке булаву-макану, а левой указывал на здание за своей спиной. Пожалуй, именно этот памятник был описан бандейрантами в докладной записке управляющему колониями. Но, видно, португальцы в совершенстве владели искусством литературной обработки докладов. В «Манускрипте 512» был изображен прекрасный юноша, напоминавший изящные творения древнегреческих скульпторов. А здесь, на постаменте в затерянном городе, стоял мужчина средних лет. Его квадратную фигуру можно было бы назвать сильной и мужественной, но никак не изящной. А его лицо с кривым носом и тяжелой челюстью было вытесано из камня довольно грубо, явно без намерения придать хоть частичку красоты чертам его лица. Но, в конце концов, бандейранты бродили десять лет по лесам. Им можно простить художественный вымысел. Тем более, что в главном они оказались правы. Он в городе. Но сюда он добрался один. Без друзей и без любимой женщины. Дорога заканчивается здесь. Нет, не дорога, а всего лишь улица.
Вадим решил отвлечься от хмурых мыслей и двинулся по направлению к большой постройке, на которую указывала раскрытая ладонь монумента. Это было высокое здание, в несколько раз выше двухэтажных домов вокруг овальной площади.
Если стоять у самого памятника, то можно было рассмотреть купол над зданием, словно каменный колпак, водруженный на голову мрачного великана. У здания было три входа, три двери: центральная примерно на треть возвышалась над боковыми. К ним вела широкая каменная лестница. «Храм, – подумал Вадим. – Кажется, это то, что я искал». И он заторопился внутрь, перескакивая через ступеньки. Внутрь он попал через центральный вход. Заходя туда, отметил про себя, что стены были необычайной толщины, но сложены довольно грубо, словно внешний вид и отделка не особенно интересовали архитектора этого странного творения.
Мрак внутри большого помещения кажется гуще. Заходя в черную комнату и не зная заранее ничего о ее размерах, путник шестым чувством определяет, велика она или мала. Сознание заполняет пустое пространство страхом. Чем больше места, тем больше страх.
Вадим был не робкого десятка. Но от неизвестности, притаившейся в темноте, по коже пробежали мурашки. Пробежали и – убежали! Вадим вдохнул полную грудь воздуха и смело шагнул вперед.
– Есть здесь кто-нибудь? – спросил он темноту.
– Кто-нибудь… – ответила темнота.
– Так мне заходить можно? – задал он снова вопрос.
– …можно… – разрешила темнота.
Он медленно продвигался вперед, ощупывая пустоту руками, когда вдруг услышал знакомый звук.
Его ни с чем не спутать.
Кудахтанье на низких оборотах, затем кряхтение, а потом треск.
Это был двигатель. Причем, не дизель, а бензиновый. И это точно был генератор.
Потому что, через мгновение темнота вспыхнула ярким светом, а в ушах зазвенел хорошо знакомый низковатый голос:
– Не споткнись о кабель, Бадын!
Dieciocho. La llave perdida
Лазутчики напали внезапно, тихо и незаметно. Как они узнали, где находится Пайкикин, никто из строителей города не мог догадаться. «Впрочем, – вспоминал потом Оторонко, – тот старый кипукамайок в лесу, похоже, нес зашифрованное местоположение города, так что о тайнике они знали еще до того, как его построили».
Собственно, тайник начали строить только с момента прибытия Чинчи. Это он своим гениальным разумом смог охватить масштабы строительства, которое пришлось вести кучке людей в лесу заповедном. Годы, прошли долгие годы, пока тайник был готов. И это было исполинское сооружение, в которое вместился золотой лес и многое другое из тех сокровищ, которыми обладала Тавантинсуйу до прихода испанцев. Поистине уплаченное им в качестве выкупа Атауальпы золото было лишь песчинкой по сравнению с горой богатства, спрятанного здесь.
Правда, в лесу оно было бесполезным. Его закрывали до лучших времен. До того часа, когда империя снова восстанет из пепла. Когда придет это время, никто не знал. Возможно, через сто лет. А возможно, и через тысячу. Новая столица будет ждать своих жителей с нетерпением. И для нового царя будет уготовано место в новом храме с куполом. А купол этот искусно сделан так, чтобы только царь мог разгадать, как он построен. Но раз придется долго ждать, вход в хранилище нужно надежно закрыть, да так, чтобы открыть его мог только тот, кто обладает особым знанием.
Чинча долго ломал голову, как это сделать. И этот гений грубого камня добился своего.
Очень сложно было догадаться, где находится дверь в хранилище. И гораздо сложнее ее открыть. Без ключа это сделать невозможно.
Чинча думал, что самую большую опасность представляют люди Солнца. Они обладают тем уровнем знания, который им помог преодолеть восточный океан, подчинить себе огромную империю и наверняка поможет дойти до этого места. И поэтому решил спрятать ключ там, где его меньше всего будут искать. Единственный, кто смог бы выполнить эту благородную задачу, был Оторонко, человек-ягуар. В свободное от строительства время Чинча с наслаждением и любопытством наблюдал, как Оторонко давал уроки воинского искусства остальным солдатам, отправленным в леса Великой Реки охранять сокровища.
Он дрался так, словно танцевал. Он садился вприсядку и легко, как пружина, вскакивал. И в ногах его тоже были спрятаны пружины, распрямлявшиеся страшными точными ударами прямо в грудь или в плечо его учеников.
Он, вращаясь на месте, столь искусно выстраивал свои подсечки, что никто из соперников не мог удержаться на ногах. А его ноги, то левая, то правая, то потом снова левая, выписывали петли, и попав в эти петли, противник ложился на землю, как стреноженное животное.
А если кто-нибудь хотел схватить человека-ягуара в охапку, Оторонко уходил от захвата, вращаясь на руках и ногах вверх-вниз, как колесо водяной мельницы.
Он больше не хотел вспоминать о том, что намеревался оставить архитектора в быстрой реке и забрать его женщину, Окльо. Но когда вопреки желанию вспоминал, ему становилось очень стыдно. И стыд этот усиливался, когда он глядел на свою женщину, из местного племени. Он ее не любил. Он с ней мало говорил. Но она платила ему верностью. Преданность Оторонко ценил и уважал.
Он так и не разобрался, почему люди леса решили прислуживать солдатам императора. У них было мало общего. Язык их, чудной и примитивный, выучить было невозможно. У них не было понятия времени. Все, о чем они говорили, происходило здесь и сейчас. Ни вчера, ни завтра для них не существовало. Они не умели считать. Все, что добывали охотой, делили поровну между собой. Они, правда, знали число «один». Но все, что было больше единицы, называли словом «несколько», если предметов было меньше четырех. Или говорили «много» – когда того, что они хотели измерить, было больше четырех. Ну о чем с такими людьми можно говорить?
Но простые воины не мастера разговаривать. Они завели здесь себе жен, построили плетеные круглые хижины на противоположном берегу реки и воспитывали, как могли и умели, детишек, так не любивших учить язык отцов.
Детвору еле удалось спрятать в лес, когда «невидимые» напали на Пайкикин. Случилось это через семь лет после того, как архитектор придумал свой тайник. Он стал чем-то вроде временного вождя для странной общины в джунглях. И несмотря на то что распорядился воздвигнуть памятник императору на центральной площади пустого города, его помощники из числа солдат постарались придать фигуре черты сходства с самим главным строителем.
О том, что в империи существует целая каста лазутчиков, Чинче рассказала Окльо. Они подчинялись только Инке. Нигде в официальных записях о них не упоминалось, чтобы не нарушить закон «не лги, не ленись, не воруй»: ведь «молчать» не значит «обманывать» – такой способ не нарушать закон придумал еще Пачакути. Теперь эти люди остались без хозяина и почему-то ищут то место, где находится тайник. Они бесстрашны, бессердечны и упорны. Чинча с удивлением выслушал историю про касту «невидимых» и сначала не поверил рассказанному, а точнее, высказал сомнение, что Окльо правильно поняла все то, что иносказательно пытался ей пересказать отец.
– Знаешь, как скрепляют преданность хозяину и друг другу «невидимые»? – в ответ произнесла она. – Едят поверженных врагов. А впрочем, я тебе об этом уже рассказывала.
Историю о лазутчиках он выслушал один раз. Потом второй. И, согласившись с Окльо, решил спрятать ключ. Довести до конца это сложное дело мог только один из них – Оторонко, человек-ягуар.
Нужно было спрятать ключ там, где ни один испанец, или любой другой заокеанский человек Солнца, его не найдет. Придумать такое место, где им и в голову не придет искать реликвию Тавантинсуйу. А искать они будут здесь, пока у них и тех, кто придет вслед за ними, хватит сил. Значит, ключ нужно спрятать там, откуда они пришли. И Оторонко должен попасть туда.
Прощаясь с ним, Чинча повторил ему то, что когда-то услышал от Вильяк Умы, великого служителя Кориканчи. Почти слово в слово. Но он ничего не сказал о его способностях, которые, честно говоря, и помогли выбрать Оторонко на роль спасителя города Пайкикин.
И тут архитектора осенила догадка. Он понял, что именно открытие им точки Солнца и было причиной того, что он оказался здесь и построил Пайкикин. Случайные, рассыпанные, как зерна из прохудившегося мешка, события его жизни оказались узелками, крепко связанными один с другим линией его судьбы. Ничего не происходит из ничего. Одно следует за другим. Прошлое, минуя настоящее, течет в будущее. Он сам вошел в эту реку много лет назад, он выбрал для себя эту судьбу и теперь передает ее своему верному другу, смелому Оторонко. Более смелому, чем он.
Архитектор и солдат обнялись у тройных ворот, у подножия которых еще можно было разглядеть обломки больших валунов и мелкие осколки – весь тот строительный мусор, который лень убирать строителям после завершения грандиозной стройки. Но они уберут. Здесь, в Пайкикин, лень была вне закона. Так есть и так всегда будет. Чинча взглянул наверх. Над воротами виднелась вырубленная в камне надпись: «Возвращайся, здесь ждут тебя». Он улыбнулся. Как, однако, правильно он поступил, что открыл солдатам тайну письменных знаков. Как правильно он сделал, что послушался Окльо. Она, помнится, сказала: «Не нужно прятать даже самое малое знание от людей. Не знающие многого не ведают, где проходит грань между добром и злом». Он выучил письмена и заставил своих солдат их выучить. И тогда стало заметно, что их жизнь в лесу приобрела новый смысл. Он был уверен, что теперь они построят новую страну, красивую, могучую, счастливую. Если только их не найдут «невидимые». Или как там их называет Окльо?
– Прочти еще раз то, что написано на воротах, – сказал это, когда он заметил в глазах у друга влажный блеск. – Здесь тебя будут ждать.
– Хорошо, – улыбнулся человек-ягуар. Обычно он редко улыбался. А сейчас улыбнулся. Видно, понимал, что его дорога – это путь в один конец.
Чинча тоже это понимал.
– Мы обязательно встретимся, друг. В этом мире или в другом. В прошлом или в будущем. Не знаю как, но я это чувствую.
Оторонко едва не заплакал. Время, испытания и невзгоды, кажется, не смогли превратить в камень его сердце.
– Ну, иди, – сказал архитектор. – Плот ожидает тебя.
Оторонко спустился по каменной дороге вниз к реке. На деревянном плоту стояли двое лесных людей, в зеленых юбках из листьев и с огромными веслами в руках. Если на то была нужда, веслами можно было отталкиваться от дна, чтобы соскочить с песчаной мели. За спинами у коричневых моряков болтались невероятно длинные духовые трубки.
«Если Оторонко обернется, – подумал внезапно строитель, – мы увидимся в этой жизни».
Человек-ягуар встал на плот. Плоскодонное суденышко отчалило от пристани и направилось к противоположной стороне реки. Оторонко смотрел на берег перед собой. Не оборачиваясь.
«Не в этой», – усмехнулся Чинча.
А через несколько дней пришли «невидимые». Река не остановила их. Но как они через нее перебрались, было неясно. Солдаты на воротах внимательно наблюдали за бурной поверхностью реки, но так и не заметили ничего, что давало понять о том, что грядет сражение. Да и сражением тихую бойню назвать было нельзя. Двое солдат на воротах без единого крика упали на камни, окропив их кровью из страшных ран на горле. Затем своими кривыми бронзовыми ножами лазутчики перебили вторую линию охраны на входе в дом, предназначенный для архитектора. Но дом стоял пустой. И только когда «невидимые» в тихой ярости вышли оттуда, их заметили солдаты. Они бросились на них, размахивая пращами. Солдаты так и не поняли, что лазутчики были лучше организованы, вооружены и обучены. Схватка была короткой и беспощадной. Солдаты сначала почувствовали острую боль, как от укуса ядовитых насекомых. А потом, парализованные, рухнули наземь. Дыхание покидало воинов Великого Инки. Лазутчики, как и люди леса, умели обращаться с духовыми трубками.
Быстро очистив город от солдат, «невидимые» легко сообразили, что здесь искать нечего. Город был незаселенной новостройкой. И тут же бросились рыскать по окрестным зарослям в поисках деревни строителей. Они нашли ее еще до того, как солнце заглянуло за горизонт.
Небольшие плетеные домишки тоже стояли пустыми. Но в них были следы жизни. То там то сям теплые угли в очаге, остатки обеда, посуда, одежда.
Людей тоже нашли. В центре этого одинокого поселка расчистили место для большого костра. Сложили его из стен сломанных домов. Сколотили из дерева помост, на котором стоял высокий человек в длинной белой накидке. В каждой его руке блестел бронзовый нож с орнаментами из хищных зверей, вцепившихся друг в друга.
Теперь «невидимых» можно было рассмотреть. Обычные люди. Разного роста. Не богатырского сложения. По их лицам невозможно было понять, радуются ли они победе в этой короткой войне. Или же ждут чего-то еще.
Один из них отделился от толпы соратников и зашел в хижину, где, связанный, сидел Чинча.
– Ничего не говоришь, – сказал он полувопросительно.
Архитектор молчал. Он смотрел на вошедшего. Пытался вспомнить, где он видел этого человека. Понял, что человек ему незнаком. Но осталось чувство того, что однажды он уже ощущал присутствие незнакомца.
Человек постоял напротив архитектора, а потом подошел к нему вплотную. Деловито ощупал лицо. «Эх, мне бы развязать веревки!» – Чинча захотел вцепиться в незнакомца зубами, когда тот своими жесткими, как ствол дерева, пальцами оттянул чуть вниз его веки.
Он все-таки вспомнил! Пленник «невидимых» прикрыл глаза. Он не мог сказать себе так, как обычно говорят люди, освежая неверную память: «Где-то я его видел». Он вспомнил царапающее касание жестких пальцев. Это было с ним однажды, в столице увядающей империи. Слепые стены домов, серая холодная ночь и звездное небо, обещавшее спасенную жизнь. Звезды, казалось, последний раз глядели в его глаза, переполненные острой болью. Эти руки хотели лишить Чинчу зрения.
– Ты не хочешь говорить, – сказал «невидимый». – Ты не хочешь спасти империю.
И тут Чинча заговорил:
– Я ее уже спас. А вы разрушили.
– Нет! – в ярости закричал незнакомец с корявыми пальцами. – Мы нашли человека, который возглавит империю!
– Его имя?
– Писарро! – выдохнул «невидимый».
Чинча криво усмехнулся:
– Человек, убивший императора и империю, собирается стать ее хозяином.
Незнакомец наклонился к Чинче, и тот уловил в его дыхании запах свежих листьев. Видимо, победители лесной битвы чем-то поднимали свой боевой дух. Архитектор услышал слова, смешанные с ароматом травы:
– Атауальпа, Уаскар, Писарро… Разве важно, кого и как будут звать подданные? С Писарро мы расширим наши пределы до океана. И даже далеко за океан.
– На предательстве страну не построить, – ехидно парировал Чинча. – Вы же друг друга сожрете!
Незнакомец внимательно посмотрел Чинче в лицо. Глаза в глаза. В зрачках «невидимого» полыхал огонь.
– Где тайник? – схватил он архитектора за горло. А когда ничего не услышал в ответ, то приказал остальным:
– Ведите его на помост.
И Чинча снова увидел солнце. Оно сегодня было добрым, не слепило глаза, не выжимало влагу из усталых тел. Красноватый свет пробивался через ветви подступавшего к деревне леса. И за зелеными листьями угадывался новый каменный город, тоже окрашенный светом в багровые тона. А если подняться на помост, догадался архитектор, то можно увидеть остроконечные дома, на которые он с солдатами так и не успел положить кровлю.
Земля вокруг помоста превратилась в грязь. Если вглядеться, то можно рассмотреть, что грязь, как и город, и солнце над городом, была красного цвета. И Чинча понял, почему это было так. Площадь посреди деревни была усеяна мертвыми телами. Обезглавленными, с отрубленными конечностями, со страшными ранами, из которых вытекала кровь. Она медленным ручьем ползла вниз, с помоста, на котором человек в длинном балахоне произносил несвязно громкую речь. И размахивал бронзовыми ножами. А у его ног лежала жертва. Чинча не мог разглядеть, был ли это один из его солдат или же «человек леса», попавшийся в руки врагов. Кто это? Рассмотреть не удалось даже после того, как Чинча, подталкиваемый охранниками, поднялся на помост, потому что палач столкнул тяжелой ногой мертвое тело вниз. Он успел заметить, что у человека в длинной накидке не только руки были в пятнах крови, но и губы. А когда он кричал или улыбался, то губы приоткрывали и красноватые десна. Так бывает, когда кулак разбивает лицо. Но это своя кровь. А этот палач явно испробовал, какова на вкус чужая. И теперь глухо бормотал слова древних песен. Он был не просто палач. «Жрец-убийца, – понял архитектор. – Я думал, таких уже нет».
У многих «невидимых» вокруг губ был красный ореол. А в ушах у архитектора стояли звуки, с которыми нож разрезает плоть. И насыщаются несытые челюсти.
Чинча увидел деревянную колоду, пропитанную чужой кровью. Он понял, что сейчас его положат на нее.
Фернандо Кортес де Монрой, испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государство ацтеков. Именно его пример толкнул честолюбца Франсиско Писарро на завоевание Тавантинсуйу и поиск несметных сокровищ правителей Страны Четырех Провинций
– Развяжи мне руки. Прошу тебя, – сказал он палачу. Тот вопросительно взглянул на главного «невидимого», того самого, который пытался говорить с Чинчей в хижине.
– Развяжи его, Змей, это ведь последняя просьба, – так сказал предводитель. И тот, кого назвали Змеем, послушался.
Архитектор неторопливо растер затекшие запястья с багровыми следами веревки. Улыбнулся. Он уже не слышал то, что говорили ему кровавые захватчики. Его глаза ловили другие образы. Но время от времени в поле зрения попадали говорящие рты, и он решил послушать наконец, что они говорят. Времени у него теперь было много. Несколько секунд, растянутых до размеров вечности. Последней реальности, которая ему была суждена.
– Это тебе памятник поставили, архитектор? – спросил главарь «невидимых». – Знаю, что тебе. А ты должен знать, что я догадался обо всем. Тайник под ним!!! Правильно?
Чинча сквозь улыбку сказал:
– Если там не найдешь ничего, обещаешь монумент поставить на место?
Лицо «невидимого» почернело от злости.
– Обещаю! – сказал он и тут же крикнул: – А ты чего застыл, как зачарованный? Делай, что делаешь!
Это было адресовано человеку по имени Змей, и тот снова взялся за свои ножи.
А Чинча лежал на плахе и смотрел перед собой. Его взгляд продвигался вперед, сквозь толпу «невидимых», сквозь лежащих на земле друзей, сквозь листья зеленого леса, и остановился, когда встретился с глазами, смотревшими на него. Это были раскосые детские глаза, полные отчаяния и слез. Они горячими ручьями стекали вниз, по щекам, а потом и по пальцам женской руки, крепко зажавшей мальчишеские губы, чтобы ни один враг не смог услышать крик отчаяния.
– Смотри! – шептала женщина. – Смотри и запоминай!
– И вы смотрите и запоминайте, – сказала она старшим детям и их матерям. Всем, кого она так быстро успела спрятать в густых зарослях.
Девятнадцать. Светлый путь
– Ты сволочь, лжец, убийца… Ты сломал мне жизнь… Ты отнял у меня всех тех, кого я полюбил… И ты не понимаешь, что ты убил моего лучшего друга! У меня был друг. Больше, чем просто друг. Брат! Его звали Норман. А ты убил его. Ты убил себя, потому что ты теперь – это не ты!
Вадим устал колотить человека, которого он не просто меньше всего ожидал здесь увидеть. Он вообще не ожидал его увидеть никогда. Но вот увидел.
И он говорил это, прислонившись спиной к железной запыленной станине от какого-то старого станка, вместо которого на ней, как на столешнице, стоял древний компьютер.
Впрочем, здесь, под круглым куполом здания непонятного назначения, этот компьютер смотрелся так же футуристично, как летающая тарелка на Печерских холмах – если бы она там приземлилась. Необъяснимая нереальность ситуации подчеркивалась тем, что само древнее здание находилось в гуще джунглей, в сердце Амазонии. А руки Вадима с наслаждением прошлись по лицу и спине вопившего от боли человека, которого полиция уже давно вычеркнула из списка живых. «Какая-то матрешечная абсурдность! – подумал Вадим. – Видишь абсурд. Заглядываешь внутрь. А внутри абсурда еще больше!» В висках продолжало стучать – то ли от прилива крови, то ли от звука работающего генератора.
Норман, которого увидел Вадим в Амазонии, отличался от прежнего Нормана только тем, что на нем, вместо джинсов и футболки, была надета длинная просторная холщовая рубаха до пят. Ну и разве что под глазами появились большие мешки.
– У тебя почки не в порядке, – сказал Вадим словно между прочим.
– Это от воды. Вода здесь плохая, – ответил Норман, утирая кровь под крючковатым индейским носом.
Вадим встал и снова сел на пол. События этих дней отобрали у него много физических и душевных сил.
– Почему ты здесь? – спросил он Нормана.
– Почему ты здесь? – эхом отозвался боливиец.
«Почему я здесь? – спросил себя Вадим и не смог найти иного ответа, кроме очевидного: – Судьба!» Но Норман словно услышал его мысленный вопрос и предложил другой ответ.
– У тебя не было другого пути.
– С тех пор, как мы встретились в Санта-Крус?
– Да. С тех пор, как мы встретились… в Киеве.
«С тех пор прошло много лет, полжизни, или около того», – подумал Вадим и настроился на долгий рассказ. Он устал махать кулаками и готов был слушать. Кажется, что Норман, дожидаясь этого момента, подставлял лицо под удары своего старого друга.
Боливиец произнес:
– Я буду говорить. Постарайся не прерывать меня вопросами. Но если хочешь уточнить что-либо важное, спрашивай.
И продолжил:
– Я всегда знал, что это место существует. Знал еще до того, как в мои руки попала старая фотография. Из-за нее я попал сюда. Из-за того человека, который выкрал ее буквально из моих рук, в тот вечер, когда мы с тобой говорили о каннибалах. Они и по сей день существуют. Те, кто верит, что сила и ум врага переходит к ним с чужой плотью. «Невидимые», каста лазутчиков, присягнувших на верность великому императору и год за годом, столетие за столетием, ожидающих следующего.
«Бред какой-то», – подумал Вадим. Но решил слушать дальше.
Норман медленно, без остановки, продолжал:
– Они чем-то похожи на средневековых японских самураев и одновременно на хашишинов – хладнокровных персидских убийц. У них есть свой кодекс чести. Его главный пункт – доводить до конца любое дело, даже если на выполнение уйдут годы. Или столетия, не важно. Они передают по наследству свои навыки, свои цели и задачи, своих врагов. Если враг спасся – это не значит, что рука хашишина не встретит его в темноте. Им всегда нужен хозяин. Верховный вождь. Император. И они готовы сделать правителем любого, кого считают сильным человеком.
– Правителем какой части Нового Света? – поинтересовался Вадим с трудно скрываемой иронией в голосе.
– Правителем всего мира, – ничуть не смутившись, парировал Норман. – И после Атауальпы, о котором ты много знаешь, они, как мне удалось узнать, хотели сделать императором заклятого врага индейцев, разрушителя Империи Четырех Сторон, командора Франсиско Писарро.
– Эта версия слишком фантастическая! – пробормотал Вадим.
– Не более фантастическая, чем купол в сельве. Согласись, что это так. У них был взаимный договор: Писарро оставляет за ними неограниченные права, а их возможности растут по мере того, как растет власть славного командора. Они хорошо знали свое черное дело. Их руками совершались страшные вещи, но в Тавантинсуйу о них не знал никто. Кроме Великого Инки и еще максимум двух человек. Я думаю, Писарро собирался привести их в Испанию и там расправиться с королем. Но построить экономику только на убийствах невозможно. И командор решил: во что бы то ни стало найти сокровищницу империи. Найти Пайкикин.
– Как ты сказал? Пайкикин?
– Да, со временем правильное название этого места исказилось до «Пайтити». Но, должен признать, «Пайтити» звучит более изящно. Концепция «невидимых» и Писарро была простой. Они планировали финансовую интервенцию. А проще говоря, хотели купить королевские престолы во враждебных Испании государствах. И это только на первом этапе создания мировой империи. Конечно же, «невидимые» всего лишь использовали Писарро. Их собственная конечная цель непонятна никому. Они до сих пор стремятся создать мировую империю, и уже в наше время практикуют каннибальские ритуалы. Только представь. Каста убийц, ставшая частью процесса экономической глобализации, продолжает размахивать своими бронзовыми ножами и поглощать человеческую плоть. Средневековая дикость остается частью их образа жизни и идеологии. И если бы это было не так, они не скрывали бы факт своего существования! Я так думаю.
Норман перевел дыхание, сбившееся от справедливого гнева, и продолжил:
– Добро и зло – это две стороны одной медали. Темная сторона и дорога сил света это как два параллельных шоссе, проложенных в одном направлении. И это понимал Великий Пачакути. Именно он отдал распоряжение своему главному жрецу найти отчаянных и фанатичных людей, готовых отстаивать принципы «не лги, не ленись, не воруй». А его последователь, Верховный жрец, которого мы называем Вильяк Ума, создал секретную группу, задача которой была защитить остатки Тавантинсуйу от «невидимых» и от испанцев одновременно.
– Послушай, Норман, – возмутился Вадим, – если то, что ты говоришь, правда, значит, ты мне лгал? Помнишь, как ты нес мне эту ересь в кафе: «Писарро как положительный герой мировой истории», «преступление может быть позитивным фактором» и прочую чушь?! Ты врал!
– Ты все же перебиваешь меня своими вопросами. Нет, не врал. Я искренне верил во все это. В то утро еще верил… До того самого момента, пока не вернулся домой… А потом увидел фотографию… Но я хочу вернуться к тому, что было за много лет до того, как мы с тобой встретились в Киеве, я хочу рассказать тебе о том пути, который я выбрал.
– И путь этот, конечно, светлый? – ухмыльнулся Вадим.
Норман с удивлением взглянул на друга.
– Вот как? Ты и об этом знаешь? Тогда мне проще будет тебе рассказывать. Ты успел заметить, что город остался недостроенным. Кто-то помешал сделать это. Я думаю, что здесь были «невидимые», и они учинили бойню, перерезав строителей, охранников и остальных, тех, кто должен был стать населением Пайкикин. Но были и живые. Дети. Они выросли и создали братство тех, кто хочет идти по освещенной стороне дороги. Из поколения в поколение они передавали тайну о Пайтити. А когда, с течением времени, хранить ее стало труднее, часть этих людей решила остаться здесь, а часть вернулась в города, захваченные испанцами, – для того, чтобы выследить «невидимых». И с этим делом они справились отлично. И по сей день их задача – защищать сокровищницу разрушенной Империи.
Вадим вспомнил, как Норман беспощадно критиковал Тавантинсуйу, называя государственное устройство Империи Инков самой опасной диктатурой древности. И не преминул напомнить об этом собеседнику.
– Так ты врал, притворялся? – спросил украинец.
Норман ни капельки не смутился:
– Нисколько. Это была диктатура. Изначально, до прихода к власти Атауальпы, страна была идеально задумана. Но тот, кто забрал у людей возможность читать, тот, кто сделал письмена самым большим государственным секретом, обрек страну на поражение. Это понимаем сейчас мы, сторонники светлого пути. Это понимали и наши предшественники, создавшие Пайкикин. Но «невидимые» оказались сильнее нас. И умнее. Ведь сейчас ты не сможешь определить и отличить скрытую диктатуру от постиндустриального общества, а демократия оказывается лишь надежной ширмой для власти нескольких глубоко аморальных и кровавых персон. «Невидимым» удалось подойти вплотную к созданию новой империи. И для того, чтобы выманить их, мы стали играть не по правилам. Мы создали тайную организацию и назвали ее «Светлый путь». Во всем, что мы делали, присутствовала символика солнца, верховный тотем Тавантинсуйу, и они это знали. Они должны были клюнуть на это. И начать за нами охоту.
У Вадима все смешалось в голове. Он слушал Нормана, и ему захотелось закрыть глаза, а с закрытыми глазами все происходящее может показаться сном. Так легче. Но потом глаза придется открыть и снова погрузиться в реальность.
– Зачем за вами охотиться, Норман? Кому вы нужны со своими играми в ковбоев-индейцев?
– Мы им нужны, потому что мы знаем, где Пайкикин! – крикнул боливиец. – Они – нет! Дети тех, кто не достроил город, перебили тех, кто его нашел в первый раз!
Норман откричался, отдышался…
– И теперь, спустя четыреста лет, мы должны были выследить и остальных, – продолжил он более спокойным тоном. – Вот так и появился фейковый «Светлый путь» – чтобы они не нашли настоящий. Конечно, те, кто брал заложников в Лиме, готовил боевиков и проповедовал коммунизм китайского типа, были смертниками-«камикадзе», но они сами об этом знали. Зато не знали «невидимые». И мы этим пользовались. Этот поддельный «Светлый путь» быстро рос, он действовал в нескольких странах. А в Перу даже контролировал несколько провинций. Правительство этой страны объявило «Светлому пути» настоящую войну, и мы этому радовались, поскольку именно в открытом бою можно определить настоящего противника. Правда, в этой войне погибло много людей.
– Насколько много? – спросил Вадим.
– Очень много. Несколько десятков тысяч. Но настоящий, незаметный «Светлый путь» смог определить всех «невидимых». Во всяком случае, тех, чья задача была снова найти Пайкикин. А теперь о тебе… Когда стало ясно, что боевая организация «Светлого пути» перестала быть нужной, меня отправили к вам, в Киев, чтобы я нашел потомков человека-ягуара. Этот персонаж – полулегендарный воин, в руках которого ключ от Пайкикин. Как выглядит этот ключ, никто не знает. У нас был специалист, который занимался историей связей между Европой и Южной Америкой. Так вот, он обнаружил в варшавских архивах сведения о неком странном воине нетипичной наружности, который присоединился к запорожским казакам, служившим наемниками в войске герцога Бургундского. У него были раскосые глаза – что, впрочем, в ваших местах иногда встречается, – широкие скулы, и крючковатый нос. И очень смуглая кожа. Я, кажется, себя описал, правда? – засмеялся Норман.
Его рассказ продолжался:
– Говорят, что этот странный воин, будучи весьма пожилым человеком, дрался так искусно и необычно, что его новые товарищи по оружию брали у него уроки рукопашного боя. И платили ему за это деньги, сделав его небедным человеком. Мы догадались, что этот воин ушел в украинские степи вместе с казаками. А потом к вам отправили и меня. Это было почти безнадежно, но я нашел след того воина. И смог проследить, как сложилась жизнь у его потомков. Вот здесь, в компьютере, у меня сохранилось что-то вроде генеалогического древа. Давай-ка включим, Вадим, и посмотрим.
Норман смахнул пыль с клавиатуры и оживил свой допотопный компьютер. Тот неохотно просыпался. Его полупроводниковые внутренности долго и недовольно ворчали и трещали. Наконец выпуклый коричневый экран зашипел, и по нему рассыпался белый снег. А еще через минуту снег превратился в синий фон, на котором рассыпались DOSовские буквы.
Приговаривая: «Сейчас найдем», Норман открыл одну из папок, и на экран выползла схема. Деревом тут и не пахло. Какие-то квадратики, кружочки, черточки, написанные от руки имена. На испанском.
– Как ты затащил сюда все это? – спросил Вадим, пока Норман настраивал компьютер.
– О, это не я, – улыбнулся тот. – Думаю, эту технику затащили сюда люди «Светлого пути», лет двадцать назад. Но точных сведений на этот счет у меня нет.
– Тогда зачем тебе все это? Чтобы рисовать генеалогические деревья? Как-то не очень эффективно, дружище, – покачал головой Вадим.
– Очень. Без компьютера я не смог бы вычислить очень важные параметры этого храма.
И Норман отвлекся от истории, перейдя к технике:
– Здесь есть не только компьютер, но и специальный сканнер. Он сканирует внутреннюю поверхность храма, разбивая ее на миллион точек. Любые выпуклости, впадины, округлости и отверстия отражаются в специальной программе для создания трехмерной модели храма. Аппарат не очень современный, в Голливуд его не возьмут. Но и не надо. Мне важна предельная точность данных, и с этим сканнер справляется. А вот для чего мне все это нужно, я тебе скажу позже, после того, как ты взглянешь на экран. Ну как?
Документ, копию которого разглядывал Вадим, был написан от руки. Он хорошо знал почерк своего друга, поэтому быстро понял – генеалогическое древо составлял не только Норман. Были на нем и записи, сделанные рукой, по крайней мере, еще одного человека.
В записях можно было запутаться. Имена, вписанные в кружки и прямоугольники, соединялись неровными линиями, которые часто пересекались между собой, образуя нечто наподобие паутины. Прослеживая связи между индейскими, испанскими и французскими именами, можно было запутаться и сойти с ума. Но Вадима интересовало только то, что написано в самом верху документа. Клавишей со стрелочкой он поднимал курсор все выше. Вот на странице начали появляться имена, похожие на польские, русские и украинские. Курсор полз все выше и выше. Вадим увидел имя своего деда в испанской транскрипции. Затем отца. А от отца линия вела…
Он не удержался и ахнул.
– Да, это так, – сказал Норман. – Ты потомок человека-ягуара. Случайности не случайны. Поэтому ты здесь.
Свыкнуться с этой мыслью было непросто. Пожалуй, что и невозможно. Он, человек с украинской фамилией, чьи родственники живут в небогатом днепровском селе, потомок людей, никогда не подвергавших сомнению свое происхождение, ведет свой род от тех, кто строил этот город? Глупость. Феерическая глупость.
А может, он сошел с ума, и все это ему снится? Может, и этот город, и путь к нему лишь видение, вызванное жарой и дегидрацией организма, и на самом деле он все еще в пустыне, обезвоженный и беспомощный? И разговаривает он с человеком, которого не существует вообще, лишь в своем больном воображении? Какой нормальный мозг выдержит столько информации, сколько он получил за последние несколько часов?
Легенда гласит, что Пайтити был построен инкским божеством Инкари. В описаниях говорилось, что город был очень красив и богат, его дома и улицы украшали статуи из золота и драгоценных камней. Согласно преданиям, в его стенах хранилась большая часть сокровищ инков
– Трудно поверить, понимаю, – заметил спокойно Норман, – но это так и есть. Тебя должны были искать «невидимые», Вадим.
– Для чего? – тихим голосом спросил украинец.
– Для того, чтобы принести в жертву. Но сначала ты должен был сказать им, где находится ключ.
– Какой ключ?
– Ключ в тайник. В этот тайник.
И тут Вадима осенило.
– Погоди, Норман. Так и ты не знаешь, как добраться до сокровищ Тавантинсуйу?
Норман кивнул головой:
– Конечно нет. Мы знаем, где находится тайник. И «невидимые», возможно, знают. Они ищут ключ. И мы ищем ключ. Единственный человек, который может знать, где он находится, это ты.
– Но я не знаю ничего ни о каком ключе! – воскликнул Вадим.
– Я понимаю, – вздохнул Норман. – Но давай подождем несколько дней, и я покажу тебе кое-что.
И он заглянул в компьютер, чтобы свернуть документ, а заодно и свериться с кое-какими данными.
– Да, все точно. Завтра есть шанс. А сегодня давай спать, Вадим.
Спальные мешки лежали тут же. Отход ко сну не занимал много времени. Норман заснул быстро. Вадим долго не мог закрыть глаза. Думал обо всем, что услышал от профессора истории. Потом провалился в сон, внезапно и болезненно. Ему снилась река, широкая и не такая бурная, как та, на которой стоял Пайтити. Она была необозримо широка. Вадим стоял на одном берегу и не видел противоположного. Мимо него проплывали стволы тропических деревьев, упавшие в воду. На некоторых сидели красивые птицы, весело переговаривавшиеся на своем птичьем языке друг с другом. Внезапно один из стволов превратился в золотой плот. А птицы обернулись людьми. И он узнал их. На плоту стояли Сэм Уильямс и Кирстин. Они, обнявшись, глядели в его сторону и махали руками. Вадим закричал им: «Причаливайте!» Но те показали на свои уши, мол, не слышим тебя. Вадим крикнул еще громче. Сэм и Кирсти отрицательно покрутили головами и позвали кого-то, кто стоял за их спинами. И Вадим узнал в этом третьем полицейского комиссара из Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Это был Себастьян Эспиноза. Он грустно смотрел на Вадима, а в его руках был какой-то тяжелый блестящий предмет продолговатой формы. «Эй, Себастьян, плывите сюда, ко мне!» – как клич, как зов отчаяния, вырвалось у Вадима из глубины легких. Себастьян услышал его и покачал головой. Отрицательно и грустно. Плот уходил все дальше. Вдруг Вадим увидел бородатых людей в рваных камзолах и сшитых вручную высоких сапогах. Их было двое. Они, пригибаясь, пробирались к берегу и на ходу готовили свои длинные мушкеты к стрельбе. Да, это были мушкеты, с кремниевыми замками и резными прикладами. «Себастьян, уходите от берега, уходите!» – завопил Вадим и побежал наперерез вооруженным бородачам. Но поздно! Они уже выстрелили. Вздрогнул лес. С мокрых бревен взлетели вверх стаи птиц. Наступила тишина. Вадим со страхом повернул голову в сторону плота. Он боялся, что увидит нечто ужасное. Но на плоту по-прежнему стояли трое. Только перед Сэмом и Кирсти, неподвижно и грозно, смотрел на берег уже не Себастьян. Его лицо превратилось в злобную гримасу, а потом приобрело карикатурные черты дикого животного. Но это длилось всего лишь секунды. И когда к человеку вернулось его человеческое обличье, Вадим рассмотрел, что это не Себастьян, а старый индейский вождь, с широкими скулами, кривым носом и узкими внимательными глазами, похожий на Нормана. Бородачи прекратили стрелять. Плот уходил вдаль. Вадим смотрел на него до тех пор, пока он не превратился в маленькую бледно-голубую точку на горизонте. А потом было пробуждение.
Рассвет еще не настал. Норман сладко посапывал в соседнем спальном мешке. Его кривой нос жизнеутверждающе торчал из мягких складок спальника. И этот оптимизм вывел Вадима из себя. Он выскользнул из своего мешка, подскочил к Норману и сомкнул руки на его шее. Индеец захрипел.
– Ты сволочь! – крикнул Вадим. – Ты живешь и здравствуешь, а их больше нет. Я тебя отправлю к ним! Или отправлюсь к ним сам!
Норман не сопротивлялся. Он хрипел и лихорадочно делал руками знаки. «Погоди душить! Сначала послушай», – догадался Вадим. Он ослабил железный хват. Норман перевел дыхание, потер шею и на четвереньках выбрался из спального мешка.
– Да живы они, живы, – хрипло сказал он, сплевывая слюни с кровавыми разводами. – Они живы, Вадим, и разыскивают тебя. С вертолетами, рейнджерами и прочей бесполезной ерундой. Но кому это нужно здесь, в Амазонии? Они тебя не найдут. Эти непроходимые леса открываются только тем, кто их знает. А для тех, кто с ними незнаком, Амазония – это другой мир и другая реальность. И ты в ней находишься. Дай мне руку! Идем подышим воздухом.
Вадим протянул руку Норману и помог ему подняться. Они вышли из храма и сели на каменных ступеньках. Ночь выдалась безоблачная, нежная и равнодушная. Звезды мерцали весело, как наевшиеся светлячки. Огненным шарам в бесконечной Вселенной было все равно, в какой реальности светить.
Норман сказал:
– Те, кто отправил меня сюда, приказали мне очистить купол храма от грязи и растений. Это было непросто, особенно в одиночку. Пока ты шел сюда, я работал, как проигранный в карты раб. Для чего я это делал, не знаю. Вернее не знал. Теперь все изменилось. Я нашел несколько отверстий в куполе, закрытых неплохо обработанным горным хрусталем. И это тоже имеет отношение к сокровищам Великого Инки. Я в этом уверен. И завтра я докажу тебе это.
– Я не требую никаких доказательств, Норман. Ты мне не враг. Но и другом я больше не могу тебя назвать. Самое страшное, что могло случиться со мной, уже случилось, – вздохнул украинец.
– Скажи, а разве тебе неинтересно, зачем нам, людям «Светлого пути», это золото? – спросил Норман.
– Нет, – ответил Вадим.
– Тогда расскажу, – улыбнулся индеец, и это прозвучало почти совсем, как в прошлой жизни, за столом кафе в боливийском Санта-Крус.
– У вас есть много ученых, которые говорят, что вы давно уже не живете в мире демократического капитализма. Они считают, что миром правит небольшая группа баснословно богатых и влиятельных людей, человек около ста. Именно они управляют мировой экономикой, вершат судьбы людей, именно они решают, когда и в какой части света будут происходить войны, революции и кризисы. Это правда, но только наполовину. Мир все еще развивается по законам и правилам свободной экономики, которые я все-таки, несмотря на «Светлый путь», поддерживаю и защищаю. А может быть, и благодаря ему. Но то, что хочет построить «золотая сотня», это мир без правил. Они будут контролировать все. Сейчас вы пользуетесь кредитными карточками, и это удобно. Через десять лет вам всем, безо всяких исключений, встроят электронные чипы, которые будут заменять карточки. Не будет денег, торговля приобретет уродливые формы. В магазинах не будет касс. Специальные устройства будут считывать данные с ваших чипов, встроенных в мозг, и списывать с них кредитные единицы. Условные деньги. Выглядит как коммунизм, описанный вашими любимыми Лениным… Сталиным… И не спорь со мной, просто дослушай. Любого инакомыслящего, любого бунтаря или диссидента можно будет обречь на голод, просто отключив его карточку от банка. Никаких социальных лифтов. Родился в семье служащих – будешь служить до конца дней. Твой отец солдат – значит, быть и тебе под ружьем. И так далее. Вместо всего широкого спектра искусств останутся два важнейшие – кино и цирк. И свободный доступ к порносайтам повсеместно. Но все, кто сеет прекрасное, доброе, вечное, будут бросать зерна в мертвую почву. Зато будет возможна полная реализация индивидуумов в том социальном коридоре, в который их определят по происхождению. Работа освобождает… Этот мир без альтернативы уже близок. Но он еще не настал. Для того, чтобы это случилось, сотня избранных разработала план. Согласно этому плану, в течение очень короткого времени, почти одновременно, должен произойти обвал на ключевых биржах планеты. Те предприятия, которые функционируют в логике свободной экономики, станут банкротами. Избранные скупят их. Национальная валюта большинства стран превратится в бумагу чуть дороже туалетной. Но правителям дадут понять, что они смогут удержаться у власти, если будут продолжать брать кредиты. На этот раз золотом. Однако экономическая пропасть – самая глубокая: в нее можно падать бесконечно. И бесконечно спасаться кредитами. То есть в один прекрасный момент золотой запас ключевых экономик мира станет собственностью «золотой сотни». Вот и оправдают они свое название. А дальше полшага до чипов в мозгу. Дело техники…
– Так вот для чего им нужно золото?
– Да уж, для такой цели выкупа Атауальпы маловато. Именно поэтому «невидимые» снова разыскивают тайник. Они, знаешь ли, идеальные воины. Верные хозяину, как никто другой.
Вадим вспомнил фотографию индейца в облачении вождя и с булавой в руках. А еще в памяти всплыл образ человека, разделавшего Себастьяна на капоте оранжевого автомобиля. Он еще раз рассказал об этом Норману, не забыв при этом указать на необычное сходство.
– Скажи мне, Норман, кто это был?
Норман немного помолчал и потом нехотя сказал:
– На фото был мой дед. Помнишь, я рассказал тебе о священнике, кураторе семинарии, и его студенте? Студент не мог принять духовный сан. Мне кажется, совесть остановила грешника на пороге еще большего греха. Совесть это предохранитель, который не дает душе перегреться страстями. Студент – это мой брат. Именно его ты видел в пустыне. Не надев черный клобук, он стал «невидимым». У него не было выбора, если он хотел остаться верным традициям своего рода.
Норман поднял голову и посмотрел на звезды. Вадиму показалось, что он заметил влажный блеск в его глазах. Или это так причудливо отражался небесный свет?
– А я пошел по другому пути, – сказал Норман, продолжая глядеть на звезды. – Возможно, он не самый лучший. Но он светлый. А завтра, если небо подарит нам немного удачи и хорошей погоды, я покажу тебе кое-что более интересное, чем древний долгострой.
Утром Вадим встал довольно поздно. Солнце уже заглянуло в дверь храма и бросило на пол у входа золотой теплый квадрат света.
– Вставай, дружище! Пропустишь исторический момент!
Норман уже сидел за компьютером. Трещал старый системный блок, надрывался генератор, обдавая пространство выхлопными газами и парами несгоревшего бензина.
Вадим встал и стянул с ног плотный спальный мешок. Он подошел к Норману и заглянул через его плечо. На экране вращалась трехмерная модель храма. Вернее, моделью ее можно было назвать очень условно. Просто зеленые точки, соединенные линиями такого же цвета, давали представление о пропорциях внутреннего помещения строения, в котором они находились.
– Сегодня – или через год! – сказал Норман, посмотрев на цифры в нижней части экрана. – Иначе говоря: сегодня – или никогда!
– Never say fucking «never»! – вспомнил гонщик слова, которые так часто произносил этот американский грубиян Робби Горовиц. На этот раз никакой писк не понадобился: эти двое больше не нуждались в политкорректности.
– Что должно произойти? – спросил Вадим.
– В полдень увидишь. Вернее не в полдень, а в двенадцать ноль шесть. Я вычислил это время. Смотри на пол.
Время до полудня тянулось невозможно долго. Вадим сидел на полу в позе Будды, но, в отличие от Сиддхарты, внутри него бушевал нетерпеливый вихрь ожидания. Сощурив глаза, Норман с ленивым видом тыкал пальцем по клавишам компьютера. «А ведь он так и не ответил мне, кто и как притащил сюда этот металлолом», – эта логичная мысль успела промелькнуть в голове Вадима, но найти объяснение гонщик уже не успел. Полумрак, спрятавшийся под куполом, внезапно рассеялся. Сначала он разорвался на лоскуты тьмы, а потом и они растворились в лучах золота. И это золото дождем рухнуло на пол.
Золотой дождь обрушился на внутренности храма. Он лился сверху бесконечным потоком. Хотелось схватить ведро или корыто и поскорее подставить их под блестящие струи.
Вадим не удержался от крика. То ли восторг был в этом возгласе, то ли страх.
– Ага! Я же говорил тебе! – вопил Норман. Метис от радости плясал возле своего компьютера, выбрасывая коленца почище тех, которые исполняют мастера украинского гопака.
– Это точка золота! – кричал Норман. – И я нашел ее! Но торопись, дружище. У нас только десять минут.
– На что? – непонимающе уставился на него Вадим. – Чтобы превратить камень в золото?! Это всего лишь солнечный свет.
– Небесное золото – ключ к земному, логично?
– Логично, – согласился Вадим и встал в самый центр золотого дождя.
Сначала он почувствовал тепло и тяжесть, как будто этот солнечный свет имел ощутимый вес. Потом золотой блеск слегка ослепил его. Он видел окружающий мир в желтых тонах драгоценного металла. В какой-то момент ему подумалось, что никакого сокровища ему не нужно. И самое большое счастье – это стоять вот так в лучах великого светила и наслаждаться единственным мигом счастья, доступным земному человеку – почувствовать себя частью солнечного света, частью Вселенной, частью чего-то еще более великого и правильного, чем Вселенная. Слово, которое было в начале всего сущего, искало путь от души к сознанию. Но крик извне прервал поиск:
– Смотри! Думай! Нам нужен ключ!
Это кричал Норман.
– У нас есть десять минут!
Вадим прикрыл глаза и снова их открыл. Все вокруг сияло в золотом блеске. Но спустя мгновение Вадим сумел разглядеть белесые точки по периметру храма. Возможно, это были отражатели, ожившие в тот момент, когда на них попадал свет солнца. Возможно, и что-то другое. Но они горели белым светом, отличавшимся от золота искусственного дождя. Вадим бросился было к ним, но как только он вышел из золотой струи, точки исчезли. Он тут же снова встал под центром купола.
– Быстрее, Норман! Делай то, что я тебе скажу!
Норман прекратил танцевать и утвердительно кивнул головой.
– Иди прямо! – кричал Вадим. – Нет, левее! Еще левее! Вот так. Отлично! Что там, что видишь?
– Ничего не вижу. Просто стена.
– Стена? – орал Вадим. – А что в стене?
– Да ничего необычного. Ниша какая-то. Неглубокая.
– И что в ней?!
– Я же говорю, ничего! Пусто!
Вадим, не долго думая, направил его в другую сторону.
– Иди дальше! Налево. Вот так, по кругу. Что там?
– Снова стена, Вадим! И снова ниша.
– Глубокая?
– Сантиметров пятнадцать, не больше. И в диаметре двадцать. Пусто здесь.
– Иди дальше.
Норман послушался и вскоре обнаружил еще одну нишу, в форме ступенчатого креста инков. Она была не очень большой по ширине, неглубокой и – снова пустой.
– Не то! Снова не то! – срывался от бессилия Вадим и продолжал направлять Нормана туда, где был виден блеск белых огней. Еще один знак. Еще одно углубление, в которое могли поместиться от силы один-два кирпича. И больше ничегошеньки, кроме неглубокой пустоты.
Норман быстро, но подробно докладывал Вадиму о форме обнаруженных ниш. Треугольные, крестообразные, квадратные, даже овальные. За десять минут он прошелся по всем белым точкам, которые видны были с места, где стоял гонщик. А потом золотой дождь прекратился, и белые точки исчезли.
– Все, – сказал Норман. – Все.
– Что «все»?
– Все… это… зря!!! – рявкнул индеец и, схватив клавиатуру от компьютера, ударил ее о железный стол. Клавиши разлетелись в разные стороны, как конфетти на венецианском фестивале.
Вадим тоже хотел было разозлиться. Но что-то мешало ему излить свои эмоции. Видно, их забрала у него предыдущая ночь. Но это было хорошо: взамен страстей он приобрел возможность рассуждать хладнокровно.
– Точек было двенадцать… Так… Сколько было углублений, Норман?
– Тоже двенадцать?
– Можешь их подробно описать?
– Bueno. Две квадратные, двадцать на двадцать. Три треугольные. Четыре в форме креста. Эти чуть побольше, почти полметра в высоту, я так думаю. Если считать от основания. Одна круглая. Две овальные. Вернее, они такие, знаешь, почти овальные. Издалека. А на ощупь восьмиугольные. Порядок нужен? Можем пойти и пощупать…
– Погоди, – все, о чем говорил Норман, торопливый Вадим пытался описать с помощью разбитой клавиатуры на экране компьютера.
Ответ был где-то здесь, рядом.
Двенадцать ниш, двенадцать фигур. Квадрат, крест, круг, овал… Или восьмиугольник.
Ответ здесь.
Как в детском тесте на логику мышления. «Найди что-то лишнее в этом логическом ряду!» – так, кажется, он называется.
Если это восьмиугольник, то ответ очевиден. Ну разве нет?
– Скажи мне, Норман…
Вот он, момент истины!
– Скажи мне, Норман, ты помнишь, где круглая ниша?
– Кажется, да.
И Норман двинулся в сторону дальней стены. Украинец пошел вслед за ним. Стена стояла, погрузившись во мрак, который снова заполнил пространство под круглым куполом. Нишу в стене они нашли на ощупь. Камень был холодным и шероховатым. Впрочем, каким еще может быть грубый бут? Ладонь Вадима нащупала круглое углубление. «Идеально круглое!» – отметил про себя гонщик. Примерно два десятка сантиметров в диаметре и еще столько же в глубину. Что-то очень хорошо знакомое.
Он продолжал ощупывать внутреннюю поверхность и обнаружил, что она местами отлично отполирована. Но под пылью забвения его рука почувствовала шероховатые углубления во внутренней стенке. А в углублениях были выпуклости. Скрещенные гранитные линии. Тонкие и твердые. Они располагались внутри, по кругу. И рука вспомнила, как однажды наткнулась на эти знаки.
– Норман, это здесь!
Норман молчал. Лишь сердце индейца билось сильно и гулко в широкой груди.
– Норман, я нашел вход в сокровищницу. Он здесь.
– Так открывай скорее! – сказал напарник.
– Не могу, – вздохнул украинец. – Надо принести ключ.
Норман не понял своего друга. Разве не был ключом путеводный солнечный дождь, указавший им на тайник?
– А где он? Где он лежит?
– Дома, – просто ответил Вадим. – Дома.
Он знал, что теперь вернется домой. Только его родина сможет открыть хранилище самой большой тайны. Конкистадоры, бандейранты, «невидимые», «сендеристы», «золотая сотня» – все они искали не там. И он искал не там. Петлял, не доверяя карте, в то время, когда прямая оказалась самым коротким маршрутом из точки А в точку Б. Надо возвращаться.
– Скажи мне, Норман. Где-то здесь четыреста тонн золота. Или больше. Почему ты поверил в это?
Норман задумался. Ему захотелось быть откровенным с Вадимом. Но до конца он не мог себе позволить такую роскошь. Светлый путь иногда проходит через теневую сторону.
– Помнишь, Вадим, я говорил тебе о фотографии. Это был условный сигнал. Она исчезла. И я должен был исчезнуть, – довольно путано объяснял индеец. – На фотографии был изображен Пайтити. Пайкикин. Вот этот храм и этот зал… Освещенный золотым солнечным светом.
Вадим его не очень внимательно слушал и все твердил: – Домой, домой, домой…
А потом спросил Нормана как бы невзначай:
– А что вы, светлые, сделаете с золотом?
Но ответ у Нормана уже был готов:
– Отдадим слабым странам. Не сразу, конечно. По частям. Но безо всяких условий. Просто подарим. Чтобы разрушить монополию «золотой сотни». И свободный мир снова станет свободным.
– Вот так просто? А как же экономика? Слабые страны не всегда умеют зарабатывать, зато хорошо знают, как тратить. Но даже если вы, светлые, научите их работать, «золотая сотня» – или как там их? – не сдастся просто так. И мир погрузится в пучину войн, революций и путчей. Будет много крови. Стоит всемирное счастье кровавых рек?
Эти слова, похоже, задели Нормана за живое, и он взволнованно ответил:
– Стоит, Вадим. Это будет последний приступ мирового каннибализма. Но зато потом, пройдя через кровь, мы станем свободными и прекрасными. Теперь уже навсегда.
«Никогда не говори «навсегда», дружище», – мысленно ответил Норману украинец.
– Но, впрочем, – заметил индеец другим тоном, – хозяин ключа не я, и даже не те, кто меня сюда отправил, а ты. Судьба Империи Четырех Сторон в твоих руках, а не в моих.
«Домой… домой… домой», – стучало где-то внутри сердце. Оно было теплое и живое.
Эпилог. El epilogo
В Киеве было холодно. Мороз, кажется, решил испытать на выносливость обитателей лучшего из городов. Снег заваливал баррикадами выезды из дворов. Но баррикады возводили и сами люди. Зима была неспокойной. В воздухе витал запах горелой резины и чеснока. Так обычно пахнут перемены. Вернее, их ожидание.
На ступеньках музея догорал костер. Возле него грелись люди в черных бронежилетах, поверх одинаковой формы, и сферических шлемах, полностью закрывавших головы. На тыльной стороне каждого шлема с помощью трафарета был нанесен четырехзначный номер. «Словно армия клонов из «Звездных войн», точно!» – подумал Вадим, поднимаясь по лестнице. Один из «шлемов» окликнул его, но другой остановил товарища:
– Да брось ты! Не видишь, интеллигентный человек.
– Они, эти интеллигенты, самые опасные, – резонно заметил «шлем-1», но задерживать Вадима не стал.
Гонщик постучал в закопченную дверь, и она со скрипом открылась, ровно настолько, насколько продолговатое лицо директора могло выглянуть наружу, чтобы увидеть гостя. Потом дверь открылась еще немного.
– Это вы, Вадим? Заходите, пожалуйста.
Гонщик протиснулся внутрь через образовавшуюся щель.
– Идемте в мой кабинет. Надеюсь, вы ненадолго?
«Пока не получу то, что мне нужно, – сказал про себя Вадим, – а значит, надолго».
– У нас нет света. Обычно есть, но сейчас отключили. Генератор запускаем только в случае крайней нужды. Пока обошлось.
Директор вел Вадима в свой кабинет, освещая дорогу большим фонарем с длинной рукояткой. Таким обычно пользуются военные.
– Это и средство защиты, – сказал директор. – Если будут грабить, я одного-двух смогу покалечить, я думаю.
– А что, вас есть кому грабить? – удивился Вадим.
– Да есть тут такие, – проворчал директор. – Машины жгут, квартиры грабят. Под шумок. Может, и до музея доберутся.
– Многое в Киеве поменялось, – вздохнул гонщик.
– Многое, – грустно согласился директор.
Из окна его кабинета была видна баррикада, сложенная из мешков со льдом и почерневшего остова автобуса, закованного в ледяную броню. На крыше, несмотря на скользкий лед, танцевали двое молодых людей в мотоциклетных шлемах и бейсбольных наколенниках.
– Вас сначала разыскивали. Потом попрощались с вами. Потом стали забывать, – заговорил директор, разминая в руках дешевую сигарету. – Вот бы все удивились. Но в другое время. Сейчас не до вас, честно.
В кабинете пахло кислым пивом и табаком. «Унылый аромат», – подумал Вадим и решил, что уличный резиново-токсичный запах перемен куда веселее.
– Знаете, – перевел Вадим разговор на другую, более важную для него тему, – я хотел вам многое рассказать. И показать. Но все это будет совершенно лишним, если вы прочтете вот это. А я посижу здесь и подожду, пока вы закончите.
И он протянул директору записную книжку. Тот открыл ее. Где-то его взгляд задерживался, где-то пальцы пролистывали слипшиеся страницы с размытыми строчками.
– Вот отсюда, пожалуйста.
Сверху страницы, аккуратно посередине, директор музея прочитал: «Империя Четырех Сторон». То, что было под этой надписью, вызвало любопытство ученого. И чем больше он читал, тем ярче становился огонь в его глазах.
Вадим смотрел на улицу и видел, как над баррикадой поднимается дым, а тяжелые серые щиты подвигаются все ближе и ближе к обледеневшим автобусам, и костер на ступеньках музея оказывается у них в глубоком тылу, костер, в который все подбрасывают и побрасывают дрова люди в шлемах. И он вспомнил, как видел похожий огонь в Варанаси, на Ступеньках Потерянной Серьги. Но тот костер горел, не затухая, три тысячи лет или около того, и всегда находилась рука, которая подбрасывала топлива в этот огонь. «Неужто этот будет гореть так же долго?» – ужалила его шальная мысль. Но Вадим отогнал ее. А тем временем директор закончил чтение. И поднял на Вадима изумленные глаза.
– Я бы мог сказать, что это сказка, – осторожно проговорил ученый, – если бы не видел вас перед собою. Скажите, вы уверены, что это ключ?
Вадим кивнул:
– Да, профессор, на сто процентов. Нет сомнений.
Профессор запустил пальцы в остатки некогда буйной шевелюры и замолчал. Но ненадолго.
– Я всегда верил в то, что наша земля особенная. Мы ключ к миру во всем мире, ключ к дверям, за которыми благоденствие всей планеты. Наша история полна случайностей, которые оказываются закономерностями. Ведь не зря – послушайте! – не зря то, что искали самые изощренные и самые авантюрные люди в истории цивилизации, находится здесь!
– Да, наверное, неслучайно, – согласился Вадим, наблюдая за маневрами серой шеренги щитов. Независимо от того, как закончится разговор с директором, ему нужно было выбираться из здания.
Они сидели и говорили всю ночь напролет. Пили чай. Вернее, чай пил Вадим, а директор пил выдохшееся пиво без газа, добавляя в него немного спирта. Но, как ни странно, алкоголь не брал старого ученого. Он спрашивал и спрашивал Вадима о его приключениях, и Вадиму было не очень приятно понять, что директора больше интересовало увиденное гонщиком, нежели пережитое. Уже под утро профессор сказал:
– Я отдам вам это.
Они спустились в хранилище. По дороге директор запустил генератор:
– Без электросигнала мы дверь не откроем.
Запах горелой резины чувствовался и в хранилище. Как видно, вентиляция вышла из строя. Профессор набрал на металлической двери код из двенадцати цифр и повернул огромных размеров вентиль. Дверь тихонько поддалась и больно ударила Вадима по ноге острым углом. В ней было несколько тяжелых тонн брони. Ученый и гонщик зашли внутрь хранилища.
– Однажды вы уже держали это в руках, – и профессор протянул Вадиму золотой предмет.
Как его правильно называть – булава, макана, часка-чуки, апикайкипу, – теперь Вадим не знал. Все остальное было так же знакомо, как и два с лишним года назад: и приятная тяжесть золота, и загадочные буквы древнего алфавита. И более новая, славянская, вязь, сделанная искусными мастерами украинских гетманов. Вадим внимательно ощупывал тяжелый шар на конце драгоценной маканы. Его стоило бы измерить, но Вадим и так знал, что булава идеально войдет в круглую нишу, которая ждет его в храме, спрятанном в густых лесах Амазонии.
– Я отдаю вам ее, Вадим, – немного пафосно, дребезжащим голосом сказал директор музея. – Вы этим сокровищем распорядитесь правильно. В любой момент нас могут ограбить, и сжечь все, что мы здесь храним. А если они найдут здесь булаву, то просто переплавят ее в слитки. Или продадут частным коллекционерам. Олигархам. Нуворишам. И тогда вы ее не найдете. Никто ее не найдет. Пожалуйста, еще минуточку, дайте-ка ее мне.
Вадим передал драгоценный предмет в руки профессора. Тот заботливо погладил желтое золото.
– Я буду счастлив, если она спасет человечество. Мы все страдаем от несправедливости. Мы каждый раз надеемся на справедливое завтра, но когда оно превращается в сегодня, то все повторяется. И мы вынуждены из двух зол выбирать меньшее. История повторяется, меняя жанр, – сначала трагедия, потом фарс. А потом снова трагедия. Хватит спектаклей! Идите и спасайте этот мир.
Старик быстро сунул булаву в руки Вадиму и отвернулся в сторону, стараясь, чтобы гонщик не увидел, что глаза у него на мокром месте. Из подвала вышли быстро.
– Послушайте, а нет ли у вас сумки? Любая сгодится.
Профессор, конечно, сумку нашел. Старую, спортивную, с жестким картонным дном, к которому прилипли хлебные крошки. Булаву положили в сумку, а сверху набросали газеты, журналы и несколько толстенных альбомов с репродукциями картин, благо, в кабинете директора стопками лежали старые книги.
– Ну, с Богом! – сказал профессор, перекрестив гостя.
Гонщик с сумкой на плече вышел через парадную дверь. Люди в форме все еще грелись у костра.
– Эй, ты, интеллигент! – окликнули они его. Вадим слегка напрягся, подумал, что будут проверять содержимое его сумки. Но все обернулось иначе.
– Ты вперед не иди, сейчас на баррикаде фейерверк начнется, мало никому не покажется. Давай левее, через переулок, там вторая линия стоит. Солдаты, призывники. Должны пропустить.
Вадим – хотя ему в этом случае нужно было сделать изрядный крюк, чтобы добраться до того места, где его ждали, – послушался совета. Сейчас нужно попытаться остаться неузнанным и незаметным. Срочники пропустили его, тоже не попросив показать содержимое сумки, которая, из-за своего потертого вида, довольно подозрительно болталась на плече прилично одетого человека. Кто знает, что у него на уме и что у него внутри сумки? Но, видно, холод, усталость и ранний час притупили их бдительность.
Его должны были ждать возле пешеходного моста через Днепр, на той стороне. Но на мосту он появился слишком рано. Под мостом, возле широкой лунки, в гигантских сапогах и жестком тулупе, который можно ставить в угол, сидел одинокий рыбак. Вадим остановился посередине моста, глядя на золоченые купола Лавры. Он так поступал зимой всякий раз, когда замерзал от холода. А так – глянешь на веселое золото маковок, и теплее становится на сердце. Золото лежало у него в сумке. Могущественное, древнее золото, полное силы. И он достал часка-чуки.
Сюда этот металл принес человек-ягуар. Его предок. Далекий, загадочный, нездешний. И в нем есть доля крови Ягуара. В какие тяжкие пустился этот предок, чтобы доставить булаву сюда? На какие ухищрения шел? Не дано это узнать никому. Даже Вадиму, хотя по закону крови он имеет право. Вадим смотрел на макану и пытался поймать отражение солнца. Но в отполированном золоте оружия видел только свое лицо, растянутое выпуклостями желтого шара. Он себе не нравился. Когда он оставался наедине с собой, он себе очень не нравился. Особенно сейчас.
Вот он сейчас пойдет к тем, кто ждет его, и отвезет этот предмет в Амазонию. И он откроет самый большой тайник в истории человечества. А что же дальше?
Норман говорил, что светлый путь идет параллельно с затемненной стороной. А кто может сказать, что сам Норман говорит правду? Он не видел ни одного «светлого», кроме Нормана. Зато он видел «невидимых». И о них Вадим тоже узнал от Нормана. Других источников информации у гонщика не было. А может, Норман и сам «невидимый», пробравшийся в стан «светлых»? А может, никаких «светлых» вообще не существует, ведь эти «сендеристы» устроили войну, в которой погибло семьдесят тысяч человек? У любого события, как видно, не две стороны, а больше. Может, три. А может, и четыре… «Может, может!!!» – и Вадим, устав размышлять, передразнил самого себя.
– Ка-а-роче, чувак, ты будешь менять мир к лучшему или нет? – спросил Вадим себя, выдыхая теплый пар. Дыхание затуманило гладкую поверхность маканы, и выпуклое отражение стало мутным.
Вадим перешел на остров и двинулся в сторону полыньи. Рыбак неторопливо сматывал свои короткие удочки и складывал их в железный ящик, на котором сидел.
– Не клюет сегодня? – спросил Вадим.
Рыбак недоверчиво оглядел франтоватого парня в короткой меховой куртке с тяжелой сумкой на плече. В таком легоньком снаряжении решил порыбачить, что ли?
– Нет рыбы в Днепре, – сказал он грустно. – Ну, разве что сетью можно. Только не здесь, а там, где поглубже.
– А здесь не очень глубоко?
– Вообще-то не очень, – скупо отозвался рыбак, ковыляя по льду к берегу. – Но ил плотный. И течение сильное.
Лунка уже покрылась тоненькой прозрачной коркой. Оставшись на льду один, Вадим легко пробил ее одним ударом каблука. Вода попала в ботинок и обожгла ногу, словно холодным огнем.
Через минуту он пошел к берегу, стараясь попадать в большие следы, которые оставили валенки старого рыбака. Сумка на его плече болталась легче.
На берегу уже стоял сине-белый «паджеро» со спортивными сиденьями. Вадим открыл пассажирскую дверь и, стараясь не зацепить головой балку каркаса безопасности, сел в глубокое яйцеобразное кресло. Старую сумку поставил на колени.
– Ну что, шеф, – отозвался Бубенчик с водительского кресла, – в аэропорт? А это что у вас, багаж?
Вадим смотрел в лобовое стекло и улыбался. Он услышал вопрос Бубенчика, но сначала хотел послушать самого себя.
– Это книги, Володя. Старые, редкие. Такие сейчас трудно найти.
– А-а-а, – понимающе кивнул человек за рулем. – Так что мы делаем? Куда поедем?
– Поедем? Сначала в Дубай. Потом в Марокко. Потом под Херсон, в Олешковские пески. Надо готовиться к ралли. Надо, чтобы там вспомнили цвета нашего флага!
– Ну, так бы сразу и сказали! – искренне обрадовался Бубенчик. – А то исчезли, вернулись, и теперь снова хотите исчезнуть? Не получится!
И механик улыбнулся своей фирменной, чуть-чуть щербатой улыбкой. А потом тут же перешел на профессиональные темы:
– Кстати, шеф, а зачем мы оставили зеркало заднего вида в салоне? Внешних зеркал достаточно. Давайте его срежем, а? Все равно спортивные комиссары заставят снять: это ж не по регламенту!
Вадим, словно вместо ответа, слегка развернул зеркало заднего вида на себя. Он встретился взглядом с темными перуанскими глазами под меховой шапкой, увидел смешной покрасневший нос над вязаным толстенным шарфом и услышал:
«Durante muchos años, Vadymo mío, nos han hecho compartir el dolor y la amargura, y ahora nos reúnen para una nueva vida!»[3]
– Неплохо сказано! А кто автор? – весело произнес Вадим, когда внедорожник тронулся с места и, оставляя глубокие следы, исчез в снежном облаке.
Киев, январь 2014
Примечания
1
Эта испанская народная песня, впервые записанная и гармонизированная Федерико Гарсиа Лоркой, стала весьма популярной и в Латинской Америке:
В переводе она звучит так:
«Вот едут погонщики мулов, Четыре погонщика мулов! Четыре погонщика мулов, О, как дрожат мои руки! Ведут свой табун к водопою, Ведут свой табун к водопою. Тот, кто верхом на сером, Тот, кто на сером муле, Тот, кто на сером муле, Ой, моя мама родная! Забрал мою душу с собою, Забрал мою душу с собою!» (обратно)2
Отрывок из народной драмы кечуа «Апу-Ольянтай» (перевод на русский Ю. Зубрицкого).
(обратно)3
Слегка видоизмененная фраза из финальной части народной драмы кечуа «Апу-Ольянтай», написание которой относят ко времени Тавантинсуйу. В широко известном испанском варианте слова инкской принцессы Куси Кольор звучат так: «Durante muchos años, Ollantay mío, nos han hecho compartir el dolor y la amargura, y ahora nos reúnen para una nueva vida!», что в переводе означает: «В течение многих лет, мой Ольянтай, они заставляли нас делить боль и горечь, а сейчас соединяют для новой жизни!»
(обратно)
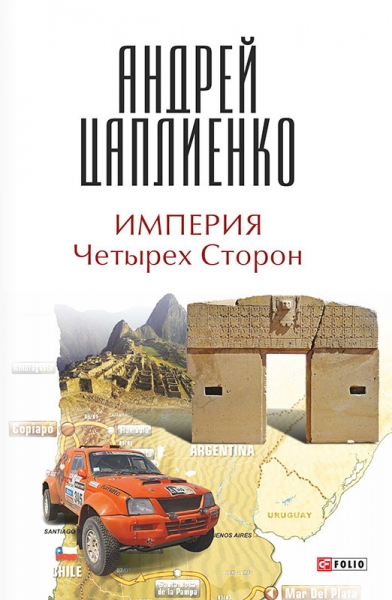
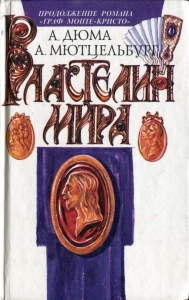
![Дорога на Астапово [путевой роман]](https://www.4italka.su/images/articles/600298/primary-medium.jpg)

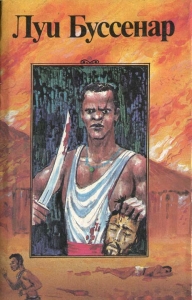
![Братья Кип. Воздушная деревня: [романы]](https://www.4italka.su/images/articles/580781/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Империя Четырех Сторон», Андрей Юрьевич Цаплиенко
Всего 0 комментариев