Право на жизнь
Истринцам,
участникам Великой Отечественной войны
I
Старшина Колосов обнаружил, что давно сидит на срубе колодца, идет дождь, гимнастерка прилипла к телу, мокрые штанины обтянули ноги. Словно затмение нашло, встревожился старшина. Он не глухарь на току, чтобы не замечать окружающего, эдак и влипнуть можно: немцы кругом. Подберутся, скрутят, пиши пропало. Лопоушить не следует, дело надо справлять. За себя, за товарищей. На его руках радист со своим ящиком. Командир группы лейтенант Речкин особо предупреждал старшину, чтобы радиста, рацию пуще жизни берег.
Колосов склонился над ведром с водой, увидел отражение. Глубоко запавшие глаза увидел, когда-то веселые, а ныне как бы потускневшие. Широко приплюснутый нос вроде бы вытянулся, стал тоньше. Надбровные дуги вспухли. Лицо в щетине, Устал он. Очень. Усталость проступала в каждой, черточке лица. Старшина взял ведерко в руки, вода в нем колыхнулась, отражение размылось и пропало. Колосов напился, поставил ведро, прислушался к лесу. Различил шорохи дождя. Скатываясь с листьев, шлепались о землю тяжелые капли. Тонко позванивала струйка воды, сбегавшая с крыши. Изредка верещала сорока. В стрекоте ее Колосов не уловил ни тревоги, ни предупреждения об опасности. Он вновь и вновь оглядел поляну, край леса, избу лесника, в которой оставил радиста Неплюева.
Из всей группы поиска радист оказался менее всего подготовленным к переходу, к тому, что выпало на их долю. Случилось худшее. Неплюев, судя по всему, чокнулся. Бросился бежать, когда шелохнуться было нельзя, странно повел себя в тайнике, рацию не признает. Что делать с ним — неизвестно. Хозяина дома нет. Не знаешь — объявится ли, под немцем ходят.
Пробираться к фронту? Вести Неплюева с собой?
Война приучила Колосова мыслить реально. С такой обузой, подумал старшина, до фронта не дотянуть. Гитлеровцы не потеряли надежду уничтожить группу, захватить радиста, рацию. Они и дороги блокировали, и засады устроили.
Пристроить Неплюева под видом беженца в деревне?
Можно, конечно, только что он скажет, когда вернется к своим? Так, мол, и так, дорогие товарищи, до партизан мы не добрались. Людей потеряли. Командира не сберегли. Может быть, жив, может быть, умер от ран. Ладно, скажут, принимаем ваш доклад. А куда, спросят, вы дели рацию, радиста? Рацию, допустим, закопал. Что с радистом стало, я, мол, не знаю. Не в себе он был, пришлось его в деревне оставить. А вы не подумали, старшина, что он к немцам попадет? От такого вопроса не уйти, отвечать на него придется. Как же, спросят, вы догадались его у немцев оставить? Память, мол, радист потерял, все что есть забыл. Бывает, ответят, понимаем. Но вот вы ушли, радиста взяли гитлеровцы, память к нему вернулась. Как прикажете толковать ваш поступок? Что на это ответишь? Какими словами объяснишь обстановку? На безвыходное положение ссылаться станешь? Оно здесь безвыходное. Когда вернешься, когда придется держать ответ, тогда на все это посмотрят с другой стороны, вопросы зададут другие.
В жизни старшина привык поступать, по совести, держать ответ за каждое решение. Попав в отчаянное положение, он не забывал о том, что спросится. Мысли об этом шли вровень с другими: о товарищах-разведчиках, о леснике.
На худшее Колосов подумать не мог. Если бы лесника взяли, следы бы остались. Колосов, однако, не с бухты-барахты к избушке сунулся, осмотрелся. Чему-чему, а оглядке его не надо, учить. С июня сорок первого года на войне, всякое бывало. Приметил старшина порядок в доме. Печь протоплена, еда приготовлена. В сарае корм скотине задан. В кадках — вода. Такое впечатление было, будто, хозяин отлучился из дома на время. Но и тревога оставалась — человека не было.
Как ни тяжелели думы, уловил Колосов — всполошились сороки. Взгомонились, заверещали, предупреждая обитателей леса о появлении в их владениях постороннего. Такая у них повадка, таково, все сорочье племя. Кто б ни шел по лесу, сороки на всю округу растрезвонят. Старшина принял предупреждение, соскочил с колодезного сруба, вбежал в избу.
Радист сидел на лавке у стола спиной к окну, прямой, как ствол. Руки вытянуты вдоль колен. Взгляд устремлен в точку. Неплюев не шелохнулся, лозы не изменил. Он как бы замер, продолжая пребывать в оцепенении, вроде бы, и присутствуя в этой комнате, в то же время и отсутствуя, находясь в каком-то другом, одному ему ведомом мире. Меловая бледность лица проглядывала сквозь щетину, невесомую, совсем еще юношескую.
Колосов прикрикнул на радиста, Неплюев встал, направился, к двери. Шел он походкой слепого, откинув голову, выпятив подбородок. Старшина еще раз крикнул, Неплюев остановился. Колосов приладил радисту вещевой мешок с рацией, подхватил оружие, осмотрел помещение.
Они вышли из дома.
Крик сорок приблизился.
Колосов подтолкнул радиста, тот прибавил шаг.
Послушный, отметил про себя Колосов. Подумал о том, что Неплюев, вроде дрессированной собаки, понимает только простые команды. Плохо так думать о человеке, но и других сравнений Колосов найти не мог. Именно собачью покорность разглядел старшина в поведении радиста. Ту самую, бессловесную, видеть которую в людях весьма и весьма горько. Тем более горько было видеть подобное в Неплюеве. В начале рейда он казался надежным, выносливым парнем, ловко управлялся с рацией, умел быстро выйти на связь. В том, что их долго не могли запеленговать, вели на них охоту вслепую, — заслуга Неплюева. Об этом, говорил лейтенант Речкин, а своего командира Колосов уважал.
…Речкина и Колосова война обручила огненным кольцом под Минском, когда немцы, едва ступив на нашу землю, оказались в районе Лешачьего лога, где саперный взвод тогда еще младшего лейтенанта Речкина демонтировал оборудование долговременной огневой точки старого укрепленного района. Помнит старшина глухое топкое место, единственную дорогу, высоту возле нее. На высоте, задолго до начала войны, был сооружен дот с начинкой из всего того, что необходимо для длительной обороны и что они успели снять, отправить по назначению, потому что где-то монтировались новые огневые точки, там это оборудование было гораздо нужней. Поэтому, когда нежданно-негаданно началась война, пришлось им обороняться в начисто разобранном доте. Гитлеровцы навалились на них с танками, самолетами, орудиями и огнеметами. Били прямой наводкой. Молотили и молотили огненным цепом их взвод, стрелковую роту, которая подоспела на помощь, случайных артиллеристов, танкистов, кавалеристов, которые там оказались. Выбивали по зернышку. Перемолотили весь колосок. Не останавливаясь, прошли дальше. Не обращая внимания на мертвых и еще живых, оставив их тем, кто шел следом.
Колосов плена ждать не стал. Его контузило, он потерял сознание, но, как только пришел в себя, понял обстановку, пополз в болото, подальше от места боя. Наткнулся на полузасыпанного командира взвода. Потащил и его. Речкина тоже контузило, в себя он пришел позже.
Шли они сначала вдвоем, потом группой, потому что не одни выбрались с того рубежа. Ослабли, оборвались, когда дотащились до деревни Вожжино.
Название деревни Колосов запомнил по двум причинам. Во-первых, радость они испытали оттого, что кончились мытарства, вышли они наконец к своим. Во-вторых, оказались они в руках и во власти представителя особого отдела. Понял тогда Колосов, что значит быть под подозрением, испытал смятение, горечь. Как только они вышли, сразу их и построили. Ярко светило солнце. Мучил голод. Мучила, жажда. Мимо строя пылили автомашины, пыль лезла в нос, оседала на зубах, покрывала лица. Перед строем челноком мотался капитан. Жесткий, поджарый, взрывной. Лицо острое, как топор. Заметно выпирал кадык. Говорил громко, резко. В том смысле, как они могли пропустить немцев. Помнит Колосов необыкновенную пустоту в голове и звон. «Вот так, вот так, вот так», — стучало в мозгах. Других слов не было. Бойцы отвечали односложно. Нечем оказалось останавливать немца, кончился боезапас. Многие не помнили конца боя. Как не помнил его старшина Колосов, младший лейтенант Речкин. Капитан, в свой черед, ни в потерю памяти, ни в контузии не верил. Бойцы держались из последних сил. И тогда младший лейтенант Речкин сказал капитану, что поступать так с ними представитель особого отдела не имеет права. Он может верить им или не верить, но оказать помощь истерзанным людям его долг, его обязанность. «Ты у меня первый, первый ответишь!» — заорал капитан, расстегивая кобуру. Но тут подъехал мрачный, черный то ли от пыли, то ли от бессонницы подполковник, похожий на одинокую придорожную былину: высохшую и колючую. Подполковник привез врача. Вместе с врачом он вышел из машины, оглядел строй. Раненых отправил в медсанбат, здоровых поставил на довольствие. Тогда-то Колосов и решил, для себя наперед держаться Речкина. С тех пор они вместе.
Запомнилась старшине деревня Вожжино, на всю жизнь в памяти осталась. Тот капитан запомнился. Сколько лиц с тех пор прошло, не сосчитать. Война что сито — трясет и трясет. Может быть, того капитана в живых давно нет, а лицо его Колосов помнит. Искренне не верил им капитан. Не мог принять, не принимал катастрофы сорок первого года. Того обстоятельства, что немцы стеной перли.
Помнит Колосов глаза капитана: черные, вроде как без дна. Похожи на отверстие ствола, когда знаешь ты наверняка, что именно из этой глубины ослепит тебя вспышкой выстрела. Играли на скулах капитана желваки. Вздулись на шее жилы. Острый кадык метался вверх-вниз, выталкивая из горла жесткие слова…
Теперь Колосову вновь и вновь вспоминался тот капитан, сорок первый год, все, что было связано с тем тяжелым временем. Вспоминая, думал Колосов и об ответственности. Если только он останется живым, спросится с него, как с живого. Следовательно, и ошибок он не должен допускать, не положено. Сам должен выйти и радиста сберечь.
Перед Колосовым маячила спина Неплюева. Старшина специально радиста вперед пустил, чтобы не оборачиваться ежесекундно, не отвлекаясь слушать лес. «Сороки-стервы и здесь всполошились, — ругнул Колосов птиц за это их свойство. — Вот уж воистину птица-дура, — подосадовал он, забыв, как только что принял их предупреждение, убрался на всякий случай из дома лесника, проследил, чтобы следов не осталось. — Что свой для них, что чужой…» Тишины хотелось Колосову, и чтобы слышно было в одну сторону.
Густел лес. Под ногами все более сырело. Низкие тучи нависли над деревьями. С неба протянулись тонкие строчки дождя. Строчки едва заметные, как штрихи на карте, обозначающие болота; ровные, похожие на безупречно прямые аккуратно выполненных чертежей и оттого, наверное, казавшиеся бесконечными, как бесконечны эти переходы. Вот тебе и июнь, подумал Колосов, все равно что осень: льет и льет. Настанет ли конец этому ненастью? Казалось, всю землю затянуло хмарью.
Неплюев споткнулся, под ногами радиста звонко хлопнул ствол валежины.
— Тише ты! — шумнул Колосов.
Радист остановился.
Подошли к кромке болота. Дальше, знал Колосов, начинаются настоящие топи. Именно в этом месте он решил оставить радиста. Не было, у старшины выбора. Воспользоваться тем, что Неплюев пока еще, выполняет команды, оставить его в глухомани, самому вернуться к дому лесника, разведать обстановку. Приметив пень, Колосов снял с радиста вещмешок, приказал Неплюеву сесть. Радист сел. Глядел при этом сквозь Колосова так далеко, что старшине не по себе становилось. Что он там увидел, какую такую даль? Вдруг да разглядит что. И потянется. И пойдет. Только оставь. Может быть, привязать? Спросил себя старшина, да осекся. Он не лиходей какой, чтобы такое свершить. Лето. В лесу всякой живности полно. Раненый зверь напасть может. Война не только людей подняла, зверье с насиженных мест разогнала. Что зверье — муравьи нападут. Привязанный к дереву человек. — добыча. Насекомым, зверю какому. Слыхал Колосов, будто в древности у лесных людей казнь такая была. Человека оставляли связанным в лесу, да еще медом обмазывали. Обреченного съедали муравьи, другие насекомые. Правда — нет, но ведь лес, без меда обгложут. Он не к теще в гости уходит, не на гулянку, может и не вернуться. Что ж, по его вине человеку муки принимать? В заколдованный, будь он трижды проклят, круг попал старшина: что ни шаг — пропасть. А переступать надо. Надо узнать, кто появился в доме лесника, самому вернуться живым. Другого не дано.
Колосов старался не встречаться с отрешенным взглядом Неплюева. Говорил, действовал, не глядя на радиста. Одним концом веревки привязал Неплюева за запястье левой руки, другим — за ствол березы. Вроде телка на выпасе. «Я уйду сейчас, — подбирал слова попроще, — ты жди. Я вернусь. Вставай, ходи, жди». Неплюев не ответил. «Встань!» — приказал Колосов. Радист встал. «Сядь!» Радист сел. «Я уйду, а ты встал, сел, понял? Ходи, ходи! Попробуем!» Колосов пошел не торопясь в сторону, искоса наблюдая за радистом. Неплюев встал, прошелся, сел. «Ходи, ходи больше!» — крикнул старшина, направляясь к дому лесника..
Первым, кого он увидел возле дома, был круглолицый узкоглазый парень в добротных сапогах, в пиджаке, поверх которого опоясан широкий армейский ремень. Сутулый, мясистый парень этот ощипывал кур недалеко от сруба колодца, того самого, на котором недавно сидел Колосов.
Дождь кончился. Парень сидел на чурке. Рядом с ним стояло то самое ведро на цепи, в которое смотрелся Колосов. Парень окунал обезглавленных кур в ведро, неуклюже дергал округлыми пальцами мокрые перья. На ремне у него висел патронташ.
— Митяй! — крикнул парень.
На зов из дома вышел еще один, постарше, черноволосый с усами, тоже в сапогах, в пиджаке. Он подошел к тому, что ощипывал кур, поставил возле него пустое ведро, сказал что-то. Принял потрошеных птиц, вернулся в дом. Тот, что остался, поднял колодезное ведро, крутнул его, выплеснул воду с потрохами и перьями себе под ноги. Потом он неторопливо достал из колодца чистой воды, перелил ее в порожнее ведро, вошел в дом. Ни тот, которого, парень назвал Митяем, ни сам он, входя, в сени, ног не вытерли, хотя, лежал там, помнил Колосов, плетенный из тряпиц половик.
Время приблизилось к полудню. Сквозь тучи стала проглядывать синева. От света, которого прибывало, от омытости дождем, или от того и другого вместе, стволы подступавших к дому берез выбелились, листья их крон сделались более яркими, зазеленели той приятной для глаз зеленью, когда она в самой силе, не тронуло ее дыхание пока еще далекой осени, не потускнели краски. Сидя в кустах, внимательно приглядываясь к дому лесника, вслушиваясь в говор леса, Колосов думал о том, что обнаруживать себя не следует. Те, что в доме, ни партизанами, ни родственниками лесника быть не могут. Гость не понесет грязь в дом хозяина. Гость и без хозяина не вывалит потроха и перья ощипанной птицы под окнами. Настораживал внешний вид незнакомцев. Слишком сытыми они выглядели. Усталости не заметил в их облике Колосов.
На крыльце появился еще один. Тоже молодой и тоже, как тот чернявый, с усами. Только коротконогий, с копной длинных, давно не стриженных соломенного цвета волос. Он вышел по малой нужде, справил ее с крыльца. Колосов понял, что в доме скорее всего полицаи. Встречался он с подобными типами, и не раз. «Сволочи, — ругнулся про себя старшина, — где жрут, там и…» Подумал о том, что в доме засада. Не та, когда глаза прилипают к щелям, а уши выслушивают каждый шорох. Открытая, под своих. Заходи, мол, тут тебе рады. Если бы не забота о радисте, Колосов до вечера просидел бы в зарослях. Узнал бы, сколько их в доме. Если трое, можно было бы схватиться, передушить по одному. У последнего допытаться, что это за капкан и для кого приготовлен. Но на нем оставался Неплюев. Придется искать другой выход. Теперь надо будет идти в деревню. Если в доме лесника засада, то и в деревне что-то произошло, там хоть что-то, да знают. Худые вести далеко и быстро скачут. Главное теперь — найти верного человека. Не первый раз пробирается по тылам Колосов, всякое бывало, но не было, чтобы в критических ситуациях разведчики оставались бы без помощи. Народ в селах свой, верный. Он не раз убеждался в этом.
Из укрытия старшина вылезал осторожно. По-пластунски да пригнувшись. На расстоянии поднялся, пошел в рост. Почувствовал взгляд. Давно это у него выработалось, с сорок первого года, когда не раз и не два приходилось старшине пробираться тайными тропами. Чувствовал он взгляды. Ворон посмотрит, Колосов обернется. Или нервы ни к черту, или судьба его бережет. И выручает. Под Смоленском он так же почувствовал, будто в спину толкнуло. Упал. В тот же миг раздался выстрел. Колосов откатился, заметил немца, срезал его очередью — и деру. Он и на этот раз повторил маневр, но стрелять ему не пришлось. Старшина увидел женщину. Увидел мельком, потому что женщина скрылась за стволом дерева, побежала. Колосов припустился за ней.
— Стой, мать, стой! — закричал, нагоняя.
Не кричал, говорил, опасаясь, как бы далеко не разнесся его голос.
Женщина бежала, не оглядываясь. На ней был брезентовый дождевик, длинная, до пят, юбка. На ногах — сапоги. Колосов поддал, нагнал женщину.
— Стой же, мать, кому говорят!
Женщина остановилась, обернулась. Старшина понял, что никакая она не мать и матерью быть не может, потому что значительно моложе его по годам. Лицо в веснушках. Курносая. Брови-дуги разлетелись в стороны. Из-под платка выглядывает белесая с желтым завитушка волос. На вид можно дать лет шестнадцать.
— Ты чого, чого за руку хватил! — пыталась вырваться девушка, но Колосов держал крепко.
— Стой же, поговорить надо.
Старшина встряхнул ее с силой. Чтобы хоть как-то ее остудить. А может быть, и успокоить. Напуганной выглядела девчонка.
— Говорун какой, — сказала незнакомка. Дышала при этом трудно, глядела исподлобья. — Пусти, тады и говори.
Она произнесла еще несколько фраз, из которых старшина понял, что девушка местная. Здесь подобным образом говорили многие. Были деревни, в которых люди говорили на смеси украинского, белорусского и русского языков.
Он выпустил руку девушки. В голове гулко бухало. Не только от бега, от бессонницы последних дней, когда приходилось быть особенно осторожным, когда заботы всей группы свалились на него одного. Появилась надежда на помощь. Человек встретился. Одета более чем просто. На лице словно след тяжелой болезни застыл. Колосов не впервые встречал такие лица. Они означены глубокими, появившимися до времени морщинами, изломанными складками над переносьем. В людях, переживших оккупацию, поражала Колосова их сутулость. Та профессиональная сутулость, которая свойственна лишь грузчикам. «Оккупация согнула, но не сломила людей». Он слышал эту фразу не раз. Про себя думал, что тяжесть оккупации повесомее всех нош, если так гнет людей. Понадобятся годы, чтобы человек выпрямился.
— Ты кто? — спросил Колосов.
— Чоловик, — ответила девушка.
Дышала она, как и он, по-прежнему трудно. Смотрела на него хмуро.
— Вижу. Не заяц, — произнес он, соображая, какие слова сказать незнакомке, чтобы она поверила, помогла как-то связаться с людьми. Большой помощи он не ждал.
— Что в лесу делала?
— Чого делала, моя забота. Ты сам чого в избе выглядал?
— Мне помощь нужна, — открылся Колосов.
По словам девушки он понял, что она следила за ним, видела, как таился он в зарослях. Если б она хотела выдать его, шумнула бы возле дома…
II
Большой беспородный пес, черный, как худая весть, стал появляться на окраине деревни Малые Броды в одно и то же время, вскоре после захода солнца, когда и свет не угас, и темень не наступила. Он выходил из леса, принюхивался, переплывал реку Тулью. Отряхивался. Пропадал.
Луг на берегу Тульи, в том месте, где чуть позже пес появлялся снова, когда-то хотели дренировать. Изрыли его, но дренажные трубы заложить не успели. Началась война, с нею — оккупация. По всему лугу теперь тянулись глубокие борозды, густо стояли травы, топорщился кустарник.
Пес нырял в заросли, а выныривал недалеко от дома старосты. Вначале он подходил к дому Шутова близко, его можно было разглядеть. Шерсть на нем свалялась. Одно ухо торчало треугольником. Другое — висело лоскутом, формы не имело. Пес густо зарос шерстью. Когда же вытягивался, напрягал мышцы, можно было разглядеть на его теле розовые рубцы. И были у пса белые-белые, глаза. Сочетание черноты и этих странных, глаз вызывало чувство неприязни к животному, было в этом сочетании что-то пугающее.
Пес выходил из зарослей, садился. Передние лапы ставил широко, и тогда можно было видеть его широкую грудь. Он казался изваянным из камня: вечным, как ночь в ненастье, как безысходное горе непрекращающихся потерь. Он появлялся то в одном месте, то в другом, но садился неизменно мордой в сторону дома Шутова, чуть приоткрывал клыкастую пасть, начинал выть.
В первые дни Шутов на вой не выходил. Потом не выдержал, вышел, шумнул на пса, бросил в него корягой. Пес оскалился, Шутову пришлось отступить. Староста забежал к себе на двор, спустил с цепи волкодава. Злющий волкодав Шутова на пришлого пса не кинулся, как кидался он на деревенских собак, скулил, норовил удрать в сарай. Как позже выяснилось, подобное творилось и с остальными собаками в деревне. Все они затихали, переставали брехать, старались укрыться. Шутов ударил волкодава за такое его поведение, выгнал со двора в ночь. Утром его обнаружили мертвым. Горло и живот у волкодава были разорваны, внутренности частью съедены. Шутов, как увидел такое, перепугался. Стал креститься. Поминал нечистого. Пошел к полицаю Кольке Лысухе, благо тот жил через дом. Колька в этот момент только что хлебнул самогона, закусывал. Идти, с Шутовым ему не хотелось. Тем более, что накрапывал дождик. «Повоет, перестанет», — отмахнулся Колька. Староста стал уговаривать. Пообещал четверть самогона «за эту, — как он выразился, — окаянную тварь». «Только ты стрельни ее», — попросил Шутов. Колька поупрямился. То ли цену себе набивал, то ли от неохоты обуваться. В конце концов согласился.
Пес подпустил их близко. Казалось, он не обращает на них внимания. Колька дослал в ствол патрон, поднял карабин, хотел выстрелить. Пес скакнул в заросли. Ни одна былинка не выдала его дальнейшего движения. Словно он пригнулся и замер. С карабином на изготовку Колька подошел к тому месту, где скрылся пес. Черного зверюги след простыл. Шутов с Лысухой потоптались в зарослях, Колька пальнул для острастки, пошли они домой. Вслед им раздался вой. Они пытались разглядеть собаку, но темень сгустилась, пса они не увидели. Колька стрельнул два раза на голос, вой не прекратился. «Вот тварь…» — зло выругался полицай. «Выследить надо», — сказал староста. На выстрелы прибежали Ванька Рыков, Митька Стрельцов — гарнизон Малых Бродов. Узнав, в чем дело, стали ругаться. Староста повел всех к себе. Вслед им выл и выл приблудный пес.
Вой этот стал раздаваться каждый вечер. Каждый вечер староста вместе с полицаями устраивал на пса охоту. Стреляли в животное, на его голос, в темноту наугад. Пес продолжал выть. Разжигал азарт преследования. Староста, полицаи караулили у реки, прятались в зарослях, ставили капканы. Пес обходил и засады, и хитроумные ловушки. Азарт преследователей перешел в нервную торопливость. Позже — в суеверный страх..
Шутов навесил дополнительные запоры на дверях, плохо спал. Страх его передался полицаям. Сильные над безоружными людьми, опьяненные не только самогоном, но и властью, они быстро поддались страху перед непонятным одичавшим, неведомо откуда объявившимся псом. Матюгаясь, рассказывали они друг другу истории о нечисти: оборотнях, вампирах и прочем, не вдаваясь в то обстоятельство, что страх вошел в них раньше, вместе с предательством, которое они совершили, а пришлый зверь явился всего лишь толчком к проявлению более серьезного страха перед расплатой за содеянное. Шел тысяча девятьсот сорок третий год.
По-иному отнеслись к появлению пса жители деревни. Старики уверенно говорили, что собаки воют по покойнику, и если пес сидит мордой к дому кровопийцы Шутова, то так тому и быть, не жилец староста на белом свете. То же самое предрекали полицаям. Вспоминали обиды, те преступления, которые совершили изменники.
Шутов появился в Малых Бродах вскоре после прихода гитлеровцев. Где он пропадал до этого, никто не знал. Он исчез в период коллективизации. Слухов о нем тоже не доходило. Но как только деревня оказалась под немцем, он и объявился.
Приехал Шутов на двух подводах. Свой дом спалил тогда же, когда скрылся. Вернувшись, занял здание бывшего сельсовета и почты. Участок обнес забором. Заставил односельчан копать ему погреб.
Приехал он не один. В телеге, запряженной здоровенным битюгом, сидел с ним вместе нервный молодой человек. Был он в шляпе, при галстуке. На ногах поблескивали лакированные туфли. Губы, нос, узкий лобик вытянуты вперед, отчего лицо похоже на корень турнепса. Он все принюхивался, морщился, всем видом своим давая понять, как противен ему деревенский воздух. Вторая подвода была доверху завалена барахлом.
Шутова узнали сразу. О втором гадали, кто бы это мог быть. Разъяснилось на следующий день. В деревне появился немецкий офицер с солдатами и полицаями. Состоялся первый сход. Сходом его можно было назвать условно, потому что никто к новой власти на поклон не пошел. Солдаты и полицаи сгоняли жителей деревни прикладами. Нервный молодой человек оказался переводчиком. Он разъяснял то, о чем говорил немецкий офицер. А говорил он страшные слова. О земле. Отныне и навсегда она становилась собственностью великой Германии. Леса, реки, деревня, люди в ней — все это теперь тоже принадлежало Германии, а Шутов назначался представителем новой власти. Приказы старосты должны выполняться беспрекословно. Отныне и навсегда вводилась порка. За особо грубые нарушения — расстрел. Запрещалось собираться группами, выходить из дома с наступлением темноты, укрывать раненых, продукты, одежду… Все ценности предлагалось немедленно сдать…
Офицер говорил долго. Чаще других произносил слова «новый порядок» и «расстрел». Он стоял на ящиках возле дома Шутова: крепкий, глаженый, в блестящих, до колен сапогах. Хлестал по голенищам оструганным прутиком. После каждой фразы плотно смыкал губы. Выдерживал паузы. Смотрел при этом на жителей деревни сквозь прищуренные веки, откинув голову. Острый нос его казался клювом хищной птицы.
Нервный молодой человек, стоящий рядом с офицером, но чуть ниже, успевал говорить, смотреть на офицера, оборачиваться к толпе. Поворачивался резко, всем телом, и оттого казалось, что он дергается. Гладко зализанные волосы разлохматились. Он очень старался. Если слова можно было бы превратить в дубинки, он бы каждым слогом бил по голове и старого, и малого, так хотелось ему угодить немецкому офицеру.
В опустевших домах в это время шел настоящий разбой. Перетряхивались сундуки. Срывались фотографии, портреты. И солдаты, и полицаи гонялись за курами. Стреляли свиней. Туши свежевали, под открытым небом. Бросали их на подводы. В кровь, в туши бросили связанных учителя Николая Васильевича Костина, заведующую клубом Сарру Исааковну Шварц, жену командира Красной Армии Галину Васильевну Горину. Их вырвали из толпы.
Привели к дому Шутова бывшего председателя сельского Совета, пенсионера Максима Владимировича Лошакова. Он схода избежал, намеренно остался сидеть дома. Его избили, притащили к офицеру. Офицер вынес приговор. Нервный молодой человек перевел. Лошакова стали вешать. Максим Владимирович хотел что-то сказать, но его стукнули прикладом карабина, он потерял сознание. Тело Лошакова подтащили к дереву, накинули веревку на шею да так прямо с земли и подтянули. Запретили снимать в течение трех дней.
На этом же сходе объявили о том, что кроме старосты отвечать за порядок в Малых Бродах будут три полицая: Колька Лысуха, Ванька Рыков, Митька Стрельцов. Лысуха местный, его каждый знает. Мать, у него померла пять лет назад, отец повесился за год до войны. Три года Колька пропадал где-то, теперь объявился. Мордастый, красный, злой. Это он Лошакова прикладом ударил. Рыков и Стрельцов из Глуховска. Их деревенские видели впервые. Но это ничего не значило, старосту, Лысуху, этих двоих надлежало приветствовать низким поклоном и шапку снимать. Так сказал переводчик. Сам ли придумал от старания или как — неизвестно, ясно одно: новая власть, новые порядки, придумано унижение, через которое предстояло пройти.
Вечером отряд укатил в город. Утром следующего дня к дому Шутова вышел из леса молоденький красноармеец. Из новобранцев, судя по всему. Гимнастерка на нем сидела мешковато, пузырилась, обмотки накручены кое-как. Чувствовалось, боец не успел привыкнуть к форме. Худой до звона, он окликнул слабым голоском Шутова. Староста глянул, подошел к бойцу. Красноармеец попросил хлеба. Шутов выбил у бойца винтовку, повалил его на землю, скрутил ему руки. Притащил к дому. Стал запрягать коня, чтобы самому отвезти красноармейца в город. Боец понял, к кому он попал. «Дяденька, не отдавай меня немцам», — молил он. Шутов поднял бойца, взвалил на телегу. Красноармеец продолжал просить, чтобы Шутов не выдавал его. Светловолосый, выгоревший до такой степени, что бровей не различить, красноармеец таращил васильковые глаза на старосту, плакал, повторяя одну и ту же фразу: «Дяденька, не отдавай меня немцам». Нос у него распух. Ударил ему по носу Шутов, когда вязал. На губах запеклась кровь. Женщины, видевшие все это, пытались усовестить Шутова, староста озлился. Женщины хотели было отбить паренька, бросились к телеге, на помощь старосте подоспели полицаи. «Дяденька, не отдавай», — молил боец. «Шелудивый пес тебе дяденька!» — взревел Шутов и еще раз наотмашь ударил бойца.
История эта имела продолжение. Женщин, которые пытались отбить красноармейца, староста приказал выпороть. Глумились над ними вечером, когда Шутов вернулся из города. Шутов для этой цели широкую лавку самолично сколотил. Женщин раздевали, привязывали к лавке вожжами, били. Не посмотрели, что женщины в возрасте, специально позору предали.
Не раз, не два прибегал Шутов к такой мере наказания. Он выдавал людей гитлеровцам, доносил на тех, кто, по его мнению, мог быть связан с партизанами. Два года оккупации, чего только не пережили. И карателей, и угоны в Германию. Всех, кто решался приходить к Шутову за помощью, староста обзывал шелудивыми псами. Такая была у него, поговорка. Теперь она ему припомнилась. Большой страшный пес пришел, чтобы оповестить Шутова о приближающейся смерти. Молва об этом птицей полетела по соседним деревням, обрастая небылицами, превращаясь в зловещее знамение для всех гитлеровских прихлебателей. Говорили даже, будто вышел из леса непонятно какой зверь. Ни пуля его не берет, ни снаряд. Объявляется ровно в полночь. Проникает всюду. Карает предателей. Много нелепых слухов рождалось в оккупации, прибавился еще один.
Племянница лесника Галя Степанова в чертовщину не верила. Видела она пса. Рискнула подойти к нему. То произошло в первый день появления собаки. Галя дядю проводила, шла мимо дома Шутова. Услыхала вой. Увидела большую черную собаку. Приблизилась. Пес девушку подпустил, выть перестал. Гладить себя не позволил.
Предупреждающе оскалил пасть. Галя отдернула руку. Пес закрыл пасть, успокоился. «Какие вы строгие», — сказала девушка. Пес ответно вильнул хвостом. Шерсть на нем была густо усеяна репейником, местами опалена. Мышцы тугие, вроде каната. Галя подумала, что и у этого пса был дом, хозяин, но война опалила и эту животину, пес одичал, случилось с ним что-то еще, о чем можно было лишь догадываться. Позвала пса с собой. Тот не шелохнулся. Девушка отошла от него, он вновь завыл.
Галя и раньше слышала, как воют собаки. Этот выл ни на что не похоже. Он брал то высоко, то низко, вой его переходил в гул, казался иногда плачем. Галя пожалела пса. Возвращаясь домой, она решила приручать его постепенно. Была уверена в том, что пес в конце концов к ней привыкнет. На приблудную собаку началась облава. Каждый вечер Галя слышала выстрелы. Переживала. Молила мысленно пса не попадаться. Он словно прислушивался к ее мольбам, уходил от преследователей.
Казалось бы, что ей этот приблудный пес, люди гибнут. Такое кругом творится, не знаешь, как сил хватает выдерживать. Деревню Савино, что в девяти километрах от Малых Бродов, каратели вместе с жителями сожгли. Малых детей не пожалели. Годовалых, двух-трехлетних огню предали. Заколачивали в домах, дома обкладывали соломой и поджигали. Галя как узнала об этом, спать не могла. Ночи страшными сделались. Не видела она того ужаса, только слышала о нем, а детский крик сердце на части рвет. Такая же участь постигла более дальние деревни: Земцово, Чернухи, Березовку, Высокие Ключи. Галя как представит себе тот огонь — лихорадит. Летом мерзнуть стала.
Днями одногодок, всех, кто не успел уйти в лес, скрыться у партизан, в Германию угоняли. Ее чуть было не забрали, дядя Миша отстоял. Галя вспомнит, как сверстниц забирали, по дороге гнали ровно скотину какую, ей нехорошо делается. Жалость, жалость какая. Горькая. Все нутро изожгла.
Появился бездомный, опаленный войной пес, и его жалко. Замечает теперь Галя, что ей каждую травинку жалко. Так бы и прикрыла собой все живое. Эта жалость другое чувство вызывает. Ненависть клокочет в ней, выхода требует. Ей к партизанам хочется уйти, да дядя Миша не отпускает. «Твой пост, — говорит, — в Малых Бродах. Ты, — говорит, — часовой на посту. Двое всего вас и осталось в деревне». Он и Саше Борину не велит уходить. Приказывает терпеть. А каково это, терпеть? Глядеть изо дня в день на то, что постыло хуже самой горькой горечи?
Еще этот… Колька Лысуха. Встретились недавно. Верхом на коне, сам себе пан. Носит же на себе земля таких паразитов. Издали Колька напоминает мешок: круглый, гладкий, толстый. На шее, настолько короткой, что, кажется, ее нет, сидит голова — шар. Когда надо повернуть голову, Лысуха разворачивается всем телом. Поравнялся он с Галей, остановил коня. «Чого не кланяшься?» — спросил. Спрашивал грозно. «Не барин, поди», — ответила Галя. Лысуха усмехнулся. Дернулись толстые губы. Поднял кнут. Потряс им, всем видом своим давая понять, что ударит. Галя замерла. Вскинула голову. Приготовилась не дрогнуть. Только кровь, хлынувшая к щекам, выдавала ее волнение. Почувствовала, как разгораются щеки. Лысуха огрел коня. Конь вскинул морду, бросился с места вскачь. «Ничого, ишшо пошшупаем. Всех пошшупаем!» — донеслись до девушки слова полицая. Поскакал он в сторону леса, по дороге к дому дяди Миши. Галя побежала домой. Рассказала матери о встрече, о словах Лысухи. Мать велела понаблюдать за домом старосты.
Вскоре Лысуха вместе с дядей Мишей приехал к Шутову. Оба были верхом. Кони шли рысью.
Раньше, когда дядя Миша объявлялся в деревне, он прежде всего заходил к своим родственникам. На этот раз они проехали к дому старосты. Девушка прильнула к щели забора, наблюдала. Видела, как дядя Миша скрылся в сенях. Из дома сквозь открытое окно до нее долетал говор, но понять, о чем разговор в доме, она не могла. Галя видела Лысуху. Тот ходил по двору, оглядываясь на окна.
Прошло с полчаса. Дверь распахнулась, на крыльце показался Шутов. За ним дядя Миша. За дядей Мишей Стрельцов и Рыков. Все они оказались в сборе. Отвели дядю Мишу в погреб, заперли за ним дверь. Шутов огляделся. Посмотрел на небо, по которому бежали облака, на крышу сарая. Прилип взглядом к забору. Галя подумала, уж не ее ли он разглядел. Но Шутов перевел взгляд на ворота, девушка успокоилась. Полицаи вскочили на коней, поскакали прочь со двора. Поскакали они в сторону дома дяди Миши. «Рты не раззявьте!» — крикнул им вслед староста. Галя побежала к матери. Мать послала ее в лес.
Проводив дочь, Надежда Федоровна замерла в тревоге. Сердце сдавила тяжесть. Так было и раньше, когда приходилось посылать Галю то к брату своего покойного мужа Михайле, то в Глуховск. Надежда Федоровна устала от постоянных тревог, от непрерывного ожидания худшего. Хотя и другой доли ни для себя, ни для дочери не мыслила. Верила. Настанет день. Радость вернется вновь. Тяжесть на сердце, однако, стала постоянной спутницей. Давит. Будто впряглась она в телегу, тянет по разбитому проселку воз, нет конца этой проклятой дороге. Два года оккупации. Разве думали, что так получится. Сначала надеялись, что не допустят немцев в Глуховск. Колхозный скот отправили, все, что осилили, закопали, а надежда оставалась. Когда поняли, что надо уходить, поздно стало. Поднялись, пошли, да вернулись. Дороги под немцем оказались. Горело кругом да рушилось.
Надежда Федоровна взялась полы мыть, не смогла. Склонилась над ведром, тряпку бросила. Раньше еще хватало сил. Занимала себя делом, когда уходила Галя. Теперь занять себя не могла. Села на лавке у окна, стала на улицу смотреть. И уже знала, что не поднимется, так сиднем и просидит до тех пор, пока не увидит дочь. «А сколько эдак сидеть?» Подумала и напугалась. В спешке срок не обговорили. Вопросы закружились в голове. Сколь долго Шутов станет держать в погребе Михайлу? Надолго ли ускакали полицаи в лес? Вдруг ночь сторожить придется? Вот ведь горе какое. Самой, самой побежать надо было бы. От таких мыслей Надежда Федоровна еще больше обеспокоилась. Безответные вопросы вспыхивали в голове да гасли. Решила ждать до темноты. Думы потекли полынно-горькие. Неспроста взял Шутов Михайлу, ох неспроста. Если эти изверги схватят кого в доме родича, тут уж беда наступит, не жить им на свете. Ни Михайле, ни Гале, ни ей самой…
Дню не было видно конца. Мимо дома проходили женщины, пробегали ребятишки. Затихла деревня.
В довоенные годы в эту пору улица тоже как бы вымирала. Только детишки и оставались в домах под присмотром престарелых. Взрослые, подростки — все население Малых Бродов уходило в луга на сенокос. Но то была иная пустота: понятная, деловая, вызванная заботой о земле и зиме, о кормах для колхозного и личного стада. Не стало теперь ни колхоза, ни стада. Людей в деревне мало осталось. Кто в армию, ушел, кто в партизаны, кого угнали в неметчину. Тяжело людям. Надежде Федоровне тяжело вдвойне. Для жителей деревни они с дочерью немецкие прихвостни, если их родич с немцами якшается, льгот добился. Потому и сторонятся их люди. Галя с Санькой Бориным поговорить может, а каково ей, вдовой, да еще с таким ярлыком. Вот и приходится жить, как на отшибе. Среди людей, но и вдали от каждого. Шутова а деревню нелегкая принесла. Зло косится на них староста. Не верит Шутов Михайле. Ненавидит за все. За то, что родню опекает, держится независимо. Неймется кровопийце. Грозит. И этот. Лысуха. Тоже с угрозами. К Гале подступает, беды бы не натворил.
Свидетельство очевидца, жителя села Сазоново Петра Степановича Березовского от 12 декабря 1944 г.
«…Официально гитлеровцы начали кампанию по-ликвидации колхозов зимой сорок второго года, после тога как имперский министр Альфред Розенберг объявил о новом порядке землепользования в занятых немецкими оккупантами районах и областях нашей страны. Однако колхозное и совхозное имущество гитлеровцы стали разворовывать в сорок первом году. Тогда же, в сорок первом, вслед за войсками появились немецкие колонисты. Наш совхоз «Сазоново» превратился в имение Ирмы Ренагль.
Ирма Ренагль поселилась в бывшем княжеском особняке. Объявила себя помещицей. Прислугу набрала из наших девушек, в том числе и несовершеннолетних. Жителей села Сазоново, деревень Раково, Подлипки, Ерши объявила своей собственностью, назвав сельскохозяйственными рабочими. В имении работали не только взрослые, но и дети. Рабочий день длился по двенадцать — четырнадцать часов.
Хозяйке имения было лет тридцать с небольшим. Среднего роста, белокурая. Зубы ровные. Нос крупный. Верхняя губа рассечена, шов искажал лицо, придавая озлобленное выражение. Носила брюки галифе, сапоги, кожаную куртку. Из дома выходила с нагайкой, пистолетам, в сопровождении охранника, некоего господина Сорина. Из белоэмигрантов. Сорока пяти лет. Высокий, жилистый, желчный. Он же управляющий. Он же переводчик. Он же исполнитель воли своей госпожи.
Самым распространенным видом наказания в имении была порка. За провинность. За недогляд. Без вины, если того требовала Ирма Ренагль. Она сама избивала людей. Теряла контроль над собой. Била людей до тех пор, пока хватало сил. Остановить ее было некому. От побоев Ирмы Ренагль умерла четырнадцатилетняя Катя Глухова, двенадцатилетний Коля Смирнов, пятнадцатилетняя Вера Хорева. Ирма Ренагль застрелила трех военнопленных, фамилий которых установить не удалось. Она же застрелила Петра Васильевича Хорева — отца Веры, Анну Ивановну Крючкову, Надежду Григорьевну Сорокину. Многих наших односельчан Ирма Ренагль передала гестапо. Домой они не вернулись…»
ИЗ ДОКУМЕНТА, ЗАХВАЧЕННОГО ПАРТИЗАНАМИ ПРИ РАЗГРОМЕ КОМЕНДАТУРЫ г. ГЛУХОВСКА ЛЕТОМ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА
Из распоряжения начальника тылового района 17—Ц полковника Ганса Фосса
21.03.43 г.
«…16.05.43 г. в имении «Сазоново», произошел трагический случай, о котором считаю необходимым сообщить следующее. Взбунтовавшись, сельскохозяйственные рабочие, подстрекаемые лицами из бандитских формирований, сожгли имение Ирмы Ренагль. Хозяйку имения, управляющего господина Сорина взбунтовавшаяся толпа убила варварским способом. Ирма Ренагль, господин Сорин были привязаны к деревьям и разорваны. Отмечая, что подобные дикие расправы происходят не впервые, обращаю внимание руководителей административных служб, командиров специальных подразделений на следующее обстоятельство.
Прошло больше года после объявления нового порядка землепользования, однако сельское население не только саботирует выполнение директивных указаний, но и оказывает сопротивление немецким властям. В сложившейся обстановке считаю целесообразным провести следующие мероприятия.
1. По каждому случаю саботажа или неповиновения проводить показательные казни подозреваемых независимо от пола и возраста.
2. Арестам, показательным казням подвергать родственников подозреваемых.
3. В случае расправы населения над немецкими колонистами подвергать деревни ликвидации вместе с жителями.
4. Не оставлять без разбора и соответствующего наказания ни одного случая нападения на подданных великой Германии.
5. Акции устрашения сельского населения провести во всех деревнях, имениях, общинных хозяйствах.
6. Руководители административных служб, командиры специальных подразделений должны постоянно помнить о том, что последовательности в осуществлении директив, направленных на обеспечение новой сельскохозяйственной политики, можно добиться только путем террора, а безоговорочного подчинения — силой…»
III
Шутов отправил полицаев в лес, закрылся в доме. Под ложечкой засосало, неважно себя почувствовал.
С первых дней появления в Малых Бродах староста принялся восстанавливать то, что было у него когда-то отнято. Часть колхозной земли, сад — захватил бауэр, господин Ротте, живший в Глуховске. На него работали жители многих окрестных деревень. Однако и Шутова при дележе не забыли. Вернули земли, которыми владел он до революции. Часть людей Шутов отправлял на лесоповал, часть работала на господина Ротте, остальные гнули спины на старосту.
Из всех на него работающих Шутов выделил одного — Саньку Борина, расторопного шестнадцатилетнего паренька.
По натуре Шутов из тех, кто и себе верит через раз, но Санька каким-то образом вошел к нему в доверие. Староста подкармливал паренька, доверял присматривать за хозяйством. Происходило это скорее всего оттого, что смышлен и понятлив оказался Борин, и в душе Шутов надеялся сделать из Саньки управляющего. Дай только бог выбраться из Малых Бродов, сравняться с господином Ротте. Мысли Шутова в эту сторону далеко шли.
Именно шли.
Раньше.
Особенно в сорок первом году.
Теперь же, в сорок третьем, многое изменилось.
Боязлив стал Шутов. Не первый раз уходит со двора, старается отсидеться в доме.
Среди бела-то дня…
Ночью и того хуже. На углы стал оглядываться. Кажется, в углах кто-то есть.
Сдавать, что ли, начал, скоро шестьдесят. Худая весть черным вороном пролетит, крылом, а заденет. Выводит из равновесия. Это ж только подумать, что делается, — немку не пощадили. Привязали к деревьям да разорвали. И немку, и управляющего ее господина Сорина…
От подобных вестей укрыться хочется, да некуда, да нечем.
Это о одной стороны. С другой — не чувствует в себе убыли Шутов, наоборот — прилив сил ощущает. Большая власть ему дана. Может он теперь силу показать, зло сорвать. В нем зла много накопилось, некуда было сливать. С того дня, когда раскулачивали. Только тогда он чуток зла своего слил.
Помнит Шутов, ничего не забыл. Помнит, как ворвался с налитыми кровью глазами лютым ворогом в собственное жилище, крушил, что под руку попадало. В ночь расправился с тем, что копил годами. Скотину и ту порезал. Пил, а вот поди ж ты, не брал его хмель. Крушил, резал, а ему все мало было. Под утро дом, хлев — все, что могло схватиться, огню предал. Лишь бы не досталось чего «псам шелудивым», «голодранцам-коммунникам». В ту же ночь уполномоченного убил. Тогда же и скрылся. Сперва в Азию бежал, потом на Урал. Благо стройка там налаживалась большая, народу наехало видимо-невидимо. В такой массе людей скрыться легче было, так он считал. Пока встреча неожиданная не произошла. А встретился ему дружок сына его Леха Волуев. В объятия не кинулись, но заприметили друг друга, пошептались, свиделись в пустынном месте. Осень стояла морозная. Лехин рассказ тоже холоду прибавлял.
Вместе с сыном Шутова Василием Леха разбойничал у Махно. «Попили ихней кровушки, — кивал Леха головой, указывая в сторону новостройки, — порубали большевичков». Когда же их прижали и некуда им стало деваться, Леха вместе с Василием решил податься за кордон. И проскочили бы, да настигли их красные конники. «Ранило Ваську, — говорил Леха, — чуть было он не сгинул». «Многих положило тогда, дядь Гриш», — рассказал Волуев. Но и в живых кое-кто остался. Уползли они в лес. Вместе с Васькой. Вместе решали за кордон прорваться. На хуторах отсиживались, таились в лесах. Пробовали снова уйти за кордон, не получилось. Подались к атаману Антонову. Там их тоже вскоре прищучили, там Васька голову и сложил. «Вот, — вытащил Леха из-за пазухи золотой крестик, — все, что осталось от твово сына, дядя Гриш. Бери. Храни до лучших дней».
Ночь выпала метельная. Ветер гнал мелкие колючие снежинки, они больно секли лицо. Шутов, как узнал о смерти сына, пустоту в себе ощутил. В глазах затуманилось. Очертания деревьев размазались. То ли деревья, то ли еще что нависло — не разобрать. И холодно стало, и одиноко. До встречи с Волуевым жила в Шутове надежда, что сын жив, есть кому отомстить за порушенную жизнь. Уплыла надежда, дымом рассеялась.
Из леса, в котором укрылись они с Лехой для тайного разговора, хорошо были видны огни стройки. Приглушенные расстоянием, долетали до них ее звуки. То загудит на стройке, то дробно разорвет воздух. В душе Шутова злоба заклокотала. Так бы и взял топор в руки. И рушил бы, и палил бы. Он бороду терзал, скреб грудь под полушубком, но все чувствовал, что воздуха не хватает. «Ничого, дядь Гриш, — успокаивал Леха, — еще сквитаемся».
Долгим был разговор. Решили они держаться друг друга. Уговорил Леха Шутова бежать со стройки. Если они встретились, то и другие, вовсе не желательные, встречи произойти могли. Вдруг да нагрянет кто из Глуховска иль — того хуже — из Малых Бродов. Народ поднялся, едут и едут. Сговорились. Барак подожгли, запалили бензохранилище. Помнит Шутов зарево, смрадный дым, но пуще всего свое состояние. Будто держал он долго-долго дыхалки свои закрытыми, потом выпустил воздух, хватил свежатинки, легко ему сделалось. Боле не было ему легкости до самого сорок первого года.
После Урала укрылись они с Лехой в Сибири. Жили и работали в леспромхозе. В глухое место забрались. Шутов лес валил, Леха по снабжению устроился. Часто в командировки уезжал. Возвращался возбужденный, радостный. «Ты, дядь Гриш, жди, — успокаивал, — придет наш час, все еще впереди». О своих поездках тогда Леха не очень распространялся, но Шутов догадывался, что Леха связь с кем надо держит, потому и разъезжает. И правда. Леха признался, что уже тогда был связан с немцами. В командировках своих признался. Неспроста ездил, по делам да по заданиям…
С войной они с Лехой враз поднялись. Пошагали, поехали навстречу потоку беженцев. В сумятице первых дней войны без происшествий добрались до Глуховска. Вот тогда-то вновь облегчение вышло, возвратилась жизнь на круги своя. И шапки перед ним стали ломать, и хозяином он стал. И земли, и Малых Бродов. Каждый попал под его власть. Если б не тяжесть последнего времени, жить можно было бы. Тянет, однако. У самого сердца сосет. Вернуть бы сорок первый год, когда оглядываться не приходилось. В сорок втором он с оглядкой жить начал, тогда дыхание схватило. Партизаны объявились. Приговоры стали выносить. С сорок второго года Шутов вроде как в гору идет: чем дальше, тем круче, и остановиться нельзя — скатишься. В сорок втором появился страх. Хлеба в том году какие поднялись — загляденье. Осень наступила, не все Шутову воротилось. Часть партизаны забрали, часть пожгли. Это хлебушек-то. Тут почище продотрядов получилось. И Шутова обобрали, и бауэра, господина Ротте. Леха, спасибо ему, прискакал, пустил красного петуха по черным избам. Кой-кого и вздернуть пришлось. Иначе б совсем плохо стало бы, ничегошеньки бы не осталось.
Лихой парень сын Волуева — Леха. Не забыли ему немцы старых услуг. Он, слава богу, Шутова тоже не забывает. Трех полицаев подчинил. Они и охрана, и исполнители. С Лехой шутки шутить — битому быть. Они это понимают, стараются. У Лехи две медали от самого, говорят, ихнего фюрера, господина Гитлера. Леха акции проводит. У него золотишко водится. Шутов собственными глазами видел. Показывал ему Леха. И серьги, и часы, и зубы в мешочке сложены. «Война кончится, — похвалялся по пьяному делу Леха, — заживем, дядь Гриш, на полную». Его б устами да мед пить. Не видать что-то конца. Год от года тяжельше становится. Неизвестно, куда повернет. «Ничого, дядь Гриш, — похвалялся нынче Леха, — рванем вскорости. Там, — кивнул он в сторону фронта, — такое готовится, что и за Москву, и Сталинград разом отзовется». Шутов сам понимает, что серьезное наступление готовится. Город войсками забит, танков много нагнали. Необычные танки, что крепости. Зовут то ли тигрой, то ли еще как по-звериному. Броня, говорят, у них особая, ее снаряд не берет. Дай-то бог, иначе…
Не может, не должно быть иначе. Два года гонит подобные мысли Шутов. В церкви бывает. Молится. Он и сегодня, прежде чем к Волуеву заехать, в храме побывал. Свечи поставил. За упокой души раба божьего, сына своего Василия да за то еще, чтобы ниспослал господь победу «ерманцу», как он называл немцев. К окладу богородицы приложился, у Николы Чудотворца на молитву стал. Все, как папенька, царствие ему небесное, исполнил. Тот, бывало, вернется из города после очередной сделки, сядет за стол перед самоваром, о делах расскажет, о надеждах. Обязательно помянет, что и к богородице приложился, и молитву Николаю Чудотворцу сотворил. «Должны помочь, — перекрестится, — я им свечи поставил». Мать пугалась от такого вольного обращения к святым, Шутов-младший принимал слова папеньки как должное. Папенька, бывало, и о сотоварищах по торговле так говорил. Тому-то он то-то сделал, и тот «должон помочь». Бог, по разумению Шутова-старшего, все равно что компаньоном в торговле ему был, так получалось. До подобных обобщений Шутов-младший не доходил, но то, что святые на их стороне, усвоил хорошо. «Ерманцы тоже надеются, — думает теперь Шутов, — на свою сторону бога тянут». Видел он бляхи солдатских ремней, на которых хоть и не по-русски, но написано, что с ними бог. Шутову такое отношение и близко, и понятно, оно вошло в него с детских лет.
Истово молился Шутов, поклоны клал низко. Задел плечом о кого-то. Скосился. Народу в церковь много нашло, на это он обратил внимание. Люди простые, одеты бедно. Старики, старухи. Были здесь и женщины с детьми. «О, рвань, — ожесточился Шутов, — ни кола ни двора, а туда же». Понимал, что в церкви нельзя так думать, злобиться, перед богом все равны, однако и на собственное горло наступить не мог. Не принимал Шутов равенства. Закипало в нем. О том подумал, что молитвы ныне вновь разделились, как раздельны были они во все времена. Всяк о своем молится. Он о победе одного оружия, а эти? Те, что рядом стоят? Так же, как и он, крестятся, так же отбивают поклоны. О чем бога просят, чего хотят? Погибели они его хотят, о том и молятся. Много их в церкви, не знаешь, чьи молитвы скорее до бога дойдут. Всем скопом молятся, вдруг да уговорят…
Шутова в жар от таких мыслей бросило. «Псы шелудивые!» — ругнулся он про себя и снова попросил господа простить ему бранные слова в храме. Не к месту вспомнился приблудный пес, вой по ночам. Еще хуже сделалось. Шутов вышел из церкви. Не получилось молитвы.
Сидит он теперь в своем доме, безотрывно смотрит в окно. Дышит трудно. О леснике думает, что в погребе заперт.
Не верит он Михайле, никогда он ему не верил. С утра он специально в город к Лехе Волуеву ездил. В который раз уговаривал Леху покончить с Михайлой. Долго не поддавался на уговоры Леха. Немцы Степанова якобы из заключения вызволили, выдали в том документ. Сидел он в тюрьме якобы за связь с немецкими шпионами, и тоже оградили документом. Сколько раз доказывал Шутов Волуеву, что в таком деле бумаге верить нельзя. Степановы всегда в грамотеях ходили, воду мутили. Где он при Советах был? В деревне о нем что-то не слыхали, узнавал Шутов. А по документам, так он вроде бы даже растрату совершил. Это Степанов-то! Его батька-голодранец рубаху последнюю с себя снимет, первому встречному отдаст. Оба сына такими же росли, помнит Шутов. Весь род Степановых такой, на́ тебе — растрата. «Немцы его со всех сторон проверяли, — говорил Леха, — документы и все такое прочее в порядке». — «Дураки твои немцы, вот и в порядке», — возражал Шутов. Степановы к земле ни когда не тянулись, не было в их роду такого. В лес Степанова потянуло. По разумению Шутова, документ можно выправить любой, но и в корень смотреть надо. Степанова большевики оставили, не иначе. «Доказательств нет», — говорил Леха. Взять бы Михайлу, и делу конец. Пытать. Были бы и доказательства. «Он немецкую сторону добровольно взял, подписку в том дал», — говорил Леха. Будь его, Шутова, воля, порвал бы он эту подписку на мелкие клочки, потому грош ей цена.
Сколько жил Шутов в Малых Бродах, столько он в сторону Степанова и косился. Не просто поселился Степанов в лесу, ох не просто. Жену умершего брата с девкой под защиту взял. Что баба с девкой, у Степанова под защитой ближние деревни. Жители этих деревень, видишь ли, обеспечивают лесоповал. Льгот им добился. К начальнику тылового района, к господину полковнику Фоссу в доверие втерся, а! Всех, всех бы надо пощупать, одного поля ягода.
Ныне Леха сказал, что всполошились большевики, почуяли беду, разведчиков своих засылают. «Счас, — сказал, — в оба глаза смотреть надо». И то, что прозревать начал. «Теперь, — сказал, — можешь взять Степанова. Придержать у себя. Пусть, — сказал, — твое быдло за домом его приглядит. Объявится кто — хватайте». Наконец-то! Давно, давно надо было так-то. Шутов настолько обрадовался разрешению взять Степанова, что домой галопом гнал своего коня. Сразу услал полицаев в лес.
Лес.
Задумался Шутов. Для него за этим коротким словом многое видится. В лесу он скрывался, когда собственное хозяйство огню предал, уполномоченного убил. В лес бежали они с Лехой с Урала. Среди леса войны дождались. Теперь лес других укрывает, тех, кто приговоры выносит, против новой власти идет. Попробуй до них дотянутся. Весной экую силу собрали, лес все одно что гребнем прочесали, а результат? Нет результата. И покою нет. Потому как в лесу и болота, и чащобы. По себе знает Шутов, что такое лес, потому страшится его. Уверен — с ними Степанов, с теми, кто нападает. Сиди теперь, жди доказательств. Сколько ждать? И только он так подумал, оторопь Шутова взяла. Как же раньше его не осенило. Ждать не день, не два. Пошто всех троих в лес отправил, самому как быть? В лесу хватило бы двоих. Михайле Степанову еду носить надо, в сортир его, проклятого, выводить. Здоров Михайла, вырвется, оглоушит, поминай как звали.
Ночи в июне коротки, заря с зарею сходится. Но и темень наступает. Особенно в пасмурную погоду. Солнце скрылось, сразу зашторило свет. Лес вдали превратился в одну сплошную черную линию. Ни островерхих елей не различишь, ни крупноголовых берез. Ближний стог сена скалой надвигается. Журавль над колодцем вот-вот сорвется, побежит. Но больше всего кажется, что возле погреба, в котором заперт Степанов, идет какая-то возня. Выйти бы, посмотреть, как замок держится. Не может пересилить страх Шутов, к окну приник. Вспомнил о Саньке Борине. За мысль эту как за спасительную ухватился. Надо было с вечера позвать пацана, все не так жутко сейчас было бы. О том подумалось, что хорошие мысли не торопятся, с опозданием являются. Поторопился он, ох как поторопился с Михайлой. Да и то сказать, сколько ждал этого момента. Теперь бы утра дождаться. Утром можно будет Саньку за Лысухой в лес послать. Утро вечера мудренее, бог даст — все еще образуется.
И только он так подумал, явственно услышал хруст веток. Шутов так и обмер. Лицом к стеклу прислонился. Разглядел на заборе мальчишескую фигуру. Узнал Борина. «Господи, — произнес в сердцах, — дошли до тебя мои слова». Он видел, как подросток прыгнул с забора, глаз с него не спускал, пока тот шел к крыльцу. Санька собрался было стучать в дверь, Шутов открыл окно.
— Ты, Сань?
Понимал, что глупый вопрос задает, но и другого не нашлось. Испереживался он за это время.
— Я, Григорь Максимович, — отозвался Санька.
— Пошто в ночь?
— Дак дело привело, Григорь Максимович. Дядь Коля Лысуха из лесу раненый приполз.
— Как! — выдохнул Шутов.
Он из окна по пояс от такой новости высунулся. Из темноты кто-то схватил Шутова за грудки. В тот же миг староста потерял сознание.
ИЗ ДОКУМЕНТА, ЗАХВАЧЕННОГО ПАРТИЗАНАМИ ПРИ РАЗГРОМЕ КОМЕНДАТУРЫ г. ГЛУХОВСКА ЛЕТОМ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА
«Коменданту г. Глуховска майору Паулю Кнюфкену
Настоящим сообщаю, что русским разведчикам вновь удалось уйти от преследования.
Произошло это по следующим причинам.
1. Русские разведчики не останавливаются перед крайними мерами. Среди русских разведчиков находятся фанатики-самоубийцы, которые остаются в заслоне. Вышеуказанные фанатики-самоубийцы отстреливаются до последнего патрона, подрывают себя связками гранат. Наше движение задерживается, мы несем потери.
2. Вместе с тем огонь на уничтожение русских разведчиков мы вести не можем, поскольку перед отрядом преследования поставлена задача захвата рации и радиста противника.
3. Характер местности не способствует выполнению задания.
В связи с вышеизложенным прошу помощи в организации преследования, а также в выделении дополнительных сил.
Командир отряда преследования капитан Отто Бартш».IV
Долгим выдался день для Колосова. Не только потому, что рано светает, поздно темнеет. День затянули ожидания.
В первой половине дня старшина долго ждал лесника. Уйти, не встретившись с этим человеком, Колосов не мог. Дом лесника единственная явка на пути поисковой группы к конечной цели. Только лесник знает, где теперь находятся партизаны. С насиженного места они поднялись и ушли еще весной, ведут бои с карателями.
Представить себе положение партизан Колосов может. С сорок первого года в разведке старшина, с тех пор, как дал слово держаться Речкина. Приходилось ему и пробираться тайно, и от преследования уходить. Зримо представлял обстановку старшина, в которой ныне оказались партизаны. Самому досталось. До сих пор в памяти холода да топи, ситуации разные, когда словно балансируешь на грани ножа.
В обыденной жизни человек все больше хорошее вспоминает. Война многое перевернула. Память не в ту сторону направляет. Зима вспомнится, холод за душу берет. Кажется, не отогреться вовек. Весной, зимой, осенью разведчика грязь одолевает, одолевают потоки воды. Выпадают сухие, порою жаркие дни, недели, месяцы, но они как раз и не запоминаются. Помнит, как пробирался трясинами, проваливаясь в болотную жижу, месил и месил грязь на дорогах, а чаще по бездорожью. Может быть, оттого так помнится, что в разведке он, а разведчику, дело известное, и в снегу дольше лежать приходится, и места глухие выбирать. Маршрут едва проклюнется, а ты соображай, где укрыться в случае чего. Болота, реки, чащи — самое надежное укрытие. Особенно от собак.
За два года войны Колосов убедился, что паскуднее собаки твари нет и быть не может. Взять, к примеру, танк или самолет. Ими управляют. У тех, кто управляет, нет такого звериного чутья, как у собак. Залез от танка в щель, он над тобой проскочил, ты, если не растерялся, связку гранат под гусеницу бросил, бутылку с горючей смесью в моторную часть швырнул. Не стало танка. Подорвался, сгорел. Непросто это, конечно, духа набраться надо, не сдрейфить. Махина все ж таки на тебя прет, стреляет. Однако и управа на эту махину есть. Можно и с самолетом разойтись. При встрече с ним тоже главное — в панику не удариться. У самолета скорость, вот и рассчитывай. В щель сховаться или как. Опять же, ты его сбить можешь. Были случаи. Из «дегтяря» сбивали, из «пэтээров». Из обычной трехлинейки попадали, и самолеты падали.
От собак тоже отбиться можно, сама по себе она не такой страшный зверь. Наловчился Колосов. Когда псина, освобожденная от поводка, летит на тебя, тут ее и подбить можно пулей, и ножом достать. В момент прыжка выкинул руку, она же, тварь, обязательно норовит вцепиться в то, что ближе. Ты руку согнул, а она уже летит, в воздухе она неуправляема. Тут ты и достаешь ее ножом. Для этого необходимы тренировки, но на войне без тренировки и в атаку не пойдешь, враз тебя прикончат. Колосов тренирован хорошо. Стреляет с двух рук, ножом владеет в совершенстве. Собаку ему прикончить раз плюнуть. Но в том-то и дело, что каждый раз, когда появлялись собаки, следом за ними шли и автоматчики, и машины. И коль дело докатилось до собак, тут все против тебя. Потому что собаке доверие большое. У нее чутье, нюх. Она по твоему следу идет — вот в чем беда, вот почему с ними лучше всего не встречаться. В чем, в чем, а в преследовании гитлеровцы поднаторели. Появится над лесом «рама», летит, едва не касаясь вершин деревьев, или кружить начнет. Летчик каждую кочку оглядит, каждый кустик осмотрят. Заметит подозрительное, своим сообщит. Лес оцепят, десант выбросят. Пустят по следу собак.
Днями подобное пережили. Уходили от преследования. От группы, считай, их двое всего и осталось: он да Неплюев. Что стало с командиром, с друзьями-разведчиками, старшина не знает. Одна у него теперь задача — добраться до партизан. Задача непростая. Партизаны, если живы, в осаде. В такой же, какую испытала их группа, а может быть, и покруче.
Нелепо получилось. Вспомнит Колосов, досада берет. Когда самолет над лесом появился, они успели скрыться под кронами, замерли. С Неплюевым что-то случилось. Радист дико закричал, побежал, лейтенант бросился за ним, догнал, подмял под себя. Поздно было бросаться, заметил их летчик. Круто развернул машину, вернулся, кружил дотемна.
Перед заходом солнца прилетел другой самолет. Выбросил десантников. Пришлось принять бой. Ранило Речкина. Погиб Женя Симагин. Не стало хорошего веселого парня.
О таких, как Женя, говорят: душа нараспашку. Сухарь сам не съест, когда туго, с товарищем поделится. Он и на гармошке играл, и песни пел. Голос звонкий, под стать какой-либо российской речушке без названия, что бегут бесчисленно в средней ее полосе. Вынырнет такая речушка из зарослей, прозвенит на песчаном перекате, укроется в чаще, торопливо поспешая к большой реке. Открытость характера парня с российским полем схожа. Есть такие поля в средней полосе. Кругом леса, леса, холмы да овраги, и вдруг такой простор откроется, что веришь — земля круглая. С любой стороны к такому полю подходи, оно все враз видится. Не было у Жени затаенности ни в горе, ни в радости. Его лицо, что икона в переднем углу, всякому входящему видно. Запоет, засмеется — осветит. Загрустит — лицо тенью застится.
Лейтенант Речкин Женю Симагина из полковой разведки сманил. «Слишком хмурый народ в нашей группе подобрался, — сказал Речкин, — разбавить надо». И разбавил. Женя товарища выслушать мог, если на душе у того наболело, мог душу отвести. Возьмет гармошку, так сыграет, что любая боль засохнет, болячкой отвалится. А нет, песню споет. По настроению. У него песен в запасе превеликое множество.
В группе Речкина такой порядок был заведен. Приходит кто на пополнение, лейтенант сам с ним беседу ведет. Потом старшина. О жизни говорят. О прочем. Смотря какие слова найдутся. О том, почему в разведку пошел, спрашивают прежде всего.
Зиме начало было. У каждого на языке Волга да Сталинград были. И тревога, и боль, и надежда на то, чем потом эта битва закончится. Группа Речкина подвиг совершила. Так сказал о них начальник разведки полковник Логинов. Далеко они в тот раз к немцам в тыл забрались, уничтожили хранилище авиационных бомб, крупнокалиберных снарядов. Не чаяли в живых остаться, однако повезло, вырвались. Вот тогда-то Речкин и привел Симагина. На вопрос Колосова Симагин ответил так: «Мне, товарищ старшина, немца в глаза видеть надо». — «Ну дак и смотри, когда они пленные бредут, ныне их много», — посоветовал Колосов. «Не то, товарищ старшина, — сказал на это Симагин. — Мне его глаза видеть надо, когда берем, кляпом глотку ему затыкаем». — «Не присматривался я к ним, — признался Колосов. — Иль есть на что?» — «Кому как», — ответил Симагин, неопределенно пожав плечами.
В сорок первом году Женя Симагин к восемнадцатилетнему рубежу приблизился. В армию его не взяли по возрасту, но поручение дали ответственное. Погнал он с женщинами колхозное стадо на восток. Под Можайском сделали первую остановку.
День выдался такой, каким редко бывает в сенокосную пору, когда наломаешься до боли в пояснице, руки гудят, а уйти жалко, поскольку понимаешь, как повезло с погодой. Солнца в меру, легкого ветерка, неторопливо плывущих облаков. С утра к тому же небо чистым было. В том смысле, что ни одного немецкого самолета с утра не появлялось. Женщины доить коров начали. Тут подводы подкатили, дети на них. Эвакуированный детский дом их нагнал. Воспитательницы остановку сделали, чтобы детей парным молоком напоить.
Со стороны заходящего солнца налетели немецкие истребители. Пролетали над лугом на бреющем. Били из пулеметов по стаду, по детям. Улетали. Возвращались. Стреляли и стреляли. Больше всего по детям.
Луг криком затопило. Метались по лугу дети, женщины, животные. Женщины пытались спасти детей. От пулеметных очередей, от свинца, от копыт обезумевших животных. Метался Женя Симагин. Тоже кричал. Призывал к чему-то. Потом его ударило, он потерял сознание. Ранило Женю. Ранило тяжело. Но перед тем увидел он лицо немца. Позже он поймет, что не мог увидеть лица немецкого летчика, произошло с ним такое, от чудовищного нервного напряжения прежде всего. Лицо тем не менее запомнилось. Особенно глаза в памяти запали. Стылые в желании убить.
Женя долго лечился. После госпиталя попал на фронт. Сам напросился в разведку. Перешел под начало Речкина. Разведчиком оказался добрым. Если шли за «языком», лейтенант всегда назначал Симагина в группу захвата. Ловок, увертлив, сила есть. Немцев он брал в мгновение. Скрутит, кляп заткнет. Обязательно в глаза заглянет. Глянет, плюнет, отойдет.
Он сам вызвался прикрывать отход группы. «Не подведу, товарищ лейтенант, доверьте», — вытянулся перед Речкиным так, как будто на отдых в соседнюю деревню, на свидание отпрашивался. Получив разрешение, козырнул. Ушел, чтобы остаться в памяти. Навсегда. «Навсегда», — прошептали губы. Сознание отметило, что это «навсегда» может оказаться коротким. Идет война. По ее опаленным дорогам еще пилить и пилить, а судьбы своей наперед не узнаешь. Колосов подумал о том, что, если бы не эта общность судеб, невозможно было бы жить, теряя и теряя боевых товарищей. Ушел Женя Симагин. За ним отход группы остался прикрывать Саша Веденеев. Тоже парень что надо. Настоящий воин. И по возрасту, шел ему двадцать четвертый год, по опыту. До войны Саша успел поработать на Брянском машиностроительном заводе. В тридцать девятом году был призван в армию. Зачислили его в погранвойска. Служил на границе.
«Учитесь, ребятки, учитесь, такого еще не было, чтобы учеба пошла кому-то во вред», — постоянно напоминал разведчикам Речкин, ставя в пример Сашу Веденеева. Саша обладал феноменальной способностью все видеть, все запоминать. Тренировался постоянно. Прикроет глаза, повернет голову в сторону, глянет, начнет рассказывать, что увидел. Ни одной мелочи не упустит. Все равно что затвором фотоаппарата щелкнет, фотографию проявит, отпечатает, по этой фотографии рассказ, ведет. Такая у него способность была.
Вновь всей душой ощутил Колосов, как трудно произносить даже мысленно поминальные слова о боевых товарищах. Была способность у человека. Были два года войны. Ранения. Неистовая жажда мести. За друзей-пограничников, которых Саша помнил все это время, за первый бой на заставе утром двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года.
Саша не любил вспоминать те тяжелые дни. Но и из того, что он рассказывал, можно было представить испытания, выпавшие на долю пограничников, когда обрушились на них немцы мощью почти всей ими покоренной Европы. Колосов в те же дни узнал войну. Но о ее начале их оповестили, а пограничники приняли на себя первый удар без оповещения. Колосов зримо представлял себе судьбу Веденеева. То, как раскопали пограничника в окопе женщины, как пробирался Саша в приграничный город по какому-то адресу, чтобы не только подлечиться, набраться сил, но и идти дальше на восток, к своим не зная, сколь долгим окажется путь.
Были Женя Симагин, Саша Веденеев, другие ребята, которых слишком много погибло за два года войны. А немцы есть. Они рядом. В городах и селах. На наших дорогах. В наших лесах. Немцы шли по следу, их движение приостановили два хороших человека.
Колосов помнит каждый последующий шаг группы. Помнит, как остановил Речкин разведчиков. Подумалось о том, что кому-то вновь надо оставаться, чтобы сдержать гитлеровцев. Речкин сказал нечто другое. «Кровь из носу, — сказал Речкин, — а рация, радист должны быть у партизан». На ногах лейтенант держался, но силы его были на исходе. Дышал тяжело. Говорил трудно. Ссутулился. Веки воспалились. Щеки впали. Нос заострился. «Тебе, Коля, вести радиста, — приказал Колосову. — Этих, — кивнул он в ту сторону, откуда могли показаться немцы, — мы возьмем на себя».
Радист Неплюев лежал на траве. Он не мог объяснить, что с ним произошло. Говорил, будто голову словно обручем схватило, полыхнуло якобы в голове огнем. Понимал, что сотворил. Избегал смотреть товарищам в глаза. Руки у него мелко подрагивали. Он старался унять эту дрожь и не мог. «Ладно, — сказал тогда Речкин, — что было, то было, быльем заросло. На рации работать можешь?» Неплюев вскочил, заторопился, вытащил из мешка свой ящик, сам раскрутил антенну, забросил провод с грузилом на дерево. Речкин передал ему лист с текстом. Неплюев, как то и положено, зашифровал, примостил на коленке ключ-лягушку, застучал. Тогда он еще мог работать на рации.
С рассветом стал накрапывать дождик. Облака стелились низко, нависали над лесом сплошным покрывалом. Появилась надежда, что в такую погоду самолет не поднимется. Речкин тем не менее свое решение оставил в силе. «Рисковать рацией, радистом, — сказал он, — мы не имеем права. Ты, Коля, остаешься. Прорываться мы будем без вас». Разведчики выбрали место в зарослях, стали рыть тайник. Яму копали в корнях ели, землю сносили в овраг. Ссыпали в небольшой ручей, что звенел на дне оврага. Замаскировали тайник. «Пора, — сказал Речкин и стал прощаться. — Бог не выдаст, свинья не съест, Коля, — хмуро пошутил он. — Держись». Неплюева Речкин хлопнул по плечу, призывая этим жестом и его держаться до последнего. По очереди подошли ребята. С Колосовым обнялись, Неплюеву кивали. Не могли простить того, что произошло. Радист понимал, стоял понурый. Колосов полез в тайник. Сквозь узкую горловину он первым забрался в яму. Принял рацию, оружие, Неплюева. Их замуровали в тайнике.
Как только товарищи отошли, стало очень тихо. Могильно тихо, как определил Колосов. О том, что происходит снаружи, можно было лишь догадываться. Вначале старшина не слышал ничего. Задерживал дыхание, но не различал ни звука. Потом донеслись первые выстрелы. Начался бой. То коротко, то длинно рассыпались автоматные очереди. Разведчикам приходилось беречь боезапас, гитлеровцы патронов не жалели. Минут через двадцать после начала боя стали слышны длинные очереди, на которые ответно короткими очередями стрелял один автомат.
Колосов понял, что группа отошла, кто-то из ребят остался прикрывать отход. Земля передала Колосову взрывы. Это уже рвались гранаты, отметил про себя старшина, жадно вслушиваясь в звуки, но наступила такая тишина, от которой можно было сойти с ума. Он представил себе весь бой. И то, как ребята били из укрытий по немцам, уходили, снова били, рассчитывая на неожиданность, как минировали, отходя, свои следы. То, как кто-то из разведчиков отбивался до последнего, прикрывая отход товарищей, подорвал себя гранатой, и теперь его уже нет в живых.
Наступил момент, которого Колосов ждал, к которому готовился, оставаясь в тайнике. Если гитлеровцы станут искать, они могут обнаружить тайник. Тогда он, в свой черед, сделает то, что единственно возможно в его положении. С ним связка гранат. Если дело дойдет до крайности, у него хватит сил свершить последнее.
Напряжение росло, как никогда раньше. Каждая мышца, казалось, натянулась до звона. Старшина не ощущая собственного дыхания. Казалось, еще чуть — и что-то в нем оборвется. Колосов обратился в слух. Ждал лая собак, топота сапог. Ждал, когда приоткроется лаз, вновь засветит день. Последний день, последний миг жизни. «Ну, ну, ну», — повторял и повторял старшина, но ничто более тишины не нарушило. Напряжение не спадало. Старшина чувствовал, что и лай собак, и топот сапог он мог услышать в любой момент. Хотелось высунуться, хоть одним глазом глянуть на то, что происходит снаружи, но это было предательское желание, он погасил его.
За спиной ополз песок. Горсть, не больше. Но, осыпаясь, песок зашуршал, Колосов вздрогнул от этого шуршания, как от нежданного выстрела. Шевельнул пальцем, в котором зажал кольцо от взрывателя. Палец онемел. «Спокойно, Коля, спокойно, — прошептал Колосов, чувствуя, что и губы его онемели. — Не ты первый, не ты последний». Прошептал, не поверил собственным словам. Когда человек на людях, может быть, эти слова и правдивы. Но когда ты один на один со смертью, когда она рядом, это слабое утешение показалось фальшивым. Ты первый, ты единственный. В рождении, в смерти. Другой жизни нет. Тебе дано было видеть солнце, дышать воздухом, пить воду, думать, смеяться и плакать: жить, а когда наступает конец всему этому, только ты должен шагнуть за тот порог, за которым нет ничего.
Снова зашуршало что-то. В стороне. В той стороне, откуда ждал он предательских звуков. «Вот оно, вот», — отдалось в сознании. Колосов собрался, заставил себя ни о чем более не думать. Старшина произносил одно и то же: «ну, ну, ну». Не было памяти, не было жизни до этого мгновения. Не было его самого в той дальней, давней жизни. Было только бессмысленное, отупляющее бормотание.
Тишины ничто не нарушило. Старшина с большим трудом разогнул палец, отвел руку от кольца взрывателя. Перевел дух. Времени прошло достаточно, немцы, похоже, проскочили мимо тайника. Вылезать тем не менее не имело смысла. Бой был рядом. На месте боя могли остаться раненые. Могли остаться убитые, которых немцы заберут с собой, а значит, и могут вернуться.
Потянулись долгие, как надежда, часы ожидания. Трудно было сидеть, не разгибаясь, в кромешной тьме. Затекали руки, ноги. Воздух становился все более спертым. Ограниченное пространство давило многопудовой тяжестью. В душу поползли сомнения. Появлялось чувство безысходности. Трудно было бороться с этим чувством. То казалось, что этот поиск обречен, что не суждено им добраться до партизан то вдруг приходило на ум, что жертвы были напрасны за линией фронта, у своих, о них даже не узнают. Пропали без вести. Больше всего почему то Колосов боялся попасть именно в эту категорию погибших. Пропасть без вести, считал Колосов, все равно что раствориться, превратиться в ничто. Вроде и не жил ты на земле, не защищая ее с оружием в руках с первых, самых тяжелых дней. Колосов понимал, что на войне нет напрасных жертв. Если ты воевал, не прятался за спины товарищей, честно исполнял порученное тебе дело. Важно в конце концов одно — какая польза была от тебя для всех. Однако все в нем бунтовало, когда представит себе, что и он, как многие другие, может пропасть без вести от тысяч случайностей, которые так и ждут солдата на войне. Старшина стал было думать о Речкине, о товарищах, не полегчало. Лейтенант плох. Если дело дойдет до носилок, ребятам придется туго. Колосов помнит, как тащил своего лейтенанта по болоту в сорок первом году. Речкин крупного телосложения.
Правда, тогда они выбрались. Слабым лучиком засветила надежда, что и на этот раз пронесет. Старшина стал думать о том что нечего раньше времени настраиваться на заупокойный тон, что за два года войны приходилось бывать в разных переделках — и все-таки остались живы, выбирались не из таких передряг. День кончится. Ночью он выберется из тайника. Есть явка. Есть надежда, не все потеряно. Есть надежда и на то, что повезет ребятам. Не с пустыми руками ушли. Остались мины, гранаты. Не новички в разведке. Болота кругом. Дождь, похоже, усилился. Дождь в союзниках. И себя сберегут, и командира. Должны сберечь.
Колосов чувствовал, каким волглым становится маскхалат. Старшина провел рукой по стенкам тайника. Стены были мокрыми. Убирая руку, старшина случайно коснулся лица Неплюева. Радист вздрогнул. «Ты чего, Степ, — шепнул старшина, — заснул, что ли?» Неплюев не ответил. Ладно, согласился с его молчанием Колосов, момент такой, что не до разговоров. Человек, можно сказать, от смерти ушел. А как же. За то, что он сотворил на поляне, когда побежал и летчик засек группу, положен расстрел на месте. Неплюева спасло то, что он радист. Речкин прав. Фронту позарез нужна информация. Ее много скопилось у партизан. В психологические тонкости заглянут позже те, кто жив останется. Сейчас главное — одно: Колосов должен доставить радиста к партизанам.
Время от времени старшина включал фонарь. Глядел на часы. Стрелки двигались еле-еле. Так медленно, как солнце в безветренный день. Когда и воды нет рядом, и пить страшно хочется, и ждешь не дождешься вечерней прохлады хотя бы. До того дошло, что к ночи сознание стало туманить.
Но часы все-таки шли, темноты они дождались. Можно было выбираться из тайника.
Колосов разгреб лаз, прислушался.
После кромешной тьмы, могильной тишины ночной лес оглушил старшину, так много в нем оказалось звуков для болезненно обостренного слуха. Шелестела листва под дождем. Гулко плюхались разбухшие капли. Шуршало рядом в траве. Где-то в стороне, скорее всего в том овраге, куда они относили землю, когда копали тайник, гудел поток, там терлись друг о друга стволы деревьев, издавая скрипящий, монотонный звук. Выждав, старшина стал медленно выбираться из ямы. Не слушались руки. Онемевшие ноги едва ворочались. Гулко бухало в висках. Тело сопротивлялось движениям, но он напрягся, выбрался из ямы, вытащил Неплюева, рацию, свой вещмешок. Раскинулся на траве. Не обращая внимания на дождь, на лужи вокруг. Тьма-тьмущая окутала землю, но это была совсем другая темень, от нее отдавало теплом.
Утром старшина обнаружил, что радист не в себе. Неплюев не отвечал на вопросы, хотя и слышал Колосова, выполнял только простые команды. Старшина растерялся. Растерянность сменилась злобой. Колосов ощутил всевозрастающую злобу на человека, по вине которого уже произошло столько неприятностей, готов был избить радиста. За то отчаянное положение, в котором они очутились, за ребят, пошедших на смерть. Так избить, чтобы радист понял, кто он, какое дело лежит на нем. Колосов трудно дышал, смотрел на Неплюева зверем. Приказал развернуть рацию. Неплюев не подчинился. Он не понимал старшину: «Встать!» — заорал Колосов. Радист поднялся. «Сесть!» Радист сел. «Работай на рации! Ты понял? Работай на рации!» Неплюев не шелохнулся. Колосов двинулся на радиста, увидел его глаза, не уловил в них ни растерянности, ни смятения, ни страха. Этот взгляд радиста и укротил Колосова. Недосягаемо далеко смотрел Неплюев. Он смотрел сквозь старшину.
Старшина собрал оружие, приладил за спиной Неплюева рацию, они пошли. Добрались до лесной сторожки. Их постигла неудача, но у Колосова появилась помощница. Толковая дивчина. Не каждый парень отважится стеречь засаду, а она решилась. Наблюдательная. Когда подошли к Неплюеву, девушка первой увидела возле радиста огромного черного пса. «Ой, песик!» — крикнула Галя, безбоязненно подходя к собаке. Пес лежал у ног радиста. Не зарычал, не оскалился. Глянул на старшину, когда и тот приблизился, склонил голову. Помахивал хвостом. То ли за старшего принял Колосова, то ли за хозяина. Встал, отошел чуть в сторону, снова лег, подобрав хвост, вытянув могучие лапы.
Неплюев не шелохнулся. Он сидел на пне все такой же прямой, непроницаемый, как звезда в морозную ночь. Глядел мимо старшины, мимо девушки. В душе Колосов надеялся, что с приходом нового человека, особенно девушки, радист отойдет. Оттает. Не сбылась надежда. Видать, крепко схватила его эта болезнь, если ничто не может вывести его из этого странного состояния. Галя пыталась поговорить с радистом, но он и на ее старания не отозвался.
Собрались, чтобы идти в деревню. Девушка внимательно оглядела Неплюева, заметила выбившуюся из сапога портянку. Разула радиста, перемотала обе портянки. «Пойдем шибко, ноги может сбить», — словно извиняясь перед Колосовым за то, что наперед старшины углядела непорядок в обуви больного человека, сказала Галя. Колосов принес из укрытия мешок с рацией. Замешкался. То ли радисту опять приладить, то ли взвалить на себя. Ему своего груза хватает. Оружие, продукты, боезапас. «Ни, чого вы, я сама», — поняв растерянность Колосова, взялась за рацию девушка. Старшина оглядел, не осталось ли чего, они пошли.
Пес, лежавший все это время в сторонке, поднялся с земли, принюхался, затрусил впереди. Бежал легко, ровно. Когда убегал слишком далеко вперед, останавливался, оглядывался, всем видом своим как бы давая понять, что опасности нет. «Собака собаке рознь», — вздохнул Колосов, вспомнив сорок первый год, то, как остался он лежать в снегу на нейтральной полосе, истекая кровью, не в силах оказать себе помощь. Надежды на спасение не было. Мороз стоял лютый. Санитары, если и побывали на месте рукопашной схватки, его, по всей видимости, не заметили. Могли за мертвого посчитать. Колосов приподнял голову, чтобы сориентироваться, услыхал рядом тихий скулеж. К глазам приблизилась собачья морда — это он еще мог различить. Пес лизнул его. Колосов застонал. Протянул руку в надежде ощутить тепло живого организма. Рука нащупала постромки. Старшина понял, что пес санитар. Слышал он о таких. Видел плакаты, на которых была изображена собака с санитарной сумкой, в постромках и волокуша за ней. Старшина стал шарить руками в поисках волокуши. Пес заработал лапами. Разгреб снег. Подтянул волокушу. Стал лизать лицо. Нетерпеливо повизгивал. Колосов скатился в волокушу, потерял сознание. Очнулся в госпитале.
Сколько лежал он тогда в госпитале, столько и думал о собаке. Тогда же дал зарок найти пса. Спасителя найти не удалось. После госпиталя старшину направили в спецшколу. Когда он вернулся в часть, пса в живых не оказалось. Люди гибли, чего там говорить. Единственное, что он мог и что сделал, так это рассказал корреспонденту о своем чудесном спасении, и тот опубликовал его рассказ во фронтовой газете.
Война — бедствие всеобщее, думал старшина, ходко шагая за своим добровольным поводырем, каждого коснулась огненным дыханием. Человеку на ней достается в первую очередь, поскольку все против него. Но и природа страдает. Страдают животные. Насмотрелся Колосов на пустыри, видел выгоревшие леса, взорванные плотины. Встречал одичавших домашних животных. Не понаслышке знал о собаках-подрывниках и прочих, вплоть до санитаров, с уважением глядел на черного пса. Откуда он взялся? Что его привело и посадило возле Неплюева? В каких переделкам побывал этот пес? Не спросишь. Спросишь, ответа не получишь. Понятливая, но ведь и бессловесная тварь.
Лес редел, становился более светлым. Подошли к Тулье. Река небольшая, течение спокойное. Вода в ней коричневая, как густо заваренный кофе. Такие реки берут начало в лесных торфяных болотах, оттого и коричневые. Берег отлогий, в зарослях ольхи, черемухи. Крапива по всему побережью. Берег изрыт окопами. Оспинами смотрятся воронки. Деревья большей частью изранены. Одни стоят без макушек, другие — иссечены осколками. По словам девушки, бои здесь шли и в сорок первом году, и совсем недавно, когда бросили немцы на партизан «дюже большое войско». Где сейчас партизаны, как их найти, Галя не знает. «Ни, — скачала она, — дядько Михайла знае».
Шли они около двух часов. Лицо у девушки раскраснелось. Устала, конечно, такую тяжесть нести, но виду не подает. Скинула дождевик. В руках держит. Сломала веточку. Идет, в такт шагам веточкой комаров, слепней отгоняет.
Прошли они берегом еще минут десять, остановились. Деревня рядом была. Слышно было — залаяли собаки. Решили так. С темнотой Галя проберется в деревню. Вернется — доложит обстановку. Неплюева оставят под присмотром Галиной мамы, сами пойдут к дому старосты. Мужик он осторожный, но Галя знала, как и чем выманить старосту из дома.
Снова Колосову пришлось ждать. Он сидел с Неплюевым на стволе упавшей ели, смотрел в сторону деревни. У ног радиста лежал пес. Странный пес. Когда девушка пошла домой, он не шелохнулся. Но стоило деревенским собакам учуять Галю, пес встал. Прислушался. Колосов отметил про себя, что на редкость много собак в Малых Бродах. Такое положение тем более казалось странным, что во многих русских деревнях их не осталось вовсе. За собак был положен налог, их стреляли и полицаи, в немцы. Так вот, пес поднялся, послушал собачий лай, рыкнул глухо, скрылся в зарослях. Вскоре Колосов услышал его голос. Пес завыл. Стихли собачьи голоса в деревне. «Ты скажи на милость», — удивился Колосов, вспомнив рассказ девушки о том, что собаки приходят в трепет, услышав этот вой. Старшина знал, что на собак нападает ужас, если в их среде попадается бешеная, но черный пес бешеным не был. Хотя бы потому, что бешеные молчаливы. Голос Черныша, как окрестил пса Колосов, обладал тем не менее магической силой. В чем тут закавыка? Спрашивал себя старшина, ответа не находил. Колосов мог строить лишь догадки. Может быть, у пса был хозяин, которого затравили собаками, теперь он мстит за него. Случилось что-то еще. Во всех случаях понять его можно. Разные ситуации встречаются на войне. Люди не всегда выдерживают.
Подумав так, Колосов скосился на Неплюева. Что с ним? Как и чем его лечить? Придут они к партизанам. И что? Отряд не госпиталь, обыкновенного хирурга может не оказаться. Что тогда?
Неслышно вернулся пес. Улегся у ног радиста. Вернулась Галя. Пришла она не одна.
— Санька Борин, — представила девушка невысокого паренька.
В темноте трудно было разглядеть лицо Борина. Колосов увидел кепку, пиджак до колен большие не по росту, сапоги.
Из рассказа девушки Колосов знал, что Санька хотя и доводится племянником «этому Лысухе», хотя и служит у Шутова, является его правой рукой, но он с первых дней оккупации за партизан, бывает в городе. Знает кое-кого из подпольщиков.
— Как там? — спросил Колосов.
— Тихо, — ответила девушка. — Мама ждет.
Санька стал рассказывать Колосову, как лучше подобраться под окна дома «гадюки Шутова», оставаясь незамеченным. Говорил солидно, с расстановкой. Получался настоящий инструктаж. Колосов забыл бы, наверное, что перед ним подросток, если б не тоненький голосок. «Ни, не углядит, — говорил Борин, выделяя букву «я». — Только бяречься надо, с косу, с угла полозть». В их распоряжении времени было немного. Июньская ночь коротка, об этом помнил Колосов.
Поднялись, пошли. Шутова выманили легко. На слова Борина о Лысухе староста по пояс из окна высунулся. Колосов схватил предателя за грудки. Оглушил противотанковой гранатой без запала. Обыскал Шутова. Нашел ключ от погреба. Связал старосту. Освободил лесника.
ВЫПИСКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ, ЗАХВАЧЕННЫХ ПАРТИЗАНАМИ ПРИ РАЗГРОМЕ КОМЕНДАТУРЫ г. ГЛУХОВСКА ЛЕТОМ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА
Из запроса начальника тылового района 17—Ц полковника Ганса Фосса.
09.06.43 г.
«…Сообщите также, какие дополнительные силы вы можете направить на уничтожение разведгруппы русских, захвата рации, радиста…»
Из распоряжения коменданта г. Глуховска майора Пауля Кнюфкена
10.06.43 г.
«…По данным службы наблюдения, сегодня от полуночи до 00.35 над Шагорскими болотами в квадрате 0476 кружил самолет. Блокируйте возможные выходы из болот. К преследованию разведгруппы русских подключите зондеркоманду 07-Т пятого управления РСХА…»
Из докладной записки капитана СС Отто Бартша
10.06.43 г.
«…Настоящим подтверждаю, что в указанном вами квадрате были замечены вспышки трех зеленых ракет с интервалами пять секунд. Таким образом русские, по всей видимости, обозначили свое местонахождение в Шагорских болотах. По сигналу с земли от самолета отделились светящиеся предметы. Слабое свечение продолжалось до приземления неизвестных предметов. Полагаю, что русские сбросили своей группе груз…»
Из докладной записки капитана СС Отто Бартша
12.06.43 г.
«…Отряд преследования, усиленный зондеркомандой 07-Т, проникнуть в означенный вами квадрат не смог. Трясина засасывает людей. Напоминаю, что с начала операции по захвату рации и радиста потеряно 39 солдат, два офицера. Поставленные цели нами не достигнуты. В настоящее время мы блокировали все выходы из болот…»
Из распоряжения коменданта г. Глуховска майора Пауля Кнюфкена
12.06.43 г.
«…С получением сего дайте свои соображения по использованию для блокады русских разведчиков дополнительных сил из состава сто сорок третьей пехотной дивизии, дислоцированной в нашем районе.
Немедленно вышлите схему блокады…»
V
В разведке хуже того нет, чем оказаться в тупике. Уткнешься в охранение, сквозь которое мыши не проскочить, оборвется единственная тропа в трясине, соображай, как быть дальше. Назад чаще всего ходу нету. Не от хорошей жизни разведчик в болото лезет.
Обстановка, в которой оказался Колосов, напоминала тупик. Получалось так, что не следовало ему являться в Малые Броды, освобождать лесника. Своим вмешательством он разрушал одно из основных звеньев в цепи хорошо законспирированной системы связи между подпольщиками и партизанами. У него не было выхода. Он выполнял приказ. Действовать он все-таки должен был как-то по-другому.
Подпольем в Глуховске руководил старый чекист, Дмитрий Трофимович Шернер. Коммунист, участник гражданской войны. Специально для него разработанная родословная, немецкая фамилия помогли Шернеру легализоваться, устроиться на работу в городскую управу, где он занял должность старшего лесничего. Такая должность открыла перед Дмитрием Трофимовичем большие возможности, которые он и использовал, создав глубоко законспирированную организацию сопротивления. Должность помогла войти в доверие к новым властям, установить личные отношения с начальником тылового района полковником Фоссом. В основе этих отношений лежали деньги, и немалые, которые получал Фосс не без помощи старшего лесничего городской управы.
Дело в том, что в семи километрах от города, недалеко от деревни Малые Броды, на территории бывшего Алсуфьевского лесхоза стояла зрелая красавица роща. С началом оккупации, когда вслед за войсками на нашу землю хлынули разного рода эмиссары из Германии и стран союзниц, идею вырубки сосновой рощи удалось подбросить румынской фирме. Часть леса шла в Германию, другая, более значительная, отправлялась в Румынию. С помощью взяток, подкупа должностных лиц в рейхе румынам удалось поставить дело так, что чем дальше, тем больше леса оставалось в их руках, дела с фирмой вел Шернер, через него на счет Фосса поступали комиссионные за разработку лесного массива, использование на лесоповале, на вывозке древесины не только местных жителей, но и военнопленных. На этой полузаконной операции зарабатывали многие, в том числе лесник Степанов, Шернер и другие. Деньги шли на приобретение лекарств, которые незамедлительно переправлялись партизанам.
Всего этого Колосов, естественно, не знал. Он выполнял приказ. Действовал, как ему казалось, единственно верно. Был рад тому обстоятельству, что девушку-помощницу встретил, лесника освободил, в засаду не попался, старосту-предателя скрутил.
Старшина Степанова из погреба вызволил, вернулся в дом, Шутов в сознание не приходил. Колосов окатил его водой. Только после этого Шутов открыл глаза. Не сразу понял, что с ним, что за люди в доме. Сашу и Галю Колосов отправил сторожить въезды в деревню, вдвоем со Степановым остались они допрашивать старосту. Мало-помалу до Шутова дошло, что лесник перед ним и еще один, незнакомый, но, судя по бороде, тоже лесной человек. Староста полулежал на полу, широко раскинув ноги в немецких сапогах. Рубаха на груди разорвана. Крепко схватил его Колосов за грудки, сильно рванулся из рук старшины Шутов.
— Хватит стонать, — сказал Колосов, — говори.
Люто глянул Шутов на Колосова.
Взгляду старшины тоже лютости не занимать. Лютость на лютость нашла. Встретились их взгляды. Уперлись с силой. Кто кого сломит.
Рядом с незнакомым человеком лесник сидел. Пятерню в бороду запустил, пальцы утопли в волосах. И ему лютости не занимать — тяжело смотрит. Не шутки шутить собрались, спрос учиняют.
Шутов это понял. Говорить не хотел. Найти б слова, которыми оглушить можно, он бы рот открыл. Выпалил бы. Нет таких слов. Подловили его. Как куренка бестолкового сцапали. Жутко Шутову, но более всего досадно. Понял, что пришел конец. Говорить не хотел.
— Почему немцев нет в засаде? Кто распорядился взять лесника?
Кто распорядился, тот и распорядился, подумал про себя Шутов. Не вашего ума это дело. И так вышка, и эдак она же. Вам знать надобно, узнавайте. Кого другого пытайте, от меня не услышите ни слова. Был бы помоложе, не сидел бы в Малых Бродах. Сам, а не Леха Волуев, стоял бы во главе отряда. Тогда всех, всех бы к ногтю…
— Знал, знал я, Михайло, что ты иуда, — выдавил из себя Шутов.
Степанова с лавки подняло. Он гранату со стола схватил. Ту, которой Колосов старосту оглушил. На Шутова двинулся.
— Спокойней, — возвысил голос Колосов.
Лесник остановился.
— По закону, — сказал Колосов, — по приговору. Иуда, говоришь? — спросил разведчик у Шутова. — А себя к кому причислил, к праведникам?
Четко выговаривал слова старшина, фразы произносил медленно. Устал он. Светает. Надо уходить. По приговору Шутова полагается расстрелять. Приговор он исполнит. Но прежде докопается, узнает, что задумали предатели, почему был задержан лесник.
— Ну! — крикнул Колосов.
— Всех. Всех бы вас! — вырвалось у Шутова, но он осекся.
Огнем полыхнуло из глаз старшины. Взгляд Колосова крепче оказался. Сдавать начал Шутов. Потупился. Глаза, шея, уши кровью налились. Широкая грудь поднималась высоко. Дышал он часто.
— Та-ак, — растянул слово Колосов, — не получилось с иудой, Шутов. Правильно. По разные стороны мы стоим. Иуды те, кто предает родную землю…
Не дослушал Шутов слов Колосова, зубами заскрипел, прикрыл глаза.
— Стреляй, чего тянешь. Ни слова не скажу, понял? Ни слова! Аспиды! Все вы аспиды! — зашелся он в крике.
Колосов переждал истерику.
— Ишь, новое слово нашел, — сказал старшина. — Ты б к себе обернул слова эти, сволочь.
Дверь приоткрылась, на пороге показался черный пес. Лампа светила тускло, рассвет едва проклюнулся, видимости он не прибавил, но пса разглядеть можно было. Он занял половину проема двери. Морда в рубцах. В глазах отражается свет лампы. Красная пасть приоткрыта, зловеще поблескивают клыки. Язык вытянут. Пес оглядел комнату, шагнул к Шутову.
— А-а-а! — заорал староста.
Пес остановился. Убрал язык. Напрягся.
— Сидеть, — спокойно произнес Колосов.
Пес сел.
— Будешь говорить? — спросил Колосов.
Шутов обмяк. Лицо предателя оплыло, сморщилось. Обвисли мешки под глазами. На левой щеке появился нервный тик. Пытался высвободить связанные руки. Не смог. Стал говорить. Постоянно косился на пса.
Рассказ Шутова прояснил то, что не было известно Степанову, а Колосову тем более.
Оставалось последнее в этом доме — свершить приговор.
Колосов вспомнил, как в сорок первом году расстреливали дезертира. Сидели они тогда в обороне под Москвой. Трудно пришлось. Не хватало снарядов. Зима выдалась ранняя. Землю схватил мороз, но они долбили и долбили ее, окапывались и окапывались, стараясь уберечься от густого вражеского огня. Гитлеровцы бомбили позиции, ходили в атаку под прикрытием танков. Даже в такой обстановке из каждого взвода их роты взяли по бойцу, отвели в лес. Поредела их рота, поредел полк. Многие к тому времени выбыли. Одни по ранению, другие — полегли. Общая для всех судьба, одна доля. Впереди немцы, кругом ад кромешный, позади — Москву. Тут уж или — или. Или они нас, или мы их. Другого не было дано, каждый понимал это.
Стоял тогда Колосов в общем строю, слушал приговор, чувствовал неловкость. За то, что стоят они в лесу в то время, когда рядом умирают товарищи, что собрали их и поставили по срамному для всей части делу. Нашелся один, всех решил перехитрить. Отстал. Прятался в стогу сена. Задержан и доставлен женщинами-колхозницами. Опозорил себя, свой род, товарищей. Павших и живых. Ни жалости в тот момент не было у Колосова к приговоренному, ни сострадания. Стыд испытывал старшина и неловкость.
Теперь сам должен свершить приговор. Не над дезертиром. Над классовым врагом. Над предателем. Не с испуга стал Шутов старостой, к немцам пришел добровольно. Выдавал людей. Глумился над односельчанами. Активно помогал оккупантам. Суров партизанский, именно народный суд, но и справедлив. Потому и рука не дрогнула, исполнил он приговор. Обратил внимание на черного пса. Во время допроса пес сидел, не шелохнувшись. Пристально смотрел на старосту. Как будто понимал, о чем идет разговор, какая судьба ждет предателя. Подобрался, когда заставили Шутова встать. Замер, когда Степанов произносил необходимые слова о крови преданных старостой людей, о смерти за смерть. Прижал торчащее ухо в момент выстрела. Как только свершилось, вышел из дома, обернувшись в дверях на мертвого Шутова.
Тогда и обозначилась тупиковая ситуация.
Сидя под замком у Шутова, лесник Степанов о многом передумал. Он знал, что Шутов пишет на него доносы. Знал, что гитлеровцы проверяли его. Результаты легенды подтвердились — и не раз, об этом сообщал ему Шернер, люди которого держали под контролем возможные пути проверок. В должности лесника он вел себя осторожно. Партизаны в его владениях появлялись редко Когда это случалось, он информировал коменданта. Докладывал, правда, задним числом, но это и понятно, потому что никому не дано предугадать время и место появления партизан. Весной, когда на борьбу с партизанами были привлечены кроме охранных войск армейские соединения, началось планомерное прочесывание лесов, Степанов сбежал в город. В тот период и староста Шутов, постарался укрыться в городе.
После весенних боев в лесу вновь стало тихо. Партизаны ушли далеко. Вернулся в Малые Броды Шутов, вернулся и Степанов. Возобновились работы на лесозаготовках. В лес приезжал начальник тылового района Фосс, комендант Кнюфкен. Тогда был соблазн накрыть обоих, но от такого плана пришлось отказаться. Шло сосредоточение гитлеровских войск. Внимание подпольщиков, партизан было ориентировано на сбор разведданных, покушение на Фосса и Кнюфкена повлекло бы за собой новые репрессии, подпольщики лишились бы связи с партизанами, которая осуществлялась через Степанова.
Степанов оценивал обстановку. Возможно, Шутов догадывался о настоящей деятельности лесника. Возможно, своими догадками он делился с Волуевым. Фактов у них, однако, не было, староста устроил засаду с единственной целью — перехватить связника. Всякое могло случиться, но связники народ опытный. Степанов, кроме того, разработал специальную систему предупреждения, она хорошо известна связникам. Настораживало другое. Вдруг объявится посланец с фронта. Системы предупреждения он не знает, ввел ее Степанов после того, как партизаны лишились рации. Теперь лесник понимал, что и на этот раз все обошлось благополучно. Старшина оказался опытным разведчиком. Полицаев распознал, себя не выдал. Нашел помощников. Скрутил Шутова.
Цепочка раскручивалась дальше. Лесник подвергал анализу каждое событие. Галя, ее мать, Борин действовали из лучших побуждений, помогая старшине. Оккупация, провалы приучили их предполагать худшее. На самое плохое подумала Галя, когда увидела, что произошло в доме Шутова, когда Лысуха со своими подручными поскакал в лес. Ни на что другое не могла подумать ее мать. Посылая дочь в лес, она поступила разумно. Прав был Борин, помогая старшине. Не было ошибки в действиях Колосова. Все вроде бы хорошо, но вместе с тем и плохо. Тупик, перед которым они оказались, появился в результате этих правильных действий. Предстояло найти выход.
Колосов торопил Степанова. Опыт подсказывал ему, что уходить надо немедленно. Уводить в лес Галю, ее мать, Борина, всех, на кого могут обрушиться репрессии гитлеровцев.
— Почему сидим, почему не уходим? — спросил он Степанова.
— Погоди, — отмахнулся лесник. — Подумать надо.
О чем? Колосов предлагал единственно правильное решение. По словам Степанова, до партизан два дня ходу. Немцы готовят наступление. Возможно, оно начнется вот-вот. У партизан скопилась информация, которую ждет командование фронтом. Дорог каждый потерянный час.
Время словно подстегнули, оно понеслось вскачь. Рассветало все более. Из темноты выступали плохо различимые ранее предметы, обретая все более определенный вид. Плуги, бороны, телеги различил Колосов во дворе Шутова. Белели молочные бидоны. По небу густо стелились облака. Подул ветер. То ли утренний, рассветный, то ли затяжной, на весь день. Что ждать от такого ветра, неизвестно. Он может разогнать облака, может нагнать их еще гуще. Тогда зарядит дождь. Хорошо бы, конечно, дождь. Сейчас хорошо все, что может укрыть, смыть следы.
— Мы теряем время, — напомнил Колосов.
— Знаю, — отозвался лесник.
Степанов сидел на ступеньках крыльца. Он уселся на них сразу, как только они вышли из дома. Брови лесника сошлись над переносьем, выглядел он хмуро.
— Надо уходить, — сказал Колосов.
— Надо, — подтвердил Степанов, но не поднялся — Ты вот что… Зови Галю, Сашку… Решать будем.
Колосов хотел было возразить Степанову. Поговорить и в дороге времени достанет, путь неблизкий, но воздержался. Леснику виднее, он хозяин положения, знает обстановку.
Колосов подошел к воротам, распахнул створки. Это было сигналом девушке и подростку, чтобы они возвращались. Вновь подошел к крыльцу, на приступках которого сидел Степанов. Лесник внимательно вгляделся в старшину.
— Идти тебе придется с Галей, — ошарашил он Колосова. — Мы остаемся в деревне. Меня ты снова запрешь в погребе.
— Как? — не понял Колосов.
— Знаю, что делаю, — ответил Степанов. — Не время нам уходить.
Такого оборота Колосов не ожидал. Остаться в деревне после того, что в ней произошло, — обрекать себя на верную смерть. Гитлеровцы нагрянут в деревню сразу, как только дойдет до них известие о смерти старосты. Учинят следствие. Не он ли, Степанов, говорил, что за старостой стоит обер-полицай Глуховска некто Волуев.
Не мог понять Степанова Колосов, но это непонимание шло от недосказанности. Открыться до конца разведчику лесник не мог, на то и существует конспирация. Принимая решение, лесник не забывал ни о следствии, ни о Волуеве. Больше того, он предугадывал, что из всех бед для жителей Малых Брод наибольшая — возможный приезд в деревню начальника полиции Глуховска. Этот гад не станет вести дознание. За смерть Шутова Волуев учинит в деревне настоящий разор. В первую очередь рассчитается с ним, Степановым, с Галиной матерью. Борина, может быть, и не тронет, зная, как Шутов относился к парнишке, но может и не пощадить. Он всю деревню в крови утопит. Поэтому нет сейчас важнее задачи, чем исполнение приговора партизанского суда над Волуевым. Убрать его надо сегодня же, до того, как дойдет до города известие о событиях в Малых Бродах. Помогут в этом подпольщики. Обер-полицай похваляется, что он истинный хозяин в городе. Сегодня он должен быть казнен. Подполье в городе сильное, есть кому исполнить приговор.
Теперь о гитлеровцах. Станут ли они проводить акции в отношении жителей Малых Брод в ответ на убийство Шутова? Степанов и так прикидывал, и эдак. По всему выходило, что не решатся оккупанты на крайние меры. Немцы хоть и выискивают разного рода предателей, берут их на службу, но и своего отношения к ним не скрывают, с объятиями к ним не лезут. За убитого солдата или офицера они взяли бы заложников, стали бы вешать, расстреливать людей. За старосту на такой шаг не пойдут, цена предателям не велика. Есть еще одно, не менее важное обстоятельство. Реакция на убийство Шутова и Волуева начальника тылового района полковника Фосса. Какой она может быть? С весны, после боев с партизанами в Глуховском районе, в районе Малых Бродов в том числе, наступило затишье. Прервавшаяся было поставка леса в Румынию, а значит, и доход начальника тылового района возобновились. Полковник Фосс успокоился. Не случайно он приезжал к леснику. Нет, не случайно. Не побоялся побродить по лесу с ружьем. Посетил лесоразработки. Подстрелил худосочного зайца. Фотографировался на фоне дома лесника, соснового бора. Позировал перед фотокамерой с убитым зайцем в руках. Глядел на него тогда Степанов и думал, что не один лишь охотничий азарт привел в лес начальника тылового района. Фоссу необходимы свидетельства, что на вверенной ему территории царит спокойствие. Спокойствие — это дальнейшее возобновление работ на лесосеке, дальнейшие прибыли. «Рейх рейхом, но своего Фосс не упустит, — постоянно напоминал Дмитрий Трофимович Шернер, — мы с вами и сообщники Фосса, и его корысть».
Вспомнив слова Шернера, Степанов считал, что через дознание, возможно, придется пройти. Но у него было алиби. Он находился под замком, посадил его Шутов. Он не знал, что от него хотел староста Малых Бродов. Его жизнь могла оборваться так же, как жизнь старосты, не случись ему оказаться в погребе. Риск, понятно, оставался, был, однако, во всем этом и выигрыш. Для партизан и местных жителей Степанов холуй немецких оккупантов. Галя, ее мать, Борин то же самое. Тут такая должна быть версия, что партизаны искали предателей. Чтобы подтвердить эту версию, Колосов должен обойти дома, в которых живут полицаи, Борин, Галя с матерью. Саша отсидится на чердаке, так можно будет объяснить при дознании, Колосов обнаружит только Галю. Он уведет ее из деревни на виду у жителей, под прицелом автомата. Тогда можно будет объяснить исчезновение девушки. Объяснить так, чтобы немцы поняли: действие партизан есть не что иное, как их месть Степанову за сотрудничество с оккупантами. Шутова они прикончили, лесника не нашли, племянницу его взяли. Сашу, как только Колосов уйдет, надо немедленно отправить в город. Он должен передать подпольщикам условный сигнал о ликвидации Волуева.
Степанов объяснил Колосову обстановку. Полунамеками, утаивая то, что знать кому бы то ни было не положено. Старшина и понял лесника, и не понял. В разведке он попадал в разные переделки. Днями им пришлось принять решение, после которого в живых, может быть, остались он да радист. Его товарищи, лейтенант Речкин добровольно пошли на смерть, отвлекая на себя гитлеровцев, дав возможность Колосову вести радиста к партизанам, обеспечив выполнение приказа. Подобные ситуации возникали и раньше. Шли. Теряли товарищей. Но всегда уходили. Лесник оставался. Подобного решения Колосов не мог ни понять, ни принять. Хотелось найти какой-то другой выход. Не находилось.
— Работа у нас такая, — сказал Степанов, считая дальнейший разговор лишним, свое решение окончательным.
Развиднелось настолько, что можно было различить отдельные деревья в лесу. На берегу Тульи, словно защищая реку от наступавшего на нее леса, стеной стоял ольшаник. Над ним выпирали островерхие ели. Стояли они плотно, ровным строем, готовые двинуться, смять ольховые заросли, прорваться к реке. В строю елей виднелись одинокие березы. Их было немного, но каждая высилась громадой, казалось, им не стоит труда оттеснить, раздвинуть строй елей, прорваться сквозь густоту ольшаника. На лугу стоял одинокий стог сена. Рассветный туман окутывал основание стога, пронизывал его насквозь, терял силу, клубился легкой дымкой над его вершиной. Из зарослей, сторонясь посторонних глаз, подобрались к дому Галя и Саша. Оба были мокрыми от осевшего на траву тумана.
Колосов разглядел подростка. Саша оказался смуглым до черноты. Глаза цыганистые, цепкие. На левой щеке родинка. Порывистый парнишка. Такие быстро соображают, подумал о нем старшина, действуют чаще всего необдуманно. Его облик не вязался с тем, который представил Колосов ночью. В словах парнишки, в его поведении не осталось следа от той степенности, когда он рассудительно объяснял разведчику, как проникнуть под окно дома старосты, оставаясь незамеченным. Возбужден. По внешнему виду — готов драться. Эта его готовность заставила Колосова вновь подумать о решении лесника.
Степанову в конце концов виднее, он здесь живет, знает обстановку. И все-таки в голове не укладывалось, что поступать они должны именно так, как сказал лесник. Привыкший постоянно думать об ответственности за каждый шаг, он понимал, что Степанов, оставаясь в деревне, оставляя с собой парнишку, взваливает на себя непомерную ношу. Мысли путались. Тот выход из тупика, который предлагал он, давал возможность, в случае благоприятного исхода, добраться до партизан. За решением Степанова могли последовать арест, пытки, смерть.
Колосов понимал, что уходит время, надо спешить, но не было сил подняться, уйти.
— Подумай, Афанасьевич, крепко подумай, — сказал старшина.
Лесник будто и не слышал слов Колосова. Он легко поднялся с приступок, крепкий, рослый, прямой, и уже не объяснял — требовал.
— Слушай внимательно, Галя, запоминай, — говорил он девушке. — К дому пробирайся все так же, тайком. Радиста выведи в лес. Оставь его у кривой березы. Тайком же вернись. Жди. Ты, Сашко, — повернулся он к Борину, — останься пока здесь. Запрешь меня, как все разойдутся. Потом тайком же проберись к себе домой, спрячься на чердаке. Вам, старшина, надо сейчас же побывать в домах полицейских. Не церемоньтесь. Побольше грубости. Приказывайте, чтобы ни одна живая душа не смела показываться после вашего ухода на улице в течение часа. В последнюю очередь возьмете Галю. Мать ее станет голосить, стрельните в воздух. Ты, Галя, предупреди мать. Скажи ей, чтоб голоса она не жалела, чтобы по правде все выглядело. Пусть все село знает, как тебя увели. Действуй, старшина, действуй, нет у нас времени.
Сжато, но понятно объяснил лесник, как пробираться к партизанам, каких ориентиров держаться. Он хоть и торопил Колосова, но спешки, той, которая появляется в людях от неуверенности, ни в его словах, ни в поведении Колосов не заметил. Степанов хорошо знал, что говорил, решение свое обдумал. Лесник обязательный, исполнительный человек, подумал о нем Колосов. Это качество Степанова понравилось старшине. Он ценил в людях прежде всего исполнительность. Появление разведчика в Малых Бродах, сложившаяся обстановка во многом перепутали отлаженный ритм жизни лесника, тех, кто был с ним связан. Степанов выполняет приказ. Не цепляется за первое решение. В военном деле, считал Колосов, главное — исполнительность. Исполнительные люди обязательны, обязательность заставляет человека хорошо знать условия, обстановку, противника. Поэтому обязательные люди менее других совершают ошибки. Подумав так, Колосов чуть успокоился. На возможные последствия того, что решил Степанов, глянул иными глазами.
— По деревне иди, не таясь, — наставлял Степанов. — Сегодня здесь в тебя стрелять некому. Многие будут рады твоему появлению, но ты и им не давай проявлять радость. Стрельни несколько раз. На выстрелы нынче люди не очень спешат. Пользуйся этим. По домам будут сидеть, из окон понаблюдают. Этим и пользуйся. Пусть видят, что по избам полицейских ходил, Галю забрал. Береги ее. Она да Санька у меня в помощниках остались. Иные в лесу сегодня, других — угнали. У нас тут всякого было. В дом к Бориным тоже зайди. Сделай вид, будто ты и парнишку ищешь. В деревне всякие люди есть, но и такие найдутся, что доложат немцам, как и что было.
ВЫПИСКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ, ЗАХВАЧЕННЫХ ПАРТИЗАНАМИ ПРИ РАЗГРОМЕ КОМЕНДАТУРЫ г. ГЛУХОВСКА ЛЕТОМ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА
Из докладной записки капитана СС Отто Бартша коменданту г. Глуховска майору Паулю Кнюфкену
15.06.43 г.
«…Настоящим уведомляю Вас в том, что русские разведчики надежно блокированы в точке 07 квадрата 0476 Шагорских болот, т. е. в том же районе, где 10.06.43 г. от полуночи до 00.35 кружил неопознанный самолет.
Наше убеждение в надежности блокады основано на постоянном огневом контакте с противником.
Интенсивность огня противника не убывает, что позволяет сделать следующие выводы.
Русские разведчики получили, по всей видимости, боезапас той ночью, когда над болотами кружил неопознанный самолет.
Количество людей в группе не убавилось, а следовательно, радист все еще в группе.
Прилагаю все усилия для выполнения задачи».
Из рапорта майора Кнюфкена полковнику Фоссу
«…Сообщаю также схему блокирования Шагорских болот.
На 15.06.43 г. в точке 07, наиболее приближенной к месту расположения русских разведчиков, означенной 10.06.43 г. тремя зелеными ракетами, находятся все наличные силы отряда преследования капитана СС Отто Бартша. На пути возможного выхода русских разведчиков из болот между 17 и 21 выставлено оцепление из солдат зондеркоманды 07-Т обер-лейтенанта СД Альфонса Мауе. В прилегающих к Шагорским болотам лесах устроены засады. Дороги патрулируются усиленными нарядами полевой жандармерии. В деревнях проводятся акции устрашения. Принят ряд других неотложных мер…»
Из распоряжения полковника Фосса коменданту г. Глуховска майору Паулю Кнюфкену
15.06.43 г.
«Усильте наружное кольцо оцепления Шагорских болот в квадрате 0476 силами частей сто сорок третьей пехотной дивизии, дислоцированной в вашем районе. Найдите проводников из местного населения, хорошо знающих особенности Шагорских болот, способы передвижения по ним, проходы. Не останавливайтесь перед применением крайних мер. Во избежание дальнейших потерь наших солдат, для непосредственного огневого контакта, с русскими используйте полицейских…
Отряд полицейских Глуховска усильте огневыми средствами, пополните за счет гарнизонов Жилина, Кострова, Демина, Малых Бродов.
Об окончании операции доложить завтра в 19.00».
VI
— А, черт! — ругнулся лейтенант Речкин.
Ругнулся он не столько от боли, сколько от досады, что так получилось. Шальная пуля задела бедро, разорвала сосуды, он терял кровь, слабел, потому и досадовал. Последние метры разведчики тащили его по болоту волоком, подхватив с двух сторон под руки. С большим трудом добрались они до островка. Подобных островков встречалось много на этом бескрайнем болоте. Они пытались остановиться раньше. Но каждый раз, как только ступали на видимость суши, островки не выдерживали, погружались, темно-коричневая вода доходила до щиколоток.
Гитлеровцы не отставали от них. Разведчики меняли направление, кружили, но в болоте оставался след. Ночью, похоже, удалось оторваться. Каждый понимал — не надолго. Появится самолет, летчик станет, высматривать, гарантии, что их вновь не обнаружат, нет. Необходимо укрытие. Дерево с кроной погуще, тростник повыше, и хотя бы чуточку суши. Чтобы перевязать лейтенанта, остановить кровотечение.
Не обозначь они свое место ракетами в ночь на десятое, когда принимали контейнеры, им, возможно, удалось бы уйти от преследования. Но тогда этого делать было нельзя. В тайнике оставался Колосов с радистом. Речкин намеренно пошел на такой шаг. Чтобы боезапас, продукты, медикаменты получить и немцев увлечь подальше от тайника. Замысел удался. Один контейнер они так и не нашли, другой плюхнулся рядом.
Над болотом повис туман. Он то таял, и тогда можно было разглядеть тростниковые заросли, то густел, обволакивая предметы вокруг мутновато-белой массой. В один из просветов, когда развиднелось, они обнаружили островок, потянулись к нему в смутной надежде, что им повезет. Им повезло. Под ногами пружинило, ноги проваливались в рыхлую мшистую поверхность, но вода не проступала, можно было отлежаться, отдохнуть. Соорудив навес на тот случай, если развиднеется, если появится самолет, разведчики забрались в укрытие. Полулежа, поднять навес они не рискнули, осмотрели рану лейтенанта. Рану осматривал сержант Пахомов.
— Как там? — спросил Речкин. Сил приподняться, глянуть у него не осталось.
— Размыло, — отозвался Пахомов. — Ты терпи, лейтенант, сейчас плесну.
Пахомов решил промыть рану, продезинфицировать ее спиртом.
— Давай, — одобрил Речкин, прикрыв глаза. — Прожги как следует, — сказал он, сжимая зубы.
Пахомову помогал Ахметов. Он тоже лежал с другого бока лейтенанта, сматывал грязный, в крови и торфяной крошке бинт.
— Держи.
Сержант передал Ахметову флягу со спиртом, перетянул жгуты на ноге у командира. Обхватил рану пальцами, чтобы до краев наполнить ее спиртом.
— Лей, — приказал Ахметову.
Ахметов осторожно отлил спирт. Образовалась кровавая смесь. Пахомов выбрал смесь тампоном. Они повторили процедуру. Сержант затянул рану бинтом. Глянул на лейтенанта.
Речкин лежал с закрытыми глазами. На лбу выступили крупные капли пота.
— Все, лейтенант, отдыхай, — сказал сержант.
Какое-то время Речкин оставался в напряжении. Слышал, как Ахметов протер ему лицо, как вползали и выползали разведчики, о чем-то перешептываясь. Потом он забылся. Вновь открыл глаза. Ему показалось, прошли минуты. Он приподнял голову, увидел все ту же белесую мглу, пики островерхого тростника. Шевельнулся. Боль тут же напомнила о себе. Он застонал. Над ним склонился Пахомов. Широко раскрытые глаза увидел лейтенант, заросшие щетиной щеки, синие крапинки пороховой гари на лбу, крупный мясистый нос, крутой, перепаханный морщинами лоб.
— «Рамы» нет? — спросил лейтенант.
— Как не быть, весь день кружила.
— День? — удивился Речкин.
— Ну, да, — подтвердил Пахомов. — Ты как заснул, тут она и загудела. Туман, должно быть, низинный.
— Который час? — спросил Речкин.
— Без семи восемь, лейтенант, — ответил сержант. — Вечер.
Вечер…
Значит, проспал он весь день. Кружил самолет. Их все еще ищут.
— Давно стихло? — спросил он.
— Четверть часа назад, — сказал Пахомов.
— Я что, без сознания был?
Он снова шевельнулся, вновь ощутил боль. Болело в бедре, отдаваясь в пах и низ живота. Речкин внимательно прислушался к боли. Времени прошло достаточно. Если бы началось заражение, сейчас бы по всему телу полыхало. Жара, судя по всему, не было. Лихорадило, он мерз, но это скорее всего от потери крови.
— Человек, если без сознания, он как мертвый, — объяснял Пахомов. — А ты, лейтенант, спал.
— Где Ахметов, ребята?
— Ахметов в дозоре, Качерава с Колей Стромынским деревца для носилок ищут. Нести тебя будем, лейтенант, нельзя тебе больше в воду окунаться.
— Куда?
— Тут развиднелось недавно, ребята лес разглядели. Земля там, должно быть.
— Берег?
— Нет, — сказал Пахомов. — Остров. Кузьмицкий с Асмоловым в разведку пошли. Ты б помолчал лучше, силы беречь надо.
Пахомов вылез из-под навеса, дав тем самым понять, что продолжать разговор он не намерен, что ему тоже надо смотреть и слушать тишину, которая может обернуться неизвестно чем.
Лежать было удобно. Лейтенант пошарил руками, понял, что ребята натаскали ему травы, застелили ее плащ-палаткой, сонного перетащили на это ложе. Ничего он не слышал. Оттого, что ранен был, от постоянного недосыпания такое состояние. Плохое состояние. Из всех бед — худшая. Два года он воюет. Бывало, от этого никуда не денешься, решались на крайние меры, подрывали ребята себя гранатами, чтобы прикрыть товарищей. Речкин принимал эту, по его мнению, жестокую необходимость, сам готов был свершить подобное. Но оказаться беспомощным, добавить к тяжести рейда заботу о себе считал худшей из бед, молил судьбу, чтобы именно с ним подобного никогда не случилось.
Человек предполагает, судьба располагает. Не раз слышал он эту поговорку, в войну понял ее горький смысл. В сорок первом году, перед началом боя в старом укрепрайоне, когда его контузило, засыпало землей, разве он думал, что может потерять сознание. Однако так это и случилось. Неизвестно, какой конец его ждал, если бы не старшина Колосов. В лучшем случае — он до сих пор так и считал, — в лучшем случае его бы прикончили немецкие автоматчики. Но мог он оказаться и в плену. Судьба толкнула его к краю пропасти, она же отвратила беду. Старшина Колосов не только заметил его, но и мертвым не посчитал, раскопал, уволок в болото. После того горького урока Речкин понимает, что на войне предполагать невозможно, всегда надо быть готовым к худшему, а когда подобное происходит, вести себя достойно.
Как?
По обстановке, как еще. Не сдаваться. Всегда и во всем искать выход.
Лейтенант прислушался, различил шорохи. То ли туман терся о тростник, то ли возились рядом невидимые существа. Он слышал звуки, похожие на вздохи. Со звоном лопались пузырьки болотного газа. Звук был слабым, но он и его различал, стало быть, и слух у него не притупился. Видел он тоже хорошо. Из-под навеса можно было разглядеть край островка, на котором они затаились, несколько хилых березок, торчащие из воды кочки. Речкин сжал пальцы в кулак. Слабовато, но мышцы напряглись. Следовательно, он может стрелять. У него хватит сил выдернуть кольцо от взрывателя. Вести себя достойно, как доложено солдату, он сможет. На этом крохотном островке, на том острове, куда ушли Кузьмицкий и Асмолов, на другом рубеже, там, где это придется. Теперь его черед прикрыть отход группы, если преследование возобновится, понадобится уходить. От сознания возможности активного действия он успокоился. Смежил веки. Лежал, стараясь ни о чем не думать, но этого старания хватило не надолго. В сердце толкнулась тревога. О Колосове встревожился лейтенант.
С того часа, как старшина остался с радистом в тайнике, Речкин постоянно думал о подчиненном, о товарище, о боевом товарище, который не раз и не два выручал, спасал своего командира. Почему-то, когда это началось, Речкин не помнил, но, думая о Колосове, лейтенант постоянно вспоминал слова одной странной песни, слышанной им до войны у паромной переправы недалеко от Жигулевских гор. Запомнился яркий день, настырные слепни, та необычная песня. Нежданная, как прохлада в жару, раздольная, как Волга, на берегу которой он стоял, облокотившись о перила причала, протяжная и нескончаемая, как дорога в степи.
…Ой, да по весне ты, наша матушка, проснися. Ой, да по весне по ранней пробудися. Ой, да ты разлейся, да по нашим по полям, Ой, да ты раскинься, да по нашим по лугам. Напои ты нашу пашенку. Передай земле свою силушку. Будь нам, Волга, доброй матушкой. Не спеши, не торопись ты к морю синему…Песня — приговор, песня — заклинание. Пели ее женщины. Они сидели под огромной березой, похожие одна на другую одеяниями, как сестры-близнецы, одинаково в белых кофтах, в косынках, босые, усталые, но умиротворенные. Пели хорошо, слаженно. Речкину, уроженцу Подмосковья, не приходилось слушать подобного пения, потому, наверное, и запомнились женщины, слова песни. Слова-обращения, слова-просьбы. Необычно исполнялась песня. То широко и разливно, то почти речитативом, с мягким окающим говором. Речкин, как услышит название реки, вспоминает песню. А Колосов тоже с Волги, из-подо Ржева. Есть что-то общее у них: у реки и у человека. Та же могучесть, что ли. Природа не обделила Речкина ни ростом, ни силой, но Колосов был круче замешен. Тело бугрится мышцами. Вместе с тем подвижный, ловкий. Выносливый. Боевая выкладка разведчика доходит порою до пяти пудов, старшина не только со своим грузом управляется, он и товарищам помогает. Отлично плавает. Так плавают только на Волге: широко, словно враскачку.
С виду Колосов простоват. Широкий открытый лоб. Крупные черты лица. Парни типа Колосова, замечал Речкин, незлобивы. Если их и заденут ненароком или намеренно худым словом, на рожон, как говорят, не лезут. О таких говорят: толстокожий человек, долго до него доходит. Слова словами, но природу такой манеры поведения Речкин знает. Он так думает, что физически сильные люди, равно как и люди, сильные духом, более терпимы ко всякого рода обидчикам, именно от сознания недюжинной силы. Оно и в природе так. Медведя взять, слона или льва. Да что там диковинные животные, на обычных собак посмотреть, если их человек специально не злобил. Чем крупнее собака, тем больше в ней достоинства. И наоборот, чем меньше шавка, тем она подлее, крикливее, злее. Сильные — добрые, добрые — сильные, здесь такая взаимосвязь.
Правда, сильная доброта тоже имеет предел. В чем, в чем, а в этом Речкин уверен. Было время убедиться. Помнит он свой первый бой в районе старого укрепрайона, старшину Колосова в, том бою. Стояли они тогда насмерть, как это и положено для военных людей. Когда вышел боезапас, дело дошло до рукопашной. Поднялись все, и здоровые, и раненые. Колосов приклад винтовки в щепки разнес о немецкие каски, саперной лопаткой рубился. Помнит Речкин лицо старшины в том бою. Черное от земли и гари, перекошенное от злобы, оно возникало рядом с Речкиным то справа, то слева. Вместо крика из горла старшины вылетал то ли хрип, то ли гул.
Вздыбилась земля, полыхнуло огнем, большего Речкин не помнил. Очнулся в болоте. Он лежал на ветвях согнутого до воды дерева, рядом на стволе сидел старшина. В глазах туманилось, плыло. Со временем отпустило. Он увидел бойцов. Почти все были ранены. Были среди них тяжелые. Все дрались до последнего. Немцы прошли по их телам. Не остановились, не задержались, чтобы добить. Задача, видно, перед ними стояла другая.
Память о первом бое застряла в сердце занозой, болит, постоянно напоминая о тех худых днях. «Все пройдет, младший лейтенант, сковырнем болячки, — сказал тогда Колосов. — Главное — живы остались. Теперь бы до своих добраться…» До своих. Тогда казалось — рядом. Стоит выбраться из болота — и они у своих. Им скажут, что произошла нелепая ошибка, немцев отбросили к границе. Так и казалось. Казалось, рядом есть полностью укомплектованные части, на вооружении которых и танки, и орудия, и гранат, и патронов в полном достатке, потому что по-другому просто не может быть, потому что рядом граница. Они брели с надеждой, но чем дальше шли, тем больше убеждались в обратном. Не было ошибки, прорвался вражина. Занял дороги. Гнал по ним танки, машины, орудия. Вражеским колоннам не виделось конца.
От голода, от безысходности можно было сломаться, как ломаются худосочные, высохшие на солнце ветки, потерять надежду, веру. Такого исхода Речкин опасался Раздавались голоса: куда, мол, премся, все одно, мол, конец. Умирали тяжелораненые, которых несли. Отощали, оборвались. Шли. Стонали, матерились, но шли. Упрямо шли на восток.
Вспоминает Речкин старшину, горькие дни отступления, видит его лицо. Разным было лицо Колосова. Ожесточенное в бою. На березе, в болоте, когда старшина говорил, что живы остались и в этом главное, на его лице отражалась боль. Под деревней Вожжино, когда вышли к своим, увидел Речкин на лице Колосова такую решимость, что проникся к нему еще большим уважением.
Принимал их представитель особого отдела дивизии. Высокий, сутулый капитан с воспаленными от бессонницы глазами. Тот капитан представить себе не мог, через какие муки они прошли, прежде чем добрались до деревни. Слушать не хотел. Спрашивал. Сам себе отвечал. Надо было осадить капитана, как осаживают слишком разгоряченного коня, когда тот вошел в раж, летит, не ощущая дороги, отдавшись во власть бега, скорости, забыв о всаднике. Речкин произнес необходимые слова, осадил капитана. Представитель особого отдела полез в кобуру. Речкин пережил неприятное мгновение. Взрывной капитан закусил удила, его трудно было остановить. Речкин услышал голос Колосова за своей спиной. «Тогда и нас кончай, капитан. Всех разом», — сказал старшина. Речкин обернулся. Лицо Колосова окаменело, смотрел он твердо. Дрогнул строй. Неизвестно, как бы все это обернулось, если б на машине не подъехал командир полка. С ним был врач. Они осмотрели каждого. Кого в госпиталь отправили тут же, кого оставили в строю.
Чуть позже старшина предложил Речкину держаться вместе. Тогда многие стали сговариваться о том, чтобы в бою, в атаках особенно, приглядывать друг за другом, друг друга прикрывать. Объединялись по двое, по трое. Земляки, товарищи по призыву, по запасу, новобранцы между собой, ветераны с новобранцами. Пополнение поступит, тут же и первый совет, получают бойцы: вдвоем, втроем сподручнее воевать, учтите это обстоятельство. То был первый опыт войны, оправдавший себя во всех последующих боях. Бойцы берегли себя от выстрела сбоку, от случайностей, от того, чтобы, не дай бог, остаться на нейтральной полосе раненым, истекая кровью, как это случилось с Колосовым под Москвой. Речкина тогда ранило, его отправили в госпиталь, там он и узнал, как чуть было не погиб старшина.
От мыслей о Колосове лейтенанта, отвлек шум. Под навес вполз сержант Пахомов.
Речкин зашевелился, пытаясь приподняться. Сержант остановил.
— У Ахметова я был, — опережая вопросы командира, стал докладывать сержант. — Фрицы рядом. Не потеряли, гады, наш след. Сосредоточиваются. Полицаи, сволочи, среди них объявились. Теперь этих, как пить дать, по нашему следу пустят.
Сержант усмехнулся.
— А все-таки дали мы им прикурить, не торопятся, — сказал он. — Ахметов говорит: осторожничают, сушатся. Я так думаю, что Колосова с радистом они не обнаружили. Иначе густо от их огня было бы у нас сейчас. Надеются взять рацию, радиста. На то, что мы сдадимся, надеются.
— Кузьмицкий с Асмоловым не вернулись? — спросил лейтенант.
— Там они, — махнул сержант. — Вешки ставят. Обозначат проход, подойдут.
Сержант выполз. Изогнулся, юркнул, пропал.
Лейтенант подумал о Пахомове, о том, что не зря он хлопотал за сержанта. И тогда, когда тащил его из госпиталя в свою часть, и позже, когда переводил его под свое начало в разведку. Пахомов исполнителен и надежен — вот что главное в нем.
С сержантом Пахомовым Речкин встретился в госпитале. Прибыли одним эшелоном. Ранения схожие. Койки стояли рядом.
Госпиталь, в который они попали, был расположен в поселке Ивановское под Москвой, в здании бывшей средней школы. Школа стояла на окраине соснового бора. Место холмистое, красивое. Сосны виделись сразу за окнами. Нагляделся на них Речкин, каждый ствол, каждую крону изучил. Глядеть на них не уставал. В зависимости от погоды стволы сосен меняли оттенки. В погожие дни отливали янтарем, светились, выглядели нарядно, празднично, повышая настроение, вызывая в памяти картины довоенной жизни: весны, Первомая, цветов, шествия праздничных колонн. Набегала хмарь, стволы сосен темнели бронзово, становились холодными, напоминая о том, что жизнь сурова, всего в ней поровну: и радостей, и печалей. В ветреные дни сосны раскачивались, с их вершин густо сыпало снегом. К вечеру на них налетало большое количество галок. Они устраивали настоящий гвалт, крики птиц слышны были в палатах.
Из окна был виден откос холма. Раненые знали, что на вершине холма, за деревьями стоит бывшая помещичья усадьба. До войны в ней размещался интернат. Теперь в нем жили дети войны, сироты, вывезенные с временно оккупированной врагом территории. По воскресным дням откос холма заполняла детвора. На санках, на фанерках, на согнутых в параллельные дуги водопроводных трубах, а кое-кто и на лыжах, они до такой степени раскатывали склон, что забраться на вершину стоило большого труда. Трудности не останавливали малышей. Копошение продолжалось бесконечно долго, весь световой день. Ребятня карабкалась на склон. Малыши срывались, сползали на животах вперед ногами со склона, снова пытались забраться вверх. Не слышимые за окнами раненые подбадривали карапузов, советовали, как лучше зацепиться, преодолеть кручу. Возникали споры. Эти споры притупляли боль.
В те же воскресные дни детдомовские мальчики и девочки приходили к раненым в гости. Они же раздавали посылки. Посылки поступали в госпиталь постоянно. По обратным адресам отправителей можно было изучать географию страны. Незнакомые люди слали раненым фрукты, сладости, кисеты, носки, лекарственные травы из республик Средней Азии, из Закавказья, из Сибири, с Урала и Дальнего Востока. Посылки специально приберегали к воскресному дню, чтобы дети могли вручить их раненым.
Медицинский персонал госпиталя предупреждал раненых, чтобы они были внимательнее к этим детям. Многие из них травмированы, фантазируют о себе, о родителях, переживают, если почувствуют недоверие к своим рассказам. Предупреждение по педагогическим соображениям, может быть, было и необходимо, однако до недоразумений дело не дошло бы и без них. Раненые сами хватили полной мерой, знали, что такое боль, к детям относились внимательно. Бойцы и командиры угощали детей, слушали их рассказы.
Устраивали дети концерты. На представления раненые шли с большим удовольствием. Не ходили тяжелые, Речкин с Пахомовым в том числе. Но и в этом случае раненые не оставались без внимания. Дети поднимались в палату, выступали перед лежачими. К ним в палату постоянно приходила одна троица: две девочки — Маша и Света, мальчик Саша. Саша играл на балалайке, Маша и Света пели, пританцовывая, частушки.
Саше было чуть больше десяти лет. Родился и вырос он в военном городке под Могилевом. Об отце говорил: «Папка воюет с Гитлером». Мать у него погибла, «когда бомбы падать стали». Подобрали его наши бойцы в начале сентября сорок первого года в боях под Ельней. Что ему пришлось пережить, о том можно было лишь догадываться. Мальчишка был молчаливым. Худенький, светловолосый. Бледное лицо, карие глаза, длинные ресницы. Хмурил лоб. Он забирался на табуретку, клал ногу на ногу, трогал струны, кивал девочкам, те начинали петь. Исполняли они и песни.
У Маши коротко, под мальчишку, стрижены волосы. Востроносая, черноглазая, шустрая. Исполняя частушки или песни, она торопилась, сбивалась с ритма, не смущалась таким оборотом, ухватывала ритм, продолжала петь. Она и говорила торопясь, проглатывая букву. «Ой, как п’ишли они к нам, — рассказывала Маша о немцах, — ка-ак побе’ут по избам, как зак’ичат не по-нашему. Кто не ’отел бежать, тех били, уби’али даже, вот. Мамка меня за ’уку взяла, Костьку, б’атика, на ’уки подхватила, мы ка-ак побежим…» Маша рассказывала о том, как собрали немцы женщин, детей, погнали впереди себя к лесу, «из которого стреляли». Раненые знали ее историю от воспитательницы детского дома. О том, как немцы, прикрываясь женщинами и детьми оккупированной деревни, пошли в атаку на выходящих из окружения наших бойцов, а когда бойцы отрезали гитлеровцев, фашистские выродки стали стрелять в мирных жителей. В том бою погибла Машина мама, ее братик Костя.
Света младшая из троих. Ей не было восьми лет. Волосы цвета льняной кудели заплетены в косички. Носик вздернут. На переносье проглядывают едва заметные веснушки. Синеглазая. Если Маша-торопыга начинала петь, не дождавшись Сашиной команды, Света подобной вольности себе не позволяла. Девочка дисциплинированная, чуткая. Поет — слышит всю палату, чувствует, что у нее за спиной. Застонет раненый, заметит, с какой койки донесся стон. Кончит петь — подойдет. Дотронется крохотными пальчиками до повязки, спросит: «Вам больно, дядя?» У кого повернется язык сказать «да», кто признается перед такой капелюхой. Не признавались. Говорили, что повернулся неловко или еще что-нибудь. Света не верила. Говорила: «Больно, я знаю». Расстегивала пуговички старенького платьица, обнажала плечико, показывала его раненому. Плечо у нее было прострелено. Сквозное ранение было пулевым, рана свежей.
Света, как и Маша, из Калининской области. С оккупированной земли их вывезли одним самолетом. Свету спасли партизаны. Они налетели на карателей в тот самый момент, когда палачи расстреливали жителей деревни. Мама у Светы погибла, но девочка не верила в ее смерть, старалась убедить в этом каждого, с кем ей приходилось разговаривать. Беседовать с ней можно было о делах сугубо мирных. О школе, например, о подружках, но это обстоятельство ничего не значило, она обязательно сворачивала разговор на свою сторону, рассказывала о том, как приехало в их деревню много-много машин, как «дядьки-немцы» ходили по домам, выгоняли жителей на улицу, «мамка плакала, и все люди плакали», как хотела она «кошку в доме не оставить», но мама не разрешила, схватила ее за руку, они пошли к стене, «где амбар деревянный». Кругом горело. «И дома, и деревья, и даже кустики. Дядьки-немцы стрелять стали. Мамка упала, тетя Дуся упала, тетя Клава упала, — рассказывала девочка, — а мы с Настеной стоим и стоим. Меня ка-ак ударит, я ка-ак упаду, глазки мои закрылись. Открылись, когда дядя-доктрр меня лечил». Девочка была уверена, что мамы их упали нарочно. Ее мама, тетя Дуся, мама Настены. Чтобы в них пули не попали. Ее, Свету, ранило, Настену ранило, «только насовсем, и она умерла», потому что не догадались они упасть раньше, как это сделали их мамы и тетя Дуся. Теперь ее мама, девочка знает об этом очень хорошо, ушла к папе, чтобы вместе с ним убивать Гитлера. Скоро они его убьют и приедут за ней.
В первое время, когда девочка заканчивала рассказ, личико ее хмурилось, глаза темнели. Она склоняла голову набок, настораживалась, давая понять, что возражений, опровержений тем более, она не потерпит, в ее рассказе только правда. Чувствовалось, Света сталкивалась с недоверием, ее пытались переубедить. Рассказывая свою историю, последние фразы она произносила с такой неопровержимой доказательностью, что трудно было не согласиться с нею. Соглашался Речкин, другие раненые. Постепенно девочка убедилась, что ей верят, успокаивалась, тяжелые дни вспоминала реже.
Один человек не мог успокоиться после ее посещений — сержант Пахомов. Когда Света заходила в палату, Пахомов прятал лицо в подушку. Когда же девочка уходила, он разражался отчаянным матом. Сержант ругал немцев с такой остервенелостью, что видавшие виды люди опасались, как бы чего не приключилось с сержантом. Родом Пахомов из-под Новгорода. Под немцем у него родня осталась, жена с двойней. «Что делают, что делают, падлы!» — кричал Пахомов. Раненые успокаивали его, как могли.
Успокаивал Речкин, благо их койки стояли рядом. Вместе на ноги становились, вместе ходили в детский дом. Многие выздоравливающие помогали детдомовцам. Дров напилить, наколоть, с ремонтом помещения. Среди раненых разные специалисты были. Печники, стекольщики, плотники, просто мужики — на все руки мастера. Усадьба старая, холодновато в ней детям, вот и старались помочь им по мере сил.
Вместе с Пахомовым Речкин выписался из госпиталя. Вместе прибыли на фронт. Причем произошел тот редчайший случай, когда Речкину повезло, он попал в свою часть, потому и Пахомова удалось пристроить рядом с собой, в разведке.
Лейтенант Речкин хоть и ушел в мысли-воспоминания, но и тишину слушал. Угадывал движение людей по болоту. Далеко, едва различимо, потом все ближе и ближе. Понял, что возвращаются разведчики. Речкин приподнял голову, увидел Пахомова, Качераву, Стромынского. В широких венках из веток, тростника, замаскированные на тот случай, если спадет туман. В такой маскировке летчик может и не разглядеть человека, он вроде кочки. Особенно если в воде по пояс или по грудь.
Бойцы принесли слеги, большую охапку прутьев. Не залезая под навес, не отдохнув, принялись переплетать слеги прутьями. В ход пошли, извлеченные из вещмешков, шнуры да веревки. Работали споро. Соорудили жесткие носилки. Переговаривались между собой. Слова произносили тихо. Речкин разбирал отдельные фразы, узнавал говоривших. Не было Кузьмицкого и Асмолова.
— Готово, лейтенант, — сунул голову под навес Пахомов.
— Кузьмицкий с Асмоловым? — спросил Речкин.
— Идут, — сказал Пахомов. — Давай выбираться.
Сержант подлез к Речкину, помог развернуться, они выбрались из укрытия.
Туман и вправду был низинный. Клубился, растворяясь, открывая пространство. Когда туман рассеивался, болото просматривалось далеко. Лейтенант увидел Кузьмицкого. Поджарый, чуть сутуловатый, тот осторожно передвигался по болоту. За ним след в след пробирался Асмолов. Он был ниже Кузьмицкого, вода доходила ему по грудь. В руках у обоих шесты, на головах такие же веники, как и у остальных разведчиков группы. Двигались оба не торопясь. Шаг, остановка, проба дна, еще шаг. Как говорят, в час по чайной ложке.
Оба Лени в разведку пришли сравнительно недавно, хотя опыт войны был у одного и у другого.
Вернулись они в таком виде, что, будь жив Денис Рябов, он обязательно прокатился бы по их адресу. Сказал бы что-то о леших или еще что-нибудь. Веники на голове, форма в тине, лица вымазаны. Асмолов бы отмолчался, Кузьмицкий ответил бы. В том смысле, что болото это по сравнению с Пинскими, откуда он родом, «тьфу, семечки», а до настоящих болот, до тех опять же, что у него на родине, «переть и переть». «Веришь — нет, — сказал бы Кузьмицкий, — у нас есть деревни, до которых немцы так и не добрались. И не доберутся, — убежденно подтвердил бы он. — Такие топи, что, поставь пулеметчика, ни один немец не пройдет». Подобные разговоры возникали не однажды. «Мы, бывало, так кляли свое бездорожье, с войной оно нашим спасением стало», — говорил Леня. «Во чудик, — отзывался обычно Рябов, — зачем тогда сюда приперся? Сидел бы себе с пулеметиком, немцев пощелкивал бы». Денис балабол, как назвал его Колосов, к любой фразе прицепится. Кузьмицкий парень серьезный. «Сиди не сиди, — скажет, — а немца гнать надо».
Били они немца неплохо. Отряд, в котором воевал Кузьмицкий, вырос до бригады. Партизанам удалось наладить связь с Большой землей. С землей, свободной от оккупантов. С этой целью посылали за линию фронта группу. Кузьмицкого в том числе. Два месяца пробиралась группа к фронту. Леню ранило. Товарищи дотащили его до своих, сдали в госпиталь. После выписки Лене предложили учиться подрывному делу, чтобы потом лететь в тыл врага, но он отказался. Сказал, что мечтал хоть раз повоевать, как люди воюют. Чтобы враг был впереди, а за спиной свои. Человек он прямолинейный, говорит, что думает. Надоело, мол, драться в постоянном окружении, когда сзади, с флангов, спереди и сверху только враги. По принуждению людей в тыл к немцам не посылали, дело это было сугубо добровольное. Просьбу его учли, направили в стрелковую дивизию. Очень скоро Кузьмицкий заскучал. По прежним товарищам, по нелегкому своему житью-бытью. Надумал податься в разведку. Попал в группу лейтенанта Речкина.
Леня Асмолов в свой черед мало чем отличался от Кузьмицкого. Ниже ростом, и все. Такой же чернявый, такой же остролицый. Тоже белорус.
Осенью сорок первого года немцы повесили отца. В декабре погибла мать. Попала в облаву, ее расстреляли немцы в числе других заложников. Зимой немцы угнали в Германию сестру. Сам он тоже попался, его забрали, избили, бросили в телячий вагон. Произошло это в феврале сорок второго года. Такая вот хроника.
Эшелон гнали в Германию, стало быть, в рабство везли людей, в ненавистную неметчину. Ночью, на первом же перегоне, Леня вылез в крошечное окошко вагона, прыгнул, скатился с насыпи. Удачно прыгнул. Разбил лицо, ободрался, но ни рук, ни ног не сломал. Несколько месяцев шел к фронту. Выбрался к своим. К этому времени его возраст подлежал призыву.
Воевал Асмолов отчаянно. Был отмечен орденом Красной Звезды. Мог подобраться к немецким окопам, забросать гитлеровцев гранатами, вызвать панику и скрыться. Смог угнать от немцев целехонький танк, за что и был награжден орденом. Одно не мог — видеть немцев живыми. Это его свойство привело Асмолова в штрафную роту.
Бои сильные были. Была неудачная атака. Его товарища захватили немцы. Бросили истерзанного на колючую проволоку напоказ: смотрите, мол, с каждым из вас такое будет. Тут атака. Выбили они немцев. Асмолов озверел, увидел вражеских солдат в ненавистной форме, срезал всех одной очередью. Те немцы оказались пленными, нельзя в них было стрелять. Асмолова судили, отправили в штрафную. На верную смерть отправили, так надо было понимать, потому что известно, в какое пекло посылали штрафников.
В штрафных, дело известное, до первой крови воевалось. Асмолов кровь пролил. Рану получил пустяковую, вернули его в свою же часть. Позже предложили перейти в разведку. Начал с полковой, дошел до фронтовой. Попал в спецгруппу лейтенанта Речкина. Парень он был неплохой, но за ним до сих пор приходилось присматривать особо. В нем был заложен эмоциональный заряд с взрывателем замедленного действия, причем неизвестно, когда этот взрыватель сработает. Речкин постоянно приглядывал за Асмоловым. Лене лишь бы убить немца, а в разведке это не всегда кстати.
На Кузьмицком и Асмолове не оказалось сухой нитки. Форма потемнела от воды. Устали. Выбрались на островок, легли, перевернулись на спины, задрали ноги, сливая из сапог воду.
— Есть проход, товарищ лейтенант, — доложил Кузьмицкий.
Пахомов дал условный сигнал Ахметову, чтобы тот приближался к группе. Трижды стреканул по-сорочьи.
Ахметов приблизился, как всегда, неслышно. Умел ходить этот боец. По песку, по траве, по лесу, по воде. Когда он движется, не услышишь ни шороха, ни хруста веток, ни всплеска. Выдержка завидная, чутье звериное. Опасность чувствует даже невидимую. У него ноздри в этот момент раздуваются: хищник, да и только. В минуты опасности он и передвигаться старается кругами, к подозрительному месту подбирается с подветренной стороны. Терпеть не может курящих людей. Говорит: «Табак ветер далеко носит, табак выдает. Табак смерть в себе носит». Ахметов обнаружил немцев на проваленной явке, ему спасибо за то, что упредили они немцев, напали первыми, уничтожили засаду. Ушли. И оторвались бы, не случись такое с Неплюевым. Нервы, нервы не выдержали у радиста — это факт. Закваска, видать, оказалась слабоватой у парня: первый рейд, первый поиск, слабая подготовка. Цена одна — жизни товарищей. Погибли Женя Симагин, Саша Веденеев, Денис Рябов. Добровольно вызвались прикрывать отход группы. Женя, Саша, потом, когда пришлось оставлять в тайнике Колосова с радистом, Денис.
Жестоко убивать себя самому, нелогично такое поведение человека, люди созданы для жизни, но и выбора не было. Известно, что делают немцы с пленными разведчиками. Пытки, истязания. В конце концов — смерть. Другого не дано. И это хорошо, если останется сил подорвать себя. В плен попадали, вот что плохо. Принимали муки. Лучше, конечно, подобной участи избежать. Лучше в бою. Себя подорвать, врагов зацепить. Отомстить за товарищей, за землю свою.
Есть такое слово: надо. На войне оно особым смыслом наполнено. Прожорливое слово. Ради того, что стоит за ним, заплачено, платится многими жизнями. Надо — Женя Симагин вызвался прикрывать отход группы. Потом Саша Веденеев. Надо — пошел на смерть Денис Рябов. Оставшиеся в живых тоже выполнят свой долг до конца. В этом Речкин не сомневался. Он был уверен в подчиненных, как в самом себе.
Ахметов наконец выбрался на островок. Тоже мокрый. Темное от загара лицо потемнело еще больше от долгого лазания по камышам, от болотной жижи. Черные глаза ввалились. Устал, но вида не подает. Воду из сапог не слил, стал докладывать.
Немцы сосредоточились в лесу на окраине болота. Слышал шум моторов, но что там, сказать не может. Возможно, артиллерию подтаскивают. Может быть, лодки привезли. К немцам полицаи на подмогу прибыли. Со своим начальником, по всей видимости, остальные перед ним навытяжку стояли. Здоровый, буйвол. Шрам на лице. Видел, как тот бил старика. Показывал старику на болото.
— На старого человека руку поднял, э! — горячился Ахметов. — Шакал он, настоящий шакал!
Говорил Ахметов с заметным кавказским акцентом. Начальные слова каждой фразы произносил громче остальных.
— Проводника, похоже, нашли, — объяснил Ахметов. — Старика заставляют в болото идти, э!
— В ночь они в болото не полезут, — сказал Речкин, и разведчики согласились с ним. — В путь, — приказал лейтенант.
Мирное слово произнес Речкин, оно никак не подходило к тому, что им предстояло преодолеть. Бойцы двинулись по узкой подводной кромке, справа и слева от которой шесты не доставали дна. Ноги засасывало. Как ни старались бойцы удержать носилки с командиром, окунули-таки Речкина, да не раз. Однако лейтенанта своего донесли, ему не пришлось идти самому.
Стемнело, когда добрались до острова. Осмотрели рану лейтенанта, сменили повязку. Отжали форму, принялись осматривать остров. Поняли, что им второй раз повезло. Как и с тем крохотным островком, на котором удалось передохнуть. На этот раз они натолкнулись на настоящую сушу, плоскую, но каменно крепкую, чудо природы, лежащее с севера на юг. Двести шагов в длину, пятьдесят в ширину. Нагромождение камней, заросших невысокими елями. Ненормальность в бесконечности топей, инородное тело в бескрайности трясин. Валуны представляли собой естественные огневые точки. Остров что крепость. Одно настораживало. За островом разведчики не нашли проходов. От берега тянулось ровное пространство без разводов воды, без кочек, сплошь заросшее травой. Ни ступить на такую поверхность болота, ни проползти по ней. Провалишься, засосет, поминай как звали. По всему выходило, что попали они в тупик, из которого нет и не может быть выхода. Немцы не уйдут, пока не убедятся, что группа уничтожена. Остров последний бастион для разведчиков.
С тем они и легли спать, выставив наблюдателей, договорившись менять друг друга каждые два часа. Каждый теперь понимал, что утром немцы полезут на остров. Утром будет бой. Может быть, последний.
Из документа, обнаруженного партизанами в портфеле офицера связи тылового района 17—Ц Адольфа Краузе
«…Задача службы безопасности заключается в выявлении всех противников империи, в борьбе с ними в интересах безопасности, а в зоне боевых действий и тыла фронта в целях безопасности армии. Помимо уничтожения активных противников: отдельных разведчиков, диверсантов, разведгрупп; все остальные элементы, которые могут оказаться врагами, должны устраняться посредством предохранительных мероприятий. Полномочия тайной полиции в зоне боевых действий и в тылах основываются на директивах плана «Барбаросса».
Мероприятия вверенных вам сил полиции безопасности, усиленных войсковыми соединениями, необходимы по следующим причинам:
1. В районе сосредоточения частей для нанесения мощного удара по противнику в связи с планом «Цитадель» активизировалась деятельность враждебных банд.
2. Во многих лесных массивах появились новые партизанские группы, сформированные населением.
3. В деревнях и других населенных пунктах жители оказывают помощь преступным элементам.
Было бы неразумным, если бы мы пассивно наблюдали эту деятельность, не принимая никаких мер. Очевидно, что такие меры будут сопровождаться некоторой жестокостью.
Хочу предложить ряд таких мер.
1. Расстрелы евреев.
2. Расстрелы заложников.
3. Расстрелы детей.
4. Расстрелы при попытке к бегству.
5. Показательные казни через повешение.
6. Сожжение деревень».
Из рассказа активиста подпольной организации Глуховска Алексея Сергеевича Колюжного
«…В подполье я руководил оперативным отрядом, обеспечивал безопасность подпольщиков. Возглавлял нашу организацию старший лесничий городской управы Дмитрий Трофимович Шернер. Человек он был опытный. До революции прошел тюрьмы, каторгу. Член партии большевиков с тысяча девятьсот пятого года.
С Дмитрием Трофимовичем я, как правило, не встречался. Исключения из правил, однако, были. Одно из таких исключений Дмитрий Трофимович допустил пятнадцатого июня.
Шернер пришел ко мне часов в одиннадцать. Увидев его у себя, я понял, что произошло чрезвычайное. И точно. «Саша, — сказал Дмитрий Трофимович, — надо срочно убрать Волуева». Коротко рассказал о том, что произошло в Малых Бродах.
Надо — так надо, о чем разговор. Тем более что Волуев у нас под прицелом почти год ходил. С тех пор, как вынесли ему приговор. По этому подонку давно пуля плакала. Сколько он крови пролил, какие зверства творил. Удивляло меня другое. Сам Шернер почему-то оттягивал исполнение приговора, сдерживал нас. Позже я, конечно, узнал причину, но тогда, честно говоря, недоумевал. Мы к сорок третьему году многих предателей казнили, раскрыли многих провокаторов. В страхе держали гитлеровских приспешников. В то же время не трогали старосту Шутова, его подручных. Не трогали Волуева. Я ведь тогда не знал ни о Степанове, ни о той цепочке связи, которая проходила через Малые Броды. Как не знал об афере с лесом, в которой было замешано столько наших людей. Странным казалось сдерживание. На стороне громим, караем предателей, а у себя под боком они свои гнусные следы оставляют.
Война — жестокость. Прежде всего жестокость. В жестокости мы не были первыми. Мы не приглашали к себе гитлеровцев, они к нам пришли сами. С мечом и огнем. С мощным карательным аппаратом. Выискивали предателей. Обрабатывали слабых духом. Заставляли предавать. А народ нас звал мстителями. Мы и были народными мстителями.
Я молодым был, горячим. Отряд у меня молодежный. Главным для нас было — действовать. Чем ответственнее задание, чем больше в нем риска, тем лучше. Такими мы были. Один, как говорят, за всех, и все за одного.
Получив приказ от Шернера, я собрал руководящий состав звеньев. В целях конспирации мы разбились на звенья, во главе каждого стоял командир. Собрал я товарищей, составили мы план покушения на обер-полицая города. Но Волуева в Глуховске не оказалось. Узнали мы в тот день, что весь отряд полицейских укатил в район Шагорских болот на усиление зондеркоманды 07-Т обер-лейтенанта СС Альфонса Мауе. Приказ тем не менее оставался в силе, желание расквитаться с Волуевым огромное, мы стали ждать, когда палач вернется в город.
При разговоре Шернер передал мне, что в Шагорских болотах укрылась разведгруппа, просил изучить возможность помочь фронтовым разведчикам вырваться из огненного кольца. С этой целью мы направили к болотам нескольких наших товарищей. Отправили в тот же день. Были у нас ребята, хорошо знавшие местность, свой район. Во многих деревнях имелись явки. Знали наши ребята и особенности Шагорских болот…»
* * *
Утро выдалось ясное. Воздух до того был прозрачен, что, казалось, проведи по нему мокрым пальцем, услышишь скрип. Небо голубело и голубело. От горизонта до горизонта ни облачка. Под обрывом клубился туман. Из-за леса поднималось солнце. Едва поднявшись, оно заалело в окнах домов. Казалось, стекла плавятся. Казалось, истекают они огненными ручейками на землю, добегают до Тульи, оттого река и клубится туманом.
Где-то, то ли далеко, то ли близко, что-то ухало и ухало. То ли голову схватывало и отпускало, то ли сердце вздымалось и опадало. Может быть, падали отяжелевшие капли росы. Мать Гали Надежда Федоровна Степанова приоткрыла глаза, увидела траву. Сознание отметило, что лежит она на земле. Ни солнца не увидела, ни голубизны неба. Показалось, наступили сумерки.
Надежда Федоровна попыталась сесть.
Не получилось.
Не слушались руки.
Не слушалось тело.
Память в мгновение высветила прощание с дочерью. То, как бородатый оторвал Галю, оглушил Надежду Федоровну выстрелами из автомата. Резко оттолкнул ее от себя, от Гали. То, как долго-долго она падала, после чего наступил провал…
Надежда Федоровна собралась с силами, села. Уперлась руками за спиной в землю. Огляделась.
С сумерками она, конечно, ошиблась. Что-то, видимо, произошло со зрением. Это что-то стало отходить, как только она села.
Посветлело.
Надежда Федоровна увидела солнце. Увидела утро. Росу на траве, по которой бородатый увел ее дочь.
Как озарение, как соломинка во спасение, брат ее покойного мужа Михайла сквозь горячечный бред прорвался. Наказ Степанова, переданный с Галей, ей вспомнился. «Что ж это я, а! — всполошилась женщина, осознав тот факт, что в момент прощания с дочерью она забыла о словах лесника. — Как же это я, а?» — спрашивала себя Надежда Федоровна, повторяя и повторяя вопрос, не в силах найти какие-то другие слова. Наказ Степанова держался, однако, недолго, снова, в который раз, сердце ожгла тревога за дочь.
Сколь долго сидела Надежда Федоровна на земле, она не помнила. Когда же окончательно пришла в себя, поняла, что находится в доме. Узнала соседок. Худенькую суетливую Марью Глухову да грубоватую Татьяну Синицыну.
— Ты это оставь, Надьк, к чему такие мысли, — доносился до нее голос Татьяны. — Ишь чего выдумала — руки на себя наложить. Ты чего это… Эдак мы все бы уж померли. Вон она, Марья, перед тобой. Не ее ли Верку в полон угнали? Нешто не знаешь? Твою-то в лес, к нашим увели. Думать надо, в залог взяли, чтоб ваш Михайла не очень-то с немцами якшался, хотя всем нам на него и грех жаловаться. Не казнись. Поди узнай, что лучше-то. Ты лучше поплачь. Слез ныне много, твои прибавятся, глядишь, потопим мы извергов в своих слезах. Через них все беды наши. Вон Верка-то пишет: Шарику — псу своему — завидует в ихней будь она проклята, Германии.
Синицыну невозможно было остановить. Она говорила и говорила. Голос у нее мужскому вровень. Она перебрала в памяти многих односельчан, дети которых были либо угнаны в Германию, либо хоть как, а пострадали. Снова, в который раз, принялась укорять Надежду Федоровну за ее слова о том, что та наложит, мол, на себя руки, если что-то случится с дочерью.
— Остановись, Татьяна, — предостерегла Синицыну Марья Глухова. — Не в себе она, вот и несет полосой. Известно, в горе человек и не такое сказать может.
— В словах тоже мера должна быть, — возразила Синицына.
Надежда Федоровна поняла наконец, что обе соседки говорят о ней, что это с их помощью она очутилась в собственном доме.
— Ой, бабоньки! — выкрикнула она, ухватившись за горло.
— Очухалась, что ли? — спросила Татьяна.
Надежда Федоровна кивнула. В который раз ощутила огненную горечь в груди. Ни вздохнуть, ни выдохнуть — такое вдруг сделалось состояние. В тот же миг она заплакала. Не могла остановиться. Плакала все горше и горше. До голоса. До причитаний. Ее соседки сначала вроде бы держались, но потом и они не выдержали, заголосили в три голоса каждая по своему горю.
Остальное плавилось и проявлялось, как в жару при очень высокой температуре. Знала Надежда Федоровна, что в погребе Степанов, пыталась бежать к нему. Сдержалась. Не выдала того, что знала.
К вечеру моторы загудели. Немцы приехали.
С немцами полицаи. Из Жилина, из Кострова, из Демина.
Подъехали к дому старосты.
Мертвого Шутова обнаружили. Степанова из погреба выпустили.
Две мотоциклетки в лес укатили.
Ни немцы, ни полицаи на этот раз по деревне не рыскали. У дома старосты топтались. Ждали, когда мотоциклы воротятся. Дождались.
Вместе с мотоциклистами из леса Лысуха, Стрельцов, Рыков на конях прискакали. Полицаев вместе с Михайлой Степановым в машину посадили, в город увезли.
Ночь прошла в ожидании. Ждали лиха, потому как за два года только плохое и видели.
Утром снова моторы загудели. Машины и мотоциклы в деревню воротились. Немцы приехали. Лесника с собой привезли. Переводчика. Того, что к Шутову наведывался.
Немцы по деревне разбежались. Немцы стали людей к дому Шутова сгонять.
Возле дома у крыльца лежал хозяин. Голова откинута, борода задралась, рука подвернулась. Рядом с трупом офицер, переводчик, лесник Степанов. Михайла Афанасьевич чернее тучи стоял — это Надежда Федоровна запомнила. Запомнила, как дети стали плакать, а матери их успокаивали. Кто на руки брал детей, кто к подолу прижимал. Лишь бы немцев не разгневить, злобы ихней не вызвать.
Офицер на ящик взгромоздился, говорить стал. Плюгавый переводил. «Бандиты, — перевел плюгавый, — творят зло. Они только что побывали в вашей деревне. Убили старосту. Увели в лес племянницу достойного человека. — При этих словах плюгавый указал на Михайлу Афанасьевича. — Но мы их настигли, — продолжал переводить плюгавый. — Бандитов ждет заслуженная кара».
Надежда Федоровна как услышала эти слова, так и обмерла. Стояла ни жива ни мертва. Наконец доходить до нее стало: настигли немцы, да не поймали. Укрылись наши в Шагорских болотах. Жители Малых Бродов должны указать человека, который знает эти болота, поможет немцам в преследовании.
До Надежды Федоровны дошел смысл сказанного, ей легче сделалось. Знала она, что Галя с бородатым в другую сторону от Шагорских болот пошла, предупредила ее дочь.
Плюгавый продолжал переводить, люди стояли молча. Были, конечно, среди жителей Малых Бродов такие, что могли бы по болотам пройти, да кто же решится на то, чтобы немцев вести.
Офицер спрашивал, переводчик переводил. Потом офицер слез с ящика, подошел к людям, присмотрелся. Веточкой стал показывать на тех, кто, по его мнению, мог знать Шагорские болота, проходы в них. Солдаты тут же набрасывались на людей, вытаскивали их из толпы. Брали стариков. Взяли троих.
Лесника Степанова немцы второй раз с собой увезли. Однако перед отъездом он успел шепнуть Надежде Федоровне, чтобы шла она к нему домой за скотиной присмотреть. Сказал, что всех полицаев немцы к болотам угнали, что в болотах тех укрылись якобы наши разведчики. Те, от которых старшина с радистом явился. А Галя, мол, теперь уже у партизан, так он думает…
Свидетельство очевидца, жителя Глуховска Ивана Сергеевича Топазова
Декабрь 1944 г.
«…Стариков немцы привезли в комендатуру. Из Малых Бродов, из Кострова, Демина, Жилина, из Ольховки собрали стариков, то есть из тех деревень, которые примыкали к Шагорским болотам. Привезли их в грузовике во двор комендатуры. Не били. Автоматчики помогали старикам из кузова вылезать. Построили их в ряд. К старикам вышел комендант. Длинный, худой. Глаза светлые, но как бы застывшие. У него привычка была глаза при разговоре прищуривать. Майор Кнюфкен.
Тут же и переводчик объявился. Старательная сволочь. Он тенью за комендантом скользил. Куда конь с копытом, туда, как говорят, и рак с клешней. Они всегда вместе. На акциях, при допросах. Что обидно… Русский, гад. То с одной стороны подскочит к коменданту, то с другой. Вроде как прилаживается, чтобы удобнее переводить было. Ножки короткие, всегда в лакированных ботинках. Дерганый. Как на шарнирах. Говорит, а голова в сторону, в сторону скачет.
Сначала комендант сказал, а этот дерганый перевел, что старики должны указать немецким солдатам проходы в Шагорских болотах. Тот, кто это сделает, получит благодарность немецкого командования и премию. Не помню сколько, но сумма называлась большая. То ли десять, то ли пятнадцать тысяч марок. Был обещан паек, корова, новый дом.
Старики молчали. Тот дерганый дважды переводил слова коменданта, старики оставались глухи. Тогда комендант пошел вдоль строя. Пристально, не моргая, вглядывался в лица. Остановился возле невысокого лысоватого старика в поношенной телогрейке. Обут старик был в рваные, на босу ногу, галоши. Телогрейка опоясана тонкой бечевой. Старый человек, во рту ни одного зуба. Губы запали, щеки ввалились.
Комендант спросил имя, отчество, фамилию старика. Николай Федорович Щербаков оказался из Малых Бродов. На вопрос коменданта, знает ли он Шагорские болота, ответил, что нет, не знает, потому как всю жизнь возле скотины провел, от болот старался держаться подалее. Комендант слушал спокойно. Слушая, расстегнул кобуру, вытащил пистолет. Трижды выстрелил в Щербакова. Николай Федорович дернулся, схватился за живот, упал головой вперед к ногам коменданта. Майор Кнюфкен сказал что-то. «Так будет с каждым, кто откажет в помощи немецкому командованию», — перевел дерганый.
Старики и без переводчика поняли, что подступает конец. Замерли. Насупились. Комендант оглядел неровный строй. Выбрал очередную жертву. Подошел к Никите Сергеевичу Скрябину из Кострова. Спрашивал одно и то же. «Ты тоже всю жизнь возле скотины провел?» — перевел дерганый. Скрябин молчал. Комендант трижды выстрелил. Отошел. Не торопясь вставил в пистолет новую обойму. Вернулся к строю. Те же вопросы, те же ответы. В каждого комендант стрелял трижды. Убил еще двоих. Гурьева из деревни Жилино, Вербина из деревни Демино.
Из строя вышел Евсей Никанорович Соколов. Костровский дед. Высокий, сутулый, в белом. Белые штаны, поверх них рубаха до колен. Седые волосы, усы, борода. Мосластый дед. Заметно выпирали ключицы. Пальцы скрюченные. «Не дело так с просьбами обращаться, ваше благородие», — сказал дед. Сказал и закашлялся. Зашелся в кашле. Потом распрямился. Смотрел твердо.
Дерганый перевел слова деда. Комендант убрал пистолет. Спросил через переводчика о том же. Как звать, откуда родом. Знает ли Шагорские болота. Дед ответил, что знает их сызмальства.
Комендант обрадовался, что его метод убеждения подействовал, нашелся один, которому, судя по всему, нет охоты умирать. Верить в удачу не торопился. Спросил, с кем живет старик, есть ли у него родные, где они. Спросил, почему раньше не вышел.
На вопросы коменданта старик ответил обстоятельно. Родных у Соколова не оказалось. Майору такое обстоятельство не понравилось. Старик объяснил, почему сразу не вышел. Сказал, что большой риск в болота лезть, трудные они. Комендант согласился. Высказался в том смысле что кто-то должен помогать немецким солдатам, они каждый день рискуют своими жизнями.
Переводчик в точности передал слова коменданта.
Соколова посадили в машину, увезли. Вслед за ним уехал комендант с переводчиком».
VII
Есть в наших российских лесах такие уголки, что трудно бывает поверить в их естественное происхождение, в то, что появились они без участия человека, талантливого лесовода, который, создавая тот или иной уголок, решил таким образом оставить по себе память.
Колосов, Неплюев, Галя, а следом за ними и Черныш шли низинным лесом. Старшина выбирал место, где они могли бы остановиться. Вглядывался в межстволье зеленовато-желтых осин. Не находил ни пристанища, ни укрытия. Трава и та не росла в этом лесу. Под ногами похрустывали лежалые ветки. Землю плотно укрыла прелая листва, копившаяся здесь годами. На них обрушились комары. Эти древнейшие твари, казалось, прозевали появление на земле живых существ, сидели в засаде миллионы лет, людей восприняли как подарок судьбы. Набросились скопом. Кусали, пили кровь, выли…
Время приблизилось к полудню. Сквозь легкие облака нет-нет да и проглядывало солнце. В осиннике тем не менее оставалось сумрачно и сыро. Отчаявшись найти место посуше, Колосов приготовился сделать привал, когда почувствовал начало подъема. Ноги вскоре зашуршали по траве. В осиновом межстволье засеребрились редкие березки. Темно зазеленели отдельные елочки…
Подъем продолжался, становился круче, они приблизились к густым зарослям.
То, что им открылось затем, ошеломило, похоже, даже приблудного пса. Весь путь от Малых Бродов он лениво трусил впереди, обреченно встряхивая мордой, безнадежно пытаясь отмахнуться от насекомых, оглядывался нехотя, а тут вдруг остановился, подобрался, нырнул в чащу. Колосов остановил девушку, радиста, стал осторожно пробираться сквозь сцепление ветвей ольхи, бузины, малины, высокой, в рост, крапивы.
Взгляду старшины открылась поляна. За ней — березовая роща. Лес с противоположной стороны был похож на белую монастырскую ограду, только что выбеленную, увенчанную кружевным зеленым покрывалом. Справа от поляны клубились заросли рябины. Кроны ее казались шарами, готовыми оторваться от земли, уплыть вслед за облаками. Слева поляну сторожил темный еловый бор.
Посреди поляны стояли четыре березы, столько же сосен. Удивительно как стояли они. Чередуясь друг с другом, ровным кольцом, будто очень давно, подростками хороводились они, нежданно-негаданно замерли во время игры — да так и выросли, образовав круг. Это были очень большие деревья с могучими ветвями, мощными стволами, задубело старые, но вместе с тем и элегантно-стройные. Они парили над поляной, высились над ней царственно-величественной короной. В лад необычному лесному хороводу, тоже кругом, росли молодые побеги сосен и берез. От этого казалось, что красавицу корону опоясывает не менее прекрасное изумрудное ожерелье.
Возле зарослей, из которых Колосов не решался выйти, виделось пестрое покрывало из разнотравья. Белели и краснели шары крупноголового клевера. Фиолетово светились колокольчики, гроздья чебреца. Солнечно посверкивали кучно-желтые цветы зверобоя, бледно-розового ярошника, над которым нависали коричневые метелки конского щавеля, кукушкиных слез. Тысячелистник, пастушья сумка, одуванчик, пижма, донник, тимофеевка… Каких трав только не было на этой поляне. Одни из них цвели, другие — готовились к цветению, третьи — зеленели нежно, а все вместе настаивали воздух запахом меда, сладкого до легкого головокружения дурмана, свойственного таким полянам в сенокосную пору.
От дождя ли, от ночной ли росы, не успевшей испариться в эдакой густоте, травы поблескивали крохотными капельками, в каждой светилось солнце, оно играло в них, лучи преломлялись, рассыпаясь многоцветьем радуги.
Над поляной стоял гул. Не тот комариный вой в осиннике, от которого хотелось бежать. Настоящий гул непроходящих забот живого о живом, гул-торжество вовек нескончаемой жизни. С цветка на цветок перелетали, копошились в цветках, снова взлетали пчелы, шмели, бабочки, мотыльки. На больших скоростях проносились слепни. Над поляной, в кустах, в траве пели, пересвистывались, щелкали птицы. Было тесно от их голосов. Было мирно и хорошо.
— Вперед, Черныш, вперед, — негромко произнес старшина, оставаясь в зарослях.
Пес, минуту назад понуро бредущий осиновым лесом, принял команду, вылетел на поляну, застыл, высоко задрав морду. Замер. То ли от невидали такой, то ли от настороженности. Обернулся к Колосову. Колосов еще раз скомандовал. Пес побежал, вспугивая птиц, пропадая из виду в густой траве. Достиг изумрудного ожерелья из деревьев в центре поляны. Скрылся. Не было его минут пять. Показался. Вернулся к старшине. Постоял рядом, вновь побежал по поляне. Словно приглашал за собой. Словно давал понять, что идти можно, не таясь. Колосов дал знать Гале, девушка тронула, за руку Неплюева, они вошли в траву, распугивая мотыльков, миновали подлесок-ожерелье, оказались в большом, продуваемом легким ветром шатре под кронами взрослых деревьев.
Лесник толковал старшине, что до партизан «два дня ходу». «Через Соть переправляйся возле Лисьего хутора, — говорил Степанов, — Река там неглубокая, место глухое. Как на тот берег выберетесь, забирайте вправо. Идите до Соколиной горы. Гора — название, холмик, но видно его далеко. Ориентир будет. От горы возьмете влево, к Журбаевским выселкам. О минах не забудь, — предупреждал лесник Колосова. — Особенно возле Соти, возле дорог. На рожон не лезь, — советовал Степанов, — если что — в обход иди».
Прав, сто раз прав оказался Степанов. Мин немцы не пожалели. Начинили взрывчаткой берега, заминировали выходы из леса. Не раз, не два пришлось менять маршрут, обходить опасные участки. Возле хутора Лисий немецкие саперы вели оборонительные работы. Не враз увиделась переправа через Соть. Шли и шли вверх по реке, мерили и мерили лишние километры, удаляясь от цели. Огибали Соколиную гору. В районе этой горы тоже расположилась саперная часть, туда немцы нагнали военнопленных. Как и под хутором Лисьим, там тоже велись оборонительные работы. В результате всех этих переходов потеряли несколько дней, а до Ливонского леса, в котором и укрылись партизаны, все еще оставалось около десяти километров, два серьезных препятствия: безлесое пространство в междуречье Соти и Каменки, дорога Михайловск — Глуховск, которую тоже надо было пересечь.
Беспокоило то, что отряд мог сняться, уйти. Степанов, правда, обнадежил, сказал о том, что при всех случаях их встретит проводник. Назвал пароль. Дал явку во времянке Сторожевского лесного кордона. Душа все-таки болела…
Оглядывая шатер из крон деревьев, Колосов думал и о том, что, несмотря на потерю времени, большую часть пути они преодолели благополучно. Главное — себя не выдали, не оставили след. Надо было отдохнуть. Последние километры девушка шла, оступаясь на ровном месте. Поддержать бы ее словом, но на слова она не отзывалась. Замкнулась в начале пути, после необычного прощания с матерью.
О том, чтобы уйти к партизанам, девушка мечтала с того дня, когда они с Бориным узнали об отряде, когда оба стали связными между подпольем и лесником. Мысленно Галя не раз прощалась с матерью. Мать, конечно, волновалась, наказывала беречь себя, но в лес отпускала. Так ей казалось. Даже когда дядя Миша объяснил ей, как надо уйти из деревни, она не представляла всей тяжести прощания с матерью. Ну, крикнет этот бородатый старшина, стрельнет «для острастки» — не убудет. Вроде игры. Игры не получилось.
Мать согласилась, что ей надо немедленно уходить. Выбегать на улицу, голосить — отказалась. Простилась с Галей в доме. Но и в окно смотрела. Видела, как Колосов вскинул автомат, дал знак дочери идти впереди себя. И то ли ей обидным показалось, что дочь под оружием ведут, то ли еще по какой причине, только она не выдержала, выбежала на улицу, заголосила. Старшине пришлось применить силу, стрелять. Он закричал грубо, зло. Галя испугалась, поверила его злым словам. В то поверила, что старшина и впрямь может застрелить мать. Она не выдержала, бросилась к матери. Старшина еще раз выстрелил. Больно схватил Галю за руку. Потащил в лес. Галя вырывалась. Галя извивалась. Галя укусила старшину за руку. На краю деревни сникла.
В пути старшина несколько раз принимался объяснять, что приказы надо выполнять. Девушка хмурилась, отделывалась молчанием. Галя вновь и вновь вспоминала мать, ее крик, то, как поверила в возможность прицельного выстрела. Старшина чувствовал ее состояние, снова принимался объяснять. «Ну, как, как я должен был действовать?» — спрашивал он девушку. Галя молчала. За два года оккупации она столько раз была свидетельницей применения грубой силы со стороны немцев, местных полицаев, и вот, на тебе, свой же стреляет и кричит на своих. Так велел, именно велел дядя Миша. Он все подробно объяснил. Как поступать, как вести себя. Все равно этот бородатый старшина должен был действовать как-то по-другому. Каким образом, она не знала, но как-то по-другому.
Неплюев начал сдавать. Остановится, закроет глаза. Что с ним происходит — не понять. То ли засыпает на ходу, то ли думает о чем. Старшина по-всякому пробовал воздействовать на радиста, не помогло. Когда Колосов кричал на радиста, Галя еще больше настораживалась, смотрела на старшину так пронзительно остро, словно он не сам по себе, а кто-то другой, крайне ей ненавистный. Так она смотрела на него в Малых Бродах, когда он оттаскивал ее от матери. Счастье, что их не обнаружили, нет погони. А вдруг? Тут уж не знаешь, что делать, как поступать.
Пес между тем наладился отдыхать. Он разворошил лапами траву, докопался до земли, улегся, положив морду на вытянутые лапы. Лежал он жмурясь и позевывая.
Удивительный пес. Хлопот он не доставлял. Умело охотился. Пропадал, шастал где-то часами, каким-то образом находил их вновь. Если Колосов бросал ему что-то из еды, брать не торопился. Обнюхает, осторожно возьмет кусок, удалится с глаз долой. Колосов и на этот раз вырезал кость из окорока, который он прихватил в доме Шутова, бросил собаке. Черныш взял кость, скрылся в зарослях.
Колосов нарезал хлеба, мяса. Они поели. Еду запили водой из фляжки.
— Спать, Неплюев, спать, — приказал старшина.
Радист послушался. Притулился спиной к стволу березы. Затих. Колосов укрыл его плащ-палаткой.
Галя спать не хотела.
— Ни, — сказала она, — сперва вы.
Снова здорово. Опять эта фраза. Девушка произносит ее каждый раз, как только они останавливаются для отдыха. Но стоит Колосову лечь, сомкнуть веки, Галя тут же засыпает. Каждый раз ему приходится спать и слушать, чтобы, не дай бог, не проворонить немцев. Вот ведь как получается. Рассчитывал на помощь, на то, что теперь-то он не один. В результате к заботам о больном радисте прибавилась еще одна.
Старшина чувствовал, как копившееся все последние дни раздражение концентрируется в нем, готовится выплеснуться наружу гневными словами, необдуманным действием. В который раз он сдержал себя. Сапогом наступил на собственные чувства да еще в землю их вдавил, чтобы не возникали. Лишь зубами скрипнул в ответ на ее слова. Остро выперли желваки на скулах… Выперли и пропали.
— Ты вот что, — сказал Колосов девушке, — я тебе случай расскажу. Из жизни. Постарайся сделать выводы.
Галя, как сидела к нему вполоборота, так и осталась сидеть, не проявив интереса.
— Под Можайском мы трое суток не выходили из боя. Немцы лезли, мы стояли. Ни днем ни ночью покоя не было. К концу третьих суток стихать стало. Мы отдохнуть наладились, тут переход. Сняли нас с одного участка, перебросили на другой, так это называется. Шли день и ночь. Нам новую позицию определили, стали мы снова землю копать.
Колосов задумался. Не любил он подобных воспоминаний. Каждый раз переживать приходилось — вот ведь какая штука память. Видится одно и то же. Открытые в смертельном оскале рты, остекленевшие глаза, неестественные, искореженные болью распластанные мертвые тела.
Тогда так это и случилось. Комбат выслал в засаду взвод. Люди заняли позицию. Заснули. В том числе и часовые. Заснули, не проснулись, потому что всех их вырезали немцы.
— Утром атака началась, — говорил Колосов, — мы на засаду понадеялись, поднялись, пошли, вместо помощи получили еще один удар. Положило нашего брата… Еле-еле позицию удержали. Благо помощь подоспела. Одни бы мы там все полегли.
Рассказ старшины девушка поняла. Одно ей было непонятно, для чего он это рассказал. Не думает ли он, что и она может заснуть на посту. Сил у нее хватит. Она щипать себя станет больно-больно, да не заснет.
Колосов продолжал говорить. О том, что впереди самый трудный участок, остался последний рывок.
— Порядок установим такой, — объяснял Колосов. — Сейчас спишь ты. Через два часа я тебя разбужу. Неплюев, — кивнул он в сторону радиста, — не в счет…
Старшина глянул на девушку, она спала. Сидя, чуть склонив голову, как бы прислушиваясь к тем словам, которые он произносил. Еще раз остро выперли желваки на скулах. Выперли и пропали.
Колосов вспомнил сорок первый год, отступление, бесконечные переходы, когда то и дело дивизию перебрасывали, когда только то и делали, что шли. Шли в пешем строю, совершая многокилометровые марши, кухни куда-то пропадали, постоянно хотелось есть, но пуще всего спать. Было так, что и штыком поднимал бойцов, не жалея их мягких мест, грозил расстрелом, отвешивал ощутимые тумаки, слыша в ответ: «Хоть убей, старшина, не могу, дай поспать». Какой там спать: бои, переходы, снова и снова бои. Иногда казалось, что и самому не хватит сил. Но он шел, большинство бойцов выдерживало переходы. Стожильными оказались. Если, бывало, лопалась часть жил, другие держали. Потому не жаловались на свою судьбу, ропота не возникало. Нет, не возникало. За два года войны всякого насмотрелся Колосов, но крайне редко встречал измену, трусость, прочие отклонения от нормы.
Перед глазами старшины шевельнулась трава, он разгреб стебли, всмотрелся. Увидел крупного дождевого червя, который, вероятно, только что вылез из земли, а теперь извивался, то протягивая свое длинное тело меж травинок, то свиваясь в кольца, да так резво, словно попал в беду. Так оно и оказалось. Колосов заметил сороконожку. Эта тварь вклеилась в червя всеми своими ногами и грызла, грызла, пока не отгрызла хвост. Распрямилась, потащила добычу в гущу стеблей. Бесхвостый червь вытянулся, пополз, но тут на него накинулись маленькие рыжие муравьи, облепили густо, он затих. «Вот как бывает, — подумал Колосов, — не одно, так другое. Доконали-таки». Старшине открылось, что в жизни случаются обстоятельства одно другого хуже, эти обстоятельства так наваливаются на живое существо, что не сбежать от них, не укрыться. Колосов далек был от мысли сравнивать то, что произошло на его глазах, с обстановкой, в которой очутился, но что-то виделось за фактом, тревожило.
Спала Галя, спал Неплюев. Рядом, в кустах, не прекращался хруст. Черныш дробил кость от окорока. Старшина раздвинул лапы елочки-подростка, увидел черного пса. Тот лежал, склонив морду, раскрыв клыкастую пасть. Пес крошил кость. Приладится, сомкнет челюсть, конец кости разлетается на мелкие осколки, которые он тут же и проглатывал. Старшине снова что-то увиделось. Угадывалось какое-то значение. Ничего не придумав, Колосов обругал себя крепким словом. В том смысле, что негоже приглядываться да примериваться к каждому листику, угадывая в его трепете на ветру скрытый смысл. Так черт знает до чего дойти можно. Что он, собственно, всполошился? Место здесь, судя по всему, глухое. Здесь они как следует отдохнут, восстановят силы, потом сделают последний рывок к цели. Обстоятельства? Что ж, бывает, что и наваливаются. Только расправляться с ними надо так, как Черныш со своей костью. Обстоятельства надо подчинять. Если они тебе не подчиняются, значит, ты сделал что-то не так.
Спала Галя, спал Неплюев. Черныш управился со своей костью, уснул. Колосов почувствовал, как тяжелеют веки. Будто их сырой глиной смазали. Глаза закрывались мгновенно, открывались с большим трудом. Старшина встал, огляделся, пошел к березовой роще. Следом поднялся пес, но Колосов произнес всего одно слово: «Сидеть!», и Черныш послушался. «Вот он, твой помощник, — подумал старшина, осторожно вышагивая по поляне. — Единственный и надежный. На этого пса ты можешь положиться. Он — твой страж».
Трава и в этой стороне стояла нетронутой. Следовательно, до них здесь никого не было. Значит, можно было чуть расслабиться. Старшина действительно расслабился, почувствовал облегчение. Веки сделались легкими, какими они и должны быть, моргал он без напряжения. Разведчик оглядел край березовой рощи и тоже не обнаружил следов. Пошел в ту сторону, где клубились кроны рябин. Увидел густые заросли, за ними крутой спуск в овраг, на дне которого струился звонкий ручей. Вода в ручье оказалась чистой, родниково-холодной. Старшина с удовольствием напился. Наполнил водой флягу. Окунул в ручей голову. С силой растер лицо, шею. Вернулся на поляну.
Спала Галя, спал Неплюев. Глядя на лицо спящего радиста, Колосов подумал о том, что сон равняет и здоровых, и больных. Это кажущееся равенство происходит потому, подумал Колосов, что у спящих закрыты глаза. Сквозь глаза глядит на мир душа человека. Поскольку души у всех разные, рознятся и взгляды. Отсюда перемены во взглядах. Заболел Неплюев, изменился его взгляд. И ведь что обидно. Ранят, скажем, человека, можно хоть что-то предпринять. Кровь остановить, перевязать. От простуды, других болезней тоже лекарства есть. Тут не знаешь, с какой стороны подступиться. Спит, как нормальный, проснется — смотри за ним в оба глаза. Один Колосов мог бы и по минному полю пройти, не подорвался бы. С такой обузой не рискнешь. Не проберешься там, где можно было бы. «Нет, парень, с тобой мне не развернуться, — вздохнул старшина. — Видно, мало тебя гоняли в школе, плохо с тобой работали».
Война — работа. Сколько раз задумывался Колосов над сочетанием этих, казалось бы, несопоставимых слов. С учебных лагерей о них думал, то есть с того времени, когда был мир на земле. В учебных лагерях он проходил курс молодого бойца. Война, все, что выпадет с нею, предскажи ему кто-то его же судьбу, в то время показалась бы дикой фантазией.
Учебные лагеря на берегу Волги пользовались среди бойцов, новобранцев особенно дурной славой. В ходу была поговорка: кто, мол, в тех лагерях не бывал, тот и горя не видал. О тамошних сержантах, старшинах рассказывали были и небылицы. Об их бессердечии особенно.
Война — работа. Именно в учебных лагерях Колосов услышал впервые эти слова. Смысл слов понял значительно позже, когда началась война. Тогда, как и все, он не принимал муштры до одури, до гула в ногах, многокилометровых бросков по пескам и болотам, бега строем в противогазах, когда свой собственный пот разъедает глаза, заливает клапаны противогаза, от нехватки воздуха вылезают глаза из орбит, в висках будто молотом колотит. Не понимал целесообразности бесконечных ночных подъемов по тревоге, того обстоятельства, при котором обессиленных, доведенных до полнейшего безразличия людей заставляют окапываться, перелопачивать тонны земли, сооружать дзоты, блиндажи, землянки, после чего стоять на часах, не смея заснуть на посту. Как и многим, ему казалось, что над ним измываются, что подобную нагрузку нормальный человек выдержать не может.
В учебных лагерях был у них старшина Дорошенко. Низкорослый, широкоплечий, с кривыми, колесом, ногами. Лицо изрыто оспой. Он и сказал им, новобранцам, о войне как о работе, причем каторжной работе, не сравнимой ни с какой другой. Дорошенко говорил: «Копать до последней горсти». На деле это значило, что, соорудив себе ячейку, ты должен прокопать проход к соседу слева, помочь товарищу справа, прорубить такой же лаз в тыл, укрепить, замаскировать бруствер. Одним словом — рыть. До тех пор, пока руки держат лопату, пока есть силы. Когда сил не останется, постараться выбросить последнюю горсть земли. Потому что в бою может так случиться, что именно эта горсть прикроет тебя от пули или от осколка. «Научись быть бодрым, когда спать не положено, — говорил Дорошенко. — Штык вставь в веко, а не засни». Поднимал среди ночи, гонял, командовал отбой, поднимал снова, и так без конца.
Выдержали. Все до одного. Выдержали курс молодого бойца, долгие месяцы сержантской учебы. С войной иными глазами глянули на учебу, на бывшего своего старшину Дорошенко. То, что казалось бессердечным, обернулось спасением. Последняя горсть земли, брошенная на бруствер окопа, спасала, умение держать себя в боевой форме после многосуточных без сна переходов. Когда же под Москвой немцы вырезали взвод засады, к суровой подготовке учебных лагерей Колосов отнесся с еще большим уважением. Он понял, что с ним, с теми, кто прошел хорошую подготовку, подобного произойти не могло. Пользы на войне, как не раз замечал старшина, больше от того, кто познал полной мерой, что такое солдатский труд.
Колосов поднял руку, тронул ладонью бороду, ему непреодолимо захотелось побриться. Снять с себя густо разросшийся панцирь. Соскоблить его так, как соскоблил бы он с души тяготы и заботы.
Откуда вдруг появилось такое желание…
Откуда нашло…
Этого как раз Колосов и не понимал Однако чувствовал, если не побреется немедленно, произойдет что-то непоправимое. И наоборот. Если побреется, все обойдется.
За два года фронтовой жизни старшина приучился прислушиваться к предчувствиям. Он видел, как иные люди, попав в приличную переделку, становились суеверными.
Подавленность разоружает, человек становится беззащитным.
Излишнюю браваду, а встречались Колосову и такие люди, старшина тоже не принимал. Свойство свое относил к чутью, которое проявляется у всего живого в обстановке постоянного риска.
Старшина Колосов прислушивался к себе.
Прислушался он и на этот раз. Заторопился, достал из вещмешка трофейную бритву, мыло, спустился в овраг. Побрился у ручья. Поплескался в его холодной воде. Омыл себя по пояс. Вернулся под кроны деревьев.
Неплюев как лежал, привалившись к стволу березы, в том же положении и оставался. Галя спала неспокойно. Беспокойным было ее лицо. То вдруг шевельнет бровями, то вдруг задергаются у нее веки. Старшина стал рассматривать ее лицо. Широкие брови, длинные ресницы. Нос чуть вздернут. Губы розовые, ровные и, как показалось Колосову, очень красивые. Вспомнив о том, что девушке, со слов Степанова, недавно исполнилось восемнадцать лет, старшина подумал о разнице в возрасте между ними, о своих двадцати шести годах, два из которых он воюет. Почему подумалось о разнице в годах, он не мог объяснить, как не мог объяснить свое непреоборимое желание побриться, но подумалось, в душе шевельнулось что-то далекое и мирное.
Меж деревьев совсем не было комаров. Под деревья не залетали почему-то даже слепни. В невысокой траве копошились жучки. Интереса к людям они не проявляли. Но муравьи — крупные, быстроногие — взбирались на спящих, оглядывались по сторонам, шевелили крохотными усиками, скатывались на землю. Легкий ветер шелестел листвой. Колосов поправил на девушке плащ-палатку, которой он прикрыл ее сонную. Кончиками пальцев осторожно коснулся завитка волос. Ощутил шелковистость, тепло. Снова пахнуло в душу далеким и мирным, но Галя вздрогнула во сне. Старшина поспешно отдернул руку. Почувствовал неловкость. Оттого, что девушка может открыть глаза, испугаться спросонья, подумать о нем невесть что. Он распрямился с такой поспешностью, словно его застали за чем-то предосудительным. Тихо отошел от спящей, опустился на траву.
На глаза попали два березовых листочка. Один свежий, другой — сухой, скорее всего прошлогодний. Откуда он взялся поверх травы, судить было трудно. Прошлогодние листья давно проросли травой, их мочили осенние дожди, утрамбовывал снег, обесцвечивали талые воды. Этот уцелел, не потерял своих красок. Светло-коричневый, с яркими желтыми крапинками, он лежал, открытый ветрам и солнцу, рядом с опавшим только что, черенок которого потешно изогнулся, напоминая поросячий хвостик.
Старшина поднял оба листика, поднес к глазам, посмотрел сквозь них на солнце. Зеленый почти не просвечивался. Основа листа, состоящая из хребта и дугообразных ребер, едва обозначалась. С виду вроде бы крепкий лист. А вот поди ж ты, что-то, значит, его сорвало, бросило, подумал Колосов. Ветер ли, прошедший недавно дождь. Выходит, не оказалось в нем той крепости, что держит листья на дереве до осени, до того времени, когда наступит естественный срок отмирания. Прошлогодний лист по размеру был больше. Его настолько истерли дожди и ветры, что он светился. Солнце просвечивало сквозь крохотные отверстия, которыми он был испещрен, как сито, как терка, как изношенное до дыр тряпье. Хребет, ребра выпирали рельефно, как выступают кости у старой лошади, на которой еще при жизни можно изучать строение скелета. Поверхность листа избороздили морщины. Жилы и прожилки четко обозначали многоугольники системы жизнеобеспечения, некогда действовавшей, доносившей живительный сок до каждой клетки. Система эта давно уже умерла, как умерли, опали, успели смешаться с землей, прорасти новой травой, отдав последний сок почве, все прошлогодние листья, а этот каким-то чудом продержался на ветке до лета, упал совсем недавно, потому и сохранил краски. Старшина сложил листок, сдавил его пальцами, он хрустнул. Подумал о Неплюеве. Что за болезнь? Ничего такого не придумав, ушел в воспоминания.
За два года войны старшина видел откровенных трусов, людей, чьим единственным устремлением было спасти собственную жизнь любой ценой. Так было под Москвой когда расстреляли дезертира, так было в том же сорок первом году на Ржевско-Вяземском рубеже.
Прибыло пополнение. Бойцам выдали сухой паек. Появились костры. На каждом по несколько котелков. Кто концентрат варил, кто кипяток готовил. Тут команда построиться. Поворчали, построились. Бойцам не объявили ни о цели построения, ни о том, что должно произойти. Каждый думал о своем котелке, никто не обратил внимания на стол, покрытый красной материей, на свежевырытую яму возле стола. Только когда к этому столу подвели молодого без пилотки, без ремня, без обмоток человека, возле которого перетаптывались с ноги на ногу два автоматчика, только тогда строй затих.
Человек струсил в бою. Бросил пулемет, бежал из окопа. Бежал, как выяснило скорое в таких случаях следствие, расчетливо. Полз, чтобы его не увидели, крался, хоронясь от постороннего взгляда. Налицо было дезертирство со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Батальонный комиссар зачитал приговор, сказал необходимые слова, дезертира поставили на край ямы и расстреляли. Он упал сначала на колени, потом стал крениться на бок, потом дернулся, свалился в яму. Яму второпях выкопали неглубокую. Над землей остались рогатиться ноги расстрелянного, с которых свисали тесемки от подштанников. Комиссар и после расстрела продолжал что-то говорить, но его слова не доходили до новобранцев. Они стояли растерянные, оглушенные выстрелами, таращились на рогатившиеся ноги, словно всем строем пытались разглядеть тесемки от кальсон.
Был сорок первый, самый жестокий год, когда приходилось прибегать к крайностям, к публичным, перед строем, исполнениям приговоров. Дезертиров и потом не жаловали, но тогда твердость во многом спасала положение, Колосов подобную твердость принимал. Тем более, что приходилось быть свидетелем очень разнообразных проявлений трусости. Бывало так, что люди трусили помимо воли, не убегали, но и толку от них было мало. Стоят в окопе, забыв все, чему их учили, глаза квадратные, руки дрожат, винтовку перезаряжают с лихорадочной поспешностью, выстрелы следуют один за другим, а палят в белый свет. Немного встречал Колосов смельчаков, которые могут вести прицельный огонь, когда на окопы идут автоматчики. Да еще при поддержке своих пулеметчиков. Да еще при поддержке танков, прочих огневых средств. Тут ведь какая психология. Все пули, что есть на земле, летят в тебя, так кажется. Особенно в первом бою, особенно когда тебя крестят огнем. Другого выбросит из окопа, понесет без огляда, и только ужас подпорками распирает глаза. Старшине не раз приходилось осаживать дрогнувших. Крепким словом, ударом, угрозой расстрела на месте. Трусость проявлялась в людях и менее заметно. Были такие, что цеплялись за каждый недуг, лишь бы увильнуть, лишь бы подальше от окопов. Такие люди составляли исключения из правил, но и они были.
Проявлений трусости Колосов не принимал. Он знал, как бы трусость ни проявилась, платить за нее надлежало не только трусу, но и его товарищам. На войне одна плата — смерть. Тот пулеметчик, что бежал с поля боя, бросив оружие, подставил под пули, оставил без прикрытия своих же товарищей. Дезертир, что прятался в стогу сена и которого поймали женщины, не занял места в окопе, не убил немца, значит, немец убил кого-то, убьет еще, потому что идет война, на земле сошлись люди и нелюди, схлестнулись друг с другом, чтобы убивать. Око за око. Зуб за зуб. Смерть за смерть. Другого выбора на войне не дано.
Встречая Колосов больных людей, попавших на передовую по недосмотру медиков. Особенно в том же сорок первом году. Прок от них тоже был невелик. Он сам однажды заболел, скрыл недомогание, что чуть было не обернулось бедой.
Болезнь нагрянула нежданно-негаданно в начале зимы под Москвой, до того, как чуть было он не замерз на нейтральной полосе, когда, истекающего кровью, вытащил его пес-санитар. Так вот, до этого еще случая ходили они к немцам в тыл. Возвращаясь, он окунулся, проломив хрупкий лед. Не обратил внимания. Как не обращал внимания на подобные мелочи и прежде. Ему б тогда спирту хватить или, на худой конец, водки, но старшина не курил, к спиртному его не тянуло. Выпивки, даже положенной, он старался избегать, справедливо полагая, что алкоголь замедляет реакцию, а он старался держать себя в форме постоянно. Подумал, что и так обойдется. Не обошлось. Даже когда его стало познабливать да поламывать, он еще надеялся, что отпустит. Тут новое задание. Пошли брать «языка». Слова простые, дело сложное. Долго шли, долго лежали на мерзлой земле, задание выполнили с большим трудом. Пока ходили да ползали, у него поднялся жар, он с трудом дышал. Болезнь мертвой хваткой схватила за горло. Кончилось тем, что на товарищей выпала двойная тяжесть. К своим пришлось тащить не только «языка», которого они добыли, но и собственного старшину. Позже ему рассказали, как он чуть было не помер. Спас его случай. На счастье, в землянке, когда его притащили, оказался врач, майор Дробыш.
— Ты лиловый лежал, рот раззявил, как рыба на берегу, с крючка снятая. Дробыш глянул на тебя, заорал, чтобы спирт тащили. Чистейшим спиртом руки промыл да как ткнет в твой рот. Глубоко ткнул, ты аж дернулся. Мы подумали: ну все, кранты. Дробыш тебя в тот же миг перевернул, из тебя полилось. Потом он сказал нам что у тебя в горле нарыв был. «Еще б чуть-чуть, сказал и он бы дуба дал».
Медсестра объяснила Колосову, что подхватил он ангину, да не простую, а какую-то особую, с мудреным названием. Счастье старшины в том, что сразу они тогда на врача вышли, иначе он запросто задохнуться бы мог. Лейтенант Речкин, он тогда еще в младших лейтенантах ходил, грозно предупредил. «В следующий раз за такие, — как он тогда сказал, — штучки пойдешь под трибунал». Старшина правильно понял своего командира. Хорошо, что они выбрались, а если бы шум, погоня? Из-за него могли погибнуть товарищи, сорвалось бы выполнение задания. Война. У нее спрос за все.
Теперь радист болен. Опал березовым листком, вроде бы и в силе, но с ветки слетел, если здравой памяти лишился.
Иногда Колосову кажется, что Неплюев заговорит. В момент, когда он просыпается, в глазах у него появляется осмысленное выражение. Он смотрит не сквозь предметы, а как бы пытается их разглядеть. Понять бы, отчего с ним такое произошло. Колосов перебирает в памяти весь переход от линии фронта до той опушки в лесу, когда немецкий летчик обнаружил их, не находит ничего необычного. Шли, как и раньше ходили. Собирали данные, передавали их штабу фронта. Обычный поиск, обычное задание.
Галя шевельнулась во сне. Старшина отвлекся от нелегких дум, пересел поближе к девушке. Смотрел на нее спящую. Ему было приятно разглядывать. До этого отдыха спали они урывками, больше шли или отсиживались в зарослях. Девушка осунулась, побледнела. Теперь ее лицо розово засветилось. Ей, вероятно, что-то снилось. То бровь вспорхнет, то крылышком мотылька часто задрожит веко. Досталось ей, чего там говорить — оккупация. Каждый день ожидание худшего. Оттого и сны тяжелые снятся. И будут сниться…
Не додумал Колосов. Девушка потянулась, проснулась.
В первое мгновение Галя увидела глаза старшины. Спросонья перемены в нем не заметила. Вытянула из-под плаща руку, протянула ее вдоль бедра. Потрогала край плащ-палатки пальцами. Поняла, что это он укрыл ее, когда она спала. Улыбнулась, но вспомнила, каким жестким бывает его взгляд, нахмурилась. Еще раз глянула на Колосова и не узнала его.
— Ой! — отшатнулась, плохо соображая, кто перед нею.
— Я это, не пугайся, — спокойно, словно предвидел подобную реакцию, сказал Колосов.
Да, это был он, все тот же старшина, но без бороды, без усов: молодой, знакомый и незнакомый, радист здесь же, деревья все те же. Пес и тот вышел на ее голос. Потянулся, зевнул. Галя отошла от сна окончательно.
— Узнай тут, как же, — ворчливо заметила она.
Девушка вспомнила рассказ старшины о вырезанном взводе, свое недоумение по поводу его рассказа, то, как, не дослушав Колосова, она уснула, ей сделалось неловко.
— Выспалась? — спросил Колосов.
Девушка кивнула.
Шевельнулся Неплюев. Приподнялся на локте. Сел, привалившись к стволу березы. Заговорил.
— Где мы? — спросил радист.
Два слова произнес Неплюев, а для Колосова его слова все равно что звук нежданно ударившего колокола. Был бы старшина верующим, перекрестился бы от такого чуда.
— Степа! Домой мы идем, понял? — поспешно заговорил старшина, стараясь и объяснить, и успокоить одновременно, не спугнуть появившуюся надежду на то, что радист окончательно придет в себя, вспомнит все, в том числе и о рации. Не сейчас, пусть позже, когда доберутся они до партизан.
— Кто это? — спросил радист, кивнув в сторону девушки.
— Хороший человек, — с готовностью объяснил Колосов. — Она теперь с нами идет, Степан. Зовут Галей.
— Где лейтенант, ребята, товарищ старшина?
— Видишь ли, мы тут с тобой отстали, так получилось, — придумывал на ходу старшина. — Но мы их догоним.
— Со мной что-то было. Немцев нет? — спросил Неплюев.
— Обманули мы немцев, — объяснил Колосов. — Притаились, переждали, они ушли. Чуток осталось, Степа. Отдохнем, поспим — и в путь-дорогу.
— Я не хочу спать, — с ноткой каприза в голосе произнес Неплюев.
— И не надо, — согласился Колосов. Он готов был соглашаться с каждым словом радиста, лишь бы тот оставался в себе. — Спать теперь буду я. Ты посидишь с Галей. Поговорите, если охота.
Галя поднялась, стала возле радиста.
— Смотреть давайте, — предложила она. — Здесь так красиво. Вон там рябины, — показала она в сторону оврага. — Как шары.
— Кровь дыбится, — словно бы в тон ей, очень спокойно сказал радист.
— Яка така кровь, — не поняла девушка. — Рябины стоят.
Колосов увидел глаза радиста, понял, что на Неплюева снова накатило безумие. Тяжесть бессонницы навалилась многопудовым грузом, сдавила голову, горло. Ни вздохнуть, ни выдохнуть.
— Вы чого? — коснулась его плеча девушка.
— Чого, кого. Других слов у тебя нет, — сказал он устало, растирая ладонью лоб так, будто это растирание могло снять усталость, сбросить рухнувшую на него тяжесть.
Галя с недоумением, с тревогой посмотрела на него.
Старшина перехватил ее взгляд.
— Разглядываешь? — спросил он. — Думаешь, и я чокнулся. Устал я. Как черт устал.
— Честное слово, я больше не усну. Вы спите. Я догляжу.
Колосов не дослушал девушку. Закрыл глаза. Заснул.
Свидетельство очевидца, жителя деревни Березовка Семена Владимировича Сажина
Декабрь 1944 года.
«…Немцы заняли те деревни, которые примыкали к Шагорским болотам. Вошли они и к нам, в Березовку. Жителей деревни выгнали из домов.
В Кострове, в Демине, в деревне Жилино, в других деревнях, там, где разместились специальные подразделения охранных войск, а также, я это подчеркиваю, там, где разместились части сто сорок третьей пехотной дивизии, немцами были проведены акции устрашения.
По-ихнему акции, по-нашему все то же, что делали они на всей оккупированной земле. Вешали и расстреливали безвинных. Старались запугать людей. Чтобы, не дай бог, кто из местных жителей не побежал бы к разведчикам, не помог бы им…
Мы лесом тогда во многом жили. Дрова, грибы, ягоду заготавливали.
Немцы хватали всех, кто выходил из леса. Женщина вышла, хватают женщину, дите — и его туда же.
Партизанен, мол.
Стреляли они нас, вешали, народ на казни сгоняли. Было, и худшее изуверство устраивали. Жгли деревни вместе с жителями. Натерпелись, чего там говорить…»
Из рассказа активиста подпольной организации г. Глуховска Алексея Сергеевича Колюжного
«…Я уже говорил, что по указанию Дмитрия Трофимовича Шернера мы направили к Шагорским болотам нескольких наших товарищей. Повезло Саше Галкину.
Сказал «повезло» — задумался. Везение не сорная трава, на пустыре не вырастет.
Мы ведь к сорок третьему году огромную работу проделали. Я имею в виду всю нашу подпольную организацию и партизанскую бригаду «За Родину!», в тесном контакте с руководством которой мы свое дело ставили.
Основу сопротивления мы заложили в сорок первом году. Тогда же отобрали самых надежных людей, вооружились. Позже наладили связь со штабом партизанского движения, с командованием фронта.
Не скрою, удавалось не все. Но шли мы не по наезженной дороге. Случались провалы, неоправданные потери. Но было и другое, сами немцы нас же и учили. Провалы, неудачи анализировались, все мы в тот период проходили закалку, набирались опыта.
Уже в сорок втором году гитлеровцам пришлось считаться с нами. Поскольку именно в сорок втором году на борьбу с оккупантами нам удалось поднять весь район. Мы выпускали газету, распространяли листовки. Сумели провести мобилизацию тех возрастов, которые подлежали призыву в армию. Часть людей переправили через линию фронта.
Появилась рация. Мы соорудили собственный партизанский аэродром…
О наших славных делах я мог бы рассказывать бесконечно долго. Но разговор-то зашел о везении. Именно это слово заставило меня пристальнее вглядеться в прошлое.
Скажу так.
Если бы в тот период не повезло Саше Галкину, повезло бы другому нашему товарищу. Ведь на нашей, а не на немецкой стороне была всенародная поддержка — это главное. Повторю еще раз: везение не сорная трава, на пустыре не вырастет. Мы сами себе готовили такие везения».
VIII
До войны, в больнице, где работал отец, услышал лейтенант Речкин слова: «Оно всегда так, живой о живом думает». В войну эти слова в разных вариантах слышаны им были не раз. Лейтенант и сам при случае повторял их неоднократно. Тогда, когда, наскоро прикрыв землей тела павших товарищей, уходили, не успев обозначить братские могилы фанерной табличкой хотя бы с фамилиями погибших, тогда, когда не было возможности похоронить. Живой о живом думает. О деле, стало быть.
Дел на войне много. Топать и топать, меряя версты, копать и копать, перелопачивая горы земли. Бежать. Карабкаться. Ползти. Стрелять и стрелять. Убивать и убивать. Для того чтобы выжить. Победить. Положить конец жестокости. Наперед, на все последующие годы пресечь разного рода авантюры, от которых все человечество, во все прожитые годы несло лишь потери.
Так говорил отец Речкина, старый больной человек, прошедший первую мировую и гражданскую войны, уважаемый врач районной больницы в городе Истре под Москвой, так считали друзья отца. Отец говорил, что войны, даже самые малые, водоворотами бездонных омутов заглатывают такие возможности человечества, которые трудно себе представить. «Люди научились считать, — постоянно подчеркивал отец, заметно горячась, повышая голос в разговоре, если о том заходила речь. — Они считали после каждой из войн. Потерпевшая сторона — убытки, победившая — прибыли. И те, и другие считали потери. Находились, находятся историки, которые оправдывали и оправдывают войны. Войны-де не дают закостенеть человечеству, они, мол, рычаги прогресса. Но кто подсчитает невосполнимое, утерянное безвозвратно! На земле не так часто появляются таланты. Еще реже — гении. Архимед! Леонардо! Ломоносов! Пушкин! Маркс! Другие, чьим гением озарялся путь человечества в развитии искусства, науки, техники, социального прогресса, перехода от формации к формации, то есть постоянного движения вперед. Войны — пожиратели жизней, умов. Родившихся. Нерожденных. Может быть, более значительных личностей, чем те, имена которых свято чтут все люди земли. Войны уничтожают возможности человечества…»
Отец поднимался чуть свет. Поздно возвращался. Закрывался в кабинете, писал или читал, то есть снова и снова работал. Были к тому же срочные вызовы, поездки по району.
Мать Никиты умерла при родах. Никиту воспитывала сестра отца, в меру строгая, в меру добрая тетя Лиза. Она следила за тем, чтобы мальчик был вовремя накормлен, обут, одет, на этом ее воспитание кончалось. Большую часть времени Никита оставался сам с собой наедине. Кроме нескольких дней в году. В разгар лета на петров день к отцу приезжали друзья. Отец брал отпуск. В доме становилось и людно, и шумно. Было застолье. Прогулки по живописнейшим окрестностям Истры. Были разговоры. Споры. Отец говорил несколько выспренне, однако то, что он говорил, затрагивало Никиту, мысли отца западали в память, под их воздействием складывалось собственное мировоззрение.
Никита рос, учился, успешно окончил школу. Предстояло решить вопрос: кем быть? Друзья у отца — военные люди. Часто говорили о войне. В том смысле, что быть противником войны не означает отказа от участия в ней. Тем более что мир в который раз шел к войне. Если это случится, надо раз и навсегда определить свое место в будущем. Отец от совета воздержался. «С детских лет, — сказал отец, — я учил тебя самостоятельности. Решай сам». Никита в конце концов решился, поступил в военно-инженерное училище. Окончил его в сорок первом году. Назначение получил на западную границу. Там он и встретил войну.
* * *
Сон не шел. Лейтенант Речкин понимал, что передышка короткая. С утра возобновится. Не преследование, нет. Преследуют тех, кто уходит. Им уходить некуда. С утра немцы погонят вперед полицаев, полезут сами. Они поймут, что остров не только хорошее укрытие, но и ловушка для разведчиков. Поймут то, что взять группу будет нелегко. Но они попробуют взять. Именно взять. Потому что в группе, как они надеются, радист и рация. Ни бомбометания, ни артиллерийско-минометного огня, прикидывал Речкин, с утра не будет. Немцы предложат сложить оружие, прекратить, как они любят говорить, бессмысленное сопротивление. Потом они начнут штурм.
Речкин провел ладонью по шероховатой поверхности камня, возле которого лежал. Подумал о том, что на стороне группы главное преимущество — кусочек твердой суши. Обзор хороший. Пахомов сказал, что с острова хорошо видно. Опасение, что немцы могут подтащить к болоту лодки, брать в расчет, видимо, не стоит. По такому болоту, как это, не пройдет даже плоскодонка. Слишком густо оно заросло. Есть разводы воды, но лодку в них не втиснешь. Нечем толкать лодку, шесты не достают дна. Правда, немцы, судя по словам Ахметова, нашли проводника. Если так, то они пойдут по следу группы. И двигаться им придется в ряд. По грудь в воде, в болотной жиже. Из такого положения не очень прикроешься огнем. С берега можно бить прицельно. Всяко прикидывал Речкин, но по всему выходило, что немцам их не взять. «Если так, — подумал лейтенант, — то осада может оказаться долгой». От такого вывода легче Речкину не стало. Тяжело дышалось, нелегко думалось.
Неслышно подошел Пахомов.
— Спишь, лейтенант?
— Нет.
— Как себя чувствуешь?
— Терпимо, сержант.
Оба помнили, что ночью на болоте звуки разносятся далеко, говорили негромко. Тем более тихо было кругом. Так тихо, подумал Речкин, как бывает в школьных коридорах во время школьных экзаменов. Если не считать, конечно, что нет-нет да лопнет вырвавшийся с глубины газ или заплачет ночная птица.
— Что думаешь о Колосове, лейтенант? — спросил Пахомов.
На такой вопрос не враз ответишь. Вон как обложили. Группе трудно, старшине трудно вдвойне. На нем радист. Явка может оказаться проваленной. Может оказаться так, что к партизанам не подойти. Тылы фронта, на котором немцы готовят большое наступление. Лазеек почти нет. Ниткой в игольное ушко надо пролезть старшине Колосову.
— Старшина не новичок, — сказал Речкин.
— Я к тому это, что если Колосов доберется до партизан, то и нам может помощь выйти, — зачастил Пахомов.
Надежда звенит тонким голоском серебряного колокольчика в душе каждого человека до конца. Кажется ей, что будет услышана. Об этом подумал Речкин, а сказал другое:
— Брось, сержант, не настраивайся. О себе нам самим думать надо. Вспомни лучше Городок.
Деревня с таким странным названием запомнилась потому, что тогда они тоже не чаяли, как выбраться.
Командование приказало разведчикам взорвать склад с боеприпасами. Линия фронта в тот раз установилась твердо. Склад находился в сорока двух километрах от передовой. Стояла осень. Шли и шли дожди. Ночи стояли чернее ваксы. Ветры штыком прокалывали. Такая круговерть, что не дай бог. С неба то льет, то снегом сыплет.
Три дня разведчики ползали по мокряди вокруг склада, изучая систему охранения.
Немцы оборудовали склад на склонах глубокого оврага, срезав склоны, выкопав и углубив ниши в них. У въезда за колючей проволокой стояло караульное помещение. Чуть в стороне — гараж. В нем несколько грузовиков и мотоциклов.
Шли дни, кончался запас продуктов, надо было на что-то решаться или уходить. Тогда-то Колосов и углядел оплошность немцев.
Каждое утро из гаража выезжал грузовик. На нем немцы привозили на склад военнопленных. Вечером отвозили в лагерь. Возвращалась машина в темноте. Двое охранников, что сопровождали пленных, сидели в кабине. Часовой у ворот машину не проверял. Этим обстоятельством решили воспользоваться разведчики. Колосов, Симагин, Веденеев, Рябов дождались грузовика на повороте лесной дороги, забрались в кузов. Затаились.
Шофер притормозил у ворот, перебросился короткими фразами с часовым. Охранники выскочили из кабины, юркнули в караульное помещение. Водитель подогнал автомашину к гаражу. Вылез из кабины. Открыл створки ворот. Вернулся в кабину. Развернул машину. Сдал ее в гараж. Выключил зажигание. С минуту оставался в кабине, что-то насвистывая. Вылез из кабины. Прикрыл за собой ворота.
Речкин помнил, как медленно тянулось время. Ветер дул порывами, сыпал снегом, дождем, но именно в тот момент лейтенант не чувствовал мокряди. Сосредоточился на ожидании того, что могло произойти, случись немцам обнаружить разведчиков.
Непогода уплотняла темень ночи. Темень можно было трогать руками, отщипывать от нее кусочки. Только тренированный глаз мог различать в этой кромешной тьме контур караульного помещения, контуры часовых на вышках.
Как ни ждал Речкин сигнала — крика ворона, предупреждение Колосова раздалось внезапно. В тот же миг Пахомов выстрелил из ракетницы. Ракета, вспыхнув, выхватила из темени ворота, пулеметчиков, часовых, по которым ударили разведчики из автоматов. Ракета не успела догореть, часовые у ворот, пулеметчики на вышках сникли, прошитые автоматными очередями. Включились прожекторы. Они осветили трехрядное ограждение, столбы, колючую проволоку на них. Разведчики ударили по прожекторам, и те погасли. Раздались взрывы гранат возле караульного помещения. Над местом схватки взвились и повисли осветительные ракеты.
Внезапность нападения помогла четверке разведчиков в считанные секунды проскочить зону обстрела, добежать до спасительных зарослей, скатиться на дно оврага.
Путь отхода был намечен заранее по дну разбухшего от дождя ручейка. На тот случай, если появятся собаки, по той причине, что овраг зарос кустарником, через который пришлось бы продираться, теряя секунды. Надо было пробежать метров четыреста, не больше. До поворота оврага. С тем расчетом, чтобы укрыться за этим поворотом от взрыва.
Добежать они успели. Раздался взрыв. Ударило по ногам — взрыв передала земля. Осветилось небо. Разведчики ткнулись в берег.
В тот же миг хлестанула взрывная волна. Отозвалась звуком ломающихся деревьев. Ударила по барабанным перепонкам. Прошла. С неба посыпались невидимые в ночи предметы, то, что поднял на воздух взрыв. На месте взрыва занялся пожар.
Разведчики поднялись, пошли ходко, на грани бега. Шли перелеском, полем, вновь перелеском, в котором их и застал рассвет.
Речкин остановил группу. Он понял, что до леса не добраться. Впереди лежало поле, за ним еще один перелесок, еще одно поле, но главное — разведчикам предстояло переходить дорогу, днем этого не сделать. Речкин мучительно думал о том, что же предпринять. Он был уверен: немцы прочешут все перелески. Они уже начали их прочесывать, поскольку за спиной и впереди, там, куда они шли, слышались звуки автомашин и мотоциклов.
Дождь сменился снегом. Снег падал крупными хлопьями, ограничивая видимость.
Речкин подумал о том, что надо возвращаться. Не к оврагу, нет. Сознание задержалось на том поле, которое они миновали, прежде чем нырнуть в заросли перелеска. Что-то было на том поле. Лейтенант вспомнил: выемка. Углубление в двенадцать шагов от кромки до кромки. В открытом поле немцы искать не станут…
Позже Речкин не раз будет вспоминать тот факт, что спасительный выход ему подсказали собственные ноги. Ноги запомнили выемку, отсчитали двенадцать шагов, отложили счет в его памяти. Подумает о том, что в моменты крайнего напряжения сосредоточен бывает не только мозг, сердце, но и каждая мышца.
Тогда они спаслись. Все до единого. Лежали под снегом, не шелохнувшись, весь световой день, с темнотой добрались до леса, благополучно миновали линию фронта.
Теперь они тоже нашли спасение — забрались в болото. Полезли в него намеренно, чтобы увести немцев от Колосова с радистом, дать возможность старшине выполнить приказ. Вот только выхода из этого болота, похоже, нет.
— Может быть, прорвемся? — спросил Пахомов.
— Давно мы у них на примете, — ответил Речкин, — надо что-то другое придумать.
Эту фразу Речкин произнес для себя. Лейтенант искал и не находил выхода.
— Проверь посты — и спать, сержант, — приказал Речкин. — С утра будет не до сна.
— Это точно, — вздохнул Пахомов, но не забыл произнести, как это и положено: — Есть проверить посты и спать, товарищ лейтенант.
Остаток ночи Речкин провел беспокойно. Болела рана. Мучило сознание того, что не может найти выход. Многочисленные варианты отпадали. Лейтенант закрывал глаза, дремал, смотрел на часы, убеждался, что забывался на минуты, не больше. Мысли путались, перескакивали с одного на другое. Вспомнилось, как прошлогодней весной, после госпиталя, по пути на фронт он заехал в Истру. Пришел к размытому весенней водой черному пепелищу, что осталось на месте их дома. Прислонился к печке, уцелевшей после пожара. Стоял бездумно, долго. До тех пор, пока не окликнула его соседка по участку. Зачем он заехал? Отца немцы расстреляли в первые дни оккупации. К кому он ехал? К этой печке, возле которой когда-то было тепло? К прошлому, которого, как тогда казалось, не стало? Он шел по городу, сожженному немцами дотла, не мог вспомнить ни себя довоенного, ни той жизни, которая была. Будто огонь, спаливший Истру, опалил и его. Все в нем перегорело. Осталась горечь. Она разливалась, перерастала в злобу, в душе копилась ненависть.
Под утро, перед рассветом, сон взял свое, Речкин как провалился. Разбудил его Пахомов.
— Слышь, товарищ лейтенант, — услышал он голос сержанта. — Рябов идет.
— Как? — не понял со сна Речкин.
— С ним еще кто-то, — объяснял Пахомов.
— Где? Какой Рябов? Чего ты городить?
— Да вон там, — показывал сержант рукой в сторону болота. — Ахметов его окликнул.
Ахметов действительно обнаружил Рябова на подходе к болоту. Он сменил Кузьмицкого, лежал за камнем, прислушиваясь и принюхиваясь. С берега несло бензином, гарью, кухней, запахом леса, что рос на краю болота. Запахов поровну было в ночном воздухе. Потом наступила перемена. Потянуло болотным газом. Ахметов напрягся, услышал шуршание. Различил два силуэта.
— Э! — негромко произнес он, готовый открыть огонь, но со стороны болота донеслось ответно:
— Не стреляй, Ахметов, я это, боец Рябов.
Ахметов не поверил бы в такое чудо, но он слишком хорошо знал голос своего друга.
— Кто с тобой? — спросил он тем не менее, не отводя ствола автомата.
— Кто, кто, — ворчливо заметил Рябов, — доберусь до берега, сам увидишь кто. Свой.
Говорил Рябов тяжело, как бы враскачку, в такт шагам.
Пахомов, слышавший разговор, заторопился к Речкину.
Рябов!
Речкин не мог поверить тому, что слышал.
Рябов, оставшийся прикрывать отход группы.
Живой, невредимый Рябов!
Речкин слышал, как Рябов выбрался на остров, как проснулись бойцы, приглушенные их голоса, приближающиеся шаги своих ребят.
— Как? Откуда?
— А черт его знает, повезло, товарищ лейтенант.
Судьба вынесла Рябова на своих легких крыльях, не иначе. По словам Рябова, немцы, почувствовав, что у него кончились патроны, решили взять разведчика живым. Патроны у Рябова остались. На одну очередь. Последней очередью Рябов срезал офицера, взмахнул рукой с зажатой в ней противотанковой гранатой. Чтобы рвануть напоследок. И себя, и немцев. Немцы шарахнулись врассыпную. Он дико закричал, швырнул вслед врагам гранату и тоже бросился наутек. И убежал, никто его не преследовал. Или они испугались, или без офицера не знали, как быть дальше, что делать. Одним словом — повезло.
— Я вас догонять, но к берегу болота уже вышли другие немцы, — закончил рассказ Рябов. — Добрался до деревни. Ольховка называется. Там вот товарища встретил.
Невысокого росточка, юркий Рябов докладывал коротко. О встрече с подпольщиком Александром Галкиным, о том, что увиделось. Немцы блокировали топи, подтащили артиллерию.
Галкин сообщил следующее. Он член подпольной организации Глуховска. Откуда подпольщикам стало известно о разведчиках, он не знает, об этом говорить не принято. Его послали на розыск группы, с тем чтобы не только найти разведчиков, но и проводить их к партизанам. Местные жители из Ольховки показали проход к острову. Шли по чарусе. Плотные заросли на поверхности болота. Ни кочек на них, ни кустов. Под зарослями пропасть.
— Как же вы прошли? — спросил Речкин.
— На лыжах, товарищ лейтенант, — объяснил Галкин. — Мы тут ко всему приспособились, не первый раз приходится в болото забираться. Чаруса пружинит, но держит. Только полозья должны быть широкими. Старики нам подсказали.
Темень прошедшей ночи уступала место утреннему рассвету. Стало видно лицо подпольщика. «Решительный парень», — подумал о нем Речкин. Крутые скулы, тонкие губы, острый нос. Глаза внимательные, твердый взгляд. Лет двадцати, не больше. Рослый, сильный. Одежда в глаза не бросается. Обыкновенная гражданская одежда. Брюки заправлены в кирзовые сапоги, темная рубашка, черный пиджак.
— Давно в подполье? — спросил Речкин.
— С весны сорок второго, — ответил Галкин.
«Солидный срок, — подумал Речкин. — Больше года этот парень со смертью в прятки играет».
— Болота хорошо знаете? — спросил он.
— Да. Служу в городской управе по лесному делу.
— Есть, значит, лазейки?
— Шагорские болота в нашей округе самые большие, — объяснил Галкин. — Километров двадцать, если из конца в конец. Их тут каскад, и все Шагорские. Соединяются протоками. Мы к вам по протоке пробирались.
— По протоке?
— Да, они не очень глубокие. Берега у них лозой заросли. Так что по дну, если тихо, пробраться можно.
И Рябов, и подпольщик были мокрыми. Они шли по дну протоки, потом только встали на лыжи.
Лыжи.
Можно назвать и так. В длину метра два. Однако лыжи напоминают отдаленно. Тонкие, в половину руки, ошкуренные стволы соединены попарно дугами по всей двухметровой длине. Расстояние между полозьями сантиметров тридцать. В центре — плетенная из лозы платформа, на ней — крепление для ноги. Сердцевина полозьев выбрана. Для легкости. Концы загнуты. Полозья напоминали индейские пироги. В каждой лыже по две пироги.
— Держат? — спросил лейтенант.
— С запасом, — ответил Галкин. — Мы на таких штуках по болотам с грузом ходим. У цапли, между прочим, тоже вес, она же не проваливается. Потому как лапы в стороны, опора большая. Так и тут. И скользят хорошо, и кусты подминают, и держат.
Речкин почувствовал слабость. Лицо скривилось от боли. Пахомов заметил его состояние.
— Лежал бы, лейтенант, спокойно, — с укором сказал он. — День предстоит трудный.
Речкин откинулся, замер.
Пахомов понял это как знак дальнейшее взять на себя.
— Чего столпились? — обернулся он к бойцам. — По местам. Вон как развиднелось. Теперь смотреть и слушать надо со всех сторон. Ты, Денис, и вы, товарищ…
— Галкин.
— Со мной потолковать надо.
Пахомов увел Рябова и Галкина.
Речкин остался один. Пытался сосредоточиться.
Протока… Лыжи… Для таких лыж, пожалуй, непроходимых болот нет. Ишь ты, цапля… Действительно… Не проваливаются. Не спросил, трудно ли изготовить такие лыжи. Ребята сейчас разберутся.
Денис жив. Его появление взбодрило разведчиков. Еще бы! Подпольщик появился вовремя. Тоже поднял настроение. Все, кроме постовых, собрались. Если Денис жив, то Колосов тем более. Иначе откуда было знать подпольщикам о разведчиках. Стало быть, добрался старшина до той явки в лесу, дело, стало быть, сделано. Так ребята и рассудят. Теперь бы день прожить да в ночь по болоту. Реальная возможность прорваться сквозь оцепление притупляла боль.
Снова подошел Пахомов.
— Зашевелились, гады, на берегу, товарищ лейтенант, — доложил сержант. — Что-то, видимо, готовят.
— Ты это… Помоги мне.
— Чего? — не понял Пахомов.
— К краю, вон за тот валун.
С берега доносился то усиливающийся, то затухающий шум работы автомобильного двигателя. Похоже было на то, что автомашина засела, ее вытаскивали, подкладывая под скаты стволы деревьев, коряги, ветви, шофер, попеременно включая скорости, раскачивал автомашину, отвоевывая у рыхлых торфяников сантиметр за сантиметром.
Рассветная дымка рассасывалась. Потянуло небольшим ветерком. Пространство все более открывалось. Уже виден был тот небольшой островок, на котором разведчикам удалось отдохнуть. Во все стороны тянулся хилый кустарник.
— Я пост выдвинул на тот островок, — показал рукой Пахомов.
Лейтенант навел окуляры бинокля, вгляделся пристально, островок казался пустынным. Разведчики замаскировались хорошо.
— Кого послал?
— Асмолова, Козлова.
— Асмолова? — переспросил лейтенант.
— Он проходы в болоте искал, вешки ставил, освоился в этих топях.
— Сорваться может. Начнет палить раньше времени, — предостерег Речкин.
— Выдержит, — успокоил Пахомов. — Старшим я Козлова назначил.
Сержант правильно рассудил. Выдержка у Козлова есть. Бывший шахтер от нетерпения не задрожит.
— Я так приказал, чтобы они подпускали полицаев и немцев как можно ближе, — доложил сержант. — Чтобы в первую очередь снимали проводника.
— Правильно, — согласился Речкин, думая о том, что бой начнется с того первого выстрела в проводника.
Вспомнились слова Ахметова, который вечером следил за берегом, сказал, что полицай бил старого человека. Проводника, кого же еще. Силой привезли, силой гонят в болото. Но если этот человек поведет солдат, в него придется стрелять в первого.
Ожидание боя худшая из обязанностей солдата на войне. Время растягивается. Нервное напряжение достигает предела, при котором не знаешь, где может прорвать. Не каждый человек выдерживает это напряжение. Разведчики народ бывалый, но и они нервничают. Каждый человек приоткрывается перед боем. Один становится не в меру разговорчивым, другой — суетливым, третий — замыкается. Речкин всегда занимал людей перед боем. Это обстоятельство учел и Пахомов. Разведчики работали. Слышно было, как бойцы копали ячейки.
— Кто охраняет остров с тыла? — спросил лейтенант.
— Ахметов, я его не менял, — отозвался Пахомов.
Тринадцать… Чертова дюжина, вспомнил почему-то Речкин то, как называли себя его бойцы, отправляясь на задание. Потом они оставили Женю Симагина, Сашу Веденеева, Колосова, Неплюева, Рябова. Жив Денис, а!
— Как Рябов? — спросил лейтенант.
— Ребята говорят, что, как только выберутся отсюда, придется отмечать второе рождение Дениса. Говорят, от смерти Денис ушел. Раз так, жить будет до ста лет, не меньше.
— Это потом. Сейчас проследить надо бы, чтобы копали поглубже. Немцы мины начнут кидать, здесь густо от осколков станет.
— Знают ребята, стараются, — отозвался Пахомов.
Находило на Пахамова. И на него действовало ожидание боя. Сержант становился повышенно возбудим. Позже это с него сойдет. Все заметит, всюду поспеет.
— Лопаты пригодились, — напомнил сержант.
Пригодились. А когда лейтенант приказал их взять, тот же Пахомов говорил, ни к чему они им.
Уходя на задание, разведчики, как правило, саперных лопат не брали. Горсть патронов прихватить — ладно, патроны лишними не бывают. В этот раз тоже ушли без лопат. Но когда нарвались на засаду, после которой и началось преследование, лейтенант приказал, чтобы разведчики захватили с собой на той проваленной явке не только трофейные автоматы, но и лопаты. Этими лопатами копали тайник для Колосова и Неплюева, пригодились они и здесь.
Раздался гул, над болотом завис самолет.
— Началось, — тихо произнес Речкин, глядя не на самолет, чего на него смотреть, а в ту сторону, откуда должны были появиться преследователи.
— Дай сигнал, — обернулся он к Пахомову.
Сержант резко застрекотал по-сорочьи.
— Зови подпольщика, — сказал Речкин.
Сержант ящерицей развернулся в камнях, скрылся в зарослях.
«Рама» закружила над островом.
Подполз Пахомов. Следом за ним — Галкин.
В это время появились преследователи.
Впереди шел проводник. Скорее всего тот старик, о котором докладывал Ахметов. Старик, как и говорил Ахметов, заметно припадал на правую ногу. Так, как будто у него постоянно подворачивалась нога в лодыжке.
За стариком пробирались полицаи, за полицаями — немцы. В бинокль Речкину хорошо был виден и порядок шествия, и лица тех, кто шел впереди.
Старик держал в руках шест. Делал несколько шагов. Промерял шестом дно. Шест помогал старику держать равновесие, когда у него что-то случалось с ногой. В такие моменты он шумно шлепал концом шеста по поверхности болота, как бы опирался на него.
Он был очень стар. Речкину в бинокль хорошо было видно, как поредели, истончились его седые волосы. У старика слезились глаза. Не от ветра, ветра не было. Кожа на щеках обвисла, на шее сморщилась. Шея напоминала черепашью, когда та сжимает ее, чтобы втянуть голову в панцирь.
В бинокль разглядел Речкин и того полицая, о котором докладывал Ахметов. Здоровенного битюга с глубоким, скорее всего от сабельного удара, косым шрамом на щеке. Полицай прилип к старику, не отставал от него ни на шаг. В правой руке держал пистолет. В те моменты, когда старик припадал на ногу, а потом выпрямлялся, полицай подталкивал проводника пистолетом.
Полицаи, за ними немцы двигались по болоту плотно, на это обстоятельство Речкин обратил особое внимание. Подумал о том, что по болоту подобным образом ходить нельзя…
Старик вел преследователей мимо того островка, на котором засели Козлов и Асмолов. Вел по той подводной кромке, которую проверяли Кузьмицкий с Асмоловым. Она заканчивалась провалом.
В душе Речкина шевельнулось сомнение. Может быть, разведчики ошиблись, а старик знает проход…
— Дай глянуть, лейтенант, — попросил бинокль Пахомов. — Хочу разглядеть лицо той падлы, что на нас гадов ведет.
Речкин передал бинокль Пахомову.
Вспомнилось предположение Кузьмицкого. На месте болота когда-то добывали торф. Торф выбирали ячейками. Оставляли перемычки для каталей. Для тех, кто возил торф на тачках к буртам. Эти перемычки частью размылись, передвигаться по ним было невозможно, другие почему-то остались более-менее твердыми. Предположение Кузьмицкого казалось реальным. По одной из таких перемычек разведчики пробрались на остров. Возле перемычек шесты не доставали дна.
Старик меж тем миновал засаду.
Речкин стал считать. Полицейских насчитал сорок восемь, немцев было гораздо больше. Голова цепочки приближалась к острову, а они все шли и шли, им не было видно конца.
— Насмотрелся? — шепотом спросил Речкин, полуобернувшись к Пахомову. — Передай бинокль Галкину.
— Я без бинокля вижу, товарищ лейтенант, — сказал подпольщик. — Старика не знаю, вижу впервые. Тот, что за ним приклеился, известный палач, начальник полиции Волуев. Степан Сыч тут же. Помощник Волуева. Из сволочей сволочь. Вся их орава в цепочку выстроилась, мерзкие типы. За ними идут солдаты оперативной команды СС. Давно они у нас свирепствуют.
Резкие слова произносил подпольщик, оставался тем не менее сдержанным. Умеет владеть собой, отметил про себя Речкин. Он более внимательно пригляделся к Галкину. Увидел плотно сомкнутые губы, застывшие в неподвижности серые глаза. Смотрел подпольщик твердо.
Речкин приложил бинокль к глазам, оглядел всю цепочку преследователей. Пытался понять, почему они идут так тесно. Пока он не понимал замысла врага. Стрелять из болота можно, но почему такая теснота. Вроде психической атаки: смотрите, мол, как нас много. Или они стараются приблизиться друг к другу, чтобы создать погуще стену огня? И полицаи, и немцы шли, оскальзываясь. Оступаясь, хватались друг за друга. В такие моменты через бинокль был заметен испуг на их лицах.
Речкин наконец понял причину тесноты. Враги боялись топей. Потому они и жались друг к другу. Каждый из них боялся отстать, оступиться, быть затянутым в трясину.
Старик приблизился к острову метров на сто. Припал на правую ногу, шлепнул шестом, выпрямился. Волуев подтолкнул проводника пистолетом. Старик дернул плечом. Как отмахнулся. Не стращай, мол, без тебя знаю, что и как. Поднял голову. Посмотрел на небо, в котором продолжал кружить самолет, на тот островок, где сидели в засаде Козлов и Асмолов.
Огонь разведчики не открывали. Речкин отдал должное выдержке Козлова. Рано. Если немцы идут в обход островка, то и стрелять пока нечего, пусть как можно больше их увязнет в болоте. Здесь не земля под ногами — топи. Рывка не сделаешь даже в том случае, если приблизишься на бросок гранаты.
Болотная жижа доходила старику до пояса. Он сделал еще шаг, припал, выпрямился, промерил шестом дно. Справа, слева, перед собой. Пристально, как показалось Речкину, посмотрел на остров. Пошел. Еще раз припал, но не шлепнул, как обычно, шестом по поверхности болота, припал и пропал, скрылся в болотной жиже. Произошло это в мгновение, Речкин не мог осознать, куда девался старик. Лейтенант разглядывал и разглядывал через окуляры бинокля то место на болоте, на котором только что маячил старик, видел лишь хилые тростинки, шест, пузыри — и ничего более. Когда же чуть приподнял бинокль, увидел Волуева. Тот пятился, разворачиваясь. Оскользнулся. Пытался ухватиться за своего помощника. Степан Сыч, как назвал его Галкин, резким ударом отбил руку Волуева. Начальник полиции стал крениться, балансировать руками. Пытался установить равновесие. Это ему не удалось. Он вывернулся. Падая, выстрелил в Сыча. Сыч схватился за грудь. Ткнулся перед собой на то место, где только что стоял Волуев. Голова Сыча тоже скрылась в болотной жиже. Пропал и Волуев. Речкин увидел кисть его руки с пистолетом, но и эта кисть пропала из поля зрения.
Так бывает ночью при неожиданной вспышке света. Видится четко, контрастно.
В одно мгновение паника охватила полицаев, затем и немцев. Они разворачивались, хватались друг за друга пытались бежать. Страх отпечатался на лице каждого Любой ценой выбраться из болота, выжить. Крепкие отталкивали тех, что послабей. Рослые подминали тех, кто пониже. Гибли те и другие. Соскальзывали с кромки. Проваливались в трясину. Пытались плыть и тоже гибли Паники добавили выстрелы Козлова и Асмолова. Причем ударили разведчики прицельно, били короткими очередями в дальний край вереницы, отсекая тех, кто пытался уйти из зоны досягаемости огня.
Ответных выстрелов не было. И немцы, и полицаи топили друг друга, болото заглатывало их по одному, группами. Все они барахтались так, будто кромка, по которой они двигались, неожиданно ушла из-под ног. В разных местах болота над поверхностью вскидывались только руки. Растопыренные пальцы хватали воздух. Со стороны топей неслись крики, дробь коротких очередей двух автоматов, и длилось это недолго. В считанные минуты над болотом повисла тишина, сопровождаемая погребальным гулом самолета-разведчика, самолета-наводчика, все той же «рамы». Речкин всматривался в поверхность болота, видел только пузыри на разводах воды.
— Во дела… Как же это! Выстрелить не пришлось! Вот так хенде хох получился, а! — взорвался Пахомов.
Сержант возбудился до крайности. Не мог успокоиться. Сыпал междометиями. Произносил отдельные слова.
Подпольщик молчал. Нос у него заострился, губы сомкнулись еще плотнее.
— Нет, не помню… Не встречал я этого деда раньше, — сказал Галкин.
Речкину показалось, что старик все еще продолжает смотреть на остров. Лейтенант пытался понять то, что произошло на его глазах. Старик действительно завел полицаев и карателей на подводную кромку, зная наперед, что из болота им не выбраться, или он споткнулся от усталости, оттого, что не выдержали нагрузки ноги? Почему так пристально смотрел на остров? Знал о разведчиках? Догадался, что они на острове? Или все это случайность?
Лейтенант так сосредоточился на безответных вопросах, что не сразу заметил, как улетел самолет. «И тебя проняло, — с ожесточением подумал он о немецком летчике, — так тебе и надо. Нервы в порядок полетел приводить после того, что увидел. Лети. Всем расскажи, что видел. Красок не жалей. Пусть знают…»
На Речкина тоже накатывало возбуждение.
— Возвращай Козлова, Асмолова, сержант,- — приказал он. — Всем рассредоточиться в районе ячеек.
Он обернулся к Галкину.
— Укройтесь и вы. Но прежде помогите мне добраться до ячейки, сейчас они ударят.
Немцы, однако, не ударили. Ни через час, ни через два. Обстрел болота они начали на закате солнца.
Снова появился самолет. Он то снижался, то поднимался, летчик корректировал огонь. Снаряды, мины то поднимали столбы болотной жижи, то рвались на острове, разбрасывая камни, ломая и корежа деревья. Немцы, казалось, вложили всю злобу в этот беспрерывный артиллерийско-минометный огонь. Особенно досаждали мины. Они и глушили больше, от них больше было осколков. Воздух становился удушливым. Он расползался по острову ядовитым туманом, стекал в ячейки, вызывал кашель, выкуривал из укрытий.
Ад продолжался два часа, то есть до того времени, когда село солнце, а над болотом стали сгущаться сумерки.
Наступившая тишина казалась неправдоподобной. В ушах гудело. Гул отдавался в голове. Голову, казалось, сдавило клещами. Лейтенант попробовал встать, выбраться самостоятельно из ячейки, не смог. Раненая нога болела, здоровая онемела, он ее не чувствовал.
— Жив, лейтенант?
Над ячейкой склонился Пахомов.
— Жив. Помоги выбраться.
Пахомов уперся ногами в края ячейки, склонился, ухватил лейтенанта за руки, вытащил. Резкая боль прошила тело Речкина от бедра до плеча. На мгновение померкло сознание.
— Плохо, лейтенант? — спросил Пахомов.
— Отойдет, — с трудом выдохнул Речкин.
Пахомов уложил командира, прислонив спиной к валуну, в это время появился Галкин. Был он бледен как смерть. Рот полуоткрыт. Правой рукой попеременно тер то один, то другой глаз. Веки натер до красноты.
— Не дери глаза, — посоветовал ему Пахомов. — Садись.
Он осмотрел подпольщика, убедился в том, что тот не ранен.
— Пошел я, — сказал Речкину. — Проверю, как остальные.
За два часа артиллерийско-минометного обстрела остров превратился в скопище поваленных, опрокинутых деревьев, те, что остались стоять, оказались без вершин, без сучьев. Толстенные, корявые сучья срезало осколками, разметало взрывами, они валялись тут же, добавляя хаоса к бурелому, после которого, казалось, не должно остаться живого. Каждый раз, когда Речкину приходилось переживать подобные смертоносные ураганы, он не переставал удивляться собственной живучести, живучести человека на войне. Может быть, в нем говорил отец-врач, которого вопрос живучести человеческого организма удивлял постоянно. «Удивляюсь! Да, да, удивляюсь! — говорил иногда отец. — По всем признакам организм больного исчерпал защитные возможности. Поразительна жизнеспособность человека!» Поразительная жизнестойкость, добавил бы Речкин, глядя вслед ушедшему Пахомову. Сержанту досталось не меньше других, однако он первым выбрался из ячейки, действует, как то и положено старшему по званию, проявляя беспокойство о подчиненных, стремясь скорее выявить потери, если они есть. Поразительно, думал Речкин. Для каждого, кто укрылся в ячейке от ураганного огня, так же, как, впрочем, и для него, весь земной шар сосредоточился в ограниченном пространстве. Пространство столь мало, стенки земного шара столь хрупки, что теряется ощущение защищенности. Кажется, что ты между молотом и наковальней. Кажется, еще удар, и скорлупа не выдержит. Привыкнуть к этому нельзя. Приспособиться можно. Можно не терять рассудка. Это обстоятельство и удивляло лейтенанта. Много пережито огненных шквалов, но каждый раз люди оказывались сильнее огня и грома, а значит, сильнее смерти.
Рядом закашлялся Галкин. Речкин дотронулся до плеча подпольщика, тот повернулся, открыл глаза. Речкин показал, чтобы Галкин наклонился. Подпольщик понял лейтенанта.
— Первый раз под таким огнем?
Галкин кивнул.
— Реже моргайте глазами, это пройдет, — посоветовал Речкин.
Появился Пахомов. Доложил. Ранен, и серьезно, Стромынский. Погиб Давид Качерава.
Память отчетливо сохранила первую встречу с Качеравой в прошлом году. Давида порекомендовал в группу Речкина комдив Евстифеев. «Людей ищешь, герой. Слышал, как же. Приказано направлять к тебе лучших бойцов», — сказал комдив. Тогда же он и встретился с Качеравой, поскольку Качерава сопровождал комдива. На традиционный вопрос Речкина, почему Качерава стал разведчиком в дивизии, Давид сказал так: «Долгий разговор, товарищ лейтенант. Если коротко, отвечу так. Я из восставших. Не хочу, не могу жить, сознавая, что мой род может оказаться без будущего. У фашизма нет будущего. Победив, фашизм отбросит человечество на сотни лет назад. Разведку выбрал потому, что, как это ни странно, деятельность разведчиков — гуманнейшая на войне. Она помогает сохранить человеческие жизни». Позже Речкин узнает, что Качерава учился на философском факультете Московского университета. Слова Качеравы напомнили тогда лейтенанту мысли отца о войнах — пожирателях возможностей человечества.
Давид оказался хорошим разведчиком. Помогал Речкину, когда требовались анализ данных, оценка обстановки. Знал немецкий язык. Слушал телефонные разговоры, если удавалось обнаружить и подключиться к линиям связи гитлеровцев. Был смел, дерзок. Под видом испанца, офицера «Голубой дивизии», появлялся на железнодорожных вокзалах, на улицах захваченных гитлеровцами городов. Не раз приносил ценный материал, весьма важные данные.
Не стало Давида. Еще об одном хорошем человеке приходится думать в прошедшем времени. Ненавистно, горько от сознания непрекращающихся потерь. Был. Хлесткое слово. Больное. Был — бил. Бьет и ранит. Давид был отличным агитатором, входил в состав пропагандистской группы политотдела. Его б давно забрали на комсомольскую работу, если б не твердость самого Качеравы. Он не мыслил себя вне разведки. Погиб Давид. Умница Давид. Давид — спортсмен. Давид — разведчик, в облике которого так мало было от книжника, от ученого, облик которого обычно рисует воображение. Рослый, подтянутый, Качерава находил возможность бриться, следить за своей внешностью даже тогда, когда все бойцы группы превращались в бородачей.
Пахомов переживал гибель Давида молча. Стоял рядом, ждал, что скажет командир.
— В каком состоянии Стромынский? — спросил Речкин.
— Не ходок.
— Точнее, — выказал в голосе строгость Речкин.
— Осколок пропахал правую лопатку, — более точно доложил сержант.
— Рана глубокая?
— Не видел, — сказал сержант. — Его ребята забинтовали, когда я подошел.
По возрасту Стромынский самый молодой боец в группе Речкина. Через много лет после войны он расскажет о себе следующее.
«На войне нет легкого солдатского хлеба, всем досталось. Но вот в сорок четвертом году попал я после госпиталя в отдельный танковый полк прорыва. В полку были танки «иэсы». «Иосиф Сталин». Не знаю, почему нынче только «тридцатьчетверки» ставят в память о боях, а наших таранных танков нет ни на одном пьедестале. «Тридцатьчетверка» хорошая машина, слов нет, она свою роль в войну сыграла. Но оборону гитлеровцев вскрывали и тяжелые танки, первый удар противника они принимали на себя. Наш отдельный танковый полк прорыва постоянно придавали различным армейским соединениям. Где намечался прорыв, туда нас и направляли.
Я автоматчиком был.
У нас ведь как?
Четыре танкиста в танке, четыре автоматчика следом за танком идут. Можешь, конечно, и на броне сидеть. Только не выдержишь. Собственная пушка глушила. Обычно мы за танком бежали. В случае чего должны были спасать экипаж. За танком должны, были следовать постоянно. Ни при каких случаях, ни при каких обстоятельствах мы не должны были выпускать свой танк из поля зрения. В бою метры не меришь. Как правило, мы к машине жались. Куда она, туда и ты. В огне, в дыму. По грязи да по хляби. Опять же охраняли танки в бою. Особенно когда танки траншеи минуют. От гранатометчиков, от фаустников берегли. А как же. В бою все видеть надо, иначе делу труба.
Покопать тоже пришлось. Я так думаю, если все нами отрытые метры сложить, большой тоннель получиться может. В Восточной Пруссии уже были. Получаем приказ остановиться, приготовиться к обороне. Танки немецкие прорвались, надо было их встретить. Стали копать. Свои машины надо было в землю упрятать. Грунт попался тяжелый — прессованная галька. Все равно что мостовую прокопать. Закопали свой танк, тут приказ: сместиться на полкилометра вправо. Снова копай. Отрыли, новый приказ: продвинуться на километр вперед. А что ты сделаешь. Продвинулись. Успели. Работали, что механизмы какие.
Что еще могу сказать? Прорыв — слово решительное. Каждый раз в огненный ад бросаться приходилось. Бежишь на последнем издыхании по искореженной взрывами земле, одна мысль в голове шевелится: лишь бы машина твоя уцелела. О себе как-то не думалось. Нет, не думалось. По танкам из чего только не били. Пули, снаряды рикошетом шли. В ушах такой вой каждый раз стоял, до сих пор его слышу. Иногда, теперь уже, думаешь, как мы все-таки выживали в эдаком пекле. Гибло нашего брата автоматчика не мало. Но я так думаю, что основа во мне была заложена хорошая. То спасало меня, что я хорошую подготовку в группе лейтенанта Речкина прошел. Речкин серьезно воевал, у него не забалуешься. Гонял нас все равно как в учебном полку. С задания вернемся, тут же учеба начиналась. Тренировались до седьмого пота. А ведь я к нему совсем зеленым пришел».
Антона Стромынского лейтенант Речкин зачислил в свою группу до того, как встретился с ним. Мысленно. Так захотелось ему, чтобы рядом был земляк.
Речкин придерживался правила. Если позволяла обстановка, лейтенант не упускал возможности просматривать личные дела бойцов, прибывающих на пополнение. Среди них встречались спортсмены, возвращались в строй бывшие разведчики. Стромынский не был ни спортсменом, ни разведчиком. Но в его анкете Речкин прочитал название родного города. Истра городок небольшой, всего населения на дивизию едва хватит. Война разметала истринцев по многим фронтам. А тут даже фамилия показалась Речкину знакомой. Знал он каких-то Стромынских, живших неподалеку. То ли на улице Рябкина, то ли на улице Щеголева. Лейтенант тогда только-только из госпиталя вернулся, по пути на фронт заехал в Истру. Постоял на пепелище. Бродил по городу, в котором из конца в конец шли рядами печи от домов на местах пожарищ. В документах у Стромынского говорилось, что был он в оккупации, в городе Истре. Выходило, что он был свидетелем уничтожения гитлеровцами родного города.
Об этом Речкин и заговорил со Стромынским при встрече, решив наперед для себя взять парня к себе. Его не смутило то обстоятельство, что у Стромынского, кроме молодости, не было никаких преимуществ, чтобы служить в разведке. Он и необстрелян был, то есть в боях не участвовал, и подготовку, если судить по датам, прошел весьма поспешную. Речкин, однако, рассудил, что опыт — дело наживное, он сам натаскает парня, главное — с ним рядом постоянно будет находиться земляк, истринец, а это такая связь с порушенным прошлым, которая с лихвой окупит недостающее. Тоска заедала Речкина в ту пору. По отцу, которого расстреляли фашисты, но городу, в котором он жил и был просто мирно счастлив.
Антон Стромынский разговорился не сразу. Но Речкину удалось разговорить парня.
— В октябре, — рассказывал лейтенанту Стромынский, — немцы первый раз сильно бомбили Истру. Мы — пацаны — возле военных крутились. С вечера на полуторке поехали, как обычно, к передовой. Нас шоферы охотно брали с собой, чтобы мы термосы в кузове во время тряски по бездорожью придерживали. Холодно уже было. На мне новое зимнее пальто. Надел я его, чтобы не замерзнуть. В дороге попали под артобстрел. Шофер гнал машину, термосы шарахались из стороны в сторону, я с приятелем по кузову мотался, термосы ловил, не видел, что творилось вокруг. Да и ночь была темная, плохо было видно. Почувствовал, как горячим меня обдало. Но тут мы из-под обстрела выскочили, до места добрались. Я ощупал пальто, оно в каше. Один из термосов осколком пробило. Бойцы говорят: повезло, мол, пацанам, а мне не по себе. Мне родители пальто это зимнее как раз накануне войны купили, а я его в каше извалял. «Будет, — думаю, — выволочка от матери». Ни о чем другом думать не мог. Детей в нашей семье пятеро было, я старший. Отец в первый месяц войны на фронт ушел. Наказывал беречь мать, за младшими присматривать. «Что, — думаю, — теперь матери скажу».
Перед рассветом вернулись в Истру. Спрыгнул я с машины на площади, побежал домой. Бегу, а в небе гудит. Ну, гудит и гудит, я не очень прислушивался. Тогда почти каждую ночь гудело. Над городом пролетали немецкие самолеты Москву бомбить. В то утро немцы прилетели бомбить Истру. Завыли, падая, бомбы. Кругом запылало. Красным, желтым, зеленым светом. Я такого огня в жизни не видал. Из домов стали выскакивать люди. Военные и гражданские. Бежали к землянкам, к щелям, что были нарыты всюду. Крики, плач. Меня какой-то командир в щель затолкал. Я деру от него задал. Мне домой скорее хотелось попасть, я наказ отца вспомнил, чтобы за младшими присматривать. Подбежал к дому, а он приподнялся — и все выше, выше поднимается. В воздухе на бревна рассыпался. В тот же миг меня ударило, я потерял сознание.
Когда немцы город заняли, я у родственников жил. Только отошел от контузии, немцы по домам побежали, стали жителей собирать, чтобы из города выгнать. Так они готовились жечь город. Но мы спрятались, немцы нас не нашли. Я даже видел, как они на велосипедах по улице ездили. Зима, снег, а они на велосипедах. Странно было глядеть на них. Они спокойно ездили, не торопились. Поджигали дома. Подожгут один — и к следующему. Все вокруг загорелось. Горели деревья возле домов. А те, что подальше от домов стояли, плакали. На жару они сначала от мороза отходили, потом на их ветках выступали капли-слезы. Слезы капали с веток, ручьями текли по стволам. Так казалось. А когда от горящих домов ручьи побежали, казалось, что ручьи эти тоже из слез. «Родные погибли?» — спросил тогда Речкин Стромынского. «Да», — сказал Стромынский. «Хочешь в разведку?» — предложил лейтенант. «Мне лишь бы немцев побольше убить», — сказал Стромынский.
Было начало лета, была жара. Они сидели в тени березы на старом, выбеленном дождями бревне. Речкин присматривался к Стромынскому. Сначала ему казалось, что лицо земляка знакомо. Могли они встречаться в Истре. Разница в годах небольшая, пять лет. Стромынский с двадцать четвертого года рождения. В то же время что-то не сходилось. Рядом с Речкиным сидел голубоглазый, худющий боец, почти подросток, у которого но пробился юношеский пушок на щеках. Стрижка «под ноль» добавляла, худобы. Глядя на него, Речкин подумал о том, что Истра сгорела дотла, а значит, могли сгореть и документы, архивы. У этого парня погибла семья. Душу его источили мысли о мести гитлеровцам. Он вполне мог набавить себе годы. Тем более, что воевать он пошел добровольно. «Сколько лет себе набавил?» — спросил Речкин, не сомневаясь в правильности своих выводов. «Два года», — тут же признался Стромынский, не ожидавший такого вопроса. Покраснел, понимая, как глупо попался. Речкин не стал объяснять Стромынскому, что разведка — это не всегда убить немца. Просто он решил держать при себе земляка. Откормить его, подготовить, потом уже испытывать огнем, выдержкой. Полгода гонял Стромынского. Тренировал по всем правилам. Зимой забрал с собой в первый поиск.
Разведчик из Стромынского оказался хороший. Юркий. Остроглазый. Пролезет там, где не каждому пробраться. Теперь его ранило — и, по-видимому, серьезно.
…Темнело все более. Хотя еще и можно было разглядеть лица Пахомова, Галкина, что стояли рядом. Приближающаяся ночь еще не замазала черным полынный цвет неба. В той стороне, где скрылось солнце, еще отсвечивал бледно-желтый закат. От болота несло дурным запахом. Днем оно дыбилось, заглатывая снаряды и мины, теперь пузырилось бурно, отрыгивая препротивнейшим газом. Лягушки и те притихли.
— Пусть несут Стромынского сюда. Зови людей. Всех, — приказал Речкин Пахомову.
Сержант очень скоро исполнил приказание.
Кузьмицкий и Асмолов принесли Стромынского, бережно положили рядом с командиром. Подошли Козлов, Рябов, Ахметов. Молчаливые, сосредоточенные. Кашлять старались в рукава. Конец обстрела не означал снятия немцами блокады. Каждый спрашивал себя: что же будет дальше? Ночь, возможно, они проведут спокойно. Но этот покой — затишье перед бурей. Сегодня потеряли одного, ранило другого, а завтра? Не исключено, что немцы вызовут бомбардировщики. Тогда они так перепашут остров бомбами, что на нем камня на камне не останется. Сегодня им еще повезло. Немцы били и по острову, и по болоту. Воздушный наблюдатель засек тот островок, с которого Козлов с Асмоловым открыли огонь по цепочке гитлеровцев, в той стороне взрывались снаряды чаще всего. Они рвались и справа, и слева. А если весь огонь немцы сосредоточат на этом острове?
В критических ситуациях Речкин советовался с подчиненными, выслушивал мнение каждого. Оценил обстановку, попросил высказываться.
— Решай, командир. Тебе видней, — сказал Козлов. — Как скажешь, так и сделаем.
Козлов и раньше полагался на командира. Всегда и во всем. Советов давать избегал. Но приказы выполнял в точности.
— А, — отозвался Рябов, — кутерьму бы устроить, вот бы дело было.
— Какую? — спросил его Кузьмицкий.
— Мне все едино какую. Фейерверк с музыкой, пока ночь, — сказал Рябов.
Речкин вспомнил, что старшина Колосов называл Дениса Рябова балаболом. За язык. За излишнюю болтливость. Но как раз именно это качество ценил в нем Речкин. Рябову не надо времени, чтобы отойти от пережитого. Стоит опасности миновать, с Рябова как с гуся вода. Тут же станет балагурить.
— Пошли в разведку, товарищ лейтенант, э. Глянуть надо, что там у них и как, — попросился Ахметов.
В просьбе Ахметова был резон. Всегда хочется знать, что замышляет противник. Но об этом теперь можно было догадываться наверняка. После того, что произошло на болоте, после гибели своих солдат и полицаев, немцы, надо полагать, в болото не полезут. К утру им подбросят снарядов, они постараются так прожечь остров, чтобы на нем не осталось живого. Так что и ходить к берегу нечего, нечего разведывать.
— Может быть, прорвемся, а? — предложил Пахомов.
У Пахомова мысли всегда в одном направлении работают. Вперед и вперед. Но куда, как и на чем? По этому болоту двигаться можно только назад, в ту сторону, с которой они пришли. Разведано. Не зря по болоту Кузьмицкий с Асмоловым лазали. Но там как раз немцев больше всего. Пробираться к протоке? По тому пути, которым шли Рябов и Колосов? На чем? Лейтенант и так, и эдак разглядывал то, что подпольщик назвал лыжами. Полозья у них сделаны из ошкуренных еловых стволов. Гладкие полозья, они должны хорошо скользить по траве. Но стволы елей, судя по всему, распаривались, прежде чем гнулись концы, выбиралась из них сердцевина. Изготавливал их мастер, в этом нет сомнения. Делал он их в определенных условиях.
— Мне кажется, товарищ лейтенант, — негромко произнес Кузьмицкий, — с острова надо уходить.
— Куда? — спросил Пахомов.
— У самого берега есть небольшие клочки суши. К ним и надо двигаться. На них замаскироваться. Переждать день. Мы так делали раньше, когда я в партизанах был. Под носом у них отсиживались. На следующую ночь, если они не уйдут совсем, вернуться сюда. Днем здесь жарко будет.
Предложение Кузьмицкого заслуживало внимания. За ночь можно подобраться поближе к берегу, разбрестись по островкам, замаскироваться, переждать завтрашний артналет или бомбежку, что там еще могут придумать немцы. В болото они больше не полезут. Если решили отказаться от охоты на радиста, начали обстрел. Об этом подумал Речкин, а сказал другое:
— Я прошу вас еще раз каждого. Подумайте.
Разведчики молчали.
— Вы правы.
С этими словами подпольщик обернулся к Кузьмицкому.
— У нас есть возможность обмануть немца. С острова конечно, надо уходить. Но вот что я бы предложил еще. У нас две пары лыж, — кивнул он в сторону приспособлений. — Как только стемнеет окончательно, двое могут пробраться к протоке. Там через протоку перекинут мост. Мы пробирались под ним с вашим товарищем Рябовым. Мост охраняется. За мостом два пулеметных гнезда. Надо думать, что и пулеметчики не спят. Предложение такое. Часовых на мосту снять без шума. Подобраться к пулеметчикам. Их забросать гранатами. Уйти в сторону Ольховки, то есть за мост, в следующее болото. Мы шли тем путем.
Разведчики молча обдумывали предложение подпольщика. В этом предложении виделся выход из создавшегося тупика.
— Здесь какой есть резон, — продолжил между тем Галкин. — Немцы по ночам очень нервные. Они всполошатся. Станут вешать осветительные ракеты, будут стрелять. В том числе и друг в друга. Паника есть паника. В этой панике можно скрыться. Себя из этой операции исключаю. Я останусь здесь. Мало практики в делах подобного рода. Пойти на это дело должны те, у кого не может быть срыва. Немцы должны поверить, что прорвалась вся группа.
Предложение подпольщик изложил четко, вопросов не возникло. Молчал Речкин. Похоже, ему понравилось предложение Галкина. Каждый теперь примеривался к тому, что предстояло сделать. Ночь коротка. Чаруса избита снарядами. Особенно возле острова. Можно и провалиться. Даже на болотоходах. К часовым тоже подобраться непросто.
Речкин тоже вроде бы примеривался. Прикидывал и так, и эдак. Посылать надо двоих. Часовых на мосту двое, снимать их надо одновременно. Два пулеметных гнезда. На одном берегу протоки и на другом. Задавить их надо тоже одновременно. Двое уйдут, останется семеро. В том числе подпольщик. Двое ранены. Стромынский, как сказал Пахомов, не ходок. Он, Речкин тоже не ходок. Пятеро здоровых на двоих раненых — такой получался расклад. Рискнуть можно, но кого посылать?
Командир группы стал думать о каждом. Кузьмицкого посылать не следовало. Ножом владеет слабовато, может промахнуться. В таком деле, как правильно заметил Галкин, промаха быть не должно. Асмолова посылать тем более нельзя. Порывист, как и Пахомов. И тот, и другой могут наломать дров. Лучше всего для этой цели подходил Рябов. У Дениса реакция хорошая. Он хоть и балабол, как называет его Колосов, но в деле собран. Денис протокой пробирался, по чарусе шел, освоил эти приспособления. С ним можно Козлова направить. Выдержка завидная у шахтера, сила есть. Не ножом, так голыми руками задавит часового, и тот пикнуть не сможет. И все-таки с Козловым торопиться не следует. Медлителен Козлов. А часовых на мосту двое. Убирать их надо одновременно. Чтобы, ни крика, ни стона. Оставался Ахметов. Их надо и посылать. Рябова и Ахметова. Не раз выручали, справятся. Понимают друг друга с полуслова. Второй год бок о бок воюют. У них вроде дружбы, хотя понять этой дружбы и нельзя. Больно они разные.
О каждом подумал Речкин, оценил каждого. Прикинул достоинства, недостатки. Отдал должное подпольщику, который сам определил, что ему по силам, чего он не вытянет. «Серьезный товарищ, — подумал о нем Речкин, — не боится показаться слабым».
— Идти тебе, Денис, и тебе, Фуад, — сказал он Рябову и Ахметову.
— Фейерверк, значит, устраивать? — усмехнулся Рябов.
— Называйте как хотите, но чтобы без срыва, — сказал Речкин.
— Сделаем, товарищ лейтенант, э, — спокойно произнес Ахметов.
ВЫПИСКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ, ЗАХВАЧЕННЫХ ПАРТИЗАНАМИ ПРИ РАЗГРОМЕ КОМЕНДАТУРЫ г. ГЛУХОВСКА ЛЕТОМ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА
Из докладной записки капитана СС Отто Бартша коменданту г. Глуховска майору Паулю Кнюфкену
16.06.43 г.
«…Настоящим подтверждаю также, что нами были выполнены все ваши распоряжения по блокаде русских разведчиков в точке 07 квадрата 0476 Шагорских болот, проявлена твердость в осуществлении крайних мер.
Блокада, как вы и распорядились, была сдублирована. Наружное кольцо усилено за счет подразделений сто сорок третьей пехотной дивизии. Для непосредственного огневого контакта с противником привлечены полицейские, вел их присланный вами проводник.
Овладеть островом не удалось.
Предполагаю, что проводник намеренно завел нас в ту часть болота, из которой не было выхода, в результате чего утонули или уничтожены огнем русских разведчиков все 58 полицейских. В болоте погибли: лейтенант СС Герберт Кассин — офицер зондеркоманды 07-Т, фельдфебель СС Эбергард Штрезов, 17 наших солдат, список которых прилагается…»
Из распоряжения коменданта г. Глуховска майора Пауля Кнюфкена
16.06.43 г.
«…Ранее поставленная перед вами задача: захват рации, захват радиста — отменяется. Настоящим распоряжением предлагается открыть огонь на уничтожение разведгруппы русских из всех имеющихся в вашем распоряжении огневых средств…»
Из запроса капитана СС Отто Бартша
16.06.43 г.
«…Прошу вашего разрешения на повторную обработку артиллерийско-минометным огнем всей площади, прилегающей к точке 07 квадрата 0476 Шагорских болот 17.06.43 г., с 10.00…»
* * *
Двое ходили по мосту. Встречались на середине. Снова расходились всяк к своему краю. Осматривались. Видели все то же: нагромождение кустов по обе стороны моста. Эти черные массы кустов громоздились по берегам протоки, которая лишь угадывалась в густой, хоть ножом ее режь, темени.
Ночь полнилась звуками.
Обостренный слух болезненно воспринимал крики ночных птиц, скрипучую лягушачью перекличку, бульканье болотного газа, неведомое шевеление, странные, то короткие, то продолжительные вздохи.
Болота, что тянулись по обе стороны протоки, невозможно было разглядеть в кромешной тьме.
Болота казались чудищами.
У чудищ было бесчисленное количество щупалец. Щупальца казались всепроникающими. Казалось, они шарят в темноте, выискивая жертву. Щупальца-змеи тянутся к живому. Чтобы опутать, обвить. Высосать из жертвы кровь по капле, то есть убить.
На войне незнаемое страшно само по себе.
Эти двое не знали страны, в которую они пришли, чтобы завоевать. Не знали людей, которых они должны были по воле своих фюреров частью уничтожить, частью — покорить. Не знали, что им приготовила наступившая ночь. Оба не знали главного: того, что обмануты, преданы, принесены в жертву величайшей из преступных авантюр. Пока им было всего лишь страшно. Оба страшились воздуха, которым дышали, настила моста, по которому вышагивали, темени, что густела и густела со всех сторон…
Часовые в недавнем прошлом были горожанами. Недавно оба ходили по улицам далекого от этих российских болот города, у каждого из них была своя жизнь, свои надежды. В том городе они не знали друг друга. Их землячество обнаружилось по пути на Восточный фронт, по пути в Россию. Они попали в одну роту, в один взвод, в одно и то же отделение сто сорок третьей пехотной дивизии и теперь не расставались друг с другом, стараясь и на посты заступать вместе. Известно, землячество на войне сравнимо с близким родством в мирной жизни. Они тянулись друг к другу, говорили о доме, о родных. Разговоры помогали не только коротать время, они отвлекали от тяжелых дум.
В ту ночь разговор не клеился. Накануне писарь роты принес страшную весть. Большая группа полицейских, солдат специального подразделения охранных войск погибла, была проглочена болотом, в которое завел их какой-то русский старик, фанатик, решивший таким образом погубить и себя, и тех, кого он вел по следам то ли партизан, то ли разведчиков. От такого известия солдаты почувствовали зыбкость почвы, на которой расположились, охраняя единственную дорогу в этих гнилых местах, единственный мост над протокой, вытекающей из одной топи в другую.
Часовые расходились, сходились, чаще стояли посреди моста, пытаясь наладить разговор. Разговор не клеился. Чаще всего они вспоминали растерянность самоуверенного писаря, то, как помрачнели лица солдат от неожиданной вести. В темноте оба казались черными. Черными казались их длинные шинели, каски, автоматы с рожками, которые они держали у животов в готовности нажать на спусковые крючки. Раньше оружие придавало им уверенности. Так было всегда. Во время учебы, на строевых смотрах, тогда, когда приходилось стоять на постах. Руки мужчины созданы для того, чтобы держать оружие. Оружие дает власть, прибавляет силы. Так им говорили, этому их учили, так они чувствовали. Теперь появлялось другое чувство. Неуверенности. Зыбкости окружающего их мира. Настил моста, казалось, покачивается и плывет.
— Когда нас гнали на фронт, Карл, — полушепотом заговорил один из постовых, — я молил бога об остановке. Радовался, что нас расквартировали в этом русском городе с таким названием, которое трудно выговорить.
— Глуховск, — по слогам, но тоже тихо произнес Карл.
— Да, да, — подхватил шептавший. — Мне показалось, что бог услышал мои молитвы. Теперь я думаю, что нам отсюда не выбраться. Нас окружают стены. Черные стены склепа. Сколько ни вглядывайся, не увидишь ничего. У меня такое предчувствие…
— Тс-с-с, — предупредил Карл.
Оба прислушались. На какое-то время стих лягушачий скрип. На мгновение. Чтобы тут же разразиться с десятикратной силой. От берега, на котором было тесно от машин, орудий, минометов, где стояли палатки их роты, несло соляркой, дымом затухающих костров. В ночи прокричала птица. Ей ответила другая.
— Показалось, Дитрих, — сказал Карл. — Это чертово болото может свести с ума.
— Теперь я думаю. Карл, что на фронте было бы легче. Там могут ранить. С фронта можно попасть домой.
— Попадешь, как же, — возразил Карл. — Видел, что готовится? Мясорубка будет почище Сталинграда. Говорят о решающем наступлении.
— Почему меня не послушала Эльза? Зачем она родила?
— Она надеется, что ты вернешься, Дитрих.
— Нет, Карл. Мне не увидеть Эльзу. Мне кажется…
IX
Рябов по сантиметрам вытягивал тело из протоки. Опасался нарушить размеренное однообразие ночных звуков. Всплеском, неосторожным движением, от которого может скатиться и плюхнуться в воду камень или ком земли, и тогда могут вдруг замолкнуть лягушки или тоже вдруг может оказаться рядом птица — и взметнется, шарахнется, выдавая того, кто так тайно крался. Берег оказался травянистым. Рябов выполз бесшумно. Лежал, не шевелясь. Ждал, покуда с одежды сойдет вода. Настраивал себя на удачу. Он всегда настраивал себя на удачу, если промах грозил бедой для него и для товарищей.
В последней стычке с немцами, когда он один остался прикрывать отход друзей-товарищей, остался, как он понимал, на верную смерть, времени у него не было. С того момента, когда последней очередью из автомата почти в упор он уложил гитлеровского офицера, замахнулся на немцев рукой с зажатой в ней гранатой, времени для раздумий не было. Он только заметил, как солдаты, вместо того чтобы прошить его очередями из своих «шмайссеров», сами бросились бежать. В тот же миг и он рванул так, как до того не бегал. Мысль заколотилась чуть позже, когда стал задыхаться от бега, когда понял, что погони нет. «Утек, а. Кажись, утек!» — стучало в висках, и других дум не было.
Теперь он лежал в тени моста, вспоминал июль сорок первого года, неоглядное поле, поле-ковер из разнотравья, вобравшее в себя все цвета радуги. Душистое поле, по которому они шли, отступая, надеясь в душе на привал где-нибудь впереди, там, где едва проглядывалась кромка леса. Они отступали уже много дней и ночей, мерили и мерили версты, в ногах гудело, тело нестерпимо зудело от пота, думалось только о привале. Поле пересекал прямой, как луч, большак. Они шли по этому большаку, с опаской поглядывая на небо, ибо не было укрытий на этом поле, а беда двигалась им навстречу. Из того леса, в котором они надеялись отдохнуть, выползли танки.
Гитлеровцы сразу сообразили, что у бойцов нет ни гранат, ни бутылок с зажигательной смесью. Поняли, что нет угрозы для их мощных машин, опасаться им нечего. Они рассыпались веером, охватывая разбегавшихся людей. Начали охоту. Неслись на высоких скоростях. Замирали, выбирая очередную жертву. Догоняли. Разворачивались на месте. Снова гонялись за бойцами. Каждый раз старались наехать на человека гусеницей.
Бежали бойцы, бежал Рябов. За спиной слышал гул гнавшейся за ним машины. Гул заполнил пространство, давил в спину, прибавлял прыти. Потом Рябов подумает о том, почему он бежал безоглядно, не пытаясь даже увильнуть. Но этот огляд в прошлое придет потом. А тогда он бежал, как другие: справа, слева, впереди, позади, всюду на этом огромном поле.
Мимо Рябова, обгоняя, на большой скорости промчался танк. Рябов скосил глаза. Замер. Не в силах был шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он увидел, как обогнавший его танк настиг бойца. Ударил левой гусеницей бежавшего в спину. Боец вскинул руки. Упал, будто споткнулся. Танк проехал по живому телу. Рябов услышал хруст. Потом он станет убеждать себя в том, что то была слуховая галлюцинация. Он не мог слышать хруста, потому что со всех сторон неслись крики обезумевших людей, ревели танки. Позже он узнает, что в обычном бою одни и те же явления каждому видятся по-своему. Видится подчас такое, чего не было и быть не могло. Но в тот момент он услышал хруст, верил в то, что хрустнул череп бойца под гусеницей танка. Именно череп, как будто тело человека состоит только из черепа.
Рябов отшатнулся. Отвернулся. Увидел еще один танк. Танк летел на него. Он был огромен. Заслонял небо и поле. Люк у танка был откинут. Над люком высился некто в черном с фотоаппаратом у глаз. Этот некто в черном целился фотоаппаратом куда-то в сторону. Под нижней кромкой фотоаппарата виделся открытый в старании рот. И зубы. Ровные строчки зубов. Рябов стал пятиться от танка. Он широко растопырил руки, винтовка волочилась за ним прикладом по земле. И тут он увидел глаза. Вроде бы человечьи. Глаза-гвозди, распявшие Христа. Эти глаза смотрели на Рябова из черного проема танка, готовые промчаться сквозь него. Водителя танка не было видно. Рябов видел только глаза. И что-то черное вокруг. Как провал. Как бездна, посреди которой замерли глаза-хищники, глаза-охотники, глаза-убийцы.
Та же неведомая сила, что остановила его при виде раздавленного бойца, вновь парализовала Рябова. Он так и стоял, не в силах сделать шага, предпринять хоть что-то, чтобы спастись. Тело схватило судорогой. Оно как бы закаменело. Беззвучно открывался и закрывался рот. Рябов напрягся так, что, казалось, оборвутся жилы. Сделал один полушаг, другой. Стал пятиться. Над ухом совсем рядом громыхнул выстрел. В черном проеме пропали глаза. Танк круто отвернул в сторону. Мчался, перерезая путь еще одной машине, сближаясь с ней, ударив наконец ее в борт, отчего тараненый танк накренился, чуть было не опрокинулся, но устоял. И все-таки правая гусеница у него размоталась, он стал кружиться, словно смертельно раненный зверь, сзади, из моторного отсека, пополз черный дым.
В следующий миг Рябов получил удар в ухо. На ногах, однако, устоял. Обернулся. Увидел старшину Колосова с перекошенным от злобы лицом, рот его, выплевывавший матерные слова. Эти слова доносились до Рябова будто издали. «Раззява, туды-т твою мать, куда бежишь? Стоять!» Старшина кричал еще что-то, но это что-то неслось уже мимо Рябова. Он увидел, как из протараненной машины стали выскакивать танкисты, как падали они, сраженные пулями. Увидел того черного на танке, видимо офицера, который только что возвышался над люком, фотографируя, оскалив в старании рот. Теперь он безжизненно обвис, свесившись с башни, выронив из рук болтавшийся у него на ремешке фотоаппарат.
При виде дымившегося танка, убитых танкистов Рябова охватило дикое злорадство. Он стал стрелять. Он уже понял, что удачный выстрел старшины, поразивший водителя грозной машины, спас его от неминуемой гибели. Старался стрелять прицельно. Не слушались руки. Мушка не совпадала с прорезью прицела. Но он старался, вместе со старанием возвращалось спокойствие.
Оглядывая поле, Рябов понял, что не все бойцы поддались панике. Одни — стреляли, лежа в траве. Другие высились над нею, стреляли, припадая щеками к ложам винтовок, тщательно целясь с колена или стоя, как на тренировках, били, судя по всему, в смотровые щели танков. Какой-то смельчак забрался на танк, лег на броню, пихал что-то в смотровую щель. Танк крутился, раз гонялся, резко останавливался на ходу. Водитель, видимо, пытался сбросить бойца с машины. Поединок заметили гитлеровцы. Может быть, они связались друг с другом по рации. Немцы расстреляли бойца из пулемета, тот скатился с брони. Танк в это время пятился назад, вращая башней с орудийным стволом. Танк пятился от упавшего мертвого или тяжелораненого бойца.
Нагляделся Рябов в войну. С первых дней. Видел такое, чего и вовсе не хочется вспоминать. Но то поле, ту дикую охоту на людей помнил. Видел все как было. Панику, страх, но пуще всего собственный стыд. Оттого, что «спраздновал, — как он потом говорил, — труса», поддался безотчетному порыву, безоглядному бегу, забыв о долге, о назначении воина при любых обстоятельствах стоять насмерть. Подобного состояния Рябов не испытывал более никогда. Более он уже не терял рассудка. Даже если на рассудок не оставалось времени. В самых что ни на есть критических ситуациях успевал наперед всего сообразить, потом сделать. Стыд, однако, сидел в нем, он мстил врагам за унижение, за то, что по их вине произошло с ним «такое, — как он говорил, — паскудство». Каждый раз, вспоминая то поле, Рябов приобретал уверенность, желание отомстить прибавляло силы, заставляло быть предельно собранным.
…Лежа под мостом, Рябов стянул с себя сапоги, размотал портянки. Подобраться к часовым он должен как можно ближе, ударить наверняка. Потому и разулся. Сапоги разбухли от воды, в них тяжело. А ему теперь кошачья легкость требовалась. И мягкость кошачья. Кошачья пружинистость.
Над головой, на мосту часовые переговаривались о чем-то на своем языке. Рябов особо не прислушивался. Он ждал, когда они пойдут. Дождался. Как только часовой медленно пошел по настилу, Рябов стал взбираться по откосу, стараясь не обнаружить себя. Чувствовал себя спокойно. Замирал, выжидал, стараясь двигаться в такт шагам часового. Оба немца вновь сошлись на середине моста. Рябов коротко дважды проскрипел по-лягушачьи. В ответ услышал такой же сигнал. Ахметов сообщал, что и он выбрался на насыпь, пора сближаться. Двигался медленно. В те моменты, когда часовые тихо переговаривались между собой. Приблизился вплотную. Выбрал момент для прыжка. Достал часового. Подхватил бездыханное тело на руки, чтобы не было шума, глядя на то, как оседает в руках Ахметова другой часовой.
— Сориентируемся? — прошептал Ахметов.
Рябов пристально вгляделся в темень ночи. Различал шарообразные заросли кустарника по берегам протоки. За кустами можно было различить контуры кузовов автомашин. Прошлой ночью, когда они пробирались протокой с Галкиным, этих машин здесь не было. Возможно, их не было видно из протоки, по которой они двигались. Грузовики, похоже, стояли фарами к воде. Из этого факта следовало, что при малейшем шуме протока будет освещена не только ракетами, но и фарами. Выходило так, что протокой двигаться более опасно, нежели берегом, об этом подумал Рябов.
— Слышь, Ахметов, — зашептал Денис товарищу. — Фрицы теперь к протоке глазами приклеились, это точно. В грузовиках, наверно, тоже дежурные сидят. Давай берегом пробираться, под этими машинами пролезем.
До пулеметчиков оставалось метров пятьдесят. Об этом Рябов говорил Ахметову еще перед вылазкой. Рябов хорошо запомнил пулеметные гнезда, когда пробирался с Колосовым протокой. В ту ночь тоже не было луны, но и облаков не было, не было такой густой темени.
— Лыжи, мешки надо взять, э, — напомнил Ахметов.
Они разошлись, юркнули под мост, забрали вещи. Присели на настил. Обулись.
— Готов, да. — шепнул Ахметов Рябову.
— Начинать тебе, — напомнил Рябов.
За мостом протока расширялась. Там не различить друг друга, сигнала не подать. Ахметов парень шустрый, но ему еще надо определиться, ему действовать на ощупь, а Рябову по памяти. Поэтому так и договаривались. Как только Ахметов дотянется до пулеметчиков, осмотрится, тогда и задавит их гранатами. Взрыв первой гранаты послужит сигналом для Рябова. Тогда и он уничтожит пулеметную точку на своем берегу. Потом они обстреляют оба берега из немецких автоматов, что подобрали у часовых, отойдут в болото.
— Ты это… Не зарывайся, — посоветовал Рябов. — Как на лыжи встанешь, вправо уходи. До рассвета мы далеко будем.
— Понял, — ответно шепнул Ахметов, и они разошлись.
Ночь дышала живым. Кто-то двигался в темноте, слышалось шуршание ног о траву. Кто-то настраивал приемник. То музыка вдруг прорвется, то слова на непонятном языке.
Ахметов приближался к машине с брезентовым верхом, что стояла, нацелив фары на протоку. Ползти было неудобно. В левой руке он держал лыжи, в правой трофейный «шмайссер». Свой автомат на спине. Ахметов вытягивал руку с лыжами, потом другую со «шмайссером», подтягивался сам. Втянулся под кузов автомашины. Услышал голоса. Понял, что в кабине грузовика сидят и разговаривают солдаты.
Каждый раз, когда Ахметову приходилось пробираться среди врагов, он испытывал чувство удовлетворенной удали, сравнимое с тем, когда преодолевал он опасные участки заброшенных горных троп у себя на родине, миновать которые решится не каждый горец. В мирной жизни он не отдавал себе отчета в подобных безрассудных поступках, но так уж получалось. Преодолев себя однажды мальчишкой на спор со сверстниками, он не мог остановиться, искал и находил новые испытания. Ахметов не мог объяснить постоянную тягу к риску. «Я мужчина, э!» — обычно отмахивался он, если заходил о том разговор. Эту фразу он повторял неоднократно, повторил ее и при разговоре с Речкиным. Лейтенант сказал, что у разведчика особая ноша, не скрывал тяжести предстоящей жизни. Говорил то, что всегда он говорил при наборе добровольцев. Ахметов первым шагнул из строя. Лейтенант присмотрелся к невысокому, цепкому, черному, как южная ночь, бойцу, спросил, все ли боец взвесил, соглашаясь стать разведчиком. «Я мужчина, э!» — ответил Ахметов. Эту фразу он повторял и после, считая, видимо, что в ней есть ответы на многие вопросы.
Ахметов пробрался под машиной, увидел такую же. Она тоже стояла фарами к протоке, в кабине этой автомашины тоже кто-то сидел, из кабины несло табачным дымом. Метрах в двадцати от машин угадывались палатки. Ахметов прополз и под этой автомашиной, и еще под одной. Прислушался. Вгляделся в темень. Различил брустверы. Подумал о том, что за брустверами могут быть минометчики, которые днем обстреливали болото. Пополз дальше. Почувствовал под ладонями свеженакопанную землю. Замер. Стал двигаться еще медленнее. Убедился в том, что натолкнулся на ход сообщения. Пополз вдоль этого хода, под уклон, к протоке, до которой оставалось чуть-чуть. На пути оказался еще один бруствер. Ахметов понял, что это и есть пулеметная точка, которую предстоит уничтожить.
Тишину взорвал выстрел. С моста взвилась и вспыхнула красная ракета. Немцы, видимо, обнаружили трупы часовых. Может быть, разводящий проверял посты. Об этом Ахметов подумает чуть позже В момент вспышки ракеты он увидел спины пулеметчиков, контур пулемета на бруствере. Две лимонки, приготовленные к броску, лежали в кармане Их надо было еще достать, выдернуть кольца бросить. Трофейный автомат он держал в руках. Ахметов воспользовался этим обстоятельством, сдвинул защелку предохранителя, ударил в спины пулеметчикам, скатился в ячейку.
Последующие действия неслись стремительно, как горный поток. Ракета не успела догореть, когда Ахметов выхватил гранаты, швырнул их одну за другой в сторону чернеющих палаток. Раздались два взрыва. Тут же в небе повисли огненные шары. Осветительные ракеты залили пространство вокруг пронзительным светом. Заработали моторы автомашин. Включились фары. Ахметов приник к пулемету. Ударил короткими очередями по машинам на противоположной стороне. Взял чуть выше фар, целясь по кабинам. Потом прошелся по фарам. Фары потухли. Остатки патронов он выпустил по мечущимся на берегу фигурам.
Немцы в ответ старались вовсю. В небе повисла россыпь огненных шаров. Хорошо стал виден мост, солдаты на нем. Ахметов приладился к трофейному автомату. Длинной очередью из него ударил по мосту. Очередь была означена трассирующими пулями, хорошо просматривалась. Ахметов заметил, как такие же ровные строчки протянулись с противоположного берега. Гасли фары автомашин, под которыми он только что прополз. Выходило, что и Рябов задавил пулеметчиков.
Ахметов прекратил стрельбу, но теперь уже оба берега огрызались огнем многих автоматов. Немцы залегли на мосту, стреляли с настила. Послышались взрывы гранат, крики, стон. Медлить было нельзя. Надо было уходить. Ахметов скатился к протоке.
X
Штаб фронта перебрался из поселка в лес. Немцы заставили. Они совершили на поселок воздушный налет.
Попытки прорваться к поселку немецкие летчики предпринимали и раньше. Но то были всего лишь попытки, поскольку в сорок третьем году немцы заметно растеряли былое преимущество в воздухе. Прорваться им тем не менее удалось. Ночью бомбардировщики пересекли линию фронта, вышли на цель в тот момент, когда над поселком одна за другой повисли осветительные ракеты.
От удара вздрогнули стены дома. Взрывной волной сорвало светомаскировку. На пол брызнули оконные стекла. Погас свет.
Из сеней в комнату влетел адъютант начальника фронтовой разведки сержант Лосев.
— Живы, товарищ полковник? — спросил Логинова.
— Жив, Лосев, жив, — отозвался Логинов. — Фонарь есть?
— Есть, да только в щель надо бежать, товарищ полковник.
— Дай фонарь! — приказал Логинов.
Прежде чем передать фонарь, Лосев включил его, направив тонкий луч в половицу.
Логинов взял фонарь, осветил стол, стал шарить лучом по полу. Собрал сброшенные взрывной волной документы. Часть из них сунул б планшетку, часть запер в сейф.
— Идем, — коротко бросил он адъютанту.
Вышли в сени.
Дом тряхнуло еще раз. Распахнулись входные двери. Лица опалило горячим. От удара оба они отшатнулись, тут же бросились к выходу.
Над поселком всколыхнулся огонь. Горело красным, синим, зеленым, желтым. Логинов понял, что немцы сыпанули зажигательные бомбы. В огне к небу вздымались бревна. Вой пикирующих бомбардировщиков мешался с воем падающих бомб.
Логинов обратил внимание на то, что возле дома нет часового. Заметил, что и Лосев шарит глазами по сторонам, тоже, видимо, в поисках часового.
В это время до них донесся стон.
Логинов кинулся на голос. То же сделал и Лосев. Он следовал за своим командиром неотступно.
Часовой был ранен.
Лосев прокричал Логинову, чтобы тот бежал в сад, где под яблонями были нарыты щели на случай таких бомбежек, но начальник разведки поступил иначе. Он послал Лосева за санитарами, за сменой раненому, сам остался возле дома.
Взвыло особенно пронзительно, сержант бросился на землю, распластался и Логинов.
Ударило за домом. Дом качнулся, но выстоял.
Лосев бросился выполнять приказ.
Вернулся довольно быстро. С санитарами, с начальником караула, со сменой раненому часовому.
Бомбежка продолжалась. Теперь можно было бежать в сад, в укрытие. Логинов с Лосевым обогнули дом, подбежали к тому месту, где стояла яблоня, не нашли ни дерева, ни щели. На месте яблони зияла в свете пожара огромная воронка.
— Не судьба, — выдохнул над ухом Лосев.
Начальник разведки промолчал. Про себя в который раз подумал о том, что на войне жизнь и смерть идут в одной упряжке, случается такое, что человек остается живым в худшей обстановке. Судьба это или что-то другое, сказать трудно, голову подобными мыслями забивать нечего. Полковник круто развернулся, пошел в дом.
Стены дома все еще вздрагивали от взрывов, в окна светило от пожара, зенитки заходились в кашле, но чувствовалось, что налет подходит к концу. Лосев помог своему начальнику повесить шторы светомаскировки на стены, Логинов нашел и запалил фитиль керосиновой лампы. Достал, и разложил на столе бумаги. Склонился над документами.
Лосев топтался тут же, выметая из комнаты осколки битого стекла.
Михайлов, Киричи, Глуховск. Проклятый треугольник с Шагорскими болотами в центре не давал покоя. Не получалось с этим треугольником так, как хотелось бы. Речкин не вышел на связь. Партизаны бригады «За Родину!» как в воду канули. Начштаба наседает. В который раз напоминает, что это направление в оперативном плане крайне важное. Что произошло с группой, живы ли? Если живы, почему не выходят на связь?
Раздался телефонный звонок, Логинова вызывали в штаб. Он вышел из дома, увидел, что светает. На востоке розовел край неба с редкими облаками. Розовели и края этих облаков.
Немцы устроили раннюю побудку. Всюду виделись люди. Недалеко от поселка, сразу за домами догорал, чадно дымя, сбитый зенитчиками немецкий самолет.
В штабе Логинова встретил дежурный офицер. Попросил Логинова зайти к начальнику контрразведки полковнику Гладышеву. Эта служба находилась здесь же в штабе на первом этаже.
Начальник контрразведки оказался один, он стоял возле школьной настенной доски спиной к двери, сосредоточенно рассматривая что-то за окном. Был он высок, широк. Фигура занимала значительную часть оконного проема. Брит наголо. Крутой затылок. Мощная, спортивно крепкая шея. На скрип двери обернулся, шагнул навстречу.
— Звал? — спросил Логинов.
— Звал, — подтвердил Гладышев, указывая глазами на стул, приглашая к столу.
Начальник контрразведки достал из сейфа папку, положил перед Логиновым.
— Познакомься, — сказал он, — тебя это касается.
Логинов раскрыл папку, стал читать документы.
В документах говорилось о том, как несколько дней назад в расположение дивизии Скопина вышел человек, назвавшийся партизаном. Этот человек попросил командование дивизии доставить его к представителю штаба партизанского движения Воробьеву.
Человек, назвавшийся партизаном, знал пароль, рассказал следующее.
Сам он представитель партизанской бригады «За Родину!». Входил в состав группы из трех человек, которых командование бригады направило через линию фронта с целью восстановить связь со штабом партизанского движения.
Немцы обнаружили группу. Двое погибли.
В папке было подшито свидетельство бойцов батальона Поспелова, в секторе которого пересек линию фронта человек, назвавший себя партизаном. Бойцы слышали интенсивную перестрелку на немецкой стороне, после чего и появился этот человек.
Логинову хотелось как можно скорее добраться до сути. Одно он понял из документов, Солдатов, со своей стороны, тоже предпринимает шаги к восстановлению прерванной связи.
Гладышев заметил нетерпение начальника разведки.
— Не торопись, — предостерег он, — читай внимательней.
Логинов взял себя в руки. Вернулся к началу. Более внимательно разглядел фотографию человека, назвавшего себя партизаном. Лицо приятное, отметил он про себя. Открытое. Такие располагают к себе людей. Внимательные глаза человека, который умеет слушать, Очень хорошее качество. Нос с курносинкой. Ровные зубы. Контрастные черные брови. Человек как человек. Внешний вид подозрений не вызывал.
Логинов вернулся к документам. Наконец-то стала проявляться суть.
Посланца партизан, судя по документам, выслушали, устроили отдыхать. Фотографию разослали по частям на предмет опознания личности. Выяснилось следующее обстоятельство. Весной этот тип уже побывал в распоряжении наших войск. Был он тогда в звании старшего лейтенанта. Проверил состояние химслужб некоторых подразделений. Лжепартизана немедленно арестовали.
— Это все? — спросил Логинов.
Гладышев усмехнулся, качнул головой.
— Мало?
Логинов понял, что переборщил. Люди Гладышева сработали весьма оперативно. Разоблачили немецкого агента. В том, что это агент, Логинов не сомневался. Ему хотелось знать другое. Солдатов, видимо, действительно послал группу. Группу, видимо, перехватили немцы. Партизан, видимо, немцы уничтожили. Готовят какую-то провокацию. Видимо. Иначе зачем посылать агента.
— Извини, Петр Сергеевич, — сказал Логинов, — сам знаешь, у меня этот район вот где сидит, — хлопнул он себя по шее.
— Понял, извиняю, — отозвался Гладышев. — Одно тебе могу гарантировать твердо: вытянем из этого типа все, что сможем.
— Спасибо.
— От твоих ничего нет?
— Нет.
— Стало быть, не добрались они до Солдатова.
— Стало быть, не добрались, — эхом отозвался Логинов.
— Теперь связь с Солдатовым нужна и нам, — сказал Гладышев.
— Группа Речкина — наша третья попытка связаться с бригадой «За Родину!», — объяснил Логинов. — И тоже, как видишь, пока безрезультатная. Особый режим, что немцы ввели сейчас в своих тылах, видимо, действует. Мы же, со своей стороны, не знаем главного — в каком лесном массиве обосновался Солдатов. Может быть, этот тип знает?
— Может быть. Я тебя буду держать в курсе наших дел.
— Спасибо.
На этом они расстались.
XI
Жизнь переменчива, что погода. То светит и греет, то хмарью затянет из конца в конец. Давно слышал Колосов это сравнение, теперь оно ему вспомнилось. Потому, скорее всего, вспомнилось, что погода за последние сутки менялась неоднократно. Ночь затянула тучами небо так густо, что, казалось, дождя из них хватит на неделю. Темень разлилась такая, хоть глаз выколи. Ночью, однако, дождя не пролилось ни капли, к утру поднялся ветер. Он разогнал тучи, оставив на небе легкие быстротечные облака. Облака эти бежали ходко, меняя очертания, словно обгоняя друг друга.
Утром вышли к притоку Соти, достаточно полноводному, с такими же, как у Соти, ровными берегами, спокойным, мерным течением. Остановились у поворота реки, напротив большака, что тянулся к Михайлову из Глуховска. «Ты как доберешься до большака, — объяснял лесник, — слева увидишь березовую рощу. В ту сторону не ходи, там такие топи, что тебе с обузой по ним не пробраться. В лес тебе надо, что за большаком. Но там поле большое, поостерегись. Большак пересекай ночью, он охраняется, учти это». Хороший совет дал лесник, да ночью они застряли в лесу. Ночь выдалась слишком темной, ждали, когда хоть чуток развиднеется. К повороту Соти, к этому притоку вышли уже по солнцу…
Колосов глянул на лес, что темнел за большаком, за большим полем, почувствовал вдруг такую тоску, от которой длинными зимними ночами воют волки. Смертельную тоску, однажды испытанную в Подмосковье, когда его ранило. Когда остался старшина лежать на нейтральной полосе в мороз, истекая кровью, не надеясь на чудо, понимая, что подступил конец. Смотрел на небо, отдавал себе отчет в том, что видит небо и звезды в последний раз. Мороз схватывал дыхание, обращал в льдинки слезы в уголках глаз, он их чувствовал, они мешали моргать. Чувствовал и понимал, что даже это неудобство от холода он испытывает в последний раз. Потом появилась собака-санитар, которая вытащила его к своим.
Теперь, казалось бы, чего и тосковать. Осталось последнее препятствие на пути к цели. Сердце все-таки сжалось в неведомой тоске. Так сжалось, что дышать стало трудно. Колосов пытался разобраться в причинах, однако такая попытка тоже насторожила старшину. Раньше такой необходимости не возникало, раньше он не прислушивался к себе. Получал задания, уходил на задания, возвращался с заданий. Все шло само собой, как должно идти на войне. «С дороги, с большака хорошо и далеко видно», — отметил Колосов, понимая, что в этом факте и опасения его, и тревога до тоски, и потребность разобраться в ощущениях. Он впервые очутился в столь сложной обстановке, впервые на его руках оказались люди, непригодные для активных боевых действий. За войну он выполнил множество заданий. Но шел он по войне с товарищами. С боевыми товарищами, а это как в строю. Собьешься, пятками услышишь сбой. Обязательно тебе наступят на пятки. Напомнят, что шагать надо в ногу.
Не додумал Колосов, далеко, со стороны Глуховска запылила дорога. Старшина заторопил Галю, прикрикнул на Неплюева. «Если что, — подумал, — радиста снова придется сбивать с ног». Так уже было не однажды. Идти в рост Неплюев может, ползти — нет. Приходилось валить радиста с ног. Каждый раз, когда выпадала такая необходимость, девушка смотрела на старшину с неприязнью. И каждый раз Колосов чертыхался в душе на то, что связан по рукам, по ногам.
Валить Неплюева с ног на этот раз не пришлось. Они успели добраться до зарослей на берегу притока Соти, скрыться в них до того, как пыль на большаке приблизилась. Колосов увидел бронетранспортер. Рядом с шофером офицер. В кузове солдаты. По большаку запылили автомашины. Шли они и в одну сторону, к Глуховску, и в сторону Михайлова. Надо было устраиваться, ждать вечера.
Черныш снова куда то пропал. Наверняка охотился. Он убежал, едва рассвело. Нагонит. Так было не раз. Где-то он шастает, потом появляется. У него своя жизнь, которая странным образом переплелась с их жизнями.
На берегу притока Соти пролежали весь день. Весь день палило солнце. Хотелось есть, но еды уже не осталось, поесть придется лишь тогда, когда доберутся до партизан. Об этом думал Колосов, об этом думала Галя, надеясь, что им повезет, с темнотой они минуют поле, пересекут дорогу, а там уже и до партизан останется не так далеко. Лежа в траве, Колосов наблюдал за большаком, посматривал и по сторонам. В той стороне, с которой они пришли, показалось старшине шевеление, но, сколько он ни присматривался, ничего подозрительного больше не различал. Пес не возвращался.
Догорал день. Диск солнца краснел, увеличивался в объеме, солнце уже почти касалось вершин деревьев леса напротив, того леса, в который им надо было попасть. Дневное светило склонялось к горизонту в безоблачном небе, обещая хорошую погоду на завтра.
Завтра. Возможно, уже завтра они встретятся с партизанами. Приказ, можно сказать, будет выполнен. Представив себе такую возможность, старшина в который раз подумал о том, что встреча с партизанами сулит неприятность, потому что радиста, по сути дела, нет, Неплюев не может работать на рации, а раз так, значит, не радиста он приведет к партизанам, а еще одну обузу, которых, надо думать, у партизан хватает и без него. От таких мыслей стало не по себе, как было уже не раз.
Над дорогой запылило. Вначале далеко, потом все ближе и ближе. Шлейф пыли приближался на этот раз особенно быстро.
Вскоре показался грузовик. Шофер, видно было, гнал машину на предельной скорости.
Колосов насторожился. Обычно машины ползли по большаку еле-еле. В том числе и патрульный бронетранспортер. А тут машину кидало из стороны в сторону, подбрасывало на ухабах. Вскоре она приблизилась к повороту реки, остановилась напротив того места, где прятался Колосов со спутниками. Сначала у машины заглох мотор. Она еще катилась, ее еще подбрасывало на неровностях дороги, но скорость гасла, грузовик вскоре стал. Распахнулись дверцы кабины. Из кабины выскочили двое. Оба в гражданской одежде. Что-то кому-то крикнули. На крик из кузова выскочили еще двое в немецкой форме, с автоматами в руках. Что-то сказали друг другу. Побежали вдоль большака, изредка оглядываясь в сторону Глуховска, то есть туда, откуда появились. По большаку пробежали метров пятьдесят. Свернули в поле. Бросились наискосок через поле. Бежали к березовой роще, к топям, о которых предупреждал Колосова лесник Степанов, советуя держаться от этой рощи подальше.
Колосов пытался понять увиденное и не понимал. Кто эти люди? Почему бросили машину? Заглох двигатель? Кончилось горючее? От кого они бежали? Почему так согласованно действуют? Почему так уверенно направились к топям?
Колосов с тревогой смотрел на дорогу. Вдали, над большаком снова запылило. Две машины различил старшина. Перед машинами пылили мотоциклы. Они быстро приближались к брошенному грузовику. Мотоциклисты первыми остановились возле заглохшей машины. Из люлек выпрыгнули собаки. С мотоциклов соскакивали солдаты. Прыгали солдаты из кузовов остановившихся машин. Их было много, больше взвода. Подкатил бронетранспортер. Тот самый, который не раз проплывал по большаку днем. Колосов глянул в сторону березовой рощи, не увидел никого. Те, что бежали по полю, успели, должно быть, укрыться в лесу.
К руке старшины прильнула Галя. Лицо у девушки побледнело, глаза в испуге расширились. Они спрашивали, что теперь с ними станет. Если немцы разберутся цепью, если они пойдут к реке. Брошенная машина стояла как раз напротив.
Колосов оценивал обстановку. Если немцы пойдут в их сторону, через несколько минут они уже будут здесь. Был бы Колосов один, он бы ушел. Схоронился бы в зарослях, отсиделся бы в воде. Даже Галя в этот момент не была для него помехой. Он постарался бы спасти и девушку. Вода в реке черно-коричневая. Вода болотная торфяная. Она прикроет. Спасение в воде. Но радист. Куда его деть? Что с ним делать? Что можно предпринять в такой обстановке? Старшина сам себя спрашивал, да ответа не находил. И тут он услышал голос. «Ничего ты не сделаешь, — услышал он слова. — Ты обречен. Тебе не бросить радиста, он твоя судьба. Ты его можешь взорвать гранатой. Но только вместе с собой». Колосов вздрогнул оттого, что слишком отчетливо услышал приговор. Не сразу сообразил, что произносит горькие слова сам, мысленно. Показалось, слова доносятся со стороны.
Галя сильнее вжалась в руку. Как будто услышала его слова.
Старшина понял, что в этой обстановке он может спасти только девушку. Надо, чтобы она немедленно ушла. Тихо скатилась в воду. Затихла в зарослях.
— Плавать умеешь? — шепотом спросил Колосов.
— Ни.
У Гали еще больше округлились глаза.
Колосов еще раз посмотрел на дорогу. Солдаты разбирались цепью. Проводники с собаками сновали возле машин. Собаки обнюхивали кабину, кузов.
— Уходи, слышишь? — зашептал Колосов. — Держись берега. И тихо-тихо, слышишь? Если что, говори, взяли мол, силой, куда-то вели. В деревне подтвердят. Передай нашим…
— Ни.
— Что «ни»? — повысил голос старшина.
— Я з вами.
— Ты что? — уставился на девушку старшина так, как будто впервые увидел. — Ты не понимаешь приказов?
Галя заплакала. Она отпустила руку старшины, обмякла. Обвисли плечи. Они вздрагивали каждый раз, когда раздавались ее всхлипывания.
Колосов отвернулся.
На дороге произошли изменения. Собаки взяли след. Они потянули проводников вдоль дороги, а значит, и от реки. Офицеры что-то кричали солдатам, указывая на березовую рощу. «Кажись, проносит», — подумал Колосов, не до конца веря в такой оборот, но уже надеясь в душе на то, что и на этот раз им повезет.
Солнце скатилось за лес. В том месте, где оно скрылось, небо окрасилось пронзительно-оранжевым цветом. Виделось пока еще хорошо, но чувствовалось, что еще немного — и начнет темнеть.
Со стороны березовой рощи донесся знакомый вой. Выл Черныш. Сразу на большаке произошло замешательство. Собаки стали тянуть проводников в обратном направлении. Проводники кричали на собак, стегали их концами поводков. Собаки огрызались. Они старались лечь на землю, упирались лапами. Борение продолжалось до тех пор, пока выл Черныш. Как только он замолк, ищейки, избиваемые и понукаемые проводниками, вновь натянули поводки, готовые вновь броситься по следу. Черныш завыл, все повторилось.
Офицеры первыми побежали к машинам. На ходу они кричали что-то, показывая на березовую рощу. В тот же миг взревели моторы. Солдаты забрались в кузова, проводники с собаками в мотоциклы. Патрульный бронетранспортер объехал машины, понесся в конец большака, к тому месту, где дорога скрывалась в лесной чаще. За бронетранспортером помчались мотоциклы, за ними — автомашины. Они поняли, что те четверо скрылись в березовой роще, решили сократить расстояние, подумал Колосов.
Темнело все более и более, заметно гасли краски лета. Зелени, цветов, неба. Оранжевое перешло в желтое, но и этот желтый цвет бледнел, размазывался, становясь все более блеклым. Побелело небо над головой.
Колосов смотрел и смотрел вслед грузовикам. Видел, как медленно колонна втянулась в лес. Старшина прислушался, уловил гул работающих двигателей. Вот-вот и последняя машина скроется за поворотом. В это время раздались взрывы. В воздухе дробно застучало, рассыпалось. Взрывы доносились вперемежку с выстрелами, среди которых явственно различались пулеметные и автоматные очереди. Взрывались гранаты, старшина определил их взрывы на слух. Из пулеметов, из автоматов и винтовок стреляли прицельно, это тоже можно было определить на слух. Над дорогой, над березовой рощей поднялся дым. Задымило чадно, черно. Так дымят танки. Или бронетранспортеры. Стрельба усилилась.
Колосов не стал терять времени.
— Галя, рацию! — крикнул он, поднимаясь, готовясь к бегу.
Одно понял старшина, одно заставило его принять немедленное решение. Немцы, видимо, нарвались на засаду. Они гнались за теми, что укрылись в березовой роще, а сами попали под огонь. Колосов понял, что промедление смерти подобно. К немцам может подойти подмога, если по рации они сообщат о нападении, о засаде. Да и после засады до утра здесь может произойти такое, что лучше всего уйти из этих мест.
Галя схватила вещевой мешок, в котором была рация, пыталась накинуть лямки. Старшина выхватил у нее вещмешок, взвалил рацию на себя. Он отдал девушке автомат Неплюева, свой, значительно облегченный, вещевой мешок. Крикнул на радиста, схватил его за руку, потянул за собой.
Из леса, из того леса, из которого Колосов выходил к притоку Соти, в котором днем еще старшина заметил какое-то шевеление, выехала подвода. Подводу Колосов увидел краем глаза, уже на бегу, но он не стал останавливаться, подумав о том, что опасности от этой подводы ждать им скорее всего нечего, те на подводе тоже стали свидетелями происшествия, того обстоятельства, что немцы попали в засаду, им тоже, наверное, надо пересечь этот большак, иначе чего бы они ждали, скрываясь в лесу.
Колосов добежал до большака, пересек его одним махом, продолжая бег по полю, за которым все отчетливее виделся спасительный лес, спиной чувствуя, что и подвода направляется по их следу, что те, на подводе, догоняют их. Старшина бежал, не оборачиваясь, следя краем глаза, чтобы не отстала девушка.
Топот лошади слышался все ближе и ближе.
— Галя! — раздался голос — Старшина!
Удивиться, да времени не было. Старшина узнал голос Степанова. Продолжая бежать, Колосов обернулся, увидел лошадиную морду, подводу, лесника на ней, еще двоих неизвестных в пиджаках и кепках. Парни молодые, здоровые. Оба соскочили с телеги, на ходу приняли у Гали вещмешок, автомат, помогли девушке забраться в телегу. На ходу же втащили Неплюева, вскочили сами, помогли Колосову. И все это молча, на скорости.
Отдышаться не успели, когда на них надвинулся лес. Хвойный лес с толстыми, в обхват, елями, хмурый в надвинувшихся сумерках, спасительный лес, означавший начало партизанской зоны.
Степанов осадил шуструю, крепкую кобылицу, пустил ее шагом. Соскочил с телеги. Пошел рядом. Следом за ним спрыгнули оба парня. Шевельнулся было и Колосов, но лесник сказал, чтобы старшина оставался в телеге.
— А мамо, дядь Миш? — спросила Галя.
Девушке трудно было говорить, грудь ее часто вздымалась. Она еще не отошла от этого тяжелого бега.
— Потом, потом, Галя, — сказал ей Степанов. — Отдышись сперва.
— С ней что-то случилось, да? Почему ее нет? Где Санька?
— Не держи в голове дурного, — успокоил лесник. — Живы, здоровы. Ушли в надежное место. Теперь скоро встретитесь.
Выехали на дорогу. Дорога лишь угадывалась по просвету, какой бывает на просеках. Чувствовалось, люди пользовались ею давно. Так давно, что вся она успела зарасти высокой травой, хлестким подростом. Колея на ней угадывалась по заполненным водой углублениям, не просыхающим в этом хмуром лесу, похоже, даже в жаркую пору.
Колосов отдышался наконец, спрыгнул с телеги. Пошел рядом с лесником. Шли все так же молча.
Спустились к берегу небольшой речушки. У реки посветлело, но чувствовалось, что свет убывает, вот-вот загустеют сумерки, настанет ночь. Противоположный берег зарос ольхой, черемухой. Дорога скрывалась в зарослях, за которыми виделся смешанный лес с белоствольными березами, с почерневшими в глубоких сумерках елями.
Лошадь вошла в реку, осторожно припала к воде губами, стала пить.
— Выходит, нагнали вас, — сказал лесник.
— Выходит, — отозвался старшина.
— Ладно, значит, — сказал лесник. — Остальное забудется.
Сказал так, как будто шел рядом с Колосовым все эти дни, видел, каково было пробираться Колосову с такой обузой там, где, казалось, и мыши проскочить было трудно.
На мгновение Колосову показалось, что выбрался он из какого-то путаного, бесконечно длинного лабиринта, которым шел, постоянно натыкаясь на непреодолимые стены, но это видение вспыхнуло и пропало. Он подумал о том, что у Степанова что-то произошло, если пришлось ему убегать из Малых Бродов после того, на что он решился, оставаясь в погребе.
— Вам все-таки тоже пришлось уйти? — спросил он лесника.
— Так получилось, — сказал на это Степанов.
До сторожки они не обмолвились больше ни словом.
К сторожке подошли за полночь. Утром были на базе партизанской бригады «За Родину!».
Подъезжая к базе бригады, Колосов волновался.
Как встретят. Как отнесутся к тому, что привел он в отряд невменяемого радиста, проку от которого, как от козла молока. «Известно как, — думал старшина. — В худшем случае обложат матом, в лучшем промолчат, но недовольство выразят».
Командования бригады на месте не оказалось. Встретил их заместитель командира бригады по хозяйственной части, хромоногий, лысый, фамилию его Колосов не разобрал по той причине, что хозяйственник отчаянно корежил слова. Колосов лишь понял, что докладывать ему о выполнении приказа некому. Нет ни командира, ни начальника штаба.
Лесник Степанов со своими спутниками сразу куда-то ушел. Отправил хозяйственник и Галю. Колосов так понял, что девушку увели в ту часть партизанской базы, где размещены женщины.
Колосов остался с Неплюевым.
Появился сутулый партизан.
Партизан завел Колосова и Неплюева в полуземлянку с окном. Оставил.
Вернулся с двумя котелками. Отдельно в тряпице при нес половину ковриги ржаного хлеба. Теплого и мягкого, от запаха которого слегка закружилась голова.
Дождался, покуда разведчики поели. Ушел.
В отличие от фронтовых землянка оказалась просторной, сухой, с тесовыми стенами, на четыре лежака, с подстилкой из свежего сена. Поверх сена накинуты трофейные плащ-палатки. Колосов подумал о том, что нескладно как-то получается. Он спешил выполнить приказ, понимая, что дорог каждый час, а тут вроде бы и нужды в нем не оказалось. Мысль эта, однако, не задержалась. Сознание выполненного долга подействовало расслабляюще. Лежак притягивал магнитом. Колосов посопротивлялся сам с собой, но больше всего для видимости, стащил с Неплюева сапоги, велел Неплюеву спать, тот лег, сразу уснул. Колосов растянулся на лежаке, вздохнул, как тяжесть сбросил, заснул, едва смежив веки.
Разбудили Колосова голоса. Он открыл глаза, увидел распахнутое окно. Косые лучи солнца просвечивали кроны. Солнце, стало быть, клонилось к закату. Проспал он, следовательно, весь день. В землянку влетела Галя.
Колосов сел, свесив босые ноги, посмотрел на девушку.
Галя прислонилась к косяку, стала как вкопанная. Глаза распахнула широко, смотрела не мигая. На ней лица не было.
— Там партизаны Степана убили, — через силу произнесла девушка.
— Неплюева? — переспросил Колосов. — За что?
Только тут старшина заметил, что лежак, на котором спал радист, пуст.
— Ой, мамочки, — заплакала девушка, опускаясь на корточки, закрывая лицо руками.
Колосов в два шага подскочил к ней, стал поднимать.
— Где? За что? — тряс он девушку, но та разревелась еще больше.
Колосов подвел Галю к лежаку, усадил ее. Голоса шумели уж совсем рядом, у окна.
— Этот его привел, вместе они утром явились!
— Девка с ними!
— Ты девку не тронь, знаем ее!
— Этих тоже знаешь?
— Сказано — посланцы фронта.
— Посмотреть надо, что за посланцы.
Колосов вышел на голоса, увидел недобрые взгляды.
От группы отошел худой, черный лицом, сутулый партизан с трофейным автоматом за плечом.
— Объясни, старшина, куда послал свово человека.
Колосов вдруг увидел того хозяйственника, который их принял. Хозяйственник спешил, прихрамывая, спотыкаясь, неуклюже размахивая скрюченными руками.
Люди расступились, пропуская хозяйственника.
— В чем дело? — спросил Колосов хозяйственника, как только тот приблизился. — Что произошло?
В ответ хозяйственник разразился длинной тирадой о том, что порядок в лесу один на всех, нарушать его не положено никому.
Колосов понял с трудом. Хозяйственник говорил так, будто рот его был забит кашей.
Из толпы раздались голоса:
— Чего он из лесу побежал?
— Ему приказ был остановиться!
— Чего он кусаться начал?
— Вы его убили? — спросил Колосов и замер, ожидая ответа.
— Нет вроде бы, — ответил за всех сутулый партизан с трофейным автоматом за плечом. — Помяли шибко.
— Но за что?
— Видишь ли, старшина, — сказал сутулый, — тот твой, — он кивнул в сторону, — сопротивление оказал, когда его силком вязали. Его и долбанули по голове гранатой. Сознание потерял, очухается.
До Колосова стало доходить то, что произошло.
— Я предупреждал вас, что радист не в себе, — громко произнес старшина, обращаясь не столько к заместителю командира бригады, сколько ко всем этим людям. — Больной он, можете вы это понять? Больной! Рассудка лишился. Вышел нормальным, потом с ним произошла беда.
Люди стали что-то понимать. Затухали недобрые огоньки в их взглядах.
— Как же так, а? — спрашивал Колосов. — Мы к вам через такие муки перли, а вы, значит, вот как, да?
— Ладно, старшина, не очень-то ты на нас, — сказал сутулый, — предупредить надо было, мы тут тоже всякого видели.
Молчал Колосов, молчали люди.
— Где он? — спросил старшина.
Партизаны повели было Колосова к тому месту, где был остановлен, сбит с ног Неплюев, но встречный паренек объяснил, что радист уже у доктора, что этот неведомый старшине доктор приказал часовому у госпитальной землянки никого не пускать.
За деревьями раздались голоса.
— Наши, наши идут!
Старшина остался один. Присел на коряжину. Задумался. «Олух я, олух, — стал корить себя старшина. — Проползли, пролезли, добрались, и на тебе, недоглядел, рассупонился. В спячку ударился, как новобранец какой». Он вспомнил, что Неплюев подчинялся простым командам: ел, спал, оправлялся по приказу, по его, Колосова, голосу; шел или бежал, и это его послушание тоже ненормальность, которую надо было предусмотреть здесь, на базе, прежде чем лечь спать. Неплюев подчинялся какому-то своему внутреннему ритму, подумал Колосов о радисте. Старшина представил, как Неплюев встал, пошел, несгибаемый, выпятив подбородок, словно он слепой, потом побежал. В беге, в ходьбе он не слышал слов. Колосову приходилось останавливать радиста, придерживая рукой. К этому Неплюев привык, что-то в нем срабатывало. И горько стало Колосову, и жалко радиста до слез. Он простил ему все. Поляну, по которой тот вдруг побежал и тем самым выдал группу. Тяжести перехода, муки, которые пришлось претерпеть. Человек заболел, с больного спроса нет.
Старшина не заметил, сколько просидел на коряжине. Подумал о времени, когда к нему подбежал сутулый партизан с трофейным автоматом за плечом. В сопровождении этого партизана Колосов отправился к землянке командира бригады.
— Здравствуйте. Комбриг Солдатов, — пробасил человек за столом в ответ на доклад старшины.
Был комбриг бородат, в форме, но без знаков различия.
— Начштаба Мохов, — назвал себя второй, тоже без знаков различия партизан.
Начштаба был ниже Солдатова, выглядел больным.
— О том, что произошло, мне уже доложили, — пробасил Солдатов. — Сейчас ваш товарищ в руках нашего доктора.
— Он жив? — спросил Колосов.
— Пока жив, — сказал Солдатов. — Отдохнули?
— Так точно, — негромко ответил Колосов, продолжая думать о Неплюеве.
— Давно идете?
Колосов не сразу вспомнил.
— Вышли тринадцатого мая, — сказал он наконец, прикинув, что мотаются они по тылам второй месяц.
Солдатов задавал вопросы, слушал ответы. Спрашивал по ходу рассказа Колосова. Начальник штаба сидел молча. Перед ним лежал блокнот, в нем он постоянно что-то записывал.
В начале рассказа Колосов опускал мелочи, стараясь изложить главное. Комбрига интересовали детали перехода. Своими вопросами он как бы подчеркивал, что опускать чего бы то ни было не стоит, его интересует все. Колосов перестроился, стал рассказывать по порядку, не упуская мелочей.
— Ну что ж, — сказал в конце разговора комбриг. — Рассказываете вы вполне убедительно. Приготовьтесь к тому, чтобы все это рассказать еще раз нашим товарищам. Скоро появится комиссар бригады. Он же возглавляет у нас контрразведку.
Намеренно или как сказал Солдатов о контрразведке, только слово это, само по себе достаточно грозное, задело Колосова. По всему выходило, что ему не поверили. Понятным стало молчание начальника штаба, его записи.
Колосов сник, сидел, не шелохнувшись. Пальцы сцепил так, что они побелели. Челюсти сомкнул до боли в зубах.
— Я понимаю ваше состояние, — донеслись до Колосова слова Солдатова, — если то, что вы нам рассказали, правда. Однако постарайтесь быть объективным: у нас тут всякого было. Мы верим вам, но должны убедиться в своей вере. Группу и лейтенанта постараемся найти. О состоянии радиста вам будут докладывать. Из землянки без нужды постарайтесь не выходить. Не считайте, что это арест. Но и о том помните, что приглядывать за вами будут. У нас все, идите.
Отяжелели ноги. Колосов поднялся с трудом. Трудно шел. Он ждал упреков в том, что привел невменяемого радиста. Пришла, мол, помощь фронта, да толку от нее нет. Ожидал встретить все что угодно, только не это разумное недоверие.
Старшина добрел до землянки, плюхнулся на лежак. Старался лежать бездумно, не получилось. Горькие, как настой полыни, думы сочились и сочились, он понимал, что этот настой ему придется выпить до конца. Особенно когда появится неведомый ему комиссар бригады, он же заместитель комбрига по контрразведке.
Колосов засыпал, просыпался, дождался рассвета. Глянул по сторонам. Увидел оба автомата на одном гвозде. Свой автомат и Неплюева. Легче стало думаться. О том, что он действительно не арестован, если ему оставлено оружие. Дверь к тому же оставалась открытой. Он вышел из землянки по нужде, не обнаружил ни охраны, ни другого какого пригляда. «У нас тут всякого было», — всплыла в памяти фраза, слышанная в этом походе не раз. «Наверное, так, — подумал старшина. — Партизаны есть партизаны. Немцы готовы сотворить любую пакость, лишь бы их изничтожить». Он вернулся в землянку, встал у окна. Пахло хвоей, дымом, травами. Меж деревьев стали появляться люди. Где-то замычала корова. Ей ответила другая. За окном шла жизнь, от которой он был отгорожен то ли советом комбрига, то ли приказом.
Колосов стоял у окна долго. Солнце стало окрашивать небо, появились его лучи, а старшина стоял и стоял. Услышал шаги. Дверь распахнулась. Вошли двое. Одного Колосов узнал сразу. Это был начальник штаба бригады, тот, что записывал рассказ старшины. В другом тоже увиделось что-то знакомое. То ли черные, вроде как без дна, глаза узнавал старшина, то ли заметно выпиравший кадык. Колосов более внимательно вгляделся в лицо вошедшего, понял, что перед ним капитан из сорок первого года, из деревни Вожжино. Капитан посмотрел на Колосова и тоже узнал его.
XII
Командир партизанской бригады «За Родину!» Анатолий Евгеньевич Солдатов анализировал обстановку, осмысливал события последних дней. Больше всего комбрига беспокоило положение, сложившееся в Глуховске. Неожиданно гитлеровцы арестовали своего администратора, начальника тылового района полковника Фосса. Этим арестом, сами того не ведая, немцы нанесли чувствительный удар по подполью. Подпольщики не понесли потерь, но лишились такого замечательного руководителя, как Дмитрий Трофимович Шернер, которому пришлось бежать из города. Вместе с Шернером из города, из близлежащих деревень необходимо было уйти всем, кто составлял легальное окружение старшего лесничего городской управы.
Комбриг сидел в просторной полуземлянке, в которой накануне вечером беседовал со старшиной Колосовым. На столе перед комбригом лежала трофейная карта района, бланки с орлами: пустые и заполненные машинописными текстами на немецком языке — тоже трофеи, как и многое другое в землянке, включая чугунную на кривых ножках печь. По всему полу землянки валялась полынь. Запах полыни забивал даже запах табачного дыма.
За редким исключением из правил, когда комбригу приходилось самому принимать непосредственное участие в стычках с немцами или ездить по отрядам бригады, вся жизнь Солдатова проходила в этой полуземлянке. Здесь проводились совещания, разрабатывались операции. Как правило, здесь всегда было людно. Не составила исключения и прошедшая ночь. Всю ночь в землянке колготились люди. Последними ушли комиссар бригады и начальник штаба. С ними комбриг обсудил событие. Появление старшины с радистом. Якобы старшины. Якобы с радистом. Якобы посланцев фронта.
Оставшись один, Анатолий Евгеньевич Солдатов подумал о том, что заботы, вроде лихорадки, прицепятся, начнут трясти, от них не просто отделаться. Накатываются волнами. Справишься с одними, другие захлестывают. В такой обстановке необходима собранность, только собранность и еще раз собранность. Тем более что события последних дней разворачивались не так, как хотелось бы. Получили известие об аресте Фосса, новое сообщение пришло. Одному из отрядов бригады удалось разгромить группу карателей оперативной команды охранных войск. Среди убитых был опознан Альфонс Мауе. Матерый эсэсовец, зверь в человечьем обличье. Труп его основательно обгорел в машине, пока шел бой, но его все-таки опознали.
Солдатов выбрал из вороха документов протокол допроса писаря оперативной команды, ефрейтора Герберта Герлица. Еще раз вчитался в торопливые строчки.
«— Ваша должность?
— Писарь зондеркоманды 07-Т.
— Ваш командир?
— Обер-лейтенант СД Альфонс Мауе.
— Давно его знаете?
— С декабря прошлого года, когда я был назначен на эту должность после ранения, лечения в госпитале, возвращения из отпуска к месту службы…
— О том, что вам приходилось регистрировать как писарю, вы расскажете позже.
— Я готов.
— Сейчас нам надо от вас подтверждение. Вы убеждены, что это труп вашего командира?
— Да.
— На чем основано ваше убеждение?
— Я узнаю его по остаткам формы… По знакам различия… По татуировке на левом плече.
— Орел, держащий свастику?
— Да.
— Вы твердо убеждены, что этот обгоревший труп Альфонс Мауе?
— Есть еще одна примета.
— Что вы имеете в виду?
— Снимите сапог с правой ноги обер-лейтенанта. У него нет мизинца на этой ноге.
— Срежьте сапог… Похоже, вы правы… Уведите арестованного».
Сомнений не было. Партизанская кара настигла Мауе. Было сожаление, что не удалось захватить этого палача живым. Тогда можно было бы судить изверга. О суде широко оповестить не только население, но и немцев. Благо есть на чем отпечатать листовку.
На столе лежал еще один документ, связанный с именем Мауе. Протокол допроса жительницы Глуховска Клавдии Никаноровны Зотовой. Тысяча девятьсот двадцатого года рождения, как о том говорилось в протоколе, русской, уроженки деревни Чернухи. Солдатов еще раз внимательно прочитал этот документ.
«— Кто посылал вас в Ольховку? — читал Солдатов.
— Альфонс.
— Мауе?
— Да.
— Когда и на чем вы добрались до деревни?
— Десятого июня Альфонс довез меня до Гречихи.
— До сожженной карателями Гречихи?
— Да.
— Продолжайте.
— Я пошла пешком в Ольховку к своей тетке Лукерье Фоминичне Ермоловой.
— Что вам приказал Мауе?
— В Ольховке должны были скрываться какие-то типы… Из леса… Я должна была узнать, сколько их, у кого живут.
— Каким образом вы должны были передать эти сведения Мауе?
— Я должна была уйти из деревни, вернуться к Гречихе, дождаться любой машины или патрульного бронетранспортера и приехать в Глуховск.
— Вы вернулись?
— Да.
— Вам приходилось выполнять подобные задания раньше?
— Нет.
— Повторите.
— Нет, не приходилось.
— Зачитать вам свидетельские показания уцелевших жителей деревень Высокие Ключи, Березовки?
— Не надо мне ничего читать! Никакой Березовки я не знаю! Да, да, да. Не знаю! Плевать мне на вашу Березовку! Отпустите меня! Альфонс вам знаете что за меня сделает? Знаете?
— Ваш Альфонс уже никому и ничего сделать не сможет. Его настигла партизанская пуля на той дороге, где вы с ним расстались.
— Этого не может быть. Вы… Вы убили Альфонса? Этого не может быть… Слышите… Он до вас доберется… Он…
— Прекратите истерику, отвечайте на вопросы.
— Что вам от меня надо? Ненавижу! Ненавижу!
— Да или нет?
— А-а-а! В Ключах? Была, была, была! И в Березовке была! И в Земцове! И в Чернухах! Ну, ну, ну…
— Вы наводили карателей на партизан. Чудовище, вы не жалели даже родственников. В Чернухах Альфонс сжег вашу сестру с двумя малолетними детьми. В Высоких Ключах вы предали родную тетку. Кому вы передали сообщение о партизанах из Ольховки?
— Паулю.
— Коменданту Глуховска?
— Да.
— Вы знали, что Ольховку сожгут?
— Какое мне дело до вашей Ольховки?
— Однако вы жили у родственницы, она кормила вас.
— Кор-ми-ла! Да у нее, кроме картошки, нет ничего. Кор-ми-ла! Щами из лебеды да крапивы…
— Молчать! Уведите эту стерву!»
Мысленно Солдатов согласился со своим заместителем по контрразведке Грязновым. Таких предателей как ни назови, все мало. Подумалось и о том, что эта тварь выдала немцам такое, что вызывало особое беспокойство. Эта Зотова выследила именно тех партизан в Ольховке, которые должны были встретить людей, ушедших две недели назад к фронту. По всему выходило, что связные до фронта не добрались. По всему выходило, что немцам удалось перехватить группу. Этого мнения придерживаются и Грязнов, и Мохов. Зотова не могла назвать срока проведения гитлеровцами акции в Ольховке, однако опыт подсказывал, что тянуть с акцией фашистские ублюдки не станут. Потому-то сразу после допроса Зотовой в Ольховку и был отправлен конный отряд.
Вчера же утром, как только отправили летучий отряд, в Ольховку пришло новое сообщение. В Глуховск направлена следственная комиссия по делу Фосса. На большаке, что идет из Михайлова, устроили засаду. Комиссии не дождались, появились беглецы из Глуховска. Пришлось ввязаться в бой, прикрывая отход Шернера. Обнаружили себя до появления следователей. «Впрочем, черт с ними, со следователями, — думал Солдатов, — Дмитрий Трофимович вырвался из города». Шернер ушел из города не один. Вместе с ним бежали из города Карл Бургель — шифровальщик местного отделения гестапо, который предупредил Дмитрия Трофимовича о предстоящем аресте Фосса, и офицер комендатуры Фриц Иблер. Оба эти немца с сорок второго года, после победы наших войск под Сталинградом, стали сознательно помогать Шернеру в его нелегкой работе, принимали активное участие в делах подполья. В городе в это время находился помощник Солдатова по комсомолу Саша Щербаков. Шернер взял его с собой. Они вырвались из города на грузовике, который пригнал Фриц Иблер.
Сколько командует Солдатов партизанским соединением, столько и сталкивается с неожиданностями. В начале этого нелегкого пути их было больше. Были провалы и промахи. Позже обстановка стабилизировалась, неожиданные ситуации возникали редко. Теперь снова участились. Как в начале войны, подумал Солдатов, вспомнив отступление, окружение, попытку прорваться к своим, после которой остался он на оккупированной врагом земле, создал отряд, разросшийся затем до бригады. Тогда неожиданности следовали одна за другой. Единственное, что для него, профессионального военного, не было неожиданностью в то время, так это сама война. И хотя началась она действительно без объявления, к нападению гитлеровцев на нашу страну он был готов. Такой же готовности требовал от подчиненных. Не понимал командования, которое пуще огня боялось отвечать немцам на их провокации в районе границы. Высказывал свои мысли вслух. Поэтому и не давали ему хода ни в звании, ни в должности. Он командовал полком, готовил людей к войне, когда она началась, старался выполнить свой долг до конца. Полк стоял на рубежах, отходил только по приказу, не раз и не два дрался в окружении. Выходили из окружения, снова вели бои. Тяжелые, кровопролитные, подчас без артиллерийской или танковой поддержки. С ограниченным боезапасом. Голодные и злые. Неожиданности происходят от непредвиденности действий противника, которых тогда, в сорок первом, было гораздо больше, думал теперь Солдатов, сравнивая начало войны и год нынешний, подготовку гитлеровцев к большому наступлению, если судить по количеству войск, а главное — техники, что прибывает в Глуховск или перебрасывается через город в сторону фронта. Он не слепой. Приближение наступления гитлеровцев видит по многим признакам. По тому, как еще весной штаб фронта ориентировал партизан на сбор разведданных. По тотальной, как говорят гитлеровцы, чистке своих тылов от партизан, от мирного населения. Но главное, конечно, по тому, какую силу собирают нацисты в районе Глуховска, какие мощные укрепления возводят, совершенствуя оборону, какие запасы горючего, боеприпасов, снаряжения завозят для обеспечения грядущего удара по нашим войскам. Известно название предстоящей операции: «Цитадель». Шернеру, его людям удалось узнать срок начала этой операции. Гитлеровцы намерены перейти в наступление на рассвете в три ноль-ноль пятого июля, и срок этот якобы окончательный.
Солдатову очень хотелось поговорить с Шернером, но Дмитрий Трофимович смог сказать только главное. Назвал время и дату немецкого наступления, сообщил, что провала подполья нет, арест Фосса вызван финансовыми операциями по продаже леса, в городе остался заместитель Шернера, он возьмет руководство подпольем на себя, связь в дальнейшем будет осуществляться по запасному каналу, так как леснику Степанову уже передан приказ уходить в лес. Шернера успокоили, сказали, что Степанов уже у партизан, прибыли они одновременно. Дмитрий Трофимович потерял сознание. Врач определил острую сердечную недостаточность.
Нелегко дался Шернеру побег. Особенно бег по полю от машины, в которой, как оказалось, не осталось горючего. Последние метры его несли на себе Саша Щербаков и оба немца — Карл Бургель и Фриц Иблер. Шифровальщик гестапо Карл Бургель подтвердил: махинации Фосса обнаружили сотрудники налоговой инспекции в самой Германии. Они же передали это дело в следственные органы. Карл Бургель, Фриц Иблер подтвердили, что в районе Шагорских болот укрылись русские разведчики. Если это так, то старшина Колосов, как он назвал себя, действительно послан фронтом. В то же время могла произойти подмена. Могло случиться так, что немцы перехватили настоящего Колосова, а вместо него подослали к партизанам своего агента. Тем более, что он привел с собой невменяемого человека, которого назвал радистом. Одно это обстоятельство вызывает подозрение. Этому человеку пришлось выразить недоверие. И комбриг, и начштаба применили к Колосову не раз проверенный метод. Так уже было. В открытую выражали недоверие посланцам соседних партизанских отрядов, которые на поверку оказывались гитлеровскими агентами, выдерживали их, потом требовали повторить рассказ Грязнову в присутствии все того же молчаливого Мохова. Агенты путались, терялись, в конце концов раскрывали себя. Существовали и другие формы проверки. Грязнов в этом деле оказался хорошим специалистом, скольких лазутчиков раскрыл. В то же время похоже на то, что старшина говорил правду. Галя Степанова поручилась за него. С некоторой дозой сомнения, но девушка сказала «да». Поручился лесник. «Чует мое сердце, — сказал Степанов, — что старшина этот и впрямь от наших пришел. Приглядывался я к нему в Малых Бродах, свой он». В таком случае и радист настоящий, то, что произошло, трагедия.
При упоминании о радисте у Солдатова заныло под ложечкой, отозвалось болью в груди, в области сердца. Собрать столько данных о противнике, узнать о времени начала крупнейшей операции — и не иметь возможности передать все эти сведения фронту. Комбриг понимал, что из всей имеющейся у него информации сообщение о сроках наступления гитлеровцев для командования фронтом крайне важно, но подобные сообщения придут по другим каналам, из других источников. В конце концов на это ориентированы сейчас многие разведчики. Нет сомнения в том, что о планах гитлеровского командования наши знают. Но как бы сейчас пригодились в штабе фронта данные о численности немецких войск в районе Глуховска. Как бы пригодились данные о тех частях, что проследовали через город к фронту. Партизанская разведка, подпольщики собрали данные о многих стратегически важных объектах. Определены их координаты, система противовоздушной обороны. Накопилась масса другой информации, но вся она в бригаде, поскольку нет связи. «Радист, может быть, и пришел бы в себя, не случись такого несчастья, — допустил в мыслях Солдатов. — И старшина Колосов, и Галя говорили, что во время перехода он заговорил, на какое-то мгновение стал нормальным. А теперь? Как на него подействует ранение? Врач сказал, что возможно шоковое состояние. Возможно осложнение той болезни, которая навалилась на него раньше. Во всяком случае, надежды пока нет».
Солдатов поднялся из-за стола, растворил окно. Пахнуло свежестью, росой, лесным духом. Услышался посвист птиц. Негромкое мычание. Жестяный стук ведер. Услышались вполне мирные звуки. За деревьями, за молодым подростом угадывалось движение людей. Партизанский лагерь просыпался, наступал еще один день. За кустами мелькнула знакомая фигура. Солдатов увидел Грязнова. Следом за комиссаром шел посланец фронта, за ним Мохов. Все трое направлялись в сторону полуземлянки. Выходило, что разговора с этим старшиной не получилось. Слишком мало времени прошло с тех пор, как комиссар и начальник штаба ушли к старшине для повторного разговора.
XIII
Комиссар бригады «За Родину!» Олег Васильевич Грязнов вернулся на базу ночью. Был он в одном из отрядов, о событии в бригаде узнал по возвращении. Ночью же вызвали Галю. Девушка повторила то, что перед тем рассказывала Солдатову и Мохову. О встрече со старшиной, о событиях в деревне, о переходе. Трудно было определить ее отношение к этому старшине. Она лишь о радисте сказала твердо и определенно, что он болен. «Ты веришь старшине?» — прямо спросил ее комиссар. Девушка задумалась.
Галя вспомнила наказ дяди Миши. «Если тебя станут спрашивать в отряде о старшине, от себя ничего не прибавляй. Говори то, что видела, чему была свидетелем». Тогда внимание девушки не задержалось на этих словах, а тут они высветились в памяти. Не зря предупреждал дядя Миша, спрашивают ее, ей надо отвечать.
Что?
Когда старшина маму ударил, криком грозным погнал Галю по деревне, стрельнул из автомата над самым ухом, а она извивалась, укусила его — в ней была только ненависть. На радиста кричал, с ног его сбивал. Все так и было. Но было и другое. Они с Неплюевым спали, а он сторожил. На всем протяжении этого долгого перехода. Только и соснул на той поляне, когда вдруг побрился, рассказал ей страшную историю из фронтовой жизни о погибшем взводе засады. Теперь Галя оказалась среди партизан, добрались они наконец до базы, теперь она, собственно, в безопасности. Переход, ожидание худшего остались позади. На расстоянии многое по-иному видится. Галя всмотрелась. Увидела решимость на лице старшины в тот момент, когда ждали они темноты вблизи большака, когда разбирались немцы в цепь, чтобы прочесать местность. Он ее спасал. Советовал откреститься от них в случае чего, сославшись на историю, которую они придумали с дядей Мишей. О том, что ее взяли из дома силой. Ее он спасал, о другом в тот момент не думал. На расстоянии этот маленький эпизод заслонил все остальное. На расстоянии Галя поняла, что действовал старшина так, как они и договаривались с дядей Мишей. Дядя Миша инструктировал разведчика на глазах и у нее, и у Саньки Борина. Слышала она те слова, а смысл дошел до нее только что. И старшину увидела Галя, и себя, и все, что было, но увидела как бы со стороны. Она подумала, подумала, сказала «да». То есть верит она, что старшина от своих пришел.
Девушка ушла, Грязнов не мог решить для себя, как быть. С одной стороны — помощь фронту ждут давно. С другой — слепая вера обмануть может. Без проверки тоже нельзя. Если старшина тот, за кого себя выдает, тогда он выдержит. Каждому человеку неприятно проходить проверки, но он должен понять необходимость подобного шага. Немцы каких только уловок не устраивали, чтобы проникнуть в бригаду, уничтожить партизан. Лжепартизаны объявлялись в районе. Большого труда стоило их выследить, обезвредить, предать суду тех, кто в живых остался. Появлялись в районе специальные группы НКВД, идущие якобы от фронта в немецкий тыл. Потом выяснялось, что группы ложные, созданы и направлены в лес гитлеровцами. Пытались проникнуть к партизанам одиночки. Под видом беженцев, связных из других отрядов. Предпринимались попытки не только навести карателей, но и отравить воду, пищу. Рассказ старшины, правда, подтвердился, немцы действительно охотятся за разведчиками где-то в Шагорских болотах, но проверка необходима, могла быть подмена.
Грязнов зашел за Моховым, отправились они к старшине. Еще раз, выслушать рассказ, но более всего присмотреться.
Старшина стоял у окна. Несмотря на ранний час, на то, что в землянке оставалось сумрачно, Грязнов глянул на Колосова, узнал его. Вспомнил. Деревню Вожжино, то, как в расположении их дивизии вышли из окружения бойцы под командованием младшего лейтенанта.
Два года минуло с той встречи. Два года войны, потерь, жестокой учебы. О многом передумалось Грязнову за это время. Многое увиделось не так, как тогда, когда он, политработник, силою обстоятельств на короткий срок стал начальником особого отдела дивизии. Тогда, например, Грязнов был глубоко убежден, что отступление только трусость, что во всех случаях военные люди должны проявлять стойкость, о которую в свой черед должны разбиться тщетные потуги фашистских орд, решивших завоевать нашу землю, покорить наш народ. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Слова песни воспринимались как девиз, как готовность покончить с врагом одним ударом, воевать, наступая. А тут клещи, охваты, окружения, отступление по всему театру военных действий. В нем столкнулись тогда готовность к самопожертвованию и действительность, которая никак не укладывалась в рамки выработанных с годами представлений о предстоящей войне. Тут встреча с оборванными, истощенными бойцами под командованием какого-то младшего лейтенанта. Тогда казалось, что поступает он единственно верно. Тогда он еще не понимал, что вернуться в строй тоже подвиг, который чуть позже приведет к мощному контрнаступлению под Ельней, к разгрому гитлеровцев под Москвой.
Теперь Грязнов не только по-иному видел, оценивал события сорок первого года, по-иному он относился к людям, пережившим то отчаянное время. Память комиссара цепко держала героическое и трагическое, все, что выпало на их долю.
Деревня Вожжино раскинулась на возвышении возле небольшой речушки, бег которой был означен раскидистыми ветлами. Речушка подтачивала берег, круто отворачивала в сторону, бежала равнинным лугом, ныряла, пропадая из виду, в темный еловый бор. На противоположном от деревни берегу по лугу стелилась дорога. Дорога тоже скрывалась в лесу напротив. Дни стояли безветренные, солнечные. Донимала жара, пыль, но более всего беспокойные мысли о положении на фронте, недоумение по поводу отступлений, о которых скупо сообщалось в сводках Совинформбюро.
О своем приближении немцы объявили налетом бомбардировщиков на деревню Вожжино, ее окрестности, на лес, в котором расположился штаб дивизии. Немецкие самолеты появились ранним утром. Солнце не успело разогнать темень из потаенных уголков на земле, оно лишь высветило небо. На фоне освещенного неба хорошо были видны очертания бомбардировщиков с раздвоенными хвостами, слышался характерный для немецких машин прерывистый с подвыванием гул. Самолеты пролетели над деревней, развернулись, образуя круг, устремились к земле, нацеливаясь на дома. Видно было, как от машин отделялись бомбы. Бомбы неслись к земле вровень с машинами, но самолеты выходили из пике, взмывали вверх, бомбы пропадали из виду, в тот же миг взрывы поднимали землю, разбрасывали бревна, на каждый удар земля отзывалась всплеском. Многие дома занялись пожаром. Дым с пылью стал заслонять солнце.
Прошло около двадцати минут. От деревни, казалось, не осталось и дома. На смену одним самолетам прилетели другие. Бомбежка продолжалась.
Немецкие летчики расширили площадь бомбометания. Бомбили берег реки, те окопы, что успели отрыть бойцы, готовясь к обороне, немногие зенитные орудия, что вели и вели огонь по пикирующим бомбардировщикам. Часть истребителей из тех, что прикрывали бомбардировщики сверху, тоже ринулась к земле. Длинноносые «мессеры» проносились на больших скоростях, били из пулеметов по всей линии обороны, по зенитчикам, свечой взмывали вверх, разворачивались вновь и вновь неслись к земле.
Буквально накануне бомбежки штаб дивизии перебрался из деревни в лес. По этой причине Грязнов наблюдал налет немецких самолетов с окраины леса. Он стоял, вжавшись спиной в ствол корявой березы, сжимая в руке рукоятку пистолета, думая о безнаказанности немецких летчиков, досадуя на зенитчиков, на то, что сбить им удалось один самолет. Досада брала Грязнова и оттого, что мало ответного огня было с земли. Стрелять по самолетам должен был каждый боец, лежа, со спины, как о том и говорилось в наставлениях, а этого Грязнов и не видел. В слепой досаде он не заметил, как самолеты сместились к лесу, закружили, выбирая цель, чтобы в тот же миг устремиться к земле. Грязнов услышал нарастающий вой, вскинул голову, поборов желание спрятать ее от этого воя, увидел ветви, проблески сини, косые полосы, лучей, проколовшие крону. В тот же миг ударила по ногам земля. В тот же миг потемнело в глазах. На какое-то время он потерял сознание. Потому что, когда очнулся, вновь стал видеть, определил, что лежит в траве, в стороне от дерева, под которым только что стоял. Отвратительно пахло кислым. В горле застрял ком. Этот ком мешал дышать. Грязнов открывал и закрывал рот, не мог протолкнуть воздух в легкие, ощущал острую боль в ушах. Рядом раздался еще один взрыв. Снова его крутануло по траве. В легкие ворвался воздух. Он глубоко вздохнул, закашлялся, пытался встать. Земля закружилась, поднялась, он уперся в нее ладонями. Пополз к деревьям. Скатился в щель.
Отдышавшись, Грязнов обнаружил потерю. Не оказалось пистолета. Причем в первый момент он удивился не факту потери личного оружия, без которого и рядового бойца не примут в медсанбат, если до того дело дойдет, удивился своему отношению к факту потери. Не всполошился, не озаботился. Подумал об этом вяло, как о чем-то незначительном.
Над щелью в это время тенью пронесся воющий истребитель. Грязнова осыпало песком. Земля передала телу резкие удары. Он схватился за пустую кобуру, только тогда полностью осознал потерю. Озлобился. В злобе выскочил из щели, побежал, пригибаясь к опушке, стал шарить в траве в поисках потери. Ему повезло, пистолет лежал возле березы, возле которой он стоял, досадуя на недостаточность ответного огня. Послышался гул приближающегося самолета. Грязнов бросился к березе, вжался в ее ствол. Отметил про себя, что боль в ушах отпустила, сознание заработало более четко. Увидел посыльного. Окликнул его. Посыльный сообщил о вызове в штаб.
Та бомбежка явилась началом последующих атак немцев. Грязнов до сих пор помнил оголтелость, другого слова он не находил, с которой гитлеровцы лезли и лезли на позиции дивизии.
Первые атаки он не видел. В тыл дивизии немцы выбросили десант, пришлось собирать людей, блокировать рощу, десантников, пришлось самому вести нелегкий бой. Когда вернулся в штаб, день клонился к закату. Немцы не прекращали атак. Они уже достаточно изучили оборону дивизии, давили огнем каждый очаг сопротивления, лезли под прикрытием танков, с мощной огневой поддержкой, постоянно вызывали авиацию.
Правый фланг дивизии надежно прикрывали болота, из которых вытекала безымянная речка, огибавшая деревню Вожжино. С правого фланга немцы не лезли. С утра они предприняли несколько лобовых атак на деревню, но когда все их атаки сорвались, усилили давление на левый фланг, где теперь и решался исход боя.
Обо всем этом Грязнов узнал по возвращении в штаб. Он узнал, что за неполный день дивизия потеряла треть личного состава, погибли или были ранены многие командиры, немцам удалось значительно ослабить огневую мощь дивизии. В такой обстановке он получил приказ заменить погибшего командира полка на правом фланге, то есть там, где немцы лезли менее всего. «Полк готовится к контрудару, — сказал комдив, — приказ этот остается в силе».
К штабу полка Грязнов добирался лесом. За то время, что потратил он на организацию поиска, уничтожение вражеского десанта, лес обстреливали и бомбили гитлеровцы, земля в лесу оказалась изрытой большими и малыми воронками. Многие деревья стояли без вершин. Некоторые вовсе были вырваны. Стволы иссечены осколками. Развороченные взрывами пни рогатились рваными корневищами. Продираться сквозь эдакий бурелом было трудно и по той причине, что в воздухе раздавался щемящий душу вой летящих снарядов, приходилось бросаться на землю, выискивая укрытие.
Добравшись до штаба полка, Грязнов увидел все тот же покореженный лес, развороченные взрывами землянки, бойцов, растаскивающих бревна, извлекающих из-под этих бревен мертвых людей, остатки тел, обрывки карт, документы, в том числе с грифом «секретно». Возле разбитых землянок, в ряд, на общей подстилке из плащ-палаток лежали тела тех, кого уже удалось вытащить из-под обломков. Командира полка узнали по форме. Голову ему раздавило, тело оказалось без ног. Пожилой боец стал было приставлять к телу командира полка ногу, обутую в ботинок, полулежащий возле погибших, старший лейтенант зло обругал бойца. «Ты чего примериваешь, идиот, это не его нога. Ищи с хромовым сапогом!» Старший лейтенант закрыл глаза, застонал, смачно выругался. Левая рука и грудь у старшего лейтенанта были перевязаны. Сквозь бинты проступала кровь.
Старший лейтенант оказался комбатом. Он сказал Грязнову, что погибли многие командиры. Сказал, что приказ о контрнаступлении они получили, назначено оно на утро. Сообщил и о том, что группа бойцов ушла в разведку с целью нащупать путь в немецкий тыл по тому болоту, которое подпирает фронт обороны полка справа. Если разведчики смогут провести по болоту хотя бы роту, на что и надеялся погибший командир полка, тогда можно было бы шурануть немцев с тыла. В противном случае их едва ли сдвинешь, огня у немцев в избытке. Людей положить положишь, задачи не выполнишь.
В такой обстановке Грязнов принял полк.
Подошли санитары. Уложили раненого на носилки. Грязнов спросил, кто повел людей в разведку, когда они должны вернуться. «Какой-то младший лейтенант, на «р» фамилия, — сказал комбат. — Вернуться должны через два часа. Если обнаружат проход, посылай с ними роту Ковтуна из моего батальона, такая у нас была договоренность со штабом. Хорошая рота, опытный командир. Будь здоров», — совсем уже глухо произнес раненый, и его унесли. Грязнов знал разведчиков и дивизионных, и полковых, фамилии на «р» вспомнить не мог. Мысль о разведчиках не давала ему покоя, он спросил о них лейтенанта Пустовалова, единственного из штабных работников, оставшегося в живых. Пустовалов разведчиков знал, назвал фамилию Речкина. Такой фамилии Грязнов тоже вспомнить не мог, как не мог вспомнить фамилии раненого комбата, хотя лицо его, испещренное оспой, знал и помнил.
Отдав необходимые распоряжения, оставив за себя Пустовалова, наказав лейтенанту во что бы то ни стало восстановить связь, Грязнов отправился на позиции. На окраине березовой рощи с подстилкой из белого мха задержался у артиллеристов. Оттуда хорошо просматривался противоположный низкий берег, заболоченный в кочках луг, заросли кустарника, за ними лес. На лугу чернели два немецких танка, десятка полтора убитых немцев. Всюду виделись воронки. На зеленом чернели следы танковых гусениц. Оба танка осели в землю. Грунт рыхлый, танки могут проскакивать эти торфяники только на скорости, отметил про себя Грязнов. Начальник полковой артиллерии сказал о том же. Немцы предприняли всего две атаки на позиции полка, потеряв две машины, отошли, бой принял характер дуэли. Немцы обстреливают позиции батальонов, снарядов они не жалеют, в ответ приходится стрелять с оглядкой, поскольку снаряды на счету.
От артиллеристов до окопов Грязнов добирался ползком. Добрался без происшествий. Попал в роту Ковтуна, о котором говорил ему раненый комбат. Только тут он вспомнил фамилию младшего лейтенанта, ушедшего в разведку, вспомнил, что Речкин тот самый окруженец, который три дня назад вывел людей в расположение их дивизии.
Командир роты объяснял обстановку, но что он тогда говорил, теперь уже, по прошествии двух лет, он не помнил. Память сохранила отдельные фразы, некоторые события, состояние крайнего беспокойства, которое овладело им при воспоминании о младшем лейтенанте.
Позже Грязнов не раз подумает о том, что война богата на неожиданности, тут уж как повезет. К тому времени, когда ему в срочном порядке пришлось принять на себя командование полком, он полторы недели возглавлял особый отдел дивизии. Но и за это время ему пришлось вылавливать и допрашивать немецких агентов, он сталкивался с фактами, когда немцы засылали лазутчиков под видом беженцев, окруженцев. О подобных фактах говорилось в грозных «исходящих», которые он получал. А тут Грязнов узнал, что какого-то окруженца услали на выполнение особо важного задания, доверив не только исход контрнаступления, но и судьбу полка, а может быть, и дивизии. Было отчего обеспокоиться Грязнову. Во-первых, он должен был ослабить участок обороны, сняв роту Ковтуна, во-вторых, роту эту он должен был отправить с окруженцем. По прошествии времени Грязнов помнил, как всячески предупреждал Ковтуна, как договаривались они о сигналах, если рота окажется в ловушке. В целом план предшественника тогда Грязнову понравился. Он не принимал слепой веры в окруженца. Ковтун же со своей стороны сказал, что присутствовал при разговоре командира полка с младшим лейтенантом, Речкин ему понравился, мужик он, судя по разговору, серьезный. Ковтун припомнил фразу, которую произнес командир полка. Речкин вроде бы отказывался от задания, говорил что-то о доверии, но командир полка перебил его. «Ваш самоотвод отклоняю, здесь не собрание, — резко сказал он младшему лейтенанту, — вы столько верст под немцем отмерили, у вас опыт, выполняйте приказ!»
Разговор с Ковтуном прервал очередной артналет. Закашляли мины. Они шлепались рядом с окопами, рвались на бруствере. Взвыли калибры покрупнее. Снаряды тоже ложились рядом. Немцы долбили и долбили позиции батальона, окатывая людей потоками песка, торфяной крошки, швыряя и швыряя комья земли. Поднятая в воздух масса земли заслонила солнце, казалось, наступили сумерки. До сумерек, однако, оставалось часа полтора. За это время Грязнову предстояло обойти батальоны, вернуться в штаб, еще и еще раз обдумать предстоящий контрудар, который он не мог ни отменить, ни перенести на другой час. Его прислали затем, чтобы он довел то, что уже было начато, к чему шла подготовка.
В темноте, вернувшись в штаб полка, Грязнов разговаривал по телефону с комдивом. Телефонная связь к тому времени была восстановлена не только с батальонами, но и со штабом дивизии. Грязнов поделился было своими сомнениями с комдивом, тот оборвал на полуслове. «Ты там не мудри, — сказал комдив, — заверши то, что начато».
К полуночи вернулся Речкин со своими людьми. Он вошел в землянку мокрый с ног до головы. Узнал Грязнова. На миг смутился. Доложил четко по всей форме. Лицо младшего лейтенанта, черное от недостатка света чадно коптящей коптилки, от торфяной крошки, словно бы закаменело. Грязнов почувствовал, в каком напряжении находится Речкин. Но и в тот миг сомнения не оставили его. Грязнову хватило такта не выдать, не высказать свои сомнения. Он принял доклад младшего лейтенанта, дал Речкину и его людям час на отдых. Передал условный сигнал Ковтуну, по которому тот должен был выводить свою роту на исходные позиции.
В темени Речкин увел роту Ковтуна в болото. Грязнов ждал рассвета, начала атаки, сигнала от Ковтуна. По плану, как только командир роты доберется до немецких позиций, он должен был обозначить себя двумя красными ракетами. Если, конечно, как предупредил Грязнов Ковтуна, не произойдет провокация. Помнил Грязнов, как вскинулся всплесками земли луг за рекой, мощный ответный немецкий огонь, как залегли под этим огнем люди. Помнил потери. Неимоверную радость при виде вспыхнувших в рассветном небе двух красных ракет.
Контратака удалась. Немцы не только перестали давить на левый фланг дивизии, сами перешли к обороне. Вскоре и вовсе установилось затишье.
Позже было окружение, выход из окружения с тяжелейшими боями. Бои под Ельней. Бои под Москвой. Не забывалось Грязнову то обстоятельство, что во всех последующих боях на людей, выдержавших испытания в сорок первом году, всегда и во всем можно было положиться. Именно по этой причине в сорок втором году, дав согласие работать в тылу врага, отправляясь в партизанскую бригаду «За Родину!», Грязнов отобрал в свою группу бойцов — участников нелегких боев сорок первого года, бывших окруженцев, битых, но не сдавшихся, и еще не было случая, чтобы они его подвели.
— Ты? — спросил комиссар, вглядываясь в лицо старшины, не до конца веря в возможность такой встречи. Слишком много людей погибло за два года войны.
— Я, — ответил Колосов, чувствуя, как неприятно заныло в груди.
— Помнишь?
— Как не помнить, — отозвался Колосов, — я вас, товарищ капитан, до конца дней своих запомнил.
Начальник штаба насторожился. Он открыл планшетку в готовности достать трофейный блокнот, теперь не знал, что делать. И комиссар, и старшина, похоже, знали друг друга.
— Жив, значит? — спросил Грязнов.
— Так точно, товарищ капитан, — ответил Колосов.
Ответил с вызовом. Вспомнилась встреча в деревне Вожжино. Как на фотографии увиделось. Особенно глаза капитана, черные, вроде как без дна…
— Слышь, Олег Николаевич, точно говорит, войну я встретил в звании капитана.
Слова Грязнова относились к начальнику штаба Мохову, а на Колосова комиссар партизанской бригады смотрел и вроде как насмотреться не мог.
Вдруг улыбнулся. Самому себе. Уголками жестких губ.
Грязнов вдруг вспомнил, как разыскивал этого старшину и его командира в сорок втором году. Запомнил он обоих с сорок первого года, с тех боев под деревней Вожжино, помнил, как воевали оба в последующих сражениях за Москву, вот и хотел взять с собой в партизанский край. Помнил, как пришли объективки и на одного, и на другого. В объективках сообщалось, что оба они служили во фронтовой разведке, награждены боевыми орденами.
Правда, ни этого старшину, ни его командира, кажется Речкина, Грязнов так и не получил. Видимо, их высоко ценили. Потому и не отдали.
— Мы с этим старшиной, — кивнул Грязнов на Колосова, — из одной чаши горечь сорок первого года пили.
Колосов не понял. Не знал, что ждать от этих слов, от улыбки, от этой встречи. О горечи капитан сказал точно, тогда всем досталось, хлебнули полной чашей.
— А дурного не помни, старшина. За своего командира прости.
Капитан смотрел твердо. Глаза были, точно, все те же. Почти. По цвету. По ощущению, что в них нет дна. Правда, и усталость проглядывала.
Колосов протянул руку. Капитан крепко пожал ее.
— О своем командире знаешь что?
— Вместе шли сюда, товарищ капитан, — сказал Колосов. Сказал и сник, подумав о ранении Речкина.
— Вон оно что, — отозвался Грязнов.
Мохов убрал планшетку. Он понял, что записывать и сверять рассказ старшины не придется.
— Радист давно в вашей группе? — спросил Грязнов.
— В первом поиске, — сказал Колосов.
— Как же ты все-таки провел его к нам?
В голосе Грязнова Колосов уловил сочувствие.
— Не знаю, товарищ капитан, — сказал он. — Надо было провести.
— Да, да, — подтвердил Грязнов, думая о чем-то. — Пойдем к комбригу, — предложил он, — искать надо твоего лейтенанта.
Втроем они и вернулись к Солдатову. Впереди Грязнов, за ним — Колосов, за старшиной — начальник штаба. Солдатов что-то понял по лицу Грязнова. По улыбке на лице Грязнова, с которой тот вошел в землянку.
— Я так понимаю, что обошлось без проверки? — спросил Солдатов.
— Так точно, Анатолий Евгеньевич, — доложил Грязнов. — Старшина проверенный-перепроверенный. Мы с ним вместе воевали. Под Смоленском, под Ельней, под Москвой. И командира я его знаю. Того, что остался с группой.
Солдатов облегченно вздохнул.
— Садись, старшина, — пригласил он Колосова, — вместе подумаем.
— Радист жив? — спросил Колосов.
— Жив, жив, — ответил Солдатов. — Доктор у нас хороший, сделает все, что сможет.
Грязнов расстелил на столе карту района.
— Прежде всего надо уточнить твой маршрут, старшина, — кивнул он на карту. — Шел ты, судя по твоему рассказу, берегом Соти. Немцы там большие работы ведут.
— Потому так долго и шел, — объяснил Колосов. — Каждый раз, когда встречался с ними, приходилось давать крюка. Пес, правда, выручал. Приблудный. Далеко немцев чуял.
— Где оставил своего лейтенанта?
Колосов всмотрелся в карту. Нашел тот овраг, на дне которого протекал ручей, превратившийся в шумливый поток после ночного ливня. Ему показалось, что он увидел те заросли, ту ель, под которой разведчики выкопали тайник для него и для Неплюева, укрыли их в этом тайнике, а сами ушли, уводя за собой немцев.
— Здесь мы остались с радистом, — уверенно показал он точку на карте.
Сверили маршрут. Старшина подробнейшим образом доложил, где и что видел, на каких участках встречался с немцами.
— Группа ушла в сторону Шагорских болот? — спросил Грязнов, возвращаясь к началу разговора.
— Так точно, — подтвердил Колосов. — Дали последнюю радиограмму, замаскировали нас, пошли в сторону болота.
— Где те немцы, что с Шернером пришли? — спросил Грязнов у Мохова.
— Спят, наверное, — сказал Мохов.
— Надо бы позвать, — предложил Грязнов.
Мохов ушел за немцами, о которых Колосов слышал впервые.
Солдатов и Грязнов продолжали разговор между собой, прикидывая, где, в какой точке Шагорских болот могли укрыться разведчики. Колосов слушал молча. Он вдруг почувствовал, как затихают голоса комбрига и комиссара. Их слова доносились до Колосова словно издали. Глохли другие звуки, те, что слышались снаружи. Старшина заметил странное затухание звуков, насторожился. Что-то с ним происходило. На миг увидел себя и Неплюева вместе, но отчетливее себя, в тот момент, когда после напряженного ожидания ухода гитлеровцев они выбрались из тайника, дождались рассвета, когда понял старшина, что радист не в себе. Вспомнилось отчаяние, желание избить Неплюева, отрешенность радиста, которая и укротила Колосова. Увиделось, тут же сменилось безразличием. Показалось, что преодолел он какую-то невидимую грань, за которой пропадают желания в чем-то разобраться, что-то понять.
На войне нет легкой работы, на войне долог каждый шаг. Даже тогда, когда бежишь под огнем, стремясь достичь мертвой зоны. Однако каждый раз, когда Колосову приходилось бежать или тайно пробираться, думая лишь о том, чтобы неосторожным вздохом не выдать себя, возвращаясь, он анализировал каждый свой шаг. Такой анализ, как считал Колосов, ношу не облегчал, но увеличивал шансы остаться в живых.
В землянке, один на один со своими думами, он еще пытался что-то вспомнить. То, как натыкались они на немцев и приходилось валить Неплюева с ног, тащить его в сторону, прикрываясь зарослями. Затыкать ему кляпом рот, чтобы, не дай бог, радист не мог пикнуть. То, как долго и трудно искал брод через Соть. Как обходили минные поля. Шли, ползли, бежали. Через то поле у дороги, когда увиделся наконец завершающий этап этого трудного пути. Анализа не получилось. Другие мысли заслоняли все остальные: его должны были еще проверять, уходило время, а где-то в болоте схоронились ребята, с ними раненый лейтенант Речкин.
Теперь, кажется, что-то прояснилось. Теперь можно надеяться на помощь. И все же думается об этом вяло, как-то нехотя, по мере того как отдаляются звуки, глаза застит туманом.
— Что с тобой, старшина?
Колосов почувствовал на своем плече руку. Рука с силой встряхнула старшину.
— А? Что?
— На тебе лица нет, — сказал Грязнов.
Солдатов протягивал кружку с водой.
Колосова окатило чем-то горячим. Изнутри. Так показалось. Запылали щеки, жарко разгорелись уши, во рту он ощутил такую сухость, что тут же вцепился в кружку с водой, выпил ее одним махом.
— Ребят надо выручать, товарищ капитан, — глухо произнес Колосов, обращаясь по-прежнему только к комиссару, называя его по-старому, как в сорок первом году, когда тот носил по одной рубиновой шпале в петлицах.
— Мы об этом и говорим, старшина, — сказал Грязнов. — Тебе плохо?
— Вызвать врача? — обеспокоенно спросил Солдатов.
— Пустое, — отозвался Колосов. — Проходит.
Солдатов переглянулся с Грязновым.
— Отложим разговор, комиссар, — предложил Солдатов. — Старшине надо отдохнуть. Нервное перенапряжение — это бывает.
— Нет, нет, — заторопился Колосов, — отдохну потом. Я двужильный, товарищ капитан, выдюжу. Наехало и прокатило, пройдет.
Колосов сжал зубы так, что на скулах взбугрились желваки. Глянул на руки. Пальцы мелко подрагивали. Противную дрожь, как при ознобе, он ощутил в ногах.
— Я дойду, товарищ капитан, ребят найду, если живы.
Старшина вспомнил, как тащили его ребята вместе с «языком», когда он больной ушел в тыл к немцам, а выйти на своих двоих не хватило сил, как тогда же Речкин пригрозил ему за то, что он скрыл недомогание. Но тут он почувствовал, что слабость действительно прошла, он выдержит переход, и не один. За своими пойдет, за товарищами, с которыми все и всегда поровну. И войны, и судьбы.
— Решено, товарищ капитан, пойду, — упрямо произнес Колосов. Он встал, качнулся с пяток на мыски, пробуя силу, показывая, что крепко стоит на ногах.
— Чтобы идти, надо знать хотя бы минимальное: куда? — достаточно твердо сказал Грязнов.
— Как куда? — спросил Колосов. — На то место, где расстались. Своих я по следам отыщу как-нибудь.
— Как-нибудь у нас не принято, — строго произнес Солдатов.
Колосов не знал, что ответить. В данный конкретный момент ему необходимо было действие, он не мог ждать.
Дверь в землянку открылась, вошел Мохов, с ним двое. Эти двое оказались действительно немцами, они ни слова не понимали по-русски. Переводчиком был Мохов.
Бургель сказал, что о разведчиках слышал, блокированы они в Шагорских болотах, но где — сообщить не может, поскольку лично через него ни одного документа не проходило.
— Шагорские болота на двадцать верст с гаком, — вздохнул Солдатов, услышав перевод Мохова.
Фриц Иблер оказался более сведущим. Он сказал, что смог бы указать место на карте, где, по его мнению, блокированы разведчики. Солдатов разрешил воспользоваться трофейной картой. «Сообщения о русских разведчиках поступили в комендатуру из соседнего Овчинниковского района, — перевел Мохов слова Иблера. — Вначале русских преследовали объединенными силами оперативных отрядов двух комендатур. Потом для этой цели была выделена группа из состава сто сорок третьей пехотной дивизии, дислоцированной в Глуховске. По последним данным, разведчики находятся примерно здесь».
Иблер взял карандаш, кружком отметил место на карте, где могли быть разведчики, куда были направлены силы преследования.
— Снова Ольховка, — вздохнул Солдатов.
— Не совсем, — сказал Грязнов. — Рядом, но это не в Ольховке.
Колосову странно было слышать немецкую речь, видеть немцев. «Своих немцев», — как предупредил его Грязнов.
Оба немца были похожи друг на друга. Оба приземистые, белокурые, спортивно-крепкие. До этого Колосову приходилось видеть пленных немцев, «языков», которых они добывали. В форме, большей частью растерянных или озлобленных тем, что их застигли врасплох, подловили, скрутили, уволокли. Эти тоже выглядели не совсем естественно. Казались скованными, смущенными. Оттого, что очутились среди партизан, о которых, надо думать, много слышали, рассудил Колосов, от необычности обстановки. Они конечно же первый раз видят партизанскую землянку, уверенных людей, о которых даже приказы немецкого командования не выходят без злобных, ругательных эпитетов. Приглядываясь к немцам, Колосов отметил, что оба добровольных помощника неведомого ему Шернера уже одеты в обыкновенные гражданские пиджаки, из формы на них остались лишь брюки да сапоги. Подобное переодевание старшина тоже понял. Немцам ни в коем случае нельзя оставаться в своей форме среди партизан. Тут каждый недогляд может обернуться трагедией, как это случилось с Неплюевым.
— А ты говоришь, идти надо, — донесся до Колосова голос Грязнова.
Старшина понял, что комиссар обращается к нему.
— И что? — спросил он.
— То, что каратели блокировали район, где укрылись твои товарищи. Отряд карателей усилен солдатами сто сорок третьей пехотной дивизии, — ответил Грязнов.
Старшина задумался, но лишь на мгновение. Необходимость хоть какого-то действия заставляла искать выход.
— Мне бы парочку надежных ребят, товарищ капитан, — попросил Колосов. — Большой группой не пройти, а втроем мы бы пробрались.
— Задача не в том, чтобы пробраться. Твои разведчики должны быть здесь, у нас, вместе с командиром, — твердо произнес Солдатов.
— Придется ждать, — не менее твердо заключил Грязнов.
— Чего? — спросил Колосов.
— В Ольховку послан конный отряд, — объяснил Грязнов. — Дождемся его возвращения, тогда решим, что предпринять дальше. Конники должны вернуться с часу на час.
Старшина понял, что разговор окончен. Он вышел из землянки, огляделся. Над землянкой нависла большая ель. Большие деревья прикрывали другие землянки, даже коновязи были сделаны под кронами, сверху их не разглядеть. В зелени густого орешника виделись глубокие щели. На базе оказалось людно. Он увидел женщин, детей. В партизанском лесу паслись коровы.
Приметив толстый пень, Колосов направился к нему, сел на потемневший срез. Набрал в легкие воздуха, как перед прыжком в воду, протяжно с шумом выдохнул. «Повезло, можно сказать, — запоздало подумал старшина, вспомнив ожидание худшего при встрече с Грязновым, — видать, и впрямь в рубашке родился». После каждой критической ситуации, а их было немало, Колосов вспоминает слова матери о том, что родился он в рубашке, а раз так, то и жить должен долго, и счастье не обойдет его стороной. На войне счастье в везении. Пока ему везет. Два года бережет его судьба. Оберегла под Минском, когда держали оборону в старом доте, жив остался, в плен не попал. Оберегла под Ельней в рукопашной схватке, когда отчетливо увиделось лицо смерти. Сколько раз он сходился с немцами накоротке, сколько «языков» перетаскал, а запомнил только того немца, когда смерть оказалась видимой.
Колосов отчетливо помнит, как ворвались они тогда в окопы. Первую линию траншей взяли на одном дыхании, в дыму, ворвавшись в нее вслед за огневым валом. Частично перемешались с немцами во второй линии. Увязли в третьей.
Рвались гранаты, дробно били автоматы, хлопали винтовочные выстрелы. Справа, слева, спереди и сзади слышался хрип, мат, стон, гул, похожий и на мычание, и на придушенный крик боли одновременно, свойственный только этим коротким, смертоносным схваткам. В дыму, в огне глаза выхватывали серо-зеленый цвет немецкой формы, каски с рожками, автоматы с рожками, все то, что принадлежит врагу, которого надо бить и колоть. Не упустить мгновения. Первому бросить гранату. Броситься самому. Сблизиться так, чтобы не оказаться прошитым автоматной очередью. Чтобы не немец, а ты первым дотянулся до него. Для удара штыком, прикладом. Скорее, скорее. Вперед и вперед.
Всего на мгновение застрял Колосов во второй линии. Он бежал по ходу сообщения. Из-за поворота, тоже бегом выскочил немец. Обыкновенный немец в куртке, в каске, с автоматом в руках. Колосов среагировал первым. Ткнул немца штыком. Штык прошел мимо. Каким-то чудом немцу удалось уклониться от удара, он вжался в стенку хода сообщения. По инерции стал падать на Колосова. Сначала боком, потом вывернулся. Автоматом плашмя уперся в старшину, стараясь оттолкнуться, чуть довернуть ствол, нажать на спуск. Колосов успел откинуть винтовку. Левой рукой ухватился за автомат, не давая немцу возможности отвернуть ствол. Правой ударил, попал в нос, из которого брызнула кровь. Навалился на немца всем телом. Валил его, стараясь ухватить за горло. Вцепился в горло двумя руками, охватывая шею словно клещами, сдавливая большими пальцами кадык. Оба свалились в конце концов на дно траншеи. Колосов оказался сверху. Он додавил немца, тот в последний раз дернулся и затих.
В тот же миг осыпалась земля. Одновременно Колосов сделал два движения. Он дотянулся до винтовки и обернулся. На бруствере стоял еще один немец. Он, видимо, бежал. Видимо, он остановился внезапно. Заметил старшину. Того немца, которого только что задушил Колосов. Видимо, он промедлил выстрелить, опасаясь очередью задеть своего, того, что уже лежал бездыханным. Эта видимость придет к Колосову после боя. В тот момент взгляд старшины сфотографировал немца, сознание подсказало, что это конец. Он безоружен. Не успел встать. Ему не броситься в сторону. Не уклониться. Он не успеет поднять винтовку, перезарядить ее, выстрелить.
Круглое лицо немца заросло щетиной. Перемазалось землей и копотью. Немец оскалился. От бега. От нехватки воздуха. От желания самому убить и выжить. Колосов увидел полуоткрытый рот, редкие, с желтизной, зубы заядлого курильщика. Немец рывком довел ствол автомата, нацелил его в грудь Колосову, нажал на спуск. Старшина увидел, как затрясся ствол, выплевывая огонь, услышал дробный стук, но не почувствовал удара. Очередь лишь задела бруствер, возносясь все выше и выше. Задирался кверху ствол автомата. Старшина увидел, что немец падает. Сначала на спину. Потом скособочился. Падал боком, все более разворачиваясь, продолжая стрелять.
Колосов поднялся рывком, рывком выскочил на бруствер. Немец лежал на животе, придавив умолкнувший автомат. Спина его оказалась «взлохмаченной», в крови, иссеченной осколками. Старшина понял, что немца достал кто-то из бойцов гранатой. Граната взорвалась за спиной у этого немца в тот момент, когда немец был готов прикончить старшину.
Ни тогда, ни после у Колосова не было подобной четкой видимости лиц врагов. Его убивали, он убивал. В лица, однако, не вглядывался. В него стреляли, он стрелял. Сходился с немцами на удар ножа. Лиц все-таки не видел. Два долгих года он стрелял, колол, душил, резал того немца, лицо которого заслоняло остальные. Ему везло, он оставался в живых. Как тогда, под Ельней, а чуть позже под Москвой, когда морозная ночь, потеря сознания, крови не оставили ему ни одного шанса на то, чтобы выжить. Повезло и вовсе в безвыходном положении осенью сорок второго года, когда их группе дали задание уничтожить склад с боеприпасами. Тогда они чудом спаслись. От этого везения стало казаться, что слова матери о долгой и счастливой жизни пророческие, о таком исходе редко, но сладко думалось. Хотелось верить, что так это и произойдет.
— Ой! Чтой-то вы тут сидитя? — донеслось до Колосова.
То ли вопрос, то ли вскрик. Он понял, что рядом Галя. Узнал по голосу, по характерному ее говору, в котором выпирала буква «я». Старшина обернулся, девушка стояла рядом. В черной до пят юбке, в кофточке цветочками, в стареньких латаных туфельках. Прямая, открытая ветрам и солнцу. Вроде травинки на косогоре. «Вот и распрямилась», — подумал почему-то о ней Колосов, вспомнив ее сутулость возле сторожки лесника, чьи-то слова о том, что оккупация согнула, но не сломила людей, свои мысли о том, что тяжесть оккупации сбросить трудно, на это понадобятся годы. Галя очутилась среди своих, куда что делось. Во взгляде радость, изменилась осанка. То ли обстановка таким образом подействовала на нее, то ли молодость взяла свое, но перед Колосовым стоял совсем другой человек: радостный и приветливый.
— Отдохнула? — спросил он ее в свой черед.
— Ни, — ответила она.
Стала говорить быстро-быстро. О том, что отдыхать ей теперь и вовсе некогда. Теперь она помогает выхаживать раненых, среди которых есть «дюже тяжелые».
— Дядя где? — спросил Колосов.
— Дядя Миша? — переспросила девушка. — Он сразу ушел за мамой. Они в лесу схоронились. Все жители Малых Бродов. Там Санька Борин.
Тут же словно облако набежало, солнце затмило, лицо у девушки сделалось хмурым.
— Я от тети Нюры сейчас, — без всякого перехода сказала она.
— Какая тетя Нюра? — не понял Колосов.
— Та, что Степана выхаживает.
— Неплюева? — дошло наконец до старшины.
— Ну да.
— Ты сама-то его видела?
— Ни. Тетя Нюра говорит, что Степан поправится. Доктор здесь глуховский, он все-все знает.
Старшина вновь подумал о том, что сознание Неплюева вроде остановившихся часов, стрелки которых зафиксировали определенное время. Его сознание зафиксировало необходимость движения, потому он и пошел. Виноват в этом он, Колосов.
Вспомнились муки перехода. Слабо шевельнулась прежняя досада на радиста. Как угасающий костер, в котором дымно тлели немногие головешки. От удара Неплюев, конечно, отойдет, подумал Колосов, придет он в сознание. Вернется ли память — вот вопрос.
Старшина поймал себя на том, что как-то вяло думает он о Неплюеве, без прежней боли за него. Подобное произошло, видимо, оттого, что иные мысли занимали теперь Колосова. Где-то в Шагорских болотах укрылись ребята, с ними раненый Речкин. Разведчики, надо думать, надеются на помощь, а он отсиживается у партизан. Беспокойство за товарищей, за командира усиливалось, становилось вроде зубной боли, от которой и свет не мил. С Галей не хотелось разговаривать.
— Черныш не прибегал? — спросил он девушку просто так, лишь бы сказать хоть что-то.
— Ни, — ответила девушка.
Она хотела сказать еще что-то, но тут из зарослей вышел очень мирный, очень гражданский человек.
— Наш доктор, Викентий Васильевич Ханаев, — почему-то шепотом произнесла Галя.
Доктор подошел к ним, остановился, пристально посмотрел на девушку, перевел взгляд на старшину.
— Вы, надо полагать, и есть тот старшина, что привел к нам своего больного товарища?
Колосов кивнул, выдавил из себя нечленораздельный звук. Он всегда почему-то робел перед докторами.
— Пойдемте, голубчик, к комбригу, — пригласил доктор. — Там поговорим.
Одет был Ханаев в глаженый костюм. Как будто не в лесу он находился, а в городе. Под пиджаком виднелась жилетка. Доктор был сух, подвижен. Носил бородку клинышком. Пенсне в золотой оправе, с цепочкой, как у Антона Павловича Чехова на портретах, которые когда-то видел Колосов.
Доктор сказал и сразу пошел к землянке командира. Даже не обернулся. Настолько он был уверен в том, что Колосов последует за ним.
Немцев в землянке уже не было.
За столом сидело трое. Солдатов, Грязнов, Мохов. Все трое поднялись, едва увидев доктора.
— Что вы, право, — заговорил Ханаев, обращаясь к командирам не только не по-уставному, но как-то очень уж по-граждански. — Извините, что пришлось побеспокоить, но это необходимость.
Доктор сел в торце стола, приглашая и Колосова принять участие в разговоре.
— Я подумал о ваших словах, Олег Васильевич, — сказал врач, обращаясь к Грязнову. — Вы правы, нам крайне необходима связь. Нам необходим аэроплан, чтобы вновь наладить эвакуацию тяжелораненых. Это обстоятельство заставляет меня пойти на крайние меры.
— Вы имеете в виду радиста? — спросил Грязнов.
— Да, голубчик вы мой, да, — сказал доктор.
Колосов понял, что у Грязнова уже был разговор с Ханаевым, партизанский врач что-то приготовил для Неплюева.
— В каком он состоянии? — спросил Солдатов.
Колосов вновь понял, что вопрос относится к Неплюеву, комбриг спрашивает доктора о состоянии радиста.
— Состояние…
Доктор задумался.
Он сидел напротив единственного окна, Колосову хорошо было видно его лицо, то, как собирались морщинки на этом лице. Доктору, без сомнений, было далеко за семьдесят.
— Удар по голове был сильный, но черепные кости целы. Возможно кровоизлияние. Тем не менее… Есть у меня трофейный препарат… О нем писали немцы еще до войны, всячески рекламировали его, но это сильнодействующее средство. Оно может вывести больного из состояния забытья. На какое-то время вернет рассудок…
— И это хорошо, Викентий Васильевич, — бодро подхватил Солдатов. — Нам надо, чтобы он связался с фронтом, передал единственную радиограмму, принял ответ.
— Видите ли, Анатолий Евгеньевич, — не принял Ханаев бодрости комбрига. — Одно дело реклама, другое — практика. Нашумев, немцы тогда же стали замалчивать возможности препарата. Тогда же доходило до нас, что за первыми, успехами у некоторых больных начинались необратимые процессы. Можем ли мы заведомо пойти на это? Я понимаю — война, гибнут многие тысячи, но здесь, согласитесь, особая ситуация, да-с. Ради сиюминутной выгоды мы можем нанести человеческому организму непоправимый вред.
Ханаев замолчал, молчали и остальные участники разговора.
— И потом, — вдруг произнес Ханаев, — психика инструмент весьма тонкий, обращаться с ним надо крайне осторожно, а я даже не знаю истоков его заболевания. Был же толчок к проявлению заболевания.
Снова воцарилось молчание.
— Викентий Васильевич, нам крайне необходима связь.
Эту фразу произнес Грязнов. Этой фразой комиссар как бы разрешал сомнения Ханаева. Готов был разделить с доктором ответственность за последствия.
— Понимаю, голубчик, понимаю, — сказал Ханаев. — Потому и пришел за советом, потому захватил с собой этого молодого человека, — указал он на Колосова. — Знать хотя бы, отчего с ним такое произошло. Был же какой-то толчок.
После этой фразы все посмотрели на Колосова.
— Вспомните, голубчик, — попросил доктор. — Может быть, вам показалось что-то странным в поведении вашего товарища до того, как случилась с ним эта беда.
Колосов в который раз подумал о тайнике, о той яме на берегу оврага, в которой они отсиживались с Неплюевым, когда вся группа уводила за собой немцев в сторону Шагорских болот. Тяжелые были посиделки. Колосов тогда подумал, что можно сойти с ума. Одновременно вспоминалось и другое. Бег Неплюева по поляне, когда он выдал группу. Но этот бег был раньше, чем тайник. Выходит, и беда на радиста нагрянула раньше. Отчего?
Неожиданно Колосову вспомнилась переправа через Каменку. То, как добрались они до этой реки в надежде перебраться на правый берег, укрыться в большом лесном массиве.
Немцы отрезали им путь к реке, выставив оцепление. Начали преследование. Шли за разведчиками с собаками. Разведчики сделали засаду. Выбили собак. Потом оставили для прикрытия Женю Симагина. Пока Женя сдерживал немцев, пока шел бой, разведчики вопреки логике не стали удаляться от места стычки, схоронились рядом в небольшом овраге, пропустив тем самым немцев через себя. Сами вернулись к реке. Нашли лазейку в оцеплении. Проникли сквозь него. Подобрались к берегу. Увидели несколько лодок, небольшую дощатую пристань, часовых, которых предстояло снять. Слово нельзя было произнести вслух, так близко подобрались они к пристани, к часовым. Объяснялись условными знаками. Речкин показывал кому, что и как исполнять.
Разведчики ужами расползлись вдоль берега. Прикрывались кустами, кочками, неровностями почвы. Одновременно убрали трех немцев. Оставалось еще двое. Один — у входа на пристань, другой — на самой пристани. Тот другой стоял, опершись о перила, глядел через реку на противоположный берег, то ли задумавшись, то ли разглядывая что-то. Тот, что расположился у входа на пристань, сидел на обрубке бревна, закинув автомат за спину, разглядывая что-то у себя под ногами. К нему подобрался Леня Асмолов. Изогнулся. Прыгнул барсом. Ударил ножом в шею. Поддержал немца, когда тот валился на бок. В это время Ахметов уже выскочил на причал. Немец на причале услышал скрип половиц. Нехотя обернулся. Увидел Ахметова. Пытался вскинуть автомат. Выстрелить не успел. Ахметов метнул нож издали, попал в грудь, немец упал на спину, лег, широко раскинув руки.
Дело решали минуты. Разведчики бросились к лодкам. Цепляли их одну за другую, чтобы забрать с собой все, чтобы перетопить их на середине реки.
Последним к причалу приблизился Колосов. Он шел вслед за радистом.
Неплюев увидел немца, лежащего возле пристани, рану у него на шее, из которой на землю стекала кровь. Стал обходить немца стороной, как-то боком. «Двигай, двигай, Неплюев, — поторопил его Колосов, не очень-то обращая внимание на состояние радиста. — Наглядишься еще, успеешь». Он подтолкнул Неплюева, чтобы тот не задерживался, радист прибавил в скорости, но пока бежал эти несколько метров, все время оборачивался. В конце концов споткнулся, упал. На того немца, которого достал в броске Ахметов. Увидел, на кого он плюхнулся. Вскочил как ошпаренный, оттолкнувшись от трупа двумя руками. Оцепенел. Стоял, глядя то на свои руки, то на лежащего немца. Колосов не приглядывался к лицам врагов, он лишь заметил, что немец молод и белокур. Отметил неправдоподобную, слишком яркую синеву открытых в смерти глаз. Старшина с силой толкнул Неплюева, тот свалился с причала в лодку на руки товарищам.
Они переправились на противоположный берег. Утопили лодки. Скрылись в лесу. Но прежде Неплюева вырвало. Какое-то время радист не мог идти.
Как всегда в подобных случаях, а такое встречалось и на передовой, после рукопашных особенно, разведчики проявили такт, говорили в том смысле, что подобное случается почти с каждым. Не он, мол, первый, не он последний. Сказали и забыли. Постарался забыть об этом и Колосов, хотя странность в поведении радиста он отметил еще раньше, в том лесу, когда вышли они на проваленную явку. К лесной сторожке они подошли на рассвете. Ахметов первый учуял немцев. На той явке они тоже действовали ножами. А немцев было побольше отделения, и всех их разведчики убрали тихо. Там Неплюев тоже нервничал, не находил себе места. Не в такой степени, до рвоты не дошло, но тоже ходил, озираясь, вздрагивал.
Колосов рассказал все как было. И про явку в лесу, и про переправу.
— Да-с, молодые люди, — произнес в ответ Ханаев с горечью в голосе. — Убийство себе подобных худшая из обязанностей на войне. Не каждый способен выдерживать подобные нагрузки.
Чуть позже, после некоторого раздумья, Ханаев сказал, что случай, конечно, сложный, предугадать что-либо невозможно.
— У вас такая практика, Викентий Васильевич, — сказал Солдатов.
— Э-э-э, батенька, — ответил доктор. — Я знавал подобные случаи еще в первую мировую. Тем не менее организм у каждого больного своеобразный, болезнь у каждого протекает по-своему. Бывало, и помогало — выбивали клин клином.
— Как это? — не понял Грязнов.
— Зная причины заболевания, искусственно создавали обстановку, послужившую толчком к проявлению болезни. Скажем так: если вид убитых людей помутил сознание человека, дать возможность вновь увидеть трупы. Но этот метод варварский. Можно навредить, и очень серьезно.
— Тем не менее мы должны сделать все, чтобы радист заработал. Мы вам уже говорили, Викентий Васильевич, нам надо передать единственную радиограмму.
— За этой радиограммой спасение жизней многих тысяч людей, я не преувеличиваю, Викентий Васильевич, — поддержал комбрига Грязнов. — Нам необходимо вызвать нового радиста. Полноценного. Сообщить свои координаты. Сегодня мы вновь готовы принимать самолеты.
— Сделаю все, что в моих силах.
Доктор встал, направился к выходу, задержался.
— То, что я говорил тут о клиньях, вариант запасной. Но и о нем подумайте. Как его осуществить.
Ханаев вышел из землянки.
Солдатов задумался. О том, что война в который раз ставит его перед выбором. Спасая многих, жертвовать частью. В данном случае здравым рассудком человека, если он к нему вернется, ради связи, помощи фронту и фронта. Этот выбор постоянный спутник войны, думал Солдатов. Когда под Москвой собирали силы, чтобы отбить немцев, тогда тоже был выбор. Малая часть держала оборону, то есть командование намеренно жертвовало этой частью, чтобы собрать силу, способную нанести поражение немецким войскам, так близко подошедшим к столице. То же самое, но еще в больших масштабах произошло под Сталинградом. А разведка боем на передовой? Все та же жертва. Масштабы разные, а принцип тот же. Пожертвовать частью, чтобы выиграть в большом.
Грязнов тоже сидел молча. Думал над предложением доктора.
В тысяча девятьсот сорок втором году Грязнов перелетел линию фронта и обосновался в партизанской бригаде. Знает многие преступления гитлеровцев в зоне действия бригады. Есть что показать Неплюеву, если в том возникнет необходимость. На окраине Глуховска, в лесном овраге у деревни Загорье, немцы захоронили две с половиной тысячи трупов. Людей вывозили из города в душегубках. В машины заталкивали живыми. В дороге включали газ. Пока везли, люди умирали. Трупы сбрасывали в овраг.
Этот чудовищный конвейер действовал до недавнего времени, до тех пор, пока партизаны не перекрыли дорогу, разгромив карателей, захватив, уничтожив адские машины.
До сих пор немцы проводят в деревнях акции. Этим словом немцы прикрывают творимое ими зло. За этим словом огонь, пожирающий деревни вместе с жителями, трупы, трупы, трупы. Сожженных. Расстрелянных. Повешенных. Временно завоеванных, но не сдавшихся, не покорившихся советских людей, в чьих помыслах до сих пор остается надежда на освобождение.
С весны действует чудовищный приказ немецкого командования (тоже конвейер смерти) о тотальной чистке тылов фронта от нежелательных элементов. По этому приказу всех военнопленных, гражданских лиц после использования на оборонительных работах собирают в колонны, гонят на запад. Гонят без остановок, без воды, без пищи, заранее обрекая на смерть. Обессиленных пристреливают. Из тысяч в живых остаются немногие. Этих немногих сажают в вагоны, отправляют в Германию. След каждой колонны означен трупами и вороньем. Огромные стаи воронья появились в округе. За колонной следуют машины с немцами, подводы с полицаями. Специальные команды. Они собирают трупы, забивают ими колодцы уничтоженных деревень. Эти колодцы можно определить теперь издали все по тому же воронью.
Зловещие деяния оккупантов, естественно, не остаются без ответа. Грязнов только что побывал в одном из отрядов бригады, куда ездил разбираться в трагическом случае.
В отряд привели пленных немцев. Женщины учинили над пленными самосуд. Они растерзали немцев. Грязнов немедленно выехал в отряд. Собрал людей. Говорил о дисциплине. Видел, что слова его не доходят ни до партизан, ни до женщин.
Слова проваливались в пустоту, из которой не услышишь даже эха.
Из этого факта следовало, что подобное может повториться. Жестокость оккупантов уже вызвала ответную жестокость, наступил тот предел в человеческом сознании, после которого люди очень легко могут стать неуправляемыми, оказаться в худшем из состояний, как считал Грязнов. Потому что именно в таком состоянии доведенные до крайности люди теряют осторожность, готовы действовать безрассудно, лишь бы удовлетворить острую потребность в мести. В таком состоянии можно легко угодить в ловушку.
Грязнов произносил правильные слова, взывал к благоразумию, люди стали вроде бы прислушиваться к его словам, но в это время из чащи донесся удивительно чистый голос. Грязнов продолжал говорить, но люди, как по команде, повернули головы на этот голос, смотрели, замерев, на заросли, из которых появилась молодая женщина в мужском пиджаке, подпоясанная широким армейским ремнем.
На женщине была надета длинная до пят юбка, из-под которой виделись босые ноги.
Стройная, несмотря на такую одежду, она шла, склонив голову к рукам, шла чуть покачиваясь, напевая слова колыбельной песни.
Когда она подошла ближе, комиссар разглядел две небольшие чурки в ее руках, два поленца, завернутые в какое-то тряпье.
— Лю-ю-ди! — раздался истошный вопль. — Он судить нас приехал!
Толпа вздрогнула, как от тока. Услышались другие голоса:
— За что?
— Гос-по-ди!
— За Марью, бабы, за детишек ее!
— Что они с нами делали, ты видел?
— Сто раз убьем! Мертвые встанем!
— Убь-ем!
Гул голосов нарастал, мешался с плачем, невозможно стало различить отдельные голоса.
Над ухом Грязнова раздался выстрел.
Комиссар увидел командира отряда, поднятую руку, в ней пистолет.
Смолкли голоса.
— Разойдись! — властно произнес командир отряда.
Женщины стояли оторопевшие. Одни из них еще всхлипывали, другие молча вытирали концами платков слезы.
Мужчины стали уводить женщин с поляны.
Только тогда командир отряда рассказал Грязнову о подробностях самосуда, то, с чего он начался. При встрече он объяснил обстановку в общих словах, сказал, что накипело у людей, ненавидят они захватчиков, вот, мол, и произошел взрыв.
Дело оказалось сложнее.
Незадолго до этого случая партизаны устроили засаду, отбили у карателей группу девушек, молодых женщин из деревни Луконихи. Их гнали по лесной дороге, чтобы отправить в Германию. Среди отбитых у немцев женщин оказалась и Мария Иванова, на глазах которой каратель разбил прикладом карабина головы двум ее малолетним детям, детям-близнецам.
Командир отряда рассказывал тяжело, зубы сжимал до скрипа.
Лицо налилось кровью. Смотрел жестко.
Женщин привели в лагерь партизанского отряда. Марья лишилась рассудка. Нашла два одинаковых чурбака-поленца, завернула их в тряпье, бродила по лесу. Тут партизаны привели трех пленных жандармов. Весть эта мгновенно облетела лагерь.
Женщины, естественно, сбежались, ругались, плевали в своих палачей. Партизаны их сдерживали, не допускали до пленных. До расправы дело, возможно, и не дошло бы, но тут появилась Марья. Марья увидела жандармов, закричала, бросилась бежать. Тут же упала. Трясла головой. Прикрывала собой чурбачки-поленца.
Тут-то женщины и не выдержали, бросились на жандармов.
Партизаны сдержать их не смогли. Скорее всего не захотели сдерживать, так надо полагать. Потому и случилась эта расправа.
Грязнов окинул взглядом землянку, заметил отсутствие Колосова. Подумал о том, что Ханаев всколыхнул тяжелые воспоминания.
Он углубился в них настолько, что даже не заметил, как ушел Колосов.
Старшина покинул землянку вслед за доктором. Вначале бесцельно бродил по лесу. Затем вернулся, сел на срез того пня, на котором сидел перед тем, разговаривая с Галей.
Старшина сосредоточился на словах доктора о том, что убийство себе подобных одна из худших обязанностей на войне. Старшину поразило сочетание слов «себе подобных». Оно уравнивало Колосова, его товарищей с трижды проклятыми фашистскими ублюдками. За два года старшина видел столько смертей, столько актов ничем не оправданной жестокости, что не мог воспринимать гитлеровцев как себе подобных. Фашистские изверги убивали наших раненых в госпиталях, бомбили санитарные составы, топили санитарные пароходы. Жгли города, села. Колосов видел противотанковые рвы, заполненные трупами. Не понаслышке знал о том, что фашистские выкормыши с первых дней войны, с первых шагов по нашей земле отладили гигантский, безостановочный конвейер смерти, с помощью которого они уже уничтожили миллионы людей. Старшина буквально воспринимал слова о зверином оскале фашизма. В каждом гитлеровце он видел зверя.
Слова доктора заставили задуматься. Однажды разведчикам пришлось быть свидетелями того, как гитлеровцы жгли деревню вместе с жителями, разведчики смотрели на это изуверство, не в силах предпринять хоть что-то.
Гитлеровцы жгли стариков, женщин, детей. Колосов помнил, как деловито, не торопясь они это проделывали. Согнали жителей деревни в сарай. Обложили сарай соломой. Подожгли. Фотографировались на фоне страшного костра.
В словах доктора Колосов уловил обидную правду. Не звери жгли живых людей, думал теперь Колосов, у фашистов такие же ноги, руки, туловище, голова. Такие же глаза — они могут видеть и видят муки обреченных, те же уши — они слышат душераздирающие крики людей, плач детей. Такое же сердце, которое не может, не должно выдерживать изуверства, но вот поди ж ты, выдерживает. Выходит, «себе подобные» пострашнее всякого зверя, их надо убивать. И еще убивать, и еще… Какой бы тяжелой ни оказалась ноша, но нести ее надо, нести до победы, другого просто не дано.
Убивать, убивать, убивать. Это слово задержалось в сознании, повторялось и повторялось. Старшина пытался сосредоточиться на чем-то другом, слово билось подраненной птицей, не улетало, не освобождало Колосова от тяжелых дум. К одному слову стали лепиться другие, образуя фразы, превращаясь в отрывочные мысли. Мысли были сродни вконец расстроенной балалайке, на которой, как ни старайся, мелодии не выведешь. Старшина напрягся, ему удалось сосредоточиться, уловить строй. Войны, будь они трижды прокляты, прежде всего убийства, подумал он. Войны и начинаются, чтобы, прежде всего, убивать. Войны начинают люди. Люди ставят себя в такие условия, что не остается выбора. Или убиваешь ты, или убивают тебя. Доктор сказал, что подобные нагрузки выдерживает не каждый. Колосов подумал о горькой правоте его слов. Война гребет без разбору. Война — гигантская печь, горючим материалом для которой служат человеческие жизни. В пламени этой печи сгорают не только тела, горит и плавится сознание людей.
Старшине вспомнилось, как под Москвой после очередной бомбежки они откапывали людей из землянки, рядом с которой упала и взорвалась тонная бомба. Людей в землянку набилось много, в живых осталось двое. Сначала откопали сержанта-сверхсрочника. Сержант оставался в сознании, помогал бойцам, когда его вытаскивали из земли. Выбрался, сел на мерзлую землю, стал отплевываться. В это время из-под земли раздался хохот. Копали, растаскивали бревна. Извлекали и извлекали трупы. Раскопали новобранца. Тот сидел в углу землянки. Его прикрыло, но не тронуло бревнами. На нем не оказалось ни одной царапины. Новобранец ощупывал лежащее рядом с ним тело, шарил и не находил головы. При свете увиделся этот труп с отдавленной головой, а рядом крошево из черепных костей, мозгов, крови, земли и блевотной каши. Новобранца подхватили, вытащили. Он вырвался, припал к земле. Стал шарить по земле окровавленными руками. Продолжал неистово хохотать. «Уберите его наконец, он же тронулся!» — крикнул сержант-сверхсрочник. Новобранца подхватили и унесли. Сержант остался. Очухался. Продолжал воевать. Он даже в медсанбат не ходил.
Того сержанта Колосов знал. Знал, что сержант прошел не одну войну, попадал не в такие переплеты. Молодой боец не выдержал первой серьезной проверки на прочность, на излом. Не выдержал и Неплюев, другие, свидетелем умопомешательства которых Колосову приходилось быть. Войны сами по себе безумие, чего уж там говорить об отдельных людях, подумал Колосов, выдерживает не каждый. «Нет, не каждый», — произнес он вслух и поднялся, пошел бесцельно, лишь бы двигаться, не сидеть сиднем в ожидании, не зная, с какими вестями вернутся конники, о которых говорил Грязнов.
XIV
Ночью, во втором часу, раздался телефонный звонок. Начальник фронтовой разведки полковник Логинов взял трубку. Узнал голос начальника контрразведки Гладышева. Гладышев сообщил о том, что арестованный заговорил.
— Если есть время, заходи, — пригласил начальник контрразведки.
Времени у Логинова было, как всегда, в обрез, но он отложил дела. Появилась надежда узнать хоть что-то о судьбе группы Речкина, а может быть, и о том, где теперь базируются партизаны.
Вскоре начальник разведки сидел в небольшой боковой комнате деревянного дома. Было их в этой комнате четверо. Он с Гладышевым, девушка-стенографистка, лжепартизан. На вид агенту было лет сорок. Приятное, как и на фотографии, лицо, отметил Логинов.
Гладышев ввел Логинова в курс дела. Арестованный сам изъявил желание давать показания, как только отдохнул. Сказал, что признания его чистосердечные, скрывать что-либо он не намерен.
Прибыл он с определенной целью. Его хозяевам за линией фронта удалось перехватить партизан, шедших к фронту. Партизан было трое, все из бригады «За Родину!». Двое погибли во время перестрелки, третий попал в плен. Он не выдержал пыток, дал показания. Этим и воспользовались немцы.
— Итак, ваше имя, ваша фамилия? — продолжил допрос Гладышев.
— Я уже говорил.
— Повторите.
— Фриц Элендорфен. Год рождения — 1902-й. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, или, как вы теперь называете этот город, в Ленинграде.
Элендорфен говорил ровным голосом, без акцента, глаз при этом не отводил, держался очень спокойно.
— Все-таки я хотел бы знать причину вашего согласия давать чистосердечные показания, — сказал Гладышев. — Это прежде всего. Мне бы хотелось знать причину вашего спокойствия. Все-таки вы провалились, были арестованы, вас арестовали как агента.
Элендорфен охотно отозвался на вопросы Гладышева. Беседа потекла настолько непринужденно, как будто за столом встретились люди знакомые, но в силу каких-то обстоятельств оторванные друг от друга на долгие годы.
Такое впечатление складывалось из-за готовности Элендорфена отвечать на все последующие вопросы Гладышева. Фриц Элендорфен отвечал, не задумываясь. Чуть позже Логинов станет просматривать стенограмму допроса, и это первое впечатление от встречи не изменится. Допрос шел ровно, гладко, без сучка без задоринки.
— Я реалист, — говорил Элендорфен. — Я привык трезво оценивать шансы. Потому и говорю только правду. За моими словами нет игры. Я прибыл к вам с определенной целью, надеялся, что и на этот раз повезет, мне не повезло, и я даю показания.
— Все ваши показания будут немедленно проверены.
— Естественно. В этом я не сомневаюсь.
— Удивительно.
— Что вас удивляет?
— Ваше отношение к собственному провалу, ваше, как вы сами его называете, чистосердечное признание. Оно настораживает.
— Не укладывается в рамки стереотипа?
— Да, если хотите.
— Чтобы понять это, нам с вами придется сместиться во времени в год эдак тридцатый, к началу моей работы.
— К началу вашей шпионской деятельности?
— Во всех странах, в вашей в том числе, есть ведомства разведки. Шпионскими их называют газетчики и романисты.
— Дело не только в названии.
— Вот именно. В тридцатом году я впервые перешел государственную границу, выполнил задание, без особых осложнений вернулся к себе.
— Вы были в нашей стране?
— Да. Работал какое-то время в Москве, это не сложно проверить, если архивы того времени сохранились. Работал под фамилией Быкова.
— Ваше задание?
— В то время у меня было одно задание — создание агентурной сети в промышленных центрах вашей страны.
— У вас не было провалов?
— Я вам уже обещал. Обо всем, что мною сделано, я составлю подробнейший отчет.
— Надеетесь на снисхождение?
— Да, тем более, что на мне нет крови.
— Вы хотите сказать, что не прибегали к террористическим актам?
— Разведчик не гарантирован от необходимости убивать. Однако убийство — слишком заметный след. Я не оставлял подобных следов.
— Два года войны. У вас такой опыт, а вас используют до сих пор как рядового агента. Вам не кажется странным такое положение?
— Согласен с вами. В то же время есть два фактора, объясняющие это парадоксальное явление.
— Я вас слушаю.
— Мои родители жили в России, были состоятельными людьми. Но они были немцами. Я бы сказал, русскими немцами, родившимися в России, прожившими в ней всю свою жизнь. С войной начались погромы. Не только еврейские. Громили и нас, российских немцев. С большим трудом нам удалось уехать из России. Кружными путями мы добрались до Германии. Потом был февраль, за ним октябрь семнадцатого года. Мы лишились недвижимости, значительной части состояния. Кое-что, правда, оставалось, я начал было учиться в университете. Однако учеба не захватила меня. Начались поиски. Я начинал собственное дело, оно пошло, но удовлетворения я не получил. Бросался из одной крайности в другую. Не раз думал о своем предназначении. Приходил к неутешительному выводу.
Дело в том, что с рождением в каждом человеке заложена своеобразная программа, которая и определяет всю его дальнейшую жизнь. По этой программе существует среднеарифметическая норма, эдакий эталон, определяющий человека. Тоже среднего, положительного, без каких бы то ни было отклонений. Большинство такими и рождаются. Но на свете появляются талантливые люди, даже гениальные. Это уже отклонение от нормы. Рождаются патологически жадные, болезненно завистливые, неимоверно лживые и прочее, и прочее. Я был рожден с отклонением от нормы в сторону авантюризма. Это обстоятельство и привело меня в разведку.
— Продолжайте, что же вы замолчали.
— Вспомнил своего товарища по университету Карла Какомайера, то, как затащил он меня к себе домой в начале двадцать девятого года. Была выпивка, разговор. О жизни, о планах, о возможностях. Жизнь моя в то время тянулась довольно однообразно. Карл предложил мне побывать в России. Его предложение показалось интересным. Россию проклинали, Россией пугали, Россию боялись. Я принял предложение. Готовили меня больше года.
— Где?
— Об этом я тоже напишу.
— Вам, конечно, известны многие заведения подобного рода?
— Я понял ваш вопрос. Письменно я сообщу вам обо всех известных мне учебных центрах.
— Продолжайте.
— Это был первый и единственный случай, когда я не только проник на свою бывшую родину, но и устраивался на работу, заводил связи. В дальнейшем я выполнял разовые задания. Проверял агентов, получал от них информацию, передавал деньги, иногда драгоценности. Границу переходил нелегально. За официальными лицами из-за рубежа у вас очень сильный надзор. За границей тоже, но в те годы еще оставались лазейки.
— Где, когда, сколько раз вы пересекали границу?
— Мне памятен каждый переход, об этом я сообщу вам письменно.
— Похоже, вы откровенны. Отвечу вам такой же откровенностью. Мне кажется, что вы тянете время, чтобы скрыть что-то очень важное. Мне приходилось сталкиваться с подобной тактикой подследственных.
— Может быть. Но вот что должно вас успокоить. О своем последнем задании я рассказал вам без проволочек. Я дал слово ответить письменно на все ваши вопросы. Теперь мне необходимо выговориться. Не надо проводить параллелей между мною и теми, кого вы допрашивали ранее.
— Почему?
— Господи! Я представляю, с кем вам приходится иметь дело за этим столом. Мне приходилось готовить агентов в школе абвера под Краковом в сорок первом году, совсем недавно в такой же школе под Киевом. Перед вами проходили или изменники родины, или уголовники. Я же человек без родины, ставший таковым в силу обстоятельств, есть разница.
— Однако все эти годы вы совершали уголовно наказуемые деяния. Вы подтверждаете, что совершали их сознательно. Следовательно, выбор вы все-таки сделали.
— Наш разговор о факторах, в силу которых я не отсиживаюсь в глубоком тылу, а решился на выполнение в общем-то ординарного или ординарных заданий.
— Слушаю вас.
— После первого посещения бывшей родины я почувствовал, что мне эта работа по плечу. В ней было достаточно риска, мне понравилось быть представителем силы. Но главное все-таки не это. В свое время я поступал на философский факультет. Меня привлекал этот предмет. Кроме авантюризма во мне заложена склонность к созерцанию человеческого материала, она стала моею страстью. Как увлечение азартными играми. Не человек, азарт управляет человеком. Тем более, что такая работа открывала большие возможности.
— Что вы имеете в виду?
— Охотно объясню. Являлся я по адресам, как вы понимаете, неожиданно. Неожиданность оголяет людей. Я получал огромное удовлетворение, когда видел душевную оголенность людей. Быть свидетелем испуга. Смотреть, как жадные пересчитывают деньги, завистливые румянятся, удовлетворенно покряхтывают от сознания того, что удалось им опорочить крупного руководителя, ненавистники хищно замирают от сознания сотворенной подлости. Наблюдать приходилось многое, об этом я вам тоже составлю подробнейший отчет.
— Это к вопросу о факторах?
— Да, к вопросу о том, почему мне до сих пор нравится быть исполнителем разовых поручений. Их нельзя осуществлять без вдохновения, они будоражат фантазию, но главное — дают возможность созерцать наготу человеческого материала.
— Очень расплывчато, неубедительно.
— Есть второй фактор, он более приземленный.
— Какой?
— В начале нынешнего года я вновь встретился с Карлом.
— Какомайером?
— Да. Он рассказал мне о готовящемся мощном наступлении под условным названием «Цитадель». Предложил посмотреть, что делается на вашей стороне. Его предложение я принял. Проник на вашу территорию, месяц инспектировал химслужбу в ваших подразделениях.
— Вы действовали один?
— Я всегда работаю один. Для двоих нет тайн.
— И все-таки вы обмишурились. В одном и том же географическом районе появляетесь дважды — и оба раза в разных обличьях. Сначала — как офицер, чуть позже — как партизан. В такой кажущейся оплошности уже был заложен элемент провала, вам это хорошо известно.
— Вы мне не верите?
— Я сомневаюсь — это совсем другое дело.
— Как говорится в русской пословице: и на старуху бывает проруха.
— Хорошо, если только проруха.
— Я перед вами искренен. Когда Карлу доложили о перехваченных партизанах, он сразу подумал о возможности выманить радиста, вступить с вами в радиоигру, дезинформировать о сроках «Цитадели».
— Вы, конечно, этих сроков не знаете.
— Нет, но думаю, что наступление начнется вот-вот. Такую силу собирают не для того, чтобы она простаивала.
— Что вам известно о наличии этой силы?
— Я сообщу вам все, о чем знаю.
— Снова полнейшее согласие с вашей стороны.
— Вас это вновь настораживает?
— Не скрою.
— Я устал, только этим объясняю свой провал.
— Вы предусматривали такую возможность?
— Постоянно.
— На что рассчитывали?
— Видите ли… Многим в Германии уже видится исход войны. В такое время лучше отсидеться, и чем скорее… В общем… Я рассчитываю на снисхождение.
— Я повторяю вам еще раз — это зависит от искренности ваших показаний прежде всего.
— Я искренен, прошу мне верить.
— Допустим, я вам верю. Допустим, что вы говорите правду. В то же время вы можете чего-то недоговаривать. Расскажите все, что вам известно о партизанской бригаде «За Родину!».
Впервые за время допроса Элендорфен скосил глаза, глянул на Логинова. Вероятно, он почувствовал, для кого нужен его ответ.
— Тот, вместо кого я появился у вас, не знал главного — места базирования бригады, ее головного отряда.
— Чем он объясняет свое неведение?
— Тем, что горожанин. Подпольщик. С партизанами связан не был. Верьте мне. Если бы мое начальство получило данные о местонахождении хоть каких-то партизанских сил, эти силы были бы блокированы и я об этом непременно узнал бы.
— Верю. И все-таки постарайтесь вспомнить. Нас интересует все, что вашему руководству известно о партизанах.
С этими словами Гладышев вызвал конвой. Элендорфена увели.
— Не слишком ли в лоб ты задал ему последний вопрос? — спросил Логинов.
— Нет, — сказал Гладышев. — В чистое раскаяние Элендорфена я не верю. Вероятно, он скрывает что-то важное. Чтобы мы не раскрыли, не докопались до этого важного, он говорит правду. О своем последнем задании — это я имею в виду. О партизанах с ним можно говорить прямо. В этом ему можно верить.
Логинов ушел.
Через сутки с небольшим вернулся в ту же комнату по вызову Гладышева, который, судя по бодрому голосу в трубке телефона, приготовил какой-то сюрприз.
— Заходи, заходи, — шумно пригласил он Логинова. — Садись и слушай.
В комнате появилась девушка-стенографистка. Поздоровалась, молча села за небольшой стол у окна. Конвоиры привели и оставили в комнате Элендорфена. Он по-прежнему чувствовал себя очень спокойно.
— Вчера вы говорили убедительно, — приступил к допросу Гладышев. — Мне понравилась ваша манера вести неторопливо-рассудительный разговор. Хорошо было бы и сегодня разговаривать в таком духе.
— Я рад, гражданин следователь. Вы наконец поверили в мою искренность?
— Не торопитесь с выводами. Излишняя искренность настораживает, вчера я вам об этом тоже говорил.
— От меня потребуются еще какие-то доказательства?
— Да, сущие пустяки. Я вам покажу фотографию, вы мне скажете, где, когда и по какому поводу вы встречались с одним человеком.
— Если смогу.
— Вот, пожалуйста. Приглядитесь внимательно.
— Да, да.
— Вы заметно взволновались. И замолчали…
— Я… должен вспомнить…
— Вчера вы просили меня не проводить параллелей между вами и теми, кто до вас сидел за этим столом. Сегодня вы прибегаете к примитивным уловкам. Вам необходимо время, чтобы перестроиться. Не ожидали столь крутого перелома? Я вас понимаю. Тем не менее жду ответа на свои вопросы. В том, что у вас прекрасная память, я убедился, читая ваши записи.
— Эта фотография… Она сделана седьмого января в Мюнхене.
— Правильно. И рядом с вами на ней Фрэд Брас. Как всегда самоуверенный, улыбающийся американец. Вы видите? Он откровенно рад. Ему удалось договориться с вами. Хотите знать — о чем?
— Не надо.
— Нет, почему же? Давайте продолжим наш с вами разговор в том же неторопливо-рассудительном тоне. Только на этот раз обо всем.
— Я устал. Всю ночь мне пришлось работать над записями.
— У вас будет возможность отдохнуть в ожидании суда и приговора. Так что обойдемся без ссылок на усталость — это всего лишь ход. Когда вы сделали ставку на новых хозяев?
— После Сталинграда.
— Вы сами искали встреч с американцем?
— Нет, меня нашел Фрэд.
— И послал к своим союзникам, то есть к нам, чтобы вы помогли ему найти пропавшего агента, ловко, как ему показалось, избежавшего провала, укрывшегося в одном из лагерей для заключенных под видом раскаявшегося агента абвера?
— Да.
— Вы стали не очень разговорчивым.
— Мне не удалось найти этого агента.
— Весной, когда вы инспектировали химслужбы наших подразделений?
— Да.
— И тогда вы решили, по совету Фрэда конечно, повторить путь Александра Чертковского, агента-двойника, работавшего на немцев и американцев, но более всего на Фрэда, которому и вы продали своих хозяев?
— Да.
— Что ж, вернемся к началу разговора. Только теперь разговор должен быть по-настоящему искренним.
Допрос длился долго. Логинову интересно было и смотреть, и слушать, но его вызвал Груздев. Начальник штаба тоже ждал результатов допроса.
Груздев встретил Логинова вопросом.
— Что выяснили?
— Гитлеровцы действительно перехватили группу Илья Николаевич, — стал рассказывать Логинов. — Партизан было трое. В перестрелке погиб все-таки один, а не двое, как сказал Элендорфен в первый раз. Второй умер во время допроса. Третий не выдержал пыток, рассказал о задании.
— Агенту известно хоть что-то о дислокации бригады?
— Нет.
— Ему можно верить?
— Гладышев считает, что вполне. Агент раскрыт в главном, ему нет смысла таиться в мелочах.
— Он проявил обстановку по Глуховску?
— Не так хорошо, как хотелось бы.
— Ему известно хоть что-то о группе Речкина?
— Нет, но о районе, из которого от Речкина получена радиограмма, он кое-что прояснил. Если бы посланцам Солдатова удалось добраться до нас, то партизаны ожидали бы своих товарищей и радиста в деревне Ольховка Сарычевского лесного массива, прилегающего к Шагорским болотам. Именно оттуда Речкин передал последнюю радиограмму. Судя по показаниям агента, гитлеровцы провели в Ольховке акцию. Они должны были захватить партизан, сжечь деревню, уничтожить жителей. Создать вакуум. С тем, чтобы лжепартизану, этому Элендорфену, легче было привести на условленное место наших посланцев и радиста.
— Вы думаете, группа оказалась в центре карательной операции гитлеровцев?
— Подобной возможности не исключаю, Илья Николаевич. Могли не выдержать, ввязаться в бой.
— Есть ли новые данные по Глуховскому подполью?
— Нет. Только сообщение об аресте Фосса. О нем я вам докладывал.
— Что намерены предпринять?
— Готовим новую группу для заброски в предполагаемый район действия бригады Солдатова.
Из письма начальника канцелярии штаба сто сорок третьей пехотной дивизии капитана Франца Кюпперса командиру отряда преследования капитану СС Отто Бартшу
16.06.43 г.
Письмо и другие документы обнаружены в планшете неопознанного офицера СС, погибшего во время налета партизан на гарнизон города Глуховска летом сорок третьего года.
«…Услуга за услугу, Отто. Посылаю тебе это краткое письмо-предупреждение потому, что появилась возможность переправить его с надежным человеком.
Подумай о том, что я тебе сообщу. Сделай правильные выводы.
Начальник вашего тылового района полковник Фосс арестован за махинации. На его место только что назначен Пауль Кнюфкен. Завтра должны последовать другие назначения.
Мой генерал в бешенстве. Этот старый вояка возмущен тем, что его боевой дивизии поручили выполнять работу «зажравшихся, — как он говорит, — разложившихся жирных тыловых свиней». Он уже отправил запрос на передислокацию дивизии.
Ориентируйся, дорогой Отто.
Мы стоим на пороге значительных событий.
Решай, что делать.
Мой тебе совет — держись города. В такое время лучше всего быть на глазах начальства…»
XV
— Слышь, Ахметов?
— Э.
— Правда, что у вас женятся по-темному?
— Почему?
— Откуда я знаю, люди говорят.
Ахметов не ответил. Он лежал недалеко от Рябова в укрытии из кустов, тростника, осоки, пристально вглядывался в сторону протоки. Их дело, по выражению Рябова, выгорело, канитель, как он сказал, удалась, они не только панику устроили, но и вовремя смылись. Настроение у Рябова поднималось заметно, как вода в половодье. Рябова просто-напросто распирало от желания говорить.
— Слышь, чего говорю?
— Э.
— Выходит, черт-те что подсунуть могут?
Ахметов молчал. Он не мог, как Рябов, переключиться на пустое.
— Представляю, — стал рассуждать Рябов. — Ты с нее покрывало снимаешь, а под ним такая холера, что не приснится в дурном сне. Правда, нет, Ахметов?
— Отстань, да, — сказал Ахметов. Ему время надо было, чтобы очухаться, прийти в себя.
Нежелание товарища отвечать на вопросы подхлестнуло Рябова.
— Ты скажи, так это или нет, — настаивал он на своем, но, не получив ответа, принялся рассуждать: — Девкам, конечно, хорошо, — заключил разведчик. — Подластилась к родственникам жениха — это они умеют, на тебе, пожалуйста, окрутили, охмурили. А парню как? Не чуял, не гадал — в ситуацию попал. Так, что ли?
— А у вас как? — не выдержал Ахметов.
— У нас? — охотно откликнулся Рябов. — Просто. Как в кассе. Отдал деньги, получи чек. Кому как повезет, — объяснил он. — Бывает так, что хуже не придумаешь. У нас одному — вот умора — алименты присудили, а он ее ни ухом, ни рылом не ведал.
— Как это?
Если уж Рябов прицепится, от него не так просто отделаться.
— По закону, — принялся объяснять Денис — Он у нас башковитый был, спец, что надо. Хорошо заколачивал. Она на него показала. Подружек-свидетельниц предоставила, они в один голос подтвердили: ходил он, мол, к ней, и точка. А он лопух лопухом. Над железяками кумекать мастер, а в жизни ни замахнуться, ни отмахнуться. Она его и захомутала. На восемнадцать лет. «Жить больше с ним не хочу, — заявила на суде, — пусть он мне алименты платит». Во невезуха, а?
— Теперь всем повезло, да, — втягивался в разговор Ахметов. — Война всех сравняла, э.
— Не скажи, — возразил Рябов. — С тебя да с меня немного наскребешь, а ей и тут выгода. Он на фронт рвался, а его на Урал. Бронь ему дали как специалисту высокого класса. Влип парень, чего там говорить, знала шлюха, на кого показать.
— Э, Рябов!
Денис понял, что переборщил. При Ахметове можно ругать хоть комдива, только не женщину.
— Слышь, Ахметов, — снижая голос, спросил Рябов, — а как назвать такое?
— Перестань, да, — твердо сказал Ахметов.
Какое-то время они лежали молча.
Светало все больше и больше. Болото нехотя туманилось. Как со сна. Это был утренний туман, который рассасывается с восходом солнца. С восходом солнца, подумал Ахметов, должна открыться для наблюдения протока, мост через нее, оба берега, занятые немцами, которые так шумно нервничали ночью, стреляя друг в друга. Что-то они предпримут?
Разведчики намеренно не стали забираться в глубь болота. Опыт подсказал, что немцы не станут искать группу у себя под носом, они будут высматривать их дальше, там, где растительность погуще.
— Ахметов?
— Э.
— Я чего сказать хочу. Перед войной резанули мне аппендикс. Плевая операция, я не о ней. С нами в палате монгол лежал. Потешный такой, по-русски ни бе ни ме, еле-еле. Он говорил, что у них там, в Монголии, девки с парнями не целуются.
— Ну и что?
— Как это что? — неподдельно удивился Рябов. — Девку облапишь, в первую очередь поцелуй требуется, уста, как говорят, с устами сливаться должны.
— Ащь! У каждого народа свои обычаи, да, — сказал Ахметов.
— Ну, ты даешь, — не принял объяснение Денис. — Какие же это обычаи — изуверство одно. А насчет остального прочего тогда как же?
— Перестань, э!
Странным, не всегда и во всем понятным был для Ахметова Денис Рябов. То серьезен, то болтает недостойное мужчины. В такие моменты старшина Колосов называет его балаболом, и он не обижается. «Язык, — говорит сам по себе, — без костей, мелет да мелет, какой, мол, с него спрос». Командир Рябова оговаривал. «Хороший вы человек, Рябов, — сказал о нем Речкин, — только безделье для вас крайне вредно».
— Ахметов? Слышь, Ахметов?
— Замри, э, — предупредил Ахметов. — Туман поднимается, да. Смотреть надо, да.
Туман и впрямь поднимался. Вроде слоеного пирога получалось над болотом. Сверху чисто, посередке вата-туман, снизу тоже развиднелось. Туман и поднимался, и рассасывался. Показалось солнце.
С берега донесся гул. Слышно было, как заработали двигатели автомашин.
Над болотом появился самолет. Вчерашний. И позавчерашний. Все та же «рама», летчик которой стал свидетелем гибели полицейских и немцев. Глядя на него, Ахметов подумал о том, что не зря этот самолет появился, немцы сейчас ударят по острову. «Рама» тем временем пролетела над протокой, стала кружить над Ахметовым и Рябовым, смещалась все дальше, скрываясь порою с глаз долой.
— Ахметов?
— Э.
— Пронесло, кажись, а?
— Ты можешь помолчать? — строго спросил Ахметов.
— А чего? Ты думаешь, они нас услышат? Хренушки. У них там слышь как гудит?
На мосту показался бронетранспортер, за ним — другой. По мосту прошел тягач. Виделось шевеление на обоих берегах. Через какое-то время бронетранспортеры потащили на прицепе грузовики. Две автомашины протащил на буксире тягач.
— Во дают, — радостно произнес Денис. — Наш с тобой мусор подбирают. Ты им, наверное, все радиаторы разбил из «магдалины».
— Ты тоже по фарам бил, я видел, — сказал Ахметов.
— Я садил из «шмайссера», а ты из «магдалины». «Магдалина» баба серьезная. Ты им движки поколотил — это точно.
Ахметов подумал о том, что очередь из трофейного пулемета, нареченного бойцами «магдалиной», могла попортить и радиаторы, и двигатели автомашин настолько, что немцам пришлось вызывать помощь. У них это дело поставлено. Бывало, наступали, наступали, а приходили, ни трупов немецких, ни техники, все уволакивают. Если, конечно, не в окружение попадали. Тут уж немец все бросал.
— Слышь, Ахметов?
— Э.
— Что ты все «э» да «э», кажись, уходят.
Бронетранспортеры, тягач, другие автомашины с орудиями на прицепах выстраивались вдоль дороги. Через мост шли и шли солдаты. Одни из них уже забрались в кузова. Солдат было много, они выходили из леса, что клином примыкал к протоке. Усилился гул двигателей. Колонна тронулась, потом и вовсе скрылась в зарослях.
— Во чудеса, — сказал Рябов. — Что делать будем?
— Лежать будем, да. Темноты ждать будем. Как решили, как договаривались, так и поступать будем, да.
— «Лежать, да», — повторяя интонацию Ахметова, сказал Рябов. — А за мошонку не боишься, да? Если она отмокнет да отвалится, да.
— Перестань, э, — сказал Ахметов.
Они лежали до захода солнца, до того, как стало темнеть. Потом пошли в Ольховку, в ту деревню, в которой Рябов встретился с подпольщиком Галкиным.
Шли трудно. «Лыжи» хорошо держали на чарусе, но оказались непригодными среди кочек, кустов, промоин. Чем ближе подходили к берегу, тем тяжелее приходилось. Брели от кочки к кочке, проваливаясь порою по пояс. Страховали, вытягивали друг друга.
Чем ближе подходили к деревне, тем гуще становились заросли. Деревня оправдывала название. В лесу чернели стволы черемухи, высилась рябина, кустилась бузина. Но более всего росло здесь ольхи. Ольха толстоствольная, с густой, не пропускающей свет кроной. Настолько густой, что в зарослях держался ровный полумрак. Ахметов отыскал тропу, по ней они и вышли к краю леса. Увидели автомашины. Тупорылые грузовики стояли рядом. Можно было разглядеть рисунок протекторов на скатах. Возле грузовиков топтались, о чем-то переговариваясь, немцы. Их было трое — по количеству автомашин. Видимо, это были водители. Разговаривая и перетаптываясь, они курили, запах сигаретного дыма долетал до разведчиков.
Вокруг деревни, метрах в тридцати друг от друга, тоже стояли немцы. Одни из них были в пилотках, другие без головных уборов, но у каждого закатаны рукава. Стояли они привычно, широко расставив ноги, нацелив стволы автоматов в сторону домов.
Хозяйничали немцы и в деревне. В домах, у домов, в сараях. Одни из них вели по дороге жителей, другие осматривали дома, дворы. Скрывались в дверных проемах, заглядывали в колодцы, рушили поленницы дров. В домах немцы что-то находили, поскольку из окон вылетало барахло, возле домов вязались узлы.
Чуть в стороне от деревни высился черный, крытый соломой амбар. В него немцы и загоняли жителей деревни.
Ахметов оглянулся на Рябова. Глаза товарища поблескивали лихорадочным блеском, рот был полуоткрыт. На миг показалось, что Денис может крикнуть.
— Слышь, Денис, уходить надо, — зашептал в ухо товарищу Ахметов, почувствовав в Рябове готовность к безрассудному шагу.
— Куда? — шевельнул ответно губами Денис.
— Сам знаешь, — шепотом объяснил Ахметов. — Не положено нам вмешиваться.
Ахметов напомнил Рябову об одной из пакостнейших сторон работы разведчиков. Видеть расправы, жестокость, прочую гнусность со стороны оккупантов и не выдать себя, не защитить людей хотя бы и ценою собственной жизни. Не обнаружить себя, когда на твоих глазах убивают беззащитных. На глазах здоровых мужиков, воинов, призванных защищать свой народ, свой кров, свое прошлое, настоящее и будущее. Немцы явно готовили расправу над мирными жителями. Гитлеровцев было много, около роты. В деревню вполз бронетранспортер. Он остановился в центре возле двухэтажного дома. Из кузова на землю спрыгнули солдаты. Из кабины вылез офицер.
— Слышь, Фуад, — зашептал Денис, — травища по пояс.
— Ну? — не понял Ахметов.
— Травища, говорю, в пояс. Подберемся к амбару, снимем там немцев, прикроем побег жителей к лесу.
На что был смел Ахметов, но и тот оторопел от предложения Рябова.
— Куда ты попрешь против роты, против брони, — зашептал он ответно, — о приказе забыл? Уходить надо, понял, Денис?
Бронетранспортер не задержался в деревне, поплыл дальше. Обогнул крайний дом. Объехал стоящие борт к борту грузовики. Стал за ними кормой к лесу, нацелив выхлопную трубу в разведчиков. Водитель выключил движок. Соскочил на землю. Подошел к шоферам. В бронированной машине остался сидеть пулеметчик. Разведчики видели крутой затылок, широкую спину дюжего гитлеровца. Смотрел он в сторону деревни. Сидел, не оборачиваясь.
От амбара в это время донесся плач. Вначале едва различимый, плач становился все громче и громче, перешел в вой, в котором различались детские голоса.
— Ну! — грозно шепнул Рябов.
— Приказ, Денис.
Из глаз Рябова полыхнуло огнем. Он резко развернулся, пополз. Ахметов бросился вслед. Ухватил Рябова за ноги. Денис отбросил товарища. Промычал что-то нечленораздельное. Пополз. Ахметову ничего другого не оставалось, как ползти следом.
Вначале Ахметов подумал, что Денис, как и предлагал, поползет к амбару. Но Рябов полз к бронетранспортеру. Этот маневр своего товарища Ахметов понял. Мельком подумал о том, что бронетранспортер, пожалуй, захватить можно. В душе он не осуждал Дениса. Ахметов понял, что стопор, который так надежно держит душу разведчика в критических ситуациях, соскочил, теперь можно либо поддержать товарища, либо уйти. Последнее было бы недостойно мужчины, как привык говорить Фуад Ахметов.
В мгновение ока оба оказались у бронетранспортера. Рябов уже понял, что Ахметов следует за ним по пятам. Он даже не оборачивался. Подобрался к заднему борту машины. Приподнялся. Ахметов тут же забрался к нему на плечи. В тот же миг Денис резко выпрямился, поднял товарища.
Ахметов увидел крутой затылок, широкую спину немца. Метнул нож. Перемахнул через борт.
Следом за ним и Рябов ухватился за скобу, с силой оттолкнулся от земли, перебросил тело в кузов. Больно ударился бедром об угол ящика. Увидел Ахметова. Тот вытащил из спины немца нож, вытер лезвие о его же куртку.
На миг показалось, немец шевельнулся. Рябов насторожился. Ахметов перехватил его взгляд, понял, махнул рукой: не волнуйся, мол, готов немец. Глазами показал на ящики с гранатами. Об один из ящиков и стукнулся Денис.
Рябов прополз мимо Ахметова, перевалил через труп карателя, приподнялся, осторожно выглянул.
Гитлеровцы возле грузовиков, а с ними и водитель бронетранспортера по-прежнему смотрели в сторону деревни.
Ахметов проверил пулемет. Пододвинул к ногам ящик с гранатами. Вскрыл еще один. Припал к смотровой щели. Прикинул расстояние до грузовиков, до водителей, что стояли и смотрели в ожидании зрелища. Подполз к Рябову.
— Давай разом, Денис. Я давлю их гранатами, ты запускаешь движок.
— Понял, Фуад, начинай.
Ахметов бросил одну за другой две гранаты. Рябов запустил движок. Ахметов припал к пулемету, готовый резануть гитлеровцев очередью. Стрелять не пришлось. Гранаты уложили водителей.
Рябов повел бронетранспортер плавно, давая возможность Ахметову для прицельного броска. Ахметов бросил по гранате под передок каждой автомашины, гранаты взорвались, машины ткнулись тупыми мордами на спущенных скатах. У одной из них из-под капота показался дым. Сгорят и остальные, подумал Ахметов, поскольку тупорылые грузовики стояли борт к борту.
Над амбаром показался дым. Показалось пламя. Разведчики увидели немцев с факелами. Каратели бежали вдоль амбара, останавливались, подтягивались на цыпочках, стараясь достать до соломы.
— К амбару, Денис! — дико заорал Ахметов. — Гони к амбару!
С этими словами Фуад прильнул к пулемету, дал очередь по факельщикам. Не попал. Немцы бросили факелы. Побежали, пригнувшись, за амбар. Засуетились немцы в деревне и в охранении. По бронированному борту машины зацокали пули.
Стрелять было легко, целиться трудно. Очень трудно, поскольку Рябов прибавил в скорости, тяжелую машину качало из стороны в сторону. Ахметов стал бить короткими очередями, но и они редко достигали цели. Гитлеровцы воспользовались этим. Те, что были у амбара, стали стрелять из-за угла, чуть выглядывая из-за строения. Другие тоже нашли себе укрытия. Стреляли из-за колодца, из окон домов, из-за поленниц дров.
Денис тоже увидел дым, огонь, факельщиков. Он погнал машину к амбару. Остановил машину, не доезжая, давая возможность Ахметову стрелять прицельно. Ахметов понял Рябова, прицелился, прошелся очередью по углу строения, от бревен брызнули щепки, из-за угла вывалился немец, ткнувшись автоматом в землю, накрыв его своим телом.
— Гранатами дави! — заорал Рябов.
Ахметов бросил пулемет, нагнулся, схватил гранату. Его качнуло, потому что Рябов вновь включил скорость. Машина огибала амбар. Ахметов увидел убегающих немцев. Бросил одну гранату, другую. Достал немцев. Кинулся к пулемету.
Крыша амбара разгоралась, до разведчиков доносился крик и плач запертых в нем людей.
Денис обогнул амбар, разворачивая машину на месте, направляя ее к воротам. Увидел бревна, подпирающие эти ворота, сбил их, в тот же миг створки распахнулись, из амбара хлынул народ.
Рябов остановил машину. Попятился, прикрывая выбегавших из амбара людей, потому что от домов стреляли немцы, их автоматные очереди доставали бронетранспортер.
— За амбар! Все за амбар! — орал сверху Ахметов.
Обезумевшие люди не поняли его. Они бросились от амбара россыпью. Кто-то уже упал, сраженный автоматной очередью гитлеровца. Ахметов снова затрясся, стреляя из пулемета.
Рябов видел, как падали женщины, дети. Он развернул машину, направил ее к домам.
У Ахметова кончилась лента. Нечего было и думать, чтобы заложить новую. Машину бросало из стороны в сторону.
Денис обернулся.
— Гранатами дави! Гранатами! — крикнул он.
Бронетранспортер утюгом попер вдоль домов. Рябов погнал машину к лесу. Заложил крутой вираж для повторного броска.
— Дави, дави их, Фуад!
Легких Рябов не жалел. Как не жалел он эту бронированную машину, выжимая из нее все, на что она была способна, понимая, что на скорости они и уязвимы менее всего. Вновь приблизились дома. Ахметов бросал гранаты. Иногда попадал в проемы окон на вспышки выстрелов. Чаще гранаты рвались под окнами.
Часть немцев побежала огородами к лесу.
— Уходят! Слышь, Денис, уходят!
Бронетранспортер вновь проскочил деревню.
— У-у-у! — прогудел Рябов, сворачивая на поле, направляя машину к лесу.
Ахметов увидел, что Рябов понял его. Выбросил за борт опустевший ящик. Нагнулся, напрягся, приподнял и выбросил с кормы труп немца, чтобы тот не мешался под ногами.
Многие каратели уже перемахнули через ограды, бежали полем. Теперь их можно было передавить по одному. Рябов понял это.
На миг увиделось поле сорок первого года. Тот боец, по телу которого прошлась гусеница немецкого танка. Увиделся деловой немец со строчками ровных зубов, мелькнувших из-под фотоаппарата. Как вспышка молнии. Как оборванный крик. В голове заколотилась мысль, Рябов беззвучно зашевелил губами: «Смерть за смерть, гады. Смерть за смерть!» На предельной скорости он гнал машину вперед, а в голове колотилась и колотилась только эта фраза.
Гитлеровцы побежали от машины. Они потеряли ориентир. До ближайшего карателя оставалось метров тридцать, не больше. Рябов напрягся. Немец обернулся. В руках у него затрясся от выстрелов автомат. Денис повел машину на него. Увидел глаза гитлеровца. Ужас в этих глазах. Вероятно, такой же, каким были наполнены и его глаза в том поле в сорок первом году. Ужас на всех один. У него округленные, вылезающие из орбит глаза, перекошенное лицо, полуоткрытый в безмолвном крике рот.
Теперь Рябов услышал этот крик. Что-то он задел в Рябове. Может быть, тот нерв, который удерживает человека в человеке. Может быть, что-то еще. Непознанное. То, что не дает человеку превращаться в зверя. Факт тот, что, услышав безмолвный крик, в последнее мгновение Денис отвернул машину, бронетранспортер промчался рядом с гитлеровцем.
Из леса ударил пулемет. Раздались автоматные очереди. Послышались одиночные, более резкие винтовочные выстрелы. На окраине леса показались люди. Стали падать бежавшие по полю немцы. Из леса выскочили конники.
Рябов не стал задерживаться на поле. Он развернулся, повел машину назад тем же путем, снова огибая деревню. Гитлеровцы замолкли, но они еще не были уничтожены. Какая-то часть из них оставалась в домах.
На мгновение Денис почувствовал неприятную дрожь в руках. То ли от напряжения, которое достигло предела, то ли от возбуждения боем. Очередь из автомата, полоснувшая по щитку, заставила его вновь собраться. Рябов увидел гитлеровца. Тот прятался за срубом колодца. Ударил неожиданно, целясь в Дениса. Рябов направил бронированную махину на сруб. Гитлеровец не выдержал, побежал, припадая на правую ногу. Рябову показалось, что он ранен. Прежде чем это понимание пришло к нему, Ахметов срезал гитлеровца из автомата.
Конники появились и в деревне. Они добивали гитлеровцев.
Рябов выключил мотор. Откинулся на спинку сиденья. Расслабленно бросил руки вдоль колен. Обмяк.
Плюхнулся на жесткое сиденье Ахметов. Прислонился спиной к борту. Пропало желание двигаться. Смотрелось и не виделось. Слушалось и не слышалось. Глушила тишина. Подобное состояние Ахметов испытывал после атак, рукопашных особенно, когда врагов приходилось убивать чем попадя, коли свились в клубок с единственной целью — убить. И еще раз убить. И еще. «Папа, убей немца. Если он встанет, ты его опять убей. Он будет вставать, а ты его убивай…» — как говорилось в письме малолетнего сына погибшему в бою бойцу, которое однажды читал Ахметов.
Не враз стали доходить до слуха звуки. То ли говор, то ли скрип. Ощутилось тепло нагретого солнцем борта за спиной. Увиделась синь неба. Различились запахи. Горечи сгоревшего пороха, сладости некошеных трав.
— Не ранен? — спросил Ахметов первое, что пришло в голову, повернувшись к кабине.
— Нет, — отозвался Рябов, — а ты?
— Пронесло, — сказал Ахметов, представив себе вдруг то, как мучительно искали они выход, как появился на дороге этот бронетранспортер, который выручил, защитил, помог. Вспомнил свое предчувствие удачи перед захватом этой бронированной машины.
— Вот гады, — донеслись до Ахметова слова товарища. — Ни один не сдался. Отстреливались, падлы, до конца. Даже раненые.
— Сила силу переборола, — ответил ему на это Ахметов.
— Не понял, — сказал Рябов.
— Кого давили, э. Карателей. На месте преступления, да. Они понимали, что пощады им быть не может. Расплата для них оказалась сильнее смерти. Страх расплаты за содеянное самый сильный страх, он все другие страхи перебарывает. Даже ужас перед видимой смертью, да. Оттого и стреляли они до конца. Не от геройства.
Подскакал один из конников. К машине бежали люди. Кого-то несли от горевшего амбара. Горели грузовики в конце деревни у леса. Снова послышалась стрельба.
Разведчики выбрались из бронетранспортера. Соскочил с лошади подскакавший партизан. Худой, черный, в ремнях. Слева планшетка, кавалерийская шашка. На другом боку массивный парабеллум в деревянной кобуре. В руках автомат. На голове кубанка с широкой красной лентой наискосок. Нос крупный, мясистый. Глаза сидят глубоко. Широкие брови нависли над ними карнизами. Тронул усы.
— Кто такие? — требовательно спросил партизан.
Рябов не ждал такого приема. Такого тона.
— Сам кто такой? — спросил он нехотя.
Вопрос Рябова партизану явно не понравился.
— Кто мы, о том вся округа знает, — громко сказал он. — Вас видим впервые.
— Тогда и спрашивай о нас у округи, — ответил Денис, повысив голос. — У тех спроси, кого мы из огня вытащили, — показал он рукой на горевший амбар.
Конник пристально всмотрелся в разведчиков.
— Ладно, — произнес он несколько мягче. — Вы находитесь в зоне действия партизанской бригады «За Родину!». Я командир одного из отрядов Полосухин.
«Господи, — мысленно произнес Рябов. — Везение, как и несчастья, идет полосой. Встретились с теми, к кому шли». Вслух, однако, сказал другое.
— Фронтовая разведка, — коротко доложил Денис.
На лице партизана появилось подобие улыбки.
— Это ж другой разговор, товарищи разведчики, — сказал Полосухин. — У нас тут свои зоны, — объяснил он, — потому и спросил. Вас только двое?
— Двое, — согласился Рябов.
— Однако наворотили, — кивнул он в сторону горевших грузовиков.
— Повезло, — сказал на это Рябов. — Крепость удалось захватить, — коснулся он рукой борта бронетранспортера.
— Зовут как?
— Зови Денисом, не ошибешься, — назвался Рябов.
— Ахметов, — представился Фуад.
— Как в Ольховке очутились?
— Это что, допрос? — сказал Рябов, не отошедший от неожиданной требовательности налетевшего на коне партизана.
— Не лезь в пузырь, разведчик, — совсем уж спокойно произнес партизан. — Мы сюда знаешь как рвали. Аллюр три креста.
Рябов хоть и разговаривал с Полосухиным, но и стрельбу слушал. Уловил тот момент, когда затихли последние выстрелы. Настроение поднялось. Задавили немцев.
— К вам мы шли, если вы из бригады «За Родину!», — сказал он. — Приказ был доставить рацию с радистом.
— Вам назвали Ольховку?
— Где?
— В приказе.
— Не знаю. С нами командир был, — объяснил Рябов.
— Где он?
— Там, — махнул рукой Рябов в сторону болота. — Немцы нас больно плотно обложили.
Подскакал партизан. Почти мальчишка. Лицо бледное, ни кровинки в нем. По виду почти мальчишка.
— Ты чего, Сашок? — спросил Полосухин.
Партизан соскочил с коня, подошел к командиру отряда, зашептал ему на ухо что-то. Что, слышно не было. Полосухин переспросил.
— Лю-у-ди! Пожа-ар! — донесся чей-то истошный крик.
Те из жителей, что спешили к бронетранспортеру, остановились, замерли, обернулись на крик. Увидели дым над крайним, со стороны кузни, домом. С той стороны, откуда явились в деревню каратели на своих автомашинах, которые тоже дымили у леса. Народ хлынул на пожар. Рябов почему-то подумал о причинах пожара. Избу могли поджечь каратели. Могла она загореться от взрыва гранаты. Могла полыхнуть и от пулеметных очередей, которыми выкуривал Ахметов гитлеровцев из домов. Огня было много в этом жестоком бою. Он поддался призыву, готов был бежать на пожар.
— Погоди, разведка, — сказал командир партизанского отряда. — Нам с тобой в другом разобраться надо.
Он повел разведчиков за собой, к тому дому, в котором всего несколько дней назад Рябов встретился с подпольщиком из Глуховска Сашей Галкиным.
Вместе вошли в дом. Увидели хозяина. Тот лежал на полу в луже крови, с перерезанным горлом. Глаза старика были открыты. Словно он замер, разглядывая потолок.
Рябов узнал его. К этому старику он постучался ночью, отбившись от своих. Этот старик принял его. Свел Рябова с подпольщиком. Снабдил их болотоходами.
Полосухин не задержался в доме. Слова не произнес. Развернулся, кивнул, приглашая за собой. Направились они в соседний дом, вовсе нежилой, с забитыми окнами. В доме стоял полумрак. Толпились люди. Тоже партизаны. На полу лежало два трупа. И тоже кровь.
— Сонных кончили, — глухо произнес кто-то.
Полосухин распорядился, вышел из дома. Сел на приступках крыльца.
— Ваши? — спросил Рябов.
— Из бригады, — подтвердил командир отряда. Помолчал. Растер ладонью лоб. — Вас они тут ждали, — объяснил, вздохнув.
— Нас? — удивился Рябов.
Полосухин объяснил, каким образом конный отряд очутился в Ольховке. Рассказал о людях, ушедших к фронту, о показаниях Зотовой, о приказе комбрига как можно скорее добраться до этой деревни.
— Неувязка получается, — сказал ему на это Рябов. — Нас к Ольховке немцы загнали. Маршрут у нас шел через Малые Броды. Я тут был у этого деда, — кивнул он на соседний дом.
— Когда? — удивился Полосухин.
— Две ночи назад.
— Ничего не понимаю, — сказал Полосухин. — Был и с нашими не встретился?
— Дед свел меня с подпольщиком из Глуховска. Саша Галкин. Хороший парень. Дед лыжи дал по болоту пробираться. Выручили нас эти лыжи.
— Не знаю такого.
— Он с нашими остался, когда мы до них добрались. Сказал, что постарается вывести наших к вам туда, в бригаду.
— Вот видишь. Возвращаться нам надо немедля.
— Куда?
— В бригаду, куда еще.
— А ребята?
— Ты видишь, что здесь произошло? Могли они и подсадку сделать.
— Какую подсадку?
— Подсадить к вам своего под видом подпольщика.
— Не похоже, — выразил сомнение Рябов. — Если бы, как ты говоришь, они подсадку сотворили, разве стали бы эти падлы вести огонь на уничтожение. Они же там, — он опять указал на болото, — топи вверх дном перевернули. Как выжили, не знаю.
Полосухин задумался. Война, особенно партизанская соткана из неожиданностей. Понял это давно, да привыкнуть никак не может. Решать тем не менее что-то надо.
— Пожалуй, ты прав, — согласился он с Рябовым, — надо идти.
Из Ольховки ушли не сразу. Хоронили партизан, хозяина явки, женщину и старика, убитых карателями в перестрелке, когда хлынул народ из горевшего амбара. Собрали оружие убитых гитлеровцев. Рябов осмотрел бронетранспортер. Видимых поломок не оказалось. Горючего оставалось в баках много, приборы работали, двигатель завелся с полуоборота. Бронетранспортер решили сохранить, спрятали его в лесу, в зарослях. Жителям посоветовали тоже уходить в лес. Назвали место, где они могут получить помощь от партизан. Сказали, что судьба Ольховки гитлеровцами решена, да они это и сами поняли. Ушли к вечеру, когда солнце почти коснулось горизонта.
Из письма начальника тылового района 17-Ц майора Пауля Кнюфкена некоему Феликсу Шеффнеру, погибшему в железнодорожной катастрофе по пути следования на фронт.
«…я пытаюсь понять, дорогой Феликс, то, что происходит, почему нас преследуют неудачи. Случай с моим бывшим начальником, место которого теперь занял я, приоткрыл мне глаза на явления, тормозящие наше движение к цели. Что бы там ни говорили разного рода нытики после Сталинграда, во мне зреет убеждение, что наш фюрер прав, сто раз прав, давая оценку неудачам на Восточном фронте. Виноваты бездарные генералы. Виноваты недочеловеки типа Фосса. Они сумели возвыситься на волне нашего движения, а теперь проваливают дело. Волны, как известно, несут на себе пену. Подобно пене они взлетели на гребне волн. Но пена остается пеной. Волны нашего прибоя выплеснут ее на прибрежную полосу, а сами с новой силой ударят в основание большевистского фундамента, и это будет последний удар, от него распадется все здание Советов.
Дорогой Феликс! Сердечно рад именно твоему поздравлению с назначением меня на эту должность. Ты прав, передо мной открывается перспектива. «С большого, — как ты пишешь, — кресла видится и лучше, и дальше». Я сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно лучше выполнить волю фюрера. Несмотря на то, что положение у нас тут очень серьезное. Не проходит дня без чрезвычайных происшествий. Странно, но сопротивление русских растет, все мы обеспокоены подобным положением. Многое оказалось не так, как мы когда-то думали, и это обстоятельство тем более налагает на меня особую ответственность…»
XVI
Разум не принимал очевидного: гитлеровцы уходили из леса. Зная немецкий язык достаточно, чтобы разобраться в значении слов, фраз, команд, Леня Кузьмицкий понял: каратели уходят, солдатам приказано собраться на дороге возле машин.
Ночью после ухода Рябова и Ахметова с острова у протоки разгорелся настоящий бой. В этом бою было много огня. Осветительных и сигнальных ракет, одиночных выстрелов, автоматных и пулеметных очередей, означенных трассирующими пулями. В ночи слышались взрывы гранат. Обеспокоились и те немцы, в сторону которых бесшумно двигались разведчики, покинув остров. Гитлеровцы стали вешать осветительные ракеты. Огненные шары вспыхивали то в одном, то в другом месте, показывая, как широко держат под наблюдением немцы болото, которое надежно укрывало разведчиков Речкина от света. Они уже приблизились к берегу, брели высоким тростником, меж тростника встречались кочки, островки суши, поросшие деревцами и кустарником. Чем ближе подступал лес, тем гуще становились заросли.
Не доходя до берега, устроили раненых. Устраивали так, чтобы они не мокли в воде. Маскировали лежащих на самодельных носилках Речкина и Стромынского. Определились между собой. Рядом с ранеными остались Пахомов и Козлов. Подпольщик Галкин, оба Лени — Асмолов, Кузьмицкий — подобрались поближе к немцам, рассредоточились. Схоронились так, чтобы с рассветом можно было бы наблюдать за немцами, слушать их переговоры, упредить попытки сунуться вновь в болото, если до этого дело дойдет. Ждали начала дня, артиллерийско-минометного огня, бомбежки. Готовились к худшему. Особенно с рассветом, когда в небе вновь зависла «рама». Теперь выходило, что опасения были напрасны, немцы убирались из леса. Или они готовили какую-то пакость, или действительно поверили в прорыв всей группы. Но могло быть и такое, что немцы готовились бомбить всю округу, потому и уводили своих солдат.
Кузьмицкий всматривался в межстволье прибрежного леса, видел гитлеровцев, слышал их голоса, не мог поверить очевидному. По житью в Полесье, по прежнему своему партизанскому житью-бытью он знал немцев, потому и предположил вариант с бомбежкой всей прилегающей к болоту территории. Немцы всегда доводят дело до конца. Они бомбили, обстреливали лесные массивы, если узнавали о партизанах. Оттого партизаны и старались приблизиться к ним, рассчитывая, что в своих они бомбы кидать не станут. А тут гитлеровцы уходили, не доведя дело до конца. Уходили с легкостью, поспешая один за другим. В правдивости их ухода убеждала безоглядность карателей, с которой они покидали лес. Так уходят, когда нечего больше ждать, когда есть приказ уходить. Была еще одна верная примета их ухода. Всевидящая «рама» покружив над островом, стала вдруг смещаться, удаляясь все дальше и дальше. План, похоже, удался, немцы, похоже, поверили в прорыв своей блокады. Думалось об этом с замиранием сердца, верилось и не верилось.
Леня проводил взглядом последнего солдата, прислушался. Уловил гул заработавших двигателей. Потом и этот гул стих. Замер лес. Голос подавало лишь болото. Оно вздыхало, булькало, бормотало. Слышались голоса птиц. Солнце пригревало все сильнее и сильнее. Оно разогнало рассветный туман, коснулось поверхности болота. Лица Кузьмицкого что-то коснулось, он дернулся, вскинул голову. Увидел над собой синь неба, редкие облака, черный силуэт парящего коршуна. Тень этого коршуна коснулась лица, Леня почувствовал прикосновение, оттого и вздрогнул. Нервы, похоже, напряглись до предела.
Неожиданно резко повеяло болотным газом. Леня насторожился, Глянул в сторону, прислушался. Уловил шелест. Вгляделся. Заметил слабое, не от ветра, шевеление тростника.
Показался Асмолов. За ним двигался Галкин.
— Видал? — спросил, приблизившись, Асмолов.
— Видал, тезка, видал, — вздохнул Кузьмицкий.
— Надо что-то предпринять, — зачастил Асмолов. — Черт их знает, этих фрицев, может быть, они что-то задумали.
— О том же кумекаю, — сказал Кузьмицкий. — Как думаете, можно ждать подвоха? — спросил он у Галкина.
— Гадать дело пустое, — негромко произнес подпольщик. — Когда разговор о карателях, тут надо знать наверняка.
— Тогда так, — на правах старшего распорядился Кузьмицкий, — вы идите к нашему командиру, — сказал он, обращаясь к подпольщику, — а мы с Леней туда, — кивнул он в сторону леса. — Посмотрим, нет ли засады. Эти гады могли и засаду устроить. Смотрите, мол, мы уходим, а сами оставят и глаза, и уши врастопырочку, чтобы видеть и слышать. Проверить, здесь мы где-то или действительно прорвались. Короче, глянуть надо.
— Когда ждать обратно? Что доложить командиру?
— Вернемся через час.
— Добро.
— Отыщете их? — спросил Кузьмицкий.
— Ориентир я запомнил, — сказал Галкин.
Кузьмицкий кивнул Асмолову, они направились к берегу, к лесу.
Галкин добрел до ориентира, березы-трезубца, причудливо выросшей из одного ствола, не увидел ни Речкина, ни Стромынского, ни тех разведчиков, что остались рядом с ранеными. Галкин стал оглядываться.
— Здесь мы, — раздался голос.
Тростник раздвинулся, Галкин увидел сержанта, который оставался за старшего после лейтенанта, опекал своего командира определял, что делать всем и каждому.
И раненые, и те, что остались возле них, замаскировались хорошо.
— Чего пришел? — спросил Пахомов.
— Немцы ушли, — доложил подпольщик.
— То-то, чую, стихло, а? Совсем, что ли, ушли? — спросил сержант.
— Похоже, совсем, — объяснил Галкин. — Ваши разведчики послали меня к вам.
— А сами?
— Поползли глянуть, что там да как.
— Пробирайся сюда.
Галкин шагнул, провалился по пояс, тут же выбрался, ухватившись за руку сержанта. Подошли к лейтенанту. Речкин услышал их шаги, стащил с лица плащ-палатку.
— В чем дело, сержант?
Речкин приготовил себя к тому, чтобы лежать весь день, настроился на мучительное ожидание, появление Пахомова и Галкина удивило и насторожило.
— Немцы ушли.
— Совсем?
— Ребята пошли разведать.
— Не влипнут? — обеспокоенно спросил Речкин.
Пахомов неопределенно пожал плечами.
— Думаю, ушли они совсем, — сказал Галкин. — Видел я их, слышал команды.
— Поверили, что ли? В то, что мы прорвались?
— Кто их знает, — ответил Пахомов.
— Ребята ваши вернутся через час, так они сказали, — доложил Галкин.
Зашуршал тростник, из зарослей показался Сергей Козлов.
В свое время знакомый лейтенант позавидовал Речкину. «Везучий ты, Никита, — сказал он. — Сам под притолоку вымахал, людей подбираешь себе под стать. Экую махину опять отхватил». Знакомый лейтенант, тоже разведчик, встретился на какой-то остановке, когда Речкин вел Козлова-новобранца в свой вагон. Их дивизия после переформирования возвращалась на фронт. В пути Речкину предложили познакомиться с новобранцем. Речкин поговорил с Козловым, принял его к себе. Тогда знакомый лейтенант и позавидовал своему товарищу. Речкин хотел было сказать в ответ, что дело не в росте, тем более что в его группе заметно рослых к тому времени оказалось всего трое: он сам, Колосов да этот новобранец, к которому еще предстояло присмотреться, готовить и готовить, однако промолчал. Времени не было, эшелон остановился на чуть-чуть, да и чего говорить попусту. Если бы фронтовые дела от роста зависели… Познакомившись с Козловым, Речкин понял, что бывший шахтер напорист, решителен, а это уже было кое-что. Была основа для того, чтобы сделать из него разведчика.
Лицо человека определяют поступки. Поступки определяют надежность человека, без которой в военном деле, в разведке особенно, никак нельзя. Отбирая людей в свою группу Речкин постоянно помнил об этой святой истине. Козлов же, как тогда выяснилось, сделал решительный шаг. Его можно было судить и осудить за этот шаг, но и понять тоже можно было.
Довоенная жизнь Сергея Козлова была, казалось бы, определена на долгие годы семейной традицией. Его прадед, дед, отец были шахтерами. На шахтах работали родственники отца, матери. Сергей, по достижении возраста, тоже спустился в шахту. Попал в хорошую бригаду, к хорошим мастерам. Устраивала его такая судьба. Об иной доле не задумывался. Работал, увлекался спортом, встречался с девушкой.
Все б было хорошо, да началась война. С первых ее дней одолел Сергея стыд. Самый натуральный стыд, от которого не то чтобы глаз не поднять, дышалось трудно. «Ну как же, товарищ лейтенант, — говорил Козлов Речкину после их знакомства, — всех в армию брали, а нас, шахтеров, — нет. Особенно забойщиков…» Ходил в те дни Сергей с работы, на работу, глаз от земли не поднимал. В каждом встречном взгляде укор видел. Каждый встречный, казалось, спрашивал: чего ж ты, такой бугай вымахал, а не на фронте? Потом, когда шахтеров из Сталино в Сталинск эвакуировали, вовсе худо стало. Навстречу эшелон за эшелоном следовали, а он, выходило, от фронта бежал, ехал в глубокий тыл. Об этом ему и крикнул какой-то плюгавый боец из новобранцев со встречного эшелона. «Эй ты, — крикнул плюгавый, — с такой ряхой — и тоже-ть в тыл под бабьи юбки пробираешьси!» У Сергея котелок с кипятком из рук выпал. Вернулся в свой вагон, лица на нем не было. Он к отцу. «Не могу я, батя, так-то, делать надо что-то». Отец успокаивать начал. «Злой человек в тебя словами все одно что камнями бросил, а ты места себе не находишь. Нельзя так. — А потом добавил: — Уголь ноне снарядам вровень, без угля не навоюешь». И сказал вроде бы правильно, да душу не успокоил. Умом Сергей понимал необходимость брони, которой оградили его от призыва, острую необходимость страны в забойщиках, однако сердцу от такого понимания легче не становилось. «Как хочешь, отец, дальше я не поеду», — сказал он и тут же, на станции, стал собираться в обратную дорогу. Мать в слезы, младшие притихли, соседи по вагону опасения разные высказывать начали. В том смысле, что за дезертирство с трудового фронта и посадить могут. «Посадить, конечно, могут, — согласился отец, тяжело вздохнув, предвидя возможные последствия такого побега с дороги, — но и то вижу, как невмоготу тебе, Сергей. Иди, сын, воюй. Если что, скажешь, отец отпустил. Скажешь, что норму твою мы меж собой поделим, братья, мол, за тебя остались, обучу я их».
В рассказе Козлова Речкин оценил тогда то обстоятельство, что, решившись на побег к фронту, Сергей Козлов о своем шахтерском долге не забывал, думал и говорил об отце, о братьях меньших, что за него остались. Ответственно убегал на фронт, о деле не забывал. Находчивость к тому же проявил, к командиру дивизии в штабной вагон проник. Раздобыл где-то молоток на длинной деревянной ручке, коим железнодорожные мастера колеса простукивают, потоптался с ветошью в руках в виду часовых, пошел вдоль эшелона. Приблизился к штабному вагону. По колесам постучал, залез под вагон. Что-то там якобы подправил, вылез, нырнул к буферам. И там что-то осмотрел. Забрался на площадку, с площадки в тамбур и в вагон. Выбрал момент, доложился генералу.
Комдив перво-наперво спросил, каким это образом Козлов в вагоне оказался. Козлов не скрывал. Генерал при нем вызвал начальника эшелона, прочих ответственных, учинил им разгон за ротозейство. Козлова оставил. «Парень с головой, — сказал генерал о Козлове, — таких в разведку надо». Приказал уладить личные дела парня о бронью и прочим. Дезертировал все же Козлов с трудового фронта.
В последующем Козлов оказался хорошим разведчиком. Он Колосова на себе из немецкого тыла тащил, когда того чуть было ангина не задушила, доставка «языков» тоже лежала на нем. Взвалит на себя немца, если надо, крякнет — и пошел, подмены не попросит. Ровный, надежный парень.
…Пахомов в двух словах объяснил Козлову то, что произошло. Немцы ушли. Спросил о самочувствии Стромынского.
— Хорошего мало, — тихо произнес бывший шахтер, — то вроде бы ничего, дышит ровно, то беспокойство ощущает. Вредно ему в болоте, держится, чувствую, из последних сил.
Речкин услышал их негромкий разговор. По себе он чувствовал, что тоже держится из последних сил. Дышалось трудно, с трудом открывались глаза. Отяжелели веки. Чувствовал губительность воздуха, насыщенного гнилью, болотным газом. Хотелось сосредоточиться на чем-то важном, на том хотя бы, как быть, если немцы действительно ушли и засады не оставили. Сосредоточенности не получалось. Пустое лезло в голову. Лезло навязчиво, безотрывно. Думалось о том, что однажды ему уже приходилось переживать то, что переживал он в настоящем. Главное — не первый раз он думал об этом. Шел ли лесной тропой, сидел ли в засаде, в самый, казалось бы, неподходящий момент виделось ему, что и шел-то он когда-то этой тропой, хоронясь чужого взгляда, сидел в засаде, выглядывая врага.
— Где наши Лени?
— Пошли глянуть, что там да как.
— Когда вернутся?
— Обещали через час. Теперь меньше осталось.
Речкин слышал разговор Пахомова и Козлова, а ощущение того, что с ним все это уже было, не проходило. Казалось, что и в этом болоте он лежал однажды, укрывался в зарослях именно этого тростника. И эта береза-трезубец маячила перед глазами. И сам он был то ли ранен, то ли болен.
— Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант!
Не сразу дошло до сознания, что Пахомов пытается дозваться его.
— Ты чего, сержант?
— Может, двинем к берегу, раз такое дело?
— Какое?
— Если немчура ушла.
— Вот именно, если…
— На берегу передохнем. Отдышитесь.
— Вернутся ребята, тогда решим, — сказал Речкин, смежил веки, задумался о том же.
Было. Все так и было. И лежал, и ощущал боль. Вот только где и когда? Почему появляется это ощущение? Для чего оно?
Лейтенант намеренно стал терзать себя вопросами. Пытался найти хоть какие ответы. Чтобы хоть как-то отделаться от пустых, как ему казалось, раздумий. Ведь не был же он в этих местах, никогда в жизни не был. «Может, зов крови? — спросил себя Речкин. — Может быть, сидит во мне и говорит мой далекий пращур? Но для чего? Почему он именно сейчас или в подобные моменты, когда нависает опасность, доносит до меня то, что, быть может, выпадало на его долю. Хочет предостеречь? Смотри, мол, было и со мной такое. И били меня, и убивали, загоняли в леса, в болота, но я выжил, иначе не было бы тебя. Иначе не было бы всех нас, а значит, и России. Мы выжили под татарами, на нас кто только не нападал. Мы и крались тайными тропами, и в засадах сидели. Держись и ты. Тебе себя продолжать, свой род, Россию. Сил не останется, а ты держись».
То, что еще совсем недавно казалось пустым, наполнилось смыслом. Воспринималось как необходимость, которая приходит в минуты крайней опасности, ибо нет большей опасности для человека, чем та, что расслабляет волю. Сил не станет, а ты держись!
— Вы чего, товарищ лейтенант? — услышал он голос Пахомова. Понял, что задумался вслух.
— Нормально, сержант, нормально. Держаться, говорю, нам надо.
— Это точно, — подхватил Пахомов.
Послышался шорох тростника. Вернулись оба Лени. Впереди, как всегда, Кузьмицкий, мастер он по болотам ходить, за ним — Асмолов.
— Чисто, товарищ лейтенант, — доложил Кузьмицкий.
— Берите прежде Стромынского. Маскировку не снимать, — приказал Речкин.
— Ясно, товарищ лейтенант, не первый раз замужем, — бодро отозвался Пахомов, машинально повторив одно из выражений Дениса Рябова.
Теперь, когда кончилось мучительное ожидание, появилась возможность действия, сержант оживился, с видимым удовольствием принял перемену обстановки. Тут же стал распоряжаться людьми. Кузьмицкому приказал выдвинуться вперед. Вести группу, выбирать дорогу, показывать проходы. Раненого Стромынского поручил заботам Галкина и Асмолова. Козлова оставил подле себя, чтобы вместе с ним нести командира.
До берега добрались благополучно. Остановились, чтобы передохнуть, отжать форму, слить воду из сапог, определить дальнейший маршрут. Определиться надо было, поскольку появился выбор. С одной стороны, они готовились к бомбежке, к артобстрелу, а в конечном итоге — и к возможной блокаде, которая могла затянуться. Об этом лейтенант говорил с Рябовым и Ахметовым, отправляя их на задание, ставя перед ними задачу добраться до Ольховки, до партизан и вернуться с помощью. На все это, учитывая расстояние, сложность обстановки, отводили дней пять-шесть. Не думали, не гадали, что немцы снимутся утром, уйдут так необыкновенно просто. Теперь получалось, что группа может или опередить своих посланцев, или нагнать их. В зависимости от маршрута, который они выберут.
К Ливонскому лесному массиву, к основной базе партизанской бригады «За Родину!», можно было пробираться двумя путями. Дорогой до Соти, а там и до цели рукой подать, как объяснил подпольщик Галкин, или через Ольховку. Заманчиво было двинуться к реке, этот путь короче вдвое. Но по берегам Соти идут оборонительные работы, причем дорога, как объяснил Галкин, идет не только лесом, в случае чего там и укрыться негде. Можно нарваться и на немцев, и на полицаев. К Ольховке идти, конечно, тяжелей, но лесом, под прикрытием зарослей. Появилась надежда нагнать Рябова с Ахметовым, если у них все в порядке. Если живы, не ранены. Заваруху они ночью устроили крупную.
Посоветовались разведчики, выбрали второй вариант дороги, то есть через Ольховку.
Лес, которым они шли, оказался сырым, осиново-березовым, с кочками, с множеством валежника под ногами. Идти по нему было сущим наказанием. Особенно вначале. То и дело обходили заросли кустов, через которые с носилками не продраться, огибали стволы многих упавших деревьев, что рогатились всеми своими ветками. Особенно донимали комары. В лесу их оказалось больше, чем в болоте, они клубились роем над каждым, лезли в глаза, в уши, в нос, мешая смотреть, слушать, дышать. Чтобы как-то уберечь раненых от комаров, разведчики прикрыли Речкина и Стромынского плащ-палатками, но, во-первых, эти маленькие кровопийцы забирались и под накидки, а во-вторых, солнце прогрело лес, припекло, от духоты раненым дышалось тяжело. Стромынский начал впадать в беспамятство. Бредить начал, рваться с носилок. Настолько, что пришлось его привязывать ремнями. В конце концов, вскоре после полудня, сделали привал. Самим отдохнуть, жару переждать. Ждали до четырех часов. Снова шли. Шли до захода солнца. На ночь остановились возле какого-то оврага.
Весь путь от болота до этого оврага Кузьмицкий нес с собою охапку корней каких-то растений. Как только остановились на ночлег, Леня нырнул в овраг. Когда же вернулся, объявил, что нашел родник. Корни были тщательно вымыты, тут же он принялся из разделывать. На вопрос Пахомова, что за бороду он тащил от болота, сказал, что борода эта целебная, корень аира, который помогает от многих болезней, в том числе способствует заживлению ран. «Ты скажи на милость, — откровенно удивился Пахомов, — я думал, в тех топях можно только яд добывать. Особенно после того, как они разворотили болото снарядами». Разговаривая, Леня чистил корни, крошил финкой белую сердцевину. Пахомов тоже принялся за дело. Вместе с Козловым набрали они сухих тонких веток для бездымного костра. Пока светло, пока не сгустилась темень. Колосов с Асмоловым сходили к роднику, принесли стылой воды. Кипятили воду, готовили отвар из аира. Омыли раненых. Дотемна успели и перевязать обоих, и напоить отваром, причем выварку аира, по совету Лени Кузьмицкого и при его участии, наложили на раны, густо пересыпав стрептоцидом. Леня сказал, что такая смесь не повредит, поможет и жар согнать, и вылечить.
Стромынский уснул сразу после перевязки. Рана у него оказалась неглубокой, осколок снаряда пропахал ему спину, задев кость лопатки.
После перевязки Речкин тоже почувствовал облегчение, смежил веки в готовности заснуть, но не смог. На миг вернулось прежнее, то, о чем думалось в болоте. Он подумал о Колосове, о радисте, о тексте радиограммы, которую радист должен был передать в штаб фронта, если разведчики доберутся до партизан. «Приказ выполнен, — сообщал Речкин штабу фронта. — Рация, радист, старшина Колосов находятся у «Кума» (позывной для связи комбрига Солдатова). Группа осталась в квадрате 47—14. Дальнейшая связь с «Кумом». Текст этой короткой радиограммы радист зашифровал при Речкине, шифровку лейтенант передал Колосову. «Радиограмму отправите, как только доберетесь до партизан, — сказал тогда Речкин своему старшине. — Подробно доложите товарищу Солдатову о том, что произошло. Комбрига знают в штабе фронта, он в свой черед знает, что и как доложить». Теперь лейтенант подумал о тексте радиограммы с сожалением. В первую очередь надо было попросить замену радисту, — пришел к выводу Речкин. Он лежал и думал о Колосове, о Неплюеве, о том, чтобы, не дай бог, радист не выдал бы старшину в пути.
Такое чепе в группе Речкина произошло впервые. Лейтенант стал думать о том, что за два года войны, за исключением того времени, когда он лежал в госпитале, и тех кратких перерывов, когда дивизию отводили на переформирование, то есть за два года фронтовой жизни ему часто приходилось сталкиваться с неожиданностями, каждый раз они не походили одна на другую, каждый раз это было что-то новое, он принимал решения, на которые обстановка отводила мгновения. Причем каждый раз не было у лейтенанта права на ошибку, как произошло это в случае с Неплюевым. В тот миг, когда радист бросился бежать, Речкин по праву мог бы остановить Неплюева выстрелом. Немецкий летчик выстрела не услышал бы. Тогда они отсиделись бы в зарослях, ушли бы от преследователей. Но в том-то и дело, что пойти именно на такой шаг Речкин не мог. Сразить Неплюева выстрелом значило сорвать задание командования.
Тревожное предчувствие шевельнулось в душе Речкина. Было и раньше на памяти лейтенанта такое, что люди не выдерживали испытания огнем, муками войны. У одних наступало краткое расстройство психики, у других — неизлечимое умопомешательство. Что там с Неплюевым сейчас, поди узнай. Вдруг да осложнения начнутся. О таком исходе раньше он как-то не думал. Иные заботы отодвигали думы о старшине, о радисте. Речкин попытался отогнать тревожное предчувствие. «Колосов, конечно, добрался до Малых Бродов, — рассудил он, — прошел половину пути благополучно. Иначе не пришел бы с помощью подпольщик Галкин. Добрался ли старшина до бригады? Если добрался, в каком состоянии радист? Сможет ли Неплюев передать текст хотя бы одной радиограммы? Вот ведь незадача, — шептал Речкин, — столько приложено усилий, и все это может оказаться напрасным…» Речкин не находил слов. Одно увиделось четко: отсутствие нужной информации накануне грандиозной битвы — это и лишние жертвы, которых можно было бы избежать.
Ночь выдалась тихой. Тем более что лежал Речкин под плащ-палатками, отгорожен был ими от леса, от наружных звуков. Снаружи доносился до него лишь комариный гул. Тоже приглушенный, дальний, как затухающая боль вырванного под заморозкой зуба. Лейтенант удивился возникшей вдруг тревоге. «Устал, наверное, — заключил он, — вот и чудится невесть что». Он еще полежал какое-то время, потом уснул.
Утром поднялись чуть свет. Шли весь день. Остановки делали короткие. Даже после полудня в разгар жары. Лес пошел посуше да почище. Дул ветерок. Поубавилось комарья. К вечеру приблизились к Ольховке. Приближение деревни почувствовали по запаху гари. Насторожились, устроили раненых. В разведку послали все тех же Лень: Кузьмицкого да Асмолова. Вернулись они скоро и не одни. Подошел улыбающийся Рябов. За ним Ахметов. Шли еще люди. Виделись всадники.
XVII
Загон для скота огорожен жердями в два ряда, жерди приколочены к стволам деревьев, кроны которых маскировали животных. Старшина Колосов сидел, примостившись на жердине, спиной к животным, слушал перебранку женщин с кем-то из партизан, обеспечивающих, судя по этой перебранке, доставку травы в лагерь.
— Вы б глаза разули, когда косили, — доносился до Колосова женский голос. — Осоки навезли и рады.
— Нам, товарищи женщины, немца, кроме всего прочего, бить приходится, — отвечал бойкий мужской голос — Добьем его, треклятого, такой травы накосим, сами станете хрумкать с превеликим удовольствием.
— Ты коровам об этом расскажи, они умные, может, и поймут.
— И расскажу, а что? Партизанские коровы не в пример некоторым, соз-на-тельные!
— Сознанием упрекаешь? А того понять не хочешь что без доброго сена от коровы молока не получишь…
— И то правда, Дусь, — послышался другой женский голос. — Кругом травищи, травищи, а они осоку режуть.
— О чем и говорю. Поляны, опушки, кака трава зазря пропадает, а они по болотинам с косами.
— От ведь как, а? По болотинам? А знаете ли вы, героические наши женщины, что не на каждую поляну ноне сунешьси. Особливо ночью. Не с каждой опушки ноне травку возьмешь. Немец, что же, по-вашему, дурак? Иль у него мин не стало хватать? Немец, он с осени по жухлой траве мины поставил, чтобы мы, значит, шагу ступить не могли. Иль забыли, как на майской травке Васька-то Агеев подорвалси?
— Ты Васькой не прикрывайся. Васька хоть и молод был, а к делу относился с сознанием и пониманием. Знал что без молока ни раненых не поднять, ни детишек не выходить, старался.
— И то правда, Дусь. Кабы не Васька, рази мы зиму выдержали бы? Сколь он сена на зиму заготовил, а?
— Вот-вот, хорош был заготовитель, чего там говорить. Только иде он теперь, иде?
— Да тебя, пустозвона, похоже, только собственная судьбина и беспокоит.
— Но-но, женщины. Па-п-рашу без личных выпадов. Меня, что же, по-вашему, зазря медалью наградили? Иль я от боя уклонялси?
— В бою все вы храбрые, только дела простого справить не можете. Ты лучше скажи, каково скотине языки о твою осоку рвать, а? Да и что же это за корм, а? Неужто простого понятия нету, а?
— У нас то понятие, чтобы гитлерюгу треклятого изничтожить. Коровушки ваши пережуют то, что исть.
— Вот ты как? Ну ладно. Ну, смотри, Афанасий. Седня же покажу вашу заготовку товарищу Хлебникову. Седня же передам ему твои речи.
— И то правда, Дусь. Чегой-то они над скотиной глумятся.
Тот, кого женщины назвали Афанасием, замешкался с ответом.
— Вы, это… Женщины, — донеслось до Колосова. — Мы, это… Сами разберемси. Чего по-пустому к Сергеичу бегать.
— Как это по-пустому, а? Как это по-пустому?
— Чего к словам-то цепляешьси? Чего к словам цепляешься, говорю? Седня же днем травы раздобудем, вот те крест. Днем пойдем и накосим…
Колосов томился в ожидании конного отряда, который должен был вернуться третьего дня с часу на час, как сказал о том комбриг Солдатов, однако конники не возвращались, что там произошло в неведомой старшине Ольховке, оставалось неизвестным. Колосов пытался занять себя все эти дни хоть чем-то, не мог. Сунулся с помощью к шорникам, руки не держали ни шила, ни дратвы. Не дались другие дела. Такое состояние было, будто потерял он точку опоры, закачался после того приступа в землянке комбрига, когда его словно бы окатило чем-то горячим, а душевного равновесия, помогающего держать боевую форму, восстановить не мог.
Старшина сидел на жердине согнувшись, упершись мысками сапог в землю, локтями в собственные колени, слушал перебранку за спиной, пытался подобраться к какому-то важному для себя выводу. Ему казалось, что этот вывод, если он к нему подберется, поможет восстановить былую уверенность в себе. Желание это было таким же, как на поляне во время короткого, но доброго отдыха, когда ему вдруг захотелось побриться, когда за порывом снять с себя панцирь из щетины увиделся благополучный исход казавшегося бесконечным перехода. Так бывало и раньше. Если приходилось туго, старшина искал зацепку, старался убедить себя в том, что могло бы быть хуже, тяжело не только ему, многим, в иных обстоятельствах, в иной обстановке, как, например, этим женщинам, партизанам, для которых простое, казалось бы, дело, заготовка травы, оборачивается потерями.
Накануне вернулся лесник. Михаил Афанасьевич Степанов, как оказалось, собирал по лесам жителей многих деревень, укрывшихся от жестокости гитлеровцев и их приспешников. Колосов увидел Сашу Борина, Надежду Федоровну Степанову. Лесник привел на базу оставшихся в живых родственников партизан. Люди эти еще до базы не дошли, а весть о их приближении прошелестела по лесу. Свободные от служебных обязанностей партизаны поднялись, заторопились, потянулись навстречу беженцам. Обоз вскоре поравнялся со старшиной.
За два года войны Колосов видел много слез, а такие увидел впервые. Степанов привел с собой человек триста. Шли женщины. Брели, оступаясь, старики. Шли подростки. Шли видавшие виды партизаны из тех, что сопровождали обоз, из тех, что побежали навстречу беженцам. На немногочисленных подводах сидели малолетние дети. И не было ни одного человека без дорожек-слез под глазами. Колосов стал свидетелем какого-то всеобщего тихого плача. Как будто люди отдали все силы, их не осталось на крик, даже на всхлипывание. Они шли и молча плакали, когда, казалось бы, должны были ликовать от встречи с близкими, от сознания окончания небезопасного перехода, оттого, что оказались они наконец под надежной защитой. Бросилась навстречу своей матери Галя Степанова. И тоже не закричала, тоже беззвучно заплакала. Обоз с беженцами обрастал людьми, с ними творилось то же самое, они плакали молча. Но больше всего Колосова поразил беззвучный плач самых маленьких беженцев, которым, казалось, самой природой отведено право криком оповещать мир о своих болях.
Вывод, тот главный для себя вывод, о котором он думал, пришел сам собой. Колосов подумал о страдании детей на войне. Маленьких беженцев, беззвучно плакавших на телегах, других, чьи лица оставались в памяти, как это было при освобождении села Рыбницы в сорок втором году при захвате немецкого госпиталя, в котором оказались дети-сироты, дети-доноры, у которых гитлеровские врачи, врачи-убийцы, забирали кровь.
Светило солнце. Оно гнало лучи к земле, к людям. Казалось, лучи его шарят и шарят в дальних, самых потаенных закоулках с единственной целью — выискать самое обездоленное, самое замерзшее существо, обогреть это существо, а поскольку обездоленных, замерзших много, так много, что не знаешь, на ком остановиться, оно шарит и шарит, проникая всюду, нет конца бесконечному поиску.
Собственные невзгоды показались старшине такими мелкими, что ему стало неудобно за свою слабость. Старшина испытал стыд. За полуобморочное состояние в землянке комбрига, за потерю уверенности в себе, за то, что он, солдат, поддался слабости. Нет у него права ни на болезни, ни на проявление слабости. К такому выводу пришел Колосов. Пока светит солнце, пухнут вены на руках от тока крови, пока видит, слышит и дышит, нет у него права на остановку…
Безделье тяготило, Колосов маялся. Посидел на жердине, поднялся, стал ходить. В конце концов снова сел в тени кустов. Только сел, тут же услышал разговор.
— Лех?
— Чего тебе?
— Ловко ты его завалил.
— Ну.
— Ловко, говорю, ты его завалил.
— Завалил и завалил.
— Не скажи. Мне бы так не пофартило. Это у тебя какой?
— Четырнадцатый.
— Четырнадцатый?
— А чо?
— Интересуюсь. Меня сколь учили, а такой чистой работы не видал.
— Дак привычка.
— Чего?
— Привычка, говорю.
— Объяснил бы.
— Чо объяснять-то?
— Как это чо? Секрет есть аль нет?
— Дак рядом же был, видал.
— Я и раньше видал, выбора не было. А ты, Леха, выбирал.
— Ну.
— Выбирал, говорю.
— Вез выбора неча соваться.
— Ты сам-то откуда родом?
— А чо?
— Интересуюсь. Я о тебе теперь, Леха, все хочу знать.
— С Кондрашихи.
— Далеко это?
— Далече. Томск слыхал?
— Сибиряк, значит?
— Ну.
— То-то, чую, терпенья в тебе много.
— Без этого нельзя.
— Сколь мы с тобой пролежали, а? Комарья-то, комарья. А ты вроде бы ничего.
— Дак привычка, говорю.
— Вымок я, Леха, в том болоте, меня тогда, Леха, хоть выкручивай и отжимай, а все одно я рад.
— Пустое.
— Чего ты говоришь-то, чего говоришь?
— Пустое, говорю.
— Не, Леха, не каждому дано, а ты выдержал. Сколь их прошло, а ты свово дождался. Откуда узнал, по слуху аль как?
— Ты тоже-ть наловчишься.
— Не, Леха, у тебя талант. Как ты его завалил, пасьянс!
— Чего?
— Пасьянс, говорю. Вагон к вагону лег.
— Как велено было, так и завалил.
— Лех?
— Чего?
— Возьмешь меня еще?
— Дак ходи.
— Спасибо. Я, Леха, тоже хочу, как ты. У меня, Леха, счет к ним особый имеется. Они, Леха, всех моих в расход…
— Ноне у каждого кипит.
— Кипит, это ты, Леха, правильно сказал. Так кипит, что все нутро изожгло. Веришь, нет, дышать трудно. Я б, Леха, всю их Германию разнес бы к едрене-фене…
Колосов сменил место, снова здорово. В разговор уперся. Ему неудобно сделалось. Сел, устроился, на́ тебе, голоса. Ни встать, ни уйти…
Говорили двое.
— Они с нами как?
— Известно как, смерть за выдох, смерть за вдох.
— Я о другом.
— О чем?
— О заложниках.
— А-а-а.
— За каждого убитого солдата заложников хватают. Вот и я стал у них заложников брать.
— Как это?
— На мушку, как еще. Беру да стреляю. У меня тоже свой счет имеется.
— О твоем счете теперь все говорят. О нем в газете написали. По твоему примеру, Николай Дмитриевич, другие свои счета открыли.
— Верно.
— Все-таки двести десять фрицев ты уложил, а!
— Здесь да, двести десять.
— Почему здесь?
— Потому как недавно считать начали. До того я их, может быть, и больше уложил.
— Когда же?
— С двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года.
— Ты прям с первого дня начал?
— С первого.
— И где?
— Под Брестом.
— Далеко это?
— За Минском. Они мне там два пулемета разбили, а у меня, веришь — нет, ни царапины не оказалось. Только оглох я тогда здорово.
— Глухота — это от контузии бывает, она проходит.
— Точно. Прошла. Мне тогда мой лейтенант — Соколов его фамилия — сказал, что я больше роты уложил. Обещал к медали представить. «Ты, — сказал он мне, — геройский пулеметчик, Николай Дмитриевич. До своих доберемся, я тебя обязательно к медали «За отвагу» представлю. Отважно ты дрался, товарищ Караваев».
— Ну?
— Чего?
— Представил?
— Не.
— Чего так?
— Погиб он, когда мы к своим шли.
— А как же ты здесь оказался?
— Не дошли мы до фронта, вот и оказался.
— Долго шли?
— Все лето, часть осени.
— И ни разу не попались?
— Один раз влипли. Тогда лейтенант и погиб. Нас шестьдесят четыре человека шло, а в живых осталось семнадцать. Потом мне и вовсе не с кем идти оказалось.
— Тоже-ть всех перебило?
— Разброд начался, а это все равно что гибель. Пока лейтенант жив был, он всех в руках держал. И младших, и старших по званию. Закон мы такой приняли, когда шли. Хочешь с нами к своим пробираться, присоединяйся, о звании забудь. Лейтенант Соколов у нас командир, других не признаем. С нами разные чины шли, был даже полковник.
— Ну?
— Остались без лейтенанта, один одно талдычит, другой — другое. Твердости не оказалось. В деревнях стали оседать.
— Как это?
— А так. Штык в землю и нейтралитет держать. Я, мол, ни нашим, ни вашим.
— Ты скажи, а!
— По-всякому было. У кого родная деревня встретилась, у кого как. Просто оставались у вдовых баб. Полковник остался. Капитан с нами один шел. Шел, шел, потом к себе, куда-то под Киев, намылился. Пистолет бросил и пошел.
— Оружие?
— Ну.
— Это же… Это же…
— Чего там, война. Она каждого на излом пробовала. И пробует. Еще пробовать будет.
— Шлепнуть надо было того капитана.
— И полковника? И тех, что оставались? Кому шлепать-то было? Каждый сам по себе оказался.
— Не, ну, как же? Он пошел — и никто ни гугу?
— Некому было, говорю, гугукать. Голодуха одолевала. Одна мерка на всех оставалась — собственная совесть.
— А ты как же?
— К своим пошел, как еще.
— Один?
— Один.
— И долго шел? Как сюда-то попал?
— Отряд мне встретился, чтоб ему пусто было.
— Чего так?
— Мародеры.
— Как это?
— А так. Их воевать оставили, они только с обозниками немецкими воевали. За продуктами охотились. Грабанут на большой дороге — и в лес. Самогонку пьют, с бабами шуры-муры разводят.
— Ты скажи, а!
— Сытно жили, перезимовал я у них.
— Ушел?
— Ушел бы, да не пришлось. Парторганизатор объявился.
— Что за парторганизатор?
— От партии они по тылам с большими полномочиями ходили. Железные, скажу тебе, люди. Партизанское движение как надо быть ставили. Контроль, так сказать, на местах осуществляли.
— Ну?
— Ну, и у нас такой объявился. С виду вроде бы божий одуванчик, дунь — улетит. Щуплый такой, в чем душа держится. А как глянет, мурашки по телу бегут. Силен мужик был. Он у нас неделю жил. С каждым, считай, поговорил. Потом отряд построил. Все как есть нам выложил. Судить командира стал. Не побоялся, что все с оружием, не побоялся в меньшинстве остаться. На его стороне правда была, многих тогда стыд пробрал. Большинство его словам поверило, на себя как бы со стороны взглянуло.
— Осудил?
— Осудил. Сам же приговор исполнил.
— А вас?
— Нас сюда, к Солдатову, привел.
— Солдатов тоже-ть мужик крепкий.
— Он строг, когда надо. А так — он за каждым доглядит, о каждом попомнит.
— Нам о нем рассказывали до того, как мы сюда с комиссаром нашим, товарищем Грязновым, на планерах полетели. Вот, скажу тебе, когда жуть была. Особенно когда самолет от нас отцепился. Ночь, ничего не видать. Как в могилу опускались. А перед тем я о Солдатове уже слыхал кое-что.
— Он вишь какой закон ввел с самого начала. Даже убитых не оставлять. Чтобы каждый партизан друг о дружке помнил.
— Однако помотало тебя, Николай Дмитриевич?
— Не я один такой.
— Оно верно. Но ты один сколько фрицев положил?
— Это точно. И еще положу.
— Вот бы каждый по стольку, а? От них бы уже и следа не осталось. Воюют, выходит, многие, а убивают не все.
— Мне тоже есть на кого равняться.
— На кого же?
— Читал в газете про Алексея Ивановича?
— Про Зуева, что ли?
— Да.
— Читал.
— Четырнадцатый эшелон завалил. Если по полста солдат на каждый эшелон взять, это же…
— Почему по полста?
— В среднем. Он же эшелоны и с техникой подрывал, с боеприпасами, а в них только охрана.
— Мало берешь. Даже в среднем.
— Тем более.
— Да, но Зуев подрывник.
— Я говорю, есть на кого равняться.
— А ты свой нынешний счет когда открыл?
— Осенью прошлого года. Мы тогда в блокаде были.
— Такой же, как нынешней весной?
— Покруче. Солдатов вишь чего придумал. У него для бригады несколько баз заранее заготовлены, продуманы пути отхода. Когда немцы осаду начали, он перед нами задачу поставил выбивать живую силу врага. У нас тут все леса окольцованы завалами. Мы много деревьев валили, когда базы устраивали. По три-четыре кольца делали. А лесной завал что крепостная стена, его не враз одолеешь. Немцы, бывало, бомбят, бомбят, а завал еще рогатистее делается. Опять же технику через завалы не попрешь. Особенно если почва болотистая. Я тогда, помню, взял под прицел лощину, больше полусотни их положил. Меня Солдатов к ордену представил.
— Наградили?
— А как же. Я в тот раз орден Красной Звезды получил. У нас тогда связь с Большой землей была, мы самолеты принимали. Первые награды нам тогда прислали.
— Хорошо все-таки, когда связь есть.
— Поди, плохо… Мы и раненых отправляли, и оружие нам слали, боезапас, мины. Я тогда новенький «дегтярь» получил, тоже в награду.
— А меня ведь к медали представили, Николай Дмитриевич.
— За дело чего ж не представлять.
— За то, что карателей прошлый раз прищучили.
— Когда Альфонса этого, Мауе ухлопали?
— Его, гада.
— Скольких вы тогда положили?
— Больше сотни. Только вот знаешь о чем я теперь думаю, Николай Дмитриевич?
— О чем?
— Как же теперь с наградой будет?
— Как?
— Нет же у нас связи.
— Наладится.
— Мне без медали нельзя, Николай Дмитриевич. Я и медаль, и орден должен получить.
— Чего так?
— Сын у меня, Николай Дмитриевич. Он мамку теребит. И про медаль, и про орден спрашивает.
— Воевать надо, чтобы уважение иметь, а награды — то же самое уважение. Связь наладится, придут твои награды. Самолетом доставят.
— Хорошо бы. Хорошо, когда о тебе знают, правда?
— Правда.
— Чего-то там, слышишь?
— Три пистолетных выстрела. Тревога, брат, тревога.
Колосов тоже услышал три пистолетных выстрела подряд. Следом звон рельса. Услышал еще голоса.
— Тревога, тревога! Рас-хва-тывай поголовье.
Колосов подбежал к загону. Заметил перемены.
Перед тем старшина видел мирную картину. Женщин, разносивших траву, мужиков, разгружавших все ту же траву с телеги. Теперь же и женщины, и мужчины оказались с оружием. Мужчины разбирали жерди, ограждающие загон, женщины выводили животных из загона, придерживая их за ошейники, погоняя коров хворостинами, приговаривая ласковые слова. Колосов обратил внимание на то, что ошейники были у каждой коровы, ни одна не оказалась безнадзорной.
Старшина получил инструктаж на случай тревоги. Инструктировал его начштаба Мохов. По тревоге старшина должен был занять близлежащую ячейку, наблюдать за воздухом на случай возможной высадки десанта, за участком леса возле ячейки на случай бомбежки, предотвращения пожара, если немцы вздумают поджечь лес зажигательными бомбами. Почва в лесу была песчаной, кучи песка, похожие издали на муравьиные, высились возле каждой ячейки, этим песком и предписывалось гасить зажигательные бомбы.
При знакомстве с базой, сразу после встречи с Грязновым Колосов обратил внимание на маскировку лесной крепости. Ни один из объектов не оставался открытым взору немецких летчиков, случись им появиться над лесом. Строения, в основе своей полуземлянки, располагались под кронами деревьев, над многими из них были натянуты трофейные маскировочные сети, коими укрывают немцы свои батареи. Замаскированы были траншеи. Ячейки и те располагались в зарослях орешника, которого в этом смешанном лесу росло в изобилии. Колосову казалось непонятным назначение глубоких гладкостенных ям-траншей вблизи загона, но, увидев, как быстро и ловко люди загнали в эти ямы-траншеи животных, старшина понял, для кого создавались эти убежища.
Заметив поблизости одну из ячеек, Колосов нырнул в нее. Прислушался. Обратил внимание на то, как замер лес. Только что со всех сторон долетали до старшины звуки. За спиной шла перебранка. Где-то что-то пилили. Где-то что-то колотили. Мычали коровы. Доносились другие звуки. Но все они затихли как-то враз. Птичьих голосов и тех поубавилось. Встрепенется в зарослях какая-то невидимая птаха, оповестит свистом о себе округу, замолкнет, прислушиваясь. Словно бы спрашивая, что случилось. Лес охватила предгрозовая тишина, слышен был лишь шелест листвы.
Издали, едва различимо донесся гул. Гул нарастал. Колосов понял, что приближается самолет, но сколько ни вглядывался, не видел ничего, кроме сини неба, редких облаков на нем. Небо к тому же застили ветви и листья орешника.
Наконец он увидел «раму». Самолет-разведчик летел высоко. Медленно. Он как бы завис над Колосовым, над лесом.
Появление «рамы» всегда было плохим признаком. На передовой следовало ждать артналета, на марше — бомбежки. Когда появляется «рама», тут уж жди неприятностей — эту азбучную истину на войне старшина усвоил в первые месяцы. «Рама» досаждала не раз. Она преследовала группу. Немецкий летчик засек разведчиков, когда случилось несчастье с Неплюевым. Сверху хорошо и далеко видно.
С появлением «рамы» вновь подумалось о командире, о товарищах. Накануне, до того, как лесник привел на базу партизанские семьи, старшину вызвал к себе комиссар Грязнов. Он сообщил Колосову, что из Ольховки прискакал связной. В этой деревне разгромлены каратели. Конники встретили в деревне двух разведчиков, товарищей Рябова и Ахметова. Разведчики сообщили партизанам о том, что с ними произошло, конный отряд отправился на розыск группы. «Живы, значит», — вздохнул Колосов. «Выходит, живы», — подтвердил Грязнов, но предупредил, что дороги на базу перекрыты, немцам, судя по всему, известно о дислокации бригады в Ливонском лесном массиве, немцы, судя по всему, готовят еще одно наступление на партизан.
Слова Грязнова подтвердились с появлением «рамы». Немецкий самолет то исчезал, то снова появлялся в поле зрения старшины. Колосов подумал о том, что слишком он долго кружит. Обычно, если немцы замечали цель, они тут же вызывали бомбардировщики, бомбили и обстреливали землю. «Рама» между тем покружила и пропала, затих ее гул. Отбоя тревоги, однако, не последовало, а значит, и убежища покидать не следовало.
Над ячейкой появился человек. Колосов узнал его. Это был тот самый партизан с немецким автоматом, хмурый, озлобленный, который первым подошел к землянке Колосова, грозно спрашивая старшину о том, куда, мол, послал представитель фронта «свово человека».
— Вылазь, разведка. Покурим, — предложил партизан.
Колосов вылез из ячейки.
— Отбой, что ли? — спросил он партизана.
— Отбоя пока ишшо нет, потому от ячеек отходить не след, но покурить можно, — объяснил партизан, протягивая Колосову кисет с махоркой, доставая «катюшу» — нехитрое приспособление из жгута, кремня, куска рашпиля, с помощью которого высекается искра, чтобы получить огонь.
— Спасибо, не курю, — сказал Колосов.
— Дело, как говорят, хозяйское, — принял отказ партизан. — Как там ваш товарищ?
— Все то же, — неохотно ответил старшина.
Партизан заметил нежелание Колосова продолжать разговор. Высек искру, раздул огонь, прикурил, спрятал огниво.
— Мы тут, это… Толковали промеж себя, — сказал партизан.
Курил он жадно. Дыма набирал в легкие много, вдыхал глубоко, придерживал дыхание, чтобы как следует пробрало.
— Ты, это… Зла на нас не держи, дело-то обыкновенное. У нас тут…
— Всякое было?
— Всякое, — подтвердил партизан. С вызовом произнес это слово. Стал объяснять. — Тебя вот Хлебников принимал, может быть, что-то и недоглядел, — назвал он фамилию заместителя комбрига по хозяйственной части. — А знаешь ли ты, разведка, какой это замечательный человек? До войны он в Глуховске зампредом в исполкоме работал. С войной в тыл не укатил, как некоторые, остался в городе, подполье возглавил. Правда, накрыли то наше первое подполье немцы, в живых, считай, всего двое и остались. Сам Хлебников да начштаба наш, товарищ Мохов. Видел бы ты, что с ними гитлеровские палачи сделали.
— Могу себе представить, — сказал Колосов, — наши ребята тоже к ним попадали. Только если все помнить…
— Не скажи, — перебил его партизан, — нам без памяти нельзя. Без огляду тоже. Без досмотру нельзя. Много нам гитлерюги пакости творят. Видел бы ты Хлебникова да Мохова, когда мы их из гестапо вырвали. На них живого места не было. Хлебников-то, он до сих пор говорить не может. Скулы поломали, связки порвали, изуродовали так, что не придумаешь.
— Ты меня убедить в чем-то хочешь, — сказал старшина, — а в чем не пойму.
— Нам с тобой, разведка, нынче, может, в бой идти придется, — глянул партизан на небо, — в бою, сам знаешь, надежа должна быть.
— Это точно, — охотно подтвердил Колосов.
— Вот я и говорю, — продолжил партизан. — Мы тут до проверки никому не верим, научили нас немцы. С проверенными до конца друг за дружку держимся, такой расклад получается.
— Хороший расклад, — неожиданно легко согласился старшина.
Легкость, именно легкость ощутил он в себе в этот момент. Как будто он из чащи вынырнул, такое испытал состояние старшина. Шел, шел в темноте, а вышел к свету. Открылось Колосову то обстоятельство, что приказ командира он выполнил. Худо-бедно, а до партизан добрался, доставил радиста, ящик его. Боевые товарищи живы, если в живых остались Рябов с Ахметовым. Конный отряд к ним на выручку пошел, кон-ный! Выручат ребят, спасут лейтенанта. На лошадях по лесу можно далеко уйти. Произошло, правда, несчастье, ранен Неплюев, но, выходит, несчастье это озаботило болью не только старшину, этого партизана, других людей. Грязнова вон как жизнь повернула, комиссар сам ему руку протянул, просил не помнить зла. За Речкина, за сорок первый год. Партизан с той же просьбой. А в чем, собственно, зло? Зло с другой стороны подступает, среди своих его нет и быть не может. Была, правда, досада, но и досадовать не на что оказалось. Война и бьет, и режет, и жжет. На свой лад переплавить старается. Лад прежним остается. Если ты человек, люди к тебе в конце-то концов тоже по-человечески отнесутся. Правда, она правдой и остается, сколь бы времени ни ушло на ее поиск.
— Чего задумался, разведка? — спросил партизан.
— Зовут как? — спросил в свой черед Колосов.
— Комвзвода Лыков, — назвался партизан.
— Вместе, говоришь?
Старшина тоже посмотрел на небо, откуда вновь донесся гул летящего самолета.
— А как же. Видишь, наводит, — сказал Лыков. — Немцы, слышь, разведка, к лесу подошли. Видать, крепость нашу пробовать будут, видать, бой будет. Комбриг сказал, чтобы тебя не забыли, место для тебя определили. Вот я и решил, если ты не против, тебя в свой взвод забрать.
— Выходит, ты мной распорядился, что ли? — спросил Колосов.
— Если ты согласен, — сказал Лыков. — Народ у меня во взводе что надо, старые кадры, с первых дней вместе.
— Согласен, — сказал Колосов.
«Рама» меж тем не задержалась, сместилась в сторону, скрылась с глаз долой. В то же время появились другие самолеты. Отдаленно раздались взрывы. Послышался одиночный пистолетный выстрел. В той стороне, откуда донесся выстрел, часто-часто заколотили в рельс.
— Слышь, разведка, зовут, — сказал Лыков.
Он вскочил на ноги, глянул еще раз на небо, отряхнул колени.
— Куда? — не понял Колосов.
— Сбор объявляют, — объяснил Лыков.
Оба побежали на призывный звон.
Возле землянки комбрига повзводно строились партизаны. Запоздало Колосов с благодарностью подумал о предложении Лыкова. Бегал бы сейчас, не зная, куда приткнуться. Не в штабе же сидеть, когда бой мог начаться вот-вот.
Партизаны разобрались, построились, к ним вышли комбриг, комиссар, начальник штаба. Комбриг стал объяснять обстановку.
— Немцы решили проверить нас на прочность, — сказал Солдатов. — Они уже полезли. Отряды Струкова и Губайло приняли на себя первый удар. Бой начался в районе Сторожевского лесничества у первой линии завалов.
Это сообщение комбрига почему-то очень обрадовало партизан.
— Клюнули, значит?
— Не зря, выходит, ломались!
— Вон оно когда сказалось! — раздались голоса.
Солдатов поднял руку, призывая партизан выслушать своего комбрига до конца.
— Немцы подогнали танки, бронетранспортеры, тракторы, чтобы разбирать завалы. Подтянули артиллерию. Они бросили против нас авиацию.
Солдатов произнес фразы на одном дыхании. Задумался. Продолжил разъяснение обстановки, четко произнося короткие фразы. О том, что немцы пытаются проникнуть в район Кабановских делянок двумя колоннами. С одной стороны — через Сторожевский лесной кордон, с другой — через Журбаевские выселки. На данный момент они сосредоточили свои главные силы на месте сожженных карателями деревень Гречихи и Высоких Ключей.
— Отряды Струкова и Губайло сдерживают гитлеровцев у первой линии завалов, — сообщил Солдатов. — Ваша задача поддержать своих боевых товарищей. Действовать осмотрительно, но активно. Помните о маневре. Можно и отойти, но так, чтобы навалиться на них с новой силой, не там, где тебя ждет немец. На вашей стороне лес, умело пользуйтесь прикрытием. Главнейшая ваша задача — вывести из строя как можно больше гитлеровских солдат. Выискивайте для этого все возможности. Мыслимые и немыслимые. Мы должны отбить им охоту соваться в наш партизанский лес.
В тот же миг раздались команды. Партизаны покидали базу. Без спешки, но и не задерживаясь, уходили молчаливо, сосредоточенно.
С базы ушли двумя колоннами. Одну повел начальник штаба к Журбаевским выселкам. С другой комиссар бригады Грязнов направился к Сторожевскому лесному кордону.
XVIII
Комбриг Солдатов остался на базе. Анатолий Евгеньевич зашел в штабную землянку, увидел девушек-связисток, пристроился у окна за тесовым столом, склонился над картой района. Задумался. Комбригу надо было еще и еще раз взвесить многие факторы, повлиявшие на принятие отчаянного решения.
Отправляя на место боя почти все наличные силы бригады, Солдатов тем самым оголял оборону базы с других направлений. Такое решение было рискованным, случись немцам воспользоваться отвлекающим маневром. Об этом говорил Мохов, подобные опасения высказал Грязнов. Надо было Солдатову подумать, подумать основательно.
Сообщение о сосредоточении немцев на месте сгоревших деревень Гречихи и Высоких Ключей — первым доставил связной, которого командир конного отряда Полосухин отправил к Солдатову с докладом о событиях в Ольховке. Чуть позже поступило сообщение из Глуховска. Подпольщики информировали партизан о том, что общевойсковые соединения немцев, расположенные в городе, в районе, снимаются, получив приказ выдвинуться ближе к фронту. Этот факт подтверждал добытые ранее Шернером и его людьми данные о сроках начала гитлеровцами операции «Цитадель». До пятого июля, то есть до начала немецкого наступления, оставалось около полутора недель. Точнее, десять дней. Перед началом наступления фашистское командование концентрировало силы для удара. В такой обстановке немцы вряд ли станут отвлекать общевойсковые части на борьбу с партизанами, рассудил Солдатов. В то же время у них есть немало охранных войск. Определив местонахождение партизанской базы, они могли бы таранным ударом прорваться в лес. Об этом стоило еще и еще раз подумать, в этом виделся главный расчет врага.
Сколько ни прикидывал комбриг варианты возможных действий противника, столько и приходил к выводу, что нет у немцев сил на блокаду всего лесного массива, называемого Ливонским, раскинувшегося на многие километры. Подобную блокаду осуществить трудно, на нее понадобится не одна дивизия. А значит, рассчитал в свой черед Солдатов, немцы могут решиться только на таран, чтобы рассекающими ударами взломать оборону партизан, дотянуться до базы. Следовательно, и очередное наступление для гитлеровцев задача местная, поставленная перед охранными войсками.
Накануне, прежде чем принять решение о направлении всех сил бригады в район Сторожевского лесничества, Солдатов зашел к Шернеру. Дмитрий Трофимович лежал в госпитальной землянке, за ним ухаживали медицинская сестра и оба немца, которых подпольщик привел с собой. Помощь от немцев была невелика, на другой работе, пока нет связи, использовать их негде, а делом занять надо было. По совету доктора их оставили при Шернере, потому что, как сказал Ханаев, Дмитрий Трофимович волновался за их судьбу. Врач Викентий Васильевич Ханаев предупредил комбрига, что какое бы то ни было волнение для Шернера противопоказано, просил быть предельно кратким. Шернер выглядел плохо. Осунулся. Лицо его сделалось восковым. Говорил с трудом. Отдыхал после каждой фразы. Предположение Солдатова о том, что у немцев нет сил на блокаду, Дмитрий Трофимович подтвердил. Спросил в свой черед о подполье, об информации из Глуховска, поступление которой не должно прерываться в связи с его уходом. Комбриг заверил старого чекиста в том, что все идет хорошо, поспешил прекратить разговор. Информация, конечно, шла, но не та, что поступала раньше. Шернер заранее предупреждал партизан о готовящихся ударах, передавал планы немецкого командования по охвату и уничтожению партизан, численность гитлеровских войск, основные направления их ударов.
Вернувшись от Шернера, Солдатов вновь и вновь думал о своем решении. Не спал ночь. Советовался с Грязновым, с Моховым. С тревогой ждал телефонных звонков от наблюдателей, докладов конных связных от командиров внешних постов наблюдения, опоясывающих лесной массив. Тревожные сообщения поступали только из района Гречихи и Высоких Ключей. И все-таки, только когда появилась «рама», только когда немецкий самолет-разведчик, основательно покружив над лесным массивом, завис над районом Кабановских делянок, когда вызванная немецким летчиком авиация стала бомбить этот район, Солдатов уверился в правильности принятого решения. Объявил общий сбор. Отправил почти все наличные силы к месту боя, откуда стали поступать сообщения Струкова и Губайло. Командиры отрядов бригады докладывали о появлении немцев, об интенсивности артиллерийского огня. Оба отряда приняли на себя первый удар гитлеровцев.
С первых месяцев нелегкой партизанской войны в тылу врага Солдатов отдал много сил для создания баз. Сначала отряд дислоцировался в Егорьевском лесу. Там же создавалась первая база. Одновременно создавался запасной вариант базы в Сарычевском лесном массиве, прилегающем к Шагорским болотам. Этот лесной массив имел то преимущество, что в случае безвыходного положения можно было бы укрыть среди топей не только людей, но и животных, боезапас, продовольствие, имущество. Тем более, что с первых месяцев существования отряд начал обрастать беженцами, приходилось думать не только о боевых операциях, но и о тех, кто искал и находил защиту у партизан.
Ранней весной сорок второго года отряд Солдатова пережил первую блокаду, а затем и первый удар гитлеровцев. Операцию по уничтожению партизан немцы осуществляли силами охранных войск, привлекли к операции полицейские части. Тогда-то и выяснились все слабые стороны базирования отряда в Егорьевском лесу. Лес оказался проходимым для танков, другой техники врага. Немцы подтащили артиллерию. Действовали расчетливо, у них уже появился опыт борьбы с партизанами. В лес не углублялись, пока не подходили танки. Под прикрытием танков подтягивались минометчики, выставлялись на прямую наводку орудия. На каждого партизана, будь он с винтовкой или автоматом, они обрушивали шквал огня. В такой обстановке единственным спасением было любой ценой прорваться в соседний Сарычевский лесной массив. Цена оказалась большой. Погибло две трети личного состава отряда.
На новом месте партизаны выдержали две осады. Одну — осенью сорок второго, другую — нынешней весной, весной сорок третьего года. Солдатов отчетливо помнил обе осады.
К осени сорок второго года отряд наладил связь с фронтом. В отряде появился свой радист, рация. По предварительной договоренности с фронтом приняли специальную группу усиления, прилетевшую к партизанам на трех планерах под командованием майора Грязнова, ставшего вскоре комиссаром отряда. Оборудовали собственный партизанский аэродром. Стали принимать самолеты. В отряде появилось современное оружие, в том числе пулеметы, минометы, противотанковые ружья, новенькие, прямо с завода, автоматы. В тыл, в наш советский тыл стали отправлять тяжелораненых партизан. Появились первые орденоносцы, что сказалось на настроение людей. «Каждый вдруг почувствовал себя частью большого целого, что составляло силу, переборовшую немцев под Москвой, остановившую врага на многих участках театра военных действий», — как сказал тогда комиссар Грязнов. Он был прав в подобной оценке. Настроение партизан сказалось на всей их деятельности. Именно тогда, летом сорок второго года, удалось провести первую мобилизацию призывных возрастов. Часть людей переправили через линию фронта, часть оставили у себя. Плотно оседлали участок железной дороги Михайлов — Глуховск. Совершили несколько дерзких налетов на гарнизоны противника. Взрывали мосты, склады. Выводили из строя линии связи. Разгромили охрану двух лагерей, освободив из них военнопленных, которые пополнили отряд, разросшийся до бригады. Но главное — подняли на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками население района.
Гитлеровцы почувствовали партизанские удары. Начали засылать в отряд провокаторов, диверсантов, прочую сволочь. Когда же их попытки были сорваны, они начали осаду, пошли на штурм. Подключили к штурму общевойсковые части. Но к тому времени и партизаны накопили бесценный опыт. Лес для них стал действительно крепостью. Немцев держали завалы, окружающие базу. В Сарычевском лесу они пролегли двумя поясами. Причем лес валили в сторону, откуда могли появиться немцы. Деревья в таком случае рогатились всеми своими ветвями, образуя труднопреодолимую преграду. Пни оставляли высокими. Они и защита, они и преграда для танков, для машин. На танкоопасных направлениях заготовили ямы-ловушки. Такие же, только меньше по размеру, ямы-ловушки с острыми кольями на дне заготовили для пехоты врага. Этих ям немцы боялись пуще партизанского огня. Гитлеровские солдаты боялись бежать по лесу, опасаясь провалиться, упасть на острые колья. Острого колья наколотили по лощинам, по всем видимым проходам, даже если это было подобие троп. По такому многоколью тоже не разбежишься, по нему не пройдет конница. Коротко говоря, вспомнили своих дальних лесных предков, их оборону от разного рода завоевателей, создали свой оборонительный пояс, усилив его современными средствами защиты. Собирали по полям спираль Бруно, минировали подходы, сооружали дзоты, копали землю, готовя стрелковые ячейки, они же ячейки-убежища от бомб, от мин, от артиллерийских снарядов. Эти убежища хорошо оправдали себя во время первого штурма немцами Сарычевского леса осенью сорок второго года, а потом и весной в сорок третьем году. Настолько, что потерь от огня противника оказалось мало. Оглушенные партизаны выбирались из глубоких ям, снова и снова уничтожали врага. За все время боев немцам так и не удалось преодолеть вторую полосу обороны.
К созданию третьей базы здесь, в Ливонском лесу, приступили тогда же, в сорок втором году. С помощью населения в этом большом лесном массиве удалось соорудить три полосы обороны, три пояса завалов. При переходе на эту базу, уже после весенних боев, дезориентировали противника, создали видимость возврата в Егорьевский лес. Пошли на хитрость и на новом месте. Создали ложную базу в районе Кабановских делянок. Держали там часть животных, группа партизан поддерживала на ложной базе видимость жизнедеятельности. Эти люди время от времени якобы случайно демаскировали себя. Предусмотрели другие меры по дезинформации гитлеровцев. С боевых заданий группы возвращались на базу через Гречиху, Высокие Ключи или же через Егорьевский лес. Теперь выходило, что немцы поддались на обман. Они наступали в район Кабановских делянок.
Солдатов вспомнил провокатора Зотову, то, что выяснилось из ее допроса, вслед за тем и сообщение связного, прискакавшего из Ольховки от Полосухина. Как это ни горько было осознавать, немцам, видимо, вновь удалось перехватить посланцев к фронту. Иначе зачем им было уничтожать партизанскую явку, убивать хозяина дома, да еще тайно. Деревню они готовились сжечь. Сжечь вместе с жителями. Под видом акции устрашения. И тут же тайное убийство…
За всем этим проглядывался какой-то тайный смысл.
Какой?
Провокация?
С дальним прицелом?
Во фронтовом масштабе?
События в Ольховке требовали основательного анализа.
Комбриг в который раз подумал о связи.
Связь, связь, связь…
Слово это повторялось и повторялось, как на старой, заезженной пластинке, вызывая тревожные мысли о том, что у него нет даже возможности предупредить командование фронтом о провокации гитлеровцев, случись им воспользоваться данными партизанских связных, если хоть один из них заговорил на допросах.
Тревожно подумалось о бое у завалов. Всколыхнулось прежнее подозрение в том, что немцы могли применить отвлекающий маневр, а сами тем временем подтягивают силы, чтобы ударить совсем с другой стороны.
— Еще раз обзвоните все посты внешнего наблюдения, — приказал комбриг девушкам-связисткам, а сам склонился над картой, пытаясь предугадать то, как развивается бой у завалов. «Двенадцатый, двенадцатый, доложите обстановку». «Четырнадцатый, ты меня слышишь? Доложи, что там у вас». «Девятый, отзовись, девятый», — доносились до Солдатова фразы. И тут раздался резкий звонок.
— Да, здесь, — ответила девушка-связистка, протягивая трубку комбригу.
— Слушаю, — сказал Солдатов.
— Товарищ первый, товарищ первый, — послышался в трубке торопливый голос — Семенихин это.
— Что за Семенихин? — строго спросил комбриг. — Забываетесь?
— Фу-ты ну-ты, извините, товарищ первый, седьмой говорит, я это, Се…
Опять чуть было не сорвался Семенихин. Хороший партизан, расторопный, но никак не может привыкнуть к условностям, не может принять номерную систему в разговоре по телефону.
— Слушаю, седьмой, что там у тебя?
— Шпарят, товарищ первый, дают нам тут жару-пару. Послухайте.
Семенихина назначили старшим на ложной базе в районе Кабановских делянок. Ему поручили обеспечить видимость жизнедеятельности базы. Он, видимо, отставил от себя телефонную трубку, давая возможность комбригу услышать разрывы бомб. Телефонные провода доносили до Солдатова взрывы.
— Седьмой, седьмой!
— Есть, товарищ первый.
— Доложите, как положено! — приказал Солдатов.
— Я ж докладываю, товарищ первый. Скотину жалко. Гоняют, фу-ты ну-ты. Двух коров завалили, изверги, лошадь мою, Звездочку, наповал. Две землянки в пух и прах разнесли.
— Люди, люди как?
— Целы покамест, товарищ первый. Ваську Середу, помощника мово, зацепило малость, остальные шебаршатся, вон две бочки с соляркой разлили да подожгли. О! Погодьте, товарищ первый, лес, похоже, зажгли. Сей момент гляну.
— Кто, кто поджег лес?
— Немчура, кто же, товарищ первый, зажигалки, что ли, бросили…
— Седьмой, седьмой, куда вы пропали?
— Выглянул я, товарищ первый, точно — подожгли.
— Направление? Со стороны Журбаева? Со Сторожева?
— Не, напротив, фу-ты ну-ты. У реки, похоже, у Каменки.
В трубке раздался сильный взрыв. Семенихин умолк и больше не отзывался.
Солдатов подумал о том, что доклад Семенихина поднял ему настроение. Немцы подвергли и подвергают ложную базу усиленной бомбардировке. Это хорошо. Это то, на что рассчитывали. Комбриг мог себе представить, что там сейчас происходит, что приходится испытывать мужественным людям под немецкими бомбами. Но они отвлекали немцев от настоящей базы, понимали это, стараясь, судя по разговору, вовсю.
Комбриг стал ждать сообщений с места боя. По времени на связь должен был выйти командир отряда Губайло, что держал немцев возле Сторожевского лесного кордона. Не было связи с отрядом Струкова, что вел бой у Журбаевских выселков, но и оттуда должен был уже прискакать связной.
Зазвонил наконец телефон, Солдатов узнал голос Михаила Евстигнеевича Губайло. Командир отряда стал докладывать неторопливо, обстоятельно, по тону его доклада, по спокойствию в голосе Солдатов понял, что бой у Сторожевского лесного кордона развивается нормально, Губайло контролирует положение. Командир отряда докладывал, комбриг слушал, перед ним вставала картина боя.
После усиленной бомбежки завалов немцы подвергли их артиллерийско-минометному огню. После этого они пошли в атаку. Шли под прикрытием танков. Один танк попал в ловушку. Немцы пытались его вытащить, подогнали трактор, но партизанские минометчики накрыли гитлеровцев точным огнем возле ямы-ловушки. Еще один немецкий танк они подбили из противотанкового ружья. Тогда немцы усилили обстрел. Полезли на партизан вслед за огневым валом. Стали проваливаться в ямы-ловушки. Сейчас они готовятся к третьей атаке, ужесточили обстрел, но бьют из орудий и минометов не по завалу, не по укрывшимся в убежищах партизанам, а по площадям перед завалами, пытаясь обрушить маскировку ям-ловушек. Потери у партизан пока небольшие. Четверо убитых, шестеро раненых.
— Пошли человека к седьмому, — попросил Солдатов. — Пусть посмотрит и доложит, что там происходит.
— Нам отсюда видно, — сказал Губайло. — Долбят седьмого.
Немцы знают, что на партизанских базах есть женщины, дети, свой бомбовый удар по ложной базе они обрушили преднамеренно, рассчитывая вызвать панику и тем самым подорвать дух партизан. Об этом подумал Солдатов, но сказал другое:
— Я только что разговаривал с седьмым. Он успел сообщить мне о поджоге немцами леса. Связь с ним прекратилась. Не перекинулся бы огонь в вашу сторону.
— Если это случится, то и немцам тикать надо, — сказал Губайло. — Но ветер несет от нас к седьмому.
— Хорошо, но проверь. Пусть восстановят связь.
— Есть.
— К тебе идет второй, ты меня понял?
— Да.
— Советую посмотреть немцам в спины.
— Думал о том же, — сказал Губайло. — Возможности для этого есть.
Комбриг советовал совершить вылазку, ударить по немцам с тыла. Губайло понял Солдатова.
— Доложитесь, когда появится второй.
— Хорошо.
Комбриг увидел, что к землянке подскакал связной от Струкова. На миг Солдатов пожалел, что поздно осенило их оборудовать базу телефонной связью. Не хватило проводов до отдаленных точек Ливонского леса. А ведь какую прорву этого провода они изничтожили за два года — сотни километров, наверное. Рвали, бросали, не зная, как пригодится самим. Собственную связь стали налаживать после захвата в разбитом эшелоне имущества немецких связистов.
Напор немцев на отряд Струкова оказался более мощным, более результативным для противной стороны. Применив тактику отвлекающего таранного удара, гитлеровцы прорвались рядом, миновали первую линию завалов. Часть сил Струков перебросил на соседний участок, но партизанам удалось лишь остановить дальнейшее, продвижение немцев, на большее не хватило сил. Проморгал Струков, подумал комбриг о командире отряда. Сколько раз предупреждал этого лихача не увлекаться боем, а он забывается. В результате такого недогляда, по сообщению связного, погиб почти весь взвод Паши Овчинникова. Убитые, раненые есть и у других взводных.
— Сколько? — спросил Солдатов.
Связной замешкался.
— Кто ж его знает, товарищ комбриг, наши все на завале оборону держат. Считать после боя станем.
Солдатов и в мирной жизни встречал командиров вроде Струкова. Они живут в постоянной готовности всюду поспеть, разобраться в каждой мелочи и, как правило, упускают главное. На войне подобные качества оборачиваются лишними потерями, осложнением обстановки. Посылая Грязнова и Мохова с основными силами бригады, Солдатов рассчитывал, что Струков и Губайло сумеют задержать немцев у первой линии завалов, партизаны охватят гитлеровцев с флангов. После такого маневра люди Струкова и Губайло должны были бы отойти. Немцы стали бы их преследовать. Потянули бы за собой технику, орудия. Вот тогда-то, когда они увязли бы между завалами, где нет возможности для маневра, можно было бы фланговыми ударами отрезать их, ударить им в спины. По сообщению связного, гитлеровцы сами ворвались туда, куда должен был их заманить Струков. Теперь есть у карателей время на то, чтобы сориентироваться. Сейчас они, по всей видимости, ищут наиболее слабые места в обороне Струкова, а командир отряда, вместо того чтобы все видеть, чувствовать, анализировать, следить, наконец, за маневром противника, увлекся боем.
— Струков тоже на завале, тоже немцев бьет? — спросил Солдатов.
— Так точно, товарищ комбриг, — ответил связной с некоторой долей вызова, с гордостью за своего командира. Как же, мол, по-другому, наш командир всегда с нами.
В душе Солдатова поднялась досада. Он чуть было не отчитал связного, да вовремя одернул себя. При чем здесь этот парень, отчитывать надо Струкова за его неуемную лихость.
— Меняйте коня, возвращайтесь к вашему командиру, — приказал комбриг. — Передайте, что я жду от него обстоятельного доклада. Пусть воспользуется телефонной связью товарища Губайло. Руководство боем передать товарищу Мохову.
Связной ускакал.
«Четырнадцатый, доложи, что там у вас». «Двенадцатый, двенадцатый, доложи обстановку». «Девятый, отзовись, девятый», — в который раз обзванивали девушки посты наблюдения. На связь снова вышел Семенихин.
— Что там у тебя произошло, почему пропал? — спросил Солдатов.
— Звездануло меня, товарищ первый, — закричал в трубку Семенихин.
— Ранило?
— Не, фу-ты ну-ты, оглоушило.
— Что с пожаром?
Сообщение о лесном пожаре всерьез беспокоило Солдатова. Лесной пожар страшнее карателей. Сгореть могут и те, и другие. Другие, то есть каратели, черт с ними, пусть сгорят все до последнего солдата, но огонь не разбирает, где чужие, а где свои, он идет, полыхая, широко.
— Разгорается, товарищ первый.
— Координаты?
Семенихин назвал. Солдатов прикинул по карте. Лес горел со стороны Каменки. Выгорит километра полтора и стихнет, река его остановит, подумал комбриг.
— Седьмой?
— Да, товарищ первый.
— Не перекинется ли огонь на вашу сторону?
— Нет, товарищ первый. Я ж говорю, он к Каменке пошел. Ветер тоже от нас дует.
— Как немцы?
— Разделали нас под орех.
— Улетели?
— Так точно.
— Где «рама»?
— Тоже скрылась. Сотворила подлость и смылась.
— Совсем?
— Похоже, совсем.
— Следите за пожаром.
В штабную землянку одновременно вошли заместитель Солдатова по хозяйственной части Хлебников, командир отдельного пулеметного взвода Грачев, врач Ханаев.
На лице комвзвода Грачева отпечаталось нетерпение. Высокий, стройный, в кубанке с красной партизанской лентой, которую он не снимал даже в самые жаркие дни, Грачев поправил залихватские усы, через силу прокашлялся. Ни о чем не спросил. Однако вид его красноречиво говорил о причине появления в штабной землянке. Основные силы бригады ушли к месту схватки с карателями, а он, командир мощного огневого взвода, как называют его подразделение партизаны, чем, кстати, Грачев очень гордится, томится от вынужденного безделья.
Созданный Солдатовым взвод этот был действительно гордостью бригады. Создали его в сорок втором году, незадолго до весенней осады немцами партизан еще в Сарычевском лесу. К тому времени удалось раздобыть всего десять пулеметов, в основном трофейных, но и они, собранные в один кулак, оказались той силой, которая буквально расчищала дорогу от гитлеровцев, если требовался прорыв, была результативной в обороне, но особенно в засадах, когда требовалось не только ошеломить противника, но и уничтожить его в кратчайший срок. В каждый расчет входило три человека. Все на лошадях. Именно по этой причине взвод оказался мобильным. Его можно было снимать с одного участка, перебрасывать на другой в ограниченные сроки. Особенно в лесу, особенно в условиях бездорожья. За все время не было проведено ни одной сколь-нибудь значительной операции, в которой взвод Грачева не принимал бы участие. Теперь Грачев остался на базе. Потому и томился. Потому снова и снова заходил в штабную землянку.
— Ты мне, Грачев, глаза не мозоль, — в который раз строго предупредил командира взвода Солдатов. — Необходимости в твоих орлах пока нет.
— Но, товарищ комбриг…
— Отставить. Никаких «но», Грачев. Не мешай работать.
Грачев демонстративно лихо откозырял, скрылся за дверью.
Необходимость в огневой поддержке, когда идет бой, есть всегда, но отправить последний свой резерв Солдатов не мог. Отправить — значило действовать безоглядно, вовсе оголить базу. Не вправе был он посылать Грачева с основными силами бригады. Мало ли что может произойти, когда не знаешь планов противника.
У стола перетаптывался Хлебников. Причина его появления в штабной землянке тоже известна. С объявлением боевой готовности жизнь на базе замерла, а забот у Хлебникова не убавилось.
— Отбоя тревоги нет, Виктор Николаевич, но частично, не нарушая маскировки, можете возобновить работы.
Хлебников сказал что-то в ответ и вышел.
— Садитесь, Викентий Васильевич, — пригласил комбриг доктора.
— Благодарю вас, но сообщение мое краткое. Состояние раненого позволяет ввести препарат.
— Вы говорите о радисте?
— Да, и должен еще раз предупредить о невозможности предугадать последствия.
— При всех случаях, Викентий Васильевич, через какое время может сказаться воздействие препарата?
Ханаев неопределенно пожал плечами.
— Вы знаете, Викентий Васильевич, люди наши ушли. Нам с вами придется подождать их возвращения. Возможно, появится командир группы, в которую входил радист. Хорошо было бы послушать и его мнение.
— Разумеется, разумеется, — согласился Ханаев.
— Добьем сегодня гитлеровцев, Викентий Васильевич, отыщем его командира.
Доктор ушел, внимание Солдатова задержалось на собственной твердости, с какой он сказал Ханаеву о том, что партизаны добьют гитлеровцев. В сорок первом году такой твердости, такой убежденности в исходе операции не было. Тогда приходилось думать о другом. О том, например, чтобы с наименьшими потерями вырваться из огненного кольца, когда немцы прищучили отряд в Егорьевском лесу, сохранить хоть что-то. В сорок втором году думалось о том, чтобы не пустить гитлеровцев в Сарычевский лес. И они их не пустили. Выиграли и осеннюю битву, и весеннюю сорок третьего года. Потери, не в пример боям сорок первого года, оказались значительно меньше. Теперь поворотило еще круче. Думается не только о том, чтобы не пропустить немцев даже к ложной базе, но и уничтожить их среди завалов всех до единого.
«Четырнадцатый, четырнадцатый…» «Двенадцатый…» «Ты чего кричишь, девятый, слышу я тебя, слышу. Ну…»
Солдатов насторожился.
— Вас, товарищ комбриг, — передала трубку девушка.
— Что там у тебя, девятый?
— Немцы, товарищ первый.
— Много?
— Коров гонят.
— Каких коров?
— Обыкновенных. Отбить бы, товарищ первый, а?
— Что-о-о?
— Отбить бы, говорю, охранников всего трое.
— Я те отобью, девятый. Всякую охоту отрывать по пустякам отобью. Ты кто такой?
— Наблюдатель.
— Доложи по форме!
— Старший группы наблюдателей…
— Вот и будь наблюдателем. Сиди тихо и наблюдай. Никаких действий, ты меня понял?
— Так точно, товарищ первый.
— То-то же.
Солдатов только после этого разговора почувствовал, в каком он находился напряжении, каких докладов от наблюдателей ждал с утра. Он все еще опасался, что немцы могли ударить в другом месте. Время, однако, шло, солнце на вторую половину дня переползало, опасения не подтверждались. По всему выходило, что гитлеровцы действительно бросили все свои силы на прорыв к Кабановским делянкам.
Позвонил Грязнов. Доклад его оказался коротким. Немцы отходили. Встретив организованную оборону на линии завалов вблизи Сторожевского лесного кордона, потеряв два танка, трактор, около ста своих солдат, они начали отход. Отходили организованно, выставив огневое прикрытие. Бросаться им вдогонку значило терять людей. Ни о каком охвате речи теперь быть не могло. Тем более, что снова появилась «рама», немцы вызвали авиацию, снова бомбят завал, прилегающую к нему территорию.
Комбриг согласился с комиссаром. Опоздали, чего там говорить. Солдатов приказал Грязнову отправить часть людей к Струкову, к Журбаевским выселкам, на усиление группы Мохова, который в данный момент должен возглавить все силы на этом участке действий. На вопрос Грязнова о Струкове ответил, что командира отряда он вызвал к Губайло, к телефону с докладом о положении дел. «Дров, что ли, наломал Струков?» — спросил Грязнов. Солдатов подтвердил.
Командирами становятся не вдруг, пошли бы на пользу ошибки. Струков командовал отрядом всего два месяца. Потому, наверное, и берется за все дела, старается и в бою действовать личным примером. Не везет отряду. Что ни командир, то лихач. Двое погибли, двое получили тяжелые ранения. Пятый командир за год и три месяца. Не то что в отрядах Полосухина и Губайло. Эти командуют своими подразделениями с первых месяцев партизанской войны, у них опыт. В любой, даже самой сложной обстановке все увидят, вовремя примут необходимые меры.
Не додумал комбриг, позвонил Струков. Дышал трудно. Чувствовалось, и скакал он во весь опор, и к телефону бежал. Солдатов приказал Струкову отдышаться, позвонить через пять минут. Собственной выдержкой учил командира отряда. Мол, на скаку ни говорить, ни думать нельзя, спокойствие, хладнокровие — главные факторы успешных действий. Тем более, что с подходом Мохова опасения за положение дел у Журбаевских выселок прошли. Тем более, что на усиление группы Мохова теперь уже отправил часть людей Грязнов. План охвата гитлеровцев сорвется, видимо, и там. Но удар гитлеровцы все-таки получат, и хороший. Побегут из леса и от выселков, некуда им будет деться. А Струкову наука. Думай не на скаку, а в нормальной обстановке, умей такую обстановку создать.
Струков не выдержал, позвонил через три минуты. Дышал он уже ровнее.
— Вот видите, пятый, когда человек отдышится, у него и голос ровней, и строй мыслей. Разговаривать на скаку трудно, так же, как принимать решения.
Солдатов говорил как можно спокойнее, давая понять командиру отряда, что спокойствие надо сохранять в любых обстоятельствах.
— Но, товарищ первый, они же буром на нас поперли. Надо было врезать им так, чтобы запомнили.
— Не только на вас, пятый. Седьмому тоже досталось, однако он и отпор дал достойный, и людей сохранил. С умом надо действовать, пятый. Вы же не командир взвода, чтобы самому лезть на завалы, вам за боем надо следить с расстояния. На расстоянии лучше видится. Что там у вас происходит?
— Третьему пришлось вводить людей в бой с ходу…
— Чтобы исправить вашу ошибку?
И об ошибке Солдатов сказал с целью. Подобные слова запоминаются, воспитывают командиров.
— Не совсем так, товарищ первый. Полосухин со своими конниками ударил немцам в спину. Бой сейчас идет на уничтожение противника.
Попали-таки гитлеровцы между молотом и наковальней. Не в одном месте, так в другом. Это хорошо. Молодец Полосухин.
Солдатов глянул на карту. Так получалось, что Полосухин из Ольховки повел свой отряд через Гречиху. Иначе он не появился бы у Журбаевских выселков.
XIX
Старшине Колосову не первый раз приходилось совершать марш-броски, когда то ли идешь быстрым шагом, то ли бежишь не торопясь, а в итоге поспешаешь как можешь с единственной целью — успеть. Старшина привычно включился в этот то ли шаг, то ли бег. Участие в марш-броске явилось для него действием, которое сняло напряжение, вырвало его из состояния неопределенности. В начале марш-броска он испытал было нехватку воздуха, но тренированный организм справился с неудобством, открылось второе дыхание, дышать стало значительно легче.
Лес не причинял неудобств, не раскидывал ловушек-зарослей из бузины, орешника, малины и прочих кустов. Не встречалось заболоченных лощин, труднопреодолимых оврагов, рек и ручейков с осклизлыми берегами, на которые богаты российские леса. Лес был ровным. Могучие стволы елей чередовались с мощными стволами берез. Подрост и тот встречался еловый, его легко было огибать. Колонна шла и бежала по мшистой поверхности земли, и оттого, наверное, не слышалось даже топота ног.
Колосов старался, и ему это удавалось, держаться Лыкова. Иногда они переглядывались. Не говорили. Привычно мерили километры. Лыков, как отметил про себя Колосов, оказался хорошим ходоком.
Кроны деревьев затеняли солнце, но день набирал тепло. Скоро лес задышал духовитым жаром. Лица партизан залоснились от пота.
Шел уже второй час этого марша. Сквозь всеобщий шорох сапог о мягкую подстилку донесся отдаленный гул. По мере приближения к месту боя стали доноситься взрывы, перестук пулеметных очередей. Звуки подхлестнули колонну, идущие впереди прибавили в скорости. Бежали до тех пор, пока голова колонны не уткнулась в завал. О завале Колосов узнал чуть позже. Он лишь увидел, что бегущие впереди остановились.
За те бездельные, как он их считал, дни старшина ознакомился с базой, узнал прошлое и настоящее партизанской бригады «За Родину!». Было время походить неприкаянным по лесу, осмотреть строения и сооружения, которые партизаны возвели в лесу. Он узнал, что с первых месяцев нелегкой партизанской войны в тылу врага Солдатов отдал много сил для создания этой и других баз.
Ранней весной сорок второго года партизаны пережили первую блокаду. Потом было еще две. Теперь немцы, выходило, полезли в четвертый раз. По всему выходило, что партизаны уперлись в один из завалов, о которых так много слышал Колосов в эти дни.
— Вишь, разведка, передых вышел, — сказал, останавливаясь, комзвода Лыков.
С этими словами Лыков снял кепку, вытер подкладкой лицо.
Старшина вошел в ритм, был доволен тем, что окончилась неопределенность. Движение к тому же само по себе притупляло волнение, отвлекало от нелегких дум о товарищах, о радисте.
— Команда сейчас будет, кому куда. Завал преодолеть дело нешуточное. Рассредоточиваться сейчас станем, — сказал Лыков.
Передышка вышла совсем короткой. Успели лишь пот утереть. Раздались команды. Кто-то невидимый впереди колонны определял, какому взводу в какую сторону двигаться. Дошла команда и до взвода Лыкова.
Одно дело слышать о завале, другое — видеть его. Колосов увидел пни, хаос из стволов деревьев и кустарника, ветви, сквозь которые уже продирались люди. Одни из них карабкались по стволам, другие — пробирались низом, лезли, чертыхаясь, оскальзываясь, а то и проваливаясь в веточную кутерьму.
В той стороне, куда они так торопились, продолжало дробно стучать и взрываться, звуки боя доносились все более отчетливо. Солнце стало припекать горячее. От него теперь ничто не укрывало, и оно старалось.
Колосов рывком бросил тело на ствол березы, добежал до ближайших ветвей, нога оскользнулась, он чуть было не упал, удержался, ухватившись за ветви. Почувствовал, треснула на сапоге кожа. Он вывернул ногу, глянул, увидел — кожа действительно лопнула. Не выдержала обувка, мелькнуло в голове, сгорели сапоги. Сзади по стволу уже подбежал кто-то, надо было спешить или уступать дорогу. Старшина перепрыгнул на соседний ствол. Не затем, чтобы остановиться. Колосов заметил лаз. Нырнул в этот лаз, стал продираться сквозь чащу. На него тут же набросились комары. Так густо, что невозможно стало смотреть. Комарье лезло в глаза. Колосов ухватился за сук, подтянулся, взобрался на ствол, стал продираться дальше. Продраться ему удалось, он увидел людей, Лыкова, который собирал свой взвод.
— Отстаешь, разведка! — крикнул Лыков.
Колосов подбежал к командиру взвода, показал сапог.
— Плюнь, — сказал Лыков, — нам теперь хоть босым.
Партизаны, а с ними и старшина, побежали, забирая вправо, то есть в сторону от гремевшего боя. Очень скоро уперлись еще в один завал, снова продирались сквозь сцепление ветвей и сучьев.
У третьего завала остановились. Колосов хотел было достать из вещмешка шнурок, чтобы хоть как-то обмотать сапог, боясь, что вконец отлетит подметка, но остановились на чуть-чуть, побежали теперь уже на звуки боя. Ориентируясь по солнцу, по поворотам, по тому, как гремевший бой то удалялся, то приближался, Колосов понял, что партизаны выполняют маневр, скорее всего охватывают немцев с фланга, а может быть, и заходят к ним в тыл.
Коротко взвизгнуло, впереди разорвалась мина. До того как она разорвалась, Колосов успел тыркнуться в ствол дерева. Огляделся. Справа и слева от него бежали люди. От ствола к стволу, пригибаясь, иногда падая, но тут же вскакивая, продолжая бег. Колосов тоже не задержался, побежал рывками, на ходу выискивая укрытие. Мины шлепались и взрывались одна за другой, слух определил взрывы покрупнее. В скопище смертоносных звуков ворвался пулеметный стук. Пахло толом, порохом, гарью. Валились с хрустом деревья. Невидимый меч срезал вершины, они тоже клонились к земле. На землю падали люди. Одни из них повисали на стволах, другие, ткнувшись в траву, не подавали признаков жизни. Некоторые пытались встать, ползти, утыкались в заросли. Но главное, сколько ни вглядывался Колосов вперед, он не видел ни одного гитлеровца, а стало быть, и стрелять было не в кого.
В лесу продолжали рваться мины, снаряды. Партизаны несли потери. Движение вперед притормозилось. Колосов тоже было встал, прикрывшись стволом мощной ели, но тут из-за соседней березы выскочил комвзвода Лыков, призывая людей вперед. Он кричал зло, голос его срывался на хрип. Лицо у Лыкова было черным, лоб в крови. На какой-то миг Лыков остановился, дал очередь из автомата, рванулся вперед. Колосов тоже сорвался с места, увидел немца. Немец целился то ли в Лыкова, то ли еще в кого. Старшина успел нажать на спусковой крючок, в руках дробно отдало. В тот же миг немец ткнулся в землю.
Партизаны бежали за своим командиром взвода. Одни из них стреляли на ходу, другие выхватывали на бегу гранаты, бросали их в заросли на вспышки выстрелов, стараясь в беге остаться под прикрытием стволов деревьев. Лыков рванулся уже без огляда, те, кто еще как-то медлил, прибавили в скорости.
Припустил и Колосов. Он понял маневр командира взвода, его стремление вывести людей из-под огня минометов, сблизиться с немцами на удар ножа или приклада. Спасение было в скорости — это понял каждый, каждый теперь стремился не отстать. Перепрыгивали через коряги и пни. Прыгали через немцев, трупы которых стали попадаться все чаще и чаще. На пути Колосова оказался огромный, с вывороченными корнями пень. За пнем прятались немцы. Оттуда поблескивали вспышки выстрелов. На ходу выхватив лимонку, старшина бросил ее за пень, услышал взрыв, кинулся за корневища. Увидел лежащий на боку миномет, мертвого карателя с разодранным окровавленным боком, другого, тоже мертвого, лежащего навзничь, с головой, но без лица, поскольку вместо лица увиделось кровавое месиво. В тот же миг Колосов увидел горящий танк. Побежал вперед, прикрываясь этим танком, но внутри машины рвануло, башню танка сбросило, преградив Колосову бег. Старшина замешкался. Под ногами дробно ударило. Кто-то с силой толкнул Колосова. Старшина упал. Над головой пробуравили воздух пули. Он понял, что над ним, над тем, кто плюхнулся с ним рядом, пронеслась еще одна очередь из пулемета, которая могла их резануть пополам. Впереди раздался взрыв, пулемет умолк. В ту же секунду послышались голоса:
— Кончай стрельбу, своих побьете!
— Отставить огонь!
— Свои, братцы, свои!
Донеслось и вовсе непечатное.
— Шабаш, разведка, — сказал рядом комвзвода Лыков.
До Колосова дошло, что бой окончен.
Из-за кустов, из-за деревьев показались люди. Шли к чадно дымящему танку, собирались возле отброшенной взрывом башни. Появились подводы. Возбужденные кони таращили красноватые глаза на людей, на дымящийся танк. Кони нервно перетаптывались, вздрагивали всем телом, пофыркивали, раздувая ноздри.
— Вот, черт, кепку потерял, — сказал Лыков.
Командир взвода сидел на земле ссутулившись, шарил вокруг взглядом, словно пытался отыскать потерю. Старшина тоже сел. Вспомнил о разорванном сапоге. Глянул на обувку. Подметка держалась, но дыра разошлась. Колосов скинул вещмешок, достал шнурок. Раскрутил его, наматывая на сапог, стараясь как можно туже стянуть дырку.
— Чего молчишь, разведка? — спросил Лыков.
— Ранен, что ли? — спросил в свой черед Колосов.
— Куда?
— Лоб у тебя в крови.
Лыков дотронулся до лба тыльной стороной ладони, коснулся кончиками пальцев кожи. Кровь успела засохнуть.
— Пустое, — сказал он, — царапина.
К подводам потянулись люди. К подводам несли убитых. Отдельно грузили и отправляли раненых. Показались конные, пешие. Не задержались. Мелькнули в зарослях, скрылись, поскольку раздались команды к сбору.
К Лыкову тоже подходили люди. Те, что бежали за своим взводным, стремясь в рывке выскочить из-под немецкого огня, который косил не только кусты и деревья. Все вдруг заговорили о полосухинцах, о том, что полосухинцы подоспели вовремя. Вспоминали подробности боя. Кто-то, как оказалось, замешкался, кто-то «раззявил рот», кто-то вовремя прикрыл товарища. То ли стихийный разбор короткой схватки начался возле Лыкова, то ли возбуждение от этой схватки действовало на людей. Тут же выяснились и потери. Троих из взвода убило, семеро оказались ранеными. Убитых и раненых называли по именам. Продолжали говорить о том, что полосухинцы появились как нельзя кстати, иначе потери были бы больше.
Колосов, как и Лыков, встал, отряхнулся, стоял, оглядываясь, слушая возбужденные голоса. Земля вокруг была усыпана свежей листвой, ветвями, стволами. Всюду виделись воронки.
Разбитый немецкий танк все еще чадно дымил. Пахло этим дымом, лесом, смолой.
Раздалась команда, люди поднялись, пошли. Вначале скопом, без видимости строя. Лыков приказал разобраться. Разобрались, но строй оказался ломаным, поскольку приходилось огибать встречные деревья, ломиться сквозь кустарник. Разговоры не утихали. Колосов прислушался к голосам за спиной.
— Что там ни говори, Николай Дмитриевич, а уходить несолоно хлебавши тоже-ть нехорошо. Зазря, выходит, шлепали, пилили так, что глаза потом застило.
Колосов уже слышал этот голос на базе, когда томился в безделье. Собеседник у говорившего оказался тот же, Николай Дмитриевич.
На войне, Бойцов, зазря ничего не делается, учти это.
— Как это не делается?
— Так.
— Не скажи, Николай Дмитриевич. Мы почти бегом шпарили.
— Мы шпарили, полосухинцы шпарили, потому нам меньше и досталось, что вовремя пришпарили, а ты говоришь — зазря.
— Он, немец, если ушел, его догнать можно было бы.
— Командирам видней.
— Это ж около года я у вас, а в настоящем деле еще и не был.
— Ты в засаде на Мауе участвовал, сам говорил, что тебя к медали представили.
— То ж когда было-то. Один раз разрешили — и на́ тебе. Я думал, хоть нынче наверстаю.
— Бойцов, слышь, Бойцов?
— Ну.
— Дугу гну, не ной.
— Это я-то ною?
— Ты.
— Николай Дмитриевич, чего он говорит? Слышь там, сзади?
— Не глухой.
— Раз не глухой, понимать должен, о чем мы тут…
— Потому и советую умолкнуть, хватит и на тебя орденов.
— Вот ты об чем. А я из этого тайну не делаю. Мне без ордена домой ворочаться нельзя, правда, Николай Дмитриевич?
— Правда, правда, Бойцов. Ты чего цепляешься к парню, Селезнев?
— Слыхал, Селезень?
— Слыхал, слыхал. Но ты, Бойцов, лучше под ноги смотри, корневища встречаются. Зацепишься, из тебя столько дров получится, что нам всем взводом не унести.
— Не больше, чем из тебя. Сам тоже-ть дубина порядочная.
— Я привычный.
— А я, по-твоему, нет?
— Каждый на своем месте привычный. Тебе наши ружья чинить, мне по лесу топать.
— Что ж, по-твоему, я должен всю войну в мастерской сидеть?
— Ты — мастер, затем тебя к нам и прислали.
— Вон как ты обязанности распределяешь. По-твоему, значит, мне ваше оружие чинить, а вам из него стрелять, так, что ли, Селезень?
— Так.
— Ну и дурак, если так думаешь. Мне оружие в бою проверять надо.
— Тоже мне проверяющий.
— А что?
— А то.
— Отставить разговоры! — раздался голос Лыкова.
В который раз за этот бесконечный рейд судьба сводила Колосова с людьми, о которых он и думать не думал. В Малых Бродах, в бригаде, теперь во взводе этой бригады. Бойцов обращался к Николаю Дмитриевичу. Видел Колосов этого человека — степенного кряжистого мужика, когда тот бежал рядом со старшиной под обстрелом, а сейчас идет, переговаривается так, как будто не было ни огня, ни того тяжелого бега.
Взвод Лыкова возвращался, как сказал о том Бойцов, «несолоно хлебавши». Поспешая по приказу комбрига к Сторожевскому лесному кордону, партизаны за час с небольшим отмахали около десяти километров, а в настоящем деле, по словам того же Бойцова, участвовать им не пришлось. Другие немцев разбили. Ему, этому Бойцову, видишь ли, преследовать немцев захотелось. Не в счет, выходит, убитые, раненые. Не в счет то, что каждый из бежавших мог оказаться на месте тех, кого везут сейчас на подводах. По его, Колосова, разумению, не удалось сойтись с немцами на удар ножа, и ладно, таково их солдатское счастье. Завтра может случиться наоборот, повезет кому-то другому.
Бойцов, оружейных дел мастер, как понял из разговора старшина, шел чуть позади. Его неуклюжую фигуру Колосов тоже помнил. Он и бежал рядом с Николаем Дмитриевичем. Селезнев, что оговаривал Бойцова, шел за ними. Старшина отчетливо слышал всех троих, разбирал интонации. Как это ни странно, оружейных дел мастер искренне сожалел о скоротечности боя. Однако Колосов в этом разговоре мысленно был на стороне невидимого ему Селезнева. Селезнев прав, думал Колосов, на войне каждый должен заниматься своим делом. Кому хлеб печь, кому обувь чинить. Без хлеба, без обуви, без исправного оружия тем более много не навоюешь.
Думалось старшине спокойно в лад шагу. Колосов почувствовал, что он вернул себе былую форму, которую он утратил со всей этой круговертью с радистом, с недоверием… Спокойствия добавила весть, дошедшая до старшины по беспроволочному телеграфу: живы его товарищи, в том числе и лейтенант Речкин. Беспроволочный телеграф и здесь, в лесу, действовал безотказно. Удивительная вещь — этот солдатский беспроволочный телеграф, думал Колосов. Он всегда в точности донесет все, что надо, самую суть. И на передовой, и, выходит, здесь, у партизан.
Шли они второй час, не торопясь, потому, наверное, и возникали разговоры. То об одном заговорят люди, то о другом. Пока взводный не окликнет. Строй все-таки, хотя и ломаный.
Шли по мягкой подстилке из опавших еловых игл. Трава на такой подстилке редкая, в ногах не путается.
От головы колонны донеслась какая-то весть. Колонна стала. Весть докатилась до взвода Лыкова. Встретились три отряда.
Среди деревьев показались конные и пешие.
— Земеля, едрить твою в корень, Бойцов!
Бойцов дернулся от этого крика, зацепился за корневище, чуть было не упал.
— Денис! — заорал обрадованно.
Колосов увидел Рябова. И боец, и партизан бросились друг к другу, обнялись.
— Как ты здесь оказался? — не веря собственным глазам, спрашивал Рябов. — Тебя ж на Урал угнали, бронь тебе дали, а?
— Так вот, я — как все. Слышь, не хуже, других, а? — сумбурно объяснял Бойцов.
— Ну и дела. Во, не думал, не гадал.
— Ты-то откуда взялся?
— Оттуда, — махнул рукой Рябов.
Подходили и подходили люди.
— Товарищ старшина!
К Колосову подлетел Ахметов.
Странное чувство испытал старшина. Впору броситься навстречу да обниматься. Он сдержал себя.
— Все выбрались? — спросил сдержанно.
— Качерава погиб, товарищ старшина, Стромынского ранило.
— Тяжело?
— Лопатку осколком разворотило.
— Где раненые?
— Их еще раньше на базу к партизанам на подводах отправили. Теперь давно там, э, — сказал Ахметов.
Колосов услышал удивленный возглас Рябова.
— Старшина! — закричал Денис — Вы тоже тут! Ну, едреноть, воистину не знаешь, где что найдешь, где потеряешь. А я все пел: «Где вы теперь, кто вам целует пальцы…» Честно. Спросите у Ахметова. Думал, куда вам деться, тут вы должны быть…
— Ба, старшина!
— Товарищ старшина, и вы здесь?
Подошли Кузьмицкий, Асмолов. Колосов стал шарить глазами, выискивая остальных, Рябов перехватил его взгляд.
— Не ищите, товарищ старшина, Пахомов и Козлов раненых сопровождают.
— Ну, здорово, орлы, вот и собрались, — шумно с облегчением выдохнул старшина.
— Пов-з-вод-но разберись! — раздалась команда.
Подбежал Лыков.
— Ты теперь со своими пойдешь? — спросил у Колосова.
— Ну! — развел руками старшина.
— О маскировке не забывайте, — напомнил Лыков.
Колонна двинулась. Прежде чем пошли, Кузьмицкий и Асмолов справились о радисте. Колосов сказал, что радиста довел, но связи нет, Неплюев не в себе.
Встреча взбодрила людей, со всех сторон неслись голоса:
— Ахметов?
— Э.
— Помнишь, на болоте я тебе про одного чудика рассказывал? — спрашивал Рябов товарища.
— Ты мне там много чего наговорил.
— Про того, что на бабе с алиментами залетел.
— Ну.
— Вот тебе и ну, я его только что встретил. Он тут у них мастер оружейный, понял? Тоже партизанит.
— Ты говорил, бронь у него.
— Не, ты послушай, что получилось. Она к нему на Урал прикатила, во потеха. Я ему говорю: «Это ты от бабы, значит, сюда тиканул?» А он… Нет, ты послушай, что он сказал: «Как это, сказал, от бабы?» С обидой вроде бы, ты понял, Фуад? Я ему говорю: «Она на тебя алименты повесила, а как, значит, припекло, снова за тобой на Урал?» А он… Ты послушай, что он сказал. Ну, прямо кино получается. «Чудик ты, Денис, — это он мне. — Она, говорит, меня любит. Мы с ней, сказал, записались в загсе». Во дела. У них тут связь с фронтом была, самолеты к ним прилетали, она ему столько писем написала. Писала, слышь, что сто лет ждать его будет, если война долго продлится. «Мому сыну, сказал, теперь уже пять лет исполнилось. Он меня, сказал, папаней зовет. У мамки спрашивает: олден, мол, у папки есть? Слышь, говорит, Денис, так и называет, не орден, а олден».
— Чего тебя удивляет? — спросил Ахметов.
— Как это чего? — ответил Рябов. — Получается слишком уж просто. Как в кассе. Заплатил деньги, получи чек. Ты лучше скажи, как война людей переворачивает. Разве Бойцов, земеля мой, думал-гадал, каким образом судьбу отыщет, подругу, так сказать, да еще такую верную. Сто лет, говорит, ждать будет.
— Радуйся за земляка.
— Мне чего, я радуюсь. Парень он отличный. А мастер знаешь какой, ого-го-го…
— Денис, закрой сифон, на базу придем, там нагогочешься, — строго предупредил старшина.
— Я чего, я ничего, товарищ старшина.
— Отставить разговоры в строю!
Остаток пути шли молча. Порывался говорить Рябов, Колосов пресекал эти попытки на корню. Подступали с расспросами Асмолов, Кузьмицкий. Колосов на их попытки не отозвался. Главное узналось, остальное на базе договорят.
До базы добрались в темноте. Добрались, разобрались, поели горячей пищи.
Для ночлега разведчикам отвели землянку с нарами в два яруса, на которых уже спали Пахомов и Козлов. Очень скоро уснули и разведчики. Уснул и старшина.
XX
Давно, в той возрастной дали, которую теперь уже враз и не разглядишь, подростка Ханаева поразил цветок ландыша. С той поры много дождей снегами сменилось. Изморозь выбелила голову. Многое забылось. Главное осталось в памяти. Викентий Васильевич помнил, как застыл он, подростком, перед крохотными колокольчиками, как хотелось ему понять тайну происходящего.
В пустом стакане перед ним топорщились полузасохшие цветы ландыша. Часть белых колокольчиков превратилась в коричневые. И все-таки они источали нежнейший аромат. Запах сродни течению. У каждого течения есть исток. Таинство заключалось в том, что благодатный запах исходил и исходил от полузасушенного цветка, у которого не было корней и стоял он в пустом стакане. По всему выходило, что еще при жизни растение создало какой-то запас, а теперь отдавало накопленное.
То же самое происходило с черемухой, с горькой, но душистой полынью, с другими травами, к которым стал приглядываться подросток. Он стал замечать, что не каждое растение ароматно. Есть такие, что одаривают красотой, но не запахом. Есть вовсе невзрачные, но и они необходимы, их с удовольствием поедают животные. В других вьют гнезда птицы. В иных нерестятся рыбы, возле них хороводятся насекомые. Все это жизнь в одной неразрывной цепи, в ней всему живому определено место. Под солнцем и под луной, под ливнями и грозами. Подростку Ханаеву открылось многообразие растительного, а затем и животного мира. Открытие толкнуло на поиск ответов на многие вопросы. Увлекся чтением, потом учебой. Очень скоро понял истину, которая оборачивается для человека кажущимся парадоксом: чем больше получаешь знаний, тем больше понимаешь, как мало знаешь.
Жизнь Ханаева началась так давно, что по нынешним меркам ту, ставшую историей, даль представить трудно. Он родился вскоре после отмены крепостного права в России. Помнил черные избы. Нищету. Опустошительные эпидемии. Всепожирающие пожары. Видел, знал, помнил ту Россию, которая пришла к великому очищению в октябре семнадцатого года. В прошлом веке он стал врачом. В прошлом веке разработал собственную систему лечения больных с использованием лекарственных растений, опыта народной медицины, достижений фармацевтической, крайне слабой тогда, промышленности.
Оглядываясь с вершины лет в прошлое, Ханаев видел, что он прожил две отдельные, каждая по себе самостоятельные жизни. Относительно размеренную, с поиском своего «я» в медицине, с удачами и огорчениями, и другую, во многом сумбурную, скорую на суд, на расправы, на выводы.
Двадцатый век ворвался в жизнь Ханаева значительными открытиями в науке и технике, повышенным темпом, всевозрастающими скоростями, пересмотром многих устоявшихся понятий. Ханаев, к примеру, был твердо убежден в том, что медицина должна и впредь развиваться по пути консервативного лечения, не отступать от традиций многих поколений врачей, лечить так, чтобы максимально использовать защитные свойства самого организма, усиливать их и тем самым помогать организму самому справляться с собственными болячками. Хирургическое вмешательство, считал Ханаев, крайность, пользоваться которой если и следует, то весьма и весьма осторожно. Однако двадцатый век ворвался в жизнь Ханаева еще и всемирной бойней, а у войны свои законы, свои жестокие требования. На войне спасают раненых. На войне на первое место выходит хирургия.
Одна война перешла в другую. Были годы гражданской войны. Свой взгляд на развитие медицины, свое отношение к методам лечения пришлось отложить.
Отгремела гражданская война, изменилось время. Оно стало кричать: «Давай, давай, давай!» Оно корчилось во всеобщем крике: «Скорее, скорее, скорее!» То, что было отложено Ханаевым на потом, стало осуждаемым, анахронизмом, который в лучшем случае может вызвать снисходительную улыбку. Люди не изменились. Может быть, стали более нервными, более эмоциональными. Они по-прежнему наживали себе болезни годами. Но в том-то и проявилась особенность времени во всем мире, что избавления от недугов люди стали требовать немедленного. «Скорее, скорее, скорее!» Лечите боль. Конкретную. Ощутимую. Даешь чудо-таблетки! Даешь операции! Пусть в ущерб всему организму. Вылечивая одно. Калеча другое. Пусть. Так надо. Это наши достижения. Достижения всего человечества. Это наше право, наконец! Появились врачи, которые с ледяным спокойствием стали говорить больному: «Давайте вскроем, посмотрим, что там у вас». И люди… Стали более нетерпимы к боли. Люди соглашались. Люди перестали бояться скальпеля.
В такой обстановке трудно было отстоять свой взгляд на методы лечения. Союз скальпеля и чудо-таблеток оказался настолько могущественным, что заслонил многовековой опыт медицины. Из этого опыта отбиралось и признавалось только то, что было угодно Его Величеству — Новому Союзу. Ханаеву навесили ярлык консерватора. Трудно было работать, жить. На доказательства очевидного уходило столько времени и сил, что, казалось, их не останется вовсе.
Наступил сорок первый год, с ним война, с войной оккупация. В войне, особенно в партизанской, оказались пригодными все методы. Даже те, которые были окрещены в предвоенные годы как знахарские. Особенно на изначальном этапе всенародной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, когда приходилось делать сложнейшие операции под огнем, чаще всего в антисанитарных условиях лесного или болотного, тогда еще не во всем отлаженного быта. Спасать людей без медикаментов, без квалифицированных помощников. Работать, полагаясь на опыт, на свою более чем полувековую практику. Инструменты в ту пору готовили для него партизаны-умельцы. Отсутствие лекарств он компенсировал сбором, заготовкой растений. Анестезирующие препараты заменял самогоном. В помощники старался отбирать людей покрепче, способных удержать раненого во время безнаркозной операции.
Одно не давалось Ханаеву — лечение душевнобольных, которых под немцем становилось все больше и больше. Он и не брался за подобных больных, понимая, что все человечество, за всю историю, так и не нашло действенных методов воздействия, надежных лекарств тем более, для излечения больной психики человека. Были отдельные успехи у одиночек, но все это оставалось на уровне экспериментов, до широкой практики не доходило. К экспериментальным препаратам Ханаев отнес и те таблетки, которые удалось добыть партизанам в одном из пущенных под откос эшелонов. Теперь Ханаеву предстояло опробовать эти таблетки на больном радисте.
Жизненная необходимость и прежде раздражала Ханаева. Викентий Васильевич почувствовал раздражение и на этот раз. Не столь заметные прежде неудобства лесного быта стали вызывать вдруг неудовольствие. Раздражало отсутствие стационара, хотя для госпиталя выделялось и направлялось все, что имело ценность для доктора и для раненых. Раздражали вопросы помощников. Ханаев понимал, что вспыхивающее раздражение — продукт неудовлетворенности. Следствие неудовлетворенности. В том, что эксперимент с больным радистом может оказаться удачным, гарантии нет, в том, наконец, что и метод клина, на который он ориентировал командиров, всего лишь попытка. Понимая это, Ханаев находил силы сдерживать себя, вида не показывал. Тревожные думы тем не менее не покидали его.
Неплюев тем временем оживал. Он открыл наконец глаза, среагировал на голос Ханаева. В глазах больного мысли не было. Взгляд радиста оставался отрешенным, таким, каким был он, по словам старшины, во время перехода. Доктор повелел больному съесть бульон, и больной послушался. Из этого факта следовало, что сознание радиста цепляется хоть за что-то. Надежда, стало быть, оставалась. Можно было рискнуть, дать больному препарат, попробовать на нем метод клина. Вполне возможно, что радист среагирует. Может быть, переживет потрясение. Болезнь хотя бы временно оставит его…
В то же время Ханаеву не давали покоя мысли о возможных последствиях такого лечения. Однажды он уже был свидетелем подобного эксперимента. Это было в первую мировую войну. В Прибалтике. Когда пришлось отступать.
Ханаев брел с обозом раненых. Они тогда основательно заблудились в болотах. У них тогда тоже не оказалось выхода.
Среди тех, кто отступал, был один, который хорошо знал местность. С ним случилась такая же беда, как с Неплюевым. И причины были те же.
Тогда врач принял на себя ответственность за эксперимент. К больному ненадолго вернулась память. Он вывел обоз из топей.
Болезнь затем усилилась. И уже ничто не смогло его вывести из состояния невменяемости. Он так и умер умалишенным.
Помнил Ханаев другие примеры. Они были еще трагичнее. Болезнь усугублялась без видимых признаков хотя бы временного облегчения. В случае с Неплюевым могло повториться то же самое. Болезнь можно было усугубить, и все безрезультатно. Думая об этом, Ханаев понял причину своего непроходящего раздражения. «Сделаю все, что в моих силах», — вспомнил Ханаев собственные слова в землянке комбрига. «Что в моих силах? — вслух теперь уже спросил себя Ханаев. — Что я могу? Что можно сделать, если поражен мозг?» Безответные вопросы ухудшили состояние доктора. Угнетало то, что, пообещав комбригу испробовать на радисте все, вплоть до сомнительного метода клина, он тем самым обнадежил Солдатова, отвлек его от поисков иных путей восстановления связи. Подумав об этом еще и еще раз, Ханаев направился в землянку комбрига.
Шел он хоженой-перехоженой тропой. Тропинка петляла меж высоченных елей, раскидистых, с густыми кронами, берез, ныряла в заросли орешника. Викентий Васильевич шел, занятый нелегкими думами, не глядя под ноги, которые, казалось, сами себе выбирали путь, ни разу не оступились, не споткнулись о корневища. Настолько знакомой была тропа, настолько привычен был каждый ее изгиб.
Вскоре после войны Викентий Васильевич посетит этот лес, станет бродить возле землянок, узнавая каждое дерево. Пройдет по знакомой тропе светлым днем. Вспомнит нелегкое партизанское житье-бытье. Подивится тому обстоятельству, как могли они ориентироваться даже в ночном лесу, ходить, не натыкаясь на деревья, особенно в ненастье, когда не только тропы не видать, собственного носа не разглядишь. Ходили, подумает доктор. Пробирались лесными тропами, управлялись с делами.
Увидев доктора, Солдатов по обыкновению поднялся, поздоровался, предложил Ханаеву сесть.
Каждый раз, когда комбриг видел Викентия Васильевича, он зримо представлял себе появление Ханаева в отряде осенью сорок первого года. К тому времени гитлеровцы разгромили первое подполье в Глуховске. Провели ряд акций в округе, пытаясь запугать партизан, население. Двинули карателей в лес, стремясь уничтожить партизанский отряд. В то же время партизаны провели ряд успешных операций. Перебили охрану лагеря военнопленных. Был пущен под откос первый эшелон. Было осуществлено дерзкое нападение на городскую тюрьму, в одном здании с которой находилось местное отделение гестапо. Освобождены немногие уцелевшие подпольщики. В том числе нынешний начальник штаба бригады Всеволод Петрович Мохов, нынешний заместитель комбрига по хозяйственной части Виктор Николаевич Хлебников.
Ханаев прикатил в лес на серой кобылице, запряженной в легкую тарантайку. Дорогу к партизанам указал ему один из бывших его пациентов. Тому удалось избежать ареста.
Доктор явился в лес в овчинном полушубке, с чемоданами, в которых оказались и медикаменты, и инструменты. Видно было, что в лес Ханаев собрался основательно. Потребовал командира отряда. Представился. Сказал, что отряду без него не обойтись.
Солдатов не знал о возрасте Ханаева. Когда же узнал, обеспокоился. Ханаеву приближалось к восьмидесяти, а жизнь в лесу здоровью не способствовала. В то же время он увидел, как появление доктора в отряде повысило настроение людей. Местные жители хорошо знали Ханаева. Знали, что, если до того дойдет, Ханаев и поможет, и спасет. Тогда это много значило. Так же, как, впрочем, и теперь.
Солдатов знал, что по пустякам Ханаев к нему не приходил. Викентий Васильевич, и это не раз отмечал Солдатов, был весьма собранным человеком. Он умел организовать свой труд так, что успевал многое. Его доклады, просьбы были всегда предельно кратки. Вместе с тем объемны. Поскольку Ханаев умел концентрировать внимание на сути. Максимально используя собственное время, доктор не отвлекал людей чрезмерно, будь то партизанский мастер или комбриг, излагал дело предельно кратко.
Пригласив доктора сесть, Солдатов по обыкновению приготовился слушать Ханаева.
Доктор молчал, одно это уже было необычным.
Солдатов удивился, но вида не подал. Заговорил сам. О победе на завалах. О том, что партизаны встретили фронтовых разведчиков, о раненом командире группы, которого уже отправили сюда, он с минуты на минуту должен быть на базе.
Доктор молчал. То ли комбрига он слушал, то ли прислушивался к себе, к собственным мыслям.
Комбриг сказал о раненых партизанах. Их тоже везут на базу. Раненых много. Доктору вновь предстоит тяжелая работа.
— Да, да, — вдруг заговорил Ханаев. Сказал и замолчал.
Молчал Солдатов. Он впервые видел доктора в подобном состоянии.
— Вас что-то беспокоит, Викентий Васильевич? — спросил комбриг.
Ханаев вскинул голову.
— Беспокоит, и очень, — отозвался он.
— Что?
— То, о чем мы говорили с вами здесь же в прошлый раз.
— О радисте?
— Да, голубчик, да, — сказал Ханаев.
— Мы же договорились, Викентий Васильевич, — напомнил Солдатов. — Вот-вот появится командир этого радиста. Он, правда, ранен, но в сознании, может принимать решения. Вместе и подумаем.
— Я не о том, — жестом остановил Ханаев Солдатова.
Задумался. Сидел молча.
— Прошлый раз я сказал о методе клина.
— Помню, Викентий Васильевич. Мы подумали об этом. Завтра состоится траурный митинг. Завтра похороны тех, кто погиб сегодня на завалах. Не дело, конечно, так-то… Но надо…
— Погодите, голубчик… Я был не прав. За всю мою практику то был единственный случай, когда так называемый метод клина дал результат. Теперь я все больше и больше убеждаюсь в случайности результата… В особенности организма больного…
— Но у вас есть препараты… Трофейные, — напомнил Солдатов.
— О них я вам тоже говорил, Анатолий Евгеньевич. Мы можем навредить человеку, окончательно угробить его психику, не достигнув цели. Сколько дней в нашем распоряжении?
Солдатов подумал о том, что по сведениям, которые добыли люди Шернера, до начала немецкого наступления остается девять дней, поскольку сегодняшний день уже прошел.
— Чуть больше недели, — сказал он Ханаеву.
— Видите ли, Анатолий Евгеньевич, — вздохнул Ханаев, — если вариант с радистом единственный, то мы можем просчитаться. Я — врач. Я — партизанский врач, следуя вашему определению. И я обеспокоен не только за судьбу больных и раненых, за исход дела — прежде всего. Потому и пришел к вам. На радиста надежды нет.
Сказал и замолчал. И стало тихо, очень тихо, так тихо, что слышно было копошение невидимых жуков в песке за дощатой стеной землянки.
— Мы подумаем и об этом, Викентий Васильевич, не волнуйтесь. Вам предстоит сегодня крайне тяжелая ночь. Много раненых. Будем искать другой выход, Викентий Васильевич, — сказал Солдатов, вспомнив, что три попытки связаться с фронтом результатов не дали, связи нет, но делать что-то действительно надо, поскольку времени в обрез.
XXI
Потери, потери, потери… В каждый час, в каждую минуту войны. Как следствие потерь — могилы. Братские и одиночные. Больше всего — братских. Много осталось подобий могил. Когда уходили, а времени на захоронение не оставалось. Помнились незахороненные. Брошенные. Во время прорывов особенно. Когда бежали. Когда не было возможности наклониться, прикрыть павшему хотя бы веки…
Каждый раз, когда предстояли похороны, комбриг Солдатов вглядывался в прошлое — и каждый раз он видел глаза. Время размыло лица погибших, а их глаза память хранила. Открытые ветрам, солнцу, воронью… Глаза друзей. Товарищей. Знакомых и незнакомых. Людей, с которыми всегда и всего было поровну…
Комбриг вышел из штабной землянки, глубоко вздохнул, медленно побрел знакомой тропой, думая о только что закончившемся совещании, о прожитом дне, который тоже не обошелся без потерь. На совещании слушали доклад Полосухина о событиях в Ольховке. Разбирали бой у завалов. Решали текущие дела. В конце совещания Солдатов отдал необходимые распоряжения, отправился в свою землянку. По пути завернул на голоса. Благо все рядом. Комбриг зашел на партизанское кладбище, где люди готовили еще одно братское захоронение на утро. Утром предстояло похоронить тех, кто погиб на завалах. Постоял. Поговорил с людьми. Отправился к себе.
Вечер готовился перейти в ночь. Густела темень. Комбриг вошел в землянку. Хотел было засветить керосиновую лампу, передумал. Откинул плащ-палатку, загораживающую окно, распахнул створки. Прислушался к ходу часов на стене.
Ходики появились у него недавно. Их принесли партизаны с пожарища. Умельцы оживили неисправный механизм.
«Тик-так, тик-так», — торопили время ходики.
Солдатов услышал другое слово.
Было.
«Было-было, было-было».
Слово повторялось и повторялось.
Было.
Подумалось о том, что было и вовсе худо, с наступившим временем не сравнить. Было такое, что из тысяч за какие-то сутки в живых оставались единицы, чудом было, как это оставшиеся в живых не сходили с ума. Было такое, что мертвые тела укрывали собою родную землю так плотно, будто сговорились перед смертью не оставить, врагу места на этой земле, чтобы ступить на нее. Было такое, что по телам мертвых воинов катилась и катилась живая сила, будто мало было этой силе пролитой крови. Не хватало ей того, что люди уже померли под пулями, под бомбами и снарядами… Вражья сила мешала останки воинов с землей. Подумалось о том, что теперь уже то страшное время не вернется никогда. Научились бить немца. Научились гнать его с родной земли. Теперь и потери, не в пример тому времени, меньше. Есть возможность хоронить павших.
Маятник часов постукивал, погоняя время, в лад его стуку другое слово забилось в голове: «связь».
Солдатов стал повторять это слово, пытаясь сосредоточиться на других мыслях, к тому, что было не додумано им ранее.
Людей к фронту они посылали в третий раз. Две группы пропали без следа. С уходом третьей группы в Ольховке появилась предательница Зотова. Она выследила партизан, немцы их уничтожили. Как уничтожили бы они деревню, не случись подоспеть разведчикам да полосухинцам.
Третья группа, скорее всего, до фронта не дошла. Немцы перехватили партизан. Кто-то из группы выдал явку в Ольховке. Не выдержал пыток.
Кто?
Почему немцы, направив своих карателей против партизан, ударили в направлении Кабанова? Видимо, им не удалось узнать координаты базы?
Солдатов стал жевать и жевать факты, пытаясь определить их взаимосвязь.
Комбриг перестал воспринимать звуки. Его не отвлекали ни голоса на партизанском кладбище, ни ход настенных часов.
К фронту послали троих. Двое — конники из отряда Полосухина Гуляев и Павлов — знали не только координаты базы, но и подходы к ней, проходы в завалах. Третий — подпольщик Касьянов, он из Глуховска, месторасположение базы не знал. Но он, как и остальные, знал о явке в Ольховке, куда они, или кто-то из них, должны были провести связных или связного фронта, случись им добраться до своих.
Судя по срокам появления провокатора Зотовой в Ольховке, явку в деревне выдал кто-то из троих. Скорее всего третий, подпольщик из Глуховска Касьянов, и вот почему.
За два года партизанской войны Солдатов не раз убеждался в том, что предательство не бывает частичным. Предатель не может что-либо утаить. Предательство вроде течи в плотине. Если образовалась, то вода уйдет вся, обнажив дно. В душе каждого человека есть нечто вроде плотины. Сдерживающее начало, помогающее человеку сохранить в себе человека. Проявил слабость, смалодушничал — образовалась течь.
Тот, кто рассказал немцам об Ольховке, знал, видимо, только о ней. Иначе каратели не ломились бы сквозь завалы в направлении Кабанова, нашли бы способ блокировать базу. Гуляев и Павлов, знавшие координаты базы, либо погибли, либо где-то укрылись. Касьянов попал к немцам, не выдержал пыток. Такое уже бывало не раз. Он же рассказал немцам о задании группы. Предают до конца.
Потому немцы и послали Зотову в Ольховку. Им надо было так подобраться к деревне, чтобы захватить партизан врасплох. И деревню им надо было спалить вместе с жителями, чтобы создать видимость обычной расправы. С тем, чтобы создать пустоту. На случай возвращения Гуляева и Павлова…
Оба партизана могли и погибнуть, такой исход Солдатов допускал. Тогда немцы могли бы подослать к нашим товарищам за линией фронта провокатора, агента, называй как хочешь, сути дела это не изменит. В таком случае немцы могли бы перехватить радиста. С такой целью им тоже было выгодно зарезать партизан, спалить деревню. Все, мол, шито-крыто.
Солдатов почувствовал вдруг такую усталость, от которой опускаются руки, становится трудно дышать. Резким движением он распахнул ворот гимнастерки, стал тереть горло, грудь.
Голова пухла от дум. О потерях. О той же связи, которой не было. О других заботах, которые растут и растут, как грибы после дождя. Из головы не шел разговор с Ханаевым. Не зря обеспокоен доктор. Болезнь Неплюева серьезная, несерьезно надеяться на авось. Надо какие-то другие усилия.
Какие?
Мысленно Солдатов все чаще и чаще возвращался к фронтовым разведчикам. Что там ни говори, а опыт у них огромный, если смогли они просочиться там, где немцы не оставили ни одной лазейки. Выделить разведчикам опытных проводников. Выделить лучших лошадей, чтобы значительную часть пути они проделали верхом. Это и облегчение, и экономия сил, времени…
Спать Солдатову в ту ночь так и не удалось. Он зашел за Грязновым, вместе они и появились у Речкина.
Лейтенант спал.
На базу раненого привезли накануне днем, в разгар боя партизан на лесных завалах. Прежде чем за раненого принялся доктор Ханаев, оба, комбриг и комиссар, поговорили с Речкиным. Только с их уходом врач осмотрел лейтенанта.
Ханаев напомнил Речкину отца. Внешне. Ростом, сутулостью, бородкой клинышком. Пенсне у Ханаева оказалось, как у отца, с тонкой золотой цепочкой. Схожим оказалось умение слушать. Схожими были движения. Памятными до щемящей в сердце боли. Прикосновение ладони ко лбу. Прикосновение кончиков пальцев к запястью…
Викентий Васильевич осмотрел Речкина, дал необходимые указания медицинской сестре — пожилой миловидной женщине, его вызвали к другим раненым. Не задержалась возле лейтенанта сестра. Речкин понял, что состояние его здоровья не вызвало тревоги ни у доктора, ни у сестры.
Лежал Речкин напротив окна в полуземлянке. Окно оставалось открытым. Под окном стоял самодельный, шитый из грубых досок стол. Чурбаки заменяли стулья. Стены обшиты горбылем. Потолок бревенчатый, пол — земляной. На полу лежал слой полыни. Запах полыни сильный, степной, он забивал иные запахи леса.
Оглядев помещение, Речкин стал смотреть в окно. Прислушался к пению птиц. Почувствовал перемену. Все дни его лихорадило, бросало из жары в холод. Теперь приятно потеплело.
Потепление он ощутил, подъезжая к базе. Телегу покачивало на лесной дороге, встряхивало на корнях, прочих неровностях. Лейтенант тем не менее неудобств не испытывал. Партизаны сена на подстилку не пожалели, было хорошо. Он лежал, смотрел в небо на облака. Одни из них напоминали животных, другие были похожи на людей. Облака-животные дыбились, старались подмять друг друга. Облака-люди бежали, не было видно конца этому бегу.
Память лейтенанта выхватила из прошлого похожий день, белесоватую синь неба, такие же облака. Лейтенант увидел себя в прошлом, когда было ему лет семь-восемь. Он так же лежал на спине, смотрел в облака, они напоминали ему людей и животных. Так же пахло сеном. Покатая спина возницы заслоняла круп лошади. Сбочь от возницы сидел отец.
К тому времени он уже знал, что его мать умерла при родах. То есть он не мог ее помнить. И все-таки он помнил каждую черточку дорогого лица. Мать запомнилась в белом. Она была медсестрой, «сестрой милосердия» — как называл ее отец. Столь же белым была у нее лицо. А на нем черные брови, черные глаза и ровные, снежной белизны зубы. Запомнились черные густые пышные волосы.
В доме было много фотографий матери. Но в том-то и дело, что память Речкина хранила не только материнские черты, но и цвет. То, что не могла передать фотография. Мальчику, кроме того, запомнились движения. То, как утыкался он в колени матери, плача от ушиба, а она поглаживала его мягкой теплой ладошкой, целовала в макушку горячими губами. Поднимала. Сажала на колени. Прижимала к сердцу. Он слышал равномерные удары материнского сердца. Они успокаивали, поскольку бились в лад собственному сердцу, он ощущал этот лад.
Память прокручивала и прокручивала то, что глубоко засело в нем именно от общения с матерью. Он слышал ее голос. Мать напевала что-то ритмическое, но вместе с тем и жалостливое. Видел, как мать накрывала на стол, хлопотала, уходила на кухню, несла оттуда самовар. Сам он сидел на стуле, значит, был уже большой…
Колеса чуть поскрипывали, телега раскачивалась, мальчику казалось, что он в ладье, ладью несет течение. От тепла, от покоя, который вдруг охватил его, он прикрыл глаза. В тот же миг почувствовал прикосновение. Мягкое, едва ощутимое. Не испугался. Не всполошился. Сразу понял, что головы его коснулась ладонь, что ладонь материнская. Мать взъерошила ему волосы, закрыла ими лоб, надвинула их на глаза. Потрепала ладошкой сначала по одной щеке, потом по другой. Он вскинул руки, чтобы поймать и не отпускать материнскую руку, поймал воздух. Открыл глаза. Сел, ошалело уставившись в пространство.
Они подъезжали к Истре со стороны Звенигорода. Дорога пошла под уклон. Им еще предстояло скатиться вниз, к деревне Вельяминово, к деревянному мосту через реку, за которым, собственно, от железнодорожного переезда и начинался город. Пока же город был виден почти весь. Горел на солнце купол Ново-Иерусалимского монастыря. Из-под железнодорожного моста недалеко от вокзального здания выбегала Истра-река. Петляла. Скрывалась под откосом. Появлялась вновь, все так же изгибаясь, бежала среди холмов в низком ложе, а на левом ее берегу маяком светлела еще одна хрупкая издали церковь. Бег реки со всеми ее изгибами был означен крупноголовыми ветлами, зарослями кустов по обеим ее берегам. Не умолкая пели жаворонки. Их было много в летнем небе. Если умолкал один, песню подхватывал другой. От этого казалось, что пение жаворонков бесконечно. Крохотные птицы забирались под собственное пение так высоко, что пропадали из глаз. В стороне, там, где под откосом скрывалась Истра-река, парил коршун.
Сначала он не понял, куда делась мать. Не понял, почему он не смог ухватить ее за руку. Понял, что мать ему привиделась. В тот же миг испытал пронзительную жалость к себе. Он расплакался, стал звать мать. На его слезы вскинулся отец. Развернулся. Сграбастал сына в охапку, прижал к себе, повторял одно и то же: «Что ты, сынок, успокойся, что ты…» Одну и ту же фразу, все те же слова.
Дорога пошла круто под уклон. Возница соскочил с телеги. Шел рядом с лошадью, придерживаясь рукой за оглоблю.
Отец будто споткнулся на одних и тех же словах. Заплакал. Мальчишке стало жалко отца. Он впервые испытал это чувство. Удивился не только слезам отца, но и этому возникшему в нем чувству, от которого захотелось стать сильным-сильным.
Желание стать сильным пришло к нему через проявление слабости родным человеком. Мысленно к этому факту Речкин будет обращаться не раз, как только повзрослеет, станет задумываться над фактами, над явлениями.
Слабость требует защиты. Слабость требует силы. Силы-стены, силы-опоры. Тут такая взаимосвязь, другой не дано. На той дороге возле родного города в нем впервые проклюнулось то, что должно было проявиться гораздо позже, по достижении определенного возраста, но ранняя потеря матери, отсутствие ее ласк, которые всего лишь грезились, повзрослили его не по годам…
С этими мыслями лейтенант и заснул. Проснулся от движения воздуха. От ощущения присутствия людей. Он открыл глаза, увидел рассвет. Скосился. Увидел комбрига и комиссара. Те стояли, не решаясь будить раненого лейтенанта. Но если они пришли, значит, он был нужен.
Накануне Солдатов и Грязнов побывали в землянке у Речкина. Все, что надо было знать лейтенанту, он узнал из первых уст. О радисте Неплюеве, о старшине Колосове, о докторе Ханаеве, который собирался помочь Неплюеву. Причем надежда на эту помощь допускалась с большим оглядом. Накануне сердце Речкина екнуло при встрече с Грязновым. Лейтенант, как и старшина, запомнил, узнал капитана из сорок первого года. Однако комбриг и старшина вошли к Речкину с улыбкой, улыбка сама по себе если не гарантия, то предложение дружбы или расположения.
Теперь Речкин увидел на лицах командиров озабоченность. Видно было, что пришли они к Речкину по серьезному делу.
Дело оказалось слишком серьезным. Об эксперименте над Неплюевым, о котором говорили накануне, теперь и разговору быть не могло. Ханаев обдумал возможные последствия, пришел к неутешительному выводу, что время они потеряют, вред организму радиста нанесут непоправимый, цели своей не достигнут. Оба они доктору верили, пришли к лейтенанту с единственной целью: найти какой-то иной вариант.
Какой?
Единственным вариантом было — послать, как и прежде, связных к фронту.
В разговоре с раненым комбриг пошел даже на то, что раскрыл некоторые данные, готовые к передаче командованию фронтом. Продемонстрировал, так сказать, свое особое расположение, доверие к посланцу фронта, вовлекая лейтенанта в активный поиск выхода из создавшегося положения. Предполагаемая попытка одна из многих, но все они пока кончались неудачами.
По мнению Солдатова и Грязнова, выход тем не менее оставался прежним. Надо снова посылать группу. В группу включить фронтовых разведчиков.
Лейтенант понял партизанских командиров. Попросил прислать к нему старшину Колосова.
XXII
Проснулся Колосов рано. Рассвет едва проклюнулся. Рассвет вычертил окно полуземлянки, подоконник, трофейные котелки на нем, обрезанную гильзу от снаряда, которая вечером, когда ложились спать, служила светильником, точнее — коптилкой, поскольку света от нее было мало, а копоти хоть отбавляй. Копоть имела стойкий запах, запах не выветрился за всю ночь.
Вставать Колосову не хотелось. Он лежал, смотрел, как прибывает рассвет, прислушивался к сонному дыханию товарищей. Под ним посапывал Козлов, напротив — Пахомов. Накануне, когда разведчики ввалились в землянку, запалили чадящую коптилку, Козлов с Пахомовым лишь вскинули головы, пробормотали что-то невнятное, отвернулись всяк к своей стене. «Дорвалась, разведка», — прокомментировал Денис. Сам он, однако, не задержался, первым вскочил на нары. Не задержались и остальные. Скинули сапоги, завалились спать.
Рассвет пробирался в глубь землянки, отодвигал темноту, делал видимыми не только предметы, но и лица спящих. Вровень с Колосовым, напротив, спал Ахметов. Лежал он подтянуто, в готовности вскочить по первому зову. Кузьмицкий с Асмоловым спали одинаково согнувшись. Пахомов уткнулся в шинельную скатку. Козлов лежал на спине, широко раскинув руки, приоткрыв рот. Рябов спал, и то не по-людски. Одну руку заткнул каким-то образом под голову выше локтя, другую свесил с нар. Будто вывернулся. Вещевой мешок и тот лежал на голове. Одна нога у Дениса была почему-то в портянке, другая в носке.
Длинная полуземлянка напоминала вагон, за Денисом виделись свободные места, глянув на них, Колосов вспомнил Женю Симагина, Сашу Веденеева, Давида Качераву. На всех бы хватило места, да не все добрались до партизан. Полегли ребята навечно. Не дозваться до них, не докричаться, хоть горло разорви. Мысль о погибших всколыхнула тяжесть в душе, но и у памяти есть защита от боли. Подумалось о Речкине, о Стромынском. Подумалось с надеждой на благой исход, поскольку выбрались, задание выполнили, а как дальше пойдет, не только их забота, есть теперь начальники рангом повыше, придумают что-нибудь.
В жизни Колосов не увиливал от ноши потяжелей. Старшина взваливал на себя то, что, по словам Дениса Рябова, ему по штату было положено. В то же время присев дал, если добавлялось сверх всякой меры. Присел, ох присел, подумал о себе Колосов, вспомнив, как «опустил» он радиста на базе, что из этого опущения вышло. Вспомнил, но не сник, поскольку где-то рядом, в одной из землянок, лежал теперь Речкин. Лейтенант, подумал Колосов, выход найдет. Лейтенант для Колосова не просто командир — боевой товарищ прежде всего.
С мыслями о Речкине старшина собрался встать, потихоньку выбраться из землянки. Взгляд остановился на сапогах Ахметова, что аккуратно стояли на полу. Один сапог рваный, стянут куском провода. Колосов оглядел обувку остальных разведчиков. У всех она оказалась рваной. Старшина прикинул расстояние до фронта. Понял, что в такой обуви добраться до своих будет трудновато. Поймал себя на мысли, что не чает вернуться «домой», как называли они между собой штаб фронта, при котором состояли. В то же время подумалось о раненых. О Речкине, о Стромынском. Старшина не представлял себе возвращение к своим без командира. Тут он вовсе запутался, тихо сполз с нар, захватил портянки, сапоги, осторожно выбрался из землянки.
Колосов прикрыл за собой дверь, в тот же миг услышал частое пощелкивание. Робкое, вроде пробы. Потом посильней, но тоже пробное. Как проба донеслось несколько посвистов. Донеслось и стихло. Слышалось шуршание леса. Такое, будто бы иголки на ветвях елей стали бы вдруг тереться друг о друга. Однако в природе подобного не бывает, Колосов понял, что шуршит что-то еще. Может быть, таким образом дышит лес, подумал старшина. Просто ему удалось подслушать это дыхание. Может, проснулись, принялись за работу муравьи.
Колосов развернулся ухом в ту сторону, где небольшой копешкой чернел муравейник. Тишину леса разрубил такой стремительный посвист, что, казалось, вздрогнули могучие стволы, их ветви колыхнуло волновой рябью.
На смелый посвист откликнулся точно такой же, послышались другие голоса пернатых обитателей леса. Короткие, длинные, звонкие, робкие, недоуменные или торопливо что-то объясняющие. Разноголосица росла, ширилась, но весь этот птичий гам перекрывала соловьиная песня.
Вначале один соловей, может быть, тот первый, что оповестил лесной мир пробным пощелкиванием, повел свою мелодию, может быть, другой, тот, что откликнулся на посвист. Только залился он широко и разливно, как вода в половодье, когда откроется вдруг такая даль, что дух захватывает. К первому соловью незамедлительно подключился второй, за ним третий, потом еще и еще. Каждый из них вел свою мелодию. Если случалось, один из них замолкал, другие прибавляли и силы, и красоты. Они то словно нашептывали что-то душевное. То звали. То принимались рассказывать о чем-то, вызывая в памяти забытое, но ласковое, то, с чем давно уже разлучила старшину война. Напоминание тронуло душу, Колосову до смерти захотелось возврата.
Партизанский лес проснулся, зашумел, а соловьиная песня все лилась и лилась.
— Во, заразы, дают!
Колосов понял, что проснулся и вышел Рябов.
— Господи! Денис! Неужели и на эдакую красотищу у тебя приличного слова не нашлось! — сказал в сердцах старшина, не оборачиваясь.
— А что, товарищ старшина, действительно дают.
Колосов обернулся. Одна нога у Дениса была босая, другая в носке. Лицо разрумянилось. Глаза смотрели на мир широко, в них недоумение и такой черт сидит, что старшине расхотелось не только ругать Рябова, но и говорить ему хоть что-то осуждающее.
— Поднимай братву, — приказал Колосов и стал обуваться.
Денис скрылся за дверью.
Появился посыльный.
Колосова вызывал к себе Речкин.
Лейтенант полулежал на топчане. Был он в своей гимнастерке, ноги прикрывало лоскутное ватное одеяло. Пахло полынью и лекарствами. Старшина стал было докладывать по всей форме, лейтенант остановил его:
— Брось, Коля, проходи и садись, я так рад тебя видеть.
Колосов принял протянутую руку лейтенанта, пожал ее без усилия, опасаясь причинить боль.
Какое-то время разведчики молча разглядывали друг друга.
— Выбрались, Коля? — спросил Речкин.
— Выходит, выбрались, — подтвердил Колосов.
— Бороду куда дел?
— А! — махнул рукой Колосов. — Как ты?
— В порядке, Коля. Крови потерял много, а так ничего, теперь уже лучше. Ты как?
— Я на ногах, — ответил Колосов.
Поговорили почти ни о чем, замолчали. Будто что-то стояло между ними и разделяло. То ли пережитое каждым в отдельности, то ли расстояние, на которое они друг с другом разошлись.
— Садись, чего стоишь, — предложил Речкин.
Колосов сел. Не находил слов. Ворошить то, что уже прошло, не хотелось, бодрячком себя выставлять не умел. Речкин не мог приступить к разговору по одной причине. Разговор предстоял серьезный.
— Неплюев после вашего ухода один раз приходил в себя, — сказал Колосов и остановился, спохватившись, к месту, нет ли заговорил он о радисте.
— Надолго? — спросил Речкин.
Колосов отметил, что даже голос у лейтенанта истончался, как истончаются волосы у совсем старых людей.
Старшина все еще не знал, о чем говорить с лейтенантом. Перевести разговор на тему о соловьях или продолжить о радисте. Если Неплюев придет в себя, восстановится связь, фронт пришлет самолет, это же как дважды два четыре. А еще он понял по вопросу Речкина, что лейтенант думает между прочим о том же, о чем подумал он сам. О связи, о самолете, о возвращении к своим.
— Какой там, — махнул рукой Колосов. — Степан произнес всего несколько разумных фраз, тут же на него и накатило.
— Понимаешь, в чем тут штука…
— Как не понять, — подхватил Колосов, но лейтенант остановил его слабым взмахом руки.
— Погоди, — сказал он, — тут не все просто.
Колосов ждал.
— Дела, Коля, такие, — начал объяснять Речкин. — Тут у них, — Колосов понял, что лейтенант говорит о партизанах. — Короче, они узнали не только день, но и час немецкого наступления… Понимаешь?
Как не понять. Иной раз на муки идешь, чтобы узнать захудалое, а тут такие сведения. Колосов представлял им цену. Он кивнул в знак того, что понял.
Речкин молчал.
Странно все как-то получалось. Пожалуй, впервые между ними было такое. Колосов понимал, что командир что-то хочет от него, а чего — не говорит. Перетаптывается, как конь возле незнакомого брода.
Лейтенант чувствовал неловкость. За вычетом госпитальных месяцев, они почти два года воюют вместе, но подобного объяснения между ними не было. Не от излишней деликатности Речкин трудно вел разговор. Он знал, на что обрекал старшину, потому и начал издали, потому и мялся.
— Есть еще сведения, их тут накопилось немало, — сказал раненый после паузы. Снова Колосов понял, что лейтенант говорит с партизанах. Колосов не понимал, к чему такое вступление. Передадут партизаны эти сведения. Приведут в сознание Неплюева и передадут. — Вот такие дела, Коля, — сказал Речкин.
— И что? — спросил Колосов.
Речкин понял, что он должен сказать Колосову все как есть. Надежды на то, что Неплюев заработает, теперь уже нет, в этом убедились все. Дни тем временем уходят. Группа должна вернуться к фронту. Вести ее должен Колосов. Другого выхода нет.
— Возвращаться надо, Коля, — тихо произнес Речкин.
— Домой, что ли?
— Да.
Речкин принялся объяснить старшине то, о чем только что говорил с Солдатовым и Грязновым. Партизаны несколько раз пытались связаться с фронтом, не удалось. Группы, что уходили к фронту, гибли, и гибли, судя по всему, в прифронтовой полосе. Особый режим. Леса нашпигованы гитлеровцами. Население или вывезено, или уничтожено. Изменилось многое из того, что видели разведчики в мае, когда уходили на задание.
— Стращаешь? — спросил Колосов.
— Нет, Коля, предупреждаю.
— Потому и крутил, потому и начал издалека?.
— И поэтому, — легко согласился Речкин. — Что тут зазорного? Ребята на пределе, тебе досталось, не сорваться бы. Малейший срыв, Коля, и все.
— Ты, стало быть, на нас уже не надеешься?
— Брось, Коля, не о том разговор, — сказал Речкин. — Во всех рейдах мы с тобой рука к руке, как в атаке друг друга страховали. Ноша раскладывалась на двоих. В этом рейде все ляжет на тебя одного.
— А ребята?
— Трудно будет и ребятам.
— Трудно, трудно, — не сдержался Колосов. С досады он себя по колену хлопнул. — Не видел я тебя таким… Нет, не видел. Не знал и знать не хочу. Ты всегда с нами советовался, прежде чем что-то решить. Теперь, выходит, за каждого подумал. Каждому оценку выставил. Мне в том числе. Хотел бы нас послать, да не решаешься. И хочется, и колется, и мамка не велит, так, что ли? И начал издалека… Крутил, крутил…
На миг Речкин закрыл глаза.
— Плохо? — встрепенулся Колосов.
— Слабость, Коля, пройдет.
Лейтенант поднял руку, чтобы дотянуться, утереть пот на лбу, не дотянулся. Почувствовал слабость не только физическую. Подумал о том, что Колосов прав, раньше он таким не был. При сомнениях он умел взять себя в руки. Сказалось ранение, непроходящее напряжение всех сил.
— Знаешь меня. Не любил и не люблю крутеж. По мне всегда хорошо, когда в лоб, — тихо произнес Колосов.
Теперь, когда узналось главное, старшине подумалось, что такого исхода он все-таки не ждал. Не думал он, что и назад придется возвращаться на своих двоих со всей мерой опасности, которую уже пережили сполна. Тем более, что однажды они уже доставляли партизанам и рацию, и радиста. И путь был трудным. Однако в тот раз группу вывезли самолетом. Он понял, что на этот раз им придется возвращаться без отдыха, без определенного настроя, который тоже необходим, без подготовки. Прожорливое на войне слово «надо» коршуном поднялось над обстоятельствами. Закружило, выглядывая необходимость того, что предстояло сделать.
Колосов представлял цену сведениям, о которых упомянул Речкин. Данные о воинских соединениях, проследовавших к фронту, о размещении штабов, складов, оборонительных сооружений в зоне действия бригады, а может быть, и шире, в зависимости от того, как поработала партизанская разведка, что удалось добыть подпольщикам. Эти ценнейшие сведения пока лежат мертвым грузом. Попади они в штаб фронта, там знают, как ими воспользоваться. Жизни многих и многих бойцов сохранят, ответят гитлеровцам на их удар своим ударом, как под Москвой, под Сталинградом, а может быть, и покруче.
— За крутеж прости, — сказал Речкин.
— Забудем, — отозвался Колосов.
В землянку вошел Солдатов, за ним — Грязнов. Будто ждали конца разговора где-то рядом. Солдатов заговорил от порога.
— Как думаете, товарищ старшина, за сколько дней можно добраться до фронта? — спросил комбриг.
— До наших? — переспросил Колосов.
— Да.
Старшина посмотрел на Грязнова, тот тоже ждал ответа.
— Если без обузы… Дней за пять дошел бы.
— С переходом линии фронта? — уточнил Солдатов.
— Конечно.
— Выдержите? — спросил Грязнов, глядя глаза в глаза.
— Чего? — не понял Колосов.
— Переход.
Колосов глянул на свои сапоги, подумал о том, что болота, росы, корневища вконец измочалили обувь, без новых сапог им не дойти.
— Обувку бы сменить, — произнес он, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Обувь сменим, оружие проверим, боезапасом, питанием обеспечим на весь переход, — объяснил Солдатов. — Пойдете группой. Кроме раненых, разумеется. Дадим явки. Дадим проводника. Часть пути преодолеете верхом. Выделим лучших лошадей.
От такого предложения у Колосова в глазах чуть затуманилось. Он подумал, что в таком случае до своих можно добраться дня за три. На лошадях — это не пешим гнать.
— Идут только добровольцы, — предупредил Грязнов. — Путь предстоит опасный, особенно вблизи фронта. Немецкие соединения занимают сейчас исходные позиции для решительного наступления. В прифронтовой полосе, в непосредственной близости к фронту собрано большое количество войск, техники.
— Пойдут все, я своих знаю, — сказал Колосов.
Солдатов тоже напомнил о переходе линии фронта.
Колосов усмехнулся. С начала войны он только то и делал, что переходил линию фронта, на то и разведка.
— Передадите карту, отдельно шифр к ней. Понесете очень ценные данные.
— Все понял, — сказал Колосов. — Надо так надо.
Разошлись не сразу. Наметили маршрут. Уточнили детали предстоящего перехода.
Вечером группа собралась в штабной землянке. Вместе с проводником. Проводником партизаны посылали подпольщика Галкина, того, что пришел на помощь разведчикам в Шагорских болотах. Сашу рекомендовал Шернер. Дмитрий Трофимович отошел настолько, что с ним можно было советоваться. Саша, кроме того, хорошо ориентировался в лесу, в чем убедились разведчики, знал броды через реки, знал явки на пути к фронту. Разведчики успели узнать Галкина, а это тоже немаловажный фактор.
Уходили на рассвете.
Простились с командиром.
Зашли к Стромынскому. Простились и с ним.
Прощались не навек. Прощались в надежде встретиться вновь.
Такая вдруг уверенность в благополучном исходе охватила каждого.
XXIII
День дотаивал льдинкой на ладони: видимо и быстро. Скрылось солнце. Отзолотился край неба. Отпламенели облака за спиной, в той стороне, откуда шли разведчики. В лесу стали сгущаться сумерки. Сумерки готовили к ночи черную краску. В лесу стало заметно тише. Ветер то ли устал, то ли затаился до утра.
В наступившей темноте громыхнуло особенно сильно.
Громыхнуло и полыхнуло.
Впереди.
На том месте, где шел проводник.
Перед тем Саша поднял руку, сигналя, чтобы разведчики остановились.
Соскочил с коня.
Шел медленно.
Вел за собой коня.
Старшина Колосов остановился, сдублировал сигнал.
В этот миг и полыхнуло, и громыхнуло. Галкин, видимо, подорвался на мине.
Осознание этого факта придет к Колосову позже, когда он оправится от неожиданности.
В момент взрыва Колосов выскочил из седла, плюхнулся на землю.
Соскочили с коней другие разведчики.
Залегли.
На случай, если чернеющие впереди заросли оскалятся смертным огнем.
Заросли молчали.
Темнело все более. Но видно было. Кусты, деревья, раненого коня. В момент взрыва конь ткнулся в землю мордой. Повалился на бок. Теперь лежал, дергался, тянул и тянул вверх гривастую шею. И плакал. Горько, горько. Горше человека…
Колосов замер в надежде услышать Галкина. Стон ли, хрип ли. Не разобрал ни звука.
Старшина поднялся, вытянул руку вверх, отвел ее в сторону, махнул. На языке жестов это означало: всем лежать, иду один.
Колосов привязал коня за ствол ближайшей березы, пошел медленно, как в незнакомой реке, когда ждешь впереди, по ходу движения, яму.
Приблизился к месту взрыва.
Увидел Галкина.
Саша не подавал признаков жизни.
Колосов склонился над ним, осмотрел.
Саше оторвало взрывом обе ноги. Разворотило живот Срезало кисть левой руки. Взрыв не дотянулся до лица проводника. В сумерках лицо казалось иссиня-черным.
Колосов прикрыл Галкину веки.
Разогнулся.
Обернулся к раненому коню.
Конь тянулся мордой к старшине, просил помощи.
Старшина вскинул автомат.
Передумал.
Забросил автомат за спину.
Достал пистолет.
Приставил ствол к уху животного.
Выстрелил.
Конь дернулся и затих.
Колосов обернулся, просигналил сбор.
Подумал о возможных последствиях взрыва. Если мина случайная, подумал Колосов, обойдется, случай есть случай. Мину могли оставить партизаны. Если были в этом лесу, если приходилось им уходить от немцев. Но могло быть и по-другому. Мину могли поставить немцы. Чтобы взрыв оповестил о партизанах. К подобным уловкам немцы прибегали не раз. На лесных дорогах ставили мины, на тропинках, возле бродов по берегам рек. Если мина срабатывала, прочесывали лес.
Колосов глянул на небо.
Темнело все более.
Ночью они, конечно, лес прочесывать не станут, подумал о немцах старшина. Уходить тем не менее надо.
А если мина не одна?
Спросил себя Колосов, задумался. Не слышал, как собрались за спиной разведчики.
— Намертво, — тронул за локоть Рябов.
Колосов резанул ладонью воздух. Жестом показал, что намертво.
— Чего делать-то будем? — спросил Денис.
Старшина не придумал, что делать, не знал, что ответить. До явки, по словам проводника, оставалось пять километров ходу. Три километра до реки, там, берегом, еще два. Но как идти? Белым днем ладно бы, тренированный глаз выхватил бы приметину. Замаскированную мину разглядел бы, другую какую ни на есть ловушку. Теперь надвигалась ночь. Медленно, но неотвратимо. Поди-ка, в темени, сунься… Был бы лейтенант… Приказал бы, и дело с концом. Было бы ладно. Недавно, когда Неплюева вел, тоже вроде бы решалось само собой. Сам себе командир, сам себе исполнитель. Теперь не знаешь, как быть. Оставаться нельзя. Надо уходить. Надо кого-то ставить первым.
А если рванет?
Самому — ладно. Сам себя и осудишь — в себе останется. А тут люди.
— Чего делать-то будем? — переспросил Денис Рябов.
Как показалось Колосову, Денис спрашивал настойчиво-требовательно.
— Тебе неймется, да! Надо выставиться, да! Не видишь, куда уперлись! Не понимаешь! Ваньку из себя валяешь!
Не сдержался старшина, взорвался. Раздражение вылил на Дениса.
— Я чего, а? Я же только спросил.
Денис обернулся к разведчикам.
— Ты чего, старшина, э? — вступился за товарища Ахметов.
Колосов понял, что перехватил. Вспомнил предупреждение своего лейтенанта. «Ты как хочешь будь внутри, — говорил Речкин, — раскались добела, но наружу не выплескивайся». Забыл старшина предупреждение командира, сорвался. Почувствовал неловкость. Тем более что на его срыв отреагировали все разведчики. Вскинули головы, насторожились.
— Забудем, ребята, — повинился Колосов.
Поделился с разведчиками опасениями. Уходить надо, да идти опасно.
— Первый раз, что ли, — негромко произнес Кузьмицкий.
— Со смертью встречаться каждый раз заново, — сказал на это Пахомов.
Остальные разведчики молчали, ждали решения старшины.
Взгляд Колосова остановился на Ахметове.
Ахметов все понял. Подтянулся.
— Все будет нормально, э, товарищ старшина, — негромко произнес Фуад.
— С коней не слезать, — предупредил Колосов, подумав о том, что животные какая-никакая, а все же защита.
Ушли не сразу.
Похоронили Галкина. В лесу оставили еще одну безвестную могилу.
Шли в том же темпе, тем же порядком. Впереди — Ахметов, за ним — Колосов, потом: Пахомов, Рябов, Кузьмицкий, Асмолов, Козлов. В первые сутки — первая потеря. Недосчитались одного. А завтра? А сей час? А сей миг? О возможных неожиданностях думал каждый. На первых шагах. Как только тронулись, пошли. Взрыва не было, тревога отходила от сердца. Та мина, видимо, была случайной, та мина оказалась, видимо, единственной. Когда же под ногами коней зачавкала прибрежная топь, опасение и вовсе отлегло от сердца. В таком грунте обычно мин не ставят — это разведчики знали.
Кони почуяли воду, пошли охотнее. Вошли в реку, припали к воде.
Речка оказалась неглубокой, воробью по колено.
Речка шуршала о прибрежный камыш, тонко, чуть слышно позванивала на перекате, ниже того места, где вошли в нее кони.
Колосова вдруг осенило. В том смысле, что нечего им выбираться на противоположный берег, искать дорогу. Лучше спуститься по реке. Дно вроде бы нормальное, кони стоят спокойно. До лесного хутора, до явки, осталось километра два. С пути не собьешься, следов не останется. Река все-таки.
— Фуад! — шепотом позвал старшина.
— Э!
— Теперь вниз, по реке.
— Есть.
— Идем рядом, тут мин нет.
— А мы?
Пахомов рядом стоял, слышал перешептывание Ахметова с Колосовым.
— Что «мы»? — спросил Колосов.
— Порядок движения?
— Можно по двое. Можно плотнее друг к другу двигаться. Только не торопиться, и чтобы тихо.
— Понятно.
Шли и вовсе ничего, минут пятнадцать. Колосов тронул за плечо Ахметова, чтобы тот остановился.
Подождали остальных разведчиков.
— Значит, так, — сказал Колосов, стараясь произносить слова как можно тише. — Дальше, значит, такой расклад.
Старшина дал коням успокоиться, дождался полной тишины.
— По словам проводника, сейчас будет еще один поворот реки, — объяснил он разведчикам. — Последний поворот на нашем пути по реке. За поворотом заросли по правому берегу оборвутся, берег будет становиться все выше и выше, потом должен быть откос. Напротив откоса — хутор. На хуторе четыре дома. До крайнего дома триста метров, не более.
Колосов прислушался к реке, к берегу.
— Решение мое такое, — сказал он. — Все вместе двигаем до поворота, понятно? Дальше идут Ахметов, Рябов.
— Вроде как в Горянке, — напомнил Рябов.
— Вроде бы, — согласился Колосов, подумав о том, что напоминание Рябова некстати.
В Горянке, в крохотной лесной деревеньке на семь дворов, произошел тот срыв в работе поисковой группы лейтенанта Речкина, с которого начались беды разведчиков. Смерть Жени Симагина. Смерть Саши Веденеева. Смерть Давида Качеравы. Ранение командира группы. Ранение Стромынского. Болезнь Неплюева и прочее, то, что выпало на долю всех остальных, в том числе и на погибшего только что подпольщика Сашу Галкина, ставшего ненадолго членом разведгруппы.
К деревне Горянке подобрались в сумерках.
Первым насторожился Ахметов. Он шел рядом с лейтенантом, тронул Речкина за руку. «Немцем пахнет, э», — сказал Ахметов.
Лейтенант остановил группу.
Послал в разведку Козлова, Симагина.
Разведчики по сотне шагов не сделали, как встретились в двумя немцами. Столкнулись с ними нос к носу. Хорошо, что Ахметов учуял немцев, успел предупредить. Разведчики были готовы к встрече, потому и среагировали первыми. Козлов сделал выпад, засветил немцу прикладом своего ППШ точно в лоб. Тот стал падать, а Козлов схватился со вторым немцем. Отбил в сторону ствол автомата, сбил руку немца со спускового крючка. Дотянулся до вражьего горла. Сдавил так, что под пальцами хрустнуло. Затихшего немца отбросил так, будто с рук стряхнул. В это время первого немца добил Женя Симагин.
Разведчики вернулись, доложили лейтенанту о встрече.
Речкин сказал, что дело — швах. Обычно немцы по лесным деревням, да еще в одиночку, не шастают. Что-то, видимо, произошло в Горянке, просто так туда не сунешься. В то же время без явки разведчикам не обойтись, это как дважды два — четыре. Подкормиться надо? Надо. Еды с собой взять надо? Надо. Но главное — на явке в Горянке питание для рации, без которого совсем не обойтись. Потому как грош цена всей работе группы, если то, что они добудут, нельзя будет передать.
В деревню лейтенант послал Ахметова и Стромынского. Шустрые, юркие, пролезут там, где не каждому пролезть. Страховала Ахметова и Стромынского вся группа. Для страховки подобрались к сараям у домов.
Ближе к полуночи поднялся ветер. Ветер гнал и гнал облака. Из облака в облако ныряла луна. Когда она, отфыркиваясь, выныривала из облака, на земле становилось светлее. В такие мгновения черные проемы окон в деревенских домах казались особенно грозными. Все казалось, что из окон полыхнет огнем.
Через два часа с четвертью по сигналу группа отползла в лес. Ахметов и Стромынский докладывали по очереди. Немцы в деревне, сомнений в этом нет. Видимо, хоронятся. Устроили, видимо, засаду. Мотоциклы и те попрятали, завалили сеном. Явку, видимо, кто-то продал, и продал основательно. Поскольку немцы подкатили к определенному сроку, то есть тогда, когда и должны были объявиться на этой явке разведчики.
Решали, как быть, но сначала выслушали командира.
Речкин сказал, что сами они могли бы и поголодать, но оставить рацию без питания не имеют права.
Лейтенант был за то, чтобы уничтожить засаду. Сделать это тихо и чисто. «О том, как запутать следы, будем думать потом», — сказал Речкин.
Соснули в ту ночь часа полтора. Ждали лихого рассветного часа. Или разбойного, можно и так сказать.
Подобрались к крайнему дому.
В тот рассветный час главным оружием разведчиков было — неслышный шаг. Крались чуть ли не по воздуху. Хорошо было то, что все семь домов Горянки стояли в один ряд. Не было у разведчиков опасения, что засекут их с противоположной стороны.
В крайнем доме находился дозор.
Оба немца не спали. Сидели в полудреме у окон.
Одного в броске ударом ножа достал Ахметов. До другого в три прыжка дотянулся Козлов. Оглушил, но оставил в живых.
Тут же и допросили дозорного. Пока он был в шоке от неожиданного нападения, пока действовал на него вид напарника, из груди которого торчала рукоять десантного ножа.
Сомнений не осталось, явку выдали. В деревне проведена акция. Немцы вырезали всех жителей, кроме семьи хозяина явки. Трупы жителей в соседнем доме. Их сожгут по окончании операции. В третьем доме еще один дозор. В дозоре тоже двое. Деревню занял, провел в ней акцию взвод лейтенанта СС Альберта Рисса. Командир взвода занял четвертый дом, там есть пост, постовой в помещении, поскольку дано строжайшее указание себя не обнаруживать. В пятом, в шестом домах разместились солдаты взвода. В последнем, в седьмом доме — еще один дозор. В дозоре — двое. На случай непредвиденных обстоятельств в полутора километрах от Горянки, в деревне Поддубье находятся основные силы зондеркоманды 05-Б майора СС Эгона Кноопа.
Речкин спросил, в каком доме находится хозяин явки, его семья. Этого каратель не знал.
Лейтенант дал знак, карателя убрали.
— Поняли? — обвел взглядом разведчиков Речкин.
Вопрос оказался емким. Каждый разведчик должен был понять из этого вопроса то, что открылось Речкину. То, что явку выдали накануне прихода разведчиков, то есть в самый последний момент. Иначе немцы подготовились к встрече как-то по-другому. В засаде, в резне, которую учинили каратели в деревне, было что-то от спешки. Немцы, видимо, дознались, что идет группа. Иначе в засаде хватило бы отделения. Должны были понять разведчики и то обстоятельство, что малейший шум в Горянке насторожит карателей в Поддубье. Что хозяина явки, его семью каратели оставили в живых как заложников.
В критической обстановке Речкин спрашивал каждого.
Первым отозвался Колосов. «Понятно», — негромко произнес старшина, соглашаясь с командиром в том, что отступать им действительно некуда, он за то, чтобы уничтожить засаду.
Остальные разведчики согласились молча. Молча кивнули, поддерживая старшину, поддерживая решение командира. Тут же придирчиво осмотрели друг друга, проверили оружие. Один за другим скользнули из дома.
Хозяина явки с двумя малолетними детьми разведчики обнаружили в подполе пятого от края деревни дома, самого большого дома, в котором разместилось большинство карателей черного взвода. К дому был пристроен сарай. Через сарай разведчики проникли в сени, а уж потом в дом. Но прежде наткнулись на тело истерзанной женщины в сарае. Мертвое тело было обезображено.
Колосов с Ахметовым пробирались в дом первыми. Наткнулись сначала на отрубленную руку.
Рука маленькая, почти детская.
Разведчики глянули в сторону. На сено, совсем рядом, лежало тело мертвой женщины без руки.
Разведчики увидели вспоротый живот.
Груди у женщины оказались отрезанными.
Колосов сильно сжал плечо Ахметова, призывая подчиненного держаться, не выдать себя до срока.
В сенях, на табуретке, дремал часовой.
Старшина упокоил часового одним ударом.
Дал знак Кузьмицкому, Асмолову.
Те тоже пробирались через сарай. Видели то же, что и старшина с Ахметовым. Колосов понял это по дыханию разведчиков. По тому, как оба торопились добраться до карателей в доме. Колосову пришлось отгородить их плечом от входной двери.
Тихо-тихо старшина приоткрыл дверь.
В нос ударило винным перегаром.
Каратели спали.
Кончили их разведчики в один миг.
Обратили внимание на тяжеленный кованый сундук, что стоял почти у двери, загораживая проход.
Обнаружили лаз в подпол. Открыли его. «Выходи, кто есть!» — приказал старшина.
В ответ раздался плач.
Юркий Асмолов нырнул в подпол. Подал мальчишку лет семи. Потом еще одного, поменьше. Оба мальчика в лохмотьях, их лица перемазаны землей.
Вылез отец мальчишек. Тоже плачущий, тоже в земле. Он прихрамывал на правую ногу, был худ, небрит, подавлен и растерян. Чуть было не лишился чувств, когда увидел командира взвода карателей, лейтенанта, эсэсовца, Альберта Рисса, как назвал его тот дозорный, которого допрашивали разведчики. Этого эсэсовца приволок Козлов. Бывший шахтер волок карателя в буквальном смысле, поскольку идти тот не хотел. Саша для порядка врезал эсэсовцу, врезал так, что тот лишился чувств, Козлов схватил лейтенанта за ногу да так и втащил его в дом, где уже собрались все разведчики, кроме Симагина и Веденеева, которые охраняли входы в деревню.
Хозяин явки говорить не мог. Он пытался что-то объяснить разведчикам, произносил какие-то слова, но понять его было невозможно.
На вопросы Речкина немец не отвечал.
Козлов схватил карателя, приволок в исподнем.
Эсэсовец потребовал, чтобы ему принесли его форму.
Разведчики видели труп изуродованной женщины, побывали в доме, где лежали трупы зарезанных карателями жителей деревни, включая малолетних детей. Им странно было видеть теперь немца живым.
Козлов еще раз врезал эсэсовцу.
Речкин выдержан. Но и он сорвался. «Форму тебе? Сдохнешь и так, сучий потрох!» — произнес лейтенант.
Подступил Асмолов. В руках — нож.
Подступили остальные ребята. В глазах и боль, и гнев. И боль, и гнев переплавились. Глаза смотрели и жгли.
Каратель понял, что сейчас он будет растерзан.
Сдался.
Стал похож на загнанную в угол крысу. На морде злоба, ненависть, страх. Страха более всего.
Показал следующее.
Немцы перехватили связного, тот выдал явку в Горянке, день, когда должны были появиться разведчики. Каратели опасались спугнуть разведчиков, поэтому акцию в деревне проводили без излишнего шума. Акция — это по-немецки. По-нашему выходило, и разведчики стали тому свидетелями, что всех без исключения жителей каратели зарезали. Жену хозяина явки истязали на глазах мужа. В живых оставили до того, как появятся и будут перехвачены разведчики. Надеялись взять разведчиков живыми.
Мало-помалу заговорил хозяин явки. Речь его становилась более связной. Сообщил главное — тайник цел. Этот факт означал, что рисковали разведчики не напрасно.
В деревне не задержались. Управились с похоронами и пошли.
Несли на себе детей хозяина явки.
На второй день пути разбрелись. На случай провала у хозяина явки был схрон. Туда он и отправился со своими мальчишками.
Колосов предупредил разведчиков, чтобы на подходе к хутору они были особо внимательны, мало ли что могло случиться. Проводника теперь нет, им во всем на себя полагаться приходится.
Ахметов и Рябов ушли к хутору.
Старшина выждал десять минут, тронул поводья, конь тихо побрел по дну реки.
На подходе к откосу, от которого, по словам Саши Галкина, до домов оставалось метров триста, не больше, группа остановилась.
Видно стало реку. Послышался крик филина.
— Пошли, — сказал Колосов, и они вновь тронули своих коней.
Выбрались на берег.
На месте домов стояли русские печи с дымоходными трубами, можно было разглядеть фундаменты, угольную черноту — и это было все, что осталось от хутора.
— Пусто, товарищ старшина, — доложил Ахметов.
Молчали разведчики. Каждый понял: немцы создают в прифронтовой зоне особый режим, чем ближе к переднему краю, тем этот режим строже, надежды на явки, видимо, нет и быть не может. Как нет и быть не может надежды на кого бы то ни было, отныне и до конца пути полагаться они могут лишь на самих себя. Восторга от осознания такого факта никто из разведчиков не ощутил, но и в панику, как отметил про себя Колосов, не бросился. Было, переживали худшие времена.
— Всем спать! — приказал старшина и первым направился в лес, под защиту елей, которые более других деревьев держат в ночи тепло.
На сон, на еду дважды команд не подают. Разведчики повалились и уснули сразу, как только подобрали место.
Старшина сел под пологом огромной ели, привалившись спиной к могучему стволу. Замер. Попытался сосредоточиться. Пытался представить, как бы в подобной обстановке действовал лейтенант Речкин. Вспомнил слова командира, последнее его напутствие. «Первое и наиглавнейшее, Коля, приказываю тебе остаться в живых, — сказал, прощаясь, лейтенант. — Карту и сведения доставить в штаб фронта в лучшем виде. Себя не обнаруживать. Надо — птицей обернись, пролети это расстояние, но сведения доставь. Стократ скажу и прикажу каждому: пробираться так, чтобы ни один немец не чухнулся». Лейтенант прощался с каждым в особинку, каждому что-то говорил. Видимо, то же, что и Колосову, потому как тяжесть раскладывалась на всех поровну.
Лес постепенно начал оживать. Лес полнился звуками. Шелестом, вздохами, птичьими голосами. Птицы, как всегда об эту пору, робко пробовали голоса, словно бы даже и стеснялись. По мере того как светлело небо, прибавляя розового цвета облакам, голоса птиц крепли, в посвистах прибывало уверенности.
Колосов прислушался к лесу, подумал о том, что теперь им, видимо, надо сменить маршрут, взять севернее. Этот путь длиннее того, который они наметили в отряде, но он казался старшине более надежным. Севернее и леса поглуше, и лесные массивы поболее.
Старшина поднялся, разбудил Пахомова. Колосов укутался от комарья в плащ-палатку, сразу же и уснул, наказав сержанту разбудить себя через два часа.
XXIV
— Ахметов, едрена вошь, слышишь, Ахметов?
— Чего ты?
— Господи, вставай же! Проспишь царство небесное!
— Ну.
— Ну-ну, дугу гну. Слышь, чего узнал-то?
— Говори, э.
— Командир наш уже здесь.
— Где?
— В госпитале, где же.
— Откуда знаешь?
— От верблюда. Я тут чудика одного встретил, в штабе он околачивается, от него и узнал. Самолетом нашего лейтенанта сюда доставили. Стромынского тоже.
— Хорошо, э.
— Ну, ты и валенок, Фуад.
— Какой валенок, да? Почему валенок?
— Какой, какой… Сибирский… Тупой.
— Чего говоришь, да?
— То и говорю, что до госпиталя здесь всего семь кеме.
— Чего?
— Того. Семь километров всего и ходу. В хорошем темпе. Час туда, там чуток, час обратно, соображаешь? Просто, как в кассе: отдал деньги, получи чек. Три часа всего делов-то. Зато командира увидим.
— Смыться хочешь?
— А что?
— Готовность объявлена, да.
— Три часа, говорю, делов-то.
— Отпроситься бы.
— У кого?
— Старшине сказать надо, да.
— Старшину беру на себя, понял? Ты пока разбуди ребят, организуйте кой-чего.
— Чего?
— Не с пустыми же руками в госпиталь попремся.
Не прошло и десяти минут, Рябов растолкал Колосова, стал усиленно искушать старшину.
Проспав почти двое суток, Денис поднялся раньше всех, «смотался», как он сказал об этом Ахметову, к хозяйственникам, обновил форму, получил в штабе документы, ордена, медали. Вернулся «при параде». Разбудил Ахметова. Уговорил товарища навестить командира.
Колосову говорил все то же. О том, что отдыхать разведчикам разрешено неделю. До госпиталя семь километров. Обернутся они часа за три.
Старшине хотелось увидеть Речкина. Но он понимал, что самовольный уход даже ради такой благородной цели чреват осложнениями. Немцы вот-вот должны были начать наступление. Объявлена готовность. В прифронтовой зоне установлен особый режим. В районе расположения штаба фронта тем более.
— Погоди, Денис, не дави на психику, — осадил старшина подчиненного. — Слишком просто получается.
Понимал Колосов, что остался за старшего в группе, следовательно, и ответственность за всех вместе и за каждого в отдельности лежала на нем. Не забывал о том, какой пример подаст подчиненным, если клюнет на уговоры Дениса Рябова.
Это с одной стороны, с той, в которой сомнения.
У медали, как известно, две стороны, есть и обратная.
Денис на смерть пошел, когда лейтенант Речкин оставил в тайнике Колосова с Неплюевым, а Рябов вызвался прикрыть отход группы. И погиб бы, как погибли перед тем Саша Веденеев, Женя Симагин. Тут не знаешь, как быть. Не знаешь, что скажут на все это остальные ребята: Пахомов, Ахметов, оба Лени — Кузьмицкий и Асмолов, что скажет на это бывший шахтер Козлов.
— Чего молчите, товарищ старшина, — теребил Рябов. — Мы нашему лейтенанту приволокем кой-чего.
— Чего кой-чего-то? — в тон Рябову спросил старшина.
— Коньяку французского… Шоколаду немецкого…
— Где ты возьмешь, шоколад этот?
— Хе, — усмехнулся Денис — Я ребятам сказал, достанут. Ребята они такие, постараются…
Мысленно Колосов согласился с Рябовым — достанут. Коньяку французского, шоколаду немецкого, прочего из трофеев. Обегут своего брата разведчика, притащат.
— Ладно, — вздохнул Колосов, но тут же и сомнение высказал. В том смысле, что разведчиков хватиться могут.
— Кто? — искренне удивился Рябов.
— Мало ли… Начальству потребуемся, — объяснил старшина.
— Сказано же было, товарищ старшина: неделю отдыха, — возразил, заверил, успокоил Денис.
Прошло всего двое суток, как разведчики миновали передний край, выбрались к своим. Прошли, проползли так, как и наказывал лейтенант Речкин. За весь переход ни один немец не чухнулся. С Рябова, похоже, как с гуся вода. Сошло напряжение рейда, последнего перехода. Денис начистил ордена, медали, пуговицы, выглядит не только отдохнувшим — праздничным. Светится, что тебе медный самовар. Его уже потянуло «на подвиги». Предлог нашел самый что ни на есть весомый, как тут откажешь…
Колосов начал сдавать. О том подумал, что передышка короткая, вот-вот вызовут, прикажут готовиться к выполнению нового задания.
Подошел Ахметов. На груди ордена, медали.
Вид такой, хоть на парад отправляй.
Со старшиной поздоровался по-уставному. Рябову передал вещевой мешок.
Колосов перехватил взгляд Ахметова. Очень значительно глянул Ахметов на Дениса Рябова.
— Где братва? — спросил Денис.
— Идут, да, — сказал Ахметов.
Рябов развязал вещевой мешок. Стал медленно вынимать из мешка все, что в нем было.
Денис оказался прав. Разведчики постарались.
В вещевом мешке оказались сардины из Италии, сыр из Голландии, компот из Испании, консервированное мясо из Бельгии, красивая коробка конфет, шоколад, замысловатая витая бутылка с каким-то напитком, какие-то свертки, какие-то мешочки.
— Во, паразиты, — сказал, глядя на все это, Рябов, — всю Европу в вещевой мешок засунули.
— Кто это паразит? — строго спросил Дениса Колосов.
— Немцы, кто же еще, товарищ старшина, — охотно объяснил Рябов. — Мешочек небольшой, а гляньте, каких стран в нем только нет. Шоколад немецкий, да и тот эрзац. Остальное все как есть ворованное.
Показались разведчики. Все при параде.
Шли гуськом. Громко смеялись над чем-то.
— Чего базлаете? — шумнул на них Рябов.
— У своих можно и пошуметь в удовольствие, — пробасил Козлов.
— Пахомов тут пугает, — объяснил Кузьмицкий. — Говорит, что дальше капе нас не пустят.
Разведчики вновь засмеялись. Довод Пахомова показался им слишком смешным. Пройти столько под немцами, а тут какой-то контрольно-пропускной пункт. Свой. Его в крайнем случае и обойти можно, как тут не засмеяться. Об этом подумал Колосов, а сказал другое:
— Отставить смех, дело не в капе. Парад устраивать нечего. Пойду я и Рябов.
— Как?
— А мы, товарищ старшина?
— К лейтенанту.
— Вот именно, — ответил на все это Колосов. — Нечего расстраивать лейтенанта. Такая кодла в самоволке, мы ж его подведем, если что.
— Да вы что, товарищ старшина.
— Кто там нас хватится.
— Старшина прав, если что, лейтенанту нашему за нас же втык и сделают, — сказал Козлов.
Асмолов ссутулился. Только что он выглядел гоголем, после реплики Козлова сник.
— Оно, конечно, так, товарищ старшина, только зачем крайности брать, — вступился за разведчиков Рябов. — Три часа всего делов-то. Просто, как в кассе: заплатил деньги, получи, пожалуйста, чек.
Поселок, в котором расположился штаб фронта, и с рассветом продолжал гудеть, со всех сторон неслись и неслись рабочие голоса. Мимо разведчиков продымила походная кухня. Двигались двуколки. Шли автомашины. Тягачи тянули мощные орудия. Где-то ухало. Где-то визжало. Что-то, видимо, строилось, что-то пилилось. Наступавший день полнился звуками.
— Просто, э. Три часа, э, — сказал Ахметов. — А что потом будет, тебе плевать, да. Лейтенанта расстроим, себя в каком виде выставим, если нас застукают…
— Понес, понес, — перебил Ахметова Рябов. — Погнал, что тебе конь без узды. Лейтенанту, если хочешь знать, приятно будет нас всех увидеть. Так сказать и в настроении, и в здравии. Притопаем, и здрасьте вам, вот мы, товарищ лейтенант. Желаем вам поправки, скорейшего возвращения в строй.
Из ближайшего перекрестка вынырнул «виллис» начальника разведки фронта. Шофер подогнал и остановил юркую автомашину возле дома, обдав пылью разведчиков.
Двое суток назад, когда группу доставили в этот поселок с передовой, разместили ввиду скученности кого где, Колосову пришлось задержаться в штабе.
Старшина передавал Логинову карту, шифровки, подробнейшим образом докладывал о переходе.
Потому Колосов и оказался в стороне от группы, что поселили его отдельно.
Полковник Логинов соскочил на землю.
Старшина было скомандовал, Логинов остановил его, крикнув «вольно!».
— Подумать только: не спится, не отдыхается, — произнес полковник, оглядывая разведчиков.
Глаза Логинова зацепились за вещевой мешок в руках Дениса Рябова.
Полковник, видимо, что-то понял. Очень пристально посмотрел на Колосова. Старшина не выдержал, отвел взгляд. Вдруг стали лишними руки. Колосов не знал, что делать с собственными руками.
Разведчики старались не смотреть на Логинова. Прятали глаза, выглядели нашкодившими школьниками.
Логинов поздравил разведчиков с благополучным возвращением, похвалил их, хитро прищурился.
— Все вы, кроме старшины, похожи на новые пятиалтынные, — сказал Логинов. — Иль собрались куда?
— Так точно, товарищ полковник, — не стал темнить Колосов. — Лейтенанту нашему собрали кое-чего, решаем, кому идти.
— А готовность?
Колосов неопределенно пожал плечами.
— Ясно, — улыбнулся Логинов. — Переоценка собственных возможностей. Показывайте, что собрали.
Денис мигом склонился над мешком, приоткрыл его, стал доставать коробки и банки. Добрался до витой замысловатой бутылки. В ней оказался, как объяснил Логинов, итальянский ликер.
— Ликер дрянь, — сказал Логинов. — Но раненому с чаем пойдет на пользу. Разрешаю.
Получив своеобразное одобрение своим действиям, разведчики оживились, заговорили разом. О том, что дана им для отдыха неделя, что хотели они пробежаться туда и обратно в хорошем темпе всего часа за три… Оправдывались.
— Понятно, — прервал оправдания Логинов. — Могу взять троих.
Подобный оборот оказался совсем неожиданным. Колосов задумался, но лишь на мгновение. Назвал Рябова и Ахметова.
Денис тут же собрал трофеи, в мгновение ока оказался на заднем сиденье автомашины. Ахметов оглянулся на товарищей, тоже прыгнул в машину. Колосов обождал, когда сядет Логинов, вскочил, плюхнулся на жесткое кожаное сиденье. Водитель включил скорость они поехали.
Возле капе не задержались. Машину начальника разведки, самого Логинова постовые знали в лицо, пропустили без проверки документов.
За поселком начался лес. Лес был забит войсками.
Колосов почувствовал ускорение жизни. Не только потому, что ехал в машине, ездить ему приходилось и раньше. Однако раньше он подобного ощущения не испытывал. Наоборот. Время от времени он вдруг испытывал торможение. То колодки тормозные заклинивало, то пробуксовывало сцепление. Так казалось. Затормозило с Неплюевым. Теперь он мог себе признаться. Иногда казалось — не добраться ему до партизан. Минуты растягивались в часы, дни в недели. Весь переход с радистом в самостоятельную жизнь вытянулся. «Год за три, год за три», — вспомнился старшине фронтовой отсчет времени. Колосов зацепился за этот отсчет, подумал о том, что отсчет средний, один на всех, то есть на миллионы воюющих. На войне, однако, как и в обычной жизни, ноша у каждого своя, под средний показатель ее не подогнать. Подгонять не следует. Фронтовой отсчет и в том, чтобы приказ выполнить, живым остаться, если повезет.
Машину трясло, подбрасывало, кидало из стороны в сторону. Шофер ловко управлялся с баранкой, объезжал встречный поток, съезжал с дороги, двигался вдоль нее. Говорить при эдакой тряске было нелегко, Рябов, однако, не умолкал ни на минуту. Денис восхищался количеством укрытых в лесу танков, самоходок, орудий, встречным потоком военной техники, в том числе колоннами «катюш». Рябов толкал в бок Ахметова, призывая товарища глянуть то на одно, то на другое. Донимал вопросами полковника Логинова.
Только что разведчики прошли по ближайшим к фронту немецким тылам, Денис видел, какую силу собрали против нас гитлеровцы, волновался, когда шли, поругивался, а теперь его распирало от гордости за собственную мощь. «Товарищ полковник, а товарищ полковник, — теребил Логинова Денис, — выходит, дадим немцу перца, а?» — «Дадим, Рябов, дадим, — оборачивался Логинов, охотно поддерживая разговор с Денисом, — за все наши муки дадим».
Старшина вглядывался в открытое волевое лицо полковника, вспоминал свой доклад Логинову о последнем переходе. То, как принял начальник разведки от старшины карту, которую тут же и отправил то ли начальнику штаба, то ли на дешифровку. Так принимают нечто очень и очень долгожданное.
Вспомнились старшине вопросы Логинова о том, где и как шли, что видели. Отвечая, Колосов заметил одну особенность. Что касалось переднего края немцев, Логинов слушал не то чтобы невнимательно, но как-то уж больно снисходительно. Так слушают о вещах хорошо известных. От других докладчиков. До того доходило, что Колосову казалось, полковник вот-вот перебьет его, сам начнет отвечать на вопросы. Уверенность Логинова в знании противной стороны очень поразила Колосова. «Вот ведь как бывает, — подумал тогда Колосов, — пока мы там шастали, ребята без дела не сидели. Многое увидели у врага, многое узнали. Оно и понятно, битва начнется вот-вот».
В то же время в душе шевельнулось неприятное чувство. На то, что и тут без них обошлось. На то, что рейд оказался неудачным. Друзей потеряли, муки приняли, а результата кот наплакал. Ну, принесли карту. Ну, доставили шифровку. А что в ней? Срок начала немецкого наступления? Хорошо, конечно, но эти данные наверняка поступили и по другим каналам, не новичок в разведке Колосов, хоть что-то, но понимает.
Опасность миновала, Колосов был у своих. Слушал его не кто-нибудь — начальник разведки фронта. Сам. Потому, наверное, старшине и стало казаться, что ничего особого они не добыли. Потому-то, наверное, Колосов и засомневался в результатах рейда. Как и каждый совестливый человек, Колосов в тот момент склонен был преувеличить заслуги других разведчиков, преуменьшить собственные. Неудовлетворенность росла, вызывала раздражение. Но тут раздался телефонный звонок. Логинов поднял трубку, и даже Колосов услышал голос говорившего. «Этот разведчик, старшина, все еще у вас, Константин Иванович?» Логинов подтвердил, да, мол, у него. «А ну-ка, приведите ко мне героя!» — приказал голос.
Логинов со значением посмотрел на Колосова. Сказал, что вызывает начальник штаба.
В штабе не задержались. Очень скоро Колосов понял, что начальник штаба затем только и вызвал старшину, чтобы лично выразить благодарность разведчикам «за особо важные», как он их назвал, сведения. «Спасибо, старшина, — сказал Груздев. — Всей вашей группе спасибо». У начальника штаба дрогнул голос, когда произносил он эти слова, жал старшине руку.
Колосов понял, что ломались они не напрасно. Вспомнились слова Речкина о том, что хорошие разведданные стоят дорого. Так дорого, что порою их не с чем сравнить. Бывает так, что добытые о врагах сведения спасают тысячи и тысячи жизней. То, о чем постоянно напоминал Речкин, известно было каждому рядовому бойцу, тем не менее лейтенант не забывал напоминать об этой истине своим подчиненным — разведчикам, резонно полагая, что напоминание даже о вещах известных помогает людям, не дает расслабляться, повышает чувство ответственности.
От слов генерала, от душевности начальников тяжесть сброшенной ноши показалась Колосову чуть легче. Подумалось о том, что сделан еще один нелегкий шаг на войне. А может быть, произведен выстрел по врагу, и выстрел, похоже, попал в цель.
Шофер бросил автомашину в сторону так резко, что руки с силой вцепились в металлический борт «виллиса» — до вмятины, так показалось. Машина свернула, помчалась вдоль забора по лесной дороге.
Неожиданно деревья расступились. Посветлело. Машина остановилась возле ворот. Увиделся особняк. Лица раненых в каждом окне.
Издали старшина разглядел Речкина. Цепкий, тренированный взгляд разведчика выхватил из многих лиц во многих окнах одно лицо, может быть самое близкое, поскольку близость людей на войне определяет не родство, а пережитое.
Лейтенант стоял, привалившись к оконному косяку.
Речкин тоже увидел автомашину, Логинова, своих подчиненных. Махнул рукой в знак того, что увидел, узнал. В тот же миг скрылся в проеме окна. Похромал, надо думать, навстречу.
День притих. С неба светило и светило солнце. Было третье июля тысяча девятьсот сорок третьего года. До начала одной из самых грандиозных битв Великой Отечественной войны оставалось немногим более двух суток.




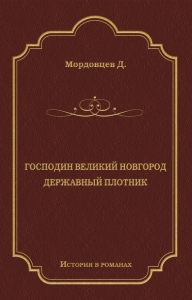
Комментарии к книге «Право на жизнь», Виктор Викторович Делль
Всего 0 комментариев