Ана Хит
Агент СиЭй-125:
до и после
Агент СиЭй-125: до и после
Иллюстрации Карины Манучарян
ANA HIT Copyright © 2015
© All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.
Посвящается моим маме и папе, чья любовь всегда со мной.
Рассказы о чужих человеческих бедах и невзгодах обычно вызывают если не бурный интерес, то, по крайней мере, здоровое любопытство. Тысячи томов подробных сообщений о всяческих несчастьях и неурядицах красуются на полках книжных магазинов. В то же время, наряду с успехами жанра, имеются ещё определённые малоосвещённые территории, обычно находящиеся за закрытыми дверями, например, кабинеты врачей, приёмные скорой помощи, операционные… Между тем обширное поле многочисленных болезней и болячек, о которых так принято посудачить в обеденный перерыв или стоя где-нибудь на перекрёстке, представляет собой довольно ценный материал и пропадает совершенно зря!
Первая часть этой книги описывает тот географический, хронологический и, самое главное, психологический контекст, в котором разворачиваются события второй части. Мне хотелось показать, что моя жизнь (как, впрочем, и жизнь любого человека) была насыщена самыми разнообразными приключениями и испытаниями, как радостными, так и печальными. Каждое из них (далёкое от медицины или целиком в неё погружённое) лишь позволяло мне испытывать глубокую радость или печаль, но никогда не мешало наслаждаться жизнью и видеть в ней смешное.
Оказывается, у всего есть предел. Если очень постараться, даже прочное, непугливое и закалённое в жизненных встрясках существо можно сломать. И об этом вторая часть, в которой описывается что может сотворить с совершенно здоровым человеком современная «гуманная» медицина, с одной стороны до зубов оснащённая последними достижениями науки и техники, с другой – основательно контролируемая страховыми компаниями, а с третьей – абсолютно подзабывшая о том, что имеет дело с живым существом, наделённым чувствами и мыслями. В одночасье, сама не понимая как, я перенеслась из мира радости, любви и смеха в царство абсурда, вылезти из которого оказалось неосуществимой задачей.
Мне давно хотелось поделиться историей возникновения моих болезней и теми богатейшими знаниями и опытом, которые я приобрела на нелёгком пути американского пациента. Но сомнения, подавленное настроение и страх не давали, держали всё внутри. Лишь гуманистический диагноз Армена Агузумцяна послужил окончательным толчком к написанию этой книги.
Многочисленные интересы моих детей снабдили меня временем, позволившим перевести мои мысли и чувства на бумагу. Рукопись была создана на скамейках футбольных и бейсбольных полей, теннисных кортов, плавательных бассейнов, в вестибюлях гостиниц, где протекали шахматные турниры, и во всевозможных видах транспорта, доставлявшего меня на соответствующие занятия и мероприятия.
Мой муж Метью проделал всё необходимое по сканированию и ксерокопированию рукописи, а также форматированию первого напечатанного документа, что было бы непосильной для меня задачей ввиду полнейшего неумения обращаться с техникой.
Девушка Анна напечатала рукопись, умудрившись разобраться в почерке, соответствующем тому, где и в каких условиях это всё писалось.
Моя мама Эвелина прочитала первый напечатанный вариант и внесла определённые поправки, многие из которых, конечно же, были сделаны, чтобы не было «неудобно», «неприлично» и «чтобы никто не обиделся».
Мой брат Ара каким-то чудом нашёл время в своём чрезвычайно забитом графике служения человечеству и провёл много бессонных ночей, редактируя мною написанное. Его литературный дар, опыт и вкус, а также чувство юмора и ироническое отношение ко мне существенно обогатили текст и внесли значительный вклад в сие произведение.
Доктор Грег Арутюнян (Гагик) имеет как прямое, так и опосредованное отношение к этой книге. Надеюсь, что прочитать её, перевести некоторые термины с английского на русский и подтвердить её грамотность с медицинской точки зрения, ему было проще, чем на протяжении многих лет утешать и фундаментально просвещать меня по поводу почти всего происходившего и описанного во второй части.
Друзья Диана, Нунэ, Алик, Арик и Карен оказались теми «счастливцами», которым пришлось не только прочитать это творение, но и высказать свои суждения замечания по его поводу.
Иллюстратор Карина Манучарян подготовила книгу к печати, обогатив её художественным оформлением и творческими идеями, а её бабушка Алевтина Манучарян и Маргарита Аветян откорректировали окончательный вариант.
Кроме вышеперечисленных людей я благодарна всем, кого люблю, и всему, что люблю, ибо любовь всё же сильнее страха, каким бы разрушающим он ни был.
ГЛАВА 1
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ИНОСТРАНЩИНОЙ
Папа всегда подавал мне идеи: «Хорошо бы окончить школу с золотой медалью, поступить в университет с одним экзаменом, чтобы успеть до начала учебного года отдохнуть, скажем, в Ленинграде», или «надо поучиться не где-нибудь, а только в МГУ», или «обязательно надо съездить в Таллинн на конференцию». При подаче этих идей двигали им отнюдь не амбиции по поводу моего образования, профессионального становления и развития. Он, конечно, очень радовался и гордился, когда у меня что-то получалось, но основным для него было послать меня (а при возможности – и всех нас четверых) куда-нибудь подальше и, главное, поинтереснее. Сам он всегда старался сопроводить меня до дальнейшего возможного пункта и на длиннейший возможный срок.
Надо сказать, что не успевал папа оформить свою очередную идею, как она попадала на удивительно благодатную почву, и я с поразительными рвением и упорством, а главное, реактивной скоростью начинала претворять её в жизнь.
Так я получила золотую медаль и поступила в университет с одним экзаменом, после чего мы (мама, папа, брат и я) провели двадцать прекрасных дней в Ленинграде, в то время как почти все мои друзья и одноклассники продолжали в сорокоградусную ереванскую жару сдавать вступительные экзамены. Правда, для меня эти дни были связаны с тяжёлым испытанием: младший брат, одержимый страстью к художественному и историческому прошлому, не пропускал ни одной вазы в Эрмитаже, ни одного фонтана в Петергофе, кустика в Павловске и даже заставил маму (нашёл мягкосердечного человека!) вернуться через всю Петропавловскую крепость к самому входу, чтобы ещё раз посмотреть на какую-то смирительную рубашку. Естественно, мой сверхзвуковой темп вступал с такими культурологическими копаниями в суровый и бескомпромисный конфликт, так что подробный осмотр смирительной рубашки и прогулка по Павловску, сопровождаемыe артиллерийским огнём моего «муната», навсегда заняли достойное место в семейном фольклоре. («Мунат» – непереводимый восточный термин, означающий основательно накопленный и ещё более основательно выражаемый потенциал недовольства, возмущения, ворчания, брюзжания и всей прочей богатейшей гаммы негативных душевных излияний истинно восточного человека.)
По той же (папиной) схеме я оказалась в МГУ, где писала свою дипломную работу и сразу после окончания университета училась в аспирантуре. Папа сам привёз меня в Москву, побыл там со мной несколько дней (сколько смог), после чего, явно не без труда, уехал.
Я осталась в Москве одна! Для того, чтобы ощутить масштаб содеянного папой, скажу только, что до этого момента я никогда и нигде одна не оставалась. Даже вариант переночевать у любимых бабушек и дедушек просто не рассматривался, поскольку оторвать меня от моих домашних было практически невозможно.
Потом, прожив в Москве почти пять лет и вернувшись в Ереван уже кандидатом физико-математических наук, я как-то невзначай отметила, что в Таллинне будет конференция по моей специальности. Папа тут же предложил, чтобы я туда поехала. Я, разумеется, сказала, что не собираюсь ехать одна, так как смущаюсь и робею (это после пяти лет самостоятельной жизни в Москве!). Тогда он с огромным энтузиазмом решил сам меня туда отвезти. Помню как сейчас: читаю доклад в Таллинне, помещение амфитеатром, темно, слайды, зал заполнен серьёзными специалистами, а на самой верхушке в последнем ряду сидит папа – папа, которого никто не знает; папа, который привёз своего маленького ребёнка на всесоюзную научную конференцию по объектно-ориентированному программированию. Так мы отчитали доклад, послушали других, три дня прекрасно погуляли по Таллинну и довольные вернулись домой.
После моего возвращения из Москвы новые папины идеи, которые на самом деле были временно (в связи с моим обучением в Москве) слегка подзабытыми старыми, быстро всплыли на поверхность и оказались весьма злободневными. Будучи крайне свободолюбивым и справедливым человеком, выросшим в семье, очень пострадавшей в 1937 году, он не принимал никаких проявлений советского режима. Дома, в книжно-пластиночном шкафу, часто можно было найти какую-нибудь запрещённую самиздатовскую литературу, которая оказывалась у нас на короткий срок и которую мы все читали по ночам. А до трёх ночи на полную громкость вещал старый огромный рижский радиоприёмник, худо-бедно ловивший Голос Америки или Свободу. Папа зорко следил за судьбой каждого политзаключённого и радовался малейшей антисоветской выходке, проявленной в любой точке мира. Он, конечно же, не был членом Коммунистической партии, что всегда мешало его научной карьере и поездкам на зарубежные конференции, куда его постоянно приглашали западные учёные. Он всегда хотел, чтобы мы все перебрались в Америку или куда угодно подальше от СССР, но не видел реальных путей. А тут я отучилась, началась перестройка, двери приоткрылись. Казалось бы, чего тянуть? «Хорошо бы уехать в Америку», – подсказал папа. Не скрою, идея мне понравилась.
По большому счёту я была всем довольна: жила дома, общалась с самыми любимыми людьми, преподавала в Ереванском Университете, занималась научной работой – жаловаться было не на что. Но опять хотелось чего-то добиваться, чего-то нового, а, главное, раз папа был уверен, что это «хорошо бы», то вопросов нет.
В отличие от всех предыдущих ситуаций, на сей раз было не совсем понятно, что делать, как осуществлять новый план. Я начала подумывать о каких-то вариантах: стала рассылать своё резюме в разные университеты Америки, пыталась найти программы по обмену. Как всегда, делала я это всё с колоссальной энергией.
Жалко было смотреть на маму. Мама – особенный человек. Не знаю, есть ли вообще такие. Хороший физик, всесторонне образованная женщина. Самой удивительной её чертой является то, что она – человек, который никогда в жизни ничего не хотел для себя. Никогда и ничего: ни материального, ни морального. Человек, который никогда в жизни ни на кого и ни на что не обижался (а мог бы, и частенько). Причём не обижался не от недостатка самолюбия, а от душевной широты и терпимости, от кротости и чуть ли не патологической доброты. Всякий раз, когда по телевизору показывали кино, где кому-то было не очень хорошо, мама под общий хохот всех членов семейства обливалась горючими слезами. Такая она – человек, который всю свою жизнь только и делает, что служит другим – заботится, любит, ухаживает, жертвует и взамен ничего ни от кого не требует и не ждёт.
И вот, мама после почти пяти лет терпеливого ожидания, считания дней, часов, минут, наконец заполучила свою дочь. Заполучила… Не тут-то было! Не прошло и двух месяцев после долгожданного возвращения дочери, как дома стали циркулировать разговоры об отъезде в Америку. Мало разговоров, ещё какая деятельность! Мама героически молчала, но было видно, что она уже переживает возможную разлуку. И когда ей говорили, что незачем волноваться, ведь ещё ничего не происходит, даже непонятно, как это может получиться, она без тени сомнения отвечала: «Когда ЭТИ двое что-то решают, всё очень быстро получается».
Брат выбрал несколько иной подход к нашей с папой деятельности, я бы сказала, надменно-саркастический: ему было (да и сейчас остаётся) абсолютно непонятно и чуждо наше рвение на Запад. Он даже написал смешной трактат, названием которому служил выдвинутый им лозунг: «Преклонение перед иностранщиной решает всё!» Трактат был торжественно зачитан на заседании семейного совета, посвящённого вопросу моего скорейшего выпроваживания. К сожалению, этот шедевр (поправка брата!) потерялся, а вместе с ним и все издевательства надо мной, которыми я так дорожила. Остался только маленький огрызок бумаги с четырьмя первыми постулатами документа:
1. Настоящий момент – главный.
2. Выдвижение на первый план лозунга: «Подлинное счастье Советского человека в преклонении перед иностранщиной».
3. Лозунг гласности: «В период гласности и перестройки преклонение перед иностранщиной решает всё».
4. Диалектика преклонения перед иностранщиной: «Если даже сегодня – рано, завтра будет поздно».
Вообще, сарказм и постоянные взаимные подколы были нормой нашей семейной жизни. Мы обожали друг над другом издеваться самым беспощадным, уничтожающим образом, при этом все (не только автор и болельщики, но и объект издевательства) дружно хохотали. А потом все начинали обсуждать, кто же из нас самый остроумный, при этом каждый утверждал, что, по его мнению, самый остроумный именно он. Больше всего, конечно, доставалось маме, у которой язвительные гены явно уступали добрым.
Часто мы ходили в гости или к нам приходили любимые дяди, тёти, двоюродные, троюродные братья и сёстры, бабушки, дедушки, друзья и подруги родителей. Обычно они тоже присоединялись и от души поддерживали общее юмористическое настроение.
Мы сполна наслаждались всем, чем только позволяла советская действительность. Летом мы всегда отправлялись в чудесные путешествия, по возможности, куда-нибудь подальше: в Прибалтику, Украину, Москву или Ленинград. В первый же день папа покупал в киоске карту, и мы начинали с увлечением исследовать незнакомые места. Особенно мы любили бывать в Литве. Если далёкое путешествие не получалось, то ездили куда-нибудь поближе: на Северный Кавказ, в Грузию или отдыхали в Армении.
Где бы ни было, первым долгом мы, конечно же, должны были обойти все пластиночные магазины. Папа обожал музыку – дома он всегда норовил поставить одно из многочисленных, имевшихся у него изысканных исполнений какого-нибудь классического произведения. Включал он проигрыватель на солидную громкость, сам становился в центре комнаты, между двумя динамиками, и дирижировал. Его попытки насладиться музыкой сопровождались моим несусветным «мунатом», к которому он относился с уважением, и потому, если на автобусной остановке, находящейся в двух кварталах от нашего дома, звучала какая-нибудь из симфоний Бетховена, то легко можно было предположить, что меня дома нет. В своей специальности папа был признанным и известным во многих странах мира учёным, но относился к этому с полнейшим пренебрежением и говорил, что всегда мечтал быть дирижёром или, на худой конец, продавцом в пластиночном магазине. Впрочем, второй вариант казался ему весьма привлекательным, так как давал бы возможность обсуждать с покупателями, любителями музыки, разные исполнения произведений мировой классики.
Ну, а в течение года мы активно посещали кинотеатры и концертные залы, не пропуская никаких гастролей и культурных мероприятий.
В семидесятых годах мы постоянно ходили на стадион «Раздан», где изо всех сил болели за любимый «Арарат». Вообще, мы следили абсолютно за всеми спортивными соревнованиями, освещаемыми по телевизору. Мы смотрели от начала до конца летние и зимние Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по любому виду спорта и от души хохотали над комментариями типа: «Пэрвая жёлточка в сегодняшнем матче». Брат долгие годы цитировал выдержанную в лучших традициях диалектики бессмертную фразу другого комментатора: «Но вот что ценно – Фалькао передал мяч Жуниору, а тот ему мяча не дал – и напрасно…» Я по сей день помню имена горнолыжников, горнолыжниц, пловцов, пловчих, штангистов, фигуристов, боксёров и бегунов, не говоря уже о футболистах и хоккеистах. Отношение папы к советскому режиму распространялось даже на спорт. Ему бывало обидно, когда тяжёлый труд выдающихся спортсменов приносил славу Державе.
А позже, уже в конце восьмидесятых, наша жизнь целиком и полностью была заполнена митингами и демонстрациями, выборами и перевыборами, забастовками и голодовками. Мы все бежали домой, кто с работы, кто с занятий, чтобы успеть послушать очередное заседание Верховного Совета. Мы бурно принимали участие и глубоко переживали и чувствовали один из значительнейших периодов двадцатого века: на наших глазах происходил распад Советского Союза. С гордостью скажу, что процесс этот начался с карабахского движения в начале 1988-го года – это было ни с чем не сравнимое по своей духовной силе явление, где вся нация (за редкими исключениями), состоящая из весьма разношёрстных индивидуальностей и групп, на протяжении многих месяцев функционировала как единое целое, движимое высокими свободолюбивыми и демократическими идеалами. Вся наша родня с головой окунулась в это движение. Это было очень трепетное время, и я благодарна судьбе за увиденное и пережитое в те дни.
А ещё наш быт всегда был полон играми. Мы постоянно играли, играли во что попало: карты, шахматы, нарды, эрудит, мыслитель, из слов слова, на последнюю букву, на первую букву, быки и коровы… Основным игроком был, конечно, папа. Он каждый день умолял нас во что-нибудь с ним поиграть. Если все трое не могли, то игра в бридж не получалась (в бридж играют вчетвером), тогда пробовал уговорить двоих, чтобы в преферанс, если и тех не мог набрать, то пробовал организовать либо шахматы с братом, либо нарды со мной. Так вот мы весело жили.
В смысле окружающего общества больше всех, несомненно, повезло мне. Хотя я и безгранично счастлива по этому поводу, но, скажу честно, быть настолько везучей нелегко. Нелегко потому, что если у человека есть хоть немного мозгов и он хоть немного умеет думать и понимает, кто его окружает (скажу без ложной скромности думать я всегда умела и неплохо), то этот человек сразу же обзаводится всеми на свете комплексами неполноценности.
С того момента в жизни, когда я стала задумываться о том, кто я и что я, мне однозначно было понятно, что я, как бы ни старалась, никогда не буду такой же образованной, красивой, доброй… Ну что же мне делать, если знать столько, сколько знают мои родные, просто невозможно. Ну что же мне делать, если все они всегда хотят всё для других, а я – иногда для себя, почти всегда – для них. Ну что же мне делать, если каждый второй прохожий на улице, не сводя глаз с моего брата, говорит: «Ребёнок достоин кисти Рембрандта!», а на меня даже не смотрит. Помню, как-то раз моя одноклассница, познакомившись с братом, сказала:
– Ой, как вы с сестрой похожи.
– Ты ей делаешь комплимент, – моментально отреагировал брат.
Он был прав. Думаю, это был действительно лучший комплимент в моей жизни. Я сама всегда восхищалась им, ему же никогда не приходило в голову восхититься мною, такие мы были: очень разные во всём.
Брат у меня удивительный. Я помню себя только с того момента, как в доме появился этот маленький человечек с зелёнкой вокруг рта (тогда этим знаменитым советским дезинфектором мазали в роддоме всех). С тех пор жизнь моя стала куда веселее и насыщеннее. К сожалению, большую её половину я провела вдали от брата. А могла бы столькому научиться!
В детстве он почти постоянно болел, соответственно, в школе появлялся изредка. Видимо, во многом, благодаря этому, он стал всесторонне образованным и творческим человеком. Каждый раз, когда он после очередной долгой болезни денёк или два (больше редко получалось) ходил в школу, папа сразу замечал: «Арка пошёл в школу – совсем отупел».
Редкие появления брата в классе никогда не оставались незамеченными со стороны педагогического состава. Как-то он написал сочинение по пьесе Островского «Гроза» в форме журналистского интервью с Катериной, которая утопилась. Такая нетипичная художественная форма изложения мыслей вызвала бурное недоумение у его учительницы, которая спешно решила поделиться с мамой своим беспокойством.
– Вы представляете, он берёт интервью у Катерины? – говорила озабоченная умственным состоянием моего брата учительница русского языка и литературы.
– Ну и что? – мама не понимала, в чём же проблема, а учительница, видимо, про себя думала: «Какой сын, такая же мать – оба не в своём уме. Ничего удивительного!»
– Как??? Катерина же утопилась!!! Как можно брать интервью у мёртвого человека???
– А!!! Ну, это такой литературный приём, – мама робко и тщетно пыталась оправдать сына, одновременно в глубине души радуясь, что ничего ужасного не произошло.
В отличие от моего брата, я почти никогда не болела (из-за чего всегда испытывала чувство глубочайшей перед ним вины). Изредка, когда я плохо себя чувствовала, моя температура могла подняться до тридцати семи, и тогда папа шутил, что Анока бредит. Я никогда не пропускала школу, никогда не писала сочинений в форме интервью не только с мёртвыми, но даже с живыми людьми, словом, не делала ничего нестандартного. Всегда выполняла домашние задания с безукоризненной аккуратностью, планируя вперёд, чтобы всё успеть. Даже долгожданный и любимый летний отдых омрачала себе тем, что читала книги, которые надо было прочитать в течение следующего учебного года.
Помнится, как-то в Риге я одолевала «Поднятую целину». Я разделила количество страниц в книге на количество дней, которые мы собирались провести в Прибалтике, и каждый день, во что бы то ни стало, прочитывала намеченную дозу. Делала я это без малейшего интереса и, поскольку от души хотела организовать себе хоть пару свободных деньков, каждый день читала на пару страниц больше. И вот, когда счастливый миг настал, я закрыла эту книгу раз и навсегда, настроение у меня улучшилось, и я решила поиздеваться над братом (что же ещё делать в хорошем настроении?), которому тогда было девять лет.
– В книге столько-то страниц (их было ОЧЕНЬ много), я в день должна прочитывать столько-то страниц, скажи, пожалуйста, когда я, наконец, избавлюсь от этой муки? – задала я ему задачу.
Брат, который был в математике силён, бросился считать: делить довольно большие числа. Быстро нашёл правильный ответ, но я сказала: «Нет, не так». Считал и так, и сяк: делил, умножал, прибавлял, вычитал. Ни один ответ меня не удовлетворял. Мама и папа присутствовали при этом с весьма удивлёнными выражениями лиц, понятия не имея, где же подвох, что же мой брат делает неверно. Мучила я его долго – мой математический авторитет не оставлял сомнения: ошибаются все, только не я. Брат чуть не плакал. Наконец, не в силах получить одобренный мною ответ, он сдался. Я назвала реальное количество дней, которое, разумеется, было значительно меньше математического.
– Как? – завопил брат, – но ведь…– и опять повторил всю цепочку.
– Я перевыполняла план, – невозмутимо выдала я свой ответ.
Брат от возмущения онемел, но мне было весело, да и остальным участникам тоже.
Училась я всегда до отвращения хорошо. После золотой медали в школе последовали годы сплошных пятёрок в университете. Перед очередным экзаменом я начинала заранее распространять панические настроения и доводить родню сообщениями о неминуемом провале. На папу и брата эти сообщения обычно не действовали, правда, по разным причинам: папа ни секунды не сомневался в успехе, а брату было глубоко наплевать на мои (как, впрочем, и на свои) оценки. Зато мама очень даже поддавалась, и мой ритуальный, выдержанный в лучших ленинско-чернышевских традициях, каждые полчаса повторявшийся вопрос: «Мам, что делать?» с обязательным ожиданием ответа (причём всегда нового, повторы не принимались) постепенно доводил её до ужаса перед предстоящим. В результате в день экзамена я, как ни в чём не бывало, бодро отправлялась в школу или университет – получать свою пятёрку, а мама в полуобморочном состоянии оставалась дома – трепетать и с замиранием сердца бросаться к телефону. Такой я была скучной занудой – отличницей и любимицей учителей. Увы, с тех пор мало что изменилось.
Брат мой формальное обучение не переваривал органически, школу терпеть не мог, да и в институте учился с мягко говоря наплевательским равнодушием к любым видам успеха. Зато весьма преуспел на революционном поприще, а потом неожиданно для всех нас бросил свою специальность – искусствоведение – и с головой влез в педагогику, куда его, судя по всему, потянуло в результате десятилетнего глубокого и принципиального неприятия существующей школьной системы в целом. Именно поэтому он стал одним из основателей первой в Армении вальдорфской школы… Он обожает щедро раздавать и отдавать себя всем (конечно же, кроме меня; нет чтобы хоть раз откликнулся на какую-нибудь мою самую пустячную просьбу с такой же готовностью, с какой возится с первым встречным!). Это его качество, в сочетании с педагогической деятельностью, позволило ему воспитать и осчастливить немало учеников и студентов.
В медицинской анкете моего брата значилось: сел – в шесть месяцев, заговорил – в восемь месяцев, встал – в десять месяцев. Довольно-таки необычная очерёдность! Помню, как-то жарким летом, когда ему едва исполнился год, в гости к нам пришёл человек по имени Валентин. Никто не догадался представить Валентина моему брату, все были заняты малознакомым гостем. Брату такое отношение не понравилось, и он решил привлечь к себе внимание, обратившись напрямую к гостю. «Дядя Вентилятор», – чётко произнёс годовалый брат, но докончить фразу ему не удалось, так как все от удивления и восторга стали хохотать. Видимо, с тех самых пор он почувствовал себя литератором. В раннем детстве он по любому поводу оглушал нас одами и дифирамбами, в восемь лет написал свои «Любовные элегии», в двенадцать лет – мрачную апокалиптическую поэму, в которой любовь к однокласснице как бы ненавязчиво переплеталась с адскими сценами и описанием грядущего конца света. В молодости он не мыслил себе иной судьбы кроме литературной. В Москве он состоял в группе поэтов, скромно именовавшейся «Кипарисовый ларец», и даже участвовал в сборнике стихов «Семнадцатое эхо». Должна отметить, что эта сторона интересов моего брата тоже далась мне нелёгкой ценой.
Забегая вперёд скажу, что летом 1996-го года мы с ним решили встретиться в Лондоне (я приехала туда в отпуск из Америки, а он – из Еревана). Мы должны были провести несколько дней в Англии, а потом собирались поехать в Эдинбург. Отпуска у меня в году было мало (две недели), и я с вожделением представляла себе, как буду наслаждаться, прогуливаясь с моим ненаглядным по интересным местам. Но увы… не тут-то было. Брату моему приспичило отправиться на поиски поселения под названием Эрсилдун, о коем практически никто в Шотландии не слышал, и только одна святая, покрытая пылью веков старушка из архива эдинбургской библиотеки, смогла смутно что-то припомнить. И вот, пришлось по всей Шотландии (вернее, её самой неинтересной части, где никогда ещё не ступала нога туриста) искать какую-то стену, оставшуюся от замка, вернее кусок стены размером четыре на три метра, и дуб, под которым, естественно, мне неизвестный, и столь же естественно – боготворимый моим братом, некто Томас Лермонт, прозванный Рифмоплётом, в далёкие времена писал стихи. Дуба мы не нашли, но зато нашли камень, на котором было написано, что именно здесь стоял когда-то означенный дуб. После этого у меня всё же появилась надежда отправиться в Эдинбург, но тут оказалось, что мы должны подняться на какие-то три холма (Эйлдонские – Eildon Hills), которые вдохновляли вышеозначенного Рифмоплёта на стихотворческие подвиги. Я героически терпела, постоянно подсчитывая, сколько мне осталось секунд отпуска. Но когда мы сделали ещё один марш-бросок (теперь уже в Уэльсе), чтобы с одной горы, покрытой вереском (это, оказывается, очень важно!) посмотреть, как на другой горе на берегу настоящего Ирландского моря пасутся настоящие ирландские овцы (не менее важно!), я начала планировать свой следующий отпуск в следующем году. Чего только не сделаешь ради любимого брата?!
Так вот, с раннего детства было очевидно, что дома растёт литератор-гуманитарий, причём было столь же очевидно, что в том же доме имеется (разумеется, в моём лице) полнейший антипод этих высоких дарований. Но я подавала надежды в точных науках. Сама не помню (так как мне было тогда три с половиной года), но из достоверных многочисленных источников до меня дошли рассказы об одном из визитов моего дяди к нам домой.
– В лодке шесть человек. Сколько у них ушей? – задал он мне задачку.
– Двенадцать, – моментально ответила я.
– Молодец! Как ты посчитала? – поинтересовался он.
– Шесть ушей с одной стороны, шесть – с другой, 6+6=12, – объяснила я.
С сожалением отмечу, что с годами я начисто утратила оригинальность мышления и, наверняка, сейчас решала бы то же самое куда примитивнее (6x2), не рассаживая в лодке шесть человек в затылок один за другим.
Возвращаясь к нашим домашним будням, добавлю, что брат мой всегда любил куда-то уходить, а я любила сидеть дома.
– Как это вы такие разные? – как-то спросила у меня подруга.
– Я прихожу домой – там брат, а он приходит – там я, разницу чувствуешь, понимаешь, почему меня тянет домой, а его – нет? – недолго думая, ответила я.
Так вот, комплексами я обзавелась, но страдала от этого немного, потому что коэффициент моей везучести во много раз превосходил коэффициент моей закомплексованности.
Я от души наслаждалась своим домашним обществом и образом жизни. И потому было совершенно непонятно, чего ради надо всё время что-либо предпринимать для выезда куда-нибудь. Но размышлять уже было поздно, так как курс на Америку был взят самый серьёзный.
Спустя некоторое время после моего возвращения в Ереван мне нужно было по делам в Москву. Как раз в это время из Еревана через Москву в Америку уезжал наш один знакомый, американский армянин, весьма блистательный и тогда ещё молодой человек – Метью. Мы с ним встретились в центре Москвы. Тогда у Пушкинской площади открылся первый в Союзе McDonald’s, который народом воспринимался как символ демократии, свободы и, безусловно, самой здоровой и полезной пищи. Мы простояли в очереди часа полтора, накупили Big Mac, File o Fish, French Fries и взяли по гигантскому клубничному шейку. Потом сидели на бульваре, поглощали купленное, почему-то ни на грамм не толстели и говорили о разных вещах.
Так как основной чертой моего собеседника было абсолютное ко мне равнодушие, я посчитала не слишком неэтичным сообщить ему, что мне в принципе хотелось бы наведаться в Америку. Я рассказала ему обо всех уже предпринятых шагах и поинтересовалась, не может ли он подсказать мне другие пути и программы. На это он заявил, что сам никаких путей и программ не знает, что очень осуждает, когда люди уезжают из Армении, что сам мечтает жить в Армении, что в Америке со мной возиться не может и не хочет, но раз уж мне так приспичило туда поехать, он просто может дать мне приглашение. Я, конечно, обрадовалась, но подумала, что ведь завтра он уезжает, а потом, наверно, забудет. Идея казалась мне нереальной. Но последующие события показали, что я недооценила своего знакомого.
Было около трёх часов дня. Как только мы дожевали нашу «диетическую» еду, он встал и решительно зашагал в неизвестном мне направлении, потом велел ждать, сам зашёл в какое-то здание (которое оказалось американским посольством в Москве), вышел, протянул мне бумажку и как-то до неприличия весело сказал: «Но тебя всё равно не пустят!» Впечатление было такое, что он там договорился и ему гарантировали, что он может жить спокойно – въезд в Америку мне не грозит.
На следующий день он улетел в Бостон, а я вскоре вернулась в Ереван. Папиному восторгу не было предела, маминой грусти тоже, а о комментариях брата я лучше промолчу.
Мы с папой рьяно взялись за дело: стали оформлять заграничный паспорт, разрешение на выезд и другие документы. Всё это было сопряжено с бесконечными очередями, ожиданиями, неприятными и неопределёнными походами в ОВИР, но мы всё с лёгкостью терпели, ведь чего не сделаешь ради «иностранщины»?!
Наконец все формальности, через которые я могла пройти в Ереване, оказались позади, и дело стало за интервью для получения въездной визы в Америку. Мы с папой разузнали, что в Москве в посольстве гигантские очереди, надо в день несколько раз ходить на перекличку, и, вдобавок, как и предсказывал Метью, там многим отказывают. А в ленинградском консульстве очереди маленькие, почти всем дают визы, и за один день можно всё успеть.
Дело было в самом начале сентября, и мы с папой бодро отправились в Ленинград. Прилетели в субботу, остановились у наших старых друзей, в воскресенье погуляли, в понедельник собирались разобраться с визой, а во вторник должны были улететь домой.
В понедельник в шесть утра мы заняли очередь в консульстве, у меня был невысокий #10, так что всё шло как по маслу: как планировали и в приподнятом настроении. Часам к десяти я вошла, а папа остался ждать на улице. Интервьюировал меня человек, никоим образом не соответствовавший моим представлениям о радушных, приветливых, доброжелательных, несущих миру свободу и демократию, американцах – эдакий огромный лакированный гардероб без единой улыбки, без какого-либо намёка на доброжелательность.
– Вы замужем? – поинтересовался гардероб.
– Нет, – спокойно ответила я.
Он что-то шлёпнул в мой паспорт и протянул его мне. Я, будучи в полной уверенности, что получила визу, направилась к выходу, потом решила проверить, открыла паспорт и увидела, что там стоит ОТКАЗ. Решив, что это ошибка, я хотела пойти назад и выяснить, в чём дело, но меня уже не впустили – на пути стоял другой гардероб, на сей раз менее лакированный. Я подошла к папе.
– Пап, меня не пустили, – чуть не плача, кое-как выговорила я.
– Ну, прекрасно, пойдём погуляем, – со счастливой улыбкой на лице ответил папа.
– Пап, ты, наверное, не понял, меня не пустили, – повторила я.
– Как не пустили? – дошло до папы.
– Так, просто и быстро, без очереди, – растерянно объяснила я.
Для папы это был настоящий шок. Он просто не мог себе представить, что американские власти могут так обойтись с честным и свободолюбивым человеком. Он недоумевал: ведь Америка – это символ прав человека. Что же происходит?!
Остаток дня прошёл в мрачном настроении. Мы даже не пошли гулять, вернулись домой и стали думать, как же быть. Совместно с друзьями мы пришли к выводу, что если завтра улетим домой, отложим это дело в долгий ящик, то вообще ничего не выйдет; надо постараться что-то изменить, пока свежо. Возвращаться в то же консульство не было смысла, вот мы и решили сдать свои самолётные билеты и отправиться в Москву, в посольство.
Вещей у нас с собой не было никаких. В Москве с каждым днём становилось холоднее, в Ереване и меня, и папу ждала работа. Утром во вторник мы прибыли в Москву и сразу же направились в посольство. Очередь была невообразимая. Люди ждали приёма по три-четыре недели, причём должны были приходить на перекличку к посольству дважды в день, и каждый день им давали новый номер, а иногда проводившие перекличку добровольцы-активисты (такие характерные для коммунистической Москвы) мухлевали, списки терялись, и всё начиналось сначала.
После того, как мы запустили «процесс», я поселилась у своей знакомой в общежитии МГУ, а папа уехал. Я аккуратно проводила каждый день по одному и тому же сценарию: утром – перекличка, выдача нового номера, вечером – перекличка. А между двумя перекличками, когда становилось ясно, что и на следующий день мне не попасть на приём, надо было спешно ехать в транс-агентство менять билет на послезавтра и звонить на работу: просить, чтобы меня заменили ещё на один день.
Дело шло уже к концу сентября. В Москве был почти что мороз, и всё время лил промозглый дождь. Между прочим, в Москве даже меховая шуба не может укрыть от холодного, насквозь пронизывающего ветра, а у меня не было ничего, кроме одной летней майки (помню, как сейчас, коричневый гладкий t-shirt) и юбки (кремовая, в складку), в которых я героически замерзала, упорно преклоняясь перед иностранщиной.
Наконец, через три с половиной недели дошло дело и до меня. Последний день был самым трудным, надо было толкаться и всех распихивать, иначе кто-то мог вытолкнуть тебя и зайти с твоим номером. Но и с этим всё обошлось, и я каким-то образом оказалась у окошка, где торопливо выпалила, что еду из Ленинграда, что там произошло недоразумение, и что хочу поговорить с кем-нибудь более высокопоставленным, нежели окошечный клерк. Мне любезно назначили встречу через три дня, но при этом предупредили, что ни один сотрудник менять мнение или решение другого сотрудника не будет, короче, намекнули, что зря стараюсь.
Я снова поехала в трансагентство, поменяла билет, надеясь, что в последний раз, а вечером решила пойти в гости – в общежитие Академии Наук, где обитали несколько знакомых, в том числе мой одноклассник и хороший друг Арик.
В те годы в Москве аспиранты-армяне из МГУ часто навещали аспирантов-армян Академии Наук и наоборот. Эти встречи всегда отличались особым колоритом – шарм перестроечной студенческой Москвы соединялся с армянским юмором и теплом, не говоря уже о всех нас объединявших событиях в Армении и Карабахе: то воодушевлявших, то трагических, то опасных, то смешных. Но юмор в любом случае был на первом месте. Что же касается Арика, то тут юмор оттенялся лёгкой, элегантной, слегка циничной манерой разговора, ему одному присущей. Так что поднимать настроение он мог как никто другой.
Помню один случай. Как-то Арик дал знать, что собирается с визитом в МГУ. Я вышла встретить его в проходную зоны «Б», чтобы выписать ему гостевой пропуск. Мы шли по двору зоны к входу в Главное Здание, где было моё общежитие. Стоял май – самый дивный месяц в Москве, особенно в МГУ. Вокруг всё цвело, погода была прекрасная, все студенты и аспиранты высыпали во двор: кто занимался спортом, кто просто дышал свежим воздухом, кто общался с народом. После длинной, холодной московской зимы всё вдруг оживало и излучало счастье, молодость и радость. А по ночам окна были открыты, и не важно, насколько поздно или уже рано утром, из открытых окон раздавался стук печатных машинок, нарушающий ночную тишину – так создавалась и двигалась наука в этом великом учебном заведении. Это было совершенно магическое ощущение чего-то большого, чего-то волшебного, повисшего в тишине майской ночи. А днём наука отдыхала, предаваясь разнообразным развлечениям. И вот идём мы в один из таких чудесных дней по оживлённому двору зоны «Б». Арик вдруг призадумался, почти погрустнел, отвернулся, посмотрел по сторонам.
– Люблю я всё же этот МГУ, – тихо и даже как-то таинственно сказал он.
Я была счастлива и про себя подумала: «Здорово, был здесь всего несколько раз, а уже успел проникнуться любовью к этому великому храму науки».
– Что именно ты имеешь в виду? – с затаённой гордостью поинтересовалась я, искренне желая услышать о причинах его любви и скромно отметить, что для меня это – обычная каждодневная жизнь.
– Люблю…, потому что в МГУ воздух пахнет спермой, – задумчиво и романтично сказал Арик.
Такого ракурса любви к МГУ мне в голову до тех пор не приходило. Я не знала, как реагировать – то ли принюхаться, то ли задуматься? Меня распирал хохот, и пока Арик вдыхал наш МГУ-шный воздух, я не могла перестать смущённо хихикать.
Так вот, пришла я в гости в общежитие на улице Вавилова сообщить Арику, что через три дня назначена встреча с консульским работником. Мы попили чай, поболтали. По поводу моего предстоящего интервью Арик был настроен не очень оптимистично, но сказал, что у него есть знакомая американка, которая работает в другом отделе посольства; он у неё разузнает, что она думает по этому поводу. На том и порешили.
Через день в МГУ появляется мрачный Арик, разыскивает меня и говорит:
– Моя подруга сказала, что тебе ни за что нельзя идти на приём в посольство с этим же паспортом, если в твоём семейном статусе ничего не поменялось. Точно будет отказ, ни один работник консульства не изменит решения своего коллеги, а чем больше отказов ты соберёшь, тем безнадёжнее будет когда-либо получить визу. Так что лучше езжай в Ереван.
Я приуныла, задумалась, но всё же решила пойти. Арик, уверенный, что я получу отказ и мне будет плохо, вызвался пойти со мной – поболеть и поддержать. Сразу стало как-то веселее; плюс ко всему в день интервью шёл проливной дождь, а у Арика был зонтик.
В назначенное время я зашла в здание посольства, а Арик остался ждать у входа. Меня завели в зал, где сидело множество людей, получивших отказ. На лицах – страдание, ощущение безнадёжности: кто-то не мог выехать к детям, кто-то – к родителям. По очереди называли фамилии, люди подходили к одному из трёх окошек и уходили с новым отказом. Многие плакали.
И вот настал мой черёд. Я подошла к своему окошку. На сей раз мне повстречался довольно приветливый, улыбчивый, явно доброжелательный человек. Не дав ему рта раскрыть, я со скоростью и напором пулемётной очереди стала объяснять, что в Ленинграде произошло недоразумение, в результате которого, трудно поверить, уму непостижимо, но меня не пустили в Америку только потому, что я не замужем. Не замужем, но в двадцать шесть лет кандидат физико-математических наук из МГУ! Не замужем, но папа – первый и долгое время единственный из всего социалистического лагеря член редакции самого престижного журнала по радиобиологии «International Journal of Radiation Biology»! Не замужем, но дед – член не только советской, но и итальянской Академии! Не замужем, но приглашал меня не какой-нибудь уехавший отсюда тухлый родственник, а настоящий высококачественный американец, окончивший Гарвардский и Колумбийский Университеты и работающий в престижной юридической фирме Нью-Йорка! Всё сказанное я подтверждала аттестатами, дипломами, бланками, бумажками. Бедный человек еле успевал перевести с одной бумажки на другую растерянный взгляд, который, однако же, по мере поступления новых сенсационных сведений становился всё мягче и мягче, а на лице постепенно проступало выражение благоговейного восторга.
– А вы будете там работать? – приветливо спросил он, когда я замолчала, закончив демонстрацию своих документов.
Я знала, что туристы права на работу не имеют, но придерживалась мнения, что всегда лучше говорить правду. Доказать, что я не хочу остаться в Америке, я всё равно не смогу, так как на лице моём крупным, жирным шрифтом написано: «Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В АМЕРИКЕ». Посему мне представилось более разумным доказать другое, а именно, что даже если я и останусь, большого вреда Америке от этого не будет, даже наоборот, Америка расцветёт пышным цветом и наконец-то займёт подобающее ей место в мировой культуре.
– Буду работать, причём с удовольствием, но только и только, если смогу законно поменять тип моей визы на рабочую, – нагло заявила я своему интервьюеру, при этом физиономия моя искренне излучала проникновенный американский патриотизм.
К моему удивлению, услышав явно нетрадиционный ответ, посольский работник буквально просиял. Он взял телефонную трубку, с кем-то связался и стал что-то долго на недоступной для моего понимания скорости рассказывать по-английски. Потом он послушал, что говорят ему, сказал: «She is charming!» (наконец, хоть до кого-то дошло!), повесил трубку и улыбнулся настоящей американской улыбкой.
– Я вас поздравляю, вы получили визу. Езжайте, радуйтесь, надеюсь, всё у вас будет хорошо. Послезавтра приходите за паспортом, – явно одобряя мой план, ошарашил меня мой интервьюер. Вот чего уж никак не ожидала услышать от человека, выдающего туристические визы!
От волнения и напряжения у меня подкашивались ноги. Мила же всё-таки эта иностранщина! Даже можно в чём-то убедить. Не успела я отойти от окошка, как люди, сидевшие в зале ожидания, окружили меня, чтобы подробно разузнать, что же это такое нужно сказать, чтобы пустили. Они все меня поздравляли, мой триумф внушал им надежду.
Я кое-как выползла из посольства и сразу же увидела Арика. Ситуация была полностью противоположна ленинградской: там меня ждал радостный папа, который никак не мог поверить, что меня не пустили. Здесь же меня ждал Арик, готовый утешать и развлекать и никак не могущий поверить, что мне дали разрешение на въезд. Из посольства мы снова поехали в трансагентство и теперь уже в последний раз поменяли билет на Ереван. Через два дня я получила визу. Правда, сперва её поставили неверно, но потом (по счастью, в тот же день!) исправили. Оставалось обменять деньги и достать билет. Папа делал всё, что мог – по ночам стоял в очереди в банке, пытался достать билет в разных авиакассах Еревана. Чего только не сделаешь для того, чтобы выпроводить любимую дочь?! Выпроводить, да подальше, да навсегда?! Мы успешно обменяли деньги. Теперь у меня было на поездку целых 330 долларов. Но на билет денег не хватало, так что мы собирались у кого-нибудь занять, всё же такой достойный повод! Однако не пришлось.
Мой дедушка (единственный тогда ещё живой из всех моих бабушек-дедушек, писатель, отсидевший в тридцать седьмом году) словно почувствовал, что нужна подмога и принёс свои писательские сбережения – гонорары от книг и статей – в настоящей советской продуктовой сетке с дырочками, без какой-либо упаковки: уголки купюр торчали из авоськи во все стороны. Его отца, тоже писателя и переводчика, в тридцать седьмом году расстреляли в той же тюрьме (за знание многих иностранных языков), а ему даже не сообщили об этом! Забегая вперёд, скажу, что через двенадцать дней после моего отъезда в Америку дедушки неожиданно не стало. Образ доброго, немного жалкого, едва начинающего нуждаться в помощи одинокого старичка в чёрной ушанке и с чёрной сеточкой, которую он так трепетно вёз на общественном транспорте и из которой так честно, открыто и беззащитно торчали деньги на мой билет, навсегда врезался в мою память.
Итак, деньги нашлись, но купить билет в Ереване было просто безнадёжно. Люди бывалые посоветовали нам ехать в Москву, там, говорят, билет можно достать за два-три дня до вылета самолёта. Мы с папой решили так и сделать. В начале ноября я попрощалась со всеми своими родственниками и друзьями чуть ли не навсегда. Я покидала Советский Союз, разваливающийся, но ещё не развалившийся, и всё могло пойти по кто его знает какому пути. В Москву я летела, как всегда, с папой. О том, каково было прощаться с мамой и братом, не пишу. Мне самой было нелегко, но после того, как у меня появились собственные дети, я лучше поняла, что тогда испытывали родители.
В холодный осенний день мы прибыли в Москву. Поселились у нашей доброй знакомой и сразу же связались с человеком, носившим весьма убедительное для такого случая имя – Варужан. Как нам сказали, раньше он уже помогал с билетами нескольким людям. Задачу упрощало то, что на сей раз билет нужен был всего один. И действительно, через какое-то время Варужан сообщил, что дело сделано – 21-го ноября я лечу в Нью-Йорк. Последние дни я прощалась с разными знакомыми, а папа в это время переводил мои статьи на английский язык – авось пригодится.
Я дала знать Метью, что получила визу и сообщила, когда буду в аэропорту Кеннеди, чем вызвала его глубокое разочарование в деятельности американского государственного департамента.
В назначенный день мы прибыли в аэропорт Шереметьево рано, с большим запасом времени. Отъезжающие явно волновались: а вдруг что-то не так, а вдруг в последний момент не выпустят. Некоторые летели большими семьями, другие – по двое, а некоторые, как я, – в одиночестве. Кто-то навсегда, кто-то ненадолго. Мы с папой молча нервничали. Наконец, объявили нашу проверку и посадку. Я прошла мимо какого-то милиционера, и тут оказалось, что всё: папа остался позади, а я – за невидимым барьером, и мы даже не попрощались. Я стала плакать.
– Девушка, почему вы плачете? – удивлённо и довольно строго спросил милиционер.
– Потому что не попрощалась с папой, – почти рыдая, ответила я.
Милиционер оказался удивительно добрым, хотя тщательно это скрывал. Он помолчал, посмотрел на меня, потом на толпу провожающих, видимо, прикинул и, будучи настоящим профессионалом, моментально определил, кто в толпе – папа, с которым не попрощались и из-за которого так плачут. И тут он, с тем же неприступным, строгим, даже грозным и абсолютно не одобряющим всяческие сантименты видом, совершил гражданский подвиг.
– Попрощайтесь с папой!!! – строго приказал милиционер.
А ведь мог сказать: «Гражданка! Тогда идите и прощайтесь с папой, и незачем вам лететь в Америку!» Или другой вариант: «Женщина! Определяйтесь: или прощайтесь с папой, или отправляйтесь в Америку. И нечего здесь лужи делать!»
Мы с папой обнялись, поцеловались через какую-то границу.
– Только будь осторожна и ни за что не возвращайся, – сказал папа напоследок.
Благодаря подарку великодушного советского милиционера нам обоим стало значительно легче, и я, наконец, ушла – растворилась в толпе улетающих.
Вылет задерживался. И пока я сидела с совершенно пустой головой сперва в накопителе, а потом в самолёте, папа в залах аэропорта Шереметьево испытывал волнение и ужас. Оказывается, после окончания регистрации в аэропорту начали происходить интересные события: сперва в таможню ворвались какие-то люди и сразу же без проблем оформили билеты для двух женщин. Затем из самолёта высадили плачущую женщину с тремя девочками. Папа боялся, что и со мной может случиться что-то такое, тем более, что самолёт всё не вылетал. У справочного бюро он увидел самого Варужана – великого человека, обладающего неограниченными возможностями. Тот папу несколько успокоил, сказав, что такого законного билета, как у меня, нет ни у кого.
Позже удалось выяснить, что самолёт всё же вылетел. Впоследствии папа писал мне, что в этот момент он испытывал самое изнемождённое состояние в своей жизни. Энергии у него не было вообще, хотя внутренне он испытывал невероятное облегчение и даже подъём.
Он кое-как добрался до дома, а добравшись, не мог найти в себе силы позвонить в Ереван, но вместо этого усиленно (и долгое время безуспешно) набирал справочную аэропорта, чтобы только ещё раз услышать, что самолёт вылетел – ему казалось, что он неправильно расслышал, и, соответственно, меня выставили из самолёта.
Итак, благополучно выпроводив меня, папа на протяжении целой недели добирался до Еревана. Не было бензина, рейсы отменялись; кое-как удалось достать билет на поезд. В вагоне не было воды, чая, зато была страшная грязь. В купе набилось шесть человек. Позже папа мне писал, что именно в поезде по-настоящему оценил, какое чудо, что мне удалось получить визу, оформить документы и достать билет. Oдним словом, чудо, что меня удалось вытурить из страны. Дело в том, что практически весь вагон ездил в Москву по американским делам. Четверо из одного купе надеялись «протолкнуть» своих родственников через Мехико, но тех с билетами не пустили в самолёт, хотя их багаж улетел (и на том спасибо!). Другие провожали в Нью-Йорк семью из шести человек, которую тоже не впустили в самолёт – что-то не то было с билетами. Ещё в вагоне было много тех, кто в очередной раз получил отказ в посольстве. А в одном купе с ним ехала девушка, которая только что вернулась из Америки, где была туристом и не рискнула остаться, а в Москве, едва выйдя из самолёта, ужасно об этом пожалела. И теперь пребывала в столь истерическом состоянии, что папа боялся, что она окончательно свихнётся ещё до того, как поезд прибудет в Ереван.
Вообще, в начале девяностых годов каждое путешествие из Еревана или в Ереван на любом виде транспорта было необыкновенным приключением, на которое отваживались немногие и только в случае крайней необходимости. Автомобильные дороги не функционировали: Грузию лихорадило, Северный Кавказ – тоже, на такие переезды в эпоху всеобщего хаоса решались только безумцы. А потом, начиная с какого-то момента поезда вообще встали, так что единственным способом доставить родным какое-то продовольствие был самолёт. Самолёты летали в Армению со страшными перебоями, на каждый рейс норовило попасть втрое больше людей, нежели продавалось билетов. Это была своеобразная «дорога жизни» для закованной в блокаду маленькой Армении, обескровленной землетрясением и уже (ещё при советской-то власти!) полыхавшей войной.
Так, в августе 1991-го мой брат с законным билетом заблаговременно прибыл в аэропорт Внуково. Беспредел здесь носил обоюдный характер: с одной стороны – пассажиры, любой ценой, с билетом или без, стремящиеся попасть на рейс, с другой – паспортный контроль и ОМОН, вызванный охранять самолёты от приступа на всё готовой толпы, а вместо этого загребающий денежки, пропуская «левых». Так что, оказавшись на месте со своим законным билетом и изрядным запасом времени, брат к своему удивлению обнаружил, что посадка закончена, самолёт переполнен, и человек тридцать остались ни с чем и должны ночевать в аэропорту в ожидании следующего рейса. За время ожидания, как водится, сформировалась небольшая община породнившихся на почве совместной нужды людей: некая Бабуля с внуком, одинокая и напуганная Молодая Женщина, шумное ленинаканское семейство с огромными тюками и чемоданами в невообразимых количествах, другие неудачники… Все они, объединённые общей бедой, с вечера заняли круговую оборону у стойки паспортного контроля, приготовившись, подобно двадцати шести бакинским комиссарам, стоять до конца и, если надо, пасть смертью храбрых на подступах к лётному полю. И вот, ночью объявили посадку на следующий рейс.
Что тут началось! Ведь на место в самолёте претендовали не только отставшие, но и все те, кто, собственно, вполне законно рассчитывали попасть на свой рейс. Брат, летящий без багажа (странный товарищ!), преисполнившись философско-созерцательного настроения, дислоцировался где-то в задних рядах. На одной руке у него висела Молодая Женщина, видимо, надеясь таким образом спастись от неминуемой гибели. В другую вцепилась Бабуля с внуком и чемоданом, ритмично повторяя: «Ара, подождите, Ара, спасибо, Ара, помогите…» и прочие мантрические изречения из той же оперы. А впереди, у паспортного контроля, схлестнулись в яростной схватке два потока, две могучих стихийных силы: Отставшие (левый поток, занявший оборонительные позиции ещё часа три назад) и Законные, наступавшие справа, мужественно пытаясь выбить из прохода на смерть стоящих Отставших.
Брат описывает прекрасный по своим художественным достоинствам кадр: один из нападающих Законных, сияя ослепительной лысиной, за счёт веса своего могучего тела пробился-таки к проходу и пропихивает через чьи-то головы паспорт. Видя это, героическая Предводительница мужественных ленинаканских женщин забралась на металлическую загородку, легла всей грудью на головы плотно зажатых у прохода пассажиров обеих армий и, растянувшись в неимоверной гимнастической позиции, еле-еле дотягиваясь, с криками «На тебе! Так тебе! Вот тебе!» отчаянно колотит Лысого по макушке зонтиком. Примерно такая же битва, долгая и кровопролитная, развернулась уже у трапа. Но в результате все, кто там был, оказались в самолёте и в тёплой, весёлой и вполне дружеской обстановке, как ни в чём не бывало, с шутками и прибаутками улетели домой. Правда, некоторые летели совсем как в автобусе – стоя…
А вот другая история, произошедшая с одной нашей знакомой: тихой, интеллигентной девушкой, учившейся в Риге на переводчика с латышского на армянский (это были последние кадры «дружбы народов»). Она по наивности решила навестить родных. Прямых рейсов в разваливающейся стране уже не было, так что билет она взяла через Москву. И вот, с этим билетом бедная Гоар просидела в московском аэропорту четверо суток, каждый раз «не попадая» в самолёт. Наконец, собравшись с духом и преисполнившись надежды, она мужественно нырнула в толпу отчаянно пробивающих себе путь пассажиров. Во время решающего сражения какая-то женщина положила на голову намертво зажатой со всех сторон вестницы дружбы народов свой чемодан. Гоар извиняющимся голосом (не обижать же человека!) обратилась к ней из-под чемодана: «Извините, но мне так не очень удобно…» «А куда мне его положить, деточка?» – возмутилась женщина. Дальше – больше. Кое-как пробравшись сквозь паспортный контроль, Гоар каким-то чудом оказалась у трапа. Тут развернулась настоящая битва. Толпа давила, толкала, сжимала и пихала. Все те, кто за последние четверо суток успели перезнакомиться и уже знали друг о друге всё или почти всё, сейчас, стиснув зубы, напирали на трап. В какой-то момент Гоар почувствовала, что не может больше ни дышать, ни стоять. Очнувшись, она обнаружила себя лежащей на земле рядом с самолётом. Кто-то пытался привести её в чувство, а наверху, на ступеньках трапа и в овальных дверях самолёта, столпились пассажиры, которые махали ей и кричали: «Гоар, иди к нам, иди к нам!»
А я летела, причём совсем не так, оставив позади весь этот колорит, летела долго и упорно, пребывая в очень странном состоянии абсолютной пустоты в голове. Куда лечу, куда прилечу, что буду там делать, как всё сложится? Я даже не могла размышлять на эти темы, так как понятия не имела, о чём, собственно, размышлять.
ГЛАВА 2
НОВЫЕ НРАВЫ, ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
И вот, наш самолёт совершил-таки посадку в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке. Наконец-то! Однако же первые минуты моего пребывания на американской земле прошли несколько напряжённо.
Как-то, уже под конец учёбы в Москве, выстояв солидную очередь в универмаге, я купила чешский чемодан с ремнями и замками и была по этому поводу безгранично счастлива и горда. Чемодан этот мы употребляли нечасто, словно берегли его для большого повода. И, действительно, очень скоро его звёздный час пробил, и он, хотя и наполненный весьма скромным содержимым, перелетел через океан. К моменту, когда я прошла иммиграционный контроль и обзавелась телегой, багаж уже поступил, и я с нетерпением ждала встречи со своим дорогим чешским чемоданом, чтобы пройти таможню и, наконец, почувствовать себя в Америке.
Чемодан появился довольно скоро, я его схватила, вижу – не мой. Точно такой же, но более потрёпанный. Я положила его обратно. Весь багаж уже разобрали, я начала нервничать, злиться, неуклюже бегать с телегой, которая плохо мне подчинялась, всех распихивать, бурча при этом: «Excuse me!» А чемодан, который вроде мой, да не мой, всё вертелся, и никто его не брал. И тут меня осенило, что какой-то самозванец из той же очереди в универмаге «Москва», прежде относившийся к своему чемодану не столь трепетно, тоже оказался в моём самолёте. И вот, увидев мой чемодан, он обрадовался, взял его и ушёл, не обратив внимание на очевидную разницу. Швырнув телегу (на которую мне пришлось отдать $1.50 из имеющихся $330, предварительно намучившись при размене денег, а потом при её отдирании от длинной цепочки таких же телег), я бросилась в таможню, где успела увидеть, как три беспредельно счастливых товарища в числе своих 20-25 чемоданов гордо вывозят и мой. Покричала, объяснила – успела-таки! «А почему здесь никто не проверяет багажные бирки?» – недоумевала я, впервые проходя таможню на американской земле. А потому, что я – в Америке!!! Потому, что здесь вообще никто ничего не проверяет!!!
По приезде в Америку я провела чуть меньше месяца на восточном побережье: в Нью-Йорке – у Метью, в Провидансе – у своей троюродной кузины, и в Бостоне – у двоюродной тёти. Должна сказать, что Метью героически принимал нежеланную гостью: угощал, помогал ориентироваться, составил вполне респектабельное резюме, познакомил с какими-то людьми.
Было решено, что моя, тогда мало мне знакомая, другая троюродная кузина, проживающая в Лос Анжелесе, купит мне билет в Калифорнию, и я погощу у неё какое-то время.
Америка полюбилась мне с первого взгляда – мне нравилось абсолютно всё. Из самых первых впечатлений были краски. Огни Times Square в Нью-Йорке после серо-бежевого советского декора так радовали глаз! Удивляло, что не было закрытых, запертых дверей – можно было запросто пнуть и открыть любую дверь (в тех редких случаях, когда дверь сама не открывалась при приближении к ней), зайти в любую гостиницу, библиотеку, магазин, учреждение, не пройдя через полицейский дозор. Это было таким контрастом после нескольких лет проживания в МГУ, где к себе домой, в общежитие, невозможно было попасть без позволения милиции! При этом почему-то все те, кто не имел пропуска и права находиться в здании, преспокойно там жили месяцами (например, любой проныра, мастерски имитировавший «местное» выражение лица), а люди с законными гостевыми пропусками, типа моей мамы, должны были постоянно извиняться, оправдываться и что-то доказывать.
В связи с этим не могу не рассказать очаровательную миниатюру из нашего детства. Однажды наш папа получил путёвку в санаторий в Ессентуках. А для нас троих снял комнату неподалёку. И вот, как-то раз пришли мы с мамой в папин санаторий, сидим и ждём его в фойе. Советский санаторий, а тем более санаторий ГлавАтома, – это вам не шутка, это практически режимное заведение, почти что зона, так что сидим мы тихо, нудно поскуливаем в мамино плечо. Ну так вот, ждём мы, стало быть, окончания папиных процедур, изнываем, отошли от скуки на два метра посмотреть какие-то картинки на стене. А тут входит некая местная начальница: то ли дежурный врач, то ли администратор, то ли замполит северо-кавказского военного округа, оглядывает орлиным взором пространство и чеканным голосом профессионального работника безопасности обращается к нам, тогда ещё совсем детям.
– Так. Вы что здесь делаете? Я от ужаса онемела.
– Ждём папу, – кое-как преодолевая страх, ответил брат.
– Папу будете ждать на улице, – не допускающим возражений тоном сказала Администраторша, после чего развернулась в сторону нашей мамы.
– А вы? Вы что здесь делаете? – буравя маму взглядом следователя, допрашивающего только что пойманного на месте преступления вора, продолжила Администраторша разбор серьёзной ситуации.
– Я с ними, с ними, – извиняющимся голосом оправдалась мама, ошарашив Администрацию санатория такой неожиданной моделью семейной иерархии.
Разумеется, фраза «я с ними» тут же была включена в золотой фонд семейной истории.
А вот другая история, прекрасно иллюстрирующая традиционную советскую атмосферу в курортных местах. Дело было опять-таки на Северном Кавказе, в Пятигорске. Совсем молодые мама и папа, только что поженившиеся, вздумали поотдыхать. Ну, а советский отдых, как известно, невозможен без Общепита. И вот, приходят наши будущие родители в столовую самообслуживания (старшее поколение, безусловно, помнит оглушающий и сбивающий с ног на расстоянии морской мили запах трудно сказать чего), мама садится за свободный столик (повезло!), а папа берёт поднос и идёт за едой. В это время откуда ни возьмись появляется Советская Гражданка со своим полным еды подносом, окидывает взглядом разведчика поле боевых действий и, безошибочно определив слабое звено, без всяких там церемоний усаживается на папино место. Мама робко подаёт голос, сообщая, что место занято. Гражданка преспокойно сидит, ест свою еду и никакого внимания на мамины растерянные «извините» не обращает. Но тут подходит папа с подносом и с безукоризненной вежливостью сообщает Гражданке, что место занято, и просит её встать. Смерив папу презрительным взглядом (недорезанный интеллигент, хлюпик и нацмен к тому же!), Дама, очевидно, закалённая в курортных баталиях, явно только что прибывшая сюда с земли русской и даже не подозревающая, что находится на Кавказе, отрезает: «Понаехали тут с Кавказа!» Папа, несколько огорошенный такой поразительной географической осведомлённостью, совершенно спокойно и всё так же вежливо сообщает ей: «А вы знаете, вы – порядочная нахалка и хамка», на что Дама начинает вопить на всю столовую, сотрясая местность неожиданно мощными децибелами: «Хулиган! Хулиган пришёл обедать!» Так что бессмертное «Хулиган пришёл обедать!» было старательно сохранено родителями для грядущих поколений.
Вот такие истории случались во времена «почти былинные» (Высоцкий). Молодой и неискушённый в вопросах этики и психологии советского человека читатель может поверить: первое попадание Homo Sovieticus-а на Запад – это глубокий шок от переживаемого на каждом шагу контраста со всем, что окружало тебя прежде.
Как я уже сказала, восхищало меня поначалу практически всё. Умиляли, хотя и казались немножко комичными, предупреждения типа: «Осторожно, мокрый пол!»
«Надо же, какая забота о людях!!!» – думала я. Много позже я поняла, что делалось это в основном для того, чтобы человек, который через несколько часов после уборки вдруг оказался в этом месте и упал, не смог бы претворить в жизнь своё желание засудить заведение, в котором помыли пол. Аналогичных ситуаций много: кто-то пролил на себя горячий кофе в забегаловке и засудил её за то, что его не предупредили, что кофе горячий. Сейчас на всех стаканчиках есть предупреждение: «Осторожно, горячее!» В 1995-ом году мама упала на улице в Бостоне, споткнувшись о корень дерева, вылезшего из-под земли и раздвинувшего плиты тротуара. Тут же подбежала женщина и сообщила моей маме, что готова быть свидетельницей в случае, если мама решит судить город. А суперинтендант здания, в котором мы жили, между прочим, наш соотечественник, почти что завидовал маме, предвкушая, как мы разбогатеем. И действительно, ведь на дереве не было таблички: «Осторожно, дерево!», так что шанс у нас был большой. Мы не стали никого судить – не хотелось, да и не до этого было, чем вызвали чуть ли не гнев суперинтендента. «Как можно ТАКОЙ case портить?!» – возмущался прекрасно усвоивший местные порядки сосед.
А сами американцы?! Совершенно новый тип людей, мне до этого момента не встречавшийся. Какой-то безграничный позитив, постоянный восторг, возможность радоваться всему, удивительная улыбчивость.
Однажды в Нью-Йорке Метью, его подруга из Уругвая и я перед Рождеством пошли в универмаг «Мэйсис». Там всё было сказочно красиво декорировано и вообще празднично: плавно двигались витрины с рождественскими сюжетами, было полно людей, к тому же можно было встретиться с Сантой. Так вот, огромная толпа людей, независимо от возраста, спешила это сделать. Пошли и мы. Это был такой тёмный, длинный коридор-лабиринт со звёздочками, огоньками, блеском. Всё двигалось, сверкало, сияло, переливалось, из-за каждого угла выбегали какие-то персонажи и интересовались: «Вы хотите увидеть Санту?» Народ восторженно отвечал: «Да!» Всё это сопровождалось рождественской музыкой и длилось настолько долго, что к концу лабиринта порядком надоедало. Потом мы посмотрели фильм про Санту. Во время фильма меня несколько удивила инфантильность здешних взрослых. Они раскачивались, подпевали, хохотали, сияли, но почему – мне было трудно понять. Казалось, что всё это никогда не кончится, но тут настал долгожданный момент, мы оказались перед какой-то дверью, неизвестно откуда выскочил весёлый паренёк и вполне серьёзно спросил: «Сколько вас?» Мы ответили, что нас трое, он подумал, прикинул и с видом, будто оказывает нам большую услугу, сказал: «Ну ладно, так и быть, проходите!» Потом мы опять шли по коридору до тех пор, пока из-за угла не выскочил очередной персонаж, который поинтересовался, хотим ли мы увидеть Санту. Мы, конечно же, захотели и, о чудо, Санта был согласен нас принять. Мы вошли в Сантин кабинет. Он нас усадил к себе на колени и спросил, что мы хотим. В это время нас сфотографировали и тут же предложили купить эти фото за огромную сумму. Мы, разумеется, не захотели. Санта потрепал нас по плечу, и мы ушли.
И вся эта процедура вызывала у большинства глубокую, чистосердечную, по-детски непосредственую радость, можно сказать – восторг. Я не переставала думать о своих замысловатых, скептических, временами циничных, знакомых и представляла себе, как бы они отреагировали на подобное развлечение. Они, конечно же, получили бы ничуть не меньше удовольствия, но предпочли бы это сделать в более экономном и эффективном режиме, затратив на мероприятие этак минут десять, пронесясь по лабиринту, оценив его красоту и разнеся это всё в пух и прах своими язвительными, ядовитыми и на мой вкус довольно смешными комментариями в адрес персонажей и, особенно, Санты с его кабинетом.
Много лет спустя, когда все детали американского образа жизни и менталитета были мне давно знакомы и меня уже почти ничего не удивляло, я всё-таки снова удивилась. Мой старший сын участвовал в шахматном турнире, проходившем в Орландо, в Дисней-уорлдe. Мы поехали все вместе, решив составить впечатление об этом немаленьком и немаловажном фрагменте американской культуры. Мне было понятно, как это заведение может быть завораживающим, развлекательным и интересным для детей. Но как группа взрослых может решить провести здесь свой отпуск, стоя в бесконечных очередях, покупая дорогую и крайне отвратительную еду, фотографируясь с Микки Маусом и катаясь на каруселях, и при этом быть в диком восторге, осталось для меня загадкой, а таких людей там было немало. У американцев надо учиться радоваться – этот дар существенно повышает качество их жизни.
Возвращаясь к своим первым дням в Америке, скажу, что я пыталась почувствовать Нью-Йорк во всём его разнообразии. Я истоптала его вдоль и поперёк, я ненасытно ходила по нему в день по двенадцать часов и побывала везде, где только могла: в Манхэттене, Бронксе, Бруклине, Квинсе, на островах. Мне было интересно всё, каждый район имел своё лицо: здесь – богатые, здесь – бедные, здесь – итальянцы, здесь – китайцы, здесь – финансисты, здесь – хиппи, здесь – студенты. Все эти совершенно разные, непохожие друг на друга маленькие райончики, каждый со своим колоритом, стилем, народом, магазинами, ресторанами, бытом, находятся в двух шагах друг от друга, но создаётся впечатление, что они вообще не сообщаются между собой. А какая библиотека, какие музеи! И какое гадкое метро!
Должна сказать, что особо прекрасен Нью-Йорк в тёплый весенний или летний день, когда цветут деревья, когда небо синее и безоблачное и под ослепительным солнцем один в другом отражаются, переливаясь всеми цветами, небоскрёбы; когда по улицам и паркам ходят толпы ярко и разнообразно одетых людей, многие валяются на газонах, везде – шары, развлечения, шум, гам, мороженое; всюду продаются одежда и женские украшения из самых необычных стран: костяшки, деревяшки, пластмасса, металл; и краски, краски – такое обилие красок. Типичная картина: огромный американец (метра под три) в майке без рукавов – мускулы напоказ – прогуливается с микроскопической собачонкой, настолько нарядно причёсанной и одетой, что ей могла бы позавидовать любая советская модница. Где-то жарят орехи, где-то мясо, где-то сосиски, где-то благоухают бублики, где-то религиозный митинг; кто-то колотит в барабан, а кто-то в кастрюли, кто-то танцует, а кто-то что-то орёт в чью-нибудь защиту (вероятно, тех, кто и так вполне защищён); и всё это в самых неожиданных местах с пробками и преградами. Я полюбила этот город раз и навсегда.
Время пролетело быстро. 19-го декабря я отправилась в Провиданс, где провела несколько дней у троюродной сестры и её мужа, а потом на пару дней – в Бостон к двоюродной тёте и гостившим у неё в то время двум моим кузенам из Еревана. Принимали меня все гостеприимно, помогали, как могли. Я многое смогла увидеть за короткое время.
27-го декабря самолётом Бостон – Нью-Йорк – Лос Анжелес я отправилась на западное тихоокеанское побережье Америки. В Нью-Йорке в аэропорту (между самолётами) у меня было четыре часа, которые я провела весьма оригинально. Я оказалась в огромном зале ожидания, где почти никого не было; Метью просил, чтобы я ему позвонила из аэропорта, чтобы он мог убедиться, что у меня не было трудностей с переходом из терминала ближних дистанций в терминал дальних дистанций (солидное расстояние), что я и сделала. Но говорить долго я не могла, не по карману было: я только собиралась ему сообщить, что всё в порядке. Он поинтересовался у меня, какой номер написан на телефонном автомате, я продиктовала и попрощалась. Напоследок он мне сказал: «Если автомат зазвонит – возьми трубку». Я не поняла, что он имеет в виду, но придвинула кресло и села. Скоро автомат зазвонил, я взяла трубку – это оказался он, и мы ещё обсудили детали моего полёта. От того, что можно ответить на звонок в автомате в гигантском пустом зале ожидания одного из самых занятых аэропортов мира, потом, усевшись в комфортабельное кресло, бесплатно поговорить сколько душе угодно, мне было забавно – вспоминались наши советские телефонные будки. Покидала я Нью-Йорк с грустью, но уверенная, что когда-нибудь сюда вернусь.
В Калифорнии меня встретила кузина и очень скоро превратилась из малознакомой родственницы в любимого и близкого человека. Всего за несколько дней мы настолько спелись, что начали, каждая в своём духе, друг друга терроризировать, причём обе понимали, что это знак особого расположения, и никогда друг на друга не обижались. Пожалуй, три с половиной месяца, проведённых у неё дома, были одним из самых беззаботных, весёлых, непредсказуемых периодов в моей жизни. У нас не было денег, но нам было радостно. Я никогда не знала, что мы будем делать через час (столь нетипичный для меня образ жизни, оказывается, мог быть очень приятным). Частенько около полуночи кузина вдруг решала куда-то пойти, не придавая большого значения моим жалким потугам к сопротивлению. Она настаивала: «Пойдём, пойдём, сделаем nice to meet you и вернёмся». И мы шли делать nice to meet you. В Лос Анджелесе мы познакомились со многими интересными армянами, которые нас опекали и, как могли, помогали.
Мы катались по всему Лос Анжелесу на старой полуполоманной машине, абсолютно не беспокоясь, что она может в любой момент развалиться прямо на дороге. Мало того, наши хорошие друзья жили на высоком холме, и, чтобы попасть к ним домой, надо было одолеть один квартал под углом семьдесят градусов, потом пересечь очень оживлённый проспект и снова взять ещё один квартал под таким же углом. Так вот, каждый раз по пути к ним происходило одно и то же. Кузина изо всех сил нажимала на газ, машина взлетала, но до конца холма не дотягивала и начинала сползать назад, а из капота начинал идти дым. Я уж не помню, бывали за нами машины или нет, но мы хохотали, вылетали из машины, профессионально открывали копот, нюхали, смотрели друг на друга и одновременно выносили вердикт: «Горит!» Потом ждали, пока дым рассеется, и повторяли всё сначала, и так много раз. Мы не теряли надежды, и в какой-то раз счастье улыбалось нам, и мы на полной скорости взлетали на вершину первого квартала, потом, не имея возможности затормозить на оживлённом проспекте, молниеносно пересекали и его. Потом опять нюхали, горело, ждали, и то же самое происходило со вторым кварталом. Трудно передать, каким это всё сопровождалось восторгом.
Как-то раз у меня было интервью в UCI (University of California, Irvine). Сама я доехать туда не могла, так что должна была везти кузина. До двух ночи у нас были гости, и мы волновались, что можем проспать, не найти дорогу, да и машина была не в самой надёжной форме. Мы решили, что лучше выехать в три часа ночи, ехать по пустым дорогам, чтобы было безопаснее и легче ориентироваться. Мы взяли одеяла, еду, одежду для интервью, карту и поехали. Добрались быстро, менее чем за два часа, нашли здание, запарковались рядом с ним, опустили сидения машины и легли спать, наслаждаясь романтизмом происходящего. Было уже пять утра, а интервью было назначено на 11:30. И вот, в 11:10 мы открываем глаза и видим, как, опираясь на небезызвестный капот нашей машины, женщина-полицейский выписывает нам штрафной билет, так как парковка была бесплатной только до одиннадцати часов. Не долго думая, кузина нежно и абсолютно виртуозно выводит машину из-под попы полицейской так, что та даже не понимает, что произошло и куда же ей надо положить наш ticket. Я с трудом успела на своё интервью, но настроение уже было таким приподнятым, что успех должен был быть гарантированным. После беседы профессор пригласил меня на ланч в столовую университета, там мы беседовали о моих планах и намерениях, и вдруг в середине серьёзного разговора я подняла голову и увидела кузину, носящуюся между рядами с едой и смотрящую на меня лукавыми глазами. Я весьма неприлично и неожиданно засмеялась, он подумал, что мой смех вызван формой макаронины. К сожалению, это повторилось ещё раз, и столь же неприлично, но макароны-то уже кончились.
Часто мы ходили в джаз-клубы, заказывали по чашке чая (в лучшем случае) и сидели там часами, наслаждаясь музыкой, а в заключении кузина общалась с музыкантами. Как-то в Studio City мы забрели в чудесный клуб под названием «The Baked Potato» («Печёная Картошка»). Там всегда выступали прекрасные группы, а название клуба объяснялось тем, что меню состояло из печёной картошки со всевозможными начинками и подливами (ветчина, грибы, сметана, авокадо, селёдка и так далее). Менеджером клуба был редкий добряк Джо с длинными волосами, собранными в хвост. Он заметил, что в клубе время от времени появляются две или три (иногда с нами шла наша подруга) жизнерадостные, с виду культурные, но, вероятно, неплатежеспособные молодые особы, которые пьют чай. Сперва он стал угощать нас печёной картошкой (это было безумно вкусно!), потом настоятельно советовать, когда нам стоит прийти в следующий раз (будет особо хорошая группа). Даже при полнейшем аншлаге у нас всегда были места. Мы не хотели злоупотреблять добротой Джо и подолгу в клубе не появлялись, тогда бедняга начинал беспокоиться. «Я волновался и всё думал, что же случилось с those crazy girls», – говорил он при виде нас, явно испытывая чувство радости и облегчения, что с нами всё в порядке. Он всё время хотел как-то нам помочь, но мы гордо отказывались от всего кроме картошки. Однако как-то раз мы всё же не выдержали. Это было в момент, когда мы давно не говорили по телефону с Ереваном. Он спросил, что бы мы больше всего хотели в эту минуту, мы сказали: «Позвонить домой». Он тут же связался с оператором AT&T и дал каждой из нас троих возможность поговорить. Это был настоящий подарок. А потом, когда мы уходили, он положил на наш столик деньги для официанта. «Девочки, вы поняли, что это оставленные нами чаевые?!» – отметила наша подруга.
Кузина моя – пианистка. В Америке она работала в нескольких музыкальных школах (преподавала и руководила), а также давала и продолжает давать частные уроки музыки. Вдобавок к музыкальному аспекту преподавания она обладает даром раскомплексовывать людей и делать так, чтобы мнение человека о себе существенно повысилось. В результате с годами у неё появилось много учеников; как-то в их числе оказалась весьма состоятельная женщина, чья собака получала необыкновенное удовольствие от уроков кузины – начинала издавать блаженные звуки. Тогда хозяйка, не чаявшая души в своём верном друге, решила попросить, чтобы кузина за солидную плату давала собаке уроки пения. Опыт удался на славу: все трое были довольны. Кузина также обладает даром преподавания музыки по телефону. Я сама убедилась в этом, когда недавно моему сыну была нужна помощь в выполнении довольно трудного школьного задания по музыке. Кузина подумывала об открытии своей музыкальной школы, и я настаивала, чтобы там были факультет обучения по телефону, скайпу и электронной почте и, конечно же, факультет для домашних (для начала) животных.
В Калифорнии я впервые в жизни побывала в доме престарелых – мы с кузиной иногда навещали бабушку её мужа. Это место производило грустное, если не сказать, гнетущее впечатление. Ослепительный, блещущий чистотой, комфортабельный, пропитанный и пронизанный самыми новыми изобретениями техники дом, по которому катаются в колясках ухоженные, одетые, причёсанные, наманикюренные старушки (редко попадаются старички), большинство из которых уже мало что помнят и понимают, и доживают свои дни с отрешённым выражением лица и номером на руке. Проживать в этом заведении было удовольствием не из дешёвых – тогда стоило $3000 в месяц (значит, сейчас намного дороже). Бабушке мужа моей кузины было 99 лет, но голова у неё работала отменно, с памятью было всё в порядке, она всем интересовалась и во всём хотела участвовать, а потому ей там было особо тоскливо. У кузины от жалости к ней разрывалось сердце, она хотела привести бабушку домой и ухаживать за ней, но родители мужа считали, что жизнь в этом заведении – в интересах бабушки. Она плохо слышала, но это не останавливало мою кузину, которая при каждом посещении на самую полную громкость активно обсуждала с бабушкой последние новости карабахской, а потом уже и иракской, войны.
Как-то я познакомилась с одним армянином, работающим в правительственном офисе Лос Анджелеса и занимающимся вопросами экологии города. И вот, этот человек пригласил меня на ланч, после которого вызвался показать мне новое кладбище мусора, которым он откровенно гордился. Вспоминая наш домашний мусоропровод, мусорную машину, которая появлялась в нашем дворе пару раз в неделю, запах мёртвых крыс, застрявших между этажами, я пришла в ужас от полученного предложения, но мне было как-то неудобно отказываться, и мы поехали. Кладбище мусора находилось между горами, а вид сверху был необыкновенный. Мы стояли на смотровой площадке, а где-то чуть ниже мирно работали несколько грузовиков, экскаватор и бульдозер. Эколог пытался мне показать, как мусор перемещается из грузовика ещё куда-то, но увидеть это у меня не получалось, несмотря на все старания. Потом мусор куда-то опускают, сразу же работает бульдозер, тут же сажают деревья и проводят газоотводные трубы (как мне объяснили, для гниющего мусора), газ сжигают, а энергию от мусорных похорон передают соответствующим компаниям. Было интересно, жаль, что самого мусора я так и не увидела!
Так как в городе Ангелов, в отличие от Нью-Йорка, я не могла никуда ходить пешком, то, когда кузины не было дома, я занималась поисками работы. Я разослала несусветное количество резюме. Обычно мне приходил стандартный ответ с благодарностью за проявленный интерес, в котором также отмечалось, что моё образование впечатляет, но мой туристический статус не позволяет пригласить меня на интервью. Но иногда мой статус не оказывался преградой, и меня всё же приглашали на интервью, причём в разные города и даже штаты. Так я побывала в Сан Франциско, Сан Хосе, Бостоне, Нью-Йорке, имела доклады в Марина Дел Рэй и Ирвайне.
В Сан Франциско мне было где остановиться. В одном из его пригородов в это время гостили у своей школьной подруги две наши приятельницы из Еревана. На интервью меня приглашали в понедельник, я попросила, чтобы билет взяли на утро субботы, благодаря чему мне довелось провести два прекрасных дня в одной из красивейших частей Америки – Северной Калифорнии. Хозяева дома, удивительно гостеприимные люди, многое нам показали, а подруга наших приятельниц стала и моей близкой подругой. Мы побывали в Стенфорде, Беркли и вдоволь насладились самим Сан Франциско – городом удивительной красоты. Он находится на берегу залива и при этом – весь на холмах, из-за чего его улицы – вертикальные зигзаги, непрерывные крутые подъёмы и спуски. С пиков этих зубчиков открывается необыкновенная панорама: с трёх сторон океан, мосты, маяки…
В понедельник утром за мной заехал, конечно же, very nice guy по имени Бум, один из тех, кто должен был меня интервьюировать. Он привёз меня в компанию, где я провела целый день, общаясь с её работниками, обсуждая, чем они занимаются, как я могу быть им полезна и как быть с моим иммиграционным статусом. Днём меня повезли в ресторан на ланч, а по окончании рабочего дня – в аэропорт. Чудесная поездка, доставившая мне кучу удовольствия, к тому же бесплатная!
Я вернулась в Лос Анджелес, и всё продолжилось своим чередом. Как только звонил телефон, кузина шутила, что вот сейчас я возьму трубку, скажу: «I greatly appreciate your interest» и опять куда-то полечу. За происходящим обычно с неизменным удивлением наблюдал вечно сидевший на диване и пьющий чай кузинин муж – добрый и красивый молодой американец. Он слушал мои разговоры на каком-то кошмарном английском и недоумевал, так как сам никогда в жизни не ездил никуда за «государственный» счёт. Компании оплачивали мой проезд, работники водили меня на обед, встречали в аэропорту и провожали. Улыбчивость и доброжелательность интервьюеров прямо-таки не знала границ. Весь этот несколько сюрреалистический в глазах советского человека процесс доставлял мне несусветную радость.
В школе я изучала немецкий, знание моего английского было ограниченным – сводилось к минимальному бытовому и профессиональному лексикону, причём с профессиональным было легче, так как за годы обучения в аспирантуре я начиталась западных журналов по специальности, да и профессия такая, что на помощь в качестве языка общения всегда может прийти язык программирования. В первое время, отправляясь на интервью, я сильно комплексовала по поводу его непрофессиональной части, но довольно скоро поняла, что зря, так как проходила она обычно примерно так:
– Hi, so nice to meet you. Thank you for coming.
– Hi, so nice to meet YOU! Thank you for having me.
– Great! Fine!
– Wonderful! Beautiful!
– Terrifc, miraculous!
– Simply unbelievable!!
И так, по нарастающей продолжалось до момента запихивания меня либо в лифт, либо в самолёт. Такая цепь восторженных эпитетов могла создать впечатление, что встреча со мной – это просто подарок для моего интервьюера, и он не понимает, как жил до этого судьбоносного момента своей жизни. Однако обычно этим всё заканчивалось, так как что-то во мне их не устраивало. Узнать, что именно, я не могла, так как больше никогда не общалась с этими людьми.
С момента прощания с папой в московском аэропорту меня не покидало интересное ощущение нереальности, ощущение того, что я оторвалась от себя, и всё это происходит не со мной, а с кем-то другим, а я только наблюдаю со стороны. Наблюдаю, как кто-то летит на очередное интервью, с кем-то встречается, что-то обсуждает на английском языке и вообще: кто-то в Америке (в разных городах и штатах! на разных побережьях! и без гроша в кармане!). И такое впечатление, что меня нет вообще или, вернее, моё обычное «я» смотрит на всё со стороны, глубоко тоскует по своим родным и трезво интересуется, что же, наконец, произойдет с той, за кем оно наблюдает. Да, настоящее «я» только тоскует и пишет письма, остальное – сон.
Всё же для работы туристический статус был большим препятствием. Уже кончался март, подходил к концу срок моей визы, а у меня пока не было никаких реальных предложений. Я подумывала, если ничего не получится, к концу срока уехать домой, так как переходить на нелегальный статус мне не хотелось. В это время в Америке было много людей, приехавших из Советского Союза по туристической визе и оставшихся. Многие из них рекомендовали мне либо попросить политическое убежище, либо выйти замуж. Политическое убежище тогда давали почти всем. Но я не могла даже подумать об этих вариантах. Как я могу просить политическое убежище, когда я провела счастливейшее детство дома и чудеснейшие годы в МГУ, которые, вдобавок, снабдили меня прекрасным бесплатным образованием? Как я могу выйти замуж не по любви? Я чётко решила (как и грозилась в посольстве), что останусь только, если законно найду работу и работодатель поменяет мой статус.
Хорошо, когда есть план! Но время поджимало, и я начинала нервничать, так как возвращаться мне не хотелось. Папа тоже нервничал, но верил, что всё образуется. В то время не было электронной почты, не было интернета, не было скайпа, не было надёжной почтовой связи; телефонная связь была дорогой и труднодоступной. Я писала домой подробнейшие письма, описывающие чуть ли не каждый мой шаг, писала как дневник, пока не найду едущего в Ереван человека, который согласится отвезти письмо. Благо, в Лос Анджелесе такие попадались часто.
Дома, в Ереване, папа жил этими письмами; он знал их наизусть, нумеровал, работал над ними, опять перечитывал, писал комментарии на полях. Как-то моя тётя (папина двоюродная сестра) написала мне, что когда бы они ни зашли к нам домой, папа сидит в кресле в центре комнаты, со всех сторон обложенный моими письмами, и так и ждёт с нетерпением (или, как любили шутить у нас дома после ляпсуса одного из футбольных комментаторов, с нестерпеньем), пока его кто-нибудь попросит почитать последние новости. А мне, словно в унисон моим настроениям, папа писал: «В общем, живём в сплошных переживаниях, рассуждениях и построениях гипотез о тебе. Балик джан («балик» по-армянски значит деточка), я боюсь на твоей почве сойти с ума. Состояние меняется синусоидально – то мне кажется, что всё будет в порядке, никаких сомнений не может быть, то, наоборот, начинаю представлять, что ты в настолько тяжёлом положении, что у тебя ничего не получается, ты решаешься на обратный путь, и меня бросает в отчаяние и вечную тьму. И эти состояния сменяют друг друга с завидной периодичностью и без передышки. Мама тоже страдает и время от времени беспокоится, что ты можешь не выдержать, но я её успокаиваю. Большое для нас облегчение, что мы по тебе не скучаем (в одном из своих писем домой я просила не писать мне ничего душещипательного, так как сама очень тосковала; папа чётко выполнял мою просьбу), да и тту («тту» – по-армянски «кислое», маринад – мамино соление, которое я очень любила и которое она засолила непосредственно до моего отъезда) в этом году неудачный – сладкий, противный (маринад, как всегда, был отменный, просто очередное выполнение моей просьбы)».
Первая неделя апреля оказалaсь переломной: три с половиной месяца неустанного поиска дали свои плоды. За одну неделю я получила четыре предложения: первое в Лос Анджелесе – из маленькой компании, занимающейся базами данных, второе в Ирвайне – из UCI (University of California, Irvine), где мне предлагали научную (postdoctoral) позицию, третье в Нью-Йорке – из начинающей компании, наиболее близкой по профилю к моей узкой специальности и четвёртое в Бостоне – из компании, занимающейся оценкой и моделированием производительности компьютерных систем с использованием искусственного интеллекта. Я оказалась перед трудным выбором: с одной стороны хотелось в Нью-Йорк, с другой стороны – научная университетская позиция гораздо больше привлекала меня и соответствовала моему нутру, с третьей же стороны – бостонская компания была гораздо более многообещающей с точки зрения разрешения моих иммиграционных проблем и профессионального роста. Пришлось изрядно поразмыслить, и сделать это мне помогли мои новые знакомые. Вместе мы решили, что самым правильным для меня будет согласиться на Бостон.
Осуществилось невероятное: компания взялась поменять мою туристическую визу на рабочую и взять меня на работу в момент, когда многие, давно проживающие в Америке люди, теряли работу! Ликовала я, ликовал папа, ликовали все мои знакомые. Не заставил себя ждать и брат. Он при первой же возможности прислал письмо, в котором предлагал учредить премию под названием: «Вся планета – мой дом!» и наградить меня ею.
Я ещё раз полетела в Бостон, подписала контракт и должна была приступить к работе, как только получу визу. Предполагалось, что это должно занять порядка восьми недель. Это были прекрасные дни, когда я просто наслаждалась жизнью, не пытаясь никому ничего доказать и не имея никаких задач, подлежащих срочному разрешению.
За это время я наткнулась на некоторые отличительные детали сугубо американской действительности. В частности, обнаружила, что в Америке можно найти соответствующий прибор или устройство абсолютно для всего. Приспособить что-то для употребления с целью, отличной от узко определённого предназначения, как это было принято у нас – такое просто не рассматривается. Для любого действия должно быть изобретено какое-нибудь весьма специализированное устройство. Можно себе представить удивление советского человека при виде двух маленьких штырей, созданных специально для держания кукурузы с двух сторон. А как насчёт ложки для кушания только грейпфрута, или устройства для отделения косточки именно авокадо, или прибора, помогающего кушать исключительно киви? Это выглядело полнейшим развратом. Ведь получи советский человек кукурузу, он, без сомнения, сразу нашёл бы, чем её держать. А грeйпфрут, авокадо и киви сами по себе были бы моментально без всяких причиндалов и без всякой жалости съедены.
Все перечисленные выше приспособления принадлежат к пищевой сфере, но не обделены и другие области жизни, причём дело не ограничивается только материальным миром, а с такой же полной покрываемостью распространяется на мир интеллектуальный и эмоциональный.
В магазинах можно найти молотки для забивания больших гвоздей, средних гвоздей, маленьких гвоздей; открытку, поздравляющую каждого конкретного человека с каждым конкретным событием от имени каждого конкретного человека и так далее, и тому подобное.
А раз есть прибор для всего, то почему бы не быть и подробному пособию для всего? Причём темы пособий распространяются далеко за пределы приборов и устройств. В книжном магазине легко можно найти руководства к действию типа: «Как искать работу», «Как не бояться», «Как растить детей», «Как отучить детей (от одного до пяти лет) от подгузников и научить садиться на горшок», «Как выходить замуж или жениться», «Как любить», «Как не любить», «Как не скучать». И всё это – с подробнейшим, шаг за шагом, алгоритмом, что, как и когда делать. Казалось, что можно найти пособие по корректировке каждой малюсенькой эмоции. Особенно много пособий я видела про любовь. Чувство это не из лёгких, того гляди причинит боль, потому всё должно быть идеально нормированным: так, чтобы вдруг не слишком много, но при этом достаточно, а без пособия ведь контролировать трудновато!
Удивляло меня, сколь многие (даже из числа моих знакомых) пользуются услугами психолога или психиатра. Я не понимала, почему люди обращаются в такие заведения во многих случаях лишь для того, чтобы рассказать, что происходит в их жизни; почему многие глотают таблетки, чтобы лучше концентрироваться или чувствовать себя счастливее. Не понимала до поры до времени, до тех пор, пока на собственной шкуре не пришлось испытать, как человек может до этого дойти, или, вернее, как его могут до этого довести. Теперь знаю, больше не удивляюсь, но тогда, едва приехав из Советского Союза, где к таким специалистам обращались исключительно очень серьёзно больные люди, я ничего не понимала и не знала, в чём же смысл такой популярности этой сферы. Оставалось довольствоваться классическим анекдотом: «Встречаются двое: "Как дела?" – "Да вот, всё ничего, только под себя делаю". – "А ты пойди к психоаналитику!" – "Спасибо за хороший совет, обязательно пойду!" Встречаются те же через полгода: "Ну как, пошёл к психоаналитику?" – "Пошёл". – "Ну и что?" – "Всё здорово". – "Значит, уже не делаешь под себя?" – "Да нет, делаю, но теперь я горжусь этим!"». Вообще я заметила, что зачастую многие американцы гордятся или почти гордятся тем, чего в других частях света люди обычно стесняются, видимо, это массовое и заразительное достижение активной работы психоаналитиков.
Вспоминается, как после взрывов на финише бостонского марафона средства массовой информации были полны сообщениями о Чечне и чеченцах. Спустя несколько дней после этого трагического события моя подруга сидела в приёмной врача, долго и упорно (как и полагается) дожидаясь своей очереди. Там же были две женщины, которые довольно громко и эмоционально обсуждали происшедшее и через каждую пару слов говорили, что чехи – редкие сволочи. В какой-то момент подруга не выдержала и по возможности деликатно, извиняясь и оправдываясь, решила сообщить участницам разговора, что Чехия и Чечня – не одно и то же. «How do YOU know?» – последовал вопрос, сопровождаемый надменным взглядом.
Кстати, о книгах и чтении. Помню, как нас с кузиной забавлял тот факт, что её муж постоянно читал толстенную жёлтую телефонную книгу (Yellow pages). «Как же можно читать телефонную книгу?» – сокрушались мы. Правда, иногда он прерывал это занятие, вставал с дивана и совершал поступательное движение в направлении своего письменного стола. На наши удивлённые взоры и вопросы он отвечал: «I am going to organize my desk». Сокрушаясь и удивляясь, я даже не догадывалась, что именно буду читать сама в недалёком будущем. Как-то мне подарили книгу со списком ресторанов и их разносторонней оценкой (еда, декор, обслуживание, время ожидания и так далее). Такого типа книжек я до этого момента никогда не видела и стала с огромным любопытством изучать свой подарочек, каждый раз обнаруживая в нём что-то интересное, при этом ходить по ресторанам я не могла – не было ни денег, ни времени. Когда ко мне приехали родители, они тоже с любопытством заглянули в сборник. На протяжении какого-то времени папа не без удивления терпеливо наблюдал, что же с таким интересом читает его дочь, но в какой-то момент не выдержал и поинтересовался: «Это единственная книга, которую ты читаешь?» Ответ предполагался: «ДА!», но выговорить его я не смогла, так как было слишком смешно.
Другая интересная особенность: в Америке можно всё, что угодно, сперва купить, затем основательно употребить – поносить, поесть, попить, а уже после решить, что тебе это не нравится. Тогда товар, вернее, то, что от него осталось, несут обратно в магазин – сдавать. При этом, как правило, имеют дело с одновременно счастливо улыбающейся и виновато извиняющейся продавщицей, которая радостно принимает твой огрызок, окурок, остаток или ещё что-то в этом роде и говорит тебе, как для неё важно, чтобы покупатель был доволен. Как-то я покупала орехи, и обслуживавшая меня особо лучезарная продавщица стала мне объяснять, что я могу съесть сколько хочу орехов, но, если хоть один мне не понравится, то могу чуть ли не через месяц принести пустой пакет и получить назад мои деньги. Мне это показалось некоторым чересчуром, и я поинтересовалась у неё, а не злоупотребляют ли люди такими возможностями.
– Если и злоупотребляют, то только немногие, а в основном наши покупатели заботятся о нас и дают нам знать, как мы можем улучшить наш бизнес, и мы за это им благодарны, – объяснила ситуацию бесконечно позитивная, приветливая и заразительно весёлая продавщица с явной надеждой, что через полгода я обязательно верну ей хотя бы пустой пакет.
Несмотря на все доводы моего скептически настроенного ко всему американскому брата, возможность сдать купленный товар действует на меня весьма раскрепощающе, когда мне надо что-нибудь купить. Брат, который не зануда (по крайней мере, он так считает), никогда не упускает случая прочитать зажигательную лекцию на свежую тему: о том, что описанная ситуация является результатом того, что главный принцип общества, основанного на потреблении, производить всего гораздо больше, чем нужно; любым способом навязывать покупателю искусственную потребность, вызывать в нём максимальную заинтересованность и жадность и играть на дешёвых распродажах, которые ни о чём другом не свидетельствуют, кроме как о непомерно вздутых прежде ценах. Даже если это так, всё равно это намного лучше, чем «не так». А «не так» – это как случилось со мной пару лет назад в Ереване, когда я в труднопереносимую сорокоградусную жару пыталась купить вентилятор. Я побывала в нескольких хозяйственных магазинах, но ни в одном вентиляторов не было. И вот, наконец, где-то на окраине города мне повстречался один-единственный.
– Извините, пожалуйста, если я куплю этот вентилятор, но дома окажется, что он нехорошо охлаждает, могу я его вернуть? – решила я уточнить у продавца, так как находилась в обществе, видимо, по мнению моего брата, основанном на исключительно морально-интеллектуальных принципах, так что законы купли-продажи могли здесь отличаться.
– Что за чушь ты несёшь??????? С таким отрицательным подходом, как у тебя, ни один прибор не будет работать!!!! – заорал на меня продавец.
– Причём подход? Это – вентилятор, не психологический же объект??? – попыталась я неуверенно возразить.
– Вот, смотри, работает, и нечего такой негативизм разводить, а не хочешь – уходи, вентиляторов больше нигде нет, иди, умри от жары, – бушевал возмущённый продавец, который по шкале моего брата, вероятно, считался приветливым моралистом и галантным интеллектуалом.
Пришлось купить, но в корне неверный подход свою роль сыграл: вентилятор, явно обиженный недоверием, действительно охлаждал, только если человек находился от него на расстоянии нескольких сантиметров. По сей день стоит он в качестве объекта без назначения. Продавца же я вспоминаю часто – каждый раз, когда несу сдавать товар обратно в магазин.
Размышляя о различиях бизнес-моделей в двух странах, я невольно вспоминаю статью из журнала «Экономист», попавшуюся мне несколько лет тому назад. В ней автор довольно-таки метко сравнивал, как происходят деловые сделки в Америке и в России. Если в Америке два бизнесмена, встретившихся с целью заключения делового договора, расходятся оба довольные, то это означает, что сделка удалась. В России же либо оба довольны не бывают, либо, если вдруг такое случилось, то оба недоумевают, что же пошло неверным путём в процессе переговоров и почему противоположная сторона тоже довольна.
Меня удивляла послушность американцев, благодаря которой во многих случаях общество функционирует гораздо эффективнее: никто не лезет куда не надо, никто не нарушает законов, по крайней мере, на первый взгляд. Если при входе в самолёт приглашают людей с билетами с двадцатого по двадцать пятый ряд, то тут же выстраивается очередь, состоящая из людей только с такими билетами и располагающихся на почтенном расстоянии друг от друга (а помните, как мы попадали в самолёт?). Если на концерте, в театре или в кино, имеются свободные места в передних рядах, то людям, сидящим в задних рядах, откуда всё видно намного хуже, и даже тем, кто сидит за какой-нибудь колонной и почти ничего не видит, почему-то даже в голову не приходит пересесть на пустое место. Самое ужасное нарушение правил общественного поведения, которое здесь может совершить школьник или студент, – это либо списать что-то у кого-то, либо дать списать другому. Называется это явление страшным словом CHEATING и карается самыми строгими наказаниями. Помните, как во время любого экзамена или любой контрольной весь класс делился на тех, кто списывал и тех, кто давал списать, при этом все были довольны? Как-то мой приятель, врач-американец, жаловался мне, что нет пациентов хуже советских. Такое утверждение меня несколько удивило, я подумала, что у нас организм как-то не так устроен или органы в запущенном состоянии. Оказалось, такая точка зрения сформировалась у моего приятеля на основе богатого опыта: «Если советскому пациенту прописываешь две таблетки лекарства в день, то можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что он будет принимать либо одну, либо три». Да, творческий подход к лечению здесь явно не котируется!
Среди прочего американского забавно было обнаружить, как интересно здесь в школах преподаётся математика. С самого детства, с начальной школы, ученикам прямым или косвенным образом внушается, что математика – это некий Монстр, которого надо бояться, а если вдруг кто не боится – он странный (weird). Для того, чтобы заботливо и гуманно минимизировать самими же учителями внушаемый детям страх, существует целая методика преподавания, которая прибегает ко всевозможным отвлекающим и развлекающим инструментам, наглядным пособиям, дидактическим материалам и трюкам, как то: конфетки, сложносокращённые слова, пословицы, поговорки и многое другое.
Существенным методическим инструментом тут являются конфетки M&M’s. С их помощью можно доходчиво объяснить и графы, и алгебраические уравнения. Они превращают процесс обучения в очередное развлечение, с ними гораздо легче и вкуснее возиться, чем с пресловутыми х-ом и у-ом.
Как-то меня попросили помочь ученикам средней школы с домашним заданием. И вот, пришли ко мне семиклассники школы с весьма котирующейся репутацией и сообщили, что у них трудности с умножением и делением положительных и отрицательных чисел. Я облегчённо вздохнула, понадеявшись, что справлюсь, и начала объяснять, что когда знаки у множителей одинаковые – результат положительный, а когда знаки разные – результат отрицательный. Однако уже на пятом слове я почувствовала, что наткнулась на полное непонимание. Мне даже показалось, что я что-то не то сказала, так как ученики смотрели на меня так, будто я несу последнюю чушь. Я поинтересовалась у них, как же им это объяснили на уроке математики. И вот, что я услышала:
– Если первое число положительное, то это хорошие вещи, если отрицательное – это плохие вещи; если второе число положительное, то это хорошие люди, если отрицательное – это плохие люди. И вот общее правило: если хорошие вещи случаются с хорошими людьми – это хорошо (положительный результат), если плохие вещи случаются с хорошими людьми – это плохо (отрицательный результат), если хорошие вещи случаются с плохими людьми – это плохо (отрицательный результат), если плохие вещи случаются с плохими людьми – это хорошо (положительный результат), – аккуратно выложила мне старательная ученица, губки бантиком, юбочка – короче невозможно.
– Что? – взвыла я, еле не свалившись со стула.
Девочка искренне недоумевала: если я пришла, чтобы ей помочь, неужели я не знакома с этим простым и понятным, прямо-таки очевидным жизненным правилом? Она растерянно молчала, не зная, что добавить. Ей на помощь пришла находившаяся в комнате завуч.
– Да, это их так учат, чтобы было легко запомнить, – объяснила она.
– Хорошо, забудем математику, а как с моралью относительно последних двух случаев? – поинтересовалась я.
– Ну, это немножко провокативно, есть по этому поводу разногласия, – в один голос сказали ученица и завуч.
– Ладно, а как ты посчитаешь 3 раза (-5)? – поинтересовалась я.
– А, ну 3 раза (-5) – это легко. 3 – положительное, значит хорошие вещи, (-5) – отрицательное, значит плохие люди. Когда хорошие вещи случаются с плохими людьми, это плохо. Значит результат отрицательный. Осталось умножить 3 на 5 будет 15. Значит ответ – (-15), – объяснила мне девочка.
Действительно: безупречно, чётко, понятно, коротко, а главное – близко к жизни. Очередной пример того, как важно вооружиться понятным и однозначным алгоритмом, описывающим, как делать что-то шаг за шагом.
Дело было в среду, до выходных я не могла прийти в себя от полученного урока математики вкупе с этикой. В воскресенье мы были в гостях у друзей, чьи дети учились в престижных частных школах. В полной уверенности, что уж им-то материал преподносится в несколько менее бытовом виде, и к тому же, рассчитывая на оглушительный успех юмористической истории, я рассказала всем, что была в школе и узнала, как там умножают и делят отрицательные и положительные числа. Я опрометчиво заявила, что ни один из них никогда в жизни не узнает, какой для этого существует способ. Каково же было моё изумление, когда сын наших друзей не задумываясь выпалил:
– Друг моего друга – мой друг. Друг моего врага – мой враг. Враг моего друга – мой враг. Враг моего врага – мой друг.
Ничего не скажешь! Тоже блестящий вариант морально-математической заповеди.
Недавно я смотрела по телевизору теннис. В перерыве брали интервью у какого-то спортсмена. Он пытался объяснить, при каком поведении спортсмен – good guy, а при каком – bad guy. Мама проходила мимо и краем уха услышала эту часть разговора.
– Наверно, урок математики, – прокомментировала она.
А чего стоит волшебное слово PEMDAS!!! Так ученики запоминают порядок арифметических действий: Скобки (Parentheses), Степени (Exponent), Умножение (Multiplication), Деление (Division), Сложение (Addition), Вычитание (Subtraction). Так что, если кто испытывает трудности при выполнении арифметических действий, может не волноваться и, главное, не перенапрягать аппарат мышления. Достаточно просто запомнить вполне естественное слово ССУДСВ, обогатить им великий могучий русский язык и без труда ориентироваться, что и в каком порядке надо вычислять.
У меня было много поводов убедиться в том, что доведённый до стандартной методики подход к преподаванию математики скорее является спасительной соломинкой для многих учителей, которые сами побаиваются непонятного Монстра. Тому свидетельство – многочисленные развлекательные рассказы некой моей подруги-математика, по совершенно случайному совпадению окончившей аспирантуру МГУ в тот же год, что и я. Так вот, дети моей подруги учились в весьма приличных (по сравнению с другими) школах. Тем не менее, хорошо же тем, у кого дома есть математик, а как же быть остальным…
Эпизод 1: Первый класс, тема – сложение и вычитание.
Школа, в которой учились дети моей подруги, была до зубов оснащена последним словом техники. И вот, когда в каждом классе была установлена Умная Доска (Smart Board) – доска, на которой даже писать не надо: надо просто тыкать и переставлять пальцем буквы и цифры, – администрация школы, непомерно гордившаяся приобретённым новшеством, пригласила всех родителей на открытый урок для демонстрации богатства и мощи школы. Подруга моя идти не хотела, но ради ребёнка пошла. Класс был битком набит родителями, доска светилась, как прожектор, и слепила всех, кто на неё смотрел.
– Сегодня – 104-ый день школы. Придумайте, как складывая и вычитая числа, можно получить 104, – обратилась к детям взволнованная и ожидающая полнейшего триумфа учительница.
А потом она предупредила родителей, что надо быть готовыми к сложным вариантам.
Один за другим дети предлагали: 104+0, 105-1, 50+54 и так далее, но тут поднял руку один мальчик, и учительница радостно (предвкушая УРОВЕНЬ) вызвала его.
– 4000-1500, – сказал мальчик.
– Хорошо, дальше? – записывая первую операцию, спросила учительница.
– Минус 200, – продолжал мальчик.
– А дальше? – прозвучало с нарастающей гордостью, отражённой в интонации.
– Минус 6.
– А дальше?
– Плюс 100, – завершил мальчик.
– Хорошо, следующий? – сказала учительница и быстро перешла к очередному варианту 100 + 4.
Все родители слушали с гордостью, не отвлекаясь. Подруга заволновалась, но никто на это не обратил внимания. Она решила подойти к учительнице после уроков, дабы не смущать её.
– Извините, а на Умной Доске предполагается писать умные вещи или нужно довольствоваться тем, что Доска умна?
– Почему? Я что-то не то написала?
– В предпоследнем варианте ответ был далёк от правильного.
– Ой, ну я не могу так быстро считать, – чистосердечно сказала милая учительница.
– Ну тогда может лучше ограничиваться однозначными или хотя бы двузначными числами? – предложила подруга.
– Да, вы правы, – с готовностью согласилась учительница.
Эпизод 2: Второй класс, тема: деньги.
Во время очередного открытого урока учительница сформулировала задачу: как с наименьшим количеством монет набрать определённую сумму? Дети стали делать это творчески и по-разному, но учительница решила навязать им какой-то непонятный метод, типа перебора, где можно было начинать с любой монеты.
После урока подруга подошла к учительнице.
– Всё же этот метод довольно неоднозначный, – по возможности тактично сказала она.
– Неоднозначный?! Конечно!!! Мы же говорим о математике! Ведь вся математика – это неоднозначность! О чём ещё математика может быть??? – с необыкновенным пафосом выступила учительница в защиту единственной точной науки.
Подруга растерялась и ушла.
Эпизод 3: Четвёртый класс, тема: многоугольники.
Ребёнок принёс домой контрольную, в которой на вопрос, является ли квадрат ромбом, он ответил, что квадрат – это ромб с прямыми углами. Ответ был зачтён как неверный, и потому подруга, забирая ребёнка, на ступеньках школы поинтересовалась, что же неверно.
– Я не знаю, не уверена, мне надо проверить,– ответила учительница с подкупающей искренностью. – Если хочешь, я прибавлю незасчитанные баллы, – с готовностью добавила она.
– Речь не о баллах, речь о квадрате, который ромб.
– Я проверю, – повторила очаровательная и любимая как ребёнком, так и мамой учительница.
Эпизод 4: Пятый класс, тема: сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
– Дети, смотрите: если мы складываем (-5) и 8 – это то же самое, что 8-5, то есть ответ 3. Если же хотим посчитать -5 -8 (взмах и круговое движение руками) – тут непонятно, chemical reaction – и ответ (-13) (видимо, в результате химической реакции). Как следствие такого объяснения – всеобщий восторг и ликование детей: хохот, радость. Если кто и не понял, это вполне нормально. Ведь вовлечены необъяснимые силы, и понять это просто невозможно, так что лучше уж просто посмеяться.
Эпизод 5: Шестой класс, тема: вертикальные углы.
Ребёнок приносит домой неправильное (неполное) определение вертикальных углов (вертикальные углы – это несмежные конгруэнтные углы). Мама пытается объяснить учительнице, нарисовав целый пучок несмежных конгруэнтных, но НЕ вертикальных углов, что лучше исправить определение, так как у детей могут быть проблемы.
– Я удивлена, что у вашего ребёнка, сильного в математике, проблемы с пониманием вертикальных углов.
– Речь не о моём ребёнке, я ему объяснила. Речь о неправильном определении и о тех детях, которым дома некому помочь.
– В моём классе ВСЕ могут нарисовать вертикальные углы!!! – гордо выпятив грудь в защиту класса, отчеканила учительница.
– Но это же математика, не рисование?!
Так и разошлись.
Это только некоторые эпизоды из истории взаимоотношений моей подруги с американским преподаванием математики, если написать всё, получится целая книга. Во всех приведённых примерах можно заметить что-то общее, объединяющее всех учительниц. Удивительная непосредственность, открытость, способность без какой-либо застенчивости признать отсутствие элементарных знаний, которые, конечно же, по их мнению, совсем не элементарны. Всё сводится к простой формуле: «Перед нами Монстр, и мы делаем всё возможное, чтобы его сразить!»
Интересно, что при таком сугубо бытовом подходе к образованию и обучению (в частности, математике) в школах, Америка полна сильнейшими университетами, где люди получают блестящее образование.
Что ещё меня впечатлило в Америке – это дороги, особенно в Калифорнии. Эти переплетения магистралей на трёх-четырёх уровнях, на каждом из которых может быть по пять рядов в обоих направлениях.
А аэропорты! Каждый размером с целый город. Порхая в поисках работы с одного побережья на другое, я не переставала наслаждаться процессом: приезжаешь в аэропорт за 15 минут до отправления самолёта; на эскалаторах и бегущих дорожках преодолеваешь огромные расстояния; машешь билетом перед глазами человека, стоящего у входа в самолёт; никто не смотрит ни на тебя, ни на твоё имя, ни на твоё удостоверение личности; садишься в своё кресло; гудит мотор; взлетаешь, и после приземления на другом конце всё так же просто. К сожалению, после 11-ого сентября эта часть американской действительности изменилась в корне, процедура посадки стала долгой, трудной, неприятной, порой унизительной.
В конце мая 1991 года я получила рабочую визу и третьего июня (в день рождения папы) вышла на работу. Первый день запомнился мне тем, что не успела я сесть за свой стол с компьютером, как ко мне военным шагом подошла женщина из отдела кадров, на высоких каблуках и в широкоплечем пиджаке, и спросила, кому я хочу завещать свои деньги (которые у меня пока имелись лишь в отрицательных числах – плохие вещи!) в случае моей смерти. Я подпрыгнула от удивления: дело в том, что смерть не значилась в моих ближайших планах в тот весьма жизнеутверждающий и многообещающий момент моей жизни. В Армении такое можно представить разве что в анекдоте. Там царит другая крайность, когда зачастую от неизлечимо больных на протяжении многих лет и уже умирающих людей до последней минуты скрывают, что с ними происходит. Однако американскому оптимизму ничто помешать не способно, так что пришлось задуматься и об этом, раз уж так принято.
Моя компания располагалась недалеко от Бостона, в городке, куда было нелегко добраться на городском транспорте, хотя всё же возможно – на редко ходившей пригородной электричке. Так как мне предстояло работать много и задерживаться на работе допоздна, я не хотела связывать себя расписанием поездов и поселилась в трёхстах метрах от компании. Получилось так, что до ближайшего супермаркета надо было идти пешком минут сорок, а до работы – всего одну. Особо трудно было возвращаться из супермаркета с тяжёлыми покупками, но, благо, так продолжалось недолго. Скоро я обнаружила, что прямо рядом с моим домом постоянно стоит пустой автобус. Я долгое время не догадывалась, что это городской рейсовый автобус, так как ни разу не видела в нём ни одной живой души (кроме водителя). А тут оказалось, что он едет куда-то раз в два часа и останавливается у супермаркета. Правда, подловить его на обратном пути было труднее, так как супермаркет, в отличие от моего дома, был не на конечной остановке. Но я наловчилась подгадывать время и была по этому поводу счастлива без предела, несмотря на то, что в супермаркете надо было проторчать полтора часа. Должна сказать, что это было не слишком весёлым времяпровождением, так как на Родине в это время из-за войны и блокады был практически голод, люди с ночи занимали очередь в надежде добыть чего-нибудь съестного (в каждом письме из дома был оптимистический рассказ о том, как кому-то из родственников или друзей на работе раздавали сметану или ещё что-то, так что и нам досталась баночка; как кто-то поехал в далёкую деревню и привёз оттуда мешок картошки и так далее), а в моём супермаркете только для кошек и собак было несколько рядов с самыми разнообразными лакомствами. Так что, когда погода позволяла, я предпочитала ждать на остановке. Каждый раз, погружаясь в автобус, я заново удивлялась: неужели этот маршрут существует только для того, чтобы обслуживать меня??? Вроде так. Позже, когда у меня гостили родители, мы время от времени ездили за покупками втроём, и тогда автобус казался явно переполненным.
Каждое путешествие в супермаркет было связано с воспоминаниями о том, как проходили наши транспортные будни на Родине: сперва – бесконечное ожидание, потом – плотно зажатое пребывание в битком набитом транспорте («как сельди в бочке»), которое, конечно же, не обходилось без приключений, порой грустных, порой смешных.
Как-то папа ехал на работу в несусветной давке, вися на подножке автобуса. И вдруг, сразу после очередного крутого поворота, на весь автобус стали раздаваться истошные вопли: «Мизинец! Мизинец! Мой мизинец!!!» Женщина кричала так, что было не до шуток. Оказывается, она находилась рядом с автоматом, выдающим билеты, а из него торчала острая железка. При повороте на женщину навалился весь коллектив автобуса и у неё ОТОРВАЛСЯ мизинец!!! Причём даже поискать его не было возможности, так как в автобусе иголке негде было упасть, куда там мизинцу. Но армяне – народ сердобольный и услужливый – всё же постарались, нашли и даже дали возможность женщине выйти из автобуса и вынести оттуда завёрнутый в платочек мизинец.
Другая «транспортная» история, очень любимая нами в детстве, вполне адекватно передаёт атмосферу старого Еревана с его неторопливым темпом и живописными персонажами. К тому же в ней участвует наш дедушка. В качестве предисловия сообщу, что дедушка был человек, что называется, коренной – родился и вырос в горной деревне, воевал, попадал в плен, бежал, снова попадал, снова бежал, после войны создавал коллекцию плодовых культур, занимался селекцией новых сортов винограда и так далее. При этом он отличался на редкость уравновешенным, флегматическим складом, обладал недюжинной физической силой и внешностью патриарха. Так вот, едет как-то раз наш дедушка в городском транспорте. Ну, советский человек, конечно, привык к тесному контакту с ближними, но бдительность терять не следует – мало ли что может случиться. И в этот раз дедушка почувствовал, что кто-то лезет ему в задний карман брюк. В те блаженные времена деньги носили в кошельках, а кошельки женщины помещали в сумочки, а мужчины – в карманы. И, разумеется, в Ереване, как, впрочем, в каждом уважающем себя городе, орудовали карманники – виртуозные мастера освобождать граждан от всего лишнего. В транспорте они бритвами надрезали женские сумки, а у мужчин осторожно вытягивали кошельки прямо из карманов. Дело это требовало невероятной точности, мужества, основательной психологической подготовки. Но в этот раз кому-то не повезло: дедушка почувствовал неладное и быстрым, точным движением, не оборачиваясь назад, схватил вора за руку. Обычно в таких случаях граждане поднимали крик, вызывали милицию, и несчастного карманника уводили – сидеть ему теперь немалый срок. Так, конечно же, подумал и этот бедняга, душа которого немедленно ушла в пятки. Но он не знал нашего дедушки. Тот никакого крика не поднял. «Гм, – сказал себе удивлённый карманник, – неужели отпустит?» Но и это предположение не оправдалось. Время шло, дедушка милицию не звал, а руку не отпускал, держал железной хваткой. Народу в салоне становилось всё меньше, абсурдность и комизм ситуации проявлялись всё больше. Наконец, на одной из остановок дедушка решил сойти. И что вы думаете? Он преспокойно двинулся к двери, таща за собой бедного карманника, не обернувшись ни на секунду и не обращая никакого внимания на удивлённые реплики публики. Дальше – больше. Дедушка долго ходил по проспекту Ленина (самый центр!), не пропустил ни одного магазина, и всё это – под хохот многочисленных зевак, с прилипшим к заднему карману бледным от ужаса вором. Дойдя до своего подъезда, дедушка завершил воспитательную акцию: сказал своему подопечному пару слов и отпустил его. Не знаю, осталось ли у того желание продолжить воровскую карьеру, но, думаю, что если был хоть какой-то шанс его с этой дороги своротить, то дедушка этим шансом воспользовался.
Вообще, всевозможным транспортным историям особое очарование придаёт наличие многочисленной и весьма подкованной публики. В Ереване эта публика к тому же отличается сочным армянским юмором и стремлением не пропустить чего-нибудь интересного. И вот, одна знакомая моего брата, учительница в той же школе, как-то пришла на работу, вся сияя после замечательной поездки на «маршрутке». Итак, она ехала в своей маршрутке, а перед ней, на втором сиденье, ехал Мужчина, осторожно держа на коленях открытую пачку яиц – помните так называемую «ячейку»? На одной из центральных остановок в маршрутку села Девица с виолончелью. Оглядев пространство, она решила разместиться на первом сиденье – прямо за водителем и перед Мужчиной. При этом она расположила свой инструмент рядом с собой, заняв ещё одно место. Водитель, и без того недовольный жизнью, посмотрел на это с явным неодобрением и ворчливым тоном заявил, что Девице придётся платить за двоих. Та, в свою очередь, не осталась в долгу: не менее сварливым тоном ответила, что лишнего платить не собирается. Водитель на это решительно возразил, что должна, и, демонстрируя широкую образованность, напомнил, что в самолётах для музыкальных инструментов, между прочим, берут специальный билет. Девица не без оснований отметила, что это не самолёт, а какая-то жалкая допотопная колымага. И так далее, и тому подобное на всё более повышенных тонах и с немалым увлечением. Публика, естественно, слушала всё это с огромным интересом, разрываясь между соображениями собственного удобства (Водитель всё-таки прав! А она – молодая, а уже такая хамка!) и классовой солидарностью (Всё-таки, права Девица. А он – редкий хам, как и все водители!). На одной из остановок, когда противостояние уже вышло на новый акустический и художественный уровень, Мужчина, сидевший прямо за Девицей, как-то незаметно вышел, а на его место сел тихий Интеллигент в очках, скорее всего, какой-нибудь преподаватель университета. Однако ни сами участники поединка, ни увлечённые дискуссией зрители не обратили на этот существенный факт никакого внимания. «Будешь платить, я тебе говорю! Возомнила тут о себе!» – надрывался Водитель. «Не дождёшься! Кто ты такой, чтобы мне указывать?» – не уступала Девица. Интеллигент – человек новый, наивный, к тому же ситуацию заставший в уже весьма зрелой стадии, явно не оценил всю прелесть роли зрителя. Движимый классовым стремлением всё наладить, всем объяснить и всех воспитать, он со своего места обратился к Девице с увещеваниями примерно такого содержания: «Ну что вы из-за такой мелочи поднимаете шум? Ну заплатите ему эти 100 драм (примерно 25 центов) и всё тут, разве не стыдно из-за этого торговаться…» На что Девица, не оборачиваясь, отвечает: «Да? А вот интересно, вы что, тоже собираетесь за свои яйца платить?» После некоторой паузы Интеллигент, несколько ошарашенный таким вопросом, видимо, прикинув и всё-таки осознав свой гражданский долг быть примером для подражания, говорит: «Вы знаете, когда мои яйца вырастут и станут такими же большими, как ваша виолончель, я тоже буду за них платить». Удивлённая таким ответом Девица под громовой хохот публики оборачивается и обнаруживает, что Мужчины с ячейкой яиц давно уже нет, а на его месте – совсем другой человек.
Когда мой брат рассказал эту поучительную историю одной своей знакомой, та, вволю нахохотавшись, вернула ему долг, поделившись другой, не менее поучительной историей, свидетельницей которой стала её дочь (в Ереване всё ещё действует старая добрая традиция массового пересказывания и всеобщего перемалывания всяких замечательных ситуаций).
Итак, в очередной маршрутке на том самом, будто специально созданном для обогащения фольклора, сидении за спиной водителя ехала молоденькая Мамаша со своим малолетним Сынулей. Сынуля, как водится, всю дорогу непрерывно нудил, требуя купить какую-то Вещь (скорее всего – игрушку). Нудил качественно, находя всё новые интонации и метафоры. Мамаша, со своей стороны, не уступала, изощряясь в искусстве аргументации. Научная дискуссия, однако же, проходила на характерных для южного темперамента децибелах, вовлекая таким образом в обсуждение семейного бюджета весь личный состав маршрутки. При этом Мамаша всё более напряжённо повторяла страшным громоподобным шёпотом: «Ты меня уже перед всеми опозорил! Теперь все будут говорить, что у нас не хватает денег!» Святая простота! Если бы она знала, что будут говорить! Пассажирам, надо сказать, вынужденное участие в занудстве изрядно поднадоело, но тут произошло нечто, круто изменившее вялое течение процесса и щедро вознаградившее всех за долготерпение. На очередном вираже децибелов Сынуля, сообразив, что в области аргументации есть более сильные средства, нежели нытьё, решил приступить к шантажу и на всю маршрутку заявил: «Если ты не купишь
мне этого Незнаючего, я расскажу бабушке, как ты этой ночью целовала папин… (сами понимаете что)». Публика буквально рухнула, водитель каким-то чудом не потерял управления, а несчастная Мамаша, пунцовая как рак, пулей вылетела из маршрутки, волоча за собой не ожидавшего такого быстрого эффекта и несколько ошарашенного Сынулю. Какие только замечательные идеи не были высказаны в этот поистине эпический момент ослабевшими от смеха пассажирами! И тут дверь маршрутки снова открылась, и в салон величаво вступила… Новая Мамаша с Другим Сынулей! И, разумеется, они сели на то самое место! Народ рыдал. Некоторые едва не лежали, корчась в приступах хохота. А Новая Мамаша растерянно озиралась по сторонам, искренне желая понять причину веселья. Тут маршрутка подъехала к следующей остановке, на которой продавались воздушные шарики. «Мам, мам, купишь мне шарик?» – спросил Другой Сынуля. И вдруг вся маршрутка взорвалась оглушительным хохотом. Пока изумлённая Новенькая пыталась понять, что же такого смешного сказал её сын, и собиралась с мыслями для ответа, Водитель (святой человек!) обернулся и сквозь слёзы простонал: «Сестричка, мой тебе совет – лучше сразу соглашайся!»
В моём же персональном автобусе отвлечься было не на что, так что приходилось думать о собственных буднях, то есть о работе и с чем её едят (что купить в супермаркете).
Работать было нелегко, но интересно. На протяжении шести месяцев тринадцать программистов день и ночь сидели, уткнувшись в свои экраны, и писали сотни тысяч строчек кода. В декабре мы должны были сдавать наш гигантский проект заказчику – фирме IBM. И вот за десять дней до срока сдачи наши начальники заявили нам, что мы должны всё нами написанное интегрировать в единое целое. У меня это вызвало саркастическую ухмылку. Представить, что это вообще возможно сделать, а тем более за десять дней, я просто не могла. И каково было моё изумление: после сбора тринадцати огромых кусков кода эта махина сразу заработала! Здесь уже надо было отдать должное работе менеджмента: знали, что делают, знали, как организовать труд подопечных.
Правда, успех дался нам нелёгкой ценой: работали мы эти шесть месяцев по шестнадцать часов в день без праздников и без выходных. Часто бывало, что приходила я домой в два часа утра, а в шесть шла назад на работу. Вдобавок, в моём случае ситуация усугублялась семейными обстоятельствами.
ГЛАВА 3
ПАПИН УХОД
В конце апреля 1991-го года тяжело заболел папа (мне об этом не говорили), его долго и упорно лечили от воспаления тройничного нерва, но лучше ему не становилось. Пришлось поехать с мамой в Москву.
И вот, 21-го июля по дороге на работу мне передали два письма: от мамы и от папы. Мама в своём письме сообщала, что у папы обнаружили редчайшую форму рака в решётчатом лабиринте носа и что он умоляет меня не возвращаться. Текст же папиного письма привожу полностью.
«Анок джан!
Что-то у меня получается не то, за что прошу тебя и Арку простить меня.
Если что-то произойдёт, учти, что 55 лет политического заключения – срок почтенный. Прошу соответственно отнестись к факту с уважением, с чувством облегчения (за меня) и непременно на расстоянии (последнее, как последнее желание).
И всё же, Балик джан, я хочу надеяться, что мы ещё пройдемся по Manhattаn-у с тобой, Эвкой и Аркой и в надежде на Счастье обнимаю и целую тебя много.
Твой папа»
А прочитала я эти письма на работе… Я плакала дни и ночи напролёт, сидя перед компьютером и понимая, что если не буду производить то, что с меня требуется, очень быстро останусь и без статуса, и без работы. В мыслях всё время было наше нелепое прощание с папой в московском аэропорту. Я содрогалась от мысли, что может больше никогда его не увижу. Но судьба улыбнулась нам.
После того, как папу диагностировали, мой троюродный брат, находившийся на государственной работе, отправился в Москву, в командировку. Он вошёл в английское посольство, отыскал номер телефона папиного старого знакомого, учёного, доктора-радиобиолога сэра Оливера Скотта, а затем, уже из Еревана, позвонил ему и рассказал о папином состоянии. Папа познакомился с доктором Скоттом в семидесятых годах, когда тот приезжал в Ереван на международный конгресс по радиобиологии. Папа безупречно владел английским и в дни конгресса переводил для Доктора Скотта. Они провели вместе два-три дня и после этого регулярно обменивались поздравительными новогодними открытками; о большем общении речи быть не могло, так как папа работал в «почтовом ящике» – закрытом институте физики.
Сэр Оливер отозвался на звонок моего кузена моментально. Он в тот же вечер позвонил папе, долго беседовал с ним и под конец сказал, что перезвонит через пару дней. За это время он нашёл врача в Лондоне, который согласился лечить папу. Сэр Оливер взял на себя все расходы по лечению, а также по перевозке и проживанию мамы и папы в Лондоне. Основной трудностью было получение визы для выезда из СССР и въезда в Англию. Сэр Оливер сумел добиться и этого.
Впоследствии его супруга, леди Фиби, рассказывала мне, что сэр Оливер на протяжении нескольких дней не отходил от телефона, а он сам описывал мне, каким чудом ему всего за восемь дней удалось вывезти из Советского Союза в Англию на лечение и папу и, конечно же, сопровождавшую его маму.
Папа, который всю свою жизнь отличался необыкновенной щепетильностью и никогда не допускал даже мысли, что может доставить кому-либо малейшее беспокойство, согласился принять такой дар. И сделал это только потому, что поездка в Лондон давала ему какую-то надежду увидеться со мной.
17-го августа 1991-го года мама с папой вылетели из Москвы в Лондон. Их провожал мой брат, у которого в этот самый день в Ереване родился старший сын. О том, как брат, обуреваемый одновременно печалью и радостью, добирался до Еревана, я уже писала. А в Ереване, на пути из аэропорта в город, он услышал, как по радио объявили о том, что власть временно переходит к ГКЧП – это был путч, попытка возрождения СССР, в результате лишь ускорившая его развал.
На работе ко мне отнеслись с пониманием, и вскоре я полетела в Лондон. Теперь в аэропорту Хитроу меня встречала мама, которая накануне моего приезда досконально изучила, как туда добираться и где меня ждать.
Вид папы привёл меня в ужас. Опухоль в переносице давила на нервы и дробила кости лица. Вдобавок, на лице были ожоги от радиации.
Вечером в больницу пришли леди Фиби и сэр Оливер. Познакомились, пообщались; предполагалось, что я буду жить у какой-то их знакомой недалеко от больницы. Уходя, они предложили взять меня с собой к себе домой. Я стала благодарить и возражать, объясняя, что хочу быть ближе к больнице, но тут встрепенулся, невероятно оживился и вмешался папа. Он опять стал подавать идеи. Он настаивал, чтобы я пошла с ними, пообщалась с необыкновенными людьми, пожила бы на Kensington Square, да и вообще велел приходить в больницу поздно, основательно погуляв по центру Лондона. Он не хотел, чтобы я просидела в больнице, проплакав десять дней, и улетела; он мечтал, чтобы я насладилась Лондоном и этими людьми, с которыми меня свела его болезнь. Даже сейчас, чётко осознавая, что, может быть, часы нашего общения сочтены, он опять меня куда-то выпроводил и был откровенно счастлив по этому поводу. А знакомство с леди Фиби и сэром Оливером принципиально изменило мою жизнь. Океан любви и заботы, в котором я родилась и выросла, стал ещё глубже, ещё обильнее, ещё надёжнее, ещё прекраснее.
Десять дней пролетели молниеносно, настало время расставаться: с мамой, с папой, с Фиби и с Оливером. На сей раз папе и мне времени прощаться было дано в избытке, но как больно было это делать, думая, что, возможно, это в последний раз. Я вернулась в Бостон. Услышав мой рассказ о Фиби и Оливере, очень заботливо и тепло относившаяся ко мне папина подруга поинтересовалась: «Ано джан, ты их трогала, они – люди?»
После двух месяцев курс папиного лечения в Лондоне завершился, состояние несколько стабилизировалось, и он мог оттуда уехать. Оливер настаивал, чтобы папа ехал ко мне: в Бостоне у него были знакомые врачи, которые могли бы контролировать ситуацию и при необходимости помочь. Мы собрали все бумаги, и мама с папой пошли в американское посольство в Лондоне, где им повстречался, видимо, то ли двойник, то ли духовный коллега работника консульства в Ленинграде. В прошении говорилось, что папа очень серьёзно и неизлечимо болен и хочет погостить у дочери. Вид папиного лица не вызывал ни малейшего сомнения в правдивости сказанного. Тем не менее, работник консульства заявил, что ему не очевидно, что папа умирает, и быстро хлопнул два отказа в два паспорта. Мы расстроились.
Тогда моя троюродная сестра, проживающая в Провидансе, написала письмо сенатору своего штата с просьбой о помощи. Я, конечно, ни секунды не сомневалась в бесполезности сделанного ею: какое дело до нас сенатору штата, к которому не имеем никакого отношения ни я, ни мои родители, тем более, что ни один из нас не является гражданином Америки или хотя бы постоянно проживающим?! И каково было моё изумление, когда буквально через два-три дня троюродная сестра получила ответ, в котором сообщалось, что офис сенатора послал запрос в посольство в Лондоне о выдаче виз моим родителям. И ещё через пару дней их любезно встретили в том же посольстве и выдали визы с добрыми напутственными словами. Спасибо, сестричка! Спасибо, сенатор!
Не вдаваясь в детали папиной болезни, скажу только, что мама с папой провели два месяца в Бостоне, потом опухоль стала расти в другом месте; они вернулись в Лондон, где папа получил новый курс лечения; потом снова Бостон; потом Ереван; потом туда отправилась я; снова Бостон, после чего родители в марте 1995 года в последний раз уехали в Ереван. Так мы жили на два континента, так мы расставались, встречались и прощались всякий раз навсегда.
Всё это время папа мучился и страдал. Ужасные боли, тяжёлое лечение химией, ожоги от радиации. Он продолжал лечиться, совершенно не желая того, лечился ради нас. Как папа болел в течение почти пяти лет и как он умирал, трудно себе представить и ещё труднее описать.
Папа никогда и ни с кем не говорил о своей болезни, никогда не жаловался, не искал сочувствия и сострадания. О болезни у меня с ним было только два коротких разговора. Однажды он неожиданно сказал: «Какой я дурак, как я мог вас всех так подвести?» А во второй раз как-то в особенно тяжёлый момент поделился со мной своими мыслями: «Знаешь, если обязательно нужно было, чтобы кто-то так плохо заболел, то какое счастье, что это я, какое счастье…» Говорил он это чуть ли не с энтузиазмом.
Когда ему стало уже совсем плохо, он оперативно собрался ехать в Ереван. Я пыталась его отговорить, мотивируя тем, что в Бостоне лучше врачи и доступнее лекарства.
– Как ты не понимаешь, что умирать надо дома? И когда я умру, пожалуйста, не вздумай плакать и грустить, радуйся. Радуйся, зная, что я избавился от страданий. А вдруг, если не успею добраться до Еревана, то уж извини меня и, пожалуйста, кремируйте меня, я видел в окне Дома Похорон, что это – самый дешёвый способ, – совершенно спокойно утешал меня папа.
В последние месяцы перед окончательным отъездом в Ереван, когда силы уже сдавали на глазах, он работал над двумя проектами: для меня и для моего брата.
Он наговорил две кассеты стихов брата. Надо было видеть, с каким старанием, какой проникновенностью, как неустанно и усердно работал он над этим. По скольку раз стирал и перезаписывал, доводил каждое слово, каждый слог, каждый звук до необходимой кондиции. Он дал мне эти кассеты, оставив в конце одной из них маленькое личное сообщение для меня, и сказал: «Пусть это будет у тебя на случай, если когда-нибудь захочешь услышать мой голос или Аркины стихи».
А вторым его проектом была работа над логической задачей для меня. С детства папа научил меня решать логические задачи – мы с ним это обожали. Когда ему удавалось достать очередной новый сборник логических задач (почему-то обычно венгерский), мы с ним тут же начинали самозабвенно распихивать каких-то Милоша, Тадеуша и Матиуша по красной, жёлтой и зелёной палаткам, да ещё и с их собакой, котом и попугаем. К сожалению, сборник всегда оказывался решён молниеносно; мы щёлкали задачи независимо друг от друга и только иногда обменивались находками или особо красивыми логическими цепями.
Должна сказать, что наряду с многочисленными незаурядными учителями, которых мне посчастливилось иметь, в моей весьма успешной программистской карьере первостепенна и незаменима роль папы с его играми и логическими задачами. Ведь в играх и логических задачах – вся соль программирования, а с папой я прошла её на самом высоченном уровне, не упустив ни одного варианта, да ещё с его таким заразительным энтузиазмом.
И вот, в эти ужасные последние месяцы папа придумывал для меня задачу. И придумал. Это интереснейшая задача, решение которой требует некоторой эрудиции. Сперва мне не хватало знаний, чтобы её решить. Папа составил для меня шпаргалку с ироническим названием «Комментарии для высокоэрудированных», позволяющую разобраться, что к чему. Потом возникли сложности логического характера. Я много раз начинала её решать, но каждый раз, доходя до одного и того же места, останавливалась – дальше не шло. Так и не смогла решить, но не сдаюсь, собираюсь с силами, когда-нибудь обязательно снова попробую. Папа хотел оставить мне решение (на случай, если не справлюсь) с объяснением трудного оборота, на котором я каждый раз спотыкалась. Однако он уже почти не видел и сам писать не мог. Он продиктовал решение шаг за шагом, а мама записала. Папа просил меня с помощью программы убедиться в его однозначности, но я этого не сделала, почему-то не хотелось. Специально для любителей логики я поместила задачу в приложении.
В январе 1995 года в Бостон приехал мой брат. Идея его приезда была в том, чтобы мы какое-то время побыли вместе, а потом он помог бы маме и папе с перелётом домой. Сначала всё было здорово, мы наслаждались возможности общаться друг с другом. После более чем четырёхгодичного перерыва всё было как раньше: мы издевались, шутили и по старой памяти играли в бридж.
К сожалению, так продолжалось недолго. Через две недели после приезда брата мама упала на улице и сломала правое плечо. Мама, которая вычеркнула из своей жизни все эти годы, целиком и полностью отдала их только заботе о папе, которая ни разу не сорвалась, ни разу не проявила нетерпения, раздражения, досады, сожаления, которая ни разу не выразила ни одного СВОЕГО желания или предпочтения, которая стояла как стена для всех – стена добрая, стена надёжная, стена любви и заботы – вдруг сама оказалась в беспомощном положении. А вскоре мы должны были расстаться.
17-го марта 1995-го года в Бостоне в аэропорту Логан мне разрешили сопроводить маму, папу и брата до самого входа в самолёт. Я никогда не забуду последний кадр: мама со сломанным плечом, еле стоящий на ногах папа и возвышающийся над ними брат. Как сказал мне папа позже, в этот раз у него не было ни малейшей надежды на то, что мы ещё увидимся. Самолёт улетел, я вернулась в пустую квартиру и на следующее утро пошла на работу.
В сентябре я прилетела в Ереван на десять дней. Папины дни уже были сочтены, он лишился зрения, стал хуже слышать, говорил с трудом, весил порядка сорока килограммов. Мы общались немного, в основном просто находились рядом друг с другом.
Папа мог умереть в любую минуту, но он дождался, пока прошли десять дней моего отпуска. Начиная с Шереметьева, мы в седьмой раз попрощались с ним навсегда. Я долетела до Америки, папа поговорил со мной по телефону в последний раз, убедился, что всё в порядке и с этого дня отказался от еды. В это время ожидалось прибавление в семье моего брата. Утром 28-го сентября папа узнал о рождении своего второго внука и через несколько часов умер.
Ушёл из жизни мощный интеллект, могучий дух, большой учёный, человек, погружённый в музыку и насквозь пропитанный ею, эстет, знаток искусства и спорта, жизнелюб, остроумнейший и скромнейший человек, а самое главное – редчайший Папа.
Ушёл…, но оставил за собой светлую, добрую, тёплую, ежесекундно излучающую любовь и заботу оболочку, обволакивающую меня со всех сторон и, конечно же, постоянно подающую идеи, теперь уже не только мне, но и моим детям, которым, к сожалению, не довелось узнать своего дедушку.
С тех пор прошло почти двадцать лет, но сказать, что боль утраты притупилась нельзя. Наоборот. У Высоцкого есть такие строки:
Но не хочу я знать, что время лечит,
Оно не лечит – оно калечит,
И всё проходит вместе с ним.
В июле следующего года (1996) в Лондоне (Iverna Gardens, Kensington) в присутствии моего брата меня крестили в армянской церкви Святого Саркиса. Я удостоилась чести быть крёстной дочерью Оливера и Фиби.
В 1997-ом году, найдя новую работу, я переехала из Бостона в Нью-Йорк.
В 1998-ом году я вышла замуж за Метью, который после одиннадцати лет весьма формального знакомства случайно лишился своего равнодушия ко мне.
ГЛАВА 4
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ЗУБОВ
Приехала я в Америку в безупречном состоянии здоровья. Даже зубы у меня были по советским меркам в полном порядке: всего лишь несколько пломб, и только одна требовала удаления нерва.
В Америке люди бдительно следят за своими зубами, даже до их появления. Большинство американцев в год два раза ходит на проверку: профессионалы чистят им зубы, пломбируют, отбеливают, точат, выпрямляют, отодвигают, придвигают, наращивают и так далее. Имеется огромное количество самых разнообразных специалистов, каждый из которых отвечает за одну или две из перечисленных процедур. Я знаю много американцев, у которых даже в возрасте пятидесяти с лишним лет нет ни одной пломбы, и, если не считать регулярной полугодовой проверки, им никогда не приходилось ходить к дантисту с какой-нибудь проблемой.
Работая, имея страховку и не имея ни особых развлечений в жизни, ни свободного времени, я решила, что можно сходить на проверку к стоматологу. Я не испытывала особых угрызений совести по поводу отсутствия с работы, так как причина медицинская, следовательно, по американским меркам уважительная. Но всё же, отлучаться с работы можно было только вечерами. По счастью, доктор иногда принимал во вторую смену.
Должна сказать, с дантистом мне крупно повезло. Кеннет Гудман оказался прекрасным врачом и ещё более замечательным человеком. Выяснилось, что мне нужно запломбировать и перепломбировать этак зубов пятнадцать. Работал он безупречно: чётко, аккуратно, ни за что не хотел допустить даже минимальной боли. Я сидела в кресле в огромном напряжении, поскольку каждый раз, стоило мне сделать малейшее движение глазами, он останавливался, сдирал маску, интересовался, было ли очень больно, узнав, что не было больно вообще, просил не терпеть, если будет больно, а сразу же дать ему знать.
Моей ситуацией он проникся до глубины души: одна, без машины (то есть весьма ограниченные возможности передвижения при пригородном образе жизни), шестнадцати-восемнадцати часовой рабочий день, зыбкий иммиграционный статус, переполняющее душу горе в связи с болезнью папы и отсутствием надежды увидеться с ним. Доктор каждый раз назначал мне последний визит, после которого подвозил меня до дому, потом начал приносить овощи со своего огорода, познакомил с женой и детьми, они стали приглашать меня (а позже – и маму с папой) на обед, в общем, опекали как могли. Каждый раз на следующий день после похода к дантисту у меня было приподнятое настроение. На работе этого феномена никто не понимал: ну можно ли ТАК любить походы к зубному врачу?
Как-то раз на очередном приёме (после того, как доктор Гудман запломбировал мне уже какое-то количество зубов) я, удобно сидя в стоматологическом кресле, поинтересовалась:
– Do I have many Soviet fillings left?
Вопрос мне казался понятным, простым и без какого-либо подвоха. И каково было моё удивление, когда Кеннет остановился, снял маску и минуты две-три смотрел на меня абсолютно беспомощными, растерянными глазами.
– Do you mean sadness? – подумав ещё пару минут, наконец, выдал он.
Тут была моя очередь уставиться на него в полной растерянности. Неуклюжий разговор продолжался довольно долго: я – про пломбы, а он – про советское чувство грусти. Наконец, примерно через минут пятнадцать его осенило:
– Do you mean fillings? – спросил Доктор Гудман.
– Yes, fillings, – в замешательстве ответила я.
– Три, – засмеялся он.
Я продолжала недоумевать: неужели я что-то не то сказала и почему это заняло столько времени – сначала удивлённо уточнить мой вопрос и, наконец, ответить на него с таким опозданием.
А дело было в следующем: пломба по-английски filling, а чувство – feeling. Для меня в слове «пломба» буква «i» произносится чуть короче, чем «ее» в слове «чувство». Но, оказывается, как бы я ни старалась, правильно произнести на слух американца слово «пломба» я просто не могу.
На следующий день я рассказала об этом случае на работе – все прямо умирали от смеха. Мне-то казалось, что они смеются над тем, что доктор Гудман в такой очевидной ситуации не смог сообразить, что я имею в виду. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что все хохотали от того, как я произношу слово «пломба»!!!
Тема гласных не раз оказывалась весьма развлекательной. Буквально через две-три недели после случившегося, в городке, где я жила и работала, открылся новый гигантский супермаркет (куда я добиралась на персональном автобусе) под, на первый взгляд простым, но, как оказалось, непроизносимым названием «Shаw’s». И вот, через несколько дней после открытия я поинтересовалась у сослуживца, сидевшего рядом со мной, весь день слушавшего мою английскую речь и громче всех смеявшегося по поводу конфуза с пломбой и чувством, успел ли он побывать в «Shаw’s»-е.
– Где? – то же растерянное и беспомощное выражение лица.
– В «Shaw’s»-е.
– Где?
– В «Shaw’s»-е.
И так раз пятнадцать, пока я, потеряв всякую надежду, решила ему сообщить, что в нашем городе открыли новый супермаркет.
– Ах «Shaw’s»! – невозмутимо повторил он совершенно то же самое.
И опять громкий хохот. И полное недоумение – с моей стороны: «Неужели так трудно ДОГАДАТЬСЯ?!!». Ну пусть я произношу что-то несусветное, но можно же догадаться, в конце концов.
Для меня в английском языке произношение гласных – самая большая трудность, из-за которой я много раз попадала в нелепые ситуации. Говорю о конфетах, а люди думают: «Причём тут кроссовки?» (Snickers – Sneakers). Говорю о мужчине по имени John, окружающие недоумевают: «О какой-такой женщине Joan идёт речь?» Говорю о том, что надо спать, а в ответ слышу недоумение: «Для чего это нужно поскользнуться?» (sleep – slip). Дело дошло до того, что я начисто выбросила из своего лексикона слова «пляж» (beach – bitch(сука)) и «лист бумаги» (sheet – shit(какашка)), чтобы не попасть в идиотское положение. По счастью, Метью утешил, что даже при большом желании это мне не грозит.
Несколько успокоительным было то, что не я одна страдала этой проблемой. Так, высокоценимая учениками русскоговорящая учительница математики детей моей калифорнийской подруги каждый день, раздавая листки с заданием по математике, говорила: «Here is your math worksheet!», произнося последнее слово чуть короче, чем нужно, и при этом не догадываясь, почему каждый раз все ученики смущённо хихикают. (Получается: «Вот ваши рабочие какашки по математике!»)
Со временем я смирилась с тем, что зачастую произношу некоторые слова так, что они даже отдалённо не напоминают то, что я имею в виду, люди слышат что-то из совершенно другой оперы, и нечего винить слушателя, который лезет из кожи вон, чтобы разобраться (конечно, не придавая никакого значения контексту). Но оказалось, не всё так безнадёжно! Как только мой младший сын начал разговаривать, истина восторжествовала: теперь в подобных ситуациях он моментально комментирует: «Мама, ты хочешь сказать не "лес", а "лис", не "лис" а "лыс", не "лыс" а "волосат"». Значит, можно всё же без труда разобраться в контексте и сообразить о чём речь!!!
Вернёмся к зубам. Доктор Гудман наконец закончил ремонт моего рта, разобравшись со всеми советскими пломбами и чувствами, и радость походов к нему сократилась до двух в год.
Но вот, у меня как-то раз разболелся зуб, я пошла на приём и тут оказалось, что у меня что-то более серьёзное: воспалён нерв и нужен особый специалист. Доктор Гудман порекомендовал мне кого-то, но этот кто-то не покрывался моей страховкой, и я решила на свой страх и риск пойти к доктору, до которого можно было бы добраться на городском транспорте и труды которого были бы оплачены моей страховкой. Руководствовалась я тем, что зуб – не такая уж важная птица, и, в конце концов, что с ним можно сделать не так?! Надо сказать, Кеннет был откровенно недоволен моим выбором.
В это время у меня гостила мама, и мы с ней вместе отправились к некому доктору Тигрику. Представьте, на городском транспорте – вот вершина и гордость моего рационализма!!! Но со страховкой получилась накладка: не успела я зайти в приёмную, а у меня уже потребовали $950. Потом меня посадили в кресло – вокруг было грязно и неопрятно, доктор Тигрик орудовал грубо и небрежно, было непривычно больно.
Мы ушли в недоумении, но, по крайней мере, удовлетворились тем, что всё уже позади. Чувство глубокого удовлетворения длилось недолго – вечером у меня припухла щека и зуб стал ныть. Я позвонила в офис доктора Тигрика, но мне там сказали, что он сможет меня принять не раньше, чем через неделю. Через неделю мы снова отправились к нему (снова на публичном транспорте, но уже без прежнего оптимизма). Тигрик сделал гигантский компьютерный снимок больного зуба и сказал, что может придётся делать операцию и проникать к зубу через десну. Потом он снял пломбу и оставил зуб открытым на пару дней, чтобы тот отдохнул и прочистился. Мама уже собиралась менять свой обратный билет на случай, если мне будут делать операцию. Несколько дней чем только я не полоскала рот, мне казалось, что воспаление уменьшилось, и, наконец, Тигрик снова запломбировал зуб. Опухлость сошла, но не до конца, не для понимающего глаза. Всё вроде обошлось, но доктор Гудман не скрывал своего возмущения как доктором Тигриком, так и мной.
Дело это было в марте 1997-го года. Мама уехала, и всё продолжилось своим чередом – вроде пронесло! Я поняла, что зуб – дело серьёзное, и с ним, оказывается, может случиться много интересного, но насколько интересным это может быть, мне стало ясно гораздо позже, уже в августе 2000 года, уже в Нью-Йорке, уже когда я была замужем и моему старшему сыну исполнился год.
Как-то на работе сидела я за своим компьютером и вдруг почувствовала, что у меня болит зуб. Боль усиливалась с каждой минутой, я даже не могла понять, который у меня болит зуб, болела вся челюсть, потом начала опухать щека. Я позвонила своему нью-йоркскому зубному врачу, который – увы! – ничем не напоминал доктора Гудмана. Походив к нему, я, наконец, поняла, почему люди не любят ходить к зубным врачам. Он согласился меня принять.
К тому моменту, как я добралась до его офиса, лицо у меня основательно опухло. Доктор посмотрел, сказал, что судя по всему это нерв и, по всей видимости, четвёртый зуб, надо сделать снимок. Сделав рентген, он искренне удивился, так как оказалось, что нерва в зубе нет, и сказал, что сам помочь не может, но направит к специалисту (видимо по зубам, побывавшим в руках у доктора Тигрика). Он позвонил Специалисту, секретарша сказала, что тот сегодня занят и ничего не может сделать, но посмотрит, чтобы понять в чём дело и когда надо прийти.
Я сразу же отправилась в его офис. Надо отдать должное Специалисту, он меня принял, несмотря на свой плотный график, сделал особый (такой же как Тигрик несколько лет тому назад) снимок, уставился на огромное изображение моего зуба на экране компьютера и сказал, что, когда мне его пломбировали, поломали инструмент, осколок остался под зубом, образовал вокруг себя капсулу; в ней шёл гнойный процесс, разрушал мою кость и сейчас надо делать операцию: содрать десну, влезть в кость, почистить повреждённое место, залатать дырку искусственной костью и потом снова пришить десну.
Моему изумлению не было предела. Оказывается, чего только не бывает с ЗУБОМ!!! Вот теперь я поняла: когда доктор Тигрик уставился на экран и сказал, что, может, нужна операция, он прекрасно видел, что оставил в моём зубе осколок инструмента, просто решил тактично промолчать. Ну что теперь уже думать об этом? Надо было разбираться с последствиями. Специалист велел мне пить две недели антибиотики и назначил операцию на конец августа (а дело было в начале).
И без того малоприятная ситуация стала развиваться по ещё более неприятному сценарию. На следующее утро я проснулась с невыносимой болью и головой, напоминающей баскетбольный мяч. Пришлось звонить Специалисту, тот велел прийти немедленно, поскольку инфекция может проникнуть в мозг. Пошла. Он посмотрел и сказал, что необходимо сделать надрез, и, недолго думая, полоснул ножом по моей десне. Я не представляла, что можно испытывать такую боль. После этого всё пошло по плану: голова сперва стала больше походить на футбольный мяч, потом – на мяч для регби. К концу августа я допила свои антибиотики и отправилась на операцию.
Началось всё с того, что меня усадили в кресло и дали прочитать и подписать документ о моём согласии на операцию. Я с замиранием сердца читала о том, что врач не несёт никакой ответственности в случае возникновения в результате операции таких проблем, как воспаление и повреждение пазух, воспаление мозга из-за попадания в него инфекции, перелом челюсти и много другого. Хочу пояснить, что я практически впервые в жизни была у врача с какой-то серьёзной проблемой и не имела никакого понятия о том, с чем тут можно столкнуться. Также я доверчиво предполагала, что, если тебе дают это всё прочитать и подписать, то, наверно, это всё бывает!!! В конце концов, ведь когда Тигрик оставил осколок инструмента в моём зубе, он мне ничего не давал подписать, а тут дают!!! И если инструмент поселился в моём зубе без подписания чего-либо, то уж, наверно, всё перечисленное в документе, подлежащем подписанию, обязательно должно случиться.
С животным страхом в душе и на лице, сердцебиением и чуть не плача я взвешиваю что лучше: возможность распространения инфекции без операции или гарантированное распространение инфекции и перелом челюсти с операцией. Первый вариант кажется более привлекательным. Собрав последние силы, давя слёзы, с трясущейся пока целой челюстью я решаю поделиться своей логикой со Специалистом и в очередной раз натыкаюсь на что-то неожиданное. Думаю, если бы он мне по-доброму посоветовал не беспокоиться, объяснил, что этого никогда не бывает, а дают подписать так, на всякий случай, для страховки и прочее, я бы поняла. Но вместо этого Специалист, привыкший к тому, что люди подписывают, даже не читая, и не имевший ни малейшего понятия о том, что я читаю такой приятный документ впервые в жизни, не мог удержать своего праведного гнева и, злобно сверкая глазками, заявил, что если я сейчас же не подпишу, он вообще меня вышвырнет оттуда и не будет делать мне никакой операции. При этом он мне довольно образно рассказал, чем это чревато. Я смиренно подписала бумагу, теперь уже к животному страху добавились чувства унижения и обиды.
Однако долго о них мне размышлять не пришлось, так как меньше чем через секунду после подписания исторического документа мне перевязали руки, надели на меня что-то, напоминающее смирительную рубашку, которую в детстве мне всё-таки пришлось увидеть в Петропавловской крепости, и вонзили в мою десну некую субстанцию типа адреналина с лидокаином, в результате чего у меня началась такая зверская аритмия, что я вообще не могла перевести дыхание, а перед глазами потемнело. Специалист что-то сделал, чтобы я не потеряла сознание, потом сообщил, что это нормально, это от адреналина, и приступил к делу.
Не буду описывать детали процедуры, которая по ощущению была пренеприятнейшей, но результат оказался великолепным: искусственная кость прижилась, десна зажила и, благодаря чуду, на которое способна медицина, зуб был спасён!!! Но…
ГЛАВА 5
В НАСЛЕДСТВО ОСТАЛАСЬ АРИТМИЯ
Аритмия стала совершенно новым для меня ощущением и новой нормой жизни. Сижу себе спокойно где-нибудь, и вдруг сердце начинает так колотиться, что аж в глазах темнеет (точно как в кресле под адреналином), потом, продолжая бешено стучать, пропускает один-два удара, потом снова колотит по 150 раз в минуту. Сперва было ново и страшновато. Терапевт срочно послал меня к очередному специалисту – электрофизиологу. Тот с готовностью нацепил на меня так называемый Холтер монитор, который должен был записывать мою кардиограмму в опасные моменты. То есть, если я ощущала нарушение ритма, доставляющее мне дискомфорт, я нажимала на кнопку, и кардиограмма начинала записываться, потом, когда ощущение проходило, я снова нажимала на кнопку, и запись останавливалась и пересылалась по телефону в руководящий этим процессом медицинский пункт, а там уже анализировалась. Если бывало что-то опасное, то сообщали моему электрофизиологу, который должен был связаться со мной и сказать, что делать. Двое суток я проходила с монитором и проводами, регистрируя все эпизоды нарушения ритма. В результате мне выдали диагноз: шесть-семь подтипов аритмии, но электрофизиолог оказался нормальным человеком, который посоветовал контролировать ситуацию глубоким спокойным дыханием, снятием стресса, отдыхом и так далее.
Честно говоря, к сердцу своему я всегда относилась максимально несерьёзно, а к аритмии – и вовсе как к забаве. Я точно знала, какое ощущение соответствует какому подтипу аритмии. И каждый раз спокойно определяла, что со мной происходит. Вот сердце колотится так, что в глазах темнеет – это эпизод моей суправентрикулярненькой тахикардийки, а вот – совсем наоборот, сердце подолгу не колотится вообще – значит пошли один за другим эпизоды бигеминии или тригеминии, а вот ещё что-то.
Как-то раз, в апреле 2004 года, когда моему старшему сыну было четыре года, он заболел тяжёлым вирусным гриппом. Дней десять он горел, температура была за сорок и не спускалась. Всё это время я практически не спала и непрерывно переживала. В результате, когда ему уже полегчало, у меня стало сильно колоть и болеть сердце. По этому поводу я сохраняла олимпийское спокойствие, но мама и муж нервничали и настаивали, чтобы я пошла провериться. Несмотря на это, у меня и в мыслях не было куда-либо идти, но как-то вечером, когда что-то уж слишком сильно болели грудь, рука и спина, мама и муж всё-таки настояли на своём, и мы поехали в отделение скорой помощи ближайшей маленькой больницы St. Gregory Hospital.
Меня приняли, продержав в приёмной около двух часов (особо «быстро», так как жалобы были на сердце), сделали кардиограмму и взяли анализ крови – хотели проверить уровень белка тропонин. Рядом со мной, в том же отсеке, лежал другой человек, тоже с болью в сердце. Посмотрев мою кардиограмму, врач сказала, что не думает, что у меня что-то серьёзное, но надо дождаться результата анализа крови. А моему соседу посоветовала на всякий случай остаться на ночь в больнице. Было уже далеко за полночь, меня дома ждал больной ребёнок, к тому же не было ни малейшего сомнения, что со мной всё в порядке, и я стала просить врача отпустить меня домой. Она согласилась, но только под расписку. Сей документ я с удовольствием подписала, и мы, успокоившиеся и довольные, поехали домой.
Сердце всё ещё кололо и болело, но никто больше не волновался.
Мы уже легли спать, и вдруг раздаётся звонок из больницы: мне сообщают, что анализ крови у меня плохой, что у меня «heart event» и мне срочно нужно вернуться в больницу.
– A «heart event» – это инфаркт? – в растерянности спрашиваю я.
– Да, но вроде небольшой, – прозвучал бодрый ответ на другом конце провода.
Понятно, значит не инфаркт, а инфарктик!
Не скрою, прощаться с домашними было невесело, тем более, что после звонка боль увеличивалась и стремительно распространялась.
Мы с Метью приехали в больницу уже под утро, где-то в три с четвертью. Я себе почему-то представляла, что там меня уже будут ждать, сразу, чуть ли не на носилках, доставят в палату и примутся за интенсивное лечение инфарктика. Но я ошибалась.
Мне снова нужно было пройти через приёмную скорой помощи, поскольку три часа тому назад меня уже выписали, а раз так, то это – новый заезд, и, следовательно, все этапы надо проходить сначала. Все наши уговоры и аргументы, включая живописный рассказ о том, как меня только что срочно вызвали по телефону в связи с инфарктиком, никакого влияния на протокол не оказали. Правда, надо отдать должное, в этот раз очередь была короче, и меня впустили в больницу через рекордные сорок минут.
Я случайно обратила внимание на больничную дверь с решёткой, напоминавшей тюремную. Эта дверь открывалась каждый раз, когда кто-то входил или выходил, и сразу же закрывалась. Меня опять уложили в проходе и подключили монитор. Вот, собственно, и всё, больше ничего не происходило. Монитор время от времени зловеще пищал, но никто не обращал на это внимания. И действительно, кому было дело до моего инфарктика?! Ведь вокруг происходило столько интересного: со мной в одном отсеке был маленький ребёнок с высокой температурой, рвотой и непрерывным поносом, через матерчатую перегородку, согревая мой левый бок, кто-то мучился в приступе эпилепсии. Словом, повсюду было много всякой всячины, вызывающей бурное любопытство.
Постепенно я поняла, что кроме меня самой на мой монитор никто смотреть не будет, ну и уставилась на него, пытаясь понять, в какие именно моменты он издаёт зловещий звук. Однако надолго сосредоточиться на мониторе мне не удалось, так как открылась решётка и в больницу под конвоем двух полицейских ввели больного в наручниках, после чего решётка снова многообещающе закрылась.
Около шести утра муж, которому нужно было что-то срочно сделать на работе, ушёл с тем, чтобы скоро вернуться. Между тем, мне становилось всё хуже и хуже.
– Извините, если у меня инфарктик, то почему я здесь лежу и почему со мной ничего не делают? – при любой возможности, цепляя взглядом хоть кого-то из медицинского персонала, спрашивала я.
– Потому что в палатах нет места, – каждый раз получала я один и тот же ответ.
Кто-то был даже так добр, что объяснил: нужно повторить анализ крови через двенадцать часов после первого, то есть в полдень. Видимо, все ждали этого, а засунуть меня было некуда, ну и объяснять незачем – много знать вредно.
Недоумение, досада и возмущение постепенно превращались в гнев. К счастью, в восемь часов поменялась смена. Для медицинского персонала, дежурившего ночью, это было поистине редкой удачей, поскольку к этому моменту чувство праведного гнева достигло своего пика, благодаря чему я стала намного меньше ощущать боль в сердце и была готова на всё. При виде молодого врача с признаками интеллекта на лице я бодро вскочила с койки и высказала ему всё своё негодование. Он, видимо, тоже почувствовал, что не всё тут ладно.
– Подожди, я посмотрю твои бумаги, – сказал он. Это прозвучало многообещающе и гуманно! Через пять минут он пришёл и сообщил, что результат моего анализа перепутали с чьим-то другим, и мой тропонин был нормальный, так что я могу идти домой. Прямо как у Зощенко: «оказалось, это у них умер кто-то другой, а они почему-то подумали на меня». Я до сих пор подозреваю, что мне приписали тропонин моего соседа. Возможно, что его выписали и услали домой с безупречным результатом моего анализа. Но тогда это меня не волновало, главное, что, неожиданно вылечившись от инфаркта, я наконец-то собралась идти домой. Однако вырваться из этой замечательной больницы оказалось совсем нелёгким делом. Какой-то тип – то ли главный врач, то ли администратор, должен был подписать мои бумаги. Это был испаноговорящий мужчина лет пятидесяти, проявлявший поразительную степенность в вопросе моего выписывания. Он заставил меня прождать более двух часов у двери своего кабинета, а сам в это время выходил, заходил обратно, шутил, болтал с медсёстрами, старательно делал вид, что меня не замечает, говорил: «Подожди, подожди, всё хорошо».
Он явно наслаждался тем, что мучил меня, видимо, ему было обидно, что с инфарктиком получилась накладка. Я хотела просто оставить и уйти, но решётка была закрыта и зорко охранялась полицейскими. Короче говоря, только к одиннадцати часам утра я попала домой. Всеобщей радости не было предела. Вечером я испекла бисквитный торт с киви и на следующий день понесла его на работу, чтобы отметить быстрое выздоровление.
Сослуживцы отведали мой тортик с огромным удовольствием, а босс к концу дня вызвал меня к себе в кабинет, закрыл за мной дверь, сел и строго на меня уставился. В Америке так обычно делают, когда кого-то увольняют с работы или, как минимум, чем-то серьёзно недовольны и собираются сообщить о выговоре с занесением в личное дело. Я, честно говоря, даже немного удивилась – он всегда относился ко мне хорошо, в последнее время я закончила солидный проект, принесший компании большую пользу, так что я не ожидала ничего плохого, и поведение его меня несколько озадачило.
– Я не понимаю, как человек с твоим интеллектом мог оказаться в больнице St. Gregory? – помолчав немного, выдал он.
Я попыталась ему объяснить, что мне всего лишь нужно было убедиться, что нет ничего серьёзного, сказала, что не собиралась ни от чего лечиться и что неужели для этого нужно ездить в один из лучших госпиталей мира… Убедить его я не смогла и поняла, что репутация моя как человека с интеллектом сильно пошатнулась и восстановить её будет можно (да и то, разве что частично), только написав много новых километров кода. Так что я взялась за дело с лёгким и здоровым, хотя и аритмичным сердцем.
ГЛАВА 6
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Ещё несколько лет тому назад громогласное употребление таких слов, как яичники, грудь или матка, даже в самом нейтральном контексте вызвало бы во мне некоторое смущение. Всё же, думаю, что при большом старании у меня получилось бы, но, разумеется, только не в применении к себе. В Советском Союзе, тем более – в среде, где я росла, это было не принято. Как тут не вспомнить знаменитую фразу из первого «перестроечного» телемоста между СССР и Америкой. «В Советском Союзе секса нет!» – прозвучало на весь мир.
Прожив в Америке какое-то время, я сделала огромный скачок в приобретении навыков обсуждения различных табу. И сегодня, когда я приезжаю в Ереван и там, всё ещё не без труда, пытаюсь блеснуть своим прогрессом, реакция людей, смущённо улыбающихся и отводящих свой взгляд в сторону, напоминает мне о том гигантском пути, который мне то ли пришлось, то ли удалось преодолеть.
А путь мой начинался так. В Америке я всегда работала в окружении людей в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. В основном это были мужчины. Как и предполагает возрастная категория, все они или были уже женаты, или женились на моих глазах, или собирались жениться, или, на худой конец, просто с кем-то встречались. Соответственно, часто у сослуживцев появлялись дети. Когда в семье должен был родиться ребёнок, будущий счастливый отец, конечно же, много об этом думал и обычно делился со своими сослуживцами обо всех волнующих его событиях, то есть обсуждал с нами каждый момент девятимесячной беременности своей жены. Я в мельчайших деталях знала, с какой скоростью должен расти живот, сколько миллиграммов веса в день кто прибавляет, кого как долго, в какое время суток и конкретно от чего тошнит, как делают амниоцентез, какого размера шприц, какое обезболивание и кучу другого – удивить меня было трудно.
Но в один прекрасный день меня всё же удалось шокировать. Произошло это, когда счастливый отец (за ходом беременности его жены зорко следил весь отдел) примчался на работу через неделю после рождения сына и повёл подробнейший рассказ о том, сколько сантиметров было раскрытие шейки матки у жены на момент первого приезда в больницу, и что схватки были сильные, но раскрытие недостаточное, и посему их послали обратно домой; потом дома из неё что-то вылетело (тут подробнейшее описание того, что именно вылетело, конкретно – откуда, и в тончайших деталях: цвет, размер и фактура); потом они снова поехали в больницу; потом раскрытие было так ничего, всё ещё не достаточное, чтобы рожать, но достаточное, чтобы сделать обезболивающий укол в позвоночник; потом всё уже было легче; потом раскрытие стало нормальным; потом ей сказали: «Push!», а ему поручили считать до десяти, чтобы она в это время делала push, и как он считал до десяти, а она делала push, и как появилась голова с волосами (он, конечно, сказал, где), и как потом было трудно, потом легко, потом что-то разрезали, потом зашили, и какой был в результате прекрасный ребёнок. В этот момент мы все (толпа слушающих мужчин и я) облегчённо вздохнули.
На этом подробности, конечно, не кончились. Жена долго и обильно после этого кровила, сильно болела грудь, ребёнок нехорошо сосал, пришлось прибором сцеживать молоко, но потом ребёнок научился, и всё получалось здорово, но через три недели жена решила, что сон важнее и перестала кормить грудью, и это хорошо, потому что сейчас все спят лучше.
Столь образный рассказ в ролях и весьма интимных деталях в первый раз меня шокировал, но после раза седьмого я привыкла. Дело в том, что у меня была хорошая память, и всё услышанное я запоминала надолго (до сих пор помню!), тем более, если это была единственная информация, известная мне об этих людях. В результате получилось так, что когда это делали люди малознакомые, например из другого отдела, то я начинала идентифицировать и отличать их только по каким-то деталям эпопеи родов их жён. И несколько раз ловила себя на том, что когда мне говорили: «Тебя искал Джон из отдела тестирования», во мне тут же возникало стремление уточнить, кто же именно меня искал: «Интересно, это тот, у жены которого было три сантиметра при первых родах или тот, который говорил о пяти сантиметрах при вторых родах?»
Теперь, кажется, понятно, что ухо моё стало достаточно натренированным и адаптированным к гинекологическому лексикону, но употребление его всё ещё нуждалось в проведении кое-какой дополнительной работы.
К этому моменту за моими плечами был только один эпизод публичного произнесения слова, обозначающего некоторый женский орган. А произошло это вот как. Когда я гостила в Калифорнии у своей троюродной сестры, одна наша подруга долго болела, и как-то раз у неё случился сильный приступ. Мы повезли её в больницу, там ей всю ночь делали анализы и сказали, что у неё какая-то инфекция во влагалище. Влагалище по-английски – vagina. После этого приступа мы довольно долго лечили эту инфекцию, и слово vagina я заучила и запомнила хорошо. В той же Калифорнии меня как-то угостили напитком bloody virgin («кровавая дева»), который мне очень понравился. Слово virgin я тоже запомнила неплохо, но явно хуже, чем vagina. И вот как-то раз, когда я уже была в Бостоне в ожидании, что мой работадатель поменяет тип моей визы и я начну работать, меня пригласил на ланч один немолодой профессор фирмы IBM. Был красивый майский день, кафе и рестораны только-только выставили свои столики на улицу. Мы сидели в одном из таких уличных кафе во дворе гостиницы Charles River, настроение у меня было прекрасное, так как с плеч свалилась гигантская гора, и я от души наслаждалась этим расслабленным после большого напряжения состоянием. Подошёл официант и спросил, что будем пить. Тут я подумала, что могу позволить себе ещё раз попробовать напиток, который напомнит мне о прекрасных днях, проведённых в Калифорнии, и с довольным видом, вызванным как оригинальностью собственного выбора, так и возможностью блеснуть невероятными познаниями, небрежно бросила: «Безалкогольный bloody vagina, please». Я тогда еле-еле говорила по-английски и была безгранично горда своим заказом. Но почему-то вместо ожидаемого одобрения мой немолодой солидный компаньон и молодой растерянный официант моментально побагровели, опустили глаза и беспомощно молчали. Я, конечно же, решила, что они просто не знакомы с этим напитком (по всей видимости, исключительно калифорнийским), и взялась им объяснять, что это – томатный сок с сельдереем, лимоном и так далее. Тут профессор догадался (не зря же профессор, в конце концов!) и объявил, преодолевая неописуемое смущение, что я хочу bloody virgin; официант еле унёс ноги. Теперь была моя очередь краснеть, отводить глаза и подавлять распирающий меня хохот. Скоро официант припорхнул с bloody virgin, главное, безалкогольным. Вкусный был напиток.
Пожалуй, довольно долгое время этот эпизод был единственным в моей жизни, имеющим хоть какое-то отношение к области гинекологии, но и этому однажды настал конец.
Осенью 1997 года, собираясь переезжать из Бостона в Нью-Йорк, я уже ушла с работы, но могла пользоваться своей медицинской страховкой ещё тридцать дней. Так как я знала, что на новом месте в Нью-Йорке мне надо будет много работать, дабы должным образом зарекомендовать себя, я решила основательно подготовиться и проделать все необходимые медицинские процедуры до переезда: пойти на медосмотр, заказать очки, проверить зубы и так далее. На всё это у меня было меньше недели, так как между двумя работами я ещё собиралась съездить в Ереван, а по дороге на несколько дней остановиться в Вене и в Москве. Все билеты были куплены, и я спешила закончить дела, хорошенько поразвлечься и отдохнуть, чтобы в полную силу начать трудиться на новом месте.
Когда я пришла на медосмотр, мой терапевт поинтересовался, нет ли у меня каких-либо жалоб. Я сказала, что особых жалоб нет, иногда побаливает правый бок. Он, недолго думая, дал мне направление на ультразвук и сказал, что это надо сделать обязательно, чтобы понять, что происходит. Ультразвук мне могли сделать только через неделю, из-за чего пришлось выбросить из отпуска столь долгожданную Вену.
Женщина, которая делала ультразвук, что-то долго пыталась поймать на экране и явно была недовольна снимками.
– Что там, что-то не так? – робко поинтересовалась я.
– Что-то я здесь вижу, но что именно, сказать тебе не могу, врач скажет, – прозвучал неожиданный и не слишком приятный ответ.
– Как не можешь, почему не можешь?
– А нам не разрешают.
– А когда врач скажет?
– Когда у него будет время.
Дело было в четверг, в пятницу я звонила врачу, секретарша велела прийти в понедельник до восьми утра – у врача будет время посмотреть отчёт радиолога. Эти выходные мне показались бесконечными. Не знаю, то ли к счастью, то ли к несчастью, но тогда не было интернета и самостоятельно почитать, что же со мной может быть не то, я не могла. Кое-как дожила до понедельника, поскакала к врачу. Говорит: «Киста на правом яичнике. Через месяц-полтора надо повторить ультразвук». Объяснила, что через месяц я уже буду в Нью-Йорке, согласился повторить тест через три недели. Пришлось сократить отпуск с другого, ереванского конца. Прекрасное состояние здоровья, которым я обладала в те годы, счастливо обеспечило мою полную неграмотность в подобных диагнозах. При этом я детально разбиралась в широчайшем диапазоне болезней, которыми в детстве и подростковом возрасте болел мой брат.
Знать поподробнее, что же у меня всё-таки нашли и чем это чревато, мне хотелось, тем более на дорогу. Я позвонила своему, тогда ещё новому другу, врачу Гагику, который в Советском Союзе был гинекологом, а в Америке в это время становился педиатром. Он много работал, и его обычно было трудно поймать. Судьба была на моей стороне, Гагик ответил на первый же звонок.
– Гаг джан, у меня нашли кисту на правом яичнике, – без особых предисловий, позабыв о крупицах щепетильности, сообщила я.
– А что, это тебе ультразвук сделали, так нашли?
– ДА! – в волнении по поводу диагноза и одновременно в нокдауне от такой проницательности Гагика воскликнула я.
– Ано джан, если бы мне сделали ультразвук, то и у меня тоже обязательно нашли бы то же самое.
Это прозвучало настолько убедительно, что я моментально почувствовала, как гора сошла с плеч, открылось дыхание, снова появились планы, желания и ощущение того, что киста испарилась и жизнь продолжается. Слово может вылечить.
Наверно, этот ответ Гагика оказался для меня судьбоносным, а для него – роковым, потому что, начиная с этого момента, при первой же необходимости получить какую-либо медицинскую информацию я звонила Гагику, и убеждена, что в этом одна из причин, что я ещё не окончательно сошла с ума (не исключаю, что мнение субъективное). Гагик – Врач по призванию, Врач – логик, Врач – творец, Врач – психолог, Врач – дипломат, а самое главное, Врач – добрейшей души человек. Если бы все врачи были как Гагик, потребность в медицине резко сократилась бы, так как было бы больше здоровых.
На любой вопрос, в котором есть описание малейшего симптома, с полуслова понимая ситуацию, он всегда выдаёт чёткий ответ, совершенный по структуре и содержанию. После моего первого предложения и, максимум, одного-двух уточняющих детали вопросов, следует объяснение, не оставляющее никаких сомнений: «Это может быть одно из трёх: первое и самое вероятное – это …, лечить надо так; второе, менее вероятное – это …, лечить надо так, а третье наименее вероятное, но всё же возможное – это …, лечить надо так». Какой контраст с тем, к чему мне пришлось вскоре привыкнуть! Ответ врача, который я чаще всего получала во время любого приёма, обычно имел следующую структуру: «Этот симптом может быть признаком многих болезней (обычно в большинстве своём страшных, угрожающих человеческой жизни). Поэтому сделаем тест #1, чтобы исключить диагноз #1, тест #2, чтобы исключить диагноз #2, …, тест # n, чтобы исключить диагноз # n». В некоторой растерянности от обилия и неубедительности предстоящих тестов и полнейшего отсутствия предположений, а что же мои жалобы, всё-таки, могут означать, я иногда пыталась выразить свою неудовлетворённость, на что с необыкновенным постоянством получала один и тот же настоятельный ответ: «Это трудно сказать, вот сделаешь все эти тесты – только потом поговорим!»
ГЛАВА 7
ТРИУМФАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЁХГОДИЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
(вопреки всем стараниям медицины)
Появление на свет моего старшего сына было моим первым гинекологическим приключением. Я обзавелась прекрасным врачом, который никогда не паниковал, ни на что не обращал внимания, со всем соглашался. У меня со своей стороны практически никогда не было никаких жалоб, так что мы были вполне довольны друг другом. Он был членом группы, состоящей из четырёх врачей, где на роды приходил дежурный. В моём случае это мероприятие было довольно тяжёлым, моментами комичным и длилось настолько долго, что в нём, конечно же, приняли участие все врачи группы кроме моего, который появился только на следующий день и с сарказмом извинился, что пропустил великое событие.
К счастью, всё завершилось прекрасно, и мне торжественно вручили умопомрачительное существо с круглыми голубыми глазками и тремя жёлтыми кудряшками на голове, удивительно похожее на моего папу и моментально преподавшее мне урок. Оказывается, совершенно необязательно как вихрь нестись по жизни, покоряя какие-то вершины только для того, чтобы через пять-десять минут после взятия очередной высоты ощутить необыкновенную пустоту, спросить себя, а стоило ли столько мучиться, и тут же поставить перед собой очередную цель; оказывается, с точки зрения смысла жизни, всё гораздо проще.
После рождения сына я стала работать намного меньше и без какого-либо энтузиазма, всё больше времени проводила с ним. Когда я уходила на работу, за ним смотрела мама, и всё было как нельзя лучше. Когда ему исполнилось два года, я решила, что возраст мой не позволяет ждать, и пора бы подумать о втором ребёнке.
Удача опять была со мной: вскоре гинеколог показал мне на экране бьющееся сердце.
Дело было летом 2001 года. Мы жили в Джерси Сити (штат Нью-Джерси), прямо напротив (через реку Гудзон) нью-йоркского Торгового Центра. Утром 11-ого сентября – это был солнечный, ясный день, не жаркий и не холодный,– я шла на работу и увидела много людей, стоящих на улице. Я спросила у одного из них, что случилось. Он многозначительно направил свой взгляд в сторону горящей башни Торгового Центра. Я, не поняв, почему из-за пожара в Торговом Центре Нью-Йорка люди в Джерси Сити не идут на работу, и, будучи достаточно обязательной и верной своему чувству ответственности, продолжила свой путь.
Придя в офис, я не нашла там никого, кроме сослуживца-грека, который громко и взволнованно говорил, что это – война, и пытался любой ценой дозвониться до Греции, чтобы оповестить своих родителей, что с ним всё в порядке. Тут я уже начала подозревать, что всё же происходит что-то особенное и направилась в кабинет своего начальника, который стоял у окна на 38-ом этаже и смотрел на горящие башни. Увидев меня, он стал показывать на вылетающие из башен объекты, говоря: «Смотри, смотри, люди выпрыгивают».
Тут я, наконец, поняла, что происходит и бросилась домой, чтобы предупредить маму. По дороге я наткнулась на огромного афроамериканца, который, громко рыдая, как ребёнок, кричал: «Смотри, смотри, она падает». И она, огромная стодесятиэтажная башня, действительно упала у всех на глазах. А к моменту, когда я добежала до дома, упала и вторая.
Многие люди, проживавшие в нашем комплексе, работали в этих башнях. Мы не знали, кто из них вернётся домой, а кто нет. Семь дней я билась в дверь своего соседа и уже потеряла всякую надежду, но, к счастью, он нашёлся. Потом, довольно долгое время, нам рекомендовали ходить по нашему городу в масках, так как с другой стороны реки до нас доходил ужасный запах гари вперемешку с другими запахами.
На следующий день мы пошли на работу, и там в какой-то момент нам сказали, что в здании бомба, и нам надо его покинуть, не пользуясь лифтом. Это были бесконечные тридцать восемь этажей, по которым сползала толпа людей, содрогающихся от ужаса.
А на следующий день мне надо было пойти к своему врачу на проверку. Это был мрачный, холодный, туманный, дождливый день вне и внутри любого нью-йоркца. Всюду пробки, полиция, скорбь, ужас. Я кое-как добралась до больницы. У врача моего на груди был прикреплён значок с американским флагом. Он спросил у меня, как я себя чувствую, я сказала, что нормально, и рассказала об эпизоде накануне, о том, как было страшно. Моё здоровье для нас обоих было на втором плане, ужас происшедшего за последние два дня вытеснил всё – мы думали о других вещах. Тем более, что оба знали: у меня всегда всё нормально, всё идёт своим чередом, беспокоиться не о чем, просто надо проверить.
Он включил аппарат ультразвука и уставился на него молча и мрачно. Я приписала это общему настроению и сама уставилась на экран. Он там начал что-то крутить и вертеть, смотреть, искать, потом как-то почти виновато спросил, сколько уже недель, выключил аппарат, вздохнул и, отводя от меня взгляд, сообщил, что сердцебиения больше нет, плод погиб. Ему пришлось повторить это пару раз, так как я не понимала, что происходит, о чём он говорит, и не верила своим ушам. Чувства боли, обиды, потери, страха переполняли меня. Я спросила, почему это случилось. Он со свойственной ему лёгкостью сказал, что причин искать не надо. Типа – ерунда, со всеми бывает.
И вот, начиная с этого печального дня, нормой стал стандартный сценарий: подтверждение сердцебиения; радость и надежда; ожидание; токсикоз, слабость, низкое давление на протяжении трёх месяцев; чувство подавленности и страха; стремительный набор веса и недостаток времени, чтобы от него избавиться; гормональные перепады; анализы; ультразвук, подтверждающий отсутствие сердцебиения; чувства отчаяния, безнадёжности, потери, обиды; хирургическое вмешательство; хромосомный анализ; выяснение пола несостоявшегося ребёнка; последствия и осложнения хирургического вмешательства – так шесть раз на протяжении двух лет. После последнего раза я получила откровенный совет своего врача: «Мне кажется, что с тебя хватит и физически, и психически».
Я какое-то время пыталась с этим смириться, но смиряться, когда я чего-то так хочу, не в моём характере.
Через некоторое время мой врач перестал принимать нашу страховку. Мне не хотелось от него уходить, но я подумала, что может оно и лучше, начну с нуля. И записалась на приём к специалисту по патологиям во время беременности, начальнику отделения родов весьма уважаемой больницы в одном из южных пригородов Нью-Йорка. Это был пожилой человек с огромным опытом и узкой специализацией. Вдобавок мой новый доктор был греком по национальности, то есть человеком южным, похожим на армян, а значит – хорошо понимающим мой менталитет. Внутренний голос мне твердил, что всё должно быть как нельзя лучше.
И вот, я пришла на первый приём пообсуждать и поговорить о своих шансах.
– Вы гречанка? – сразу же спросила секретарша, увидев меня.
Я растаяла, думаю: «Какая проницательность, знание истории и географии!»
– Нет, армянка. А почему вы подумали, что я – гречанка?
– Потому что у него все пациентки – гречанки, – чётко обосновала она.
После такого объяснения моего оптимизма, конечно, поубавилось, но не намного. Меня завели в какую-то комнату и велели ждать. Ждала я очень долго, мне говорили, что врач занят. Часа через полтора, он появился с кошёлкой с покупками, зашёл в свой кабинет, долго устраивался, переодевался и наконец решил меня принять.
Я объяснила ему свою ситуацию. Он молча послушал, потом при мне поговорил по телефону с гематологом и послал меня к нему на консультацию – проверить, есть ли у меня какие-нибудь патологии, которые можно обнаружить с помощью анализов крови. Мы договорились, что, когда будут ответы этих многочисленных анализов, мы все вместе пообсуждаем мои проблемы и перспективы.
И вот, через какое-то время я отправилась к гематологу по имени Доктор Пепел. Как известно, гематологи, в основном, работают в отделении онкологии. Я более часа просидела в приёмной в ожидании своей очереди. Грустные воспоминания со времён болезни папы не покидали меня. Наконец, настал мой черёд.
Деловой и чёткий Доктор Пепел осмотрел меня и дал направление на какие-то весьма специфические анализы. У меня взяли порядка пятнадцати пробирок крови, обещали позвонить – сообщить результаты, и я ушла домой. Прошло две-три недели, и мне наконец позвонили.
Говорила со мной медсестра:
– Результаты ваших анализов готовы. Доктор хочет вас видеть.
– Видеть? Почему, что-то не в порядке? Доктор сказал, что позвонит, приходить не надо.
– Он хочет вас видеть.
– Могу я с ним поговорить? Что-то серьёзное?
– Вам надо прийти и здесь поговорить с доктором.
– Ладно, когда я могу это сделать: сегодня, завтра?
– Ммм, дайте мне посмотреть, ближайшая возможность… через три недели.
– Как через три недели, я же потеряю покой. Хотя бы скажите мне, есть ли какая-то проблема?
– Ничего не могу сказать, придёте – доктор скажет. Я положила трубку в полнейшем недоумении, понятия не имея, что это всё означает, и чего мне надо ожидать. И потянулись три бесконечные недели, полные сомнений, подозрений, беспокойства, нервозности…
Наконец, наступил долгожданный день, и я ворвалась в приёмную Доктора Пепела. Я опять прождала там часа полтора, наблюдая, как люди принимают химиотерапию, какие у них измученные и измождённые лица, через какие страдания проходят они и их родственники, опять вспомнила всё, через что мы прошли, когда болел папа.
Тут раздался голос медсестры, вызывающей меня в комнату осмотра, куда должен был явиться доктор. Там медсестра померила моё давление, температуру, взвесила меня, дала халатик, в который мне надо было переодеться, и ушла. В этой комнате я прождала ещё час наедине со своими мыслями, после чего в комнату вошёл как всегда деловой Доктор Пепел. Он со мной поздоровался, открыл папку с моими бумагами, посмотрел и бодро и радостно заявил:
– O, good news! Всё хорошо, нет НИКАКИХ проблем. НИКАКИХ патологий, которые могли бы послужить причиной невыживания плода. Я передам эту информацию Доктору Греку. Я вас поздравляю. До свидания!
Я, конечно, облегчённо вздохнула, но с другой стороны, была глубоко обижена, не понимая, для чего надо было меня так мучить.
Спустя какое-то время Доктор Грек показал мне на экране аппарата ультразвука бьющееся сердце. На этот раз увиденное мне понравилось, хотя страх последних лет меня не покидал. Вечером этого же дня я говорила по телефону с Гагиком. «Если меня послушаешь, в следующий раз пойдёшь к врачу сразу, когда надо будет рожать, не раньше. Так будет гораздо лучше», – словно заглядывая в моё будущее, советовал мне ясновидящий гинеколог и педиатр в одном лице.
Особенно я волновалась перед вторым ультразвуком, который обычно оказывался роковым. Боялся и Доктор Грек, зная мою историю, а посему послал меня на какой-то очередной подробный анализ крови для изучения совместимости с плодом, а также рекомендовал сделать тогда ещё только-только становившийся стандартным ультразвуковой тест измерения толщины воротникового пространства (ТВП) плода в сочетании с анализом крови. Результатом этого теста является число, представляющее статистическую вероятность генетической патологии плода. Позже, уже вооружившись результатами вышеперечисленных тестов, Доктор Грек советовал мне пойти на консультацию к генетику, который должен был бы проинтерпретировать преподнесённые ему числа и вынести свои рекомендации. Так что дел вдруг оказалось слишком много.
Скоро поступил ответ анализа крови, и Доктор Грек сообщил, что у меня повышенный уровень протеина S, а это означает, что может быть повышенная степень свёртываемости крови. В результате увеличивается вероятность образования сгустков и потери плода в любой момент, вплоть до самых родов. Поэтому он прописал мне ежедневную дозу разжижающего кровь аспирина и лошадиную дозу фолиевой кислоты. Мне всё это не понравилось, я с большим подозрением и неудовольствием каждый день запихивала в себя эти таблетки, внутренне уверенная, что они мне не нужны.
Вскоре настало время делать ТВП. Ультразвуковая часть теста прошла прекрасно. Потом из моего пальца выдавили три капли крови в три отведённых кружочка и велели ждать магического числа дней через десять. Счастью моему не было предела, мне казалось, что всё в порядке, и я даже не волновалась, ожидая окончательного результата. А зря!!!
Через дней десять, как и обещали, раздался телефонный звонок. Я схватила трубку, и суровый женский голос сообщил:
– Шанс генетической патологии один из восемнадцати, анализ крови нехороший, несмотря на то, что результат ультразвука нормальный. Пришлось с основательно поубавившимися спокойствием и оптимизмом, хотя и не совсем понимая для чего, захватив с собой толстую папку с накопившейся за последние два года информацией и заглянувшего к нам из Еревана брата, отправиться к Генетику-Консультанту.
Здесь нам не пришлось долго ждать. Правда, сначала нам надо было пообщаться с Лаборанткой, которая, видимо, проходила у Генетика практику по маркетингу генетических тестов. Без запинки, гладко, прекрасно отработанным и поставленным голосом Практикантка-Лаборантка отчитала блестяще зазубренный текст, сопровождая его рисуночками и схемами с хромосомами, нормальными и дефективными, спаренными и неспаренными. А потом сделала плавный переходик к тестам, обнаруживающим всевозможные хромосомные патологии, и к тому, как жизненно важно их делать. Эта часть презентации сопровождалась большим количеством процентов всяких разных событий на земле. После завершения своего выступления она вежливо поинтересовалась, нет ли у нас вопросов. Вопрос, конечно же, был один: что всё это, собственно говоря, означает в моём конкретном случае.
Ответ на этот вопрос в компетенцию Практикантки-Лаборантки не входил, на него должен был ответить сам Генетик-Консультант, так что она распрощалась с нами и, видимо, отправилась просвещать своими процентами очередную молящую о помощи пациентку. А к нам зашёл Генетик-Консультант. Большой, серьёзный, строгий человек в очках посмотрел на картинки, на нас, на мои бумажки с результатами, и тут мы стали свидетелями того, как вторая часть презентации начала обретать конкретный облик в применении ко мне – отдельно взятой жертве!
Угрюмо посмотрев на все бумаги и проценты, Генетик поднял глаза и уставился на меня. Наконец, вероятно, сочтя, что сделанной паузы достаточно, мрачно спросил:
– Знаете ли вы, какой процент детей рождается с умственной отсталостью?
Я растерялась. Вопрос был задан с такой интонацией и таким напором, что напрашивался ответ: не меньше, чем 98%. Я пробормотала, что не знаю. После очередной паузы он назвал какое-то довольно маленькое число (уже не помню), но добавил: с моими анализами вероятность страшная – один из восемнадцати!!! А посему мне совершенно необходимо сделать биопсию хориона – генетический тест, когда под управлением аппарата ультразвука из плаценты берётся щипок для изучения хромосомного набора плода. Чреват этот тест, конечно же, всякими рисками, которые преподносились мне, опять-таки, с процентами, но, несмотря на это, всё равно он настоятельно рекомендует сделать этот тест. На этом визит окончился, мы вышли на улицу с неприятным осадком на душе.
Ничего не поделаешь, генетики оказались настолько профессиональными, что на следующее утро я уже звонила договариваться о дне биопсии. Сама процедура весьма неприятная, да и последующие дни были полны настораживающими симптомами. Но, пожалуй, самым трудным для меня был моральный аспект этого теста. Делался он под управлением ультразвука, и на экране телевизора я видела собственными глазами, как мой ребёнок забивался в максимально отдалённый от вмешательства угол своего жилья. Я долго вспоминала этот кадр.
Постепенно всё пришло в норму, и в назначенный день я позвонила узнать, каков результат. Кокетливый голос сперва поинтересовался, как я думаю, у меня мальчик или девочка. Мне почему-то казалось, что будет девочка. На что кокетливый голос ещё более кокетливо заявил, что нет – мальчик. И потом уже по-деловому сообщил, что с хромосомами всё в порядке. Гора спала с плеч.
Непредвиденные бурные отклонения от главной линии развития событий завершились, и я вернулась к своим будням: повышенному протеину S, аспирину и фолиевой кислоте.
К этому моменту мы переехали в отдалённый пригород в северной части штата Нью-Йорк. Добираться до больницы было долго и трудно – более трёх часов в оба конца. Если учесть, что при каждом походе к Доктору Греку ждать приходилось два-три часа, то, понятно, что времени уходило довольно много, да и самочувствие оставляло желать лучшего. Поэтому я начала подумывать о том, чтобы подыскать приличного доктора вблизи от дома. Думала, если удастся найти такого, который внушит доверие – поменяю, нет – как-нибудь приспособлюсь. Я порасспросила своих новых соседей, мне казалось, что прислушаться к ним можно, так как у многих из опрошенных было по четыре ребёнка, причём среди них – рождённые преждевременно и не без других проблем.
Обнадёженная тем, что не сегодня-завтра обзаведусь чудо-доктором, я записалась на очередной визит к доктору, которого хвалила моя соседка. Местный доктор принял меня с огромным энтузиазмом, даже сказал, что его мама была поклонницей Шарля Азнавура. Такое знание достоинств моей национальной принадлежности настроило меня позитивно. Визит проходил как по маслу: разговор, ультразвук, вес, рост, обхват… Я даже про себя подумывала, что в следующий раз принесу с собой и покажу ему фотографию, на которой запечатлены Азнавур и я за кулисами, после его концерта в Вашингтоне, куда я поехала из Бостона, конечно же, по настоянию папы и по приглашению моего кузена и его супруги.
В самом конце визита я мельком описала доктору ситуацию с протеином S и наткнулась на совершенно неожиданную молниеносную реакцию. Он изменился в лице, сказал, что это очень серьёзно, что это объясняет ему всю мою прошлую историю, и лёгким взмахом руки прописал ежедневные внутривенные инъекции гепарина, так как аспирина и фолиевой кислоты, по его мнению, недостаточно, чтобы предотвратить все возможные и почти что неминуемые последствия повышенного протеина S!!!
Настроение моё моментально изменилось, сердце начало стучать 150 раз в минуту, голова стала кружиться. На все мои попытки что-то ему объяснить, Сын Поклонницы Азнавура мне отвечал, что гематолог, по всей видимости, не проверял уровень протеина S. Я стала говорить, что не умею и при всём желании не смогу делать самой себе внутривенный укол. На это был оптимистичный и жизнеутверждающий ответ, что он и его команда меня всему научат. Он сиял, будучи убеждённым, что нашёл разгадку причины моих многолетних страданий и во что бы то ни стало спасёт меня от предстоящего неминуемого кошмара. Не могу сказать, что я разделяла его счастье.
Всю дорогу домой я размышляла. И чем больше я размышляла, тем страшнее мне становилось. Я не могла понять, как можно прописывать что-то настолько серьёзное, даже не подтвердив достоверности того, что я ему сообщила. Ведь я могла перепутать и вместо какого-нибудь другого протеина, скажем C, назвать S, а может он у меня понизился, а не повысился, а может я вообще всё неправильно поняла, запомнила и рассказала. Как можно, не уточнив результата анализа, даже не поговорив с предыдущим врачом или гематологом, принимать такое кардинальное решение?
По моему поникшему виду маме и мужу было очевидно: что-то не так. Аритмия не проходила, дыхание было нарушено, руки были ледяные и хотелось выть.
Я засела за компьютер и начала изучать всё, что возможно, о протеине S, чтобы понять, каковы же мои шансы на самом деле. В течение следующих двух-трёх дней я прочитала всё, что было доступно, и поняла одно: женщины с повышенным протеином S действительно подвержены самым тяжёлым осложнениям во время беременности и родов, связанных с образованием кровяных сгустков. Однако часто повышение протеина S бывает вызвано самой беременностью, и это совсем не страшно. Оставалось понять, к которой категории я принадлежу.
К сожалению, логика подсказывала, что к первой: ведь если Доктор Грек сам посылал меня к гематологу, забил тревогу и прописал мне аспирин и фолиевую кислоту, значит, он знает: есть какая-то проблема. Единственное, что обнадёживало – я помнила, с какой степенью уверенности Доктор Пепел совершенно чётко сказал, что НИКАКИХ проблем с кровью нет. Совместив поведение обоих врачей (Грека и Пепела), я пришла к наиболее вероятному сценарию: очевидно, в первом тесте проверили всё, что угодно, кроме протеина S, следовательно, нет никаких оснований понять, к которой категории повышенного протеина S я принадлежу. А потому Доктор Грек решил принять более консервативные (по сравнению с Сыном Поклонницы Азнавура) предохранительные меры. Так я прожила ещё несколько дней, ежеминутно убеждая себя в проникновенности, дотошности, осторожности и всех прочих положительных качествах Доктора Грека. Но всё-таки внутренний голос не давал мне покоя, громко говоря, что со мной всё в порядке.
Я стала рыться в своих медицинских бумагах, которые мне были выданы Доктором Греком для похода к Генетику. И, к своему великому счастью и удивлению, обнаружила в них результат первого анализа крови, назначенного Доктором Пепелом, на основании которого он заявил, что нет проблем. И каковы были мой ужас и восторг одновременно, когда я увидела там чёрным по белому маленькими бледными цифрами напечатанное абсолютно нормальное значение злополучного протеина S. Дело было вечером, я еле дождалась утра, чтобы позвонить Доктору Пепелу.
Он внимательно меня выслушал, со всей ответственностью раздобыл мои результаты и, возмущённо недоумевая, сказал, что ведь именно поэтому было важно сделать все тесты ДО беременности и ведь они же показали, что патологий нет, и что он сам лично доложил об этом Доктору Греку и специально предупредил его, что НИЧЕГО, включая аспирин и фолиевую кислоту, принимать мне не нужно. Он был зол, почти кричал, я решила не рассказывать ему о том, что мне предлагал Сын Поклонницы Азнавура, чьи радикальные методы лечения, собственно говоря, заставили меня разобраться во всём этом кошмаре. Нет худа без добра! Я поблагодарила Доктора Пепела за проявленную чёткость, положила трубку и поняла, что у меня нет врача. О возвращении к Доктору Греку, который не посчитал нужным заглянуть в результат назначенного им же самим теста, не могло быть и речи, о Сыне Поклонницы Азнавура – тем более. Дело было в начале ноября, ребёнок должен был родиться в конце февраля.
Я позвонила в офис Доктора Грека, попросила прислать все мои бумаги. Я с ним не попрощалась и ни о чём ему не сообщила. При этом в офисе ни у кого не возникло вопроса, а почему, собственно, я забираю документы, когда там меня так внимательно и осторожно лечили. Документы я получила и занялась поисками нового доктора.
Вскоре я нашла ещё одного, на сей раз ничем не примечательного доктора. Он меня устраивал, потому что офис его был ближе к дому, у него никогда не было очереди, каждый визит длился максимум пятнадцать минут. Это определённо было большим шагом в сторону улучшения качества медицинского наблюдения за мной. Я походила к нему некоторое время без особых приключений, но вскоре плод подрос и стал давить на vagus нерв, в результате чего моя полуспящая аритмия приняла весьма агрессивный характер. Сердце колотилось 125-130 раз в минуту и, вдобавок, неровно. Как-то в магазине мне просто пришлось лечь на пол и лежать до тех пор, пока не удалось нормализовать дыхание. Я поделилась этой проблемой со своим Ничем-Не-Примечательным. Он решил посадить меня на замедляющее пульс лекарство. Я прочитала где-то, что оно небезопасно для ребёнка и, кроме того, замедление пульса – это его как бы вторичное действие, а основное – это понижение давления. Давление моё и без того было едва 80/50, и понижать его ещё больше мне показалось неубедительным. Я поделилась с доктором своими соображениями, тогда он послал меня к кардиологу.
Здесь приём продолжался три минуты (после двухчасового ожидания), в течение которых мне было сказано, что лекарство это мне принимать противопоказано, во-первых, из-за низкого давления, а во-вторых – поскольку это небезопасно для ребёнка. Неужели? Тогда я поинтересовалась, а что же делать, если такая аритмия будет продолжаться, могут ли у этого быть какие-то последствия. Ответ я получила чёткий. Считая, что мой визит уже окончен, выходя из моей экзаменационной комнаты и направляясь в следующую, мой кардиолог весьма между прочим бросил на ходу: «А, ну сердце может просто остановиться». Вышла я оттуда в поникшем настроении, сразу же позвонила Метью и пересказала последние новости.
– Как остановиться? – недоумевал он.
– Сказал, что просто, – повторила я.
Между тем у ребёнка моего уже формировался его бесподобный спокойный, добродушный, безмятежный и, вопреки всему, абсолютно неистеричный характер. А это означало, что временами он просто хотел тихо-мирно посидеть и о чём-то поразмыслить или просто поспать. Такой характер принципиально не устраивал моего врача, который требовал, чтобы я насчитывала определённое количество движений в течение каждого часа. А я частенько насчитывала ноль! И в таком случае мне надо было нестись к доктору, там меня стремительно подключали к монитору и начинали поить апельсиновым соком. Ребёнок мой абсолютно не реагировал на апельсиновый сок (он и сейчас его не любит); они (доктор и две медсестры) с ужасом смотрели на монитор, давали мне очередной стакан апельсинового сока и так много раз, пока через минут сорок-пятьдесят, ребёночек решал поразмяться; тогда они отпускали меня домой при условии, что, если опять не досчитаю, то сразу вернусь. Не помню, сколько часов я провела, прикованная к монитору и сколько литров апельсинового сока я выпила, пока мне не надоело, и я решила, что это просто характер и перестала считать. Каждый раз, когда врач у меня спрашивал: «Ну как, нормально двигается?», я отвечала: «Да-да, всё время двигается: минимум десять раз в час». Тогда Ничем-Не-Примечательный меня хвалил за послушание, осторожность и аккуратное выполнение его наставлений. Ситуации с подсчётом движений и аритмией лишили меня доверия в общении с моим врачом, и я занялась поиском нового.
Для полноты картины добавлю, что мне было жизненно важно по возможности быстро научиться водить машину, так как поселились мы в пригороде с довольно ограниченными возможностями использования общественного транспорта, а моего старшего сына надо было возить на всякие послешкольные мероприятия и кружки.
Машин я всю жизнь боялась, как огня – в качестве пешехода (кто хоть раз переходил улицу в Ереване, меня поймёт), в качестве пассажира (кто ездил в Ереване, тоже меня поймёт), а качество водителя просто не рассматривалось. Однако пригородная жизнь не позволяла безмашинного существования, не могла же я оставить своего сына без всевозможных развлечений. Рассчитывать на то, что можно будет заняться вождением после рождения ребёнка, я не могла, и потому записалась на курсы обучения в школе под названием «Американский Король Вождения». И вот, сижу я в ожидании Американского Короля, он появляется в назначенное время, оказывается, что его зовут Петя и он из Минска, так что Американский Король меня вполне устроил. Не уверена, что подумал он при виде моих габаритов, но у нас установились вполне конструктивные отношения. Он учил, а я училась. Уроки были два раза в неделю, на каждом очередном уроке мне приходилось отодвигать сидение машины всё дальше и дальше от руля, чтобы мы могли поместиться.
Пару минут в начале каждого урока Петя выглядел несколько напряжённо, но потом всё же приспосабливался. В свободное от работы время он был репетитором по математике (не сомневаюсь, что делал это так же по-королевски).
Особо мне запомнился наш последний урок, за неделю до родов. За два дня до урока мне был назначен очередной ультразвук, во время которого аритмия была настолько сильна, что я потеряла сознание. В клинике начался переполох, и на меня опять повесили Холтер монитор, который должен был записывать мою кардиограмму в опасные моменты. И вот, с присосками и проводами по всему немаленькому телу и висячим с боку монитором, я явилась на последний урок и схватилась за руль максимально вытянутыми руками. Петя грустно и испугано посмотрел на меня и на провода.
– Может всё же не надо? – не выдержав, умоляюще сказал он.
– Как не надо? Это мой последний шанс, поехали. И мы поехали. Время от времени мне приходилось тормозить, нажимать на кнопку, снова ускоряться, снова тормозить и снова нажимать на кнопку. Но урок удался на славу, я была счастлива, что провернула это дело, а Петя облегчённо вздохнул, что всё обошлось без особых приключений и последствий.
Между тем, врача своего я всё же поменяла. Нового мне посоветовали как весьма ответственного товарища, который бдительно следит за своими пациентками. Не знаю, был бы он последним, если бы я пришла к нему чуть раньше. Во всяком случае, он стал последним, и, в принципе, мне нравился. В какой-то момент он мне сообщил, что голова ребёнка наверху, что шутить он с этим не собирается, и назначил кесарево сечение. Я сникла, мне не хотелось лезть под нож.
Все родственники и друзья одобряли решение врача. Вообще-то, многие, начиная чуть ли не с четвёртого-пятого месяца, говорили: «Если меня послушаешь, прямо сейчас пойдёшь на кесарево». Мне ничего не оставалось делать: врач решил, общественность давила, я сдалась.
Накануне назначенного дня выпал снег, муж всю ночь его разгребал, и в пять утра 21-го февраля мы поехали в больницу. В процессе подготовки к операции я почувствовала, что ребёнок перевернулся и находится в правильном положении. Я попросила санитарку, чтобы та проверила. Она сказала, что ей тоже так кажется и позвала дежурного врача (мой пока не пришёл), с которым мне крупно повезло. Почему-то не разводя никакой паники, он сказал, что всё в порядке, и на моём месте он бы выписался и ждал, когда ребёнок сам решит, что ему пора. Это меня довольно-таки вдохновило, и я стала дожидаться своего врача. Он скоро появился, и я сообщила свою новость, которая ему явно не понравилась. Несмотря на это, надо отдать ему должное, он согласился с моим решением и разрешил ждать, сказав, что даёт мне не более двух недель. Я победоносно отправилась домой к великому разочарованию многочисленных друзей и родственников, которые никак не могли понять, почему я не захотела завершить эпопею.
Прошло десять нелёгких дней и, наконец, я своим ходом и по природной необходимости оказалась в больнице. Описывать последующие события я не стану, хотя они тоже были не без приключений.
Родился очаровательный человечек, являющийся полнейшим контрастом всей истерии, которая сопровождала его вне его жилища на протяжении девяти месяцев: спокойный, терпеливый, улыбчивый и добродушный. С первых же секунд жизни взгляд его был полон мудрости и глубочайшего юмора. Он смотрел на меня, словно только что сошёл с какого-то опасного аттракциона, и говорил: «Мам, ты оценила, что мы с тобой выдержали, через что прошли, и, вообще, какое свершилось Чудо?! Ты – молодец, что не поддалась на провокации, ну и я неплохо себя проявил: спрятался от инструментов; вовремя перевернулся, дабы спасти тебя от операции; а этот оранжевый будильник я просто отключил, а то не успею вздремнуть, как начинает капать на мозги».
Вопреки всем стараниям и достижениям медицины, всё кончилось великолепно. Страхи, аритмии, задыхания, обмороки – моментально всё исчезло, испарилось в никуда. Я порхала, я худела, молодела, я светилась и благодарила судьбу за все те неудачи, которые предшествовали этому величайшему подарку, ибо если бы не они, может у меня и был бы кто-то другой, но не этот, а представить себе жизнь без именно этого человечка я уже не была способна. Каждую минуту всего следующего года я осознавала, что нахожусь в Раю.
ГЛАВА 8
ИЗ РАЯ В АД И НАДОЛГО
Прошёл год – прекрасный год, счастливый год, год, переполненный радостью и любовью, год без визитов к врачам, без болезней и недомоганий. По истечении года после рождения ребёнка нужно было появиться у терапевта и гинеколога для того, чтобы убедиться, что всё в порядке. Я эти визиты откладывала, так как не могла себе представить, что какие-либо проблемы возможны – уж слишком хорошо я себя чувствовала. До похода на медосмотр требовалось сдать рутинные анализы и только потом, уже с их результатами, идти к врачу. Разумно, ничего не скажешь. Я сдала анализы в субботний день и практически забыла о них на три последних ничем не омрачённых дня моей жизни. Во вторник поступил звонок из офиса терапевта, говорит, конечно же, не терапевт, а медсестра.
– У тебя ужасный анализ! Надо срочно записаться на приём к урологу.
– Почему ужасный? Что случилось?
– И лейкоциты, и азот, и белок, и много крови.
– А что это означает?
– Может быть рак! Надо проверить и исключить.
– Нет, это, наверное, ошибка, не может быть, можно повторить анализ? – предложила я, сохраняя полное спокойствие и даже не допуская такой мысли.
На том конце провода последовало недовольное, несколько удивлённое молчание. Медсестра не ожидала такой непокорности, можно сказать, дерзости. Немного подумав, она, надо отдать ей должное, согласилась.
– Ну, хорошо, повтори, но анализ настолько плохой, что повторять нечего.
В среду я побежала повторять анализ, а в четверг опять зазвонил телефон. На этот раз говорил Гинеколог, который сам лично мрачнейшим голосом без помощников и каких-либо предисловий хотел сообщить мне последние новости. Фраза, произнесённая им, по сей день иногда звучит, гремит, шумит в моих ушах.
– Твой скрининг тест на рак яичников положителный. Так что необходимо срочно делать ультразвуковое исследование.
– А какой это тест? – едва не потеряв сознания, успела спросить я.
– Раковый антиген СиЭй-125 (CA – Cancer Antigen), – явно не одобряя моё излишнее любопытство, произнёс он.
– А какое значение у моего агента? – спросила я. Слова, подобные слову «антиген», в то время в моём лексиконе не фигурировали, потому я расслышала «агент» вместо антигена и, впоследствии, так и продолжала упорно называть его агентом СиЭй-125.
– 41!
– А какая норма?
– Меньше, чем 35, – не скрывая раздражения по поводу многочисленных ненужных вопросов, пытался закруглиться Гинеколог.
– А может быть что-то другое, или только рак? – чуть не плача, задала я свой последний вопрос.
– Не знаю, сделай ультразвук! – завершил Гинеколог и так незапланированно затянувшийся разговор.
Сказать, что и на этот раз я не поверила или не придала значения, было бы неверно. Исчезнувшая на тринадцать счастливых месяцев аритмия моментально была тут как тут. Я еле смогла передать маме предположение врача. Мама посерела: она уже подозревала что-то недоброе, наблюдая за мной во время разговора. Я позвонила мужу на работу и сообщила ему об услышанном. Он заплакал и примчался домой первым же автобусом.
Был четверг, примерно два часа дня. Я поняла: если это состояние продлится до понедельника, я перестану существовать. Я судорожно набрала номер больницы, надеясь только на чудо – вдруг я смогу до субботы сделать назначенный тест. И тут всё пошло как нельзя лучше. Была одна единственная возможность сделать ультразвук в тот же день, в пять часов вечера – кто-то в последнюю минуту отменил свой тест. Я помчалась в больницу, и там мне крупно повезло ещё раз. Женщина, которая делала эту процедуру, оказалась невероятно доброй; она, видимо, почувствовала, в каком я состоянии, и всеми силами хотела меня как-то успокоить.
Люди, делающие ультразвук, не имеют права обсуждать с пациентами увиденное. Она и не обсуждала, но по тому, как она со мной разговаривала, мне показалось, что она ничего страшного на экране аппарата не видит. Вместо обычного, стандартного, холодного и бездушного: «Доктор всё тебе скажет, когда у него будет время», лаборантка говорила: «Это не диагностический тест, результат часто бывает ложноположительным, так что я не вижу причины так беспокоиться». Слово помогает. Я была готова её расцеловать и уходила оттуда, чувствуя себя существенно лучше, с надеждой, которую никоим образом не хотел допустить Доктор.
На следующий день, в пятницу, мне позвонил Гинеколог и сказал, что ультразвук ничего не показал, но это ничего не значит, так как ультразвук часто этой болезни вообще не показывает (интересно, а для чего назначал?), через месяц надо повторить анализ крови. Потянулся бесконечный месяц страха и ожидания, но проходил он оживлённо – скучать не приходилось.
В ту же самую пятницу мне позвонили из офиса терапевта и сообщили, что действительно, все почечные показатели улучшились, кроме крови, а это оставляет в силе подозрение на рак почек. Я попросила сделать ещё один анализ, аргументируя тем, что дело идёт на улучшение. Медсестра на этот раз легко согласилась. Так что в понедельник я снова сдавала анализ. Но и понедельник этим не завершился: у меня покраснела и стала сильно болеть грудь (я всё ещё кормила своего малыша).
В среду пришёл ответ анализа на почки без особых изменений, и медсестра настаивала, что похода к урологу не избежать. К этому моменту дело с грудью обстояло настолько плохо, что мне пришлось в пятницу идти к гинекологу по грудным делам, а на следующий понедельник запланировать визит к урологу. Гинеколог сказал, что в груди абсцесс, потом засомневался, прописал сильный антибиотик и велел, если до вторника не пройдёт, в среду идти к грудному хирургу.
Итак, в понедельник я отправилась к урологу – редкий врач, хоть бы все были такими. Посмотрел на результаты анализов и на меня, несчастную.
– Я почти уверен, что нет никаких проблем, но, если хочешь, для пущей уверенности сделаем ультразвук почек, – абсолютно спокойно сказал Доктор.
– Терапевт думает, что может быть рак почек, – заикаясь, выдавила я из себя страшное слово.
– РАК? Как рак? Почему рак? – удивился уролог. – Нет, не может быть. На каком основании он тебе это сказал, нет никаких предпосылок это подозревать. Это скорее всего от кормления грудью. Ничего страшного, сделай ультразвук и не переживай.
Я вышла из его офиса счастливая, невзирая ни на что. Значит, всё же можно так: чётко, добро, не пугая, но с ответственностью и осторожностью.
К среде под влиянием сильных антибиотиков с абсцессом полегчало, но несущественно, так что надо было идти к хирургу.
К хирургу мама пришла со мной: бедная так волновалась, что не заметила и надела разные туфли. Нам почему-то велели принести $300 наличными, мы их заплатили, потом прождали в приёмной часа три, как и полагается у «хорошего» врача, после чего, наконец, зашли в экзаменационную комнату. Там тоже прождали довольно долго, в конце концов врач всё же появилась, глянула на меня и на мою грудь и заговорила.
– Инфекция! – многозначительная пауза, – но инфекция не бывает без причины, так что надо проверить. Инфекция может быть от опухоли и вообще от чего угодно, – продолжила она.
– Но я же кормила ребёнка, может, от этого? – под грозным взглядом Женщины-Хирурга я проявила совершенно излишнее любопытство.
– Не обязательно, всё может быть. Надо как можно скорее сделать маммографию и ультразвук груди с повтором через три и через шесть месяцев, – завершила Хирург, уже выходя из комнаты (где она провела не более пяти минут) и протягивая мне пачку направлений на многочисленные тесты.
Мы вышли на улицу. Настроение было, мягко выражаясь, не слишком приподнятое. Мама утешала: всё будет хорошо. Я же думала, что если в течение двух недель три разных врача подозревают три опухоли в трёх разных органах, то, наверное, всё же где-то что-то есть. Пусть один доктор ошибся, пусть тест что-то не то показал, но не три же недоразумения одновременно?!
Следующие две недели прошли в анализах и результатах. В понедельник позвонил сам уролог (оказывается, можно по телефону!) и опять так же чётко сказал, что вот уже и ультразвук показал – в почках ничего нет, всё хорошо, он и не сомневался, и, как минимум, год ничего не надо проверять и делать, а главное, велел не переживать. Он, видимо, не знал, что его коллеги в это время гордо и уверенно шли вперёд своим путём, приговаривая: «Ничего, Уролог, сколько хочешь выпендривайся в своём непопулярном гуманном стиле, мы и без тебя разберёмся. Ситуация отличная, пациент на крючке – можно как угодно долго держать в неопределённости и постоянном страхе; заставлять непрерывно проверяться, до тех пор, пока что-то у неё да и появится; а ты выпендривайся, сколько влезет, того гляди и разоришься». Я безгранично благодарна своему Урологу за человеческое и профессиональное отношение ко мне.
Я начала постепенно выпутываться из этого болота. Более того, я даже умудрилась запастись некоторым оптимизмом по поводу последнего неразрешённого вопроса, а именно: что же может означать повышенный уровень Агента СиЭй-125 (его также называют маркером). Я досконально изучила в интернете абсолютно всё, его касающееся, и поняла, что он может быть повышенным при самых разных болезнях и состояниях, включая злокачественные и доброкачественные опухоли и всякие безопухолевые ситуации. Я также узнала, что повышение этого агента может отражать что-то, происходящее в других органах. А главное: в незлокачественых ситуациях он в течение месяца может периодически повышаться и понижаться! Я написала учёным, занимающимся исследованиями этого маркера и получила от них вполне утешительный ответ: это – неаккуратный тест, часто даёт ложный результат, потому употреблять его как диагностический не рекомендуется. Назначают его только в уже диагностированных случаях, чтобы наблюдать за прогрессом или регрессом заболевания. Я, конечно же, многократно обсуждала свои соображения и познания с Гагиком, который спокойно и уверенно (а главное, безгранично терпеливо) твердил: «Точно, ложноположительный». Одним словом, хотя я и была достаточно перепугана, у меня появилась надежда. Самым трудным было ждать, но так как месяц проходил неординарно, время пролетело быстро.
Я выбрала момент, когда, в соответствии с прочитанным, показатель должен был бы быть наименьшим, и отправилась на анализ крови. Через пару дней после сдачи анализа я пришла на приём к Гинекологу, чтобы узнать результат. Когда секретарша открыла мою анкету, чтобы посмотреть, сколько я должна заплатить, я увидела на лежавшем в моей папке результате анализа, что показатель понизился. Счастью моему не было предела. Я долго ждала своей очереди и всё время представляла себе, как доктор зайдёт в экзаменационную, откроет мою папку и радостно мне сообщит: «Good News! Показатель стал ниже, и ультразвук был хороший, так что – всё нормально. Теперь мы оба спокойны. Иди и радуйся». Но не тут-то было. Он скептически посмотрел на мой улучшенный результат и строго сказал, что радоваться нечему, это ничего не значит, все опасения в силе, так как маркер всё равно повышенный и надо повторить тест через три месяца. Я рассказала ему, что мне несколько учёных из разных стран мира написали, что Агент СиЭй-125 – не диагностический тест, и он ничего не значит для недиагностированного человека. В ответ он только сказал, что ничего не знает и верит только тесту. Что-то во мне треснуло: слово может сильно покалечить.
Сразу стало темно и мрачно на душе, перспектива растянутого ещё на три долгих месяца ожидания мало меня вдохновляла. У меня началась бессонница.
В воскресенье, седьмого мая, я пошла в бассейн поплавать и посидеть в джакузи, уж слишком хотелось немного успокоить нервы. Вернувшись домой, я одела своего годовалого ребёнка, чтобы взять его на прогулку, собралась сама, и вдруг перед глазами у меня почернело – я только успела сказать маме: «Ой, я сейчас упаду в обморок». А дальше только помню, что очнулась от несусветной боли в голове, шее и спине, распластавшись на кухонном керамическом полу. Тут же подбежала мама, которая всё видела. Я не представляла, что может быть настолько больно. Придя в себя, я сразу же позвонила Гагику. Он задал несколько вопросов и решил, что если хуже не станет, то можно остаться дома и наблюдать.
Ночь была трудная, сильно болели голова, шея и спина, перед глазами всё непрерывно двигалось. На следующий день я всё же поехала в больницу, мне просканировли голову, сказали, что внутри гематомы нет, просто сотрясение мозга.
Шли дни, но мне становилось всё хуже и хуже, к уже имеющимся симптомам прибавились головокружение, тошнота, мышечные спазмы и непрерывная аритмия во всём своём разнообразии. Так прошли недели три, в течение которых я один раз побывала у своего терапевта. Его абсолютно не интересовало моё сотрясение, интересовал только один вопрос: почему я потеряла сознание? Меня же это абсолютно не интересовало, так как казалось вполне естественным после столь бурно проведённого месяца и в преддверии ещё трёх таких же. Он послушал моё сердце и, насчитав шестнадцать пропусков сердцебиения за одну минуту, решил в очередной раз заняться изучением моей аритмии. На меня опять должны были навесить монитор. Я просила его посоветовать, что же делать с сотрясением мозга, так как была обязана хоть как-то, но функционировать.
– У тебя сотрясение мозга, – услышала я в ответ.
– А что же с ним делать, как облегчить положение?
– Ну, если хочешь, пойди к невропатологу, – посоветовал терапевт, протягивая мне визитную карточку группы, где много хороших специалистов. Также он прописал мне установление монитора для наблюдения за аритмией.
На следующее утро я позвонила в офис невропатологов, где мне сказали, что поскольку я новый пациент, наискорейший визит может быть назначен на середину июля.
– Но у меня сотрясение мозга и мне плохо. Вряд ли мне в середине июля визит поможет, – кое-как выговорила я.
– Ничем не могу помочь, наши специалисты очень заняты, – с гордостью сказала секретарша.
Терапевт согласился похлопотать, чтобы невропатологи приняли меня пораньше. Спасибо ему и группе занятых специалистов, которые нашли время и согласились принять меня через каких-то четыре дня.
В этот день мы с мужем отправились на приём. Шла я, держась за стенки. Доктор мне попался хороший, сразу же вызвал доверие. Пожилой человек в отличной физической форме, подтянутый и явно заботящийся о физическом и психическом состоянии своих пациентов. Звали его Доктор Стейшн. Он меня осмотрел (стандартный осмотр невропатолога: пройди прямо, пройди криво, сколько пальцев, пальцы к носу, сожми руки, сожми ноги, руки в ноги, ноги в руки и так далее) и сказал, что у меня, конечно же, сотрясение мозга; иногда оно может сопровождаться всеми имеющимися у меня симптомами, но он надеется, что со временем всё пройдёт бесследно. Если же что-то останется после одного года (что маловероятно), то, наверное, не пройдёт. Сказал, если в течение нескольких дней дела не пойдут на улучшение, надо будет сделать МРТ. В заключение он поинтересовался, нет ли у меня вопросов. Я, осознавая всю абсурдность своего вопроса, всё же спросила, можно ли мне водить машину, когда так кружится голова и всё двигается перед глазами. «Sure!» – не задумываясь и вполне спокойно ответил Доктор Стейшн. Он, наверное, точно знал, что там, где он ходит и ездит, я водить не буду.
Прошло ещё какое-то время, лучше мне не становилось, надо было делать МРТ и через несколько дней идти к Доктору Стейшну за ответом. На приём меня повезла подруга. Доктор опять меня осмотрел. Когда он спрашивал про количество пальцев, я заметила, что подруга моя смотрит на меня как-то особенно: то ли с интересом, то ли с удивлением. И тут я подумала, что, может, это мне кажется, что вопрос лёгкий и что там всего два пальца, а на самом деле, может быть, там совсем не два пальца, а, кто знает – сколько. Я поинтересовалась у подруги, всё ли правильно, она с неподдельной гордостью за мои успехи кивнула головой. Я тоже осталась собой довольна. Томография ничего интересного в моём мозгу не обнаружила, и доктор опять выразил надежду, что мне скоро станет лучше.
Между тем, как я уже говорила, терапевт, задавшийся целью докопаться до причин моего обморока, захотел провести очередное исследование моей аритмии и связал меня с электрофизиологом – Доктором Мербергом. Опять мне выдали монитор с проводами и велели чуть что нажимать на кнопку, что я и делала весьма регулярно, не придавая этому никакого значения. И вот, как-то раз, после того, как я в очередной раз нажала на кнопку, зазвонил телефон. Я собиралась в этот момент куда-то выходить и думала, брать трубку или не стоит – мало ли кто звонит, ещё опоздаю. Всё же решила ответить. Оказалось, звонят из Центра по Реагированию на Мои Нажатия на Кнопку.
– Сиди и не двигайся, пока тебе не позвонит Доктор Мерберг.
– Почему?
– Ты зарегистрировала очень серьёзный эпизод. Сиди и не двигайся, пока тебе не позвонит Доктор.
– Что же я зарегистрировала?
– Не могу сказать. Не разговаривай, не двигайся, Доктор скоро с тобой свяжется.
И всё – гудок в телефоне. Сижу в растерянности, никто не звонит, эпизод уже прошёл, не понимаю, зачем сижу, опаздываю, но послушно сижу. Думаю, что ощущение было знакомое (суправентрикулярное!), просто более интенсивное, чем обычно, но совсем непродолжительное. Сижу. Никто не звонит. Начинаю раздражаться, немного неуютно на душе. Потеряв терпение, сама звоню в офис терапевта, говорю: «Мне сказали не двигаться, пока Мерберг не позвонит, а он уже полчаса не звонит, что мне делать?» Мне говорят: «Сиди, не двигайся, Мерберг позвонит». Сижу, не двигаюсь, Мерберг не звонит. Перестаю сидеть, не двигаться. Продолжаю свои дела и жду, когда же Мерберг позвонит. И по сей день не позвонил. Думаю о смысле теста. С одной стороны, прекрасная возможность поймать и записать какое-то явление, которое регулярной электрокардиограммой не поймаешь. Но толку-то что? Позвонили, напугали, подбавили стресса человеку с проблематичным сердечным эпизодом, а врачу «до лампочки»?
Когда время ношения монитора кончилось, мне нужно было явиться в офис к Мербергу, обсудить все результаты. Чувствовала себя я в этот день препогано, голова кружилась, не останавливаясь, перед глазами всё двигалось, я еле-еле шла по улице, кое-как дошла до офиса, держась за заборы и деревья. И тут меня ввели в комнату, где сидел сам Мерберг – Властелин Сердец! Забегая вперёд, скажу, что более комичного и одновременно трагичного визита к врачу представить я себе не могла. Помню, в процессе визита мне иногда казалось, что вряд ли это происходит наяву и со мной. Вот как он протекал.
– Мне тут сказали, что у тебя были проблемы, но я был на операции и не смог тебе позвонить. Ну, здесь кардиограмма показала, что пульс у тебя был за двести, но это тебя не убьёт, – отводя свои хитрые и хищные глаза в сторону, победоносно (видимо, потому, что я и впрямь не умерла) сказал Мерберг.
Так что начало визита было оптимистичным и на высокой ноте. Так как мне было плохо не на шутку, я решила не думать о прошедшем эпизоде, а сосредоточиться на данном моменте, и начала ему рассказывать, как трудно сочетать аритмию с постоянным головокружением и сотрясением мозга. Также я ему рассказала о том, что много лет назад аритмия у меня началась после укола, содержащего адреналин. Мой рассказ его абсолютно не интересовал. У него горели глаза от радости, что в руках у него оказался такой хороший случай: жалкая, несчастная, плохо себя чувствует, куча симптомов, следовательно, куча и куча тестов. Он тут же мне сообщил, что знает как меня лечить, и быстро по-деловому перешёл к изложению своего плана.
– В первую очередь нам нужно найти причину твоего обморока. Для этого у меня есть прекрасный тест, называемый тилт-тест (tilt table test). Мы ремнями привяжем тебя к столу, поднимем стол в воздух и начнём вращать его в разных направлениях в надежде, что ты быстро потеряешь сознание. Тогда мы на кардиограмме поймаем момент твоего обморока и посмотрим, что именно послужило его причиной. Если же ты сознание не потеряешь (что маловероятно), у нас есть запасной вариант. Мы сделаем тебе укол адреналина и продолжим вращать стол в воздухе. Тогда ты уж точно потеряешь сознание, и мы найдём причину.
Говорил он с горящими глазами, потирая руки, не глядя на меня и не замечая, что я легко могу потерять сознание от его речи. Лучше бы подключил аппаратуру.
В момент, когда он переводил дыхание, я еле-еле умудрилась напомнить, что как-то раз от адреналина чуть не отправилась на тот свет. Это не произвело на него никакого впечатления, он вдохновенно продолжал:
– А в том крайнем случае, если это тоже не сработает, мы сделаем тебе катетеризацию, то есть просунем зонд из паховой вены в сердце и посмотрим там на все импульсы и электрическую проводимость. И если мы что-нибудь там найдём, то сделаем аблацию – устраним очаги нарушения ритма. А ещё мы сделаем тебе ультразвук сердца и ядерный стресс-тест, – никак не мог остановиться Мерберг.
Тут я не выдержала и прервала его, сказав, что у меня сотрясение мозга, я еле дошла до этого офиса, меня беспокоит аритмия, и пока я не разберусь с этим состоянием, мне как-то не очень хочется падать в обморок на вертящемся в пространстве столе. Он не понял моего нежелания терять сознание и сказал, что большинство его пациентов делают это в 90-летнем возрасте и ничего, остаются живы, так что мне вообще не о чем беспокоиться. Тут я окончательно поняла, что помощи мне здесь не видать, и распрощалась, не дав согласия ни на один из предлагаемых тестов. Он даже как-то растерялся и недоумевал, почему столь конструктивный план лечения мне не понравился.
Было ясно одно: к Мербергу я больше не вернусь. Держась за заборы и стены, я дошла до дома. Несмотря на плохое самочувствие, хватило юмора по достоинству оценить ситуацию.
Буквально через несколько дней после легендарного визита к мастеру по составлению долгосрочных конструктивных планов произошло следующее. Я ждала старшего сына после окончания его школьных занятий и разговорилась с мамой его одноклассника, которая заметила, что я стою шатаясь и держась за стену. Она поинтересовалась, что со мной происходит, и я ей сказала, что недавно упала в обморок и получила сотрясение мозга, после чего никак не могу прийти в себя. Выслушав меня, она сказала:
– Ой, ты знаешь, я тоже прошлым летом потеряла сознание и упала лицом на корт, когда играла в теннис. Мне врач говорил: «Ничего, бывает, не обращай внимания, наверное, был жаркий день и организм был обезвожен». Как же я могла так оставить, не разобравшись? А вдруг это снова случится? Я попросила кардиолога сделать все тесты, которые он только мог предложить. Мне сделали ЭКГ, ультразвук сердца, ядерный стресс-тест, нацепили монитор – ничего не нашли. А я боялась играть в теннис. Я стала изучать другие возможные тесты в интернете и наткнулась на совершенно потрясающий тест, называется тилт-тест (тут она мне так же образно, как Мерберг, объяснила смысл этого теста и то, как интересно он протекает – эту часть пропускаю). Я потребовала, чтобы мне сделали этот тест. Знаешь, как здорово, не успели стол поднять в воздух, я потеряла сознание.
Тут я заинтересовалась:
– Да, и что же показала кардиограмма?
– Ничего, мне сказали, что я здорова. Обязательно сделай этот тест, он тебя успокоит!
Я поблагодарила за совет, но ничего не поняла. А почему она больше не боится, что может упасть в обморок во время игры в теннис? А ещё я подумала, как было бы здорово, если бы с самого начала мне попался её доктор, а ей – Мерберг. Все четверо были бы довольны. Но, видимо, так не положено.
Время шло, лучше мне не становилось. В три-четыре недели раз я ходила к Доктору Стейшну, он продолжал надеяться, что мне станет лучше. Это меня в какой-то мере поддерживало. Он прописал мне лёгкое психотропное лекарство (клонопин), которое должно было действовать как снотворное и успокаивающее. Чтобы не возникло привыкания, Доктор Стэйшн велел мне принимать его не более трёх недель, потом делать перерыв, так что пила я его время от времени, и иногда оно несколько облегчало мне жизнь.
Через какое-то время я случайно узнала, что в офисе моего терапевта сменился консультирующий электрофизиолог. Новый, Доктор Кремник, мне понравился хотя бы тем, что не порекомендовал делать тилт-тест. Он мне прописал бета блокатор. А когда я ему сказала, что от этого у меня падает давление, он посоветовал кушать много солёных огурцов, чем ещё больше завоевал мои симпатии. Кроме того он мне посоветовал попринимать магнезиум, что меня вполне устроило. Мы договорились, что я попробую и приду недели через три. Я с удовольствием съела солидное количество солёных огурцов (конечно, с картошкой), но давление всё равно падало, от чего я слабела, и потому перестала принимать лекарство. Магнезиум я пила. Через три недели пошла на приём, тут оказалось, что Доктор Кремник чем-то кому-то не угодил и больше там не работает, а вместо него меня принял новый консультант электрофизиолог Доктор Цимлер, который, услышав, что я не смогла пить прописанный бета блокатор, без всяких церемоний заявил: «Почему ты пришла, если не делаешь того, что тебе говорят?» Безусловно, вопрос поставлен справедливо, но легче мне от этого не стало.
Так содержательно прошли ещё три месяца, и настало время прояснить ситуацию со злополучным Агентом. В ожидании результата анализа я изрядно волновалась, но глубоко надеялась, что хотя бы на этом поприще успокоюсь и смогу, наконец, сконцентрироваться на выкарабкивании из сотрясения мозга.
В началe сентября 2006 года я пошла узнавать результат. В комнату вошёл деловой и строгий Доктор Гинеколог.
– Тот маркер, что мы проверяли в мае, хотя и выше нормы, но с мая не повысился. Это хорошо, но я решил проверить ещё два других маркера, один из которых – нормальный (СиЭй-15-3), а второй – повышенный (СиЭй-19-9). Так как у тебя два из трёх повышенные, надо делать биопсию, – уставившись в мою анкету, сказал Доктор Гинеколог тоном, не допускающим возражения.
– Как биопсию? – недоумевала я. – Ведь эти агенты могут означать, что угодно, причём в нескольких органах. Так что же, надо делать биопсию всех органов? – задала я, видимо, глупый вопрос.
– Я отвечаю за твои яичники! – гордо и сухо отрубил доктор, которому мои логические рассуждения явно не понравились, и вышел.
В этот день произошёл перелом (или взлом, слом, надлом, точно не сформулирую, знаю только, что что-то необратимое). До этого момента я старательно пыталась выпутаться из создавшегося многопланового клубка и победить пресловутого Агента. Установившиеся под его руководством и ставшие нормой постоянные состояния неопределённости, ожидания нового приговора, сомнения, страха, полное отсутствие малейшего понимания или сострадания со стороны тех, кто меня «лечил» в сочетании с последствиями падения и аритмией, представляли собой и так нелёгкую задачу. Но в этот день, когда к Агенту подключилась его агентура, я поняла, что беспомощна перед ней, что у процесса нет конца; кто знает, сколько ещё подкованных товарищей готовятся нанести удар в ожидании удобного момента. В этот день ситуация вышла из-под всякого контроля и перешла в новое измерение, где доминирующим стало неуправляемое чувство животного страха, если не сказать ужаса. Меня не покидало ощущение, что за мной гонится стая разъярённых волков (или раковых агентов, не знаю, что страшнее). Впервые я поняла истинный смысл фразы «умереть от страха», оказывается, это действительно реально.
Испытав немало стрессов, как положительных, так и отрицательных, я всегда умела после них удивительно быстро восстанавливаться. Но этот многомесячный и многогранный стресс, сопровождаемый физическим недугом, оказался мне не под силу, я не смогла с ним справиться, и тут пошла, поехала полоса новых, уже рождённых страхом, проблем.
Врачи облегчённо вздохнули – наконец-то появилось нечто, на которое всегда можно списать всё со мной происходящее: чрезмерный страх, а следовательно, проблемы с психикой. Они с новой энергией и поразительным энтузиазмом стали изучать теперь уже мой страх. Для этого мне опять сделали анализ крови и оказалось, что мои гормоны, отражающие уровень стресса, сильно зашкаливают.
Было решено, что меня необходимо успокоить, а для этого мне прописали успокаивающее психотропное лекарство Занакс. Мне не хотелось принимать очередное психотропное, но было очевидно, что без него не обойтись. Я выпила первую таблетку и стала ждать, что вот-вот успокоюсь, но реакция моего организма на знаменитый Занакс оказалась прямо противоположной. Через двадцать минут все симптомы удесятерились. Спасибо Занаксу, он оказался препаратом недолгого действия, и через два часа я снова была в своём стабильном, постоянном состоянии ужаса без излишних всплесков. Мне объяснили, что с Занаксом иногда так бывает, что подбор психотропного – это дело тонкое и часто занимает какое-то время, нужно пройти через пробы и ошибки, чтобы сделать правильный выбор.
Следующей пробой и, безусловно, ошибкой стало другое психотропное. Название этого монстра я, к сожалению, не помню – было длинное и начиналось на М. Как мне объяснил доктор, его преимуществом является то, что его не нужно принимать регулярно, только по надобности. И вот первая таблетка спустилась вниз по моему пищеводу. Этот опыт оказался ещё более печальным: так же, как в случае с Занаксом, все симптомы усилились, но не в десять, а в сто раз, причём этим дело не ограничилось – начались галлюцинации. Вдобавок, этот препарат оказался препаратом пролонгированного действия и не сбавлял оборотов на протяжении 24 часов. Когда, после суток неописуемых испытаний, я стала возвращаться к своему хроническому состоянию, моей радости не было предела – казалось, что лучше себя чувствовать просто невозможно.
Так как подбор лекарства давался мне нелегко, было решено, что я буду продолжать принимать клонопин, несмотря на то, что к нему возникает привыкание. Я снова проконсультировалась с Доктором Стейшном, он мне велел не увлекаться, но утешил, что принимать препарат недели три я могу без проблем.
В те редкие моменты, когда мне становилось немного лучше, я пыталась разобраться, как же быть с назначенной биопсией. Я едва успевала сделать прописанные: хирургом – очередную маммографию; терапевтом – кардиограмму; невропатологом – ультразвук шеи и энцефалограмму; кардиологом – ультразвук сердца и Холтер монитор. Так месяцами тянулись мои будни. Я поговорила со своим бывшим гинекологом, под руководством которого родился мой старший сын (это был небольшой экскурс в прошлую жизнь, здоровую и ничем не омрачённую, ничем не напоминающую дурдом, в котором я оказалась, сама не понимая как). Он искренне недоумевал по поводу биопсии, сказав, что ничего более бессмысленного себе представить не может, так как, если не видеть на аппарате ультразвука или другого прибора какой-либо опухоли, с какого же места брать биопсию? Он мне сказал, что советовать не берётся, но, если я всё же решу делать биопсию, то лучше вообще вырезать яичники. Я решила ничего не делать, чем изрядно разочаровала своего Гинеколога, столь активно старающегося меня спасти.
Так прошло чуть больше года. К этому моменту я сменила терапевта. Новый оказался добрым и душевным человеком и хорошим врачом, но, к сожалению, дело уже зашло далеко. Накопившийся стресс, вдобавок к приобретённым проблемам, то и дело вылезал то здесь, то там в качестве очередного нового проявления, так что скучать не приходилось.
ГЛАВА 9
У СПЕЦИАЛИСТОВ
У дерматологов
В самый разгар всех медицинских событий на лице у меня стали появляться и надолго оставаться красные, весьма болезненные пузырьки. Терапевт порекомендовал обратиться к дерматологу. Хотя и не хотелось, но пришлось – уж слишком неэстетично выглядела физиономия, да и не было понятно, что это такое и отчего. Я подыскала специалиста с приличным образованием и недалеко от дома, пришла на приём, заполнила анкету и жду. Ждала, как ни странно, не очень долго. Довольно скоро появился Доктор Кожник и заявил, что ему не нравится почерк, которым я заполнила анкету, и он вообще не хочет меня видеть. Я несколько удивилась: мне казалось, что почерк у меня вполне приличный, но, как выяснилось, Доктор Кожник не разобрал одну цифру в моём адресе, и это его сильно оскорбило. Моментально прибежала секретарша, которая, видимо, не в первый раз была свидетельницей чего-то подобного, и разрядила ситуацию. После этого разъярённый Доктор схватил увеличительное стекло и сквозь него, наконец, посмотрел на моё лицо.
– Надо сделать анализ крови, чтобы исключить красную волчанку. И если окажется, что это не красная волчанка, я тебе скажу, что это, а пока будешь мазать эти две мази: антибиотик и стероид, – изрёк Доктор Кожник, протягивая мне два рецепта.
После этого он гордо покинул комнату, а мне велели назначить время очередного визита. С сотрясением мозга, аритмией, мышечными спазмами и судорогами, с подозреваемыми опухолями, зашкаливающими стресс-гормонами, умирая от страха и теперь уже с подозрением на красную волчанку, я покинула заведение. Должна сказать, что в данной ситуации я уже не испугалась и даже не расстроилась, так как на тот момент моей жизни плюс-минус красная волчанка дела не меняла, а Доктор Кожник мне был настолько омерзителен, что на сей раз его осторожность в установлении диагноза не оказала на меня никакого влияния.
Доктор, практикующий антропософскую медицину, о визите к которому будет ниже, мне запретил мазать стероидную мазь, обосновывая тем, что кожа на лице может стать тонкой, а антибиотиковую – одобрил; он же, глянув на моё лицо, сказал, что подозревать красную волчанку – просто абсурд. Анализ крови я не сделала и на повторный приём не пошла. Через какое-то время лицо само очистилось. Видимо, причиной послужило некоторое понижение стресс-гормонов.
Забегая вперёд, скажу, что на дермотологов мне всегда не везло. В январе этого года руки мои обсыпало ранками, подобными комариным укусам, которые безумно чесались. Первые недели две относилась я к этому факту несерьёзно и просто остервенело раздирала собственные руки, думая, что само пройдёт. Этот метод, вообще говоря, весьма эффективен и успешно практикуется многими представительницами женского пола: главное тут суметь отодрать как можно большую поверхность кожи, а потом заделать образовавшуюся траншею слоем штукатурки. Но на сей раз почему-то не помогло.
Когда я поняла, что ничего само не пройдёт, отправилась к Кожнику #1 (нумерация для этого конкретного эпизода). И вот, всего на один час позже назначенного времени (на лучшее рассчитывать не приходится) я зашла в соответствующий кабинет. Специалист взяла лупу, посмотрела на мою сыпь и молчит.
– Что это такое? – кое-как выдержав многоминутную паузу, спросила я.
– Неееееее знааааааюююю, – медленно, полуспящим голосом произнесла Кожник #1 и опять замолчала.
– Может укусы?
– Нееееет, зиииимааааа.
– Может от шерстяных свитеров?
– Неееее ноооооосииииииии!
– Может от еды?
– Неееее знааааююююююю.
– Может что-нибудь заразное, я боюсь домашних заразить?
– Неееее знаааюююю.
– Может что-нибудь системное, внутреннее?
– Неееее знааааааюююю.
– Ладно, понимаю, что не знаете, а хоть что-нибудь подозреваете? – уже, начиная раздражаться, спросила я.
– Нееееееет, – и опять молчание.
– А что делать? – уже, проклиная себя за то, что пришла сюда, задала я свой последний вопрос.
– Даааам рецепт на ооочеееень сильную стероидную мазь, если не поможет, через две недели надо сделать биопсию, – протягивая рецепт, так же медленно сказала Кожник #1.
Видимо, почувствовав безнаказанность, «укусы» стали стремительно распространяться на другие части тела; я прилежно пыталась их подавить прописаной стероидной мазью, но она их мало беспокоила. Я изолировала себя в отдельной комнате, моментально несла стирать всё, к чему прикасалась, не позволяла никому подходить к себе: а вдруг что-то заразное? Было очевидно, что опять надо идти к врачу.
Нашла другого, возглавляющего большую группу дерматологов с хорошей репутацией, окончившего престижные университеты и медицинские факультеты; с трудом уговорила секретаршу, чтобы та назначила мне приём не через две недели, а чуть пораньше, и пошла.
На сей раз прождала два часа в битком набитой приёмной, глядя по сторонам и думая: интересно, чем ещё заражусь и кого сама заражу? Так, интересно проведя время, я, наконец, оказалась в экзаменационной комнате, куда почему-то скоро зашёл сам специалист и стал мне рассказывать что-то из американского фольклора – сказку, подобную Колобку. Я не поняла, причём тут Колобок, но он мне объяснил, что как Колобка провела Лиса, так и он проведёт меня. Я уставилась на него в недоумении – оказалось, он шутил, чтобы создать непринуждённую обстановку.
– Что бы ни было, я тебе помогу, – сказал Доктор Кожник #2.
– А что со мной? – несколько обнадёженная, спросила я.
– Этого я тебе не скажу. Mожет быть всё, что угодно!!! – поставил диагноз мой #2, – но вылечу. Хорошо бы сделать биопсию.
– А можно без биопсии?
– Да, можно без биопсии, биопсию можно сделать через неделю, если лучше не станет, а пока я тебе кое-что пропишу.
На этом Доктор Кожник #2 стал посылать факсом в мою аптеку рецепты на: антибиотиковую мазь, внутренний антибиотик, внутренний антигистамин, успокаивающее-усыпляющее лекарство, лекарство от чесотки, крем от зуда и увлажнитель кожи, при этом велел продолжать стероидную мазь. Объяснил он такое обилие назначений тем, что неважно что со мной – что-нибудь из назначенного точно поможет. Даже две медсестры, присутствующие при происходящем, выглядели несколько удивлёнными. Уходя я всё же ещё раз попробовала выяснить, что со мной происходит, но диагноз не изменился: «Может быть всё, что угодно!!!»
От Кожника #2 я поехала домой, чтобы сосредоточиться и решить, как же быть со всеми прописанными лекарствами. Мне казалось полным абсурдом принимать столько всего одновременно. Мы с мамой поудивлялись, но решить ничего не смогли. Я собралась ехать за лекарствами, но в этот момент раздался телефонный звонок – звонила удивлённая фармацевт из аптеки.
– Извините, пожалуйста, но на ваше имя поступило столько рецептов, причём некоторые из лекарств стоят $100. Я хотела убедиться, что вы собираетесь всё это выкупать, – застенчиво поинтересовалась у меня женщина на другом конце провода.
Тут я подумала, что раз даже фармацевт недоумевает, то, наверно, лучше подождать и подыскать #3, может повезёт. Я попросила пока ничего не предпринимать, а сама продолжила свои поиски. Метью порасспросил на работе, и ему порекомендовали особо хорошего, но в Нью-Йорке, причём, как ни странно, Доктор мог меня принять на следующий день. Пришлось не посылать младшего сына в школу, так как ехать в Нью-Йорк к врачу – дело нешуточное: с поездами, дорогой и ожиданием может занять довольно много времени.
Был морозный январский день; согреваемая надеждой, что городской врач разберётся, я отправилась в Нью-Йорк. Офис Кожника #3 был маленький, чистый, светлый и уютный, да и ждать пришлось недолго – минут пятнадцать, так что всё шло как по маслу.
– Что тебя привело ко мне? – поинтересовался приветливый Доктор.
– Сыпь, – сказала я, показывая свои «укусы». – Что же это может быть?
– Дерматит, – без какого-либо сомнения ответил Кожник #3.
– А что значит дерматит? – спросила я с оптимизмом по поводу определённого и уверенно прозвучавшего диагноза.
– Сыпь, – столь же чётко объяснил Доктор.
– А…, понятно, – протянула я с поубавившимся энтузиазмом и начала про себя размышлять.
Интересно, если сыпь – это дерматит, а дерматит – это сыпь, нельзя ли обойтись употреблением одного из слов? Подумав какое-то время, я ощутила всю абсурдность поставленного мною вопроса. Я поняла, что сыпь – это жалоба, а дерматит – это диагноз!
Кожник #3 сказал, что мои «укусы» появились от сухости и зимы; велел не мыться, не купаться, не умываться, мыла не употреблять, мазать более сильную стероидную мазь (которую он прописал), обзавестись бидоном увлажнителя кожи и постоянно им пользоваться. Уверенность, чёткость и определённость Доктора окрылили меня, да и диагноз, заменивший жалобу, казался вполне убедительным – не зря за ним ехала в Нью-Йорк.
С тех пор аккуратно выполняю все предписания, лучше пока не становится. На языке постоянно вертятся отрывки из «Мойдодыра», а на уме – лютая зависть по отношению к судьбе его главного героя. Но это неважно, так как сказали, что до апреля точно всё пройдёт.
Вернусь к основному сюжету. Видя, что ни один Доктор мне ничем не помогает, я решила обратиться к альтернативной медицине.
Иглоукалывание и китайская медицина
В Нью-Йорк из Портланда (штат Орегон) приехал мой хороший приятель – физик, окончивший Московский Физико-Технический Институт. Мы встретились у наших общих друзей, и я ему поведала, что со мной столько всего напроисходило, что чувствую я себя безвылазно погано. На это он мне сказал, что в Портланде есть совершенно потрясающий иглотерапевт – китаец, какое-то время живший в Советском Союзе и говорящий по-русски. И вот этот чудо-иглотерапевт спас и его (моего приятеля), и его жену от самых разнообразных недугов. Меня особо привлекла история с его женой, так как она тоже страдала повышенной нервозностью, и её тоже не покидали какие-то страхи, связанные с медицинским прошлым. Я вдохновилась, послушав рассказы моего приятеля, которому бесконечно доверяю, и уже не сомневалась, что Доктор Ченг поможет и мне. Но не лететь же в Портланд. На радость, оказалось, что этот иглотерапевт настолько велик, что обширная клиентура у него имеется и в Нью-Йорке, где он довольно часто бывает.
Я позвонила Доктору Ченгу, он был приветлив и сказал, что мне крупно повезло, так как он будет в Нью-Йорке в конце месяца. Обещал, что, как приедет, мне позвонит. Слово своё он сдержал, позвонил, но оказалось, что у него уже столько записанных на приём пациентов, что времени на меня найти трудно. Тем не менее, он выделил мне маленькое окно в предельно неудобное для нас время. Делать было нечего, пришлось соглашаться. Мама в это время была в Ереване, так что я оставила детей с приехавшей мне на помощь тётей и своей подругой, а муж взял день отпуска, чтобы везти меня в далёкий Бруклин. Чего только не предпримешь, дабы вернуть себе драгоценное здоровье!
Приём был назначен на два часа дня, выехали мы ещё до двенадцати, разумеется, попали в пробку, но к двум часам всё же подъехали к дому иглотерапевта. Метью меня высадил, чтобы я не опоздала, а сам поехал парковаться.
Мы думали, что направляемся в какое-то заведение, подобное офису. Я позвонила, мне открыли подъездную дверь, я поднялась и оказалась в квартире, где никого, кроме Доктора Ченга не было. Везде и всюду висели какие-то странные шторы, он закрыл за мной дверь, и мне стало, мягко выражаясь, неприятно. Я как-то собралась, стала излагать ему свои жалобы, он посмотрел на мой язык, пощупал пульс. Благо, к этому моменту подошёл Метью, на душе стало спокойнее. И тут практикующий древнюю китайскую медицину Иглоукольщик заговорил:
– У вас дисбаланс между эндокринной, имунной и нервной системами. Положение очень серьёзное, надо немедленно взяться за дело. Если сразу же начнёте лечиться (разумеется, только у него), есть ещё надежда выкрутиться, а если нет, то проживёте… (пауза, спросил, когда у меня день рождения, что-то в уме посчитал, прикинул) до… 2012 года. Но есть проблема: как же мне вас лечить, если у меня весь график забит? Ну, я вам сейчас поставлю иголки, потом вам надо приезжать сюда каждый день, но у меня нет свободных мест, чтобы вас вписать… – так он долго размышлял, потом щедро выделил мне какие-то особо неудобные часы, чуть ли не в семь часов утра, испытывающе посмотрел на меня и спросил: – Ну как, соглашаетесь на такой курс лечения?
У меня колотилось сердце. Вдобавок ко всему, с чем я пришла, на сей раз целитель, который утешил, успокоил, придал жизненных сил моим друзьям, вынес мне такой неутешительный вердикт. Значит, действительно, ситуация плачевная, подумала я, посмотрела на мужа и спросила, что же делать. Он, не задумываясь, сказал, чтобы я на всё соглашалась, как-нибудь наладим поездки в Бруклин. Я попросила, чтобы доктор мне поставил иголки, а я дома подумаю, как мне организовать свой транспорт, и вечером ему перезвоню.
Целитель явно был доволен, план его сработал – мы с мужем клюнули. Ликующий Доктор Ченг вонзил иголки в мои уши, взял $120 за визит, ещё и навязал нам за $40 DVD с его личной программой выздорoвления от всех болезней, после чего мы ушли. Всю дорогу домой я тихо проплакала, а муж мрачно молчал. Плакала я от обиды, что нигде не могу найти никакой надежды, никакой зацепки.
Мы приехали домой, и вдруг неожиданно мне стало ясно, что больше я к этому человеку не пойду. Не пойду, даже если он прав, и даже, если он может меня вылечить. Я поняла, что он просто переборщил так же, как и Доктор Мерберг. Скажи он всё, что он сказал, кроме предсказания о 2012 годе, наверно, я бы потратила кучу времени, денег и нервов и, вполне вероятно, захотела бы попробовать его метод. Но мне крупно повезло, мне не пришлось идти на все эти жертвы благодаря тому, что он перестарался. Вечером я позвонила и сообщила ему о своём решении.
– Вы меня так напугали, что я думаю, что ходить к вам совершенно бессмысленно, так что можете записывать других пациентов, – сказала я.
– Я хотел сделать вам лучше, – разочарованно сказал иглоукольщик-предсказатель будущего, искренне недоумевая, что же не сработало.
Не скрою, предсказание популярного китайца продолжало неприятно присутствовавать во мне и создавать психологический дискомфорт. Я называю это дискомфортом, а не страхом, так как рационально понимала, что, если бы этот человек мог так точно предсказывать будущее, вряд ли он занимался бы тем, чем занимается. Тем не менее, избавиться от оставшегося неприятного ощущения мне очень хотелось. На этот случай, спасибо судьбе, есть на свете Алик!
Алик – друг всей моей жизни: мы росли в одном подъезде, учились в одном классе, потом учились в Ереванском Университете, потом были студентами в Московском Университете, потом были аспирантами в МГУ, потом оба преподавали в ЕГУ, а потом разъехались: я – в Америку, а он – в Москву. Алик – человек необыкновенной доброты и всех остальных моральных принципов. Он облaдает удивительной способностью делать добро всем вокруг себя и облагораживать людей своими поступками. Вспомнив одну неприятную ситуацию из своей жизни, и то, как я с ней разбиралась с помощью Алика, я решила попробовать тот же метод.
В детстве и молодости я обожала летать и часто это делала, особенно, когда училась в МГУ. В какой-то очередной раз, когда я летела из Еревана в Москву, что-то случилось с самолётом, он долго и упорно пытался, но никак не мог приземлиться, каждый раз шёл на посадку, потом снова взлетал, пассажиры сидели в гробовой тишине, экипаж никого ни о чём не информировал, короче, было страшно и неприятно. Наконец, мы каким-то чудом приземлились в Ленинграде, нас пересадили в другой самолёт, и мы долетели до Москвы. После этого случая мне летать разонравилось. Но желание оказаться в новом месте было куда сильнее, чем нежелание погружаться в самолёт. Надо было сделать что-то такое, чтобы облегчить психологический дискомфорт, связанный с предстоящим полётом. И вот я начала утрировать и высмеивать эту ситуацию. Каждый раз до полёта интересоваться у Алика, как он думает, долетит ли самолёт. Он с неизменной уверенностью и без сомнения отвечал, что самолёт долетит, мы смеялись, и я садилась в самолёт, который долетал.
Много лет спустя, пролетав много тысяч километров, летом я была в Ереване, там же был Алик. Мы все собрались дома у одного из наших одноклассников, и я по какому-то поводу выразила своё восхищение Аликом, на что хозяин дома поинтересовался, каким образом Алик завоевал столь высокое моё доверие.
– А…, это очень просто. Перед каждым полётом звонит Анока, спрашивает: «Как ты думаешь, самолёт долетит или нет?» Я говорю: «100% долетит». Она говорит: «Да? Ну, хорошо». Потом самолёт долетает, и я оказываюсь прав, – последовало кристально точное объяснение Алика. Тогда мы все повеселились такому описанию сеанса психотерапии.
Вспомнив этот случай, я подумала, что будет прекраснейшей возможностью использовать ту же модель с этим новым, весьма конкретным психологическим дискомфортом. Решив, что хорошо бы предсказание Иглоукольщика высмеять и утрировать, я позвонила Алику.
– Алик джан, представляешь, как я влипла, пошла на иглоукалывание, и вот на что напоролась. (Тут последовал краткий рассказ о происшедшем.) Как ты думаешь – это правда? – неуклюже хихикая и с некоторым замиранием сердца, поинтересовалась я.
– Сущая ерунда, глупость, говорю тебе на 100%, что этого не может быть – как всегда верный своим человеколюбивым принципам и мне, ответил Алик.
– А, ну хорошо, спасибо, я просто хотела у тебя узнать – сказала я, и мы стали говорить о чём-то другом.
Конечно, прощаясь, я ещё раз подтвердила Аликин ответ.
– Точно – это глупость?
– Гарантирую.
Слово лечит, слово избавляет, слово помогает. Так я пыталась разобраться с призраками Иглоукольщика и 2012 года.
Антропософская медицина
Следующей попыткой спастись был поход к доктору, практикующему антропософскую медицину. Должен же найтись хоть кто-то, кто может мне помочь! Недалеко от нашего дома находится антропософский комплекс, состоящий, как я поняла, из школы, дома престарелых, курятника и леса. В лесу, напротив курятника, стоит маленький симпатичный деревянный коттедж (я видела много таких в Германии). В этом коттедже располагается медицинский офис, где практикуют несколько врачей, они же являются врачами дома престарелых и школы. Я записалась на приём к одному из докторов. Мне понравилось, что он окончил престижный медицинский институт Америки, то есть был не только сугубо антропософским, но и классическим доктором.
Уже наученные горьким опытом и не имеющие понятия, чего же ожидать на этот раз, мы с Метью в назначенное время приехали в этот комплекс. Запарковались рядом с курятником, зашли, заполнили анкеты, сидим, ждём. Оба молчим и смотрим по сторонам, изучаем обстановку. Деревянный дом, на стенах картины – всё тепло, добро и по-человечески. Но что привлекло здесь наше внимание – это люди. Все – и работающие, и пациенты – имели что-то общее: покатые плечи, бледный цвет лица, скромная, немодная одежда, никакой косметики, украшения – не бриллианты и изумруды, а что-то либо деревянное, либо матерчатое, самодельное; если камни, то только необработанные. Никто из них (работников и, тем более, пациентов) не оставлял впечатления пышущего здоровьем человека. Общая атмосфера, можно сказать, была добрая и безобидно скучноватая. Мне лично казалось, что у меня там самый здоровый вид, невзирая на весь букет моих проблем и из рук вон плохое самочувствие.
И вдруг в офис вошла женщина с крашеными, как-то особо причёсанными волосами, подчёркнутыми грудями, приталенной одеждой и заговорила чуть громче всех остальных. Я удивлённо посмотрела на мужа, дескать, что это ОНА здесь делает?
– Она, наверно, здесь в первый раз, – немного подумав, ответил он на мой немой вопрос.
Мы от души посмеялись. А потом была моя очередь, и меня позвали в кабинет.
Доктор мне понравился с первого взгляда, несмотря на моё сформировавшееся в приёмной предвзятое отношение. Это был человек с добрым и мудрым взглядом, чем-то напоминавшим мне взгляд моего дяди. Он внимательно меня выслушал, посмотрел на результаты всех моих анализов. Сокрушался по поводу того, до чего меня довели, моментально исключил красную волчанку (я была у него через два дня после кожника, то есть диагноз красной волчанки был на тот момент самым свежим), сказал, что сам не знает, чем объяснить повышенный уровень злополучного СиЭй-125, но пренебрегать им не советует; считает, что в данный момент в первую очередь надо во что бы то ни было успокоиться. Он искренне осуждал установившийся в медицине стиль, когда делается множество тестов зачастую с неоднозначными результатами и то, как, пытаясь застраховаться, врачи трактуют эти результаты. Доктор прописал мне много антропософских лекарств: шарики, пилюли, масла: лекарства пахнущие – для нюхания, тающие – под язык, мажущиеся – для мазания, и много всякого другого. Основным достоинством этих лекарств было то, что они были хотя бы безвредными и без побочных эффектов. Может даже они меня в какой-то степени успокили и помогли с аритмией – пожалуй, приступы стали случаться немного реже, не знаю, не уверена. На самом деле помог мне, кажется, сам доктор – своей мудростью, добротой, человеческим отношением и искренним желанием помочь. Это был удивительный визит, начавшийся весьма скептически, а в результате давший мне ощущение тепла и заботы. Доктор внушил мне глубокое доверие, и я была рада думать, что при необходимости всегда могу обратиться к этому прекрасному человеку. Я с большим энтузиазмом выполнила все его предписания, хотя принципиального облегчения они мне всё же не принесли.
Гипноз
Я продолжала читать, изучать и думать. Всё, мною прочитанное о гипнозе, внушало надежды. Только где найти гипнотизёра, который мог бы помочь: либо внушить что-то новое, либо стереть что-то старое, да так, чтобы жилось немного спокойнее, хотя бы без стаи постоянно бегущих за мной разъярённых волков? Казалось, что это вполне возможно, если будет сделано правильно. Гагик тоже советовал попробовать и был настроен оптимистично. Дело сводилось к тому, чтобы отыскать специалиста, а не шарлатана.
Задача не из лёгких, когда почти что каждый психолог говорит, что может делать гипноз. Нью-Йорк – город большой, там можно найти всё. Я стала искать и нашла заведение с серьёзным и внушающим доверие названием «Институт Фрейда». Я туда позвонила и поговорила с ответственным товарищем, который рассказал мне, какие чудеса творят гипнотизёры. Гагик тоже позвонил и порасспросил этого же человека. После досконального изучения его образования и профессионального опыта было решено, что можно попробовать: не зря же, всё-таки, заслуженный деятель гипнотических искусств приобрёл свою репутацию! И я направилась в институт Фрейда в самом центре Нью-Йорка, представляя себе внушающее доверие медицинское заведение, где творят чудеса.
В прекрасный майский день Метью и я подходим к гигантскому небоскрёбу, при виде которого я думаю: «Надо же, какое солидное заведение!» Заходим в подъезд, пытаемся понять, куда идти и видим слова «Институт Фрейда», напечатанные маленькими буквами, рядом с номером очередной квартиры в небоскрёбе. На ум моментально, без всякого приглашения и крайне бесцеремонно, приходят Ильф и Петров вместе с Остапом Ибрагимовичем Бендером, но я их честно гоню. «Для того, чтобы делать хорошие дела, необязательно быть большой организацией!» – думаю я, надеясь взбодрить несколько увядшее настроение.
Поднимаемся на какой-то там небо скребущий этаж, звоним в дверь. Открывает сам гипнотизёр. Откуда-то звучат голоса (неизвестно откуда и чьи, мы никого не видим). Муж остаётся в приёмной, а я прохожу в кабинет с комфортабельными креслами, кожаным диваном, большими окнами и широким панорамным видом Нью-Йорка. Я сажусь в кресло, он – на диван, после чего я кратко излагаю свои проблемы. Послушав, продолжатель дела Фрейда (Фрейд умер, но дело его живёт!) даёт мне понять, что более простого случая не может быть. Я с ним соглашаюсь, так как знаю: если вернуть меня в состояние, в котором я была до эпопеи с Агентом СиЭй-125, то всё будет хорошо. Компетентный товарищ говорит, что сейчас постарается меня загипнотизировать (при этом оговаривает, что иногда получается не с первого раза), запишет весь процесс на аудиокассету, которую мне отдаст, и я должна буду слушать её каждый день, и если в этот раз меня загипнотизировать не удастся, то в следующий раз я уже буду готова, и тогда уже получится наверняка. Что греха таить, в этот момент я подумала, что шансов мало – уж слишком часто он предупреждал, что может не получиться. Тем не менее, я всё ещё была настроена на успех.
Выдающийся последователь Фрейда велел, чтобы я закрыла глаза и представляла море, берег, счастье и так далее. И чем дольше он это делал, тем быстрее я двигалась в направлении, противоположном от транса, гипноза, спокойствия, расслабления и отдыха. Человек меня раздражал безмерно, и мне очень хотелось, чтобы он просто замолчал. Когда, наконец, наступил этот счастливый момент, он спросил, хорошо ли мне было. Я сказала: «Не так, чтобы очень». Заплатила $100, получила волшебную кассету и удалилась без какого-либо намерения когда-нибудь туда вернуться.
Я вспомнила, как папа однажды в санатории записался на сеанс гипноза, который должен был помочь участникам лучше спать (папа всегда страдал бессонницей). И вот, навалило туда очень много людей, желающих поспать. Пришли, улеглись, заснули, храпят, потом начался сеанс, гипнотерапевт повторяет: «Вы спите! Вы спите!» – папа лежит и совсем не спит, только слышит храп и «вы спите!» Потом сеанс завершился, кто проснулся, кого разбудили, и все, вполне удовлетворённые и довольные полученным гипнозом, разошлись, с нетерпением ожидая следующего сеанса.
Биофидбак
Гагик порекомендовал мне попробовать биофидбак. Я понятия не имела, что это такое и, до того как пробовать, решила изучить. Я прочитала толстенные книги, материалы симпозиумов, статьи ведущих учёных и поняла, что не помочь это просто не может. Особенно вдохновляло, что при биофидбаке контроль над процессом фактически остаётся в руках пациента, который больше, чем кто-либо другой, чувствует, что именно ему нужно, что помогает, а что – нет.
Такой подход как нельзя более соответствует моему складу, ибо, если какая-то жизненная ситуация выходит за рамки моих представлений, то ближним в таких случаях лучше занять оборонительную позицию где-нибудь в ядерном бункере и затаиться. Строго по плану или перевыполняя его, я всегда должна чувствовать, что «командую парадом», каждый, даже малюсенький этап которого не имеет права ускользнуть от моего бдительного контроля. Может быть, потому мне так трудно лечиться?
Конечно, я прекрасно осознаю, что как пациент я – не подарок, но дело не только во мне. Благодаря богатейшему опыту, приобретённому за годы столь успешного «лечения», я поняла, что основной чертой, если не сказать, профессиональной мечтой, любого плохого врача является полнейший контроль над пациентом – ведь таким образом скрывается некомпетентность. Хорошему врачу это просто не нужно. Он занят тем, что лечит: и словом, и делом, а тем самым вызывает к себе доверие, и контроль передаётся ему естественно, добровольно и с благодарностью. А плохой, не зная, как лечить, калечит и словом, и делом: запугивает и создаёт видимость разумной деятельности, прописывая длинную цепочку анализов, по ходу которой тебя будут пасовать, как футбольный мяч, из одного кабинета в другой, пока не найдут чего-нибудь, за что можно зацепиться. И вот тогда всё пойдёт по второму кругу, и уже гораздо серьёзней. И чем дольше это будет происходить, тем слабее будет твоя воля к сопротивлению, тем больше мнимых или уже настоящих болезней будет тебя беспокоить, и тем сильнее ты будешь зависеть от всесильных жрецов медицины. К сожалению, сразу это понять, разобраться в такой модели довольно трудно, то ли по наивности, то ли по неопытности. А плохих врачей (как и других специалистов) немало – гораздо больше, чем хороших. Вот и получается, что насильственно хотят отобрать у тебя контроль, а как же отдать его, если нет доверия? Трудно. Однако же, вернёмся к биофидбаку, где с контролем не расстаются.
Суть этого способа лечения сводилась к тому, что с помощью разных приборов я должна была изучать зависимость реакций моего мозга на определённые, мои же, мысли. К моей голове специалист подключал электроды, а на экране компьютера появлялись волны, производимые моим мозгом. В зависимости от мыслей эти волны менялись. Моей задачей было понять, о чём думать, чтобы подавлять плохие волны и состояния (разрушающие и вырабатывающие стресс-гормоны) и поощрять хорошие. Идея заключалась в том, что когда ты понимаешь, что способствует возникновению полезных волн, и делаешь это достаточно долго, это превращается в привычку, и ты получаешь возможность контролировать своё психическое состояние.
Отделение биофидбака было в офисе моего невропатолога, которого я ценила. Специалист оставлял приятное впечатление. Эти факторы в сочетании с моей верой в то, что новый способ должен сработать, создавали все предпосылки для успеха дела, и я решила не сдаваться.
Конечно, во время первого же сеанса мне сказали, что надо купить набор из нескольких CD со всеми сеансами какого-то Гуру Биофидбака и слушать их каждый вечер перед сном, до тех пор, пока я привыкну к голосу, и он начнёт мне помогать. Стоило это удовольствие $140.
Каждый раз, когда я приходила на сеанс, мы сперва немножко общались, в основном, обсуждали прочитанные мною статьи. Каждый раз я подчёркивала, что доверяю им и собираюсь вылечиться. Специалист, в свою очередь, каждый раз говорил мне, что никогда не имел пациента умнее меня. Я искренне сожалела об этом и выражала ему своё сочувствие.
Потом он подключал к моей голове электроды, а я начинала изучать свои волны. Всё было просто, стоило мне подумать о любимых людях, на экране появлялись хорошие волны, подумай я о чём-нибудь другом – это сразу отражалось на картинке. Парадокс заключался в том, что я без электродов, экрана и волн и так постоянно думала о любимых людях. Но чем больше я о них думала, тем страшнее мне было от всего того, что происходит со мной.
Настроенная бороться до конца, я побывала на этих сеансах раз двадцать. К сожалению, никакого облегчения они мне не принесли, хотя и потратила я на них кучу времени и денег. Несмотря на это я довольна, что ознакомилась с этой весьма интересной формой избавления от недугов, и по сей день верю, что, если делать правильно, метод этот должен работать.
Во время последнего визита я выразила специалисту своё недоумение: я спросила его, почему же по его мнению лечение мне не помогло, а должно было бы. Он мне объяснил, что, несмотря на мои упорство и веру, лечение не сработало, потому что я слишком умна. Я ответила, что, во-первых, это, конечно же, вопиющее преувеличение (пришлось покривить душой!), а, во-вторых, призналась, что при прочтении огромного количества серьёзной научной литературы у меня не создалось впечатления, что эти учение и методика лечения рассчитаны исключительно на тупиц.
Средства Массовой Информации
Так шли годы. За это время постепенно головокружение и движение кадра перед глазами прошли, клонопин иногда помогал, но имел кучу неприятных побочных эффектов, агенты (или маркеры) были повышены (то стабильны, то продолжали повышаться), к чувству страха я привыкла и с ним жила. Самыми мучительными и выматывающими симптомами оставались регулярные ночные спазмы мышц спины, рук и челюсти, о причинах которых никто не догадывался, а потому предполагалось, что носят они психический характер (то ли от страха, то ли просто дама с приветом).
Летом 2009 мы поехали в Ереван. Там я себя чувствовала существенно лучше. Я как-то отвлекалась, немножко повеселела, смогла чуть реже думать о беспокоящих меня проблемах. Лето пробежало как обычно быстро, и когда мы вернулись в Нью-Йорк, я обратила внимание на то, что первый плакат, который мне попался на глаза в аэропорту Кеннеди, рекламирует некую больницу, которая особенно успешно предотвращает, диагностирует и лечит какую-то форму рака. Потом мы сели в машину, где было включено радио, через каждые несколько минут вещавшее что-то о раке. Перед нашей машиной ехала другая машина, на бампере которой был приклеен плакатик, гласящий: «Life is good!» (чтобы ни у кого не было сомнения).
Я подумала, что целый месяц в Ереване не слышала слова «рак» и поняла, насколько это было важно для меня. Я стала больше наблюдать и заметила, что далеко не всё вокруг о раке – аналогичные гостеприимные и жизнеутверждающие плакаты есть на любой вкус: для тех, кто боится инфаркта, инсульта, темноты, высоты, изнасилования и так далее. И каждому человеку, в зависимости от того, чего он конкретно боится, попадаются на глаза специально настроенные на его случай плакаты и радиопередачи. А если ты вдруг чего-то не боишься, то будет сделано всё, чтобы заставить тебя пересмотреть этот опрометчивый подход к жизни. Страх – настолько сильное чувство, что ради избавления от него люди готовы на всё – вот как работает одна из ветвей маркетинга.
Когда мой старший сын был в четвёртом классе (!), у его учительницы от рака лёгких умер отец. Она сообщила об этом ученикам; мой сын взволнованно поинтересовался у неё, была ли у её папы месотелиома (одна из форм рака лёгких). Меня удивило, откуда он знает это не очень легко произносимое слово. Оказалось, во время одной из его любимых детских телевизионных программ несколько раз идёт реклама какого-то юридического заведения, говорящая, что содержание в воздухе асбеста может стать причиной месотелиомы, и что, если кто-то ею заболеет, то юристы этой фирмы могут с удовольствием засудить то ли асбест, то ли тех, кто его производит. Ценная информация для девятилетних детей!
Как-то я была занята на кухне и почему-то ни о чём плохом не думала. Оставлять это дело без присмотра не стоило – сразу же зазвонил телефон, и чей-то записанный на автоответчик голос стал вещать: ФБР предупреждает, что количество грабежей в районе, окружающем наш городок, существенно возросло, они происходят почти что ежеминутно и, чтобы избежать этого, нам необходимо что-то (не помню, что именно) приобрести.
А две минуты тому назад, когда я редактировала эти строки, позвонили и зловещим голосом стали предлагать всему семейству сделать прививку от опоясывающего лишая, угрожая тем, что не сегодня-завтра он обязательно придёт. Я сказала, что никто из нас не болел ветрянкой (опоясывающий лишай бывает только у переболевших ветрянкой), тогда предложили сделать прививку от ветрянки, объясняя тем, что в таком случае сперва придёт она, а потом и он не заставит себя долго ждать.
Когда у человека нет конкретного опыта, запугать его такими глупостями хотя и возможно, но трудно. Но когда у человека есть конкретный опыт пережитого страха, возобновить его каким-нибудь совершенно банальным, глупым, на первый взгляд, совсем нестрашным плакатом очень элементарно. Плакат служит триггером или бомбой, приводящей в действие глубоко сидящие страхи. Ведь до того пресловутого апреля 2006 года, наверняка, везде и всюду висело не меньше плакатов, но я их даже не замечала. Наверняка, радио говорило о раке и других ужасах ничуть не меньше, но всё это моментально отлетало от меня.
Очевидно, многие люди в какой-то момент жизни заболеют чем-то неизлечимым, но неужели так необходимо, чтобы врачи с помощью средств массовой информации и средства массовой информации с помощью врачей делали всё возможное, чтобы пока ещё здоровые люди уже жили как больные?
В течение лет я постепенно стала понимать это, и чем больше я стала понимать и замечать, тем больше я могла контролировать производимый эффект. А самым полезным методом контроля оказалось чувство юмора.
Помню, совсем недавно еду я со своим старшим сыном в автобусе на шахматный турнир, сижу, как все, уставившись в телефон; крутой поворот отвлекает меня, я поднимаю голову и вижу при въезде в туннель гигантский плакат с изображением обнимающихся мужчины и женщины, томных и романтичных, и читаю написанное над этими объятиями опять же большими буквами: «Women suffer from prostate cancer too…» («Женщины тоже страдают от рака простаты»). Так что, если какая женщина не догадывалась об этом, пора бы задуматься и провериться.
А потом мы приехали на турнир, который проходил в гигантских залах гостиницы «Настоящий Американец». И пока мой сын играл, я прогуливалась по залу и время от времени наблюдала за положением на шахматной доске. Моё внимание привлекло то, что на каждой колонне этого гигантского зала был прикреплён большой чёрный листок с изображением человека, умирающего от удушья, с ярко красной надписью «Chоking Hazard!» и описанием того, сколько человек в год получают удушье от того, что заглатывают какие-то предметы. Я немножко поразмыслила и поняла: видимо, в контексте шахматного турнира это весьма уместное предупреждение, так как любой из шахматистов либо от радости победы, либо от отчаяния поражения, либо просто от восторга, вызванного красотой партии, может самым естественным образом попытаться проглотить шахматную фигуру. Это необыкновенно гуманно со стороны организаторов турнира и менеджмента гостиницы предупредить шахматистов, что глотать фигуры (особенно короля и ферзя!) небезопасно.
У эндокринолога
Ввиду того, что мои стресс-гормоны продолжали зашкаливать, мышечные спазмы с завидной регулярностью повторялись каждый день в районе пяти часов утра, а ещё к ним присоединилось внутреннее, а иногда и внешнее дрожание рук, мне посоветовали пойти к эндокринологу – проконсультироваться, что же происходит с гормонами и всё ли в порядке с гипофизом, надпочечниками и щитовидной железой.
В нашем городе работал эндокринолог с хорошей репутацией; мне было известно, что он вовремя диагностировал и тем самым спас довольно много людей. Проблема заключалась лишь в том, что к нему было трудно попасть. Надо было ждать два-три месяца, а в день визита надо было долго торчать в приёмной (мне объяснила его секретарша, что именно потому он такой хороший, что не жалеет времени ни на одного пациента). Так как состояние моё, хоть и мучительное, было стабильным и хроническим, я решила дождаться.
Ждать пришлось три месяца, но мне повезло, так как приём был назначен на девять часов утра. А это означало, что очередь будет небольшой и что я успею в школу за ребёнком. Однако, едва переступив порог приёмной, я сразу поняла, что об этих мечтах надо забыть. Приёмная была битком набита людьми, пришедшими сюда с провизией, книгами, работой, короче с планами на весь день. Никто из ожидающих не нервничал и не спешил. Это были хронические больные, нуждающиеся в регулярных проверках и знающие, как они обычно проходят. Когда я робко поинтересовалась у этих людей, есть ли у меня шанс освободиться до 12:15, они сочувственно посмотрели на меня, потом на часы и сказали: «Нет, ну как, до 12:15 – это почти невероятно, хотя кто знает, всё может быть».
Но в 11:30 случилось чудо – меня позвали в кабинет врача! Конечно же, сразу стали измерять давление, пульс, температуру. «Доктор примет вас очень скоро»,– сказала медсестра, вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Я стала ждать, и ждать, и ждать… Чем дольше я ждала, тем больше у меня громыхало сердце, стучало в висках, я становилась всё краснее и взвинченнее. Потеряв последнюю надежду успеть в школу, я позвонила маме и попросила, чтобы она пошла за ребёнком. А сама, уже сдавшаяся и несчастная, продолжала ждать доктора, одновременно представляя себе, как моя мама со своей неразгибаемой спиной и больными ногами ползёт вверх на вершину холма, где располагалась школа.
Спустя почти два часа после входа в кабинет случилось очередное чудо, и в комнату всё же вошёл Доктор. Представительный симпатичный человек лет шестидесяти, явный жизнелюб южных кровей. Он бросил на меня орлиный взгляд, уставился на результат моего анализа крови и спросил, что случилось. От напряжённого и неопределённого ожидания я настолько иссякла, что даже толком не могла ему что-то объяснить. Я рассказала про падение, многолетний стресс, спазмы, дрожание рук и спросила, могут ли эти явления иметь гормональный характер. И тут произошло что-то совершенно неожиданное. Доктор опять бросил на меня орлиный взгляд, на сей раз с примесью то ли раздражения, то ли возмущения, и неожиданно завопил:
– Посмотри на себя!!! Посмотри на себя!!! Какие гормоны??? О каких гормонах ты говоришь???
Я чуть не расплакалась, я ничего не понимала, мне начало казаться, что дело настолько плохо, что уже поздно даже думать о гормонах. А он продолжал орать и возмущаться. Это всё длилось довольно-таки долго: я даже не осмеливалась спросить, что он имеет в виду, так как заплакала бы, если бы открыла рот.
– Посмотри на себя в зеркало! Ты видела себя в зеркале? – продолжал он раздражённо кричать.
Я молчала, сжав губы как маленький ребёнок, отдавая себе отчёт в том, что давно не заглядывала в зеркало и даже не имею представления о том, что же я могла там увидеть, если бы заглянула.
– Ты выглядишь ВЕЛИКОЛЕПНО, о каких гормонах может идти речь, когда человек так выглядит. Мне очень жаль (или не жаль, я не знаю), но ко мне ты – не по адресу! – несколько поубавив пыл, договорил мой Доктор.
Я была готова рыдать – накопившееся напряжение искало выхода. Тут он резко переменил тон.
– Уровень гормонов повышен от стресса. Разберись со стрессом – гормоны нормализуются. Но симптомы у тебя серьёзные, и с ними надо что-то делать. Тебе нужен хороший невропатолог.
– У меня есть хороший невропатолог.
– Кто?
– Доктор Стейшн.
– А, – снисходительно сказал эндокринолог.
Он схватил телефонную трубку, куда-то позвонил и стал что-то на своём языке долго и эмоционально обсуждать. Потом положил трубку и сообщил, что договорился со своим соотечественником, невропатологом из группы Доктора Стейшна, что я пойду к нему на приём. Этот человек – специалист высшего класса, и он, наверняка, поможет. Я сказала, что всё хорошо, только я уважаю и ценю Доктора Стейшна и, мне кажется, что было бы верхом неэтичности идти к кому-то другому из его же группы. Тут мой эндокринолог встал из-за стола, направился в сторону двери, давая мне понять, что визит окончен. Я тоже встала, он подошёл ко мне, схватил за то место, где когда-то была талия, и очень заботливо и доверительно прошептал в моё ухо:
– Слушай, этот Стейшн – 66-летний старик. Зачем тебе нужно мнение такого старого врача? Мой друг – молодой, энергичный, иди к нему и дай мне знать, что он скажет.
Постепенно впечатления от столь сумбурно проведённого дня притупились, а мысли стали более ясными, и я оценила, что побывала у хорошего врача. (Хороший врач – врач, который среди прочих своих достоинств может найти в себе силы и мужество сообщить здоровому пациенту, что он здоров хотя бы в узкой области специализации этого врача.) Эндокринолог, полуиздеваясь, полукокетничая, фактически выгнал меня из своего кабинета, при этом не оставил во мне ни капли сомнения или подозрения в том, что в его области нет никаких проблем. Сказать, что он был ко мне невнимателен, я не могу, он чётко понимал, что меня что-то беспокоит и я нуждаюсь в помощи. В то же время он сознавал, что сам помочь не может, но постарался дать мне совет и направление. Чего большего я могла от него ожидать? А ведь мог бы назначить много тестов, проверить тысячу гормонов, половина из которых была бы или чуть выше нормы или чуть ниже, потом сказать, что через три месяца анализы надо повторить – и пошло-поехало по небезызвестному сценарию. Так что, если человек готов идти к врачу на целый день, то именно к этому – определённо стоит, рекомендую, тем более, что визит проходит по совершенно нестандартному сценарию.
У гастроэнтеролога
В связи со всем вышеописанным в какой-то момент меня начали беспокоить гастритные явления. Сперва я пыталась справиться с ними самостоятельно, питаясь более осторожно и избирательно, принимая какие-то растительные средства и лекарства, которые можно приобрести в аптеке без рецепта врача. Особым успехом моя самодеятельность не увенчалась, и пришлось снова тащиться к терапевту (святой человек!) на консультацию. Он прописал мне таблетки и сказал, что, скорее всего, – гастрит или язва. Попила я это лекарство с месяц, и мне стало лучше. Доктор посоветовал продолжить приём лекарства ещё пару недель, что я прилежно сделала. Однако примерно через неделю мне стало существенно хуже, несмотря на дотошное выполнение всех предписаний. После этого мой лечащий врач решил, что необходима консультация гастроэнтеролога.
Настроение у меня подпортилось, но делать было нечего. Так через пару недель я оказалась на новой территории – в офисе у гастроэнтеролога.
Доктор, на редкость деловая женщина, оказалась человеком спортивной чёткости. Визит мой длился ровно три минуты. Она мельком взглянула на мои бумаги, ознакомилась с моими жалобами и выпалила:
– Мне нечего тебе предложить, кроме гастроскопии. Это единственное, что нужно, чтобы поставить диагноз. Надо исключить рак желудка и пищевода.
Тут я ощутила и по достоинству оценила результаты, которых я достигла в итоге моего многолетнего опыта общения с врачами. Вместо того, чтобы заволноваться или испугаться, я даже как-то обрадовалась и была приятно удивлена, что надо делать всего один тест и исключать всего два рака.
– А это делают под общим наркозом? – поинтересовалась я.
– Да, но, если хочешь, тебе могу сделать без общего наркоза – ты выдержишь. Иди, договаривайся с секретаршей, где, что и когда, – сказала она и направилась в соседний кабинет к очередному пациенту.
А я пошла назначать день гастроскопии. Пока я это делала, она уже выскочила из второго кабинета и по дороге в третий быстро отчеканила:
– Рак выкинь из головы, вероятность – меньше одного процента, – и без лишних вопросов и комментариев продолжила свой путь.
Видимо, какой-то женской интуицией она почувствовала, что нет нужды травить и так затравленное животное, за что я ей была благодарна.
Время текло мучительно, я плохо себя чувствовала и боялась. Многолетнее ожидание результатов анализа, не приводившее к разрешению проблемы, сделало на мне своего рода биофидбак, а именно, приучило меня впадать в страх в качестве реакции на состояние любого, а тем более медицинского, ожидания. Так что три недели до самого теста я аккуратно пила свой клонопин, чтобы хоть немножко успокоиться и спать. И вот, накануне назначенной процедуры мне позвонили из больницы, чтобы уточнить и подтвердить все детали.
– Можно поговорить с (какое-то подобие моего имени)?
– Говорите.
– Завтра в десять часов утра вам должны делать гастроскопию. Вам нельзя с вечера ничего кушать, вас должен кто-то сопровождать и вы не можете сесть за руль машины после процедуры. Вам это известно?
– Да.
– Следующий вопрос: записано ли в вашем завещании, кто будет принимать решение за вас, если вы будете без сознания, в коме или не в состоянии самостоятельно принимать решение?
– А что, мне должны сделать что-то, что может повлечь за собой столь серьёзные последствия?
– Всё может быть.
– То есть как?
– Я повторяю вопрос: у вас это есть или нет?
– Да, есть.
– Хорошо, значит завтра в десять.
Это был безусловно приятный, бодрящий и обнадёживающий разговор в канун процедуры, ожидание которой и так было не из самых радостных.
Я проглотила свой клонопинчик, и утром мы с Метью отправились в больницу. Там меня встретили две удивительно приветливые санитарки, нацепили на меня браслетик с моим именем, дали халатик и мешочек для моей одежды, а мужу сказали, чтобы ждал в вестибюле больницы часа три. При этом велели мне снять все мои украшения и отдать их Метью, чего мне не хотелось делать, так как это были мои талисманы, но переубедить санитарок я не смогла. Поразмыслив, я заподозрила, что санитарки не знают, что гастроскопию мне обещали делать без наркоза.
– А почему ждать три часа и почему нельзя оставить на себе украшения, меня же не будут усыплять? – с громыхающим сердцем поинтересовалась я.
– Что? – усмехнулась одна из санитарок, – это невозможно, у людей только от приближения эндоскопа начинаются рвотные позывы и становится настолько плохо, что эндоскоп даже невозможно засунуть. А так заснёшь и всё, – утешила она меня.
– Как это, у меня же аритмия, я не хочу наркоз, доктор обещала, – как маленький ребёнок, не унималась я, готовая заплакать.
Но тут произошло нечто неожиданное. Одна из санитарок приблизилась ко мне, в упор уставилась в моё лицо и говорит второй:
– Ты знаешь, мне кажется, с таким позитивным взглядом на жизнь эта женщина ВСЁ может выдержать. Давай подождём и спросим у доктора до того, как подключим внутривенный раствор.
Я не понимала – это во сне или наяву. В момент, когда в моей голове не было ни одной оптимистической мысли, кто-то мог аргументировать что-то моим из ряда вон выходящим позитивным отношением к жизни?!
– Да, ты, наверно, права, – согласилась с абсурдом вторая санитарка, которая похлопала по моему плечу и добавила: – Молодец! Хоть бы все так! Образцовый подход. Но внутривенный раствор мы ей всё равно начнём и подготовим анестезиолога, чтобы вдруг, если не выдержит, не прерывать процедуру.
После этого меня повезли на каталке в процедурную, подключили раствор, и тут пришло сообщение, что поступил больной в тяжёлом состоянии и доктор опаздывает. Так мы прождали порядка часа. Потом пришла доктор, быстро, чётко и мастерски сделала гастроскопию. Я, конечно же, выдержала. Санитарки были в восторге, только не могли понять, зачем ТАКОЕ терпеть, если можно взамен спокойно поспать, но в результате всем было хорошо, кроме, наверно, анестезиолога, который остался без дела.
Процедура длилась минут пять, после чего Доктор скороговоркой сказала, что она думает, что у меня многоочаговый атрофический (или что-то вроде того) гастрит, но для точности нужно дождаться результата, для оглашения которого она велела мне через десять дней прийти на приём в её офис. А я, бодро соскочив с каталки, чуть ли не под аплодисменты санитарок, своими ногами вышла в вестибюль больницы вместо того, чтобы ещё два часа приходить в себя после наркоза. В вестибюле циркулировал обеспокоенный Метью, не знающий у кого и что спросить.
Через десять дней всё подтвердилось, и мы с новым энтузиазмом стали лечить многоочаговый атрофический гастрит.
ГЛАВА 10
ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН: У ПСИХ…ОВ
Так как мои мышечные спазмы и все сопутствующие им симптомы со временем становились всё хуже и хуже, я регулярно оказывалась у своего невропатолога в надежде узнать что-то новое, что могло бы мне помочь. Доктор Стэйшн был всегда внимателен и заботлив по отношению ко мне. Он от души хотел, чтобы мне стало лучше, и искренне сочувствовал, что этого не происходит. В очередной раз он велел мне сделать энцефалограмму, которая в очередной раз ничего не показала.
– Хочешь сделать какой-нибудь другой тест? – поинтересовался он у меня.
– Если вы считаете, что тест нужен, сделаю, а если нет, то зачем? – спросила я.
– Часто люди делают тесты, только чтобы увериться, что тест ничего не покажет, и тогда им становится лучше, – улыбаясь, сказал он, не подозревая, что сижу я перед ним в результате именно таких тестов.
– Нет, спасибо, делать тест «чтобы успокоиться» я не хочу. Я уже шесть лет хожу в хроническом, на зависть успокоенном состоянии, – сказала я и вкратце ознакомила его с историей возникновения моего из ряда вон выходящего спокойствия.
Доктор мой призадумался на некоторое время.
– Знаешь, ты уже перепробовала всё, ничего не помогает, ты страдаешь. Я думаю, осталось только одно, и это одно может оказаться решающим. Почему бы тебе не попробовать психическую помощь (mental health)? Иногда подобные твоим проблемы легко, всего за несколько сеансов можно вылечить. Во всяком случае, попробовать можно, – сказал он осторожно, после солидной паузы, не зная, какой ожидать от меня реакции.
– Конечно, можно, я готова пробовать, что угодно, лишь бы помогло, – сказала я.
Он дал мне имена трёх психиатров и сказал, что они – хорошие люди, что очень важно. Придя домой, я сразу же позвонила во все три офиса. Теперь я хорошо понимала, как можно дойти до того, чтобы с нетерпением ждать похода к психиатру или психологу.
Ни один из рекомендованных психиатров мою страховку не брал, визит у каждого из них стоил $450, и одним визитом никто не обходился, так что с точки зрения финансов поход к непокрываемому страховкой психиатру казался просто немыслимой затеей. Я везде и всюду пыталась отыскать хоть одного специалиста с положительными рекомендациями, входящего в мой план страховки, но это было тщетно. Наконец, под давлением домашних я сдалась и набралась мужества записаться на приём к одному из рекомендованных невропатологом докторов.
К моему великому удивлению, первое свободное окно для визита было через четыре месяца. Значит, даже за $450 надо ждать четыре месяца! Я спросила у приветливой секретарши, может ли она порекомендовать кого-нибудь, кто берёт мою страховку; подумав некоторое время, она назвала имя, сказав, что слышала положительные отзывы об этом докторе. Мы решили, что она запишет меня на $450-ый приём через четыре месяца (чтобы не терять такую редкую возможность появиться в их офисе), но, если я до этого обзаведусь и буду довольна врачом, которого она мне только что посоветовала, то я отменю $450-ый визит.
Я тут же позвонила новому психиатру. Действительно, оказалось, что он оплачивается моей страховкой, и ждать первого визита надо было не так долго – всего полтора месяца.
Я настолько целеустремлённо пыталась улучшить своё состояние, что не теряла ни единой возможности хоть как-то себе помочь. Однажды я рассказала своей знакомой о том, что нахожусь в счастливом ожидании визита к психиатру меньше, чем за $450. Она посоветовала мне, пока я жду, обратиться к психологу, сказав, что это иногда помогает намного больше, тем более, что можно попробовать терапию без вовлечения лекарств. Она порекомендовала мне своего личного психолога, спасшую и её саму, и её дочь, когда обе находились в тяжёлом психическом состоянии. При этом моя знакомая сказала, что её психолог обладает каким-то дополнительным образованием, позволяющим ей выписывать лекарства (обычные психологи не имеют на это права), а Лексапро (знаменитый современный антидепрессант) спасёт от всего всех, в том числе и меня!
Я позвонила, история со страховкой повторилась, так что оттуда меня направили к другому психологу, практикующему в моём городе, имеющему большой опыт работы с людьми, сражёнными страхом и, вдобавок, принимающему мою страховку. В интернете я нашла прекрасные рекомендации и отзывы в его адрес, позвонила, поговорила с ним по телефону; должна сказать, человек звучал обнадёживающе, и я с радостью и уверенностью, что он мне поможет, стала ждать встречи с ним.
У психолога
Так как встреча с психологом должна была быть моим первым жизненным опытом в этой столь тонкой, как мне казалось, области, я понятия не имела, как она будет протекать. Я с трепетом и надеждой читала о применяемых психологами методах и лишь терпеливо ждала дня назначенного визита (наконец-то созрела, а то раньше всё удивлялась!). Единственное, что я познала из прочитанного, это то, что состояния, подобные моему, обычно лечат методом, называемым когнитивно-поведенческая психотерапия. Из моего предварительного телефонного разговора я поняла, что именно это психолог и будет претворять со мной в жизнь. Но как это делают, мне и в голову не приходило.
Был дождливый день, я вовремя пришла в офис психолога и минута в минуту вошла в его кабинет. Там было слегка затемнено, везде горели лампы, стояли пачки салфеток (я не могла понять, для чего так много салфеток в одном маленьком кабинете); имелся журнальный столик и диваны вокруг него. Я быстро рассказала ему о том, что со мной произошло и какие симптомы меня беспокоят. Человек был явно неглупый, и по ходу разговора мне всё больше и больше нравился, мне очень хотелось, чтобы лечение сработало. Мне казалось, что он с ходу меня понимает. У меня сформировалось доверительное к нему отношение, что способствует лечению и получается далеко не всегда. Он послушал мой рассказ, потом заявил, что по его плану ещё слишком рано, чтобы он меня лечил, сперва мне надо пойти к его другу психиатру, вместе с которым он написал какую-то книгу. Друг даст мне лекарство (сам он прописывать лекарства права не имел), потом, через месяц или два, лекарство начнёт действовать, и только потом я начну ходить к нему на сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии.
Друг – психиатр, конечно же, никакой страховки не принимает и работает довольно далеко от нашего дома, куда я сама доехать на машине не могу. Должна сказать, я немножко приуныла. Сперва я пыталась ему объяснить, что пришла сюда до психиатра, чтобы постараться улучшить своё состояние, не прибегая к помощи лекарств, и что я, в любом случае, время от времени принимаю клонопин, прописанный невропатологом.
– Это невозможно! – последовал краткий и чёткий ответ.
– Ну, хорошо, тогда давайте сделаем так. Через месяц у меня назначен визит к психиатру. Я пойду к нему, выполню все его указания, а потом приду к вам на терапию, – не сдаваясь, пыталась я подогнать разные варианты под его сценарий.
– Это невозможно! – опять отрубил мой целитель.
– А почему надо именно к вашему другу? – не унималась непослушная я.
– Потому что он специалист по Посттравматическим Стрессовым Расстройствам (ПТСР), а у тебя именно оно, – объяснил он.
– Как это – у меня ПТСР? Все считают, что у меня тревожное расстройство… – продолжала действовать на нервы неподчиняемая я.
– Короче, пойди домой, подумай и дай мне знать, – чётко сказал он ровно за одну минуту до того, как моё время (один час) должно было истечь.
Оставшуюся минуту мы потратили на то, чтобы я заплатила. Я вышла из кабинета. В приёмной ожидала парочка, которая, как и я, чётко, минута в минуту, вошла в кабинет. Думаю, что их тоже приятно удивила поразительная пунктуальность этого человека.
Я пришла домой, не скрою, несколько удивлённая таким оборотом событий, но, так как человек мне понравился, я искренне хотела и всячески пыталась найти пути продолжения сотрудничества.
Я, конечно, сразу же почитала о Посттравматическом Стрессовом Расстройстве, и мне вовсе не показалось, что симптомы совпадают с моими. Однако я решила быть прилежной и придумала следующий, на мой взгляд, разумный вариант. Если он так уверен, что у меня ПТСР и мне необходим настолько узко специализированный психиатр, то я подыщу именно такого, но поближе к дому, чтобы могла до него доехать, и проделаю всё, что сказал мне психолог. Считая, что нашла приемлемый вариант, я позвонила ему на следующее утро, чтобы поделиться новым планом.
– Это невозможно! – прозвучала на другом конце провода знакомая фраза.
– Правильно ли я понимаю, что вы будете меня лечить только при одном единственном условии, а именно, если я пойду на приём только и только к вашему другу и ни к кому другому? – попыталась я по возможности чётко сформулировать необходимое и достаточное условие своего допуска к терапии.
– Да! – отрубил он, явно радуясь, что до меня наконец дошло.
На этом мы распрощались. На протяжении нескольких недель после этого я всё ещё пыталась понять и интерпретировать случившееся с позитивной стороны. Только дальнейшее общение с псих… специалистами пролило свет на происшедшее, и я нашла ответ на то, что в тот дождливый день мне казалось загадкой.
Игра в бридж
Опять-таки с целью помочь себе я решила заняться чем-то, что мне интересно, что я люблю, ибо во всей прочитанной мною литературе объяснялось, что порой увлечение каким-нибудь хобби очень положительно сказывается на человеке, находившемся во встревоженном и запуганном состоянии, и помогает ему отвлечься от стресса.
Имея в виду богатые семейные традиции игры, я остановилась на бридже. Моё давнее и трепетное увлечение им казалось мне чудесным способом отвлечься от всяких страхов и проблем. Стоит в Америке только захотеть чем-то заняться, все возможности тут как тут! Чуть ли не в каждой церкви в нашем маленьком городке был кружок бриджа, я выбрала один из них, который мне показался самым интересным, и записалась в него.
Воодушевлённая возможностью вспомнить прекрасную игру, я направилась в церковь на мой первый урок. Следуя многочисленным указателям, я дошла до комнаты, где должны были быть занятия. Первый момент оказался для меня неожиданным. Комната была битком набита пожилыми людьми, которые все друг друга знали и оживлённо общались. Мне стало несколько неуютно. Одна женщина стояла и что-то организовывала, перекладывaла книжки, смотрела в какие-то списки. Я спросила у неё, туда ли я попала, она положительно кивнула.
– Я могу хорошо играть, но начисто забыла правила торговли. Какой именно класс вы бы мне посоветовали? – подумывая пересмотреть свои планы, спросила я у неё.
Она опять кивнула головой, указывая на комнату.
– Этот? – разочарованно спросила я. Она снова утвердительно кивнула.
Я нашла свободный стул за одним из столиков и села, продолжая чувствовать себя несколько странно: все здесь были значительно старше меня, их всех что-то объединяло, а я была как бы ни при чём.
Начался урок. Учительница представилась, сделала перекличку, потом улыбнулась и сказала, что в калифорнийских домах престарелых сделали исследование и пришли к выводу, что люди, играющие в бридж, принадлежат к категории самых счастливых обитателей домов престарелых. И тут вся эта комната буквально взорвалась аплодисментами, криками восторга, одобрительными возгласами. Народ пребывал в состоянии эйфории. Удивительные люди американцы! Кажется, никто и нигде не обладает такой поразительной способностью во всём видеть что-то для себя хорошее. Перспектива проживания в доме престарелых для многих из них вполне реальна и кажется не слишком радужной, но мысль о том, что там они будут счастливее других, существенно улучшила их настроение. Полезное свойство.
Учительница кое-как успокоила разбушевавшихся студентов, после чего начался урок. Тут мне было интересно вспомнить давно забытые принципы торговли, а потом мы играли. За столом со мной сидели трое: один мужчина в две минуты раз ходил в туалет, одна женщина время от времени вырубалась, а другая вообще не умела играть, но это не мешало нам получать удовольствие. А за соседним столом сидел человек, который почему-то каждый раз так громко говорил: «ПАС!» или что-то подобное, что все остальные знали, что происходит у этой четвёрки. Так я походила несколько недель, и с каждым разом эти занятия доставляли мне всё больше и больше удовольствия. А потом мне повезло, и я оказалась за одним столиком с тремя чудесными женщинами, мы стали постоянной четвёркой. Теперь я наслаждалась не только игрой, но и обществом, и всегда с нетерпением ждала следующего урока.
Я уже писала о том, что в Америке для всего есть прибор. К тому времени я давно перестала обращать внимание на всевозможные предметы, о назначении которых сразу трудно догадаться. На уроках бриджа я увидела нечто, о существовании чего не догадалась бы никогда. Один человек приносил с собой специальное устройство для держания карт. Он аккуратно вставлял в него свои карты, и, пока устройство держало их, кушал. Даже при всей своей любви покушать, я бы не смогла отказаться от удовольствия перебирать и держать карты в собственных руках.
Как-то раз после очередного урока я спросила у мамы, почему в моём классе нет никого чуть-чуть помоложе, на что мама язвительно заявила, что те, кто помоложе, ходят в гимнастический зал, а не сидят неподвижно за карточным столом. Каково же было моё изумление, когда я, треща от боли во всех своих скованных мышцах и находясь в состоянии хронического страха, ждала сына и вдруг увидела, как женщины с моего бридж-класса (которым под или за восемьдесят!) в кокетливых белых теннисных формах с ракетками в руках и сумками через плечо выходили на корт. Поистине, американцы совершенно неутомимы в нахождении радостей жизни, они несгибаемы перед физическими трудностями, и столь легки на любое действие, способное облегчить и улучшить их существование!
Помню, как-то раз я опять ждала сына, сидя на скамейке теннисного корта. Ко мне подсела женщина, любовно наблюдающая за игрой своей внучки. Мы разговорились, оказалось, что несколько лет тому назад они с мужем переехали во Флориду, оставив всех детей и внуков в наших краях. Мне этот выбор показался безусловно странным, и я поинтересовалась, почему же они это сделали. Она указала на два шрама на своих коленях и сказала, что и она, и муж специально заменили свои колени и бёдра для того, чтобы продолжать активный спортивный образ жизни. И они не собираются простаивать все холодные месяцы на севере, они должны сполна использовать результат этих многочисленных операций, жить долго, активно и счастливо. Операции, конечно же, прошли безупречно, врачи были бесподобные, комплекс домов, в котором они проживают, не имеет себе равных во всём мире, они собираются прожить там долгую, здоровую и счастливую жизнь. Удивительные люди американцы! Научиться бы у них, и так уметь! А впрочем, действительно ли нам этого хотелось бы?.. Смогли бы мы по собственному выбору расстаться с нашими детьми и внуками?..
Наконец-то у психиатра!
Дождалась! Я очень волновалась в ожидании этой встречи. Но, как всегда, всё пошло по неожиданному пути. Я представляла себе, что буду долго, подробно рассказывать обо всём, что произошло со мной за последние годы, и делиться замеченными закономерностями – какое именно событие вызывает какие именно явления. Я подготовилась, продумала, что говорить, чтобы даром не тратить столь драгоценное время и обсуждать только самое существенное. Зря я так старалась! Ой, как я ошиблась!
Долгожданный приём длился менее пяти минут, мне вообще не надо было ничего рассказывать, психиатра абсолютно ничего обо мне не интересовало, и он принципиально не давал мне открыть рот. Он мне показался человеком симпатичным и, видимо, неплохим специалистом, а потому мне искренне хотелось хоть что-нибудь сообщить ему о своём состоянии. Сидел доктор под углом, опирался на свою руку, посматривал то на меня, то в окно и своим явно скучающим и небрежно-уверенным видом давал мне понять, что я – очевидно примитивный и тривиальный случай психиатрической науки, с которым даже разговаривать не нужно. Мне так и не удалось ничего сказать, и после нескольких минут скучающего поглядывания то на меня, то в окно и рассказа про какого-то армянина, который был хорошим человеком, недавно умер и чьи похороны были в церкви неподалёку от офиса, Психиатр заговорил обо мне:
– Вместо одной таблетки клонопина пей две и никогда не прекращай. Увидишь, тебе станет лучше, спазмы пройдут. Послушай меня, и всё будет хорошо. Я также дам тебе направление к прекрасному психотерапевту, Доктору Рублику. Походи – он может быстро тебя вылечить, у него большой опыт работы с такими, как ты, – сказал он, протягивая мне визитку с именем психотерапевта.
– Вылечить от чего, какой у меня всё же диагноз? – спросила я.
– Тревожное расстройство. Ты слушай меня, – весьма доброжелательно и столь же покровительственно-доминирующе заявил Психиатр, выпроваживая меня из кабинета в прихожую.
Я заплатила, мне сказали прийти в очередной раз через три месяца. Ушла я оттуда очень довольная, хотя бы тем, что надо пить уже знакомое лекарство, тем, что не нашли чего-то ещё более оригинального, чем тревожное расстройство (например ПТСР), и конечно же тем, что не стали исключать ещё что-то другое – как правило, страшное. Короче, вполне удовлетворённая визитом к самому неожиданному и непредсказуемому специалисту, я взялась делать всё точно так, как он сказал. Стала послушно пить свой клонопин в день два раза и записалась на приём к порекомендованному доктором психотерапевту.
Как только я начала пить клонопин в день два раза, я поняла, что долго так не продержусь: весь день я ходила как в невесомости, с постоянным туманом в голове, не могла сосредоточиться, водить машину было страшно. В полусонном и неуверенном состоянии я часто ловила себя на том, что на полпути забывала, куда еду.
Сказать при этом, что мышечные спазмы исчезли или хотя бы ослабли, я не могла. Тут я подумала, ведь невропатолог говорил, что одной таблетки более чем достаточно. Это меня вдохновило и, вспоминая мнение своего знакомого врача-американца о советских пациентах, я решила пойти на компромиссный вариант – пить по одной таблетке на ночь, но не переставать (то есть первую часть делать по невропатологу, а вторую – по психиатру).
Этот вариант был существенно лучше. Я более или менее спокойно засыпала, а в течение дня не была такой отключённой. Так прошло три долгих месяца, за которые лучше мне не стало ничуть, спазмы продолжались с такой же силой, а проблему с засыпанием сменила проблема с просыпанием. Когда случался спазм, не проснуться было невозможно, так как ощущение было такое, будто у меня перелом рук, паралич спины и шеи и никогда не разожмутся челюсти. Продолжать так спать было невозможно, а насильственно просыпаться, когда ты спишь под действием клонопина, было нелегко – начинались сильное сердцебиение, головокружение и тошнота. И это случалось каждый Божий день. Я подумала, что иметь дело со спазмами было уже достаточно больно само по себе, нет никакой нужды добавлять к этому трудности просыпания, и перестала принимать клонопин. Но за три месяца я успела к нему привыкнуть, и было несколько проблематично от него отвыкать.
Таким образом, обогащённая новыми знаниями и приключениями, я вернулась к курсу, предложенному моим невропатологом: по одной таблетке на ночь, и не более двух-трёх недель в особо критические периоды. После того, как я перестала регулярно принимать таблетки и, наконец, отвыкла от них, я поняла, какое это счастье не пить клонопин. Вот такой я приобрела позитивный опыт, когда начинаешь бесконечно ценить, как это здорово быть самим собой, даже если ты скрючен в неразгибаемом спазме.
У психотерапевта
Как прилежная и настроившаяся делать всё, что велели, пациентка, я записалась на приём к Доктору Рублику. На этот раз я шла на сеанс психотерапии не совсем в неведении – уже был небольшой, но интересный опыт, и я немножко представляла себе, чего ожидать.
Я уселась в приёмной. В назначенное время дверь открылась, из кабинета высунулся Доктор Рублик и велел мне ждать до тех пор, пока он меня позовёт. Подождала – минут через пятнадцать он меня пригласил, вернее, впустил в кабинет. Тут всё уже было мне знакомо: кресла, диванчики, боковые столики, настольные лампы и куча салфеток – салфетки везде и всюду. Я уселась в кресло, и Доктор Рублик далеко не самым проникновенным и доверительным тоном стал меня расспрашивать. Я старательно пыталась ему что-то объяснить, но распустить язык (как у психолога) мне при всём моём желании не удавалось – как-то уж слишком угрюмо шла беседа. Я всё же героическим усилием воли выдавила из себя свои основные страхи, после чего поинтересовалась, что же он думает об этом и как долго собирается меня лечить. Не глядя на меня, с презрением и усталостью в голосе, Доктор Рублик заявил, что у меня тревожное расстройство и нужно порядка двенадцати сеансов того, что называется когнитивно-поведенческой психотерапией, чтобы со мной разобраться. А потом он заявил, что моё время истекло, взял деньги, назначил пару очередных сеансов, и я ушла.
Когда я вышла, на душе у меня было противно и неуютно, мне не хотелось к нему возвращаться, но терпеть своё состояние тоже было нелегко, уж очень хотелось из него выкрутиться. Я подумала и решила, что уж как-нибудь доведу до конца эти двенадцать сеансов.
Через пару дней я снова прилежно оказалась в офисе Доктора Рублика. Был прекрасный майский день, настолько чудесный, что даже в приёмной моего психотерапевта было довольно светло и приятно. Там не было никого, и из кабинета не доносилось никаких звуков. Просидев в приёмной до 11:15 (приём был назначен на 11:00), я решила проверить, а есть ли вообще кто-то в кабинете, и тихонько постучалась. Тут произошло нечто неожиданное: открылась дверь, оттуда высунулся разъярённый Рублик и сказал, чтобы в будущем я НИКОГДА не стучала в дверь, не смела её открывать, а только сидела бы и ждала, когда меня впустят. Ошарашенная, я не сообразила сразу уйти, а просто тупо опустилась на свой стул. Он захлопнул дверь и через пару минут впустил меня в кабинет.
Борясь с комком в горле, я прошествовала к своему креслу. Мне было совершенно ясно, что сделал он это всё специально, он сидел и ждал, пока я постучусь, а потом вышел, сказал то, что сказал, и сразу же, как ни в чём не бывало, меня позвал. Для чего?!
Когда его жертва, испуганное, беззащитное и только что униженное существо, страдающее, ищущее во что бы то ни стало спасения и связывающее это спасение только и только с ним, оказалась перед ним, он перешёл к делу. Рублик выждал долгую паузу, уставившись на меня самым недобрым образом.
– Ты, кажется, чем-то недовольна. Тебе что-то не нравится? – наконец, произнёс он.
– Нет, всё в порядке, – давясь своим комом в горле, сказала я, и, поняв наконец, для чего в офисах психологов везде и всюду расставлены салфетки, схватила одну из них.
И тут очередной сюрприз! Доктор Рублик заликовал, он на глазах просветлел, он был счастлив, он добился своей цели в рекордно короткий срок и, кажется, испытывал профессиональный экстаз.
– Это хорошо, что ты заплакала, значит, ты поддаёшься терапии, – выдал он, потирая руки от восторга.
Потом он начал задавать мне какие-то вопросы, но отвечать мне не хотелось. Это несколько поубавило его пыл. Я замкнулась. Бесконечный час кое-как истёк, я заплатила и ушла.
На улице было так же красиво – полнейший контраст с тем, что творилось в моей душе. Я поняла, что Доктор Рублик преследовал одну цель: сломить и подчинить меня своей воле – это был первый «успешный» этап его терапии. Ему надо было, чтобы я заплакала, стала жалкой и беспомощной. Я начала проводить аналогии с моим визитом к первому психологу. И тут я поняла, что их объединяли не только кресла, диваны и салфетки, а также методы. Просто первый был немного добрее и намного умнее, он хотел подчинить меня себе, заставив пойти к какому-то единственному на земле психиатру, и когда увидел, что сделать это не удастся, просто таинственно отказался иметь со мной дело. Я зауважала его за профессионализм: не поддалась, ну и ладно, зачем же унижать человека?
На следующее утро я позвонила Доктору Рублику и на автоответчике оставила сообщение, что не приду на запланированный сеанс – отменяю визит. И каково же было моё удивление, когда часом позже мне перезвонил искренне недоумевающий после своего триумфа накануне Рублик и почти что кокетливо спросил:
– На какой день и час ты хочешь переставить свой визит?
– Ни на какой, – сказала я.
– А… (глубокое разочарование в голосе), ну хорошо, если снова надумаешь – звони,– пробурчал тонкий знаток и целитель человеческих душ и голов.
Отказ от Доктора Рублика принёс мне большое облегчение, я как бы снова вырвалась на свободу из тисков, освободилась от очередного насилия. Жаль, конечно, что опять рухнула надежда вылечиться. Но в этот раз всё было по-другому: я знала, что уже перепробовала всё, и это подействовало на меня в каком-то смысле раскрепощающе. Я смирилась, приняла как факт, что должна жить со своими симптомами – бывают же иногда ситуации, которые невозможно изменить, а значит, надо смириться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настало лето (2012 год), мы поехали в Ереван. Там серьёзное увлечение шахматами моего старшего сына привело меня в шахматную академию Армении, где я встретилась с психологом и физиотерапевтом армянской шахматной федерации, Арменом Агузумцяном.
Не знаю, почему я забыла о том, что решила смириться со своими проблемами. Наверно, что бы ни решал человек, он не перестаёт надеяться. В течение получаса я изложила ему содержание почти всей этой книги. Когда я завершила своё повествование, он сказал, что мне психолог не нужен (я даже почти что оскорбилась, как не нужен? чем я хуже других?), дал почитать одну весьма полезную книгу и в заключение обозвал меня адекватным человеком! И это после того, как на протяжении шести лет все врачи, которые не понимали, что со мной происходит, либо намекали, либо внушали мне, что психика моя не в порядке, крыша поехала и в этом секрет всех моих проблем! Такого диагноза душа не вынесла, и я взялась за перо. Да, слово, действительно, лечит. С тех пор прошло почти три года, разъярённые волки разбежались. За это время я пару раз побывала у своего Гинеколога. Верный себе, он настоятельно рекомендовал сделать биопсию – уже не помню, какого органа на этот раз (в ящике письменного стола аккуратно коллекционирую направления на разные биопсии). Понимаю, что может возникнуть вполне разумный вопрос: а почему, собственно говоря, я продолжаю ходить к этому доктору. А потому, что искренне считаю, что он не хуже других и нет смысла менять шило на мыло, к его стилю я хотя бы привыкла – знаю, чего ожидать; потому, что он – первый человек, коснувшийся моего ребёнка; потому, что не сомневаюсь, что он честно хотел как лучше, хотел быть осторожным и внимательным. Ну что поделаешь, что-то пошло по неправильному пути: может, ошибся; может, перестраховался; может, надеялся, что проверит СиЭй-125 и тот будет нормальным, а вместо этого влип и не знал, что делать с результатом, а потом никак не мог остановиться; может, просто не был знаком с моим менталитетом и не знал, что я ненавижу делать анализы, которые не подтверждают и не исключают ничего, а только держат тебя в состоянии вечной неприятной и изматывающей неопределенности, не знал, что я не хочу делать биопсии и прочие исследовательские операции без осознания их крайней необходимости… А может, и он оказался своего рода жертвой – жертвой Системы, рассматривающей человека как бездушный механизм, над которым надо обязательно производить многочисленные дорогостоящие манипуляции… А может, оказался жертвой пациентов, которые страстно жаждут потерять сознание на вертящемся в воздухе столе и негодуют, когда им не предоставляют такой возможности… Это неважно.
С моим новым диагнозом (адекватный человек) я впала в противоположную крайность. Слова типа «томография», «биопсия», «лапароскопия» и так далее отлетают как от стенки, так как потеряли смысл от привычки слышать их с завидным постоянством. Хожу к врачам только, чтобы доказать им, что назначенные тесты делать бессмысленно, так как они ничего не прояснят, а с судьбоносными вопросами обращаюсь исключительно к Алику.
За это время я также побывала у врача антропософа, которому рассказала о своих спазмах. Он, не задумываясь, сказал, что сам когда-то страдал чем-то подобным и что, по его мнению, в моём случае (так же, как и в его) причина в шее. В результате травмы, полученной во время падения, в лежачем положении с шейными позвонками происходит что-то, вызывающее спазм. Он посоветовал спать на спине. Я уверена, что он прав, только не могу научиться спать на спине. Учусь и снова надеюсь, что всё пройдет.
Гораздо позже (по совету того же Армена) я побывала у мануального терапевта, тот настоял, чтобы я сделала МРТ шеи (наверно, единственный тест, который нужно было сделать за все эти годы и, наверно, единственный, который не был предложен и сделан). Снимки подтвердили подозрения антропософского доктора – они показали, что в результате падения у меня сужен позвоночный канал и повреждены шейные позвонки, из-за чего в лежачем положении зажимаются нервы. Надеюсь, что объяснение спазмам правильное, хотя, к сожалению, уже мало что можно изменить.
Несмотря на всё, со мною происшедшее, вокруг много людей, которых диагностируют, лечат и оперируют – врачи действительно творят чудеса: спасают и продлевают человеческие жизни. Раньше мне было как-то обидно, почему же это только со мной всё не то?! Но после некоторого размышления до меня дошло: ведь все эти люди, которых лечили и спасали, были действительно больны, многие находились в критическом положении, то есть было что лечить и от чего спасать, а я-то была здорова! Очевидно, эта досадная подробность не давала врачам возможности меня спасти, но, надо отдать им должное, они очень того хотели. А для этого надо было сперва довести меня до критического состояния, а потом взяться спасать. Они искренне старались, и их раздражало, что я сопротивляюсь; они не сдавались, и я не сдавалась. Но сейчас, когда уже всё понятно, и когда путь к критическому состоянию проделан огромный (я запросто могу насчитать с десяток вполне серьёзных болезней, которыми обзавелась за время лечения от недопустимо здорового состояния), моя душа переполнена оптимизмом: в критической ситуации спасут и меня!
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОДИННАДЦАТЬ ПАЛАТОК ВЫСТРОИЛИСЬ
В РЯД
(логическая задача)
1. В средней Палатке живёт курильщик Немецких Сигарет; Палатка его соседа – Фиолетовая.
В крайних Палатках живут:
А. Философ – любитель Немецкой Музыки;
В. Любитель Дюма, чей сосед – любитель Кофе и Бодлера.
2. Англичанин играет в Бридж и живёт в чётной Палатке. Его партнёры по Бриджу:
А. Сосед из Жёлтой Палатки – Художник, не читающий Романов и на русском;
В. Хозяин Птицы – любитель Итальянской Музыки из 7-ой Палатки;
С. Яхтсмен – курильщик Camel.
Любимые Напитки партнёров англичанина (А-С): Ром, Пепси-Кола и Лимонад.
Иногда кого-либо из этих трёх заменяет:
D. Другой сосед Англичанина – не Немец, проживающий в Голубой Палатке – любитель Фолкнера и Коньяка.
Один из этих четверых (А – D) слушает Хиндемита и не терпит Ежей.
3. Француз из Оранжевой Палатки, направляясь в 8-ую Палатку к Писателю – курильщику Marlboro, заходит к соседу – любителю Водных Лыж и хозяину Фазана; они далее проходят мимо Палатки, где живёт любитель Толстого, пьющий Молоко.
4. Любитель Го и Скарлатти приглашает к себе на игру:
А. Любителя Вина и Astor, живущего рядом с Красной Палаткой;
В. Любителя Берга и Американской Литературы – хозяина Собаки;
С. Любителя Поэзии, живущего слева от любителя Классика Австрийской Музыки.
5. Фехтовальщик приглашает на тренировку:
А. Скрипача, живущего через 2 Палатки;
В. Японца, живущего по соседству с курильщиком Трубки – любителем Пепси-Колы;
С. Любителя Баха и Шекспира.
6. Скандинавы живут в соседних Палатках, причём Датчанин слева от Шведа. Это:
А. Архитектор, пропадающий на море;
В. Теннисист – любитель Драмы.
Партнёры последнего:
А. Сосед Американца, проживающий в Чёрной Палатке и хозяин Попугая;
В. Любитель Достоевского – хозяин Кенгуру.
Тот из Скандинавов, который живёт в Чётной Палатке, слушает Современную Музыку и дружит с соседом (не Скандинавом), курящим Lord.
7. Переводчик с Восточных Языков из 10-ой Палатки не курит Salem.
Переводить ему помогают Азиаты:
А. Любитель Верди – курильщик Kent;
В. Сосед Певца – любитель Минеральной Воды.
Один из Азиатов читает на французском; другой, живущий в Белой Палатке, не читает по-английски.
8. На море встречаются:
А. Гребец – хозяин Чайки;
В. Итальянец, курящий HB;
С. Проживающий в Лиловой Палатке любитель Бетховена;
D. Проживающий в 5-ой Палатке.
9. Бразилец – Шахматист. Его соседи:
А. Справа: Пианист – хозяин Черепахи;
В. Проживающий в Розовой Палатке любитель Чая и Интеллектуальных Игр.
Постоянный партнёр Бразильца (не сосед) – Музыкант из 4-ой Палатки, не любящий Пиво.
10. Циркача – хозяина Павлина отделяет 5 Палаток от любителя Моцарта и Крепких Напитков.
Через одну Палатку от последнего живёт Ходок, не курящий Сигарет.
11. И, наконец, важнейшая деталь! Обитатель Синей Палатки в гостях у друга, живущего через 3 Палатки, с удовольствием общается с Котом!
Чилиец не стал Композитором. Значит ли это, что он читает Диккенса, если известно, что Китаец не стал Поэтом потому, что терпеть не мог Вагнера?!
Есть ли у Осла шанс научиться плавать, если Грек – Пловец? А может быть, он склонен поменять место жительства и складывать Пасьянс под стихи Верлена?!
Если бы Орёл был Попугаем, была бы у него возможность читать Чехова под музыку Вивальди? А может быть, он предпочёл бы перебраться в Зелёную Палатку и читать Мелвилла, глотая при этом Виски?!
В какую сторону дует ветер, если дым от Сигары доходит до любителя Шуберта, где смешивается с ароматом Winston? А если дым от Peer в сопровождении музыки Шёнберга доходит до любителя Мольера?
Какой из этих ветров сильнее – Западный или Восточный?
«КОММЕНТАРИИ ДЛЯ ВЫСОКОЭРУДИРОВАННЫХ»
Скандинавы – Датчанин, Швед
Американцы – Бразилец, Чилиец
Азиаты – Китаец, Японец
Музыканты – Пианист, Певец, Скрипач, Композитор
Интеллектуальные Игры – Бридж, Шахматы, Го, Пасьянс
Немецкие Сигареты – Astor, HB, Peer, Lord
Не Сигареты – Трубка, Сигара
Романисты – Диккенс, Мелвилл, Фолкнер, Дюма
Поэты – Бодлер, Верлен
Драматурги – Шекспир, Мольер, Чехов
Французская Литература – Дюма, Бодлер, Верлен, Мольер
Американская Литература – Мелвилл, Фолкнер
Литература на Английском Языке – Шекспир, Диккенс, Мелвилл, Фолкнер
Крепкие Напитки – Ром, Коньяк, Виски
Австрийская Музыка – Моцарт, Шуберт, Шёнберг, Берг (Моцарт, Шуберт – классики)
Итальянская Музыка – Вивальди, Скарлатти, Верди
Немецкая Музыка – Бах, Вагнер, Бетховен, Хиндемит
Современная Музыка – Хиндемит, Шёнберг, Берг
РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕШЕНИЮ
(от Ана Хит)
Внимательно дважды пройтись по условию. Выписать параметры, подлежащие разгадке (даны жирным шрифтом, кроме номеров палаток) и сгруппировать их по категориям (выделяю курсивом, чтобы не путать с конкретными представителями категорий, обозначенными жирным шрифтом): номер палатки, цвет палатки, национальность проживающего в палатке, а также его профессия, хобби, любимые напиток, курево, композитор, писатель и, наконец, обитающее с хозяином животное. Так как профессия и хобби порой могут интерпретироваться неоднозначно, уточняю, что именно они подразумевают.
Профессия: Философ, Переводчик, Писатель, Художник, Пианист, Циркач, Певец, Архитектор, Скрипач, Композитор, Поэт.
Хобби: Водные Лыжи, Плавание, Гребля, Яхта, Бридж, Шахматы, Го, Пасьянс, Теннис, Фехтование, Ходьба.
Разобравшись в условии, задачу можно решить или, на худой конец, заглянуть в ответ, написанный папиной рукой (смотри таблицу внизу). Надеюсь, окунуться в жизнь палаточного городка вам будет так же интересно, как и мне.





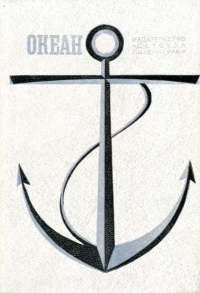

Комментарии к книге «Агент СиЭй-125: до и после», Ана Хит
Всего 0 комментариев