Алексей Горяйнов, Иван Макаров Рейд «Черного Жука» (сборник)
© Макаров И.И., 2007
© Горяйнов А.Г., 2007
© ООО «Издательский дом «Вече», 2007
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
«Мы не можем отказать русскому народу в любви и в братской помощи».
Из воззвания папы Пия ХРейд «Черного Жука»
Часть первая
«Приказываю явиться немедленно». Далее следовала подпись «ПР. Воробьев».
А что такое «ПР»? Смешное, напыщенное «ПР». А главное, каждой собаке известно это «совершенно секретное» учреждение.
Недавно я разговаривал с русским железнодорожником. В форме злой шутки я предрекал скорую гибель большевиков и, вглядываясь в него, намекнул:
– Вас взорвут изнутри наши.
Он снял треух, почесал одним пальцем у себя за ухом и, снисходительно улыбаясь, отпарировал:
– Уж не «Пы-Ры» ли ваша нас взорвет?
И спокойная уверенность железнодорожника снова вызвала во мне знакомый холодок страха и чувство обреченности. Теперь, когда я смотрю на подпись на телеграмме, невольная злоба зарождается во мне. Злоба на беспомощность, на эфемерность этого несчастного «ПР».
– «Приказываю… ПР… Воробьев», – выпячивая губу, произношу я. – Приказываю… немедленно… П… Р… Воробьев.
Потом озлобленно рву телеграмму. Я не признаю никаких «ПР»… «ПР» и хотя бы даже «РПР». Больше я не повинуюсь никому.
Теперь в каждом государстве есть какое-нибудь «всероссийское «ПР»… «РПР»… или вообще какая-нибудь чертовщина из трех-четырех заглавных букв.
Каждая страна держит и содержит нас, «обиженных большевиками». Даже Китай. Нам уже нет почета. В каждой ноте Советскому правительству от нас открещиваются, но, ссылаясь на что-то «международное», держат нас. Держат и содержат.
Я изорвал телеграмму и сказал, что я не повинуюсь, когда мне приказывают. Но все-таки я приехал в Харбин и остановился на Сквозной улице около почтового отделения у своего верного «личардо», у Андрея-Фиалки.
Андрей-Фиалка туляк, бывший мастеровой. Настоящая фамилия его Бровкин, но никто его так не зовет.
Высокий и хмурый, он всю жизнь мечтает насадить по всей земле «вчастую» вишневые сады и при помощи этих садов «искоренить зло на миру». Он большой ворюга, к воровству относится с презрением и радуется лишь тогда, когда уведет хорошую лошадь. Но верней его нет человека.
С ним в паре часто работает цыган Алаверды, или полностью «дядя Паша Алаверды».
Дядю Пашу Алаверды я встретил во дворе Андрея-Фиалки на «мезомима». Он был пьян, сидел среди двора, плакал и, беспрестанно ударяя себя в грудь, твердил одно и то же:
– Крест несу… Крест несу… Ой, тяжкий крест несу!
Андрей-Фиалка сидел в стороне на лавочке и, опустив между коленками свои длинные обезьяньи руки, – так что пальцы касались земли, – приговаривал, исподлобья глядя на цыгана:
– А и дура-мама, дура… А и дура.
Заметив меня, он степенно поднялся, одернул гимнастерку и сумрачно произнес:
– Здравье желаем, ваше скородье.
Я говорю ему:
– Андрей, теперь я не «скородье», а просто так… «хозяин». Настоящий хозяин. – И со злой печалью добавляю: – Настоящий русский хозяин на китайской земле.
– А и дура-мама… третий час подряд ревет, – поворачиваясь в сторону цыгана, говорит Андрей.
Мы проходим к нему. Андрей холостяк, потому что «с бабами никакого сладу».
– Вызвали, – сообщаю я ему, так и не дождавшись вопроса. – «ПР» Воробьев приказывает немедленно явиться.
– Какая болячка приспела? – спрашивает он. Спрашивает лениво, нехотя. Видно, что ему совсем неинтересно, какая именно «болячка приспела».
– Видно, за зимнее… Тебя не трогают?
– Зимнее? – не спеша тянет он и изумленно вскрикивает: – Дык кому же ж нужно это зимнее? Вша, дура-мама, а не дело.
Мне становится страшно оттого, что на это «зимнее» он реагирует с такой легкостью.
Случилось это в январе. За месяц до этого мы угнали на китайскую территорию две тысячи овец у советского пограничного совхоза.
Мы – это я, Андрей-Фиалка, дядя Паша Алаверды и два пастуха-монгола.
Кража прошла благополучно, потому что ей покровительствовала не только «ПР», но кто-то более могущественный. Овец продали английской «Хладобойне», и мы получили от «ПР» русскими деньгами по 50 копеек за голову. Мы выполнили это как «задание», в счет гарантии, обеспечивающей наше «право на жизнь» на чужой территории.
Деньги мы пропили. Пропили бесшабашно, буйно, вовсе не думая о завтрашнем дне.
Тогда же я заметил, что за нами следит шпик от «ПР».
Мы пили у моего знакомца в деревне Ла-О-Хан, у беглого семиреченского казака. Его припадочная жена жалась ко мне плечом. Она до крови искусала себе губу и, часто сплевывая окровавленную слюну, страстно пела:
Ды-далико в страни иркуты-ский…Я пил и все время прислушивался. Потом внезапно встал и выбежал в сени. От двери поспешно отскочил человек в кожаной куртке и в нагольных сапогах, прыгнул в хлев.
Я запер за ним тяжелую дверь на засов. Потом вернулся в избу и сказал казаку:
– Передний хлев ты, Артемий, денька два не открывай.
Он понял и смолчал. И когда я сел, его жена достигла своего. Я не сопротивлялся, и она, лихорадочно вздрагивая, закатила глаза, облокотилась и забормотала:
– Не откроим, голыбь, не откроо-им, – и опять запела:
…Ды-да-лико в страни ирку-тыский…Утром, когда мы уезжали, в кровавом тумане всходило три солнца. Спиртовой градусник показывал —43°. В тяжелой дохе мерзли ноги.
Там, в хлеву у Артемия, замерзал человек. Впрочем, он, может быть, уже замерз, когда мы уезжали. Мне несколько раз приходилось замерзать – ни с чем не сравнимые муки. Кажется, что кости высверливают тупым угловатым сверлом. Сначала в ногах, потом в бедрах. А когда на несколько минут немилосердно заноет нижняя челюсть, тогда в теле начнется огненный зуд. Теряешь сознание. Близок конец.
Выезжая, я подумал: «Ноет у него нижняя челюсть или еще нет?» Потом представился седой, покрытый инеем угол хлева.
Чужие муки меня давно уже не трогают.
Очень много сигнальных кнопок в кабинете у Воробьева.
По две, по три и даже по пять штук в коротеньких черных или коричневых брусочках, от которых тянутся в разные стороны тонкие зеленые жилки проводов. Я знаю, что это уловка.
Все это декорация, ставка на то, чтобы ошеломить посетителя таинственностью. И к чему эта огромная разноцветная ваза, похожая и на китайского дракона, и на русского петуха?
В углу, на диване, сидит английский морской офицер. Нас знакомит Воробьев. Я не разобрал фамилии офицера. Но я знаю: в этих учреждениях фамилии всегда называют так, чтоб никто их не расслышал и не понял.
Воробьев говорит отрывисто: опять-таки хочет показать, что он ни одну лишнюю секунду не может пропустить даром.
– Садитесь.
Меня злит чопорность офицера и надутая официальность Воробьева. Я отвечаю грубо, на «ты»:
– Если ты спешишь, я уйду.
Воробьев смущен, исподтишка глянул на офицера. Англичанин притворяется, что не заметил.
О, выстуканная сухая подошва! С мучительным наслаждением я бы дал ему в морду. За что?
За все. За то, что я не в России, а в Китае, за то, что я не хочу сидеть тут и разговаривать с Воробьевым, а вот сижу и разговариваю.
Разговариваю при ненавистном свидетеле.
Воробьев нажимает одну за одной несколько кнопок. Никто, конечно, не вошел. Он сразу меняет тон и говорит так, будто бы он мне большой друг:
– Игнаша, нужен конный рейд… в Россию.
– Конный? – насмешливо спрашиваю я. – В Советский Союз?
Воробьев смущенно смотрит на англичанина, снова нажимает кнопки. Поднимает глаза на меня. Во взгляде ненависть и мольба. Он говорит мне глупую лесть, обращаясь к англичанину:
– Этот офицер принимал очень близкое участие в Мамонтовском рейде.
Англичанин хочет казаться презрительным, но я вижу его жадное и завистливое любопытство. Он топорщит губу – это глупое, ограниченное, всему миру наскучившее выпячивание нижней губы.
Я делаю три шага в сторону, вытягиваюсь перед Воробьевым и закрываю от его глаз англичанина спиной.
Решил я в одно мгновение. Ненавистная мне самому черта в моем характере: все решать в одну секунду.
– Сколько предположено сабель? – почтительно и деловито спрашиваю я.
– Сто – сто двадцать, – отрезает Воробьев.
– Люди набраны?
– Да.
– Кто они?
– Как сказать?.. Больше офицеры… Люди, во всяком случае, убежденные и…
Я соглашаюсь только при одном условии: все сто двадцать я наберу сам.
Воробьев пожимает плечами и откидывается на спинку кресла, чтобы взглянуть на англичанина.
Я наклоняюсь вправо и вновь загораживаю офицера. Тогда Воробьев решительно говорит:
– Дело твое, Игнаша. Но… – Он снова пытается взглянуть на англичанина. Снова я подвигаюсь вправо и перевожу разговор на другое:
– Мне нужно полтораста коней.
Воробьев опускает голову. Отвечает он не сразу.
– Лошадей, Игнаша, нет… Нету коней, Игнаша.
– Хорошо, – говорю я, – лошадей я пригоню. – И круто поворачиваюсь к англичанину. Он не успел принять позу, выражающую пренебрежительную рассеянность.
Я говорю церемонно:
– Извините, сэр, я очень сожалею, но прошу вас удалиться. У нас предстоит военная беседа. Вы как офицер понимаете меня.
Он быстро вышел. Воробьев растерялся вконец и воскликнул тихо:
– Зачем ты?.. Ведь это…
– Могу вернуть… – намекающе срезаю я его. Молчим. Я сажусь и говорю:
– Знаешь, Воробьев, какой случай: зимой к Артемию залез вор в сенцы. Я вышел, а он в хлев. Я его запер там, он и смерз начисто.
Воробьев не хуже меня знает печальную карьеру своего шпика. Он говорит мне:
– И сволочь ты, Багровский.
– Но и ты сволочь неплохая, – улыбаясь, отвечаю я.
От Воробьева я ушел затемно. Недалеко станция. Большая площадь перед вокзалом сплошь залита бледно-красными движущимися огоньками. Это фонарики на колясочках джени-рикши. Ни людей, ни колясочек не видно в темноте.
Огоньки похожи на паучков, бегающих на очень высоких, тоже невидимых ножках.
Прихожу на площадь. Меня окружают босые, рваные джени-рикши. Их худые лица почти неразличимы в полумраке.
Они наперебой предлагают себя в качестве лошади. Страшная конкуренция: я подхожу к одной из колясочек, мне кричит кто-то:
– Капитана, нет садися. Он нога ломайла, шибыка нету бегать.
Иду к другой – тот же голос:
– Нет садися, капитана, гылаза нету видеть. Мала-мала падай.
Я заметил кричащего и подошел к нему.
– Капитана, мадама хотит? Русска мадама, китайска, японыска. Шибыка красивый мадама.
Беру его. Он мчит меня. Я бесцельно смотрю на его мелькающие в полумраке голые икры и думаю о рейде.
Что мне дал Воробьев со своим англичанином? Ничего, кроме задания: проникнуть в пограничную область, деморализовать население, используя «антисплошноколхозные», как у нас говорят, настроения, поднять крестьянское восстание и направить их на разгром военных городков. Безотказно дают оружие, новенькое, с иголочки. Этим добром хоть завались.
Вот и все. Впрочем, не все. Еще кличку «Черный Жук». Видите ли, какая у нас постановка дела: «по внутренним законам «ПР» каждый сотрудник носит кличку».
Мне давали людей. Людей, идущих по убеждению. К черту эту сволочь! Я наберу людей, идущих только «ради заработать». Вот «убеждение», выше которого ничего нет. Чем я не марксист-материалист? Не правда ли: материя, а не дух. Нажива, а не идейность. Андрей-Фиалка этот вопрос решает так: «добудешь – возьмешь, убьют – помрешь».
Мою лично «идею» я знаю отлично.
Во-первых: я иду бороться за «право на леность». Овцы, которых мы угнали из совхоза, дали мне «право» ничего не делать в течение восьми месяцев, а главное, дали мне право грубить Воробьеву и – невыразимое наслаждение! – выгонять вон английского офицера.
Во-вторых: я хочу истязать Россию. Из-за ревности однажды острой плетью для гончих собак я бил любимую женщину.
Бил я ее редкими, «выбирающими» ударами. У нее началась рвота. Мне стало противно стегать ее дольше.
Так же хочу я истязать Россию.
Я ее люблю самой большой любовью и ревную самой страшной ревностью.
В одном из переулков джени внезапно остановился и упал передо мной на колени.
Я не понимал, в чем дело.
– Капитана… капитана… твоя говори: моя твоя фы-сегда вози… капитана, моя тибе деньги мала-мала давай… капитана. – Он сорвал с оглобельки коляски ящичек с деньгами, достал несколько монет и сует их мне.
Я понял: впереди шла орава китайских солдат. В большинстве плюгавые мальчишки-добровольцы. Они орали песню о том, что «родителей надо почитать, как почитают великих». Джени просил меня сказать им, что он мой постоянный слуга, иначе его ограбят и изобьют.
Орава поравнялась с нами. Кто-то крикнул по-китайски:
– Остановись, ты, питающийся червями и падалью.
Джени, пользуясь моей защитой, смело закричал им:
– Я каждый день досыта ем. Меня кормит вот этот мой божественный господин, у которого я служу.
Несколько часов спустя за эту мою «услугу» джени избавил меня от больших неприятностей. Наверное, он спас мне жизнь.
Я сидел в заведении, куда привез меня джени, полупьяный, с маленькой, похожей на ребенка японкой.
Я учил ее матерно ругаться по-русски. Она повторяла. Выходило у нее ужасно нелепо и смешно, так как по содержанию брани на нее падала роль мужчины. Я хохотал. Она сжимала кулачок и, смеясь, пыталась меня ударить. Я ловил ее кулачок и запихивал себе в рот до самой кисти.
Неслышно, как тень, ко мне скользнул мой джени.
– Капитана, – торопливо зашептал он, – моя тибя вези скоро, скоро… Твоя кради буди…
Я потребовал, чтоб он сказал по-китайски. Оказалось, он пронюхал откуда-то – о, эти джени, кажется, они все разнюхают! – что меня хотят «украсть» и что уж приготовлен зеленый закрытый автомобиль.
Я не понял, кто именно хочет меня «украсть». Но сам я несколько раз «воровал» людей по заданиям Воробьева. Это страшно просто: приходишь под видом правительственного лица, вежливо зовешь для сверки паспорта, а в закрытом авто наставляешь дуло браунинга и говоришь:
– Вы, конечно, понимаете, что выстрел и звук газующей машины различить невозможно. – Вот и все.
Я быстро скрылся. Джени повез меня галопом. Я видел: когда мы сворачивали из переулка, к заведению подъехал закрытый зеленый авто.
Джени отвез меня к Андрею-Фиалке и не хотел брать денег.
– Твоя, капитана, шибыко хоросо. Шанго шибыко, твоя русски шанго.
Я говорю ему озорно:
– Я самый настоящий русский, большевик.
– Большевик? Капитана, моя зовут Люи Сан-фан, тибе шибыко шанго, капитана.
Люи Сан-фан в переводе на русский язык означает «большое душистое дерево». Я называю его по-своему:
– Вонючая Стоеросовая Дубина, я такой аграмаднейший большевик. Понял, Дубина Стоеросовая Вонючая?
Он ухмыляется и делает вид, что поверил мне.
– Хе-хе, – смеется он.
– Хочешь поехать со мной в Россию? – спрашиваю я.
Он по-прежнему ухмыляется и так же смеется:
– Хе-хе…
Андрей-Фиалка ожил. Радует ли его нажива, или же страшная душа его тоскует о вишневых садах, ради которых он всегда готов идти куда угодно и чего-то искать. Его страшно забавляет то обстоятельство, что мы поедем под видом красноармейского отряда по китайскому Трехречью. Для этого мы будем двигаться с русской стороны и представлять «большевистский» отряд, «нагло ворвавшийся на чужую территорию», грабить и жечь мирное население, то есть учинять те самые «большевистские зверства», о которых будут кричать газеты всего мира: вот, дескать, какова практика большевистской проповеди о том, чтоб перековать мечи на плуги и учинить на земле мир.
Потом в Трехречье мы должны «сгинуть», под абсолютным секретом уйти на восток и уж здесь перейти границу.
Вчера я согласовал с Воробьевым проект структуры отряда. Не потому, конечно, что от меня этого требовали, а потому, что самому мне хотелось щегольнуть своим «военным талантом». Сто человек я разбил на двадцать пятерок. Каждая пятерка знает только свою обязанность: пятерка кашеваров, пятерка коноводов, пятерка поджигателей и т. д.
В отряде будет четыре томсона, четыре этих окаянных ручных пулемета, выпускающих по 875 кольтовских пуль в минуту.
Пулеметы будут: у меня, у Андрея, у дяди Паши Алаверды, на четвертый я отыщу тоже «абсолютно верного». Наверно, Артемия. В случае бунта мы в одну минуту уничтожим весь отряд.
Сегодня я работаю над картой. На столе у меня, справа, – молоко, сыр, масло и бутылка с коньяком. Я выпиваю коньяк с молоком и без хлеба ем сыр, густо намазанный маслом. Это мой «божественный нектар». Ничто так сильно не возбуждает мой мозг, как эта странная смесь.
На дворе у нас стоит грузовик, присланный специально для того, чтобы своей газовкой глушить учебную стрельбу из томсонов.
Цыган стреляет с поразительной меткостью. Он еще ничего не знает о рейде, но готовиться ему велел Андрей. Они приходят ко мне. Цыган приносит мишень. Мишень у него разбита в щепки и похожа на лучистую звезду.
– Вот машинка, вот машинка! – восторженно кричит он.
Андрей-Фиалка сконфужен: он стреляет из рук вон скверно.
Он садится закурить, но внезапно мрачнеет, не закурив, снова поднимается, подходит к сундучку и вынимает оттуда свой «гвоздик» – так он называет прямой германский тесак.
Дядя Паша Алаверды мгновенно бледнеет; роняет раздробленную мишень и вылетает вон из комнаты.
Андрей-Фиалка мрачно смотрит ему вслед и через минуту мычит:
– А и дура-мама. А и дура.
Вернулся Артемий. Я его посылал «пошукать». Он переходил границу и теперь докладывает:
– Кони, я прямо скажу, отменные. Селезни, прямо скажу, а не кони. У Монголии скупают, и все под казенным тавром.
Он приехал с женой. Здесь она держится со мной робко. Кажется, будто ей не верится, что это она была там, у себя дома, так близка со мной и ластилась ко мне в своей наглой страсти.
Артемий отвечает мне:
– Охрана?.. Что – охрана? Охрана, она и есть охрана. Я прямо скажу: хреновая охрана.
Она очень низко и покорно кланяется и вторит ему торопливым шепотом:
– Никакой охраны… никакой… – Ей хочется сказать больше, но она робеет и умолкает.
Здесь, в городе, она какая-то жалкая и холодная. Я хочу узнать, не была ли и она уж с Артемием, но вспоминаю о кутеже с ней. Мне становится противно от того, что в пьяном буйстве ласкал ее, кусал ее горячее, до липкого влажное тело, и она с тихим стоном покорно переносила это и ждала.
Я отхожу к столу и говорю:
– Хорошо, Артемий, готовься. – Потом нагибаюсь над «Правдой» и синим карандашом обвожу сообщение о беспорядках на Китайско-Восточной железной дороге.
Оба бесшумно уходят. Я слышу, как они шепчутся за дверью. Меня раздражает их шепот, а главное то, что они так долго не уходят.
Потом полураскрылась дверь, и Артемий спросил:
– Ходок прикажете или верхами?
– Ходок! – почти кричу я, не глядя на него, и опять бесцельно обвожу вдоль синей черты новую, красную.
– Ходок, ходок! Я прямо скажу – ходок обстоятельней.
Когда он закрывал двери, я поднял голову. Через плечо Артемия смотрела Маринка. Взглядом благодарила меня. Я понял, что Артемий не хотел ехать на полке, но настояла она и теперь увяжется с нами.
Нервничая, я в третий раз очерчиваю в «Правде» заметку о беспорядках на «К.В.Ж.Д.».
Сегодня и в наших газетах – а впрочем, где мои газеты: там, в России, или здесь? – появились заметки о большевистских бесчинствах на «К.В.Ж.Д.».
Кому же верит читатель? «Правде» или нашим газетам? Сообщения в «Правде» носят характер спокойной уверенности. Наши газеты выдают себя чрезмерным криком «караул».
А может быть, мне так кажется потому, что я знаю, где фальшь.
Иностранные газеты молчат. Немудрено. Большевики научили их некоторой осторожности.
Эти Тришки в чужих кафтанах ждут чьего-то знака. Потом завоют хором: «Вот подлинная маска большевистского миролюбия».
Меня часто тревожит безумная идея: миру нужен Батый. Нужно, чтобы Батый повел дикие полчища на Европу и сжег бы города. Тогда люди начнут новую культуру, новый «золотой век».
Какой он будет, этот «новый век» – все равно. Но миру нужны огонь и кровь, иначе люди задушат друг друга своей мудростью. Почем я знаю, что сейчас где-нибудь в Англии или во Франции не изобретен удушливый газ, пахнущий розами или ландышами? И кто уверит меня, что сейчас я не услышу вдруг этот сладкий, нежный запах смерти?
Тем более что сейчас миром управляют «две кнопки», смертельно ненавидящие друг друга. Одна кнопка в Москве, а другая «где-то».
Порой эта идея так мучает меня, что я мысленно восклицаю: «Где есть эти дикие, всесокрушающие орды?»
И отвечаю себе: «Их нет». Люди везде поклоняются лести и исповедуют торговый обман. Это они называют «культурой». И тогда в бессилии я низвожу мою большую, страшную идею до маленькой, и горделивый гнев удесятеряет мои силы: это лучшие минуты, в которые я предугадываю все «возможности рейда» в Россию.
Вчера получили телеграмму от Артемия. Вчера же туда уехали Андрей-Фиалка и дядя Паша Алаверды.
А сегодня, когда я вышел из дому, чтоб ехать на станцию, ко мне подкатил Люи Сан-фан.
Он, видимо, несколько часов ждал меня у дома. Беспрестанно улыбаясь и скаля свои кривые белые зубы в улыбке – поразительно однообразной, не изменяющей тоскливого выражения лица, – он подошел ко мне и сунул в руки белую, слоновой кости, расческу в блестящем, разноцветном и очень дорогом футляре.
Он, видимо, украл или нашел ее.
– Капитана, моя тибе дарин.
Я вижу, что он хочет со мной о чем-то говорить, но у него нет повода к началу.
Мне некогда, я говорю ему спасибо и иду. Но он забегает вперед и, внезапно посерьезнев, начинает мне объяснять, что расческа эта очень дорогая.
– Шибыка дорог, – восклицает он.
– Я улыбнулся, и тогда он сразу заговорил, стараясь скрыть свое желание под неизменной улыбкой:
– Капитана, твоя Москва един?
Я понял, о чем хочет он говорить. Он в своей жестокой безысходности мечтает о большевистской Москве. Всем им вскружили голову легендами о Ленине. У меня мелькает забавная мысль, и я говорю китайцу:
– Слушай, Стоеросовая Дубина, хочешь со мной в Россию?
Он молча улыбается. Я знаю, что он не скажет мне «да». Он очень осторожен, поэтому я ему говорю:
– Люи, когда я опять приеду сюда, ты приходи ко мне. Тогда поедем в Россию.
– Хе-хе, – хрюкает он и улыбается. Ни за что он не осмелится ответить согласием, но я знаю, что он придет.
Холодный сухой ветер вздымает песок. Лошади беспокойны и подвижны. Сегодня их легко гнать. Дядя Паша Алаверды уверяет, что в такую погоду он «всю Рассею может обезлошадить».
Мы сидим с пастухами. Их четверо взрослых и один мальчишка лет четырнадцати. Для них мы – проезжие рабочие с Круменского маслосовхоза.
Но пастушонок сразу что-то заподозрил. Он внимательно и вдумчиво рассматривал наш ходок. Покуда мы ехали, колючие песчинки иссекли нам лица в кровь. Особенно у Маринки. То и дело кутаясь в платок, она тщательно скрывает от меня свои кровоточащие щеки.
По-моему, мальчика встревожило именно это ее беспрестанное беспокойство и то, что она скрывает лицо.
В чем-то убедившись, он, стараясь быть незаметным, отходит в сторону и оттуда кличет старшего пастуха.
Но «старшой» – сонливый высокий мужик, с воспаленными, истрескавшимися губами – отмахивается от Диего. В этой пустынной степи он истосковался по свежему человеку. Видимо, ему не с кем отвести душу разговорами и некому попенять на скуку.
Он крепко и воодушевленно ругает мужиков за неподатливость. Сплевывая песчинки, попадающие ему в рот, он восклицает:
– Эт какие беспанталыки, эт какие. Уж раз затеяли сплошное государство, стало, берись все разом. То не соображает каждый, что отступленья… быть… не должно. Эт мы при общей дружноте со всеми этими пятилетними делами в три года управимся. И нам тогда, я скажу, товарищи, ни одна Америка в задницу плюнуть не достанет.
Мальчишка выходит из себя.
– Дядь Гришь, дядь Гришь, поди, тебе говорят, сюда! – кричит он.
Старшой поворачивает голову, с минуту озлобленно смотрит на него и потом орет:
– Отвяжись, тудыть твою, приспичило тебе!
Мальчишка подбегает и, стараясь не вызвать у нас никакого подозрения, берет огромную бердану, которыми вооружены пастухи, и вновь отдаляется от нас. Это беспокоит цыгана и особенно Артемия. Артемий, сидя на ходке, вдруг принимается остервенело хлестать ни в чем не повинных лошадей.
Я подхожу к нему и беру с тележки томсон. Андрей-Фиалка в одно мгновение выхватил из штанины германский тесак, в пах ударяет старшого и на четвереньках, высоко задирая зад, отскакивает от него.
Рассказчик обрывает на полуслове. Он медленно раскрывает рот и ворочает языком. Точно бы под языком у него песчинка и он хочет и никак не может выплюнуть.
Глаза у него уже синие и неподвижные. Но, мертвый, он продолжает сидеть. Я вижу, как он сухим языком облизывает сначала нижнюю, потом верхнюю губу, и одно мгновение мне кажется, что он снова заговорит. Но он откидывается навзничь.
Низкорослый пастух, сидевший против него, подпрыгивает, смотрит на нас и тихо испуганно кричит:
– Ай, а-ай!
Я нажимаю гашет томсона и выпускаю по пастухам пять очередей. Андрей-Фиалка все так же, на четвереньках, подскакивает к ним и «проверяет»: в каждого он вонзает тесак и смотрит в глаза. Потом поднимается и сообщает:
– Этого, который вскочил, почитай пересекло пулями в пояснице. Штук семь влилось. А и дура-мама, вскочил.
Внезапно раздается еще один выстрел, трескучий и оглушительный.
Маринка вскрикивает, хватается за живот. Задирая кверху лицо, она смотрит на Артемия и часто-часто моргает.
В нее попал парнишка. После выстрела он бросил бердану и пустился бежать.
– Бей, чертова борода! – закричал Андрей и изо всей силы огрел цыгана между лопатками.
Цыган припадает к карабину и, целясь, бледнеет. Я внимательно смотрю на конец ствола: странное желание увидеть пулю. Я отлично знаю закон «начальной скорости» и все же каждый раз пытаюсь увидеть вылетающую пулю.
Звучит выстрел. Парнишка упал. Мы бежим к табуну. Артемий, грубо толкнув раненую жену, укладывает ее и тоже подбегает к нам. Он хочет чем-то помочь мне, но растерянно топчется и снова бежит к тележке.
Мы завертываем лошадей и галопом гоним их к границе. Впереди скачет Андрей-Фиалка: в одно мгновение он выбрал лучшую лошадь. Настигая его, несется короткий и крутой буланый жеребец; он прижал уши, завистливо и злобно визжит и заворачивает оскаленную морду в сторону, готовясь впиться зубами в круп Андреева коня.
Несколько минут косяк идет быстро и послушно. Но вот из табуна выдвигается вперед гнедой, вытянутый жеребец, вскидывает передом и впивается буланому в холку. Буланый вздыбил, вырвался и стегнул соперника задом. Потом вздыбили оба. Поднявшись на задних ногах, они, подобно собакам, впились друг в друга. Табун встал. Лошади встревоженно и строго глядят на бойцов: видимо, у жеребцов это не первая схватка за власть над косяком, только что согнанным.
Цыган подскакивает к ним и вскидывает карабин.
– Буланого не трожь! – оглядываясь, вопит Андрей-Фиалка. Но он опоздал. Раздается выстрел. Буланый взвился, а, когда опустился, передние ноги не сдержали его – он рухнул: голова у него подвернулась, и туловищем он придавил ее.
Гнедой замахал вперед, увлекая за собой косяк.
Дядя Паша Алаверды подъехал ко мне и, содрогаясь от ужаса, забормотал:
– Начальник, заколит… начальник, заколит… ой, зарежит, начальник.
Дядя Паша Алаверды серьезно опасался, что Андрей-Фиалка убьет его. Чтоб задобрить Андрея, он выкинул безумный поступок: гнедой жеребец, видимо, хорошо знал холодную стремнину Аргуни. Не добегая реки, он сразу остановился и испуганно захрапел. Лошади стеснились, задние своим разбегом подтолкнули передних к обрывистому берегу. Прыгни в воду хоть одна лошадь, и весь косяк последовал бы за ней.
Гнедой вожак мгновенно оправился. Взвизгивая, он грызет лошадей направо и налево и грудью пробивается из середины, чтоб умчаться снова в степь. За ним последует весь косяк. Вот он уж недалеко от края.
Андрей-Фиалка испуганно отскакивает с его пути. Нет зверя страшней и опасней взбесившегося косячьего жеребца.
Нет силы, могущей остановить сокрушительный бег табуна.
Еще несколько секунд – и косяк снова умчится. Навстречу гнедому жеребцу подскакивает цыган. Прямо с лошади он прыгает в табун, на несколько мгновений исчезает среди столпившихся лошадей. Но вот он очутился верхом на гнедом жеребце, визжит, взмахивает маузером и изо всех сил бьет косячего в левую скулу. Гнедой вскидывается направо и почти висит над обрывом. Дядя Паша Алаверды дважды стреляет ему в затылок. Жеребец взвивается и в конвульсиях летит под кручу вместе с цыганом.
Лошади лавой прыгают в воду и, борясь с яростным течением, плывут на китайский берег.
Я вижу, как одну жеребую кобылку закрутило течением и отнесло. Она растерялась вовсе. Выбиваясь из сил, она пытается плыть против течения. В лихорадочном напряжении она выбрасывает передние ноги из воды, точно пытается «взять галопом». Но вскоре она обессилела, и голова ее медленно погружается в воду. Она выныривает и скрывается вновь, и вновь показывается и опять исчезает.
Я вижу ее огромные оскаленные зубы. Она ни за что «не сообразит», что ее спасение – плыть по течению и пристать к берегу. Ее губит «власть стада».
Когда она исчезла совсем, я оглянулся. Андрей-Фиалка стоит рядом и понуро сопит. Потом поднимает на меня глаза и мычит злобно:
– А и дура-мама…
Я спрашиваю:
– Пропал цыган?
Не отвечая, Андрей-Фиалка стегает лошадь и с кручи прыгает в воду. Цыган остался невредим. Оказалось, он прыгнул раньше, чем рухнул жеребец, и заполз под обрыв.
Андрей-Фиалка злится на него за то, что цыган с ним сегодня необычайно предупредителен и услужлив.
Я снова в Харбине. Власти «оказывают активное содействие» советской комиссии, разыскивающей угнанный мною табун, – это теперь. А два дня тому назад, когда лошадей еще не погрузили на английский пароход, они, власти, «любезно» доказывали Советскому правительству, что кража лошадей «совсем невероятный факт».
Вечером приехал Артемий и притащил с собой «поэта» – высокого серенького гимназиста из харбинской гимназии. Завербовал в отряд.
– Человек энтиресный. Душевный, – рекомендует он.
Я молча вглядываюсь в «поэта». Гимназист смущен, но «заставляет себя» быть развязным.
– Господин начальник, – хрипловато философствует он, – религия есть единственное спасение тонкости человеческой души. Пусть Бога нет, но без религии душа костенеет. Как люди могут управляться без религии? Во имя спасения религии…
Я перебиваю его:
– Вас мне не нужно.
Артемий вступается за него.
– Стишки составляет из своей головы, – добавляет он.
Гимназист высказывает новый мотив:
– Вы делаете преступление перед русской литературой.
– Гм?
– Одного из представителей ее вы лишаете возможности побывать на «большом деле» и описать потом свои ощущения.
– А вы разве знаете, зачем вы мне нужны?
Артемий решительно трясет головой. Гимназист в недоумении. Я объясняю:
– Мы идем воровать.
– Так вот я! – восклицает гимназист.
– А убить вы согласны? – из любопытства пытаю я его.
Гимназист делает обиженное лицо и высокопарно заявляет:
– Животное я не могу убить. А человека… ге… Вот курицу зарезать не могу. А человека… ге-ге…
– Я, в общем, прямо скажу, объясняю всем одинаково. Мол, «за веру поработать придется», – оправдывается Артемий.
Гимназист вызывает во мне какое-то любопытство, и я, притворяясь, что поверил ему, одобрительно соглашаюсь:
– А человека, значит, ге-ге? Это вы молодец. Курицу вы никак, а человека, значит, ге-ге. Ловко, ловко! Мне такие очень нужны.
Гимназист протягивает мне руку, но я не замечаю.
Они выходят. Артемий задержался у дверей, мнется и сообщает степенным, верующим голоском:
– Отказала долго жить вам, – и добавляет: – Марина Федоровна.
– Разве? – невольно вскрикиваю я.
Меня почему-то испугала ее смерть, хотя я и знал, что она обречена.
Когда Артемий переплыл с ней через Аргунь на лодке, я издали посмотрел на ее меловое лицо. Я не могу ошибиться: на это у меня очень наметан глаз.
Артемий выходит на цыпочках, мгновенно потеряв мужицкую тяжесть своей походки.
Дверь он закрывает медленно и бесшумно.
Вчера встретил того английского морского офицера. Равняясь со мной, он берет под козырек, желая показать, что он считает меня равным себе.
Какая честь! Я, славянский офицер, могу поздравить себя с тем, что этот «сын Альбиона», эта выстуканная подошва, снизошел до меня.
Великодушно он говорит мне:
– Я очень люблю Россию. До войны мой отец вложил в русскую промышленность три четверти своего капитала. Я бесконечно люблю Россию, но вам надо было родиться англичанином.
Улыбаясь, я отвечаю дерзостью:
– Охотно верю, что ловкие конокрады составят честь вашей нации.
Он покорно глотает эту пилюлю и хочет узнать, как идет подготовка к рейду.
– Как обстоят ваши дела?
Я уклоняюсь от разговора и отвечаю, как истый славянин:
– Дела – слава богу.
Он отчаливает несолоно хлебавши.
Все готово к началу. Сегодня Артемий и Андрей-Фиалка отправили на пограничные бакалейки весь наш шанцевый инструмент. Люди и лошади отобраны мной самим. И то и другое – «цвет», «сливки». Люди – контрабандисты, воры и убийцы, те, кого выхаркнула большевистская Россия. Кони – полудикие, монгольские звери, затавренные советским клеймом.
И я начальник.
Вечером я уеду в «Колодцы», а потом на бакалейки.
Все готово. К чему? Может быть, да и наверное, к моей смерти. Пусть будет так. Я не верю в Бога, но у меня молитвенное настроение. Я шепчу: «Sic, ut voluntas tua!» – «Да будет воля твоя!» Я предчувствую смерть, я вижу ее темно-зеленые, бездонные глаза. Я ощущаю сладчайший запах гниения. Но – «Sic, ut voluntas tua». Я сам приготовляю себе торжество похорон. Порой мне кажется – о проклятая живучесть человеческой мечты! – что в ознаменование смерти моей вспыхнет огонь и прольется кровь.
– У меня «личные дела» всех моих людей: о каждом самые подробные сведения дал мне Воробьев. Больше мне не нужны эти «секретные» документы. Я жгу всю пачку прямо на полу, около печки, и шевелю горящую бумагу носком сапога. Кожа на сапоге трескается, но мне уж не жаль сапог. Мое бешенство стихает, приходит печаль о чем-то главном, несбывшемся. Жизнь обманула меня. Меня обманывает каждый миг, каждый час, каждый день. Меня обманывает золотой закат дня – я не могу от него получить это мое «главное – несбыточное». Меня обманывает гроза, от которой содрогаются горы: как блеск зарниц, неуловимы мои желания.
Меня обманывает струна, рыдающая в темноте, – своей печалью она бередит мою тоску «о чем-то».
Проклятая доля – беззаветно любить родину, а под собой всегда чувствовать чужую землю, чужую траву, чужой песок.
Отвергнувшей меня этого я не прощу.
Я задержался до вечера лишь потому, что не совладал со своим желанием умышленно нагрубить английскому офицеру, поссориться и по-русски, по-нашему, по-рассейски свистнуть ему в сухую морду.
Я думал встретить его у Воробьева, но узнал, что он «куда-то» уехал. Мне не нравится это «куда-то». У английского офицера много дорог, но мне кажется, что на этот раз у него одна дорога, определенная дорога. Я уверен, что он послан в качестве «глаза наблюдающего».
Тем хуже для него. Если он встретится мне там, я пошлю Андрея-Фиалку «поговорить с ним». Он думает, что я – «наймит».
Он и пославшие его думают моими руками испробовать крепость и силу советского огня. Но это им не удастся.
«Наймитом» я не был и не буду. Марионеткой в руках людей, затевающих войну, не буду.
Отвергнувшей меня я буду мстить один и сладость мук ее не разделю ни с кем.
Когда я вышел от Воробьева, ко мне снова привязался Люи Сан-фан.
– Капитана, твоя Москва бери Люи?
А я злюсь на то, что на мой «военный талант», на меня эта выстуканная английская подошва поставил грошовую ставку, а хочет получить миллионы. Он даже не рискнул снабдить меня лошадьми для отряда, а собирается получить – и «получит».
В бешенстве я маню китайца ближе к себе. Мгновение – и он летит на мостовую. Он грохнулся хлыстом и опрокинул свою колясочку. Ящичек с деньгами упал, и монеты рассыпались.
Я крепко смазал ему в самую переносицу. Так же смазал бы я английскому морскому офицеру.
Я пошел прочь, но вернулся к Воробьеву и сказал, чтоб китайца немедленно «убрали».
По-моему, эта вонючая сволочь знает больше, чем ему следует знать.
Когда я снова выходил, китаец ползал по мостовой и шарил руками, разыскивая в темноте разлетевшиеся монеты.
От Воробьева я поехал к дяде Паше Алаверды: он проводит меня до пограничных бакалеек.
Приехав, я даю ему деньги – «премия» за угнанных лошадей. Цыган крестится и кричит жене:
– Вот и добрый человек нашелся. Есть добрые на свете люди.
Я тихо говорю ему, что мы задержимся до следующего поезда. Я хочу, чтобы он сам «убрал» китайца.
Цыган одевается и уходит. Через два часа он вернулся, растерянно и виновато оправдываясь:
– Сгинул… сгинул… сквозь землю провалился. Начальник, как же быть?
Я отвечаю:
– Собирайся мгновенно.
Впоследствии я узнал, что китайца он выследил в районе станции, на глухих путях, подходил к нему, но, боясь тревоги, не стрелял, а ножом у него «рука не поднялась».
На бакалейку мы с цыганом приехали утром. Сырой, осенний холод всю дорогу грыз мою душу голодной тоской. Но сейчас белое небо потеплело, и в застрехах, где нет дуновений ветра, бледное солнце греет ласково. Вспоминается весна, хочется что-то угадать в поблекшей песчаной дали.
Три низенькие фанзы постепенно наполняются людьми: с соседних отдаленных бакалеек группами и в одиночку прибывают мои люди. Я вглядываюсь в каждого. Как они все не похожи на «тех людей, о каких говорится в личных документах», переданных мне Воробьевым. Кажется, что собрались мужики – раскуривают, мирно беседуют и вот-вот дружно примутся за какую-то общую работу. Больше всего думается, что они собрались рыть общественную канаву.
Каждого из них от настоящего мужика отличает только какая-нибудь особенность в одежде: у молодого парня с жиденькой бородкой короткий зипун опоясан кавказским поясом с серебряными бляхами; угрюмый, суровый старик, известный по всей границе контрабандист по прозвищу Киряк, носит темно-зеленую тирольскую шляпу. Плотно сидя на нарах, он внимательно осматривает всех и как бы оценивает каждого в отдельности.
Пока никто из них не знает, что именно им предстоит. Но все они приготовились «к чему угодно». Они понимают одно: своим участием они уплатят дань «кому-то» и этот «кто-то» обеспечит им «право на жительство».
С жадной радостью они уничтожили бы друг друга, но у них нет выбора. Они это знают слишком хорошо. Над ними висит постоянная угроза – «выслать на родину».
Хозяин бакалейки – пухлый кривоногий китаец – насторожен таким небывалым скоплением людей. Но не подает виду и притворяется спокойным. Зато он чаще, чем следует, пускает в ход свою короткую бамбуковую палку и бьет своих людей без причины.
У него по китайскому берегу Аргуни разбросано около тридцати мелких бакалеек, по несколько штук против каждого из больших советских сел – Олечье, Церухайтуй, Обегайтуй.
Эти лавочки – его щупальца, через них он ведет крупные контрабандные дела.
Мы строго следим, чтоб он не дал знать туда о своем подозрении. Здесь через несколько часов родится «красноармейский отряд» и двинется через разлившиеся в осеннем половодье Ган и Чинкар, «вторгнется самолично» в китайское Трехречье и там начнет свои «большевистские зверства». Поэтому так важен секрет рождения «красноармейского отряда». Поэтому все живые, не имеющие отношения к моему отряду, обречены.
Через час собрались все. Потом внезапно, точно из-под земли, появился Люи Сан-фан. Оказалось, он проехал в собашнике на том же поезде, на котором ехали мы с цыганом, а сюда примчал пешком. Он издалека робко посматривал в мою сторону, и глаза его умоляли меня. Цыган шепнул что-то Андрею-Фиалке. Андрей подошел ко мне и тихо спросил:
– Мне с ним «поговорить»?
Но меня сломило упорство китайца. Отчасти же меня забавляло то обстоятельство, что китаец, мечтающий о Ленине, о большевиках, будет послушной игрушкой в моих руках.
Вместо ответа я громко заявляю:
– Пора, Андрей!
И возглас этот точно стегнул всех людей. Все встали, засуетились. Все с покорным любопытством, однако украдкой, смотрят на меня. Они сразу поняли и почувствовали, что их начальник – я.
Артемий подошел к стогу, стоявшему близ самой низенькой фанзы, и принялся раскидывать сено. К нему молча подошли пятеро. Я понял, что это пятерка коноводов.
Доброе начало. Четкость в таком отряде, как этот, – главнейшее. Эту четкость установили Артемий и Андрей-Фиалка: Артемий – толков и распорядителен, Андрей – беспощаден.
Через минуту под сеном раскрылся люк, обнаруживая пологий спуск в огромный склад, похожий на погреб. Коноводы спустились туда, и еще через пару минут показалась первая тройка коней, потом вторая, третья…
Кое-кто из людей бросился было в склад помогать, но на них зарычал Андрей-Фиалка, и они успокоились.
– А и дуры-мамы, – ворчит Андрей, – учи, учи их, и все без толку.
Вскоре были раскрыты еще два стога, и склады быстро разгрузили.
Лошади настороженно обнюхиваются, как бы узнавая друг друга, и тихо взвизгивают. Люди быстро переодеваются во все красноармейское, а свое все складывают в кучу около стога.
Я осматриваю шанцевый инструмент: меня беспокоят подрывные средства. Я подзываю Андрея, и мы заново перекладываем пироксилин и ртуть. Кроме сухих батарей я приказал взять полевой телефонный аппарат. Это вернее. Я прикладываю два пальца к пуговкам и быстро верчу ручку – пальцы обожгло током.
– Кто? – спрашиваю я у Андрея.
Андрей-Фиалка берет у меня аппарат и кричит:
– Ананий, бери, дура-мама, адскую машину.
Из толпы, мягко приседая при ходьбе, выдвигается угрюмый Киряк и берет телефон.
– Соображаешь? – спрашиваю я.
– Как не соображать, – отвечает Ананий и вновь скрывается в толпе.
– Ананий – адская машина! – весело кричит ему вслед дядя Паша Алаверды. Люди натянуто и нерешительно смеются.
Хозяин и его люди смотрят на нас с испугом и изумлением. Несколько дней назад Артемий договорился с ним, что все спрятанное – контрабанда, в которой якобы принимают участие «видные люди». Артемий и сам простодушно верит, что он обманул хозяина. Но я знаю другое. Китайца, хозяина тридцати бакалеек, Артемию не обмануть. Тем не менее Артемий кричит хозяину:
– Говорил тебе, загогулина кривая, что купеза шанговый приедет за товаром.
День приходит к концу. В багровой натуге солнце уходит за сопки. Я слышу, вернее, я чувствую, далекие и холодные всплески Гана.
Все окружающее человек воспринимает в зависимости от своего настроения. Мне чудится, что темные воды Гана неслышно плачут и лишь изредка, не сдержав своей лютой тоски, всхлипывают.
И кажется, никто больше, кроме мутного разлива печальной реки, не плачет обо мне, о нас.
Ко мне подходит харбинский гимназист-поэт: эта глиста понял мое настроение. Обращаясь ко мне, он говорит декламаторски:
– А вдали, чуть слышно, молится река…
Я не замечаю его и говорю Артемию:
– Возьми в передке томсон и диски.
Потом прыгаю на лошадь.
Андрей-Фиалка понял это как сигнал.
Он собирает всех людей с бакалейки и усаживает их на нары. С лошади я вижу в окно, как хозяин пытается что-то сказать ему на ухо, но Андрей неумолим.
Я выстраиваю людей и командую:
– По коням!
Звук команды будит во мне боевую бодрость.
Я кричу цыгану:
– Иди к Андрею!
Цыган понял меня. Он уходит в фанзу и на ходу вкладывает в томсон диск с патронами. Там раздается какой-то визг, потом плач ребенка, и затем я слышу, как цыган говорит Андрею-Фиалке:
– Ребеночка зачем?.. а? Ребеночка зачем?..
Потом затрещали сливающиеся выстрелы. Снова я тихо подъезжаю к окну. В нем темно. Слышится только плач ребенка. Цыган зажег лампу, поднял с полу ребенка и, неумело закутав его в какое-то тряпье, зажал этот живой сверток под мышкой.
Андрей-Фиалка «проверяет». Толстый хозяин в предсмертной судороге дрыгает кривыми ногами. Андрей наносит ему несколько ударов в живот, под ложечку.
Андрей смотрит китайцу в лицо, потом слюнит указательный палец и тычет китайцу в глаз. Я знаю это вернейшее средство «убедиться». Если глаз под сырым пальцем не даст реакции, не моргнет, значит – кончено. Андрей снимает толстое золотое кольцо с руки хозяина, повертывается к цыгану и, глядя на ребенка, нерешительно гудит:
– А и дура-мама, ну куда его теперь?
Я отъезжаю и говорю Артемию:
– Зажигай.
Артемий проворно подбегает к отряду и кричит:
– Огневики, выходи!
Пятеро спешились. Быстро растаскивают сено. Цыган и Андрей выходят из фанзы. Андрей подходит ко мне и дарит мне бамбуковую палку хозяина.
– С началом, скородье! – оживленно и даже радостно, кричит он.
С ременным наручником палка очень увесиста и удобна. Я ощущаю неодолимое желание стукнуть ею кого-нибудь по голове, испробовать.
Весьма кстати зарекомендовать себя сразу же.
Вспыхивает пламя. Вглядываясь в лица людей, я разыскиваю гимназиста-поэта. Сейчас я придерусь к нему и огрею его бамбуковым шатуром.
Но на глаза мне попадается китаец. Он приветливо улыбается. Он страшно смешон в красноармейском шлеме. Я подъезжаю к нему ближе, и он сам высовывается вперед и бормочет:
– Капитана, моя шибыка большевик…
– В строй! – гаркнул я и наотмашь огрел его по голове.
Самое приятное в бамбуковой палке – это двойной удар. Стукаясь о голову, она как бы сама подпрыгивает и уж сама ударяет еще раз.
Потом я говорю людям:
– В случае тяжкого ранения придется добить.
Все поняли, что слово «тяжкое» тут совсем лишнее. Захватим мы лишь легкораненых.
Несколько голосов повторяют, подобно суровому эху:
– Придется добить.
– Я прямо скажу – приходится добить, – решительно подтвердил Артемий.
Пламя охватывает бакалейки. Становится жарко. У нас еще есть время, и я приношу первую жертву отряду: люди спешились и разбрелись подбирать «кто что». Это очень щедрый, богатый подарок.
Мы закусываем советскими консервами и вытираем руки о советские газеты. Банки из-под консервов и газеты мы бросаем так, чтоб они не попали в огонь. По нашим следам поедет «следственная комиссия» с иностранными «нейтральными» свидетелями.
И советские газеты, и банки из-под советских консервов или красноармейская пуговица – лучшие улики того, что здесь бесчинствовали не кто иные, как большевики, всюду кричащие о мире на земле.
Часа через два мы уезжаем, выстроившись гуськом по двое. Ведет Артемий. Его «родные места».
Пламя стихло. Оно никогда не выдает тайн. Мертвый свидетель.
Когда мы отъезжали, слышался пискливый и гнусавый плач ребенка, которого «определил куда-то» дядя Паша Алаверды.
Люди беспокойно оглядываются, но стараются скрыть свое беспокойство друг от друга.
Плач особенно растревожил Артемия. Он поджидает нас с Андреем и совсем без видимого повода начинает рассказывать то, что он никогда никому не говорил, – о себе.
Оказывается, у них с Маринкой был ребенок, там, в Семиречье. Артемий только что вернулся с войны. Играя с сыном, он подбрасывал его вверх и ловил. Случилось так, что ребенок выскользнул у него из рук, упал, захирел и помер. Нелепо звучит эта ненужная исповедь Артемия. Но он входит в раж и с неисповедимой горечью восклицает:
– И какое же, я прямо скажу, удовольство душе. Ты его кверху кинешь и ловишь. А он закатится да этак оттуда тебе в ладошки горячей жопёнкой – шлеп. Никакое угодье душе не надо.
Цыган отстает, часто оглядывается и прислушивается. Я слышу, как вдали над рекой тревожно и гневно гудят в темноте гуси. Глухо и настороженно стучат копыта коней.
Андрей-Фиалка склоняется ко мне и глухо спрашивает:
– Мне вернуться?
Я молчу. Я не хочу приказать ему «вернуться», но меня беспокоит дикое положение брошенного ребенка. Я хочу остаться непричастным к его насильственной смерти. Пусть Андрей это сделает сам, без моего согласия.
Но он не понимает меня. Через сотню шагов он дарит мне кольцо, снятое с жирного китайца. Я машинально беру его и надеваю на большой палец. Подарок свой Андрей-Фиалка понимает как повод, чтобы вновь заговорить о покинутом ребенке.
– Вернуться?.. «Поговорить»? Скородье? – тихо гудит он.
Слово «поговорить», когда оно у него обозначает «определенное», он всегда произносит певучим альтом.
Артемий услышал его, понял и круто смолк. Видимо, и цыган догадался. Он быстро подтянулся к нам и насторожился. Сотню шагов мы едем молча. Все четверо мы знаем, о чем думает каждый из нас.
Внезапно Андрей натянул поводья и повернул обратно. Цыган вздрогнул и хотел что-то сказать. Андрей-Фиалка заметил это его намерение, нагнулся к нему и зарычал:
– А и дура – чертова мама.
Дядя Паша Алаверды согнулся и беспричинно задергал поводьями. Андрей-Фиалка ускакал.
Втайне я вздыхаю облегченно. Видимо, оттого, что я уже несколько отвык от подобных «издержек» войны.
Мысленно я восклицаю вслед Андрею:
«Умница… умница!»
Андрей нас догнал у переправы. Он взволнован. Этого с ним никогда, или вернее – почти никогда, не бывало. Цыган все время косится в его сторону и украдкой всматривается в правое его бедро, где Андрей прячет свой тесак, «гвоздик», как он его зовет.
Начинается переправа. Несколько километров Артемий ведет нас через разлив: кони бредут по брюхо в воде, но почва твердая, песчаная, слышно, как в воде под копытами скрипит галька. В темноте кажется, что нет конца этому черному, как деготь, разливу.
Андрей ощущает неодолимую потребность что-то сказать. Он несколько раз пытается что-то произнести, но не может начать: рассказать что-либо волнующее он может только лишь «с разбегу».
Наконец он решился и промолвил:
– Скородье, я плакат там прилепил. Накрыл, то исть, плакатом его.
Я догадался о своем упущении: у нас в повозке есть большевистские плакаты – на фоне кровавого пламени изображены крупные фигуры китайцев, идущих в битву. Надпись: «За власть Советов». Умертвив ребенка, Андрей-Фиалка накрыл его этим плакатом.
Но о плакате – только «разбег» для Андрея. Теперь он изумленно вопрошает меня:
– Скородье, отчего такая живучесть в этом народе, в китайцах? Ить всего с огурец детё. Сквозь него одной ширины, почитай, два пальца прошло, а ить все жив.
Я ласково говорю ему:
– Андрей, посмотри сам за шанцевым инструментом. Не подмочило бы.
Отъезжая, он тихо спрашивает самого себя:
– Кажись бы, с одного разу?.. Огурец – детё?..
Четвертый день мы стоим в пади Тар-Бал-Жей. Наше убежище – узкая долина, замкнутая высокими сопками. Кривой черный березняк оголился вовсе. По ночам в ущелье ветер свистит в безжизненных ветках, тревожит мои костры, тревожит мою душу. Я закончил свои операции в Трехречье… Мы разграбили и сожгли Щучье, до основания уничтожили большинство крупных заимок в районе течения речки Чинкар, и оттуда я стремительно ушел сюда, в падь. Мы составили полное впечатление, что мы «красноармейский отряд» и снова «вернулись домой», то есть в Россию.
Нас «ловили» китайские отряды и, конечно, «не видали» нас. Черный Жук – неуловим.
Теперь по нашим следам едет «авторитетная комиссия» с иностранцами и обнаруживает улики, доказующие «зверства большевистские».
Мои люди от скуки торгуют друг с другом награбленным. Иногда одна и та же вещь по нескольку раз побывает в руках одного владельца.
В торговле не принимают участия Артемий и Андрей-Фиалка. Артемий потому, что он – «я прямо скажу, что мне чужого добра не надо»; мне не нравится эта его необычайная «честность». А Андрей-Фиалка не торгует потому, что он «сподымает лишь то, что потребоваться может только ему одному».
Я читаю газеты. Каждое утро цыган приносит их из «пункта». Мне доставляет большое наслаждение то, что я с моим отрядом в пару дней стал центром мировой печати. От меня зависит мировой скандал. В пару дней я могу стать «центром мира», ибо конфликт России и Китаем, несомненно, начало мировой войны. На Востоке вспыхнет пожар.
Лишь теперь я почувствовал, какие нити держу в руках. Пусть эта сухая английская подошва думает, что я марионетка в его руках.
Он жестоко ошибается. Иначе я непроходимый осел. Он очень осторожен. Теперь мне понятно, почему ни он, ни кто-либо «другой» не мог Дать мне своих лошадей. Однако ни ему, ни кому-либо «другому» не удастся умыть руки. Я их запачкаю пеплом и кровью.
Сегодня во всех наших газетах опубликованы «подробности налета красной банды на с. Щучье». Меня взволновало и насторожило одно обстоятельство – откуда узнали газеты подробности расстрела генерала Аникина? В статейке «Смерть старого воина» это описано так, как было на самом деле. Мы, выполняя роль «большевиков», естественно, должны были расправиться с богатеями села.
При налете генерал, доживающий в этом селе, был ранен в бок пулей из томсона. И когда его вместе с другими привели ко мне, он потребовал:
– Большевик, прикажите сделать мне перевязку. Я ответил, что «не из-за чего хлопотать, сейчас вас расстреляют».
И тогда он мне саркастически бросил, кивнув головой:
– Ну, а я полагал, что вам доступна эстетика казни.
– То есть, генерал? – изумился я.
– Мерзко расстреливать окровавленного человека.
Этих слов никто не мог передать в газету, кроме моих людей.
Несомненно одно – кто-то осведомляет.
Я думаю – кто. Так или иначе узнаю. А если не узнаю, поступлю так, как обычно и следует: уничтожу того, кого заподозрю. Троих, четверых. Это гарантия. Правда, не стопроцентная, но верных восемьдесят процентов. Если же и после повторится – я тоже повторю опыт.
Сегодня утром кроме газет цыган привез из «пункта» объемистый пакет от Воробьева. Все готово к переходу через границу. Сегодня ночью мы двинемся и восточней русского села Олечье перейдем на советскую территорию. Внимание большевистских частей отвлекут обстрелом русской территории с китайского берега.
Дальнейшая моя деятельность будет распространена на крупные пограничные села Олечье, Церухайтуй и Обегайтуй. В этом районе постоянно действовали банды Ивана Александровича Пешкова. Воробьев высказывает полную уверенность в восстании этих сел против Советской власти. Беспорядки в пограничной полосе – лучшая гарантия победы.
Чьей? И над кем?
Мне хочется думать – нашей, то есть моей. Моей над моим изгнанием.
В Олечье «работает» наш человек. Завтра мне передадут от него письмо.
Удивительно в тон Воробьеву берут китайские газеты, да и иностранные тоже.
Китайские чиновники открыто доказывают, что боеспособность большевистской Красной Армии незначительна и что «преобладающие в армии крестьянские настроения», несомненно, скажутся в самом начале новой гражданской войны, которая якобы в России неизбежна.
Иностранные газеты пестрят статьями, «беспристрастно» оценивающими боеспособность Красной Армии с точки зрения объективной военной доктрины.
Ребенку понятно, зачем все это.
Что же, мир отдохнул от германской войны. Десять миллионов человеческих жертв увеличится по крайней мере вдвое. Римский папа открыто призывает к «крестовому походу» против большевиков.
Если ворон каркнет – близко смерть. Если церковь поднимет крест – близка война.
Я радуюсь одному: вновь начинается дьявольский шабаш и я в этом шабаше танцую первым. Я первый стегну отвергнувшую меня.
Близко сумерки. Голые вершины скал становятся фиалковыми. Над падью быстро, со свистом пролетает стайка чирят. И оттого, что они быстро пронеслись, на душе становится холодно. Быстрый полет их для меня всегда был предвестником стужи. А еще – маленькие пичужки, похожие на синиц. Поблекшая, обожженная морозом трава. По застывшим стволам черных березок ползает множество этих синичек. Цыкают они тихо, как сверчки днем. Я затаился – гляжу на них. Одиночество подкатывает к сердцу.
Слышу чей-то голос:
– Может, по домам разойтись? Что же ветры перемывать.
– Сиди. Объявят, и домой попадешь, – отрезают ему.
В другой группе вполголоса запевают песню. Но она не слаживается и умолкает. К ним подходит Киряк, или, как его теперь прозвали, Ананий – адская машина. Оказалось, он утаил свою тирольскую шляпу и, когда мы без дела, носит ее вместо шлема.
– Эко я обучу вас нашинской, тамбовской, – заявляет он. Ананий бывший антоновец. Но с Антоновым он разошелся «по-идейному», имел свой отряд, действовавший «сапаратно».
Ананий садится на корточки, упирается локтями в коленки, обхватывает ладонями щеки. Поет он безголосо, скверно, но песня мне нравится. Антоновская песня. Мотив ее – что-то среднее между «Бродягой забайкальским» и старинной песней «Уж ты воля, моя воля».
То ли солнышко не светит, Над головушкой туман. То ли пуля в сердце метит, То ли близок трибунал.Незаметно я придвигаюсь ближе к ним. Я хочу дослушать песню. Печально глядя вдаль, Ананий тянет. Голос у него тонкий-тонкий, бабий голос, и дрожит:
Не к лицу нам покаянье, — Коммунист – огонь, огонь. Мы бессмертны, до свиданья! Трупом пахнет самогон.Позади я слышал, как философствует Андрей-Фиалка. С ним редко бывает приступ такого словоизлияния. Но раз он «разбежался», то уже не остановится.
– …и вот, дура-мама, весна. По всей-то землешеньке цветут вишневые сады, грядами, а между ими зеленя по колено. И – шабаш. Весь, дура-мама, мир стихнет. Мечи перекуют на оралы. Я объявляю: ни у какой дуры-мамы не удержится злоба на душе перед такой красой.
Ему возражает парень с жиденькой бородкой. Этот действительно был монашком в Раненбургском монастыре. За воровство он был сослан большевиками в Казахстан, но оттуда пешком пришел в Китай, через Монголию. Все знают, что он вор, и он этого не таит. Это его «чесная профессия».
– А я, братцы, – гнусливым голосом поет он, – одной зрительности держусь: социализма, отменная, скажу, социализма, на земле утвердится через воровство. Зрительность моей точки такая: собственностей на земле не будет, вот и мир воцарится, благословенность в человецах утвердится. А, братцы, ворами собственность как раз не допускается.
Китаец восхищенно смотрит на них. Из всего их разговора он понимает только одно слово – социализм.
Я замечаю: харбинский гимназист, оглядываясь в мою сторону, быстро перебегая к ним, нагнулся и, вытягивая шею, жадно и громко шепчет:
– Господа, вы о чем, о женщинах? – Он сладострастно жмурится и еще тише добавляет: – Я люблю о женщинах…
Меня осеняет догадка: осведомляет он. Я думаю: сейчас или обождать?
Ананий закрывает глаза. Как бы хочет показать, что засыпает в смертном сне, и со свирепой тоской кончает припев:
Э-ах, доля, недоля, Глухая тюрьма, — Долина, осина, Могила темна.Гаснут костры, близится полночь…
Письма от «Павлика» – это тот, кто работает по заданию Воробьева в Олечье, – мне доставил английский офицер.
В болотистом местечке Ю-Куй-Хо мы ждали темноты, чтобы начать переправу через Аргунь. Влево от нас вдали слышалась ленивая, однако непрерывная стрельба. К выстрелам очень тревожно прислушивался китаец Люи Сан-фан. Видимо, он недоумевал, и поэтому все время порывался заговорить со мной: никто, кроме меня, не знал значения этой стрельбы.
Англичанин проник к нам под видом охотника.
– Наш общий друг просил меня – разумеется, если я вас случайно увижу, – вручить вам это, – сказал мне англичанин, передавая пакет.
Тон, каким он это произнес, а особенно слово «случайно», мгновенно вывели меня из равновесия.
С наглой вежливостью он намекнул мне на мою зависимость от него.
Я внезапно почувствовал себя так, как ровно бы я к моей возлюбленной, возлюбленной до тоски, до муки, бегаю на побегушках с записками и с букетами от этого нахального прощелыги.
Злоба подкатывается к сердцу. Я медленно оглядываю местность, в которой мы расположились. Болото и глушь. Холодный ветер топчет камыш, сухие тростинки ломаются со звоном, как стеклянные палочки.
И офицер и люди мои следят за моим взглядом. Я чувствую, что каждое движение жилки на моем лице, движение пальца не ускользают от внимания моих людей. Все они поняли мою ненависть к англичанину и напряженно ждут знака.
Я говорю офицеру:
– Нравятся вам мои люди?
Несколько секунд он испытывает явный приступ смертного страха, он внезапно теряет в моих глазах свою значительность иностранца и становится похожим на одного из моих людей, тяжко провинившегося перед всем отрядом.
Потом он оправляется и отвечает:
– Я офицер и людей оцениваю только в бою. Я вновь чувствую его силу. Я не трушу, но какая-то нерешительность обуяла меня. Я зачем-то подзываю Андрея-Фиалку…
Андрей возится со своим делом. Вчера мы случайно встретили какого-то проезжего китайца, и так как тот видел нас и мог бы рассказать об этом где-нибудь, Андрей «поговорил» с ним. В повозке у убитого он нашел прямой длинный палаш в никелированных ножнах. Палаш Андрей подарил гимназисту-поэту, а ножны переломил пополам и сегодня весь день возился с обломком: из верхней части он хочет сделать ножны для прямого тесака.
Я запретил ему распаковывать шанцевый инструмент, и ножны он расплющивает при помощи двух больших кремней. Злясь на меня, он стучал камнями весь день, избил и ссадил себе руки, но не отказался от затеи.
К нам он подходит лениво, как бы нехотя. В одной руке у него острый кремень, в другой – ножны. Мрачно глядя мне в грудь, он надвигается на меня. Глаза его чуть затягиваются нижними веками, лицо синеет.
На секунду мне становится страшно. Едва осилив себя, я перевожу взгляд на офицера. Андрей-Фиалка повернулся к нему же. Я чувствую, как мое сердце снова стучит четко и легко: злоба Андрей нашла «точку».
– Мне с ним «поговорить»? – тихо и терпеливо спросил он и, не ожидая, повернулся туда, где он оставил свой тесак. Люди молча следят за ним.
Дикое злорадство овладевает мной. Я усмехаюсь англичанину в лицо:
– Он работает только тесаком. Острым, германским, понимаете, сэр, германским тесаком.
Англичанин понял меня. Но страх уж не вернулся к нему. И я вновь растерялся перед его спокойной небрежностью. Встретив мой насмешливый взгляд, он усмехнулся.
– Господин Багровский, – заговорил он, – я хочу вас забавить чудесной историей. В одном из портовых городов Сирии вспыхнуло восстание туземцев. Я был в плавании, милях в тридцати от этого порта. В полдень я получил по радио сообщение, что европейскому кварталу в этом городке угрожает резня. Я изменил курс. В порт я прибыл, естественно, не один: почти одновременно со мной там же отдали якоря два французских миноносца, один полулинейный и три американских военных корабля. Два из них типа ОК-207 и один легкий, корветного типа. В порту все стихло. Разумеется, мы соблюли все правила культурности и морских законов. Мы обменялись приветствиями, и общее командование над нами принял французский линейный корабль. Мы сделали по шести залпов в туземную часть города, вновь отсалютовали друг другу и, не справляясь о результатах стрельбы – о, мы не сомневались в нашей меткости! – вновь взяли каждый свой курс. Вы понимаете, господин Багровский? Я вам хочу сказать, как охраняется неприкосновенность культурных наций.
Окончив повествование, он спокойным, но очень-очень быстрым движением руки выдернул из ягдташа толстый продолговатый пакет и передал мне.
Пакет этот был сделан из коленкора и туго накрахмален.
На бледно-голубом поле стоял черный выпуклый знак – французская буква ($), пересеченная двумя тоненькими черточками.
Могущественный знак!
Что-то оторвалось у меня внутри. Я сжимаю пакет.
Перед глазами вспыхивает видение: множество бледно-зеленых долларов.
Я чувствую «твердую почву» под своими ногами.
Доллары – лучшее право на лень. Они всегда пригодятся.
Андрей-Фиалка подошел к нам со своим тесаком и с камнем в другой руке. Минуту он стоял в нерешительности, пытаясь что-то прочитать в моем взгляде. Потом внезапно отбежал туда, где у него лежал второй камень – наковальня. Положив свой тесак на этот камень, он принялся острием второго камня остервенело колотить по лезвию.
Но тесак не поддавался. Тогда Андрей-Фиалка разогнулся, швырнул тесак далеко в болото. Потом медленно и мрачно оглядел нас всех и отошел к повозкам.
Когда англичанин уходил от нас, ко мне незаметно подошел дядя Паша Алаверды с карабином и стоял рядом со мной, показывая, что, мол, стою я тут совсем случайно, просто так вышло, что я тут, рядом с тобой, очутился, и карабин тоже случайный.
Но офицер ушел «неприкосновенно».
Теперь я уж несколько успокоился. Я пощадил моего врага и радуюсь, что эта «сухая подошва» ушла «неприкосновенно».
Радуюсь, ибо я делаю такой вывод: если я не подал знак цыгану – о, мы тоже не сомневаемся в нашей меткости! – значит, мне еще «не все равно», значит, я еще «не обречен». И если бы мне было «все равно» и я был бы «обречен», я бы подал знак цыгану.
Я успокоился теперь, внимательно перечитываю письма Павлика и еще раз вдумываюсь в план рейда. Верность моих предположений как бы подтверждается картиной, которую нарисовал Павлик в своих отчетах Воробьеву.
Вот его письма.
Записка первая
«…приехал в Олечье уполномоченным по проведению сплошной коллективизации. Документами снабдил Пешков – они «обработали» какого-то рабочего «ударника» Максимова, посланного сюда из Москвы, через Читу.
Знакомлюсь с настроением крестьянства. В большинстве своем мужики очень увлечены колхозным настроением. В первый же вечер ко мне на квартиру набилось битком народу. Спрашивают о Москве, о тракторах, о налоге «на тех, которые в сплошной колхоз вступят».
Хорошо, что поехал я сам. Уверен, что Соколок, которого ты хотел послать, растерялся бы перед таким «энтузиазмом» мужиков. Я же дело объясняю исключительно тем, что мужики спешат, как бы скорее, выделившись в колхоз, занять лучшие угодья.
Уверен, что в течение недели-двух я собью им этот пыл. Я хорошо знаю этого медведя-мужика. Знаю: буду дразнить, и он рассвирепеет. Тогда держись.
Ячейка коммунистов – пять человек. Опасен только один парень – Оглоблин. Остальные дрянь – хвастаются своим стажем и ревзаслугами, только и делают».
Записка вторая
«…митинговал за «сплошную коллективизацию». Все шло отлично. Не испугались даже обобществления лошадей и инвентаря. Тогда я бросил первый камешек в «медведя». Я сказал примерно так:
– Итак, товарищи. Советская власть – это сплошная коллективизация. Я голосую. Кто против немедленного объявления села Олечье сплошным колхозом и, стало быть, против Советской власти – поднимите руку.
Ясно, что никто руки не поднял. Оглоблин хотел было что-то возразить, но я зааплодировал, и коммунисты по «фракционной традиции» – мол, после разберемся – поддержали меня. Кое-кто еще пошлепал в ладоши.
Потом я объявил:
– Итак, с сегодняшнего числа все вы, за исключением кулаков, конечно, считаетесь колхозниками. Завтра мы с общим энтузиазмом приступим к обобществлению имущества, к выявлению кулаков…
Коммунист Оглоблин опять было заговорил, но я снова зааплодировал и закрыл собрание.
Кроме коммунистов, уже не аплодировал никто. Камень попал в цель. «Медведь» заурчал.
В газеты посылаю статейки о своем успехе за «своей» подписью – «ударник Максимов». А об Оглоблине я написал «секретно», что у него «ярко выраженный правый оппортунизм». В успехе не сомневаюсь».
Записка третья
«Оглоблина осадили. Перевели от меня в соседний небольшой поселок, и мне же поручено наблюдать за ним. Надо отдать должное ему: в два дня создал очень дружественное расположение к себе.
Я то и дело созываю бедноту на собрания и за каждое опоздание угрожаю штрафом – мол, беднота, а своей халатностью содействуете кулакам.
На собрании – никаких обсуждений. Я им просто – «от имени фракции», и крышка. Сегодня один мужичонко было заартачился – «постепеннее б, товарищ Максимов, нельзя ли. Уж больно как на пожаре…» Я обвинил его в уклоне и удалил с собрания.
«Классовую борьбу» развернул вовсю. Сейчас ловим поросят, гусей, кур – «обобществляем».
В селе стон. Обобществленные лошади и коровы стоят в холодных сараях, без воды и без корма. Мы «выявили» и сорок два процента хозяйств и объявили кулаками, «подлежащими уничтожению как класс». Мы у них забили колодцы, не даем воды, взрослых держим в амбарах арестованными и пачками отсылаем в округ как «активных» врагов коллективизации. Настроение напряжено. Ускоряй продвижение Багровского».
Записка четвертая
«Коммунист Оглоблин определенно понял мою тактику. Есть сведения, что он посылает обо мне письма куда-то в центр, помимо окружных властей. Перехватить не успел. Боюсь, что письмо его дойдет по назначению. Окружным властям я пишу о «крестьянском единодушии», и они доверяют моему «московскому авторитету». Но все же письмо может попасть в руки. К Оглоблину круто меняю отношение: ставлю его в пример, пользуясь тем, что организованное им в поселке «товарищество по совместной обработке» действительно сколочено крепко. Сегодня посылаю о нем письмо в округ, что, мол, «идейно выправляется», а в газету заметку как о «примерном». Создам ему славу «передовика». Одновременно поручу Пешкову шлепнуть этого Оглоблина из обреза. Тогда подниму вой о вооруженном «кулацком» выступлении и объявлю «террор». Это пройдет, потому что в поселке есть действительно три-четыре кулака, которые на него имеют зуб. От Пешкова я узнал, что один из этих кулаков, знакомец Пешкова по прозвищу Царь, сам намекал на убийство Оглоблина. Все это займет, стало быть, четыре-пять дней. Необходимо, чтобы через четыре-пять дней Багровский был здесь, поблизости».
Пятая записка Павлика была изрезана Воробьевым, и мне он прислал только узенькую полоску. Одна сторона была тщательно зачеркнута синими чернилами, а на другой сообщалось, что Павлик проводил «день сбора утильсырья».
Эта узенькая полоска бумаги, изрезанная Воробьевым, злит меня. Мне не доверяют письма, непосредственно меня касающиеся. Этот Воробьев сидит там в кабинете у своих многочисленных дурацких кнопок и оттуда «указует» мне.
Никакой опасности не подвергается он, а мне на каждом шагу грозит гибель. Впрочем, я уже давно понял заячью мудрость этих Воробьевых, этих «командующих свыше» – подобно шакалам, они сидят в норах во время боя и обжираются, когда стихает последний отзвук смерти.
Он, Воробьев, хочет, чтоб я был марионеткой. Посмотрим, кто кого. Он, Воробьев, посылает своих соглядатаев за мной, но он их получит обратно. При следующей встрече с английским офицером я убью его, хотя бы это мне стоило жизни. А сейчас я пошлю тебе подарок номер первый…
Я встаю и направляюсь к людям. У меня созрело решение убить харбинского гимназиста-поэта – соглядатая. Его труп я стяну ремнями, упакую и пошлю Воробьеву на квартиру. Я поступлю так же решительно, как поступил с его соглядатаем тогда у Артемия.
Я вновь пощадил своего врага и, значит, я не обречен. Только обреченные не щадят искусства. А гимназиста я пощадил за его искусство.
Когда я подошел к людям, то застал их в тот момент, когда они слушали декламацию поэта. Они окружили гимназиста плотным кольцом и «внимали» ему. Гимназист стоял без шапки, запрокинув голову и слегка встряхивая волосами. Он не окрепшим еще, но спокойным баском читал «Лебедь умирающий».
На одно мгновение все они посмотрели на меня. Но взгляды их были полны предупреждающей угрозы.
Я не испугался, но отошел. Отошел я достаточно далеко, но так, чтобы слышать декламацию гимназиста.
И здесь со мной случился страшный припадок. Не слова «Лебедя умирающего», а волнующий голос гимназиста подействовал на меня. Я вдруг почувствовал, что лишился тонкости восприятия окружающей меня природы, лишился сладости опосредствования действительности.
Из поры юношества я помню одну ночь, вернее, ранний рассвет. В гимназии у нас был вечер-спектакль. Ставили «Майскую ночь». Девушки-русалки, все в бледно-голубой фате, отчего они казались прозрачными, двигались по сцене в неслышном хороводе. И как бы издалека слышалось заглушенное – унылая свирель. У меня захватило дух от потрясающего хоровода прозрачных девушек. Задыхаясь, я выбежал на улицу. Был или конец марта или начало апреля. Звонкий утренник тихо пощелкивал, вымораживая лужицы. Даль бледнела.
У меня, видимо, кружилась голова. Но тогда я отчетливо чувствовал, слышал, воспринимал и видел, как весь этот голубой и прозрачный хоровод вместе с музыкой спустился ко мне, окружил меня в своем неслышном танце. Музыка стала еще глуше, а девушек внезапно появилось множество, как снежинок.
Вот это видение всю жизнь для меня служило каким-то спасительным якорем. Казалось, вот-вот пройдет буря, прорвется какая-то временная пленка, заслоняющая от меня мою настоящую жизнь, и я вновь услышу тихую радость свирели и увижу бледно-голубой хоровод девушек-снежинок.
Но сейчас вдруг чувства мои стали плоскими, невоспринимающими, засаленными, подобно клеенке с трактирного стола. И уже не радость, а злобу и тоску вызывает у меня наивный басок гимназиста-поэта, декламирующего о камышах, о песне, о сильном царственном лебеде. И уж не волнует меня ветер, свистящий в куге, и далекий стон ломающихся камышинок.
Я вспоминаю чье-то изречение: «Если у человека атрофированы чувства, ему уж нечего делать на земле».
Эта вздорная мудрость напугала меня. Я пытаюсь убедить себя в обратном. Есть слова, которые всегда ранят меня в самое сердце. Я произношу их:
…С плачем деревья качаются голые…Но они уже стерлись для меня. И они уж недоступны моему восприятию. Я навеки обернут непроницаемой, липкой клеенкой с трактирного стола.
…С плачем деревья… качаются голые…Внезапно мне кажется, что со всех сторон я окружен темным девственным лесом. Люди – существа, подобные мне, – исчезли вовсе, а может быть, их никогда и не было, и я обречен долго жить среди незнакомых мне, прячущихся от меня существ и умереть, так и не увидев ни одного человека.
Я проваливаюсь в узенькую бездонную щель первобытной тоски.
Я задыхаюсь, задираю к небу голову, вскидываю руки и вновь кричу:
…С плачем… деревья… качаются… голые…Что-то легко упирается мне в грудь с правой стороны. Я гляжу на это «что-то» и лишь через несколько секунд соображаю: это бамбуковый шатур, который мне подарил Андрей-Фиалка. Он висит у меня на поднятой руке, упираясь нижним концом мне в грудь. Прикосновение постороннего предмета пугает меня. Я опускаю руки и хочу снять с запястья наручник палки. Меня окликает китаец, и я прихожу в себя.
Китаец кривит свою желтую рожу. Он хочет выразить мне свое сочувствие. Молиться на меня он готов за то, что я веду его к большевикам, в легендарную страну Россию – Ленин.
– Капитана, твоя шибыка скушна! – восклицает он и повторяет: – Шибыка, шибыка скушна…
Наотмашь я ударяю его по лицу. Китаец падает и визжит. Нас окружают люди. Мне становится страшно от их молчаливого ожидания. Я чувствую неотвратимую потребность оправдаться перед ними и говорю, указывая на корчащегося китайца:
– Андрей, надо покончить с ним.
– А за што? – спрашивает Андрей.
Я достаю письма Павлика и многозначительно потрясаю ими. Я хочу сказать, что мне сообщают о китайце, как о большевистском шпионе, но вовремя вспоминаю, что такой отчет подорвет мой авторитет начальника.
– Не твое дело спрашивать! – кричу я.
Это мгновенно приводит моих людей в повиновение. Даже Андрея-Фиалку.
– Нечем, скородье, – оправдывается он, беря под козырек.
Несколько голосов поддерживают его:
– Фиалке теперь нечем. Чем же ему, Фиалке, теперь?.. Инструментину он свою даве обронил.
Оглядывая людей, я разыскиваю цыгана. Я хочу показать Андрею-Фиалке, что не нуждаюсь больше в нем. Сейчас он поймет мое намерение и тогда сразу найдет «чем».
Своего страшного «первенства» Андрей-Фиалка не уступит никому.
Но дядя Паша Алаверды спрятался от меня. На глаза мне попадается гимназист-поэт. Я подзываю его и, указывая на китайца, говорю:
– А ну…
Гимназист догадался, но как бы хочет убедить себя, что он неправильно понял мой приказ.
Он сдвинул назад свой прямой палаш, торчащий у него за поясом, нагнулся и помог китайцу встать.
Китаец поднялся и трет обеими ладонями верхнюю губу и ноздри. Меня поразило одно: у него не было слез. Глаза были сухие и как-то сразу глубоко ввалились.
Гимназист-поэт робко и вопросительно посмотрел на меня. Издеваясь, я спрашиваю:
– Ты разве не можешь? Ведь ты курицу не можешь, а человека – ге?
Он онемел вовсе. Рука застыла на широком узорном эфесе палаша. Он чего-то ждет.
– А нну! – вскрикиваю я.
Он машинально повертывается к китайцу и медленно вытягивает из-за пояса длинный обнаженный клинок палаша. Но он не знает, как надо действовать прямым клинком.
Сначала он замахивается и хочет рубануть, но от неудобности и страха рука у него завяла.
Высокий джени-китаец парализован. Кровь из носу мгновенно перестала течь, казалось, засохла и потеряла свою яркость на его побледневшем, сером лице. Вокруг глаз лежат большие темно-синие кольца.
Гимназист не в силах оторваться от его лица. Я опять подстегиваю гимназиста окриком:
– А нну!..
Он, уж не оглядываясь, сгибает руку в локте и замахивается удивительно ловким прямым ударом. Таким ударом даже при средней стремительности нанесения палашом можно пронзить насквозь и раздробить позвоночник. Но, замахнувшись, гимназист опять вдруг ослабел и тихо подвел конец палаша к горлу джени-китайца.
И оба они – и гимназист и китаец – одновременно вздрогнули. Точно бы палаш, коснувшись шеи джени-китайца, соединил их каким-то мгновенным током.
– А ну! – в третий раз крикнул я и стукнул его бамбуком. Я знаю, что боль вызовет бешенство и в приступе этого бешенства сейчас все кончится.
Я угадал. Гимназист-поэт не оглянулся на меня. После удара он заурчал и как-то странно, по-заячьи, зафыркал. Я стукнул его еще раз по шее сзади. Я видел, как кожа на его щеках задергалась в судорожном приступе злобы. Отвернувшись от джени-китайца полубоком, но не сводя с него глаз, а лишь выставив вперед левое плечо и как бы закрывая им китайца, гимназист-поэт стал медленно пятиться назад, занося для прямого удара руку и не переставая урчать и фыркать.
Отступив шагов на пятнадцать, гимназист на мгновение встал, умолк и внезапно ринулся на джени-китайца, наклоняясь вперед всем корпусом. Точно бы тяжесть его растянутого корпуса валила с ног и заставляла бежать как можно быстрей, чтобы сохранить равновесие и выпрямиться.
Джени-китаец не выдержал и упал. Гимназист-поэт выронил палаш и тоже рухнул на землю. Корчась в нервной судороге, он шарит по земле руками, точно бы ищет свой палаш, и бормочет:
– Боженьки, боженьки, вот и моя жизнь…
Я гляжу на лица моих людей. Такая слабость гимназиста вызывает у них презрение и дикую ненависть. Никто из них не простит ему этой мягкотелости. И уж никто из них не пощадит его.
Моя ненависть к гимназисту теперь стала ненавистью всего отряда.
Андрей-Фиалка подходит к нему, поднимает палаш и, наступив на середину клинка, ломает его пополам: он не может работать длинным клинком.
Отходя в сторону, он сумрачно произносит:
– Не убегет, скородье, китаеза, мама-дура, никуды.
Сейчас же откуда-то выныривает цыган и тоже вторит поспешно и сладко:
– Не убежот, не убежот… Куда ж он убежот, начальник?
Андрей-Фиалка берет свои кремни, сбивает с обломка палаша эфес и вставляет сломаный клинок в ножны, которые он хотел приспособить для своего заброшенного германского тесака. Чуточку пораздумав, он садится на корточки, вбивает камень в землю и, обнажая обломок клинка, начинает другим камнем «оттягивать» и заострять конец.
Ему неспособно, и камень ссаднит ему руку.
Андрей-Фиалка свирепеет.
Темнеет. Слышны частые и злые удары камня о сталь. Андрей-Фиалка «кует мечи». Летят мелкие искры. Я подхожу к Андрею и говорю:
– Взял бы инструмент из повозки.
Но Андрей-Фиалка не хочет замечать меня. Я отошел в сторону. Меня нагоняет Ананий – адская машина. Он по-мужицки снимает передо мной свою тирольскую шляпу и спрашивает:
– Как с этим прикажешь быть, с песнопевцем?
Так он называет гимназиста-поэта. К нам подходят еще несколько человек. Видимо, они уж обсуждали меж собой судьбу гимназиста.
Я решаю оттянуть им это удовольствие.
– Сейчас уж некогда возиться, скоро тронемся.
– То-то, – соглашается Ананий, – и я говорю, что некогда сейчас. Это дело исподвольки нужно. – Но, помедлив, он снова намекает: – А то, конешно, и развязаться с ним недолго. Один минут. По-тамбовски, по-нашему, мы, бывало, тоже вечерами вот этак же, – бросает он, вглядываясь в небо.
Но я молча ухожу к берегу Аргуни. Скоро переправа. До середины реки вода китайская, а там большевистская. Невидимая, несуществующая и вместе с тем неминуемая линия лежит посредине реки. Граница.
От малейшего искривления, колебания этой несуществующей линии загораются войны, гибнут тысячи и сотни тысяч жизней. Этому чудищу-ихтиозавру – границе – человечество на протяжении всей своей истории приносит миллионы кровавых жертв.
Я задаю себе вопрос: есть ли у человечества выход? Неужели на протяжении тысячелетий люди еще не смогли ответить на вопрос: что есть причина войны? Где ж выход? Неужели вон там, за Аргунью, там, в широкой темной степи, имя которой Россия – Ленин?
Но я не хочу отвечать на эти вопросы. Мне «уж все равно». Я – «сокол», о котором писал Максим Горький:
Безумству храбрых поем мы славу……Безумству храбрых – вот смысл жизни сей. Пусть хоть кто-нибудь усомнится, что я – «сокол», что я «безумство храбрых»…
О нет. Я не обречен. Ибо «безумство храбрых – вот смысл жизни сей».
Моя жизнь, мой смелый кровавый рейд в страну большевиков – «вот смысл жизни сей».
Я – «сокол». «Безумству храбрых поем мы славу…»
Вернулся Артемий и доложил, что на противоположном берегу «все, я прямо скажу, спокойно». Я приказываю начать переправу. Люди тихо, гуськом по двое спускаются к воде. Лошади, обнюхивая воду, тихо храпят, но теперь они послушны.
Артемий держит веревку лодки-оморочки в руках и тихо растолковывает своим помощникам, как надо укладывать шанцевый инструмент.
Потом умолкает и надолго задумывается, глядя в сторону России.
Шанцевый инструмент уложен. Кто-то из людей приносит на руках цинковый ящик. Идет он осторожно, боясь оступиться. Лодку придерживают – он садится и ставит ящик себе на колени; в этом ящике шестнадцать килограммов пироксилина.
Артемий, глядя на этого парня, тихо говорит мне тоном оправдывающегося:
– Трудна ей смертушка досталась. Я прямо скажу, на диво туго с жизнью прощалась. Ой-ой как не хотелось расставаться ей. Ведь, почитай, до самой кончины в памяти находилась, упокойница.
Это он про жену, про Маринку. Я делаю вид, что не слышу, но он безотвязен.
– Все тебя, то есть вас, кликала. Прямо скажу, повидать хотелось ей вас перед смертушкой. Ок-ка меня она молила тебя, то есть вас, позвать…
Он хочет сказать что-то еще, но веревка выскальзывает у него из рук, лодку относит течением. На мгновение я вижу, как человек, держащий ящик с динамитом, встает в лодке, но тут же и он и лодка исчезают в темноте.
Артемий с невероятной быстротой сбросил с себя сапоги и брюки и в одной гимнастерке и нижнем белье неслышно скользнул в ледяную воду.
Через две-три минуты он подтянул лодку ко мне и, вздрагивая от холода, забормотал почему-то очень бодро и даже радостно:
– Кто сапоги, кто штаны намочит, а я, прямо скажу, с головкой окунулся. Окстился и сызнова в веру русскую перехожу. Сызнова на родную сторонку. Окстился в чистой, ледяной воде. – И уж серьезно и даже сурово, но тихо промолвил: – Очийсти мя, боже, по велици милости твоея.
Часть вторая
Я не суеверен, но на первой же пяди большевистской земли я потерял кольцо, которое мне подарил Андрей-Фиалка.
Каркнул ворон: невеста, потерявшая обручальное кольцо, ждет несчастья. Андрей-Фиалка обручил меня этим утерянным кольцом.
Каркнул ворон.
Я не хочу думать об этом пустяке. Не хочу придавать какое-либо мистическое значение бредням. Но невольно думаю о кольце и невольно придаю этому факту таинственный смысл.
Почему именно здесь, на большевистской земле, а не вчера потерял я кольцо?
Эх, потеряла я колечко…Андрей-Фиалка обручил меня этим кольцом, и вот что еще странно в этом факте: волосы, причиной утери служили волосы. Два раза – волосы. Волосы и еще раз волосы.
Вчера после переправы мы быстро двинулись в глубь России. Шли мы по пустынной равнине, покрытой низенькими песчаными взгорьями. Перед нами неожиданно вынырнул на взгорье всадник-красноармеец. Но нас он, видимо, не заметил во мгле.
Я остановил отряд и выслал вперед Андрея-Фиалку и цыгана. Цыган вернулся тут же. Мы двинулись опять. Андрей догнал нас потом. Я спросил у него, «чем кончилось». Собственно, я знал, «чем кончилось», но меня интересовало то обстоятельство, чем именно действовал Андрей? Отточил ли он свой обломок палаша? Доволен ли он им? О, я хорошо понимаю, что Андрей-Фиалка может долго и болезненно тосковать о тесаке, к которому он так привык.
Андрей-Фиалка ничего не ответил мне. Промычал только.
Неужели Андрей разделался с красноармейцем первобытным способом? Значит, он еще не кончил свою «работу» над палашом и с двумя кремнями переправился сюда, в Россию?
Что за странная склонность у Андрея-Фиалки расправляться молча? С одной стороны, это хорошая примета: против большевиков идет первобытная сила.
Но этот способ его, а главное – пряди волос в запекшейся крови у него на одежде почему-то заставили меня долгое время думать о них и быть рассеянным.
Это волосы – раз.
А два: с пальца у меня кольцо сдернули тоже волосы. В этой рассеянности я как-то машинально поймал коня за гриву. Рука сорвалась, и кольцо сдернуло гривой. В рассеянности я не обратил на это внимания. А теперь я хорошо припоминаю, что именно гривой сдернуло кольцо у меня с большого пальца.
Это волосы – два. Ворон каркнул. Чертовщина неотвязная.
Лезет в голову дурная блажь. Надо плюнуть на эту чушь.
Черт знает какое слюнтяйство! Подумаешь – ну и потерял кольцо, ну и черт с ним!
А все же: почему именно здесь, а не в Китае?
И почему – волосы и опять волосы?
На глухой заимке мы пережидаем вечер. За ночь мы уйдем в сопки, за Олечье, и оттуда начнем свои вылазки.
Заметил я одно обстоятельство: все люди стали вдруг здесь, в России, молчаливее и солиднее. Как-то дисциплинирующе действуют на всех даже эти песчаные холмы, эти редкие, как борода у прокаженного, низкорослые кусты.
Люди с опасливым любопытством присматриваются к чему-то и с глубокой вдумчивостью к чему-то прислушиваются.
Неужели железная сила большевистской воли невидимо реет даже здесь, над пустыней этой?
На заимке – один старик. С ним живут еще трое – его сын и двое чужих. Они пасут овец от Карачаевского совхоза и сейчас угнали их в сопки; каждый день перед вечером кто-нибудь из них приходит к деду «за харчей».
Старик нас очень радушно принимает, считая красноармейцами. Он называет нас «орлы удалые» и ждет не дождется, когда придет кто-нибудь «за харчей», тогда он «распорядится», чтоб пригнали «парочку баранчиков для дорогих гостечков».
– Овцы ведь считаны у тебя, папаша, – говорю ему.
Старик изумленно смотрит на меня, ударяет себя по бедрам и укоризненно качает головой.
И уж потом объявляет:
– Поверишь, сынок, грешить не буду: на луку да на воде подчас маемся, но для себя совецким добром гнушать не позволю. А для дорогих гостечков какая болячка подеется с двух баранчиков? Схвастну, схвастну на старости годов. Скажу – упали.
Старик входит в раж.
– Эдь, сынок, – кричит он восторженно, – эдь в кои-то веки довелось в гостях у себя принимать вас, орлы удалые! Эдь в кои веки! Да меня за это и сам Сталин похвалит. Похвалит. Молодец, скажет, Епифан Семеныч, хоть стар, а молодец. Не обесчестил смычку мирного населения.
Дед Епифан донельзя словоохотлив. Он у каждого расспрашивает о семье, о родне, о «губернии». Сторонится только Андрея-Фиалки. О нем он сразу мне сказал: «Эко, темный бор насупился». Может, он уже предчувствует свою судьбу?
А ко мне он то и дело пристает, чтоб я говорил ему о Боге. «Есть Бог или как, сынок?» – твердит он.
Большевики своей пропагандой о безбожии расклинили его душу. Он признался мне, что порой его «обуяет робость» и тогда он молится. Но робость проходит, и он снова «воинствует с Богом», или, как он выражается, «светлость в жизни проявляется».
Заведующий совхозом обещал ему после смерти сжечь его в крематории, или в «киматориях», как он называет, и прах похоронить с оркестром.
У деда, наполовину сомневающегося в загробной жизни, сложилось твердое убеждение, что если тело его будет сожжено, то, стало быть, он уж будет недоступен «каре божьей на том свете».
Сожжение – это мера на случай, если вдруг загробная жизнь окажется налицо: из пепла снова «склеить» тело для адских поджариваний деду кажется невозможным. Это и утешает старика.
Но в обещание заведующего он верит мало.
– Может, ище с духовными трубами сподоблюсь, а уж насчет киматориев хлопотать вряд ли будут. Разве вот по пятилетошным планам у нас тут поблизости где свои киматории построят. Ну тогда… А то вряд ли, сынок, будут охлопачивать.
Люди мои жадно слушают стариковы бредни. Особенно Артемий.
Я смотрю на деда и думаю о России, и люди мои думают о том же – о смертельной схватке двух идей: идеи деда Епифана, дерзнувшего на похороны с духовыми трубами, и идеи папы римского, поднявшего крест и именем Христа благословляющего танки, свинцовый ливень пулеметов и газ, выжигающий у людей глаза.
Мы прощаемся с дедом Епифаном. За харчем еще не пришли. Старик «ахает и охает», что не угостил нас бараниной.
– Я ужо проберу. Я их проберу, – грозит он своим помощникам. – Ах вы, орлы удалые! А… Ведь што ж вышло? Я, почитай, у вас целую банку консервы пожрал, а вас несолоно емши выпроваживаю.
Мы отъезжаем. Дед подбегает ко мне. Он наскоро сует мне в подсумок комок овечьего сыру. Сыр слоями разваливается у него в руке, ошметок падает на землю, дед поднимает, быстренько обтирает с него пыль и вновь сует мне.
– Не побрезгуйте, орлы удалые. Чем богаты, то и ото всей души.
Он бежит несколько шагов рядом со мной и скороговоркой просит:
– Сынок, в совхозе нашем будешь – заведущева, Егор Тимофеича, уговори похлопотать, нащет чего говорил даве тебе… А… сынок?
Мы отъехали. Дед долго стоял неподвижно и, загораживая ладонью глаза от ветра, изредка кричал:
– Орлы уда́лые-ё-о…
Я выбросил из подсумка сыр. Тогда Андрей-Фиалка приблизился ко мне и спросил:
– Мне вернуться, «поговорить» с ним, скородье?
Я как раз думал, может ли дед Епифан указать наш путь. Дед чем-то растрогал меня. Но так «обычно» и тепло спросил у меня Андрей-Фиалка: «мне вернуться», «поговорить», «скородье».
Меня радует то обстоятельство, что Андрей-Фиалка наконец помирился со мной.
– Только знаешь, Андрей, его куда-нибудь в сторонку, чтобы не сразу нашли.
– Соображаю, скородье, – понятливо ответил Андрей.
Артемий, очутившийся почему-то рядом с нами, подтвердил со скрытой неприязнью:
– Соображает… я прямо скажу, Андрей – сообразительный человек.
Артемия, видимо, тоже заинтересовала судьба деда Епифана.
Андрей повернул назад. Монашек с черкесским поясом пропел ему вслед:
– Вот тебе и прожарился в крематориях.
Артемий сотни две шагов молча едет со мной плечо в плечо. Потом притворно вздыхает и говорит:
– Послала она меня за вами, упокойница. Я из больницы вышел, повертелся с часок. К вам, прямо скажу, не пошел. С чего, думаю, занятого человека для ради пустяка тревожить. Прямо скажу, не из-за чего. Какое дело – бабе при смертушке захотелось на человека облюбимого глянуть…
Незаметно я нажимаю коня шпорами. Лошадь вздрагивает и трусит быстрее. Но Артемий не хочет отставать.
– Вернулся к ней. Не нашел, говорю. А она мне шепотом, голосу, я прямо скажу, уж лишилась: «Артемий, – шепчет, – ты не обманываешь? Может, он не хочет на меня взглянуть?.. Упроси, умоли его – смертушку он мне облегчит…» А я так думаю, вы все равно не пошли бы, как? – пытает он.
Я отрезаю:
– Нет.
– Не пошли бы? – удивленно восклицает он.
– Нет, – снова отрубил я.
Артемий, скрывая зло и странную ревность, поспешно соглашается.
– Я прямо скажу, поэтому большей частью я и не пошел. На кой, думаю, от дела человека отрывать.
Я знаю: Артемий, догадываясь о моей связи с покойной Маринкой, «отомстил» и ей и мне тем, что не позвал меня к ней в больницу.
Кончилось мое скверное настроение.
Я чуть было не распустил нюни перед большевиками: этак, мол, вы на меня и на моих людей подействовали отрезвляюще, что мы чуть не расшаркаться готовы и перед вашей стальной напряженностью встанем «смирно», руки по швам.
Все это чушь. Доля, искорка подленькой робости моей и растерянности.
Отрезвила меня общая ненависть к большевикам, которая царит в России.
А эту общую ненависть к большевикам я узнал из тех писем, что отобрал у кольцевого почтальона, захваченного цыганом.
Несколько писем людей, явно настроенных по-большевистски, я отбрасываю. Беру только отменно интересных три письма. Я записываю себе адресатов. Это письма настоящих русских людей, которые жили всегда с одной психологией: «Чужое именье уважай, своего не давай».
По таким людям всегда мерили и будут мерить Россию. Большевикам никогда не сломить их.
Письмо первое
«Любезная супруга Арина Федоровна. Ты сейчас приезжать повремени, потому что мы свергаем совецкую власть. Арина, ты энтим временем закупи лучше еще дюжину фланельных одеялов. Арина – из энтих, что привезла в энтот раз, у меня расхватили по тройной цене и делают пошивку пинжаков. Арина, а как сверженье совецкай власти призойдет, так ты не волынься там, а вези больше фланельных одеял. Арина, мыла много не бери, его привезли в потребиловку.
Арина, меня было тут собирались ссадить с председателей наши коммунисты. Арина, особо шнырит за мной энтот сопливый Колька Бугорков и подзуживает всей бедноте захребетной, что я кулаковский агинт. Арина, особо акрысился он на меня за Барбулину рушалку – зачем сельский совет вернул ее Барбулину, у которого было семьдесят десятин купчей земли. Ну, Арина, энтот Колька дошебаршится, так, что Барбулины ребяты не промашки. Арина, ты не опасайся за меня, я тебе скажу, как приедешь, такую новность услышишь про Кольку Бугоркова, что диву дашься. Арина, за меня все хоховские стеной стоят, одноважди на этих днях у Барбулина было сборище, потайное от коммунистов, и меня призывали туда. Арина, все они решают меня, как Бог даст сверзим совецку власть, выбрать старостой.
Арина, уж теперь у нас все про сверженье власти говорят без опаски и ждут не дождутся, когда начнет наступать Китай с войной, и тогда поднимутся на коммунистов все народы. Арина, наш батюшка отец Владимир самолично объяснял мне, что за границей готовятся в хрестовые походы за веру на большевиков. Арина, все войска поведет римский, самый набольший архирей, который одной веры с нами, только крестится всей пятерней. Арина, батюшка отец Владимир растолковывал, что поруганья на веру от них не будет, а совсем обратно, они постепенно сами начнут креститься в нашу веру, а главным манером утвердят у нас сходную какую-нибудь власть, нам на руку.
Арина, так что ты хлебала там не раскрывай, а фланельных одеял закупай больше.
Арина, да у меня смотри, чтоб сраму там не набраться… Арина, я все равно по запаху догадаюсь, если тебя там какой-нибудь потопчет. Арина, так и знай, я догадаюсь миментом, потому что если бабу чужой мужик потопчет, то с энтого разу от нее на всю жизнь запах будет отменный и когда с мужем – пот на ней будет образовываться особого запаху.
Арина, ну оправляйся поваровей и как узнаешь, что мы совецку власть сверзили, – дуй, дуй миментом.
Арина, на прощанье, не забудь энтих штук достать, что привозила, чтоб не брюхатеть.
Арина, низко кланиюсь тебе и мыслимо цалую тибя. Твой любезный супруг Федор Селифанович Бруйкин».
Письмо второе
«Дорогой брат!
За два года ты написал мне всего два письма. По письму в год. Я же закатываю письмо за письмом. И все о том же.
Брось свой Дальний Восток, эту каторгу, и переводись сюда, в центр. Сейчас, когда вот-вот грянет мировая война – жить на окраине просто безумье. Ведь ты с семьей не сегодня завтра станете беженцами, если останетесь живы.
Ты спрашиваешь, как перевестись. Очень просто. Сделай по-моему. Используй модную теперь идею – «борьба за научные кадры». На это дело большевики бросают все, что можно. Я своевременно учел эту обстановку и сразу же смекнул, что на «культурной революции» можно неплохо заработать. А ты знаешь, что славу «советского ученого» мне создали мои «бесхвостые мыши»? Честное слово, Федя, – «бесхвостые мыши». Началось со случайного. Узнал я, что в Сибири один ученый под большим секретом проводит опыты над крысами и собирается доказать возможность перенесения частных признаков в наследство. И будто уж добился он поразительных успехов. Но молчит покамест об этом и все проверяет. Меня и осенило. А тут как раз у меня в техникумовской вольере мышь родила шесть мышат. Случайно я одному из них отморозил эфиром хвостик. Хвостик через три дня зажил так, словно бы и не был. Это и навело меня на мысль о перенесении «частных признаков в наследство». Тогда я отобрал две взрослые мыши, самца и самку, и отморозил у них хвосты и спарил их. И когда у этой мыши родились дети, я у всего потомства отморозил хвостики.
Потом поймал как-то заведующего и, «краснея из-за скромности» и «смущаясь», рассказал ему о том, что, мол, я «дерзнул» внести поправку в «закон Менделя» о наследственности.
Рассказав, я принялся «умолять» его, чтобы он никому и нигде покамест не рассказывал, и восхищенно воскликнул:
– Ах, Иван Яклич, если бы нам – главное нам, а не мне, ведь большевики против единоличников, – удалось, то «заграница» лопнет от зависти на советскую науку.
Разве мог коммунист заведующий удержать эту тайну? Он подослал ко мне Евгения Ивановича Яблокова – ученого-ботаника. Я учел это и сразу же пошел в контратаку.
Пустил заведующему «ученую» пыль в глаза и скромнехонько намекнул, показывая, что, мол, я не догадываюсь, что Яблоков следит за мной.
– Видите ли, Иван Яклич, не знаю, как мне быть. Хотел пригласить Яблокова посоветоваться, но… Евгений Иванович, конечно, консервативный человек. В выдвижение советской науки он верит мало. Поэтому вы мне позвольте уж обойтись без него. Метафизика, знаете ли, идеализм. Диалектикой он, видите ли, не вооружен, в этом его и недостаток.
Неделя-две – и Яблокова я скомпрометировал с ног до головы. А тем временем дую заву и о своем «пролетарском» происхождении, и о горькой жизни в прошлом, и о способности сохранять бодрость в минуты «строительных трудностей».
Тут, Федя, нужна очень тонкая игра. Главное «искусство скромности». Да так, чтоб тебя не заподозрили в «выскочках». «Скромность» до конца. Когда заведующий написал обо мне статью под заголовком «Пролетариат – в ряды ученых», я целую неделю не приходил в техникум и Ивану Якличу написал резкое письмо, упрекая его за «преждевременное оглашение» моей скромной тайны.
Федя, если бы ты видел, сколько и как извинялся зав и ухаживал за мной.
Это был мой «первый ход». Я даже сам, кажется, верю в возможность «поправки к Менделю». А дальше меня посылают в Москву, и я отказываюсь. Мол, старые ученые – консерваторы, метафизики – съедят меня. И когда было меня «затронули» эти ежи, я «скромненько» завопил: «Что я говорил? Съедят. Съедят эти реакционеры, идеалисты. Съедят. Уж начинают придираться». И опять саботаж – две недели из дому никуда. Опять ухаживания да комиссия для проверки тормоза в продвижении «советского ученого». Ну кому из ежей-ученых припадет после этого охота со мной связываться? «Не тронь навоз – не завоняет», – решили они.
Тогда я и опубликовал свое первое интервью о «перенесении частных признаков в наследство» со снимками куцых родителей и куцего потомства. А кстати и портрет свой. Ну-ка, пусть бы попробовали выступить против меня эти метафизики-идеалисты.
Ведь, Федя дорогой, ведь руки греют, пока дом горит. В чем тут секрет? Пока советская наука – очень молодые всходы. А всходы не полют из-за боязни потревожить молодые корешки, выдергивая «плевелы». Ведь пока подрастут советские ученые и большевики начнут «полоть», «очищать поле от плевелов», я уйду далеко – не догонишь.
Ведь в своей безумной радости бытия большевики готовы каждую былинку научную лобызать. Ведь, как ты знаешь, прошлый год в крупнейших советских газетах было опубликовано, что некто «инженер» Федоров 14 ноября полетит на Луну на изобретенном им аппарате. А чем я виноват, что из-за своего бескультурья большевики не могут плевелы отличить от пшеницы? Мне наплевать на их «исторически гнетом самодержавия обусловленное бескультурье». Пока подрастут советские ученые – уйду далеко. Я никому не давал права открывать у меня на «революционные издержки» куски с моего вкусного и питательного стола.
Я хочу жить хорошо, и чхать мне на то, что рабочие во всем посадили себя на «жестокую норму питания». Я узрел их безумье и не хочу ему служить.
Какое мне дело до того, что проведут они пятилетку или не проведут? Если не проведут, я голодать все равно не буду. Своих ученых Советская власть кормит не худо за счет отчислений от своего пайка. Ну и пусть какой-нибудь энтузиаст Сидорин еще хоть на дециметр стянет поясок у своего Колечки или у своей дочурочки и обойдется без мяса, без масла, уступив его мне. А если большевики проведут пятилетку – па-а-жа-луйста. Я вместе с ними «гордо вступлю» в социализм. Па-ажа-пажа…
В своей работе, Федя, у меня немало искусства. Не шути делом. От множества куцых родителей у меня все потомства родятся с хвостиками, но я подкладываю в гнезда желатиновые капсульки, под животиками мышей, с отмораживающими средствами. От теплоты желатин тает. в жидкости, естественно, мышатки мажутся больше всего конечностями, и уже через пару дней в каждом потомстве у некоторых начинают «отмирать» хвосты. Выбраковываем. Хоть день и ночь следи за мной. Это я уже практикую и довожу этот прием до совершенства. А когда дойду до совершенства, тогда я назначу аспирантов на непрерывное дежурство следить за процессом «отмирания хвостов» и измерять их миллиметрами.
Милый Федя, ну чем я рискую? Пока большевики предоставляют науке «широкое поле», а когда «всходы окрепнут» и за меня в конце концов примутся, я воскликну: «Как вы, большевики, наступаете на горло науке? Разве я не имею права делать научные опыты? Ну, пусть я ошибался, пока не удалось, но потом, потом удастся». Да полегонечку за границу об этом шукну – мол, вот образец травли большевиками своих ученых.
Федя, мой решительный братский совет: я тебе рекомендую попробовать «изобрести» что-нибудь.
Послушай же моего совета и действуй быстро, напором.
Возьми за руководство «большевистские темпы».
Послушаешь меня – благословишь жизнь. Еще раз говорю: брось свой отроческий идеализм. Помни – «все на благо человека». Знай, Федя, что «чистота души» и так называемая порядочность сданы человечеством в музей еще в прошлом столетии. И, наконец, пиши, или я прекращу переписку с тобой.
Обнимаю тебя, родной,
твой брат Л. Клягин».Письмо третье
«Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович!
Спешим вас поздравить с успехом в делах рук ваших. От нашей супруги твоей супруге тоже поклон ниский.
Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, наипаче благодарим вас, что ты выручил меня енотами. Все шкуры довез я в наилучшем виде и в сохранности упаковал про черный день. Ждите от меня гостинец в отблагодарность за твою заботу, что не забываете вы как своего друга и бывшего ротного фершала, которого вы по моей товарищеской дружбе в кличке Царем прозвали.
А еще наинижайше прошу вас, если у тебя на охотничьем складу соберется партия соболей, то я по уведомленью наиспешно прикачу и тоже в убытке не оставлю, как на жалованьи вам наипаче не сладко.
Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, опишу я вам свои новости.
По приезде от вас застал я у себя в селе уполномоченного по сплошным колхозам и хлебозаготовкам, коммуниста Оглоблина из села Олечье.
Понюхал, пошукал – слышу, «нажимают» на нашего брата, трудовика-крестьянина.
Не крестясь, не молясь, я вечерком заваливаюсь к уполномоченному.
– Здрасте-пожалста – такой-то и такой-то.
– Знаем, – говорит, – слышал про вас.
Парень молоденький вовсе. Но отменно наиопаснейши нынче молоденькие. Ну, в разговорен, с ним. Вижу, парень не дурак.
Хорек парень. Ну да и мне не привыкать объезжать ихнего брата. Не в первый год болячка присучилась.
Я ему напрямик – бах – улыбочкой:
– Нажимать, – говорю, – прибыли на трудовое крестьянство?
– На трудовое – не ахти, на кулаков, – говорит, – да.
– На кулаков, – говорю, – непременнейше надо, некоторые без пользы для совецкого сплошного социализма безактивничают. Ну, а как, говорю, вы, как наисоображающий человек, ответите: что кобылу, которая наиохотнейше сама везет воз, следует кнутом стегать?
И что же вы думаете, Егорий Ксенофонович? Догадался. Наимгновеннейше догадался.
– Умный, – ответствует, – хозяин такую кобылу не бьет.
– Ну, а бьют дураки? – спрашиваю.
– Дураки бьют.
Тогда я прямым ходом ему:
– На сколько, – говорю, – вы мне посоветуете хлебозаготовки отвести?
– Две тысячи, – говорит.
– Пудов две тысячи? – спрашиваю.
– Нет – говорит, – вешать на килограммы будем твои пуды, на тонны.
– Многовато, – заявляю, – выдающе много. Ведь заметьте, что весь хлебец этот скупать надо. Своего – пудов сто.
– Много, можно надбавить еще, – с усмешечкой прибавляет тихонечко.
– Ну, а если кто упрется да не вывезет?
Опять уполномоченный в усмешечку:
– Так что ж с такими несознательными поделаешь. Не везет кобыла – погоняют ее. Не вывезет сам, так мы сами-то как-нибудь управимся. Мужик ты, – прибавляет он, – неглупый, смекай сам. Смекнул?
На хоря, на хоря наскочил. Жаден. На вот, накормишь такого. Поладили на двух тысячах.
Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, как уж вам известно и, как тебе я советовал, в наши дни никакого имущества не держи у себя дома. Наипаче не прячь и не зарывай. Комиссары в этом деле так набили себе руку, что от них уж не прихоронешь. На погостах в могилы зарывали хлеб, и тот наискорейше разнюхивали. Поэтому все, да и хлебец, и тот весь держу на стороне, даже не в своем селе. Снимаю я у бедняка, какого почесней, амбар, а нет, так построю ему – вот мол, годик полежит зерно у тебя, а там ты себе на избу амбар переделаешь. Самое наивернейшее дело. Наипаче бедняку при любой преданности совецкой власти, одначе детишек греть где-ни-на-есть приходится. А тут тебе изба новая, и на выделку посулено. А еще наиотменнейшее желание есть у бедняка – побыть рядом с богатством. Хоть, мол, чужим хлебом, а все-таки полон амбар. Пройдешь мимо, и помечтается бедняку, наисладчайше помечтается – «мой этот амбар, до потолка с моим зерном».
Да и веселей жить ему рядом с таким закромом: хоть, мол, и чужой, а с голоду все не сдохну. И на деле так оно и есть.
Придет иной – в ножки мне брякнется рыбкой, а ты и отсыпешь пудик ему.
Отвез я уполномоченному на ссыпной пункт тысячу восемьсот пудиков. Да все из другого села, в своем ни одного амбара не тронул. Наиопаснейше в своем, подследить хорек этот мог. Отвез и думаю:
«Задержу-кось я на пробу двести пудов, как на это реагировать будет хорек?»
Просрочил денек. Гляжу, вызывает меня уж сам.
– Вывез все? – спрашивает.
– Две сотни не довез, – отвечаю. – Наизатруднительнейшее положение в деньгах, да и купить негде. Не отказываюсь, говорю, наипаче из-за такой мелочи. Но повремените денек. Третью ночь не сплю, из конца в конец катаюсь, взаймы собираю.
А он, хорек вонючий, опять тихонечко с усмешкой:
– Ну и что ж делать. Сочувствую. Денек обожду, да уж с мелочью, правда, не стоит возиться. Вези уж, кстати, еще восемьсот. Ровно тысяча будет. Да не опоздай, а то опять из-за мелочи возиться не стоит будет.
Глянул я на его усмешечку – ни спорить, ни ладиться не стал. Наипоспешнейше домой укатил. Ну, думаю, и хорек. Ну и хорек. Наиотменнейший гнус.
Чувствую – доказывает на меня кто-то. Перебрал всех по пальцам – кто бы это мог наиподлейше доказать на меня. Наиобстоятельнейше обмыслил – вроде и догадался. Не иначе, думаю, сосед мой, Демитрий Гусенков, который мне товар возит в лавочку со станции. А с тем Демитрием наилюбопытнейшее у меня осложнение произошло. Зимой на него две беды наизлейших упало. Перед самой масляной двое детишек сгорело. И еще как, объясню тебе наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, наипаче странно сгорели.
Выстроил он себе за лето хибарку-полуземлянку. Только все, почитай, своими руками сбил. По нужде и это дворец. Перекосил, понятно, все. Наиотменно дверь перекосил: так и перекоробило, что в мороз только пинком закрыть можно. Зато уж открыть того трудней. Пятку обобьешь, прежде чем откроешь. А тут потеплело. Наиизвестнейше, что набухла дверь. Сам-то Демитрий в этот день у меня возились с женой своей, картофель в подполе перебирали, посулил-то я им весь поврежденный отдать. А дома сынишка семилетний да девчурка пяти лет.
Вот ведь, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, где она, бесхозяйственная нерачительность этих захребетников, сказывается – печь затопили, а сами из дому вон. Хоть и рядом, на соседнем деле, а все же наибезумно оставлять домоседами детей. А все жадность – побольше вдвоем картофелю чужого набрать. И ведь на что польстились? На попорченный картофель наиглубочайше польстились.
У девочки и вспыхни сарпинковое платьишко. Мальчонок, ее братишка – Ленька, бросился было к двери, бился, бился, не открыть. Кричит, а с улицы, понятно, ни звука не слышно. Наиглубочайше засугробило за зиму всю Демитриеву палату. А на девчонке уж нижняя рубашонка занялася, волосенки. Мальчонок к ней. Принялся было расстегивать ее, ан у самого рубашонка вспыхнула.
Так и облупились все. Особенно девчонка. Двое суток не промаялась. Мальчонок, однако, с неделю стонал – ну господь наимилосерднейше сжалился, прибрал.
Не успел Демитрий от этого оправиться – опять беда. В самую наирасторопицу весеннюю он мне за товаром поехал на станцию. Туда-то еще спозаранок по морозцу докатил, а оттуда – дорогу за день перегрело, лоска набухли водой. Крутил Демитрий, крутил около Семгиной лощины, в поле свернул, почитай, к Горохову лесу, где мы с вами, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, летось пекниками угощались.
И не сообразил того наитупеище, стервец, что сверху лишь в лощине снег, а под снегом уж поток. Ведь на наипаче глубокое место, обрывистое принес нечистый.
Тронул было, лошадь-то сразу и ухнула. А из-под снега вода фонтаном закрутила. Наибездоннейше глубоко в этом месте. Того не сообразил, стервец, что люди умней его, на самом мелком месте дорогу проложили. Каждый спокон веков лошадей имел, а он впервой обзавелся какой-то клячонкой мухортой и уж «наипаче свою дорогу проложу».
Вот и проложил. Захлебалась его кобыленка с моим товаром, и он гужи отрезал, полагая, что распряженная кобыленка выберется. Наиотменнейшее благодарение господу, что сани не провалились. И опять наисправедливейше скажу: жадность – не черт его нес. Сам ехал, а все потому, чтоб семь целковых – вдвое больше обычного загрести. Небось по селу, кроме его, дураков не нашлось в такую расторопицу выехать.
И вот этот же Демитрий Гусенков от своей же глупости наиподлейше на меня же с претензиями в сельсовет – лошадь ему купи.
Ведь наисугубейшее обратите внимание, глубокоуважаемый Егорий Ксенофонович, до чего обнаглели эти захребетники – Демитрий при большевиках: лошадь купи ему.
И не то чтоб по чести. Приди он ко мне, припади рыбкой, помогу. Перед наистинным богом – помогу. Так нет же. Наинаглейше в совет с жалобой.
Хорошо, что в совете у меня все свои были. Цыкнули там на него, наисправедливейше цыкнули: «Ты же, – говорят, – товару у него подмочил на верных две сотни, и ты же с жалобой».
Оттяпнули его в тот раз, но по моему рассудку не иначе, как он теперь доносит на меня полномоченному хорьку.
Учел я и этот шанц. Что, думаю, может знать Демитрий, кроме пустяков. Однако бережно – не денежно.
Наисправедливейше обдуманы пословицы старыми людьми, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович. На другой день всю до зернышка тысячу вывез я на ссыпной пункт, хорьку.
А тут в Олечье базар назавтра как раз. Вали, думаю, хорек. Наираненько еще дураков подсчитывать. Я ж, думаю, твое наисугубейшее ко мне вниманье отведу в сторонку.
И вот выкинул я, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, номерок ему отменный, хорьку.
Выезжаю я на базар, распрягаю, поднимаю кверху оглобли, а на оглобли – красный плакат: «Добровольно вывез две тысячи восемьсот пудов хлеба и вызываю на социалистическое соревнование нижеследующих зажиточных гражан».
И перечислил лиц с десяток. Да напоследок еще примазал: «Позор укрывателям». А наиотменно конкурента моего олеченского – мельника Лысанушку наижаднейшего. Искарьёт, дьявол Лысанушка. Одиннадцать коров, а семью свою снятым молоком кормит, и на всех двое валенок.
Так я предвидел, что намек мой поймет полномоченный хорек, вызовет меня и опросит об имуществе перечисленных мною лиц.
Вечером вызывает хорек. На бумаге у него все мои лица переписаны.
– Как, спрашивает, они по имуществу?
– Как, говорю, сами видите как. Не везут кобылки – погонять надо. А наиотменнейше Лысанушку. Наутро Лысанушка ко мне:
– Три, докладывает, тысячи наложили.
А я ему на ушко:
– Побожишься, что смолчишь – штуку шукну тебе.
– Побожусь… через детей поклянусь.
– Не вези, – шепчу. – Аль не сообразил башкой, что полномоченный меня нарочно выставил, чтоб вас подзадорить. Да смотри у меня, чтоб ни-ни…
Лысанушка мой и уперся. Его и добром, его и страхом.
– Не повезу, да и только.
А кроме того, и секрета не удержал. Потому-де робко одному-то отказаться, а уж со всеми-то веселей. И другие перечисленные в моем плакате лица уперлись. Хорек, однако, наимгновеннейше выездную сессию призвал. И все мои нижеперечисленные, как орешки, защелкали у него на зубах.
И мне вроде отменнейше легче без Лысанушкиной мельницы.
Опять, думаю, слава наимилосерднейшему, сквитал в своем хозяйстве.
Так не тут-то было, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович. Затеял на днях этот хорь Оглоблин «комунию артельную». Полсела наибезумнейше записалось. Я уж наидушевнейше предупреждал их:
– Пожалейте, говорю, рассийское отечество, если уж на себя рукой махнули. Ведь вы одними веревками да мылом, как вешать вас наиближайше будут, в разор отечество вгоните.
Так видите ли, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, неймется им. Каждодневно вступают в «сплошную комунию».
– Все равно, говорят, еще раз надуемся до горы, а там, глядишь, и пятилетка подможет.
А того каждый наиглупейше не смыслит, что через пятилетку через эту нам, трудовикам, хана смертная.
И наипаче трудовому человеку плечи развернуть не дает через них хорек Оглоблин.
Уж наивернейше не кто иной, как Демитрий Гусенков, шукнул Оглоблину, что у меня в работницах живет чужая – не моя баба, и не родная. Доказал-таки.
Опять на меня насел. Наипаче эксплоатацию приписали мне этой немтырки. И меня под сессию подвалил сукин сын хорек.
Ведь вы, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, ахнете. Ведь на меня за эту немтырку сорок тысяч рублей присудили. Чуть было в тюрьму не запрятали. Да спасибо из Олечье приехал московский уполномоченный Максимов – поддержал, спасибо наинижайшее ему от меня.
Эх, и взыграло тут мое сердце.
Ну, думаю, размажу я вам номерок. Наизанятнейше размажу.
Проходит срок платежа. Слышу, Оглоблин меня уж со всеми потрохами в колхозе распределил. Уж смету доходную на мое имущество составили.
И вот позавчера вваливаются они ко мне с судебным исполнителем и со свитой целой колхозной гольтепы. Вижу, продавать меня с молотка пришли.
Я, поджидаючи их, наиаппетитнейше чай пью с супругой. На столе, как у князя, серебро, хрусталевые, наичистейшие вазы с вареньем, со сливками, с маслами. Кофейник первосортнейший на спиртовочке поет. Яблоки, печеньица, сласти наивозможнейшие.
Вошли.
Слюной, думаю; изведу вас. Это вам не просяной кулеш, которым вы себе кишечки закупориваете наикрепчайше, до кровяных течений из заднего прохода. Я вам покажу, какая на самом деле наикрасивейшая бывает жизнь в единоличном хозяйстве. Вы и спать и видеть будете, где рай-то наивернейший. Вам кулеш-то ваш просяной теперь всю глотку, как рашпилем, издерет.
Уж наперед я наиотличнейшее предвидел, что от одного взгляда на мое блаженство у них теперь руки отвалятся от своего «сплошного кулеша».
А я нарочно им еще уголек под голую задницу:
– Пашенька, – говорю жене, – Пашенька, пирожки у тебя сегодня не особенно вкусны, начинка груба. Начинку в пирожки надо наинежнейшую, Пашенька. Накось их отложи. Собакам все равно хлеб приходится резать. – Да и отдал тарелку с пирожками жене. А она у меня – золото. Догадалась, и сейчас тарелочку с этими пирожками мимо их. Да нарочно медленно проталкивается сквозь гостей-то непрошеных. Да почитай каждому гостю к носу подняла пирожки. А пирожки-то эти горячие, душистые, наирумянейшие пирожки.
Вынесла Пашенька пирожки в сенцы, да и собак скликать начала. Однако виду никто не подал. Окремнели, дьяволы, от злобы на меня.
– В чем дело, господа уполномоченные? – спрашиваю.
– Уплатите по исполнительному листу.
– Сколько?
– Сорок тысяч рублей и три процента издержек.
– А-а, – говорю, – знаю, знаю. Суд присудил. Наисправедливейше присудил суд. – И жену кличу: – Пашенька… Пашенька…
Входит Паша с пустой тарелочкой.
– Собак, Пашенька, накормила? – спрашиваю.
– Поели, – ответствует она мне.
– Пашенька, будь наилюбезнейша, подай там из горницы шкатулочку резную, крашеную. – Открываю я ее и оттуда сорок пачечек сотенками. – Сосчитайте, – говорю, – пожалуйста. Не ошибся ли. Ну, а если в пачках неверно, так уж не обессудьте меня. На пачках бандеролики из советского банка.
Сосчитали. Я им наибыстрейше и процентик откинул.
– Расписочку, – говорю, – дадите или не соблаговолите? Может, по новым законам без расписок наиузаконено?
Дали и расписочку. А уж тут я их жвакнул:
– Ну, – говорю, – а теперь выметайтесь, не сорите тут у меня. Валите, валите. Воздух мне не загрязняйте. Наиотменнейший аппетит мой не расстраивайте.
Так им и отрубил, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович. Э-э-э, как они загремели у меня по порожкам, что твой горох посыпались.
Испугали они меня, да не очень робки отрепки, не боятся лоскутов. Наимудрейшая пословица. Пока они теперь снова подберут ко мне ключи, я тем временем тридцать раз успею обернуться.
Опять наиразумнейшая поговорка есть: «По бездорожью не ездят». Запродам я весь свой оборот, закуплю, что наиценнейше есть, поудобнее да и пережду с моим запасцем годок, другой, как в гражданскую войну.
А там, глядишь, и путек кто-нибудь продернет. По газетам да по слухам римский папа мобилизует все государства на большевиков. Мы, трудовое крестьянство, ждем не дождемся. Будем уповать на милосерднейшего господа.
Но, между прочим, наипаче хорю Оглоблину я прическу сделаю. Вторично заявляю: наираненько еще дураков подсчитывать.
Наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, как можно скорее подберите мне партию собольков и наибыстрейше телеграфируй мне. Я приеду немедленнейше и привезу тебе наиотменнейший подарок.
Нижайше кланяемся вам, наиглубочайшеуважаемый Егорий Ксенофонович, и желаем вместе с супругой тебе успеха в делах рук ваших.
Наипокорнейший слуга ваш Алексей Васильевич Волжин с супругой Парасковьей Степановной».Ночью сегодня исчез китаец. За ним поручено было следить Артемию. Я подзываю Артемия и спрашиваю:
– Где он?
Артемий покорно отвечает:
– Я прямо скажу, казни с любого боку меня. С полночи хватившись китайца, он неподвижно просидел на земле. Лицо у него совершенно серое, с каким-то мучнистым налетом. Взгляд устойчивый, неподвижный. Кажется, что зрачки его глаз подернулись тончайшей стеклянной оболочкой, они уже потусторонние: Артемий хорошо знает, что ожидает его. Он приготовил себя к смерти.
– Где он? – спрашиваю я снова.
Артемий поднимает голову, несколько мгновений смотрит вдаль, потом веки его медленно смыкаются. Он молчит.
Подходит Андрей-Фиалка. Видимо, он по моему какому-то незаметному для меня самого движению или жесту угадывает мое решение.
Артемий, почувствовав Андрея-Фиалку рядом с собой, едва заметно вздрагивает и еще крепче жмурит глаза. Он похож на мужика, заживо распятого на кресте.
Люди тесно окружили нас и ждут конца. Они затаили дыхание. Я чувствую, что Артемий для них сейчас – кто-то чужой, далекий, но вместе с тем каждый из людей испытывает долю его томления и находит в нем частицу своего.
В его муке – страдания их всех, их приговор.
Сейчас нельзя трогать Артемия. Укрощенного зверя надо ласкать тогда, когда злоба его достигла предела и уж капля может вызвать в нем бешенство. Но и уступить ему нельзя – в другой раз бешенство придет значительно раньше.
Я знаю желание моих людей, но никто из них не знает, по каким причинам можно простить Артемия. Каждый из них хочет простить Артемию, но простить так, без какой-то неопровержимой причины, никто из них не согласится.
Я говорю:
– Артемий нужен отряду.
Люди дышат еще тише, но легче и ровнее. Потом общим хором гудят:
– Необходим… Артемий необходим… Не обойтись…
Ананий – адская машина поправляет свою тирольскую шляпу. Он долго не может найти ей какого-то нужного и даже обязательного положения на голове: то он ее сдвигает набок, то натягивает на глаза и, наконец, забрасывает набекрень.
– Только вот не минучая в нем, а так – поразить, – заключает он и опять сдергивает короткое поле шляпы на глаза.
Андрей-Фиалка тоже не охотится «поговорить». Этому не жаль Артемия.
Я ухожу от Артемия. Люди разбредаются. Через несколько дней все они будут ненавидеть Артемия за то, что он живет.
Исчезновение китайца несколько смутило меня. Но я оправился.
Самый сильный враг – внутренний, и теперь в стране большевиков неисчислимо много тех, кто готовит им удар в спину. И каждого из них, готовящих удар в спину, чутко и неуклонно опекает заграница: за нас даже вожди демократические телеграфно умоляют Калинина: «прекратить казни».
Вновь передо мной открылась железная дверь в настоящую жизнь. В рамке заржавленных притолок я уже вижу зелень, сады, слышу приглушенную музыку радости.
Теперь надо действовать быстро, натиском. Китаец может навредить. Я изменяю направление. Ночью мы двинемся в Олечье.
У меня опять был припадок «бездушья». Опять я на несколько секунд проваливался в бездну. Темную, узкую, бездонную щель первобытной тоски.
Вечером я вник в споры моих людей. Меня поразило это обстоятельство. Они, эти люди, которым решительно на все наплевать, кроме «права на жительство», люди, схватившиеся с жизнью только в единоборстве, не признающие ничего и ничьего другого, кроме своего, – и вдруг заспорили о политике.
Ананий – адская машина сумрачно пересчитывал, кого он будет вешать, вернувшись к себе в Тамбовку. На несколько секунд громкий спор умолк. Монашек с кавказским поясом гнусит:
– Эх, братцы, и добра тогда можно пособрать будет у которых повешают… Мильёны.
И опять затихло. Тогда Артемий, молчавший до сих пор, вдруг каркнул глухо, как-то особенно выделяюще:
– Я прямо скажу: выждут и жамкнут врраз. – И он указал рукой в ту сторону, в которой, по его мнению, «выждут и жамкнут».
Почувствовалось, что он отрубил спор. Люди онемели и вновь разобщились для своих дум и желаний.
Давили холодные сумерки. Какая-то тонкая и пронзительная свистушка ныла в вершинах сосен. Мне показалось, что сосны туго нагнулись над нами и образовали черную, непроницаемую крышку сырого, чудовищного гроба.
Подкатило к сердцу. Начался припадок. С поразительной яркостью мне примерещилось лицо китайца, подошедшего тогда, в первый припадок, ко мне, чтоб сказать: «Капитана, твоя шибыка скушна».
Не знаю, сколько времени длилось это состояние бычьей тоски. Мне кажется, несколько секунд, а может быть, долго, много, потому что, когда я опомнился, гимназист-поэт уже читал людям какие-то стихи.
Несколько минут я слушаю его и убеждаюсь, что я вновь воспринимаю смысл слов постороннего человека. Я пробую дальше свою чувствительность. Я шепчу слова, ранящие меня в самое сердце:
С плачем деревья качаются голые…Но они не доходят, не волнуют, не ранят.
Свинцовое давление в голове. Кажется, что она онемела, вместо мозга жидкая и клейкая болтушка, и кожа, и волосы, и череп – все это что-то чуждое, постороннее. И будто фуражка надета прямо на шею. Она давит тяжко, душит.
Я отчаянно кричу:
– По кооооням!..
И вновь шепчу самому себе:
С плачем деревья качаются голые…Пронзительная свистушка в соснах смолкает, но тут же тянет вновь, но уже понизу, но уже басисто и свирепо…
Мы выехали из тайги. В степи светлее, а главное – не давит сырая тяжесть густых и черных сосен над головой.
Глухая и частая дробь копыт успокаивает меня.
Мне хочется стать черным вороном и в сумерки облететь всю Россию широким кругом, потом взвиться в бледное оловянное небо и пророчески каркнуть над Кремлем.
Но я не черный ворон, а «Черный Жук».
Я должен подкопаться под землей.
Действительность всегда противоположна воображению.
Пусть будет так.
Настанет день, когда ворон упадет на труп моего врага и до донышка выпьет его глаза.
Сегодня я ночую в поселке у коммуниста Оглоблина. Бревнистый и неповоротливый человек, этот малый, несмотря на свою сухость, – тонкая бестия. Он учился в партийной школе.
Я ему говорю:
– Начальник особого отряда Багровский.
– Вы партийный? – спрашивает он.
Я делаю изумленное лицо и намекающе повторяю:
– Я – начальник особого отряда.
Я ударяю на слове «особого» – начальник «особого» уж наверное партийный.
Оглоблин сразу переходит на «ты». Я тоже. Он интересуется и застает меня врасплох:
– Случайно к нам или по делам?
Я едва даю ему окончить и тоже спрашиваю о Павлике.
– Ты о Медведеве, что работает в Олечье, уведомлял?
– Да. Мне, товарищ Багровский, не нравится его линия.
– По-твоему, чрезмерно «нажимает»?
– Я и сам жму. Но как и на кого. А ведь он, выходит, измеряет имущественное положение мужиков на сантиметры: девять сантиметров – середняк, а десять уж кулак.
– По-твоему, как же? – спрашиваю я. Оглоблин решает, что я прислан испытать его «кредо». Он оживляется и излагает свой взгляд.
Оглоблин до полуночи развивал мне свою теорию. С задачи «перерождения крестьянства» он перешел на задачу «перерождения мира». Я попытался узнать его мнение о «военной опасности».
Подумав, он отрубил:
– Несомненная. Ты разве не видишь, что на нас натравливают всякую сволочь, чтоб найти повод к войне. Ведь ты подумай, товарищ Багровский, когда мы у себя иной раз тяпнем голову какому-нибудь контрреволюционеру, вся сволочевая «культурная Европа» вопит, топает ногами, свистит, грозит нам. За всякую сволочь грозит. А сама она, «культурная Европа», наши полпредства грабит. А сама эта «культурная Европа» наших послов убивает да благочестиво сваливает на «частное лицо». Да, впрочем, это что. Это еще все же крупное дело. А вот ведь «культурная Европа» докатилась теперь до ремесла фальшивомонетчиков и подделывает червонцы, документы и прочее.
Он на минуту умолк, внимательно оглядел меня в моем красноармейском одеянии и уже спокойно заключил:
– Война будет. Всю их подлость мы будем терпеть твердо. Н…но – тяпнем. Ох, и тяпнем… Не то руки – голова к чертовой матери отскочит…
В одиннадцать у меня свидание с Павликом. В запасе – час. Я хочу посмотреть Царя – Волжина. У меня есть кое-какие виды на него.
Мы кончаем ужинать. Оглоблин ест мои консервы, мое сало, мое консервированное молоко. Хвалит:
– Вам сытнее. У нас подчас живот режет от проса. Ну, да годок-другой, а там откормимся.
Он ложится отдохнуть: помещается он на квартире у столяра и спит на верстаке.
– Ну, мал, и нажрался я сегодня. Пелагея Федоровна, – кричит он хозяйке, – ты приготовь бечевку, а то как пупок расстегнется…
Прибегает какой-то обтрепанный мальчишка лет десяти и орет из двери. Орет по-взрослому:
– Оглоблин, ждут. Чего околачиваешься?
– Брысь. Ах ты, кацап, – с притворной угрозой рычит на него Оглоблин. Потом одевается и уходит, бросив напоследок:
– Теперь, товарищ Багровский, тебе понятно, почему я с Медведевым в контрах? Его политика похожа на политику партии так же, как и чемберленовская.
Мысленно я восклицаю:
«Мне-то понятно. Поймешь ли ты?»
Должное – должному: Оглоблин сильный и умный парень. Меня поражает огненность их энергии. Раньше когда-то я думал – большевики будут гореть огнем революции год-два. Потом затухнут. Жизнь сама собой станет на прежнюю тропу. Что-то нечеловеческое – «гореть» двенадцать лет во имя того, чего еще не было и нет, во имя какого-то далекого, призрачного «рая на земле».
Как бы то ни было – я оцениваю моего врага «ценою полной». Кто хочет победить, тот должен оценить противника по достоинству, его отрицательные и положительные стороны.
Оглоблин строит «рай на земле». Уже давно я верю во всевозможные коренные перемены. Но что мне до того, что потомство будет, смеясь, лакомиться румяными плодами, взращенными землей, которую я удобрю своей кровью, телом и костями?..
«Рай земной». Оглоблин исключает мою возможность, мое право использовать в «бесконечном течении веков» свои сорок – шестьдесят лет жизни.
Имеющийся закон лишить меня этого права, назови свое имя!
С моим мечом я встану против тебя.
Встреча с Павликом особенно ободрила меня. У него в руках целая сеть нашей агентуры. Он получил сведения о передвижении советских войск и отослал их Воробьеву.
Каждому из агентов он дал задание, и, по его расчетам, за день до военного выступления весь Дальневосточный край будет отрезан от Москвы, и телеграфная и железнодорожная связь будет совершенно разрушена. Особая Дальневосточная армия будет истреблена в два-три дня.
Павлик знает, что сейчас спешно готовится взрыв железнодорожных мостов через Обь, Енисей и Амур.
С ним ведет переписку некто «Рюрик» из Москвы. По планам этого «Рюрика», ко дню выступления в России предположено взорвать главнейшие электростанции, чтоб остановить центральную промышленность и в темноту холодных, осенних ночей погрузить города. Мне он поручил немедленно продвинуться к линии окружной железной дороги. Послезавтра я должен быть на месте.
В десять часов тридцать семь минут утра, по расписанию, в местечке Каляш через бетонный мост пройдет поезд с эшелоном красноармейцев.
Я должен взорвать мост и уничтожить эшелон.
Встретились мы с Павликом на конце поселка – его привел дядя Паша Алаверды.
Странно разговаривать о таких вещах с человеком, которого совсем не знаешь и теперь из-за темноты не видишь даже его лица. Но голос его мне показался знакомым.
Часто я думаю: где я слышал этот голос, эту привычку то и дело произносить вопросительное «а?.. а?..» Даже тогда, когда я молчу? Кажется, что Павлику совсем неинтересно, что говорит его собеседник.
Я спрашиваю:
– Оглоблина я возьму с собой?
– А?.. а?.. – как бы не слушая, твердит Павлик. – Прямым путем вас проводит Волжин. Спросите Царя. Все знают в поселке… А?.. а?..
Я хочу заставить Павлика ответить мне про Оглоблина.
– Оглоблина мне взять с собой? – вновь повторяю я.
– А?.. а?.. Скажите Волжину, что вы от Александра Ивановича Пешкова… А?.. а?..
Я в третий раз спрашиваю:
– Оглоблина взять мне?
– А?.. а?.. Вы не говорите так громко. Все-таки могут услышать. А?.. а?..
Возвратясь, я застал Оглоблина дома. Люди мои уж собрались у «пункта» и ждут меня. Я отзываю Оглоблина в сторону, говорю ему:
– Собирайся, мы выступаем в Олечье.
– Почему ночью? – спрашивает он.
– Сегодня там ожидают восстание крестьян.
– Крестьян?.. Против кого? – изумленно вскрикивает он.
– Против Советской власти.
– Крестьян?.. Против Советской власти? Уж не Медведев ли такую чушь тебе напел?
Я отвожу его дальше в сторону, почти к дверям. Если он будет сопротивляться, я выведу его в сенцы. А там достану браунинг.
– Меня выслали из округа со специальным назначением усмирить восстание, – говорю я.
– Дико… дико… товарищ Багровский! – восклицает он. – Кулаки – так им хребет перебить. Но присылать отряд? Да в центре за это шкуру спустят с нас со всех. Так ведь поговорить просто… разъяснить. От темноты все это. Кулаки подъеферивают… сволочи, хребет перебить. Ведь разъяснять надо, а ты?..
И так все время приговаривая «сволочи», «шкуру спустить», «от темноты», он быстро оделся, и мы вышли к людям.
Оглоблина я усадил на повозку. Рядом с ним сел Андрей-Фиалка.
Потом мы взяли Царя – Волжина. Он действительно похож на покойного государя. Такая же рыжая бороденка и беспокойная юркость.
Любопытен у этого Царя его постоянный жест вскидывать руку, согнутую в локте, перед тем как что-нибудь произнести. Точно бы он школьник и всякий раз поднимает руку, чтоб ему позволили высказаться.
– Беспрекословнейше повинуюсь, – ответил он мне, когда я объявил ему об аресте.
Жена его плакала, но он остановил ее.
– Пашенька, Пашенька, плакать нам нечего, – заговорил он. – Наирешительнейше плакать запрещаю. Не неволься тут без меня. Не неволься, Пашенька. Что где взять, сама знаешь.
Потом он обращается ко мне:
– Товарищ комиссар, позвольте проститься с супругой. Или, может. Советская власть наипаче не разрешает прощаться с супругами?
– Прощайтесь, – говорю я.
– При ваших очах позволяете или можно удалиться в горницу нам с супругой Пашенькой?
– Удалитесь в горницу, – едва сдерживая смех, отвечаю я.
Впоследствии я раскаялся, что позволил ему «удалиться с супругой Пашенькой в горницу». Забрав Волжина, я уехал с половиной отряда. Другая часть под начальством дяди Паши Алаверды осталась «заработать». Я позволил им задержаться только на час. Но прошло уже полтора часа, а людей все не было.
Я взял Артемия и вернулся в поселок. Люди мои уж начисто размели все пожитки Царя. В двух местах они проломили пол, но нигде не нашли что-либо ценное. Видимо, Пашенька успела крепко спрятать.
Тогда они устроили Пашеньке «очередь». Она умерла. Застал ее лежащей на большом сундуке, покрытом ковром из разноцветных тряпочек.
– Начальник, ее пальцем никто не тронул. Перед истинным богом – никто, – отрапортовал мне цыган.
Я верю, что никто из них не бил Пашеньку и что она задохлась от непрерывной ласки.
Меня разжигает любопытство. Я спрашиваю цыгана:
– Ну, а ты?
– Ни-ни-ни, начальник. Перед истинным богом – до своей терпеть буду.
Шинель на нем расстегнута. Я нарочно смотрю ему на пояс, он смущен и поспешно задергивает полы и застегивается.
Я командую:
– По коням!
Люди необычайно послушны и исполнительны. Многие оставляют то, что они «заработали» у Волжина.
Волжин ничего не знает о судьбе Пашеньки. Я ему сказал, кто мы. Понятно, он не поверил, но провести нас к местечку Каляш согласился.
– Наипокорнейше повинуюсь всякому приказанию власть имущих, – ответил он. За ним следят дядя Паша Алаверды и Ананий – адская машина.
Мы сворачиваем вправо от олеченской дороги. Я слышу, как на повозке беспокоится Оглоблин.
– Сиди, сиди, тебе говорят, мама-дура, – осаживает его Андрей-Фиалка. – Знают, куда ехать.
Но через полчаса Андрей-Фиалка уж дружелюбно философствует с Оглоблиным. Он ему уж рассказал свою теорию «искорененья зла» при помощи сплошных вишневых садов.
Оглоблин смеется:
– А кто же их сажать будет, сады?
– Кто… – мычит Андрей-Фиалка.
– Я спрашиваю, кто?
– Люди, мама-дура, и насадят.
– А как их заставят? – Оглоблин хохочет.
– А кто твои колхозы сажать будет?
– Голова, колхозы сами мужики создают, под руководством нашей партии, а пролетариат машин даст. А вишни?.. А вишни?..
Андрей-Фиалка долго молчит. Потом глухо и сердито спрашивает:
– Вишневые сады, дура-мама, не надо?
Я понял его, тронул лошадь и незаметно подъехал к повозке.
– Вздор… товарищ милый, чепуха, дикость… И кто только у вас политрук?
Андрей хватает его сзади за шею, опрокидывает на повозке и заносит над ним тесак. Оглоблин неподвижен. Его парализовало неожиданностью.
– Андрей! – кричу я.
Андрей-Фиалка прячет нож и гудит:
– Дура-мама, вишневые сады – чепуха?
Оглоблин опомнился и вскрикивает:
– Товарищ Багровский, что за шутки, в чем дело?
Я говорю спокойно:
– Дело в том, что мы вовсе не красноармейцы.
Но Оглоблин требователен:
– Товарищ Багровский, я спрашиваю, что за шутки?
Я смеюсь и объясняю:
– Товарищ Андрей был контужен в бою с белыми. Контузило его как раз в то время, когда их цепь вбежала в цветущий вишневый сад. Это было на Украине, весной. С этого времени у него постоянные припадки, когда кто-нибудь не соглашается с ним насчет вишневых садов.
Оглоблин успокаивается.
– Товарищ Андрей, – ласково говорит он, – ты меня уж прости. Простишь?.. Идет?.. Ну давай лапу. Шлепай крепче… Идет?.. Э… ведь я не знал, брат…
– Я оставляю их.
Впереди Волжин объясняет громко:
– Наиближайший тут до Каляша путь пролегает.
Мы едем через какую-то мочежину. Впереди справа и слева блестят небольшие заводи, обросшие кугой. При нашем приближении из заводей с громким шумом срываются утки. Их черные силуэты мелькают и исчезают в небе. Некоторые из них долго и с тревожным криком уносятся вдаль. Невольно вздрагиваешь, когда они взлетают из камышей. Кажется, что это не утка, а кто-то огромный и черный.
Мы у полотна железной дороги. Ждать нам еще около двух часов. Мы расположились в разрушенной и покинутой экономии с большим парком, наполовину вырубленным. Парк прилегает к высокой железнодорожной насыпи.
Поток, через который перекинут бетонный мост, вытекает из большого пруда в парке.
Огромные дуплистые деревья окружают пруд сплошной стеной. Некоторые из них подгнили и рухнули прямо в воду.
От этого пруд кажется еще более мрачным и бездонным. Издали слышится запах гнилой воды. Листья свернулись от холода, упали и чуть слышно шипят на аллеях.
Кажется, что деревья парка обняли друг друга черными лапами и ждут последней стужи.
Мне чудится, что по ночам в парке по заросшим крапивой дорожкам бродит кто-то бледный в белом.
Все это – мистика, чушь, но мне так кажется. В этом самообмане я нахожу великий и тайный смысл.
Жизнь, как голая женщина, – ее всегда надо закрывать дымкой.
Мне вспоминается мой родной парк в Васильковском. И там бродит ночью бледная тень моей тоски. Тоски потому, что рабов своих я наказывал не скорпионами, а жалкой плетью. Тоски потому, что:
Все растоптано, продано, предано.. Черной смерти витает крыло…Ненависть душит меня. Дыхание делается сиплым. Я быстро возвращаюсь к людям.
Сейчас коммунист Оглоблин поверит мне.
Оглоблин сидит на повозке. Он держит большой рыжий кленовый лист и что-то тихо рассказывает моим людям. Я вслушиваюсь. Он объясняет им, как дерево дышит и почему верхняя сторона у листьев глянцевая, а нижняя – матовая.
Увидя меня, он умолкает, смотрит мне в глаза и внезапно настораживается.
Я подхожу вплотную. Он опускает голову и зажимает лист между ладонями, как делают свистульку.
Я спрашиваю:
– Оглоблин, верите?
Он поднимает голову, снова смотрит мне в глаза, потом отворачивается и, поднеся большие пальцы сложенных вместе ладоней, сильно дует в них.
Кленовый листок тонко и отвратительно пищит. Оглоблин поверил, но не хочет отвечать мне.
Меня взбесило, что он отказался отвечать мне не как-нибудь иначе, а вот именно так. Просто. Он даже ничем не показал мне, что не хочет отвечать.
Он и в пищик засвистал не потому, что «вот, дескать, ты меня спрашиваешь, а я насвистываю», а потому, что раз уж зажал листок между ладонями, то надо и свистнуть от «нечего делать». Точно бы меня уж для него не существует.
Я спрашиваю вновь:
– Верите?
Он опустил голову и, вглядываясь в ступицу тележки, растирает в ладонях лист. Руки дрожат. Меня еще больше злит и то, что он вовсе не пытается скрыть, что ему страшно и что руки у него дрожат.
Наотмашь я ударяю его бамбуком.
Оглоблин вскидывается, секунду смотрит на меня. Я не понял его намерения. Мгновение, и он прямо с ходка прыгает на меня, сваливает и, схватив за волосы, запрокидывает мне голову назад, затылком к самой спине.
Мои люди нагло смеются.
Еще секунда – и у меня лопнет горло. Но я уже свободен. На Оглоблине сидит Волжин. Он схватил его тоже за волосы и так же запрокинул его голову к лопаткам.
Волжин исступленно верещит, и бороденка его трясется. Верещание его переходит в слова.
– Ваше благородье… Ваше благородье, – остервенело хрипит он, тиская Оглоблина… – ва-ше была-аггг…
Я вскакиваю и кричу:
– Разнять!
Волжина отрывают. Но он судорожно вцепился Оглоблину в ворот одежды. Ветхая одежда треснула. Волжина поднимают на воздух и отрывают.
Он трясется от бешенства и хрипло бормочет:
– Ва-ше благородь, что ж вы мне не объяснили… Я ведь думал, вы меня на удочку ловите. Ва-аше благородье…
Он взвизгивает, снова бросается на Оглоблина и впивается в горло. Его вновь оттаскивают. Нижняя рубаха на Оглоблине летит в клочья. На груди кровавые следы ногтей.
Подходят Ананий – адская машина и цыган. Ананий докладывает:
– В самом стыке уложили. Плиту выщербили. Проводок протянули к э-э-вон тому ясеню. На полянке. Оттэда видней приближенье.
Я смотрю на часы. Скоро.
Цыгану я приказываю увести людей и рассыпать вдоль линии цепью с обеих сторон.
Андрей-Фиалка и Ананий уводят Оглоблина к ясеню, где электробатарея и телефонный аппарат.
Волжин прыгает под ногами моей лошади. Он немного успокоился и беспрестанно твердит:
– Ужель вы его отпустите? Ваше благородье, наиглупейше будет отпускать.
Половина одиннадцатого. Спустя семь минут через мост пройдет поезд. Мне кажется, я уже слышу далекий, тяжелый шелест.
Мне становится страшно от того, что поезда у большевиков движутся с дьявольской точностью.
В России этого никогда не было, потому что к поезду относились, как к почтовой тройке.
Я трогаю рысью к Ананию и к Андрею-Фиалке. За мной пешком бежит во всю мочь Волжин. Он умоляет меня допустить его к Оглоблину.
Я допущу его. Мне хочется изведать злобу его до дна.
Когда я подъехал и спешился, Оглоблин посмотрел-таки на меня.
Потом отвернулся к Андрею-Фиалке, уж «деланно», показно выражая свое презрение.
– Товарищ Андрей, – сказал он, – давай, милейший, закурим… Нам, брат, с тобой только и осталось, что закуривать.
Я вспомнил: когда я сидел у Оглоблина на квартире, он отказался курить и заявил, что не курит вовсе.
Андрей-Фиалка прячет от него глаза, но закурить подает.
– Эх, и спутали у тебя мозги, парень, эх и спутали, – певуче тянет Оглоблин.
Вдали ритмично стучит поезд. От его шума как будто чем-то наполняется пустынная даль и оживает.
Я сажусь у батареи, Ананий – у телефонного аппарата.
То, что случилось, можно назвать… Нет, никак нельзя назвать. Нет этого, не могло быть. Этого не было. Произошло все так, как я хотел.
Не было так, как было.
Я стал жертвой своей глупости, а главное, жертвой своей склонности к утонченному наслаждению.
Из-за этой склонности я взял с собой китайца, мечтающего о большевиках, и повел его на «его идеал».
Эта же склонность побудила меня тащить с собой Оглоблина, вместо того чтоб покончить с ним вчера же, в болоте.
Но с чем сравнить наслаждение, которое я испытывал, когда со смехом принимался доказывать Оглоблину, что мы не красноармейцы?
С чем сравнить ту неизъяснимую радость, когда вдруг, под моим упорным взглядом, стыла в его жилах кровь?..
Или, быть может, все это мне показалось?
Нет, все произошло так, как я хотел.
Не было так, как было.
Нет. Нет. Нет…
Не было так, как было.
Наглый факт смеется мне в глаза окровавленным ртом Оглоблина.
Наглый факт упрямо смотрит на меня мертвыми и синими глазами Оглоблина.
Наглый факт тянет к моим ногам окровавленную полу белой рубахи, зажатую в холодном уже кулаке Оглоблина.
Нет.
Я не хочу.
Не было так, как было.
Но всему, что было до этого, я не хочу верить. Иначе что-то лопнет у меня в мозгу и я сойду с ума.
Больше ничего не было. Я ничего не хочу помнить и знать.
Все было так, как мы приготовили. Как я задумал.
И наперед все будет удачно и спокойно.
Главное – все будет так же спокойно… спокойно… сто… тысячу… миллион раз спокойно…
И еще миллион миллионов раз спокойно…
Я спокоен… Все спокойно и гладко по-прежнему.
Главное то, что я верю, будто там, у моста, все произошло так, как я наметил.
Нет, не верю.
Верю или нет? Сосчитаю до десяти: раз… два… три… че…
А ну к черту. Неважно.
Все спокойно. И все по-прежнему.
А главное, все, все, что происходит вокруг меня, все это постороннее, ненужное, неважное.
Сегодня ночью зарезался Андрей-Фиалка. Нашли его утром. Он сидел в кусту, развалившись на упругих сучьях.
Гимназист-поэт вытянул из его тела тесак и подошел ко мне.
– Теперь я могу… человека… – твердо сказал он.
Я посмотрел ему в глаза. Да. Теперь он может.
По глазам я сразу узнаю людей, которые «могут».
Я говорю гимназисту:
– Ты возьмешь пулемет Андрея. Цыган обучит.
Он сухо и почтительно благодарит.
Но это – неважно. Важно и интересно вот что: когда сел Андрей-Фиалка в куст?
Сел ли он сначала и ударил себя, или он так удачно сел уж после удара?
По предложению дяди Паши Алаверды Андрея решили похоронить так, как есть, «в кусточке сидямши». То есть оставить его.
Цыган сидит перед ним на земле, никого не стесняясь плачет и, как некогда на дворе у Андрея, твердит, ударяя себя в грудь:
– Ой, крест несу… Ой, тяжкий.
Гимназист-поэт собрал вокруг себя людей. Он хочет прочесть стихотворение в память Андрея-Фиалки.
– Господа, написано белым стихом, – объявляет и он. – Стихотворенье не мое, но весьма к моменту, траурное. Помните, господа, деда Епифана, который все про крематорий твердил? У него журнальчик я тогда взял. Вот… Позвольте начать.
Он читает что-то погребальное о военном кладбище, на котором в темные ночи с хрустом падают гнилые кресты.
Гимназист окончил. Гнусит голос монашка:
– По белому, братцы, стихотворенью вышло – весь мир кладбище да кабак. Рестарант и есть кабак.
– А люди – дяди, – добавил еще кто-то.
– Все, – утвердил второй.
– А бог бандит, – весело прогнусил опять монашек.
– Тоже весь, – опять выкрикнул второй голос.
Стонет цыган:
– Ой, крест несу!.. Ой, крест…
Я знаю, отчего умер Андрей-Фиалка.
Его напоил Оглоблин ядом. Самым страшным ядом. Ядом сомнения в самом себе.
Этим ядом большевики напоили меня, моих людей, всю Европу, весь мир.
Ядом сомнения – в порядке, законах, которыми веками жило человечество.
Всему миру они крикнули:
– Все не так, как вы думаете.
Потом они подняли на руки Россию, истерзанную войной, голодом, вшами, и, показав ее миру, объявили:
– Внимание.
Весь мир затаил дыхание и ждет.
Теперь в России поезда идут точно по расписанию.
И теперь поздно, потому что яд уже сделал свое дело.
О выстуканная сухая подошва, за твоей спиной я вижу страшный призрак.
Он занес свою стальную булаву над твоим прокаженным затылком.
Мы в колхозе. В настоящем, живом колхозе; в одном из тех, о которых так много говорят чего-то необычайного.
И вот странно: колхоз этот – самое обычное, все в нем настоящее, такое, как сама жизнь.
На двух косятчатых машинах молотили хлеб, прямо под открытым небом.
Барабаны были установлены на одном большом току так, что зерна было два вороха, параллельно друг другу.
На приводах, погоняя лошадей, весело и озорно кричали два парнишки. Один из них мне напомнил пастушонка, которого пристрелил дядя Паша Алаверды.
Наш приезд повлиял на этого парнишку возбуждающе, и он, желая показать нам свою удаль, принялся погонять еще бодрее, то и дело щелкая кнутом. Глазенки у него загорелись, и вся его фигурка как бы выговаривала: вот-де какой я старательный и какой с бичом ловкий.
Обеспокоенные лошади в его приводе тронули мелкой рысцой. Барабан пронзительно завизжал.
– Легче, легче! – закричал высокий, прямой мужик, «пускающий».
Он затормозил барабан неразвязанным снопом. Но сноп заело. Глухой выстрел, и тут же на ворох выкинуло целую вязанку соломы.
– Легче, говорят, зубья посшибаешь! – вновь крикнул мужик.
К нему подошел Артемий – расстегнулся и чего-то крикнул ему над ухом. Мужик ухмыльнулся. На запыленном лице его зубы показались необычайно блестящими, Он уступил Артемию свое место.
Артемий схватил развязанный сноп: придерживая левой рукой сноп за гузовку, правой он очень ловко отделял большую прядь, мгновенно расстилал ее на платформе барабана и тут же толкал ее колосьями в зубья.
Мужик шлепнул его по спине.
Артемий оглянулся, улыбаясь широко и счастливо.
Мужик подошел к нам:
– «Черного Жука» ловите, товарищи? – спросил он.
– Не брезгуем и козявкой, – откликнулся цыган.
– Спешите аль поможете нам? – допрашивает мужик.
Я подъезжаю к нему и хочу у него выведать, но он предупреждает:
– А вечор отряд товарища Макара с нами убирался. Эвон какой омет вывершили. Да как, объясню, вывершили. Ни дождинку не пропустит! Они тоже по «Жуку» едут.
Мужик и нас хочет подзадорить помочь им помолотить. Я говорю ему:
– Некогда нам… Куда отряд товарища Макара тронулся?
Мужик ответил не сразу. Сначала он обратился к моим людям:
– Товарищи, вали, пока мы объясняемся, по нацепинку соломки стащи кажный. Наши пока передохнут.
Люди вопросительно смотрят на меня, нерешительно спешиваются и идут таскать «нацепинки»: бабы наваливают им соломы вдвое больше, чем следует, нарочно задерживают им вязанки грабельником, и, когда кто-нибудь из моих людей не осиливает тяжести, бабы хохочут.
– Кишка тонка… Кишка тонка! А на белого гвардейца идет тож…
Парень напрягает все силы, стремясь вскинуть вязанку через плечо. Бабы разом отпускают и снизу подбрасывают вязанку грабельниками. Вязанка летит через голову парня, и парень падает на нее.
Опять хохот.
Дикая, дьявольская живучесть!
Мужик говорит:
– Товарищ Макар, по видам, поехал в Круменский совхоз, охранять. Там, браты, фабрика така-ая…
Меня забирает любопытство спросить у него о жизни в колхозе. Но вопрос у меня получился какой-то неуклюжий.
– Как, – говорю, – жизнь в колхозе?
– Как? – удивился он. – Видал сам… Давай, давай, Тишка, рви.
Я не нахожу каких-то нужных в этом случае слов и приказываю собрать людей.
– Мало, мало погостили, – кричит на прощание мужик, сменяя Артемия.
Мы трогаемся, но Артемий все крутится у барабана и чего-то объясняет мужику, указывая на шкив и ремень.
Посылаю за ним цыгана. Артемий возвращается и озлобленно косится в мою сторону. Я понимаю его: в нем сказалась мужицкая страсть к работе… и я хочу вытравить в нем этого «зверя».
– Артемий, – командую я, – возьми огневиков и вернись туда.
Он понял и испуганно взметнулся:
– На что их?.. Пускай молотят.
Я повторяю, отчеканивая каждое слово:
– Артемий, возьми огневиков и вернись туда.
– Видь хлеб, боже ж ты мой, хлеб!.. – восклицает он.
Я медленно подъезжаю к нему. Он осекается и сухим, хриплым голосом вызывает:
– Огневики, наперед!
Пятеро скачут следом за ним в колхоз.
Через четверть часа мы слышим крики, визг и выстрелы. Наконец в безветренном небе свивается огромный, багровый смерч дыма. Потом вымахивает кровавое крыло огня.
Наши скачут назад. Артемий повернулся в седле и все время хлещет лошадь, оглядывается назад, на дым, на пламя.
Лошадь Артемия обезумела и наскочила прямо на нас с цыганом.
– Задавишь, Артемий, задавишь! – кричит ему дядя Паша Алаверды.
Артемий осадил коня, блуждающим взглядом осмотрел нас, выхватил маузер, навел его сначала на меня, потом на цыгана, потом снова на меня и опять на цыгана. Он точно бы забыл, в кого из нас двоих хочет выстрелить.
Я ударяю его бамбуком по руке. Артемий падает с лошади, и тут же звучит его бесплодный, но страшный выстрел.
Я говорю цыгану:
– Возьми у него маузер.
Люди мои столпились и чего-то ждут. Гимназист-поэт подъезжает ко мне и тихо говорит:
– Хотите узнать, что я теперь «могу»? Я кричу Артемию:
– На коня!..
Он покорно встает и лезет в седло.
– Веди на Круменский совхоз, – приказываю я.
Артемий широко крестится и заезжает в голову отряда.
По дороге к совхозу я обнаружил, что нас преследуют еще два отряда.
То обстоятельство, что нас принимают за красноармейцев, помогло мне установить численность противника.
Что мне оставалось? Первое – пробираться ночами, и тогда я буду связан по рукам и ногам, ничего не сделаю, и, кроме того, я не гарантирован от неожиданного нападения. Второе – немедленно направиться к границе и принять бой только по необходимости. Но в этом случае – что меня ждет, когда я вернусь? Воробьев и английский офицер устроят мне торжественный ужин, будут кричать «ура герою» и за ужином отравят меня, как это было в прошлый год с одним полковником, узнавшим слишком много секретного.
Мне остается одно – перейти в наступление. Тем более что моей силы, как видно, большевики недооценивают, не придают большого значения, а быть может, и не верят в «легендарного Черного Жука», иначе красноармейцы, «товарищи» Макара, не стали бы так долго возиться в колхозе.
Так я поступлю. Возьму совхоз, и это будет моя «база».
Потом я зажгу его. На зарево явятся мои преследователи, предполагая, что мы его покинули, а я устрою им засаду.
От совхоза нас отделяет овраг. На дне оврага узенький ручей. Мы открыто едем вдоль орага к мостику. Нас половина, другую часть людей я оставил. Нам видны только крыши построек. На противоположном берегу группа красноармейцев складывает какие-то тюки в скирды. Поют какую-то озорную чепуху.
Они нас заметили, но не придают никакого значения и продолжают петь.
Поравнявшись с ними, я кричу:
– Товарищ Макар где?
Несколько голосов со смехом отвечают:
– Здесь – туточка… Его в шерстобитку запрягли. Подваливай скорей, дошибем. – И запевают:
Тетя Мотя, голова в омете… А задница кли-инушком у ей.Мы переходим мост и поднимаемся наверх. Совхоз как на ладоньке. Низенькие растянутые постройки. Большей частью новенькие, бревенчатые. Нас приветствует огромная безграмотная надпись:
ЗА КУРЕВО БЛИСЬ ПОСТРОИК
ШТРАФУ ОДИН РУПЬ
Всюду вперемежку с рабочими пестрят красноармейцы.
Что за дикая идея у большевиков? Кого они готовят в армии? Бойца или батрака?
Я знаю только один принцип для солдата каждой армии культурной страны: солдат должен быть максимально разобщен с населением. Иначе как же он будет в случае восстания стрелять в это население, если он, подобно красноармейцам, постоянно общается с населением в трудовых процессах?
Сейчас я докажу большевикам непригодность их «принципа».
Откуда-то вывертывается цыган. Он был в разведке и уж облазил все закоулки.
– Начальник, вон там, у расклепистой башенки, начальник, – один-одинешенек часовой.
Четверо красноармейцев тянут огромный моток колючей проволоки и прибивают ее к кольям – огораживают какой-то посев. Я кричу им нарочно громко:
– Где сам товарищ Макар?
– Поезжай туда… Какая часть?
Мы трогаем рысью – и через минуту у цели.
Винтовки и пулемет Кольта стоят под навесом для сепараторов.
Третья часть людей спешивается и привязывает коней: сейчас они рассыплются в цепь. Я останусь с ними. Гимназист-поэт тоже. Отсюда встретим бегущих огнем из томсона и ружейным. Верховые мгновенно оцепят совхоз «внутренним кольцом», если кто прорвется – он наскочит на остальных моих людей, оцепивших совхоз более широким кольцом.
Чтоб не насторожить часового, я снова кричу:
– Где же товарищ Макар? – И шепчу гимназисту: – Сними его тесаком.
Гимназист подходит к часовому. Красноармеец сурово окрикивает:
– Куда прешь? Службы не знаешь!
Гимназист нерешительно встал.
Нет Андрея-Фиалки, нет…
Я командую конным:
– Рысью аррш!..
Цыган поспешно вкладывает в томсон диск и по-разбойничьи вопит:
– За мной… Окружай!..
Мгновенно все смолкает, слышен только стук копыт. В часового я пускаю очередь из пулемета. Пулями его пересекло в области живота, и, прежде чем упасть, он переломился.
Гимназист-поэт подбежал к нему и, испуганно вскрикнув, вонзил в него тесак.
Потом встал и победно оглянулся. Он «испробовал», и теперь у него пойдет. Тревога. Красноармейцы бегут к винтовкам. Нам остается только одно – расчетливая и меткая стрельба.
Минут через десять выстрелы прекратились. Все кончено. Совхоз в моих руках. Люди «шуруют барахлишко»: Ананий – адская машина степенно, не торопясь осматривает сепараторы, крутит головой и замечает:
– Ка-а-кое устройство… умственное.
Монашек раздобыл где-то толстое зеркало для бритья и глядится в него, задрав бороденку и почесывая ее.
Внезапно из-за угла к группе моих людей подходит красноармеец в длинной кавалерийской шинели.
Шинель не застегнута, на нем нет головного убора.
По полевой сумке и по нашивкам, а еще больше по длинной, странно сшитой шинели я догадываюсь, что это командир.
Он идет спокойно, высокий и печальный. Лицо у него запылено, видимо, на работе, но видна его смертельная бледность.
Он уже понял, что случилось.
Мои люди поражены его появлением.
– Кто начальник? – спрашивает он.
Люди указывают в мою сторону. Командир идет на меня.
Я кричу:
– Стойте!..
Он останавливается и опускает голову. Меня восторгают его надменная решительность и выдержка, подкупающая своей простотой.
Я решаю сохранить ему жизнь.
– Офицер, снимите полевую сумку и оружие, – приказываю я. Он отвечает:
– Сумка уже пустая, а оружие вот…
Он вытягивает руку с наганом и мгновение целит в меня. Я улавливаю его движение и падаю невредимым. Он выпускает еще четыре заряда в Анания, в моих людей. Потом распахивает левый борт шинели, кладет ладонь на грудь и, воткнув дуло между указательным и средним пальцами, нажимает гашет.
Я вижу, как он вздрогнул и съежился, прежде чем раздался выстрел.
Мы окружаем его. Он еще жив и тихо стонет, но лежит неподвижно.
Гимназист бросается на него с тесаком. Мне противно, что гимназист так рабски усвоил привычку Андрея-Фиалки, и я останавливаю его:
– Прочь…
Нагибаюсь над командиром, поднимаю кверху его левую руку и под мышку сбоку из крошечного кольта выпускаю две пули в стальной оболочке.
Решимость командира напоминает мне Оглоблина. Весь мой самообман разбивается вдребезги о хладнокровие этих людей. Там, у насыпи, произошло так: поезд с грохотом выскочил из-за леска. Вот он уже в пятидесяти метрах от моста. Я нагибаюсь над батарейкой, Ананий – над телефонным аппаратом: для полной верности мы хотим «послать» две искры. Оглоблин, куривший доселе с Андреем-Фиалкой, внезапно прыгает к проводам и в мгновение ока перекусывает жилку. Какая-то судорога помогла ему. Схватив другой провод, он бежит к насыпи. За ним, подпрыгивая, волочатся аппарат и батарейка. Я безрезультатно стреляю в него. Проклятое волнение! Я вижу, как он перекусывает и этот провод. У ручья он бросает батарейку и аппарат в воду.
Волжин настигает его.
Сумерки. Такое же безветрие, как и днем. Я приказываю зажечь совхоз. Вспыхивает маслобойка.
Белое, как молоко, пламя жутко гудит – горят огромные ящики сливочного масла. Огонь охватывает весь совхоз. Небо мгновенно чернеет. Потом прозрачную темноту прорезают огромные космы зарева.
Я собираю людей и готовлюсь к засаде.
Внезапно раздается невыносимый запах. Узнаю. Артемий поджег два огромных стога шерсти.
Опять волосы.
Это пугает меня. Я изменяю своему решению и поспешно покидаю совхоз.
Люди рады этому отъезду.
Мы спускаемся в овраг, на мостик.
Шерсть горит желтым вспыхивающим пламенем.
Внизу невозможно дышать. Мне ярко представляется ужас людей, окутанных удушливым газом.
Мы берем в галоп.
Утро мы встречаем в лесистых сопках, недалеко от того места, где нас забавлял дед Епифан своими бреднями о Боге, о крематории.
Меня разбудило упорное жужжание пропеллера – то удаляющееся, то приближающееся.
(Поразительно – я совсем не вижу снов; может быть, я и вижу, но ни одного из них, даже ни малейшего события из сновидений я не помню.)
Некоторые из моих людей тоже проснулись и вслушиваются в рычание пропеллера.
Но отсюда мы не видим аэроплана.
Я приказываю разбудить людей и приготовиться. Падь, в которой мы на рассвете остановились, довольно открытая для наблюдения с аэроплана.
Проходит несколько минут. Люди садятся на лошадей. Лошади беспокойно крутят головами, тихо храпят, они слишком дики и не знают еще, откуда это странное и страшное жужжание.
Внезапно звук пропеллера летит на нас, минута – и Машина над нами. Я отчетливо вижу летчика и наблюдателя.
Машина вздымает вверх, делает круг, снижается над нами и делает несколько маленьких кругов.
Мы обнаружены.
Внезапно я замечаю ошеломляющее обстоятельство: на крыле аэроплана, там, где нарисована красная звезда, висит какое-то полотно. Его замахивает ветром и под ним виднеется трехцветное кольцо.
Это открытие ошеломляет меня. Я вспоминаю: не однажды мы закладывали такие же трехцветные кольца полотном, на котором нарисована красная звезда, и делали «заграничную разведку» к большевикам.
Снимаю шлем и начинаю подбрасывать его.
Аэроплан, поравнявшись с нами, круто вздымает вверх, и к нам летит длинный зеленый предмет – картонная трубка с посланием.
Машина снова спускается – они хотят узнать, «получено ли». Несколько раз я подбрасываю трубку вверх.
Я вижу – из наблюдательной кабинки два круглых глаза бинокля.
Мне кажется, я узнал «наблюдателя».
По-моему – это английский морской офицер.
Кто бы то ни был, но он вдохнул в меня какую-то радость, какую-то надежду.
Машина берет высоту, становится маленькой и идет «по прямой». Она уже далеко. Я беру бинокль и провожаю ее благословляющим взглядом.
Но у меня «черный глаз»: внезапно впереди машины – три белых продолговатых клуба дыма.
Я слышу далекий тройной гул внизу и тоже тройной, но более тихий и трескучий сверху.
Оплошность моих друзей заметил противник и жарит из «тройной зенитки».
Снова вспыхивают три белых клуба, так сразу, точно бы на чистом небе мгновенно появились три маленьких облачка.
Машина, беспомощно кувыркаясь, идет вниз. Стрельбы больше нет.
Но я так и знал, что это маневр: плохого летчика не пошлют. Изобразив беспомощность, машина вдруг устремляеся понизу.
Снова три дымка впереди ее; еще три. Аэроплан берет вверх. Опять заминка в стрельбе. Потом сразу шесть дымков и более мощный гул. Машина оставляет позади себя эти облачка и забирает выше. Но внезапно она исчезает в небе, и через секунду я вижу только сплошной большой клуб белого дыма.
Нелепыми, неосмысленными зигзагами аэроплан снижается.
Я жду. Какая-то надежда есть у меня, что летчик опять маневрирует.
Но машина опускается так, что мне уж не видно ее за верхушками деревьев.
Я внушаю себе: «Нет, не упала, они пошли понизу, над самой землей».
Я закрываю глаза и хочу представить себе, как произошел последний взрыв. Почему вдруг не стало видно аэроплана?
И безнадежно восклицаю мысленно: «Может быть, взрыв был позади машины, а не около нее».
Я вспоминаю про картонную трубку. Это отвлекает меня от мысли о судьбе моих воздушных вестников.
Трубка обернута прорезиненным шелком и залита стеарином. К ней прикреплены два свинцовых шарика на шнурах – это груз, позволяющий падать почти перпендикулярно земле.
Люди окружили меня и с жадностью ждут новостей.
Послание разочаровывает меня. Мне хотелось чего-то большего, подробного или по крайней мере хотя бы простого, не касающегося дел письма от кого-то.
Но от кого?
Кто напишет мне письмо, «не касающееся дел»?
Разве есть у меня люди или хоть один человек, который бы написал мне такое письмо?
Эх, кабы письмо, хотя бы записочку такую получить! Откуда угодно, от кого угодно. Хоть бы от врага. Хоть бы от этого, сухой английской подошвы, хоть бы и с проклятиями от той женщины, которую я изувечил плетью для гончих собак.
Короткое распоряжение.
По сообщению Павлика, семнадцатого будет восстание крестьян. «Восставших немедленно ведите в юго-западном направлении, в сторону Даурии. К вам присоединятся села, лежащие на вашем пути. Шестнадцатого-семнадцатого в Олечье будут доставлены ящики с оружием. Дальнейшее снабжение оружием обеспечено. Сопротивляющиеся селения берите с бою и вооружайте только добровольцев. Около Обегайтуя к вам присоединятся значительные силы регулярных войск. Командование возлагается на вас».
Меня сбивает с толку подпись.
Как понять эти крючки знаков? Их даже не разберешь – наши это знаки или латинские?
К чему эта трусливая попытка утаить шило в мешке?
Если этот английская выстуканная подошва знает, что девятнадцатого, двадцатого или двадцать пятого вспыхнет открытая война всего мира с большевиками, то что же заставляет его, подобно собаке, трусливо прятать хвост между ногами?
Что, я спрашиваю, что?
Вот оно, подленькое «рыцарство» сынов Альбиона и прочих сукиных сынов!
Что противопоставят эти мелкие воришки поистине рыцарской смерти «товарища» Макара, спокойно подошедшего ко мне, чтобы казнить меня, командира, на глазах всего моего отряда?
Это воистину славянское, богатырское мужество моего врага.
Днем цыган ходил на разведку в поселок, откуда мы взяли Оглоблина, и в Олечье.
В сумерки он вернулся и докладывает:
– Частей нигде нет, начальник. Но поселок надо обойти, начальник.
Он мнется. Он чем-то напуган.
Я догадываюсь: дядя Паша Алаверды что-то хочет утаить от меня, что-то, по его мнению, очень неприятное. Но я вынудил его рассказать все. Он сухо отчеканил:
– Медведева увезли.
– Как увезли?
– Приехали и забрали, начальник.
– Увезли? – вновь восклицаю я. Цыган понял мой испуг. Но он не хочет, чтоб мою растерянность заметили. Говорит о другом.
– Обойти надо, начальник. Им оружие роздали. Обойти надо поселок.
Я подавляю свой страх и пробую смеяться над ним.
– Чего ж ты испугался? Полсотни сброда с винтовками.
– Злы больно, ой, злы, начальник, – отрезает он. – Один, сурьезный такой, грозил все. Как, говорит, поймаем, так сначала суставчики будем каждому ломать за Ивана Сергеича – так звали Оглоблина. Вот так, начальник, по отдельному суставчику… хруп, – цыган показал как. Потом отошел и долго заламывал назад свои пальцы с видимой болью, пробуя, как далеко они могут загибаться в обратную сторону.
И люди мои, притихшие вдруг, с тревожным молчанием следят за ним.
Меня тревожат не эти бредни, меня поражает одно – все иностранные газеты вопят о крестьянском восстании в России против большевиков, а большевики, не задумываясь, раздают колхозникам оружие, да еще в тех районах, которые подвержены налетам банд. Как это понять? Иль большевики безумцы? Иль все эти вопли о новой гражданской войне в России не что иное, как бешенство писак?
Мне осталось одно: показать моим людям, что «черт не так страшен, как его малюют».
Иначе весь отряд будет морально скован страхом перед этим «намалеванным чертом».
Я объявляю, что мы сейчас же выступаем на поселок.
Люди покорны, но собираются очень медленно – у каждого видно страшное желание обойти поселок.
Я пробую ободрить их шуткой:
– Мы засветло поужинаем у них, а к темноте Артемий с огневиками согреет их. А то холодно, а у колхозников шубенок нет…
Но эта шутка моя не ободрила их, а напротив, усугубила их молчаливость.
Я сторонник ночных операций. Ночью, а еще лучше в скверную погоду, я ни разу не знал поражений.
Я уж хотел было задержаться до темноты, но внезапно подумал, что люди мои истолкуют это так, будто и я струсил вместе с ними перед сбродом вооруженных мужиков.
И, если они так истолкуют, тогда скверно совсем.
Я прыгаю в седло и кричу:
– Заснули? Живо!..
Поздние сумерки. Но небо белое, и от этого светло. Должно быть, ночью выпадет снег. Порой мне кажется, что уж летят снежинки и изредка холодным уколом обжигают лицо.
Мы едем прямо по дороге, открыто. В ста шагах от поселка из канавы вылезает парень и шагов двадцать бежит нам навстречу. Он в тулупе, под которым у него спрятана винтовка: одной рукой он все время придерживает полу и хочет, чтоб мы не увидели его оружия и приняли за мирного жителя.
Парень озадачен нашим открытым походом.
– Э-ей! – кричит он растерянно.
– Э-ей, – дразнит его кто-то из моих людей. Парню, видимо, было тяжко оттого, что мы едем так открыто и совсем молча. Наш ответный звук обрадовал его.
– Вы не «Черные Жуки»? – вновь орет парень растерянно.
Теперь я открыл, что засада в канаве. Я понимаю их положение – они боятся, что вместо Черных жуков откроют стрельбу по красноармейцам.
Мне нужно выиграть еще пятьдесят – семьдесят шагов, тогда мои люди в одно мгновение рассыплются лавой и я без малейшего урона сомну и уничтожу эту первобытную засаду.
Я кричу парню:
– Дурак, ослеп?
Но в этом и заключалась моя ошибка. Я упустил из виду, что голос мой узнают. Тут же из канавы показалось несколько голов.
– Егорша, – закричали оттуда, – Егорша, они, они…
Парень согнулся и, путаясь в тулупе, помчался назад. Кто-то из моих людей выстрелил в него, но промахнулся. Этот довременный выстрел – самый пагубный выстрел довременный – как бы разбудил мужиков, и одновременно с моей командой из канавы затрещали поразительно дружные и, как всегда на этом расстоянии, безвредные выстрелы.
Однако эти люди – оттого ли, что не расслышали мою команду, или оттого, что «черт» внезапно предстал пред ними во всем «размалеванном ужасе», – столпились, лошади взвивались, визжа, кусая друг друга. Невозможно было понять – от внезапной ли тревоги взвиваются и визжат они, или от ран?
В тех случаях, когда по кавалерии открыта дружная стрельба на довольно широком пространстве, исход один: как можно скорее увести ее из боя.
Галопом мы взяли влево и скрылись за линией построек.
Но и тут, я сам не знаю почему, какое-то общее смятение овладело всеми людьми и парализовало общую волю отряда.
Я не раз испытал себя как бойца. Я никогда не считал чувство страха позором. Пресловутую «храбрость» я называю тупоумием и настоящей храбростью считаю лишь «умение поразить противника с наименьшим риском», – уверенность в бою никогда еще не покидала меня.
Но здесь сам я, испытывая какое-то странное, неведомое чувство, скакал вслед за ними, но я знаю: не чувство страха, а растерянность перед «необыкновенным» противником.
Если бы моим противником был отряд красноармейцев, тогда все было бы иначе с самого начала и я бы разбил его.
Но этот противник обратил меня в бегство лишь тем, что он «необычен».
Подобно льву, я растерялся перед ощетинившимся щенком.
Выстрелы продолжали щелкать, но уже не так густо.
Оглянувшись, я заметил, что там, где нас останавливал парень в тулупе, осталась какая-то темная группа чего-то живого, копошащегося.
Но тогда мне почему-то не пришло в голову, что это остались мои люди, под которыми, вероятно, были убиты лошади.
Об этом обстоятельстве мы и не подумали.
Лишь час спустя все мы сразу вернулись к этому вопросу: «Кто же остался там?»
Вернул нас к этому вопросу случай с монашком в кавказском поясе.
Когда мы остановились, заметили, что монашек как-то необычайно молчалив и неподвижен. Его окружили, и он почувствовав на себе общее внимание, изумленно оглядел нас, но ничего не говорил. Кое-кто слез с лошади. Монашек, видимо, тоже хотел слезть. Он закинул ногу, но внезапно потерял равновесие и грохнулся оземь, вытянув вперед руки.
Когда к нему подошли, он был мертв.
Видимо, он не сказал о своем ранении из-за боязни, что его добьют.
– Кто-то там… на месте, – вскинулся одинокий голос.
Но мы не знали – кто. И даже не знали точно – сколько.
Как-то совсем случайно к полуночи мы остановились в той лесистой пади, где нас разыскал аэроплан.
Мне докладывает цыган. По его голосу я чувствую, что случилось что-то непоправимое.
Он сообщает, что нас догнал один из моих людей. Под ним убили лошадь, и он приехал на лошади Артемия, захватив его шинель.
Я подзываю этого человека. Из-за темноты трудно разглядеть его лицо. Меня поражает его голос – совсем чужой. Мне почему-то кажется, что не могло быть у меня в отряде человека с таким странным, «чужим» голосом.
Человек степенно рассказывает про Артемия.
Оказалось, что при первых выстрелах Артемий спешился и лег за убитой лошадью этого человека. А когда мы ускакали, Артемий сбросил с себя шинель, вскочил, поднял кверху руки и так, без шапки, в одной гимнастерке побежал к канаве, не переставая кричать:
– Родные!.. Родные… Убейте, родные!..
Человек кончил рассказывать. Я говорю ему:
– Ступай.
А он все тем же «чужим», не нашим голосом спрашивает:
– Куда же идти теперь?
Падает снег. В пади тихо, и белые хлопья вьются в воздухе медленно и торжественно. Завтра будет след. Надо немедленно идти к границе и пробиться.
Я твердо знаю, что надо поступить именно так. Но иная мысль родилась у меня – тайно покинуть отряд и остаться в России.
У меня осталось лишь одно желание: спрятавшись, подсмотреть, что делает моя «возлюбленная» со своим новым любовником. Я вспоминаю о пакете с долларами, который дал мне англичанин, и решаюсь: завтра я открыто поведу своих людей на Олечье, приму бой и покину их.
Идет густой снег.
Все так же ровно, неслышно и торжественно.
Цыган подает мне записку, грязную и истрепанную.
Я зажигаю фонарик и смотрю записку.
Все смазано, стерлось. Но по отдельным словам я понял: это осведомительная записка Артемия к Воробьеву.
Но мне все равно. У меня даже нет уж больше злобы на английского морского офицера.
Идет снег. Белой сеткой мельтешит перед глазами и кружит голову.
Внезапно далекий окрик:
– Сто-ой, кто идет?
Все вскочили. Замерли. По-прежнему все тихо.
Через несколько минут выясняется.
Двое моих часовых решили убежать. Они отошли всего шагов на сто, как кто-то чужой окликнул их:
– Сто-ой, кто идет?
Мы поняли, что к нам очень близко подошел отряд.
Эта неожиданность меняет мое решение.
Я отзываю часовых, посылаю цыгана в разведку.
Мы ждем. Проходят томительные минуты. Мы жадно вслушиваемся. Кажется, что ветер вдруг стал очень громко шипеть и мешает нам.
Опять окрик:
– Кто?.. Стой!..
Окрик близок, кажется совсем рядом.
Прибегает запыхавшийся цыган.
– Начальник, во как подполз. Рукой достать, начальник. Рукой достать.
Через пять минут цыган уходит снова уж в другом направлении, и опять бесстрастный окрик:
– Сто-ой, кто идет?
Люди сбились ко мне и растерянно ждут чего-то от меня. Именно от меня, и только от меня.
Мне хочется, чтоб выросли у меня вдруг крылья, большие, бесшумные.
Я готов к чему угодно, но только бы избавиться от этого растерянного ожидания моих людей. Я слезаю с лошади и сажусь прямо на землю.
Внезапно выходит Ананий – адская машина и заявляет, что «пойдет он сам».
Какая-то надежда. Надежда потому, что Ананий, может быть, счастливее дяди Паши Алаверды.
Мы ждем.
Вот секунды, в которые всем кажется, кто-то окликает Анания. Напряжение становится болезненным.
Но проходят тяжелые мгновения, в которые, как всем кажется, Ананию непременно крикнут: «Кто идет?»
Люди вышли из неподвижности.
Кто-то шепчет, кто-то поправляет сумки, готовясь тронуться в ту сторону, куда ушел Ананий.
Я чувствую, что Ананий нашел норку.
Я встаю. Это еще больше оживляет людей.
Внезапно далекий, какой-то испуганный окрик, пронизывающий всю душу вопль.
– Сто-ой!..
Но все ждут Анания. Никто не хочет признать, что и в эту сторону нет прохода.
Словно бы вопль этот – совсем случайный, ничего не означающий.
И все потому, что в те мгновения, в которые все мы ожидали, что Анания окликнут, его не окликнули.
Вернулся Ананий и без звука лег животом прямо на снег, положив голову на руки.
Что-то решающее было в этом его поступке.
Люди вдруг перестали опасаться, задвигались, заговорили и стали спешиваться.
Словно бы все сразу решили, что нечего дальше таиться.
Вскоре запылал костер, потом другой… третий…
Никто не готовился к сопротивлению.
Конец свой они принимают безропотно и покорно, как животные.
Я тихо подзываю цыгана и говорю:
– Натрави Анания на гимназиста. Они все увлекутся, а мы вдвоем прорвемся с томсонами. – И думаю:
«А с тобой покончу потом. Мне не нужен свидетель».
Цыган недоумевающе смотрит на меня. Потом соображает, скверной улыбкой оскаливает рот и отходит. Через минуту он подводит к лежащему Ананию гимназиста-поэта.
Я отхожу к лошади и делаю вид, что хочу расседлать. Я подтягиваю подпругу.
Внезапно встает Ананий и как-то подкатывается ко мне.
– Куда? Ваше благородье? – четко выговаривает он.
Я гляжу на него через плечо и незаметно расстегиваю подпругу, молча показывая ему отстегнутую пряжку ремня.
Он отстраняет меня от седла и с фальшивой готовностью поет:
– Напрасно трудитесь. Приказали бы.
В одно мгновение он расседлал мою лошадь и столкнул с нее седло прямо на землю.
Пушистый снег мгновенно растаял под горячим потником.
Потом рассказывает:
– Вот этак, одноважды, там у себя, в Тамбовьи. Заприметили мы за ним.
Я не знаю, о чем он говорит, но догадываюсь и грубо, вызывающе спрашиваю:
– Ну?
– Вот и ну… Осинку небольшую пригнули к земле, да и петельку ему на шею… и отпустили. Так и подбросило вверх. Ажно волосенками затряс…
Я знаю – на рассвете, только на рассвете, не иначе… красноармейцы пойдут в наступление.
Холодный, белый рассвет. Но наступления все нет и нет. А это парализует и меня и моих людей.
С крутого ската пади я гляжу в бинокль и никак не могу открыть противника. Рядом лежат цыган и Ананий – адская машина. Он неотступно следит за мной.
Поле совсем пустое. Чувство военного любопытства закрадывается во мне: как могли так идеально замаскироваться красноармейцы?
Внезапно слева, шагах в двухстах от нас, точно из-под земли выныривают два всадника.
Одного я узнаю: это джени-китаец, убежавший от нас. Он в той же, в «нашей», одежде и все время смеется.
Меня поражает, что прежняя улыбка, которая не изменяла неподвижности его лица, похожего на маску, исчезла и теперь на лице у него одухотворенность.
Но еще больше меня поразил и напугал второй всадник.
В первое мгновение мне показалось, что это выехал воскресший «товарищ» Макар.
Этот всадник ехал тихо и открыто. Потом остановился, поднял руку с биноклем и стал всматриваться в нашу сторону.
Сидел он совершенно прямо.
На нем была такая же, как на Макаре, длинная шинель, и от этого казалась совсем незыблемой его посадка.
Казалось, что и лошадь под ним тоже внимательно и осмысленно всматривается и что-то раздумывает.
Китаец чуть отъезжает в сторону. Так ему удобнее любоваться красноармейцем.
У меня почему-то неожиданно возникает «заглавие» тому, что я вижу перед собой. Точно бы передо мной картина: белоснежное поле и два всадника.
Я мысленно восклицаю: «Два русских всадника…»
Но тут же вспоминаю, что один из них – китаец, мой вонючий предатель.
Я говорю цыгану:
– Сними китайца.
Цыган стреляет. Китаец падает с лошади и, обеими руками схватив себя за плечо, юлой вертится около красноармейца. Лошадь его испуганно скачет по полю, вскидывая стременами.
Красноармеец нагнулся, вздернул на седло китайца и, посадив его перед собой, неторопливой рысью скрывается от нас.
Цыган вопросительно смотрит на меня.
Я склоняю голову и дую на снег.
Легкие узорные снежинки взлетают вверх и бесследно исчезают.
Примечание автора. Книгу с этими записками мне передал красноармеец В… полка ОДВА.
Больше о судьбе этой банды мне ничего не удалось узнать. Вскоре мне случилось быть в Харбине, и там в одной из французских газет я прочитал статью большого военного специалиста, оценивающего боеспособность Красной Армии с «точки зрения объективной военной доктрины» уже после этой невиданной победы ОДВА.
Ильинское, 1931 г.Исповедь дезертира
Пролог
Прошло уже несколько лет с того дня, когда молодой охотник нашел меня, полузамерзшего, на берегу озера в карельской тайге. Я забрел слишком далеко в поисках охотничьего счастья и не рассчитал сил. Две лайки, запряженные длинными постромками в наскоро изготовленные охотником волокуши, дотащили меня до уютного теплого зимовья. Пока я валялся с высокой температурой, он отпаивал меня отварами из таежных трав, кормил и обихаживал, а когда выздоровел, мы еще неделю вместе ходили в тайгу выслеживать рябчиков и глухарей.
Хозяин зимовья был неразговорчив – видимо, это удел всех тех, кто долгое время живет в одиночестве. Из его немногословных рассказов я знал только, что он не женат и большую часть времени проводит в лесу, собирая сведения о местной фауне по заданию какого-то института. В деньгах охотник, похоже, совсем не нуждался, обходясь тем, что добывал в тайге. Был он, по-видимому, религиозен: в углу избы висели три иконки – Христа Спасителя, Николая Угодника и Матери Божьей. Он показался мне человеком, многое повидавшим, но никаких подробностей его жизни выяснить не удалось. Только когда мой хозяин узнал, что я писатель, он оживился, его обычно суровое лицо немного посветлело. С неожиданным интересом стал расспрашивать меня о литературе, об издательском деле. Мне даже удалось разговорить его на некоторые философские темы, но это к делу не относится.
Вскоре наступил день расставания. Мой спаситель сказал, что завтра собирается по делам на дальний кордон, а мне пора было возвращаться в Москву. Проснулся я рано, но охотника в избе уже не было. Зато на столе обнаружилась толстая тетрадь, с приколотой к ней скрепкой запиской: «Если моя рукопись что-то представляет в литературном смысле, оставляю ее в ваше полное распоряжение».
Вот содержание этой тетради – с минимальной редакторской правкой…
Бой
Нас привезли на крытых грузовиках в воинскую часть, которая располагалась почти в самом центре города, и построили на плацу. Коренастый капитан, сопровождающий новобранцев, куда-то ушел. Его напарник, широкоплечий усатый сержант, прошел вдоль строя, рассматривая нас с явным неодобрением.
Остановился возле конопатого пацана, который тревожно шептался о чем-то с соседом, и, сильно хлопнув его по плечу, с усмешкой сказал:
– Не боись, салага, боев уже не будет.
Действительно, нам еще в военкомате обещали, что в Чечне мы будем только восстанавливать разрушенное. Но откуда тогда доносилась стрельба? Правда, улицы, по которым мы въезжали в город, казалось, жили вполне мирной жизнью. По ним деловито двигались автомобили, велосипедисты, прохожие. И хотя в лицах людей чувствовалась некоторая озабоченность, но страха не было. «Может, где-то идут учения», – успокаивал я себя.
Вернулся капитан, вывел наше подразделение – человек шестьдесят – за пределы части и повел, как он сказал, в восточную часть города. Его по-прежнему сопровождал сержант. Наконец наша пестрая полугражданская команда оказалась на небольшой площади, по которой то и дело сновали вооруженные с ног до головы военные. К нашему капитану подбежал боец и что-то ему сказал.
– Шагом арш! – тут же прогромыхал голос сержанта.
Мы послушно пошли за ним.
Остановили нас перед подъездом с разбитой дверью.
– Справа по одному, шагом арш! – снова прогорланил сержант, и рота втянулась в обшарпанный с выбитыми окнами коридор, где вдоль стен стояло несколько длинных скамеек.
Капитан звучно крикнул:
– Ставрогов!
Из бокового проема вышел невысокий плотного телосложения прапорщик.
– Принимай пополнение.
Прапорщик заглянул в протянутую ему на планшете ведомость, вытер о гимнастерку руки и, примерившись авторучкой, расписался сначала на одном листе, потом на другом. Копию ведомости забрал себе.
Капитан быстро убрал документ в планшет, козырнув, произнес:
– Удачи вам, ребята! – и твердым шагом вышел из здания.
– Подходи, принимай обмундирование! – приказал прапорщик, и к проему каптерки, перегороженному доской, словно прилавком, быстро выстроилась очередь.
Когда одевались, в воздухе висело напряженное молчание. На лицах новобранцев читалась растерянность, в глазах затаился страх. В эти минуты каждый из нас почувствовал: службы как таковой не будет. Скорее всего, нас, необученных и необстрелянных, бросят в кровавую бойню.
Одежду, в которой мы приехали, сложили во дворе в огромную кучу, облили бензином и подожгли. В этом же дворе уже другой капитан в полевой форме стал заниматься с нами строевой подготовкой. После нескольких часов мы уже довольно слаженно маршировали, отбивая на асфальте чеканный шаг.
Когда объявили перекур, к нам подошел один из каптерщиков и сказал по секрету, что занимавшийся с нами капитан чуть ли не герой России, фамилия его Смайкин, и что мы, видимо, попадем в его распоряжение.
Сам же капитан куда-то ушел. Шли томительные минуты. Мы уже успели выкурить по второй, когда он наконец появился вместе с полковником, на вид очень пожилым, но движения его были энергичны, а форма ладно сидела на худощавой фигуре.
– В две шеренги становись! – скомандовал на подходе капитан. – Представляю вам командира вашего полка номер 1039, полковника Птурсова Владлена Семеныча.
Полковник, заложив руки за спину, медленно прошелся вдоль шеренги, внимательно всматриваясь в глаза каждого. В конце строя, полуобернувшись, подозвал к себе капитана, что-то сказал ему, потом покачал головой и снова прошелся вдоль строя. Мне показалось, что он вроде как расстроился, и взгляд его стал печальным. Может быть, заранее сожалел о нашей судьбе?
– Рота, направо! – скомандовал между тем капитан Смайкин, и мы вышли через арку на улицу.
Шли мимо домов и несколько раз видели на крышах наших снайперов, которые не очень-то и прятались. Остановились возле арки между двумя домами. Я не сразу понял, что это была не арка – тогда не до того было, а сейчас четко представляю себе картину: развороченная с торца стена дома открывала длинный просторный коридор, похожий на тоннель. Перегородки между квартирами, видимо, были сломаны. В конце коридора, у выхода, стоял то ли танк, то ли какая-то САУ, но из-за бьющего в глаза солнечного света, самоходное орудие толком разглядеть не удавалось.
Внутри же коридора-тоннеля вдоль стен в наскоро сколоченных стойках тянулись ряды автоматов Калашникова. Рожки к ним, пустые и начиненные боевыми патронами, лежали в объемистых ящиках.
Здесь мы увидели еще двух сержантов. Надо сказать, что я уже перестал различать незнакомых военных. Конечно, они не были похожи друг на друга, но все в конце концов слились в единый образ, в памяти остался лишь «человек-громкоговоритель» в военной форме, горланящий приказы, пересыпая их матом. Сначала я подумал, что новые сержанты просто приставлены охранять склад, но оказалось, что мы будем служить под их началом. Для чего было столько боеприпасов, никто из нас спросить не посмел, но каждый понадеялся, что для учебной стрельбы… Вообще здесь царила полная неразбериха. К тому же офицер опять куда-то исчез. Да, совсем не так представлялась нам армия на гражданке…
Неожиданно совсем рядом раздался такой силы взрыв, что стены дома задрожали, и сверху что-то посыпалось. Мы застыли в испуге, беспомощно оглядываясь друг на друга, не зная, что делать. Бежать? Ложиться? И тут же там, где пробивался свет, началась беспорядочная стрельба, потом нас ослепила яркая вспышка и оглушил выстрел стоявшего в тоннеле орудия.
Когда гул в ушах прошел, я снова услышал выстрелы, затем автоматные очереди. Мы не понимали, почему нас не уводят куда-нибудь в безопасное место, толкались, как телята в стойле. На наши вопросы – что происходит? – только жестко отвечали: «Ждем распоряжений». Если кто-то выходил за пределы бокового пролома, сержант, зверея, кричал:
– Ты куда, мать твою? Назад!
Слава Богу, вернулся капитан Смайкин. Его спокойное лицо вселило в меня уверенность, что все закончится благополучно. Но капитан почему-то медлил с распоряжениями.
Танк продолжал стрелять с четкой периодичностью, и мы научились вовремя затыкать уши. Со стен сыпалась штукатурка. Вскоре из-за самоходки, пригибаясь, выбралось несколько запыхавшихся военных в бронежилетах и касках. Оказавшись в безопасном месте, они устало опустили оружие, потом, видимо отдышавшись, вышли в тыловой двор и закурили.
Офицер с вымазанным маскировочной краской лицом, отдуваясь, снял с ремня флягу, залпом выпил несколько глотков и, подойдя к капитану, сказал:
– Ну что, Смайкин, давай свое пополнение, у нас потери.
– Какое же это пополнение? Их еще стрелять научить нужно.
– Научатся!
Но капитан стоял на своем:
– Не дело это, товарищ комбат, из штаба сообщили, что сейчас пришлют настоящее подкрепление…
– Разговорчики, капитан! – рявкнул комбат, потом, уже потише, добавил: – Некогда подтягивать резервы, видишь, как внезапно ударили, никто и не ожидал. Словно из-под земли выросли…
К Смайкину подбежал посыльный, о чем-то доложил. Капитан подозвал к себе сержантов, бросил им несколько слов, после чего один из них, краснея лицом от натуги, прокричал:
– Бойцы, слушай мою команду! Оружие разбирай! Будем выполнять боевую задачу!
Началось настоящее столпотворение. Ребята спешно расхватывали автоматы и боеприпасы, куда-то отбегали.
– Рожков берите кто сколько унесет, да живее давайте, живее! – командовал уже другой сержант.
Меня сковал страх. Я с детства был достаточно робким. И если некоторые из пацанов мечтали о ратных подвигах, то я уж точно не хотел участвовать в военных действиях. Кроме того, понимал, что мы к ним не готовы. Обидно было еще оттого, что в Москве нас уверяли: война в Чечне закончилась и больше не возобновится. И вот она, совсем рядом… Я могу погибнуть в первом же бою, еще ничего не успев в этой жизни. Даже с девушкой переспать… А ведь мечтал о любви… О том, что встречу свою единственную… Но самое главное – мама. Она не выдержит, если со мной что-то случится, ведь, кроме меня, у нее никого нет.
Все эти мысли теснились у меня в голове, а я стоял как истукан с пустыми руками возле ящика, в котором лежали магазины с патронами. Рядом уже почти никого не было.
– Эй, тебя что, не касается? – услышал я грубый окрик сержанта. – А ну бери автомат! – с этими словами он сам швырнул мне оружие.
Я едва поймал его и побежал за новобранцами.
– А патроны? Ты че, соплями будешь стрелять? – снова долбануло мне в ухо. – Привыкли, понимаешь, у маменьки под юбкой греться. Тут вас быстро научат Родину любить! Быстро ищи полный рожок и за мной!
Я копался в ящике с рожками и никак не мог найти полного. Сержант все еще крутился где-то рядом, наверное, искал в другом ящике, я боялся на него посмотреть. Его окрикнул второй сержант.
– Пахом, капитан тебя за помидоры подвесит, ты че здесь возишься?
– Да вот придурок попался, никак рожок не найдет! – и уже обращаясь ко мне: – Ты, робот недоделанный! Через минуту чтоб был у танка!
И вдруг там, где стоял танк, раздался оглушительный взрыв, грозную машину охватило пламенем. Ближняя стрельба вначале захлебнулась, потом на мгновенье возобновилась и смолкла вновь. Пламя заполнило всю дальнюю часть коридора, раздались истошные крики. Опомнившись, я увидел у себя в руках рожок с патронами, присоединил его к автомату, как учили на уроках начальной военной подготовки, побежал было к танку, но понял, что через огонь не прорваться. Выход из тоннеля был перекрыт. Решил найти путь к своим через тыловой двор, свернул за угол, потом за другой, пробежал улицей, еще повернул – везде тихо. Куда подевались горожане? Выскочил на площадь, похожую на ту, где мы занимались строевой, – она была забита военными: одни стояли в ровно выстроенных рядах, другие просто толпились, третьи озабоченно сновали взад-вперед. Меня остановил какой-то прапорщик, сурово спросил:
– Кого потерял?
– Полк 1039, наш начальник Смайкин, капитан…
– Тут тебе не гражданка, здесь командиры, а не начальники, – прапорщик окинул меня с ног до головы насмешливым взглядом, показал на подъезд стоящего недалеко дома: – Смайкин там.
Я нерешительно пересек площадь, вошел внутрь здания. В подъезде было тихо, лишь с верхних пролетов лестницы раздавался неясный гул голосов.
Прислушался, стараясь различить голос капитана Смайкина, но вместо этого вдруг отчетливо услышал, как кто-то сказал:
– Смайкин, ну куда ты в самое пекло? Они и без тебя продержатся. Передали по связи, наши уже подтаскивают технику.
– Хрена лысого они продержатся! Там половина призывников необученных. Ты что же, предлагаешь мне бросить этих салаг?
Вот тут-то, видимо, и родилась в моей голове еще неосознанная мысль о побеге. Подъезд был сквозной, и я на цыпочках, стараясь не шуметь, побежал к запасному выходу. Дверь поддалась не сразу, но все же, хоть и со скрипом, открылась. В лицо пахнуло весенним ветерком, и я увидел небольшой пустырь с редкими, уже зеленеющими деревьями, а за ним, в отдалении, горы. Справа и слева к пустырю подступали дома, в основном пятиэтажки. Прижимаясь к стенам домов, я стал уходить в неизвестность по безлюдной улице… Но с каждым шагом приходило понимание: это называется дезертирством. Тут же начал искать оправдание: ведь присягу я пока не принимал. Значит, мой побег нельзя назвать изменой. Только куда податься? Вспомнил деревню в Тульской области, где на лесном кладбище похоронен отец. Может, туда, в его дом? Он и сейчас пустует. Буду пробираться где пехом, где на попутках, все равно, лишь бы подальше отсюда.
Потом сообщу как-нибудь матери в Москву, она поймет. А если меня поймают и расстреляют за дезертирство по законам военного времени? И плевать им на то, что присягу не принимал? Хотя какое военное время? Россия ни с кем не воюет. Мысли путались в голове. Я толком не представлял, какие наказания предусмотрены дезертирам в современной армии, но чем дальше уходил, тем страшнее мне становилось. Начал осознавать, что меня станут искать и дома, и в отцовской деревне, и обязательно разыщут. Значит, нечего и думать о родных местах. Уходить надо в горы, благо, они рядом.
Мысль о горах меня окрылила, страх улетучился, но ему на смену пришло другое чувство – чувство стыда. Разве так воспитывала меня мама? И разве в своих мальчишеских мечтах я видел себя дезертиром? Но и это чувство поблекло, когда вспомнил подбитый танк и горящих в нем заживо ребят.
Может быть, со временем, они и стали бы героями, если б кто-то не распорядился их жизнями так бездарно и жестоко…
Беглец
Я благополучно пробежал уже целый квартал, петляя по дворам, где была меньше вероятность нарваться на военных. Неожиданно в одном из дворов увидел развешенные после стирки вещи: серый, толстой вязки свитер, потертые джинсы, постельное белье. Сорвав с веревки одежду, стал подыскивать место, где бы можно было переодеться, и вскоре нырнул в глухой, пропахший сыростью тупичок, куда, видимо, сваливали мусор.
Прижавшись к глухой стене дома, снял с себя военную форму, натянул оказавшиеся почти впору свитер и джинсы. Обмундирование скомкал, завернул в валявшуюся на земле газету и бросил в кучу мусора. Туда же отправил и автомат, завалив его каким-то хламом. Решил, что гражданский человек с оружием может вызвать лишние подозрения.
Вдруг рядом послышалось какое-то шуршание. В испуге затаил дыхание. Тишина. Потом опять непонятный звук, и что-то зашевелилось под газетами. Присмотревшись, увидел крысиную морду. Два злых глаза, как буравчики, уставились на меня. Поначалу отлегло от сердца, но неожиданно сам ощутил себя такой же крысой. Показалось даже, что мое тело покрылось короткой и серой шерстью. Ощущение было столь сильным, что не удержался, посмотрел на руки – нет, обычные пальцы, а не мерзкие крысиные коготки. Что же касается шерсти – вот уйду скитаться по горам, может, и обрасту, превращусь в снежного человека… Все лучше, чем в крысу.
Постепенно взял себя в руки. Надо было уходить, только куда? В Тульской области наверняка рано или поздно поймают – отдадут под трибунал, отправят в дисбат, а мне туда совсем не хотелось. Об этих учреждениях я успел за свою жизнь наслушаться… Ладно, сначала надо уйти подальше от этих мест. По дороге что-нибудь придумаю.
И вдруг меня осенило: надо двигаться на юг, в Армению: там у меня живет близкий друг Боря, который восстанавливал Степанакерт, женился на армянке, да так и остался в тех местах. Боря был из тех обстоятельных и надежных людей, на которых посмотришь – и сразу становится спокойнее. Он не выдаст, приютит, подскажет, как выкарабкаться из моей ситуации. Может быть, даже поможет уйти за границу… Армения, правда, отсюда за сотни километров. Но ничего, главное – была бы цель, к которой надо стремиться.
Я вышел во двор уже как гражданский человек. Единственное, что не давало покоя – солдатские кирзовые сапоги, на голенища которых я так и не сумел натянуть узкие брючины джинсов. Пересек широкую улицу, и вновь увидел дальние горы. Перед самым призывом я закончил геодезический техникум, поэтому хорошо знал географию и умел неплохо ориентироваться на местности. Помнил и карту Кавказа. Судя по расположению солнца, которое уже клонилось к западу, горы располагались как раз на юге. Где-то далеко-далеко за ними Армения, и мне надо туда…
В городе встретились несколько местных жителей. Смотрел на них боязливо, но им было не до меня: слишком озабочены своими проблемами. Пока не стемнело, надо срочно выбраться из города. Опять пришлось пробираться дворами – так было намного безопаснее, можно быстро скрыться в каком-нибудь подъезде. Стараясь не оглядываться, ускорил шаг. И вдруг наткнулся на большой мусорный бак, похожий на те, что стоят в наших московских дворах. Возле него в куче мусора валялся огромный мешок, наполненный изношенной обувью – большая часть ее вывалилась наружу. Кеды, ботинки и прочие обноски уже совершенно ни на что не годились. Однако я все же покопался в мешке и обнаружил в нем пару еще вполне сносных кроссовок.
Прихватив кроссовки, выбежал на маленькую пустынную площадь, окруженную жилыми домами. Было такое чувство, что за мной наблюдают из всех окон. Очень уж подозрительный был у меня вид: на ногах кирзухи, а в руках – кроссовки. Вдалеке опять послышались автоматные очереди…
Меня так никто и не окликнул, до окраины города удалось добраться относительно спокойно.
За разбитой шоссейкой в зарослях прошлогоднего бурьяна увидел несколько старых покосившихся сараев. Путь к ним преграждали заборы из кое-как скрученной проволоки, каких-то железяк и досок. Это были огороды – подсобное хозяйство горожан. Мне удалось пробраться к одному из сараев и сорвать замок с двери. Наконец-то я нашел временное убежище! Первое, что сделал, – уселся на лежавший у стены грязный тюфяк, снял сапоги, которые успели изрядно натереть ноги, и примерил кроссовки. Повезло – они оказались в самый раз.
Понимая, что передвигаться безопаснее всего ночью, решил уйти отсюда, как только сядет солнце. Выйдя в потемках из сарая, стал красться сначала картофельными огородами, а потом открытыми холмами. Меня пугал каждый шорох, я вздрагивал даже от вечерней возни птиц в кустарнике. Но были еще и другие звуки: отдаленный гул канонады, автоматические и пулеметные очереди. Стрельба то затихала, то снова усиливалась, иногда что-то гулко ухало, и земля содрогалась.
Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем передо мной встал покрытый редколесьем склон. Подъем по нему практически лишил меня сил. Ночь выдалась светлая, звездная, и я вовремя разглядел дорогу, идущую почти по краю леса. Вдруг совсем рядом, буквально в нескольких метрах, раздались звуки шагов и разговор на непонятном языке. Я замер, слыша стук своего сердца. Мимо протопали трое мужчин с автоматами. Они не заметили меня и ушли, что-то бурно обсуждая. Тогда внезапно навалилась такая усталость, что ноги сами собой стали подкашиваться. Отойдя подальше от дороги, я прилег, свернулся калачиком в толстых корнях какого-то мощного дерева и тут же уснул.
Разбудили меня голоса утренних птиц и холод. Первым делом я принялся растирать затекшую шею: подушкой мне служил вывернувшийся из-под земли толстый корень. Потом размялся, сделав несколько упражнений. Сразу стало легче. И эта легкость вместе с весенним пробуждением природы вдруг создали ощущение беспричинной радости жизни. Но оно продолжалось лишь мгновение: я вспомнил, в каком дерьме оказался, и сразу сник. Во рту чувствовалась сухость, страшно хотелось пить. Увидев на широких листьях щедро выпавшую росу, принялся стряхивать ее в ладонь и слизывать, но жажду она утоляла слабо. К тому же теперь куда больше мучили вновь охватившие сомнения – что делать дальше? Ужас, охвативший меня вчера, прошел. Может, вернуться? Нет, меня убьют, это я почувствовал каждой своей клеточкой, как только началась заваруха… А ведь в Москве мне обещали мирную службу… Снова перед глазами встало лицо военкома и того сержанта, который велел брать оружие и рожков, кто сколько сможет. Под лопаткой заныло: надо же – так купиться на гнусную ложь военкома. Чтоб ты, сука, провалился! А с другой стороны, может быть, ему приказали сверху? Но он все равно сволочь, потому что врет осознанно. Знает, что обманывает нас и за это не стесняется получать деньги. Но об этом размышлять поздно, теперь нужно думать о том, как выжить. Жрать-то как хочется! Уже и забыл, когда ел в последний раз. Вскоре набрел на цветущий куст дикого шиповника и стал с жадностью есть розовые лепестки.
К вечеру еще дальше углубился в отроги. Прислушиваясь к тишине, шел теперь открыто, в полный рост. Бояться здесь, похоже, было некого – кругом простирался дикий лес. По наивности все еще полагал, что мне легко удастся пересечь горы, ущелья, бурные реки, пусть даже буду идти до самой зимы – времени много. Но очередной подъем в гору опять стал быстро отнимать силы.
А дальше, после короткого отдыха, – пологий участок и снова подъем. Все идешь и идешь, продираясь через кусты и обходя валежник. А что дальше? «Ладно, – думал я, – в Грузии будет легче, правда, там тоже есть боевики, которые могут принять меня за наемника, хотя какой из меня наемник? Но грузины, как и мы, христиане, они добрые, они поймут».
Лес и горы казались бесконечными. Мысли о еде донимали все больше, хорошо, что у меня был опыт длительного голодания. Еще в техникуме, увлекшись на какое-то время йогой, мы с однокурсниками соревновались в умении несколько дней обходиться без пищи. Занимались по книге, которую притащил в класс Игорек Соловьев, и, как ни странно, всего за три месяца многого добились. Но потом Игорек ушел в армию, и на этом наше увлечение йогой закончилось.
Размышляя о прошлом, время от времени бросал в рот какой-нибудь цветочек или едва наклюнувшуюся зеленую ягодку, но от них во рту только противно вязало. После каждого очередного подъема пот катился градом. Ближе к полуночи наломал лапника и, улегшись на него, мгновенно заснул.
Проснулся, когда на небе еще светила утренняя звезда. «Morning star, – почему-то пришло в голову. – Кажется, есть такая английская газета». Я сориентировался по розовато отблескивающей точке и пошел дальше, теперь под уклон горы. Легче стало ненамного, потому что приходилось идти то через бурелом, то через чапыжник. К концу очередного дня силы были на исходе, но накопившаяся внутри злость все еще толкала вперед. «Суки, козлы, – стонал я в отчаянье, – все воюют, воюют, мало им Афгана, Карабаха, Абхазии. Теперь вот Чечня… Почему мы должны защищать их, этих горцев? Они никогда не поймут нас…» Остановившись на краю заросшего кустарником распадка, безвольно опустился на землю. Вдруг послышалось приглушенное журчание воды. Все еще не веря, я поднялся и на четвереньках спустился ниже – там, внизу, бежал заваленный камнями ручей. Вода! С каким наслаждением глоталась эта прозрачная обжигающая влага, как приятно она холодила разгоряченное тело! Горло становилось бесчувственным. Не думая о том, что запросто могу простудиться, жадно, большими глотками продолжал пить.
Долго не мог сдвинуться с места – все никак не мог напиться. Наконец побрел дальше. Некоторое время земля под ногами была довольно ровной. Но скоро пошли большие валуны, приходилось часто перепрыгивать с одного на другой, рискуя угодить в пока еще бурный, но начинающий сужаться поток. Ноги плохо слушались. Один раз я неудачно оступился и упал на спину, сильно разбив при этом локоть. Теперь он невыносимо ныл. Я поднимался к истоку этого ручья, который находился, видимо, на горе с проплешиной на вершине – она напоминала голову великана.
Солнце взошло уже высоко над зелеными горами слева от меня. Значит, шел верно – строго на юг. Может быть, за вершиной уже граница с Грузией? Нет, не обольщайся. Карта Кавказа снова возникла перед глазами, и я трезво оценил, что до Грузии еще идти не менее тридцати, а то и пятидесяти километров.
Взобравшись на «череп великана», я сделал очередной привал. Огляделся – кругом сплошные лесистые горы. Город скрылся за ними. Сердце снова дрогнуло: «Бедная моя мама! Выберусь ли когда-нибудь отсюда и увижу ли тебя?» Противоположный склон горы был гораздо круче. Спускался распадком. Галечник под ногами то и дело осыпался – приходилось, теряя равновесие, поминутно хвататься за ветки подвернувшегося кустарника. Внизу был все тот же сосновый лес, а потом пошел низкорослый, корявый березняк, и я наткнулся на еще один ручей. Он тек откуда-то сбоку, наперерез моему пути и, видно, проделал немалый путь, петляя между холмов и гор, покрытых сплошным лесом.
Берегом ручья было бы идти легче, но он уходил на восток. Поэтому я решил пересечь его и снова преодолевать многочисленные отроги гор, встающие на пути. К концу очередного дня, похоже, прошел немало километров. На ночевку устроился только тогда, когда взобрался на скалистую вершину, где, на мой взгляд, было безопаснее. Гора укрывала и от хищников, о которых я раньше не задумывался, и от случайных людей.
Вечером на вершине дул холодный ветер. Устроился на ночлег, выбрав уютную нишу в скале с подветренной стороны. Натаскал хвойных веток, устроил себе довольно сносное логово и мгновенно уснул.
Под утро заморосил мелкий дождь, я слышал его сквозь сон, но, несмотря на сырость и холод, просыпаться не хотелось. Однако вскоре окончательно замерз и с трудом поднялся, сразу вернувшись в реальную жизнь. Рассвет еще не наступил, но я понимал, что надо двигаться, чтобы не замерзнуть окончательно. Пришлось делать приседания и бегать на месте, размахивая руками. Понемногу стал приходить в себя.
Как только рассвет чуть проник под кроны деревьев, пошел дальше. После дождя идти было еще труднее, и я сожалел, что еще немного не выждал. Зато в полдень солнце раскочегарило не на шутку. Начало мая – и такая жара! На небе – ни облачка. Прилег и сразу вырубился. Сколько спал, не знаю – привычки носить часы у меня тогда еще не было, а потом я считал, что в армии они ни к чему – за меня все решат командиры. Спал, как показалось, всего одно мгновенье, а проснувшись, некоторое время раздумывал – полежать еще или идти дальше. Однако голод уснуть не дал, и я снова пытался утолить его какими-то незнакомыми мне травами и молодыми побегами багульника. Это не очень удавалось, есть по-прежнему хотелось ужасно. «Нужно идти дальше, здесь ничего не высидишь, – пришла в голову неизбежная мысль. – И придется искать человеческое жилье, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. Или выпросить, или украсть…».
Еще издали я заметил горную дорогу, которая вилась серпантином по склонам, и с надеждой, что цель близка, начал пробираться туда. Временами то лес, то горные отроги закрывали от меня серпантин, но всякий раз, забираясь на очередную высотку, я с радостью обнаруживал, что он никуда не исчез и медленно приближается.
Когда был преодолен очередной подъем, я увидел довольно широкую, пыльно-каменистую, но достаточно ровную дорогу. Здесь спокойно могли разъехаться две машины. Долго я не решался выйти на нее, но все же, набравшись смелости, пересек открытое пространство и пошел чуть в стороне вдоль проселка.
От голода мутило, голова стала тяжелая. Снова очень захотелось пить. К счастью, опять попался ручей. Совсем небольшой, ныряющий в широкую трубу, проложенную под дорогой. Я жадно напился и, раздевшись по пояс, обмылся. Идти стало гораздо легче. Мне по-прежнему никто не встречался, дорога была пустынна…
Ули
В пути меня прикрывал лес, и я, похоже, совсем расслабился, давно не встречая людей на пути. Шел уже не так осторожно, треща попадавшимися под ноги сучьями, шумно раздвигая ветки. И слишком поздно увидел в просвете между деревьев человеческие силуэты. До них было не меньше пятидесяти метров, но и они заметили меня.
Двое рванули в мою сторону. Я помчался вверх по пологому косогору и метров через двести наткнулся на внезапно возникшую преграду из скального обнажения. Стал судорожно карабкаться по осклизлым камням, надеясь скрыться за козырьком. Но как только оказался наверху, прямо передо мной возникла улыбающаяся бородатая морда. Горец что-то сказал, а потом сильный удар поверг меня на землю. Не знаю, сколько я провалялся в шоке, но когда, преодолевая ужасную боль, разлепил наконец глаза, то увидел какие-то фигуры и услышал непонятную речь, а потом хриплый многоголосый смех. Постепенно силуэты стали отчетливее. Надо мной склонялись бородатые кавказцы, одетые в камуфляжную форму. Почувствовал что-то горячее, текшее по подбородку, вытер рукой и увидел кровь. Потом кто-то сказал по-русски: «Ну что ржете, жеребцы? Избили мальца и довольны!» Толпа вокруг меня раздвинулась, и тот же голос сказал: «Чего разлегся, вставай!» Превозмогая жуткую боль, стал подниматься. На меня с интересом смотрел человек с обросшим щетиной худощавым лицом, крючковатым носом и подвижными, пронзительными глазами.
– Ведите его в лагерь, – сказал он.
Двое обыскали меня и, подталкивая в спину дулами автоматов, повели по лесистому склону. Кровь из носа шла не переставая, и я на ходу вытирал ее рукавом свитера.
Скоро увидел в овражке костер и сидящих возле него людей. Большая половина из них была одета в обычную гражданскую одежду: в джинсу, спортивные костюмы, кожаные куртки; многие были обуты в кроссовки. Между тем в поведении всех этих людей чувствовалась определенная дисциплина.
Мое появление сразу привлекло внимание.
– Стой здесь! – сказал старший, схватив меня за плечо. – Ты кто такой?
Он сверлил меня своими черными глазами.
– Убежал из российской армии, – сказал я.
– Где была твоя часть? – спросил он отрывисто.
– Там за горами какой-то город. Даже не знаю, как называется. Убежал в первый же день, как нас только привезли.
– Да что с ним разгавариват, – раздалась из сидящей поодаль группы ломанная русская речь. – Отрезать ему башка, и дела конца.
Я страшно испугался. Для этих типов человеческая жизнь, видимо, ничего не стоила. Увидев мое состояние, люди-животные снова захохотали. Человек с крючковатым носом поднял руку, и голоса затихли.
– Где конкретно тот город? По карте показать можешь? – снова спросил главарь.
– Я не знаю. Бежал сначала на запад, а потом на юг в горы. По солнцу ориентировался.
– Похоже, он на Грозном быль, – снова послышался голос.
– А куда бежал?
– В Армению. У меня там друг. Не хотелось погибать ни за что. В военкомате обещали, что буду служить в нормальной части! Понимаете, меня обманули…
– Трус, – послышался совсем рядом женский голос.
Невольно бросил туда взгляд.
Одна из неподвижно сидящих у костра фигур зашевелилась, и ко мне повернулась девушка с тонкими правильными чертами лица. Волосы ее были убраны под косынку защитного цвета.
– Своих бросил, – жестко добавила красавица.
Все молчали, ожидая, что женщина скажет дальше, но она замолчала и стала копошить веткой угли.
– Ладно, Ули, отвезешь его в штаб к Хасану. Там разберутся, что с ним делать. Может, он нам еще послужит.
– А зачем в горах нужны трусы? – сказала женщина. – Чтобы из-за такого, как он, погибло много джигитов?
– Не обсуждать приказания! – грозно прикрикнул на нее кривоносый.
До вечера меня караулили двое, разрешив прилечь у толстых корней огромного вяза. Даже принесли еду – половину лепешки, которую я с жадностью съел, запивая водой из кружки. Когда стало смеркаться, послышался звук мотора, и сразу большая группа боевиков стала подниматься с земли, отряхиваться, забрасывать за плечи автоматы. Лесные люди, и среди них эта женщина, потянулись к дороге, на которой стоял ПАЗик – автобус, похожий на те, которые обслуживают похороны.
Мужчины на ходу разговаривали, дружески похлопывали друг друга по плечам. Если бы не бряцающее за плечами оружие, да не угрюмые типы, что подталкивали меня своими страшными автоматами, можно было подумать, что возвращаются с пикника спортсмены.
– Гирь! – прикрикнул сзади один из конвойных и больно ударил меня прикладом в спину, когда я остановился, чтобы пропустить проталкивающихся в салон боевиков.
За спиной послышался знакомый мне уже женский голос. Она сказала что-то на местном наречии, и мои конвойные заржали, перемежая свой смех восклицаниями, из которых понял только то, что женщину зовут Ули. Она вплотную за мной протискивалась в автобус.
– Камон, бейби! – она кивнула красиво очерченным подбородком и посмотрела на меня холодными, голубовато-серыми глазами.
Когда я поднялся на площадку, Ули скомандовала, показывая на свободное сидение напротив входной двери:
– Туда садись.
В ее речи чувствовался прибалтийский акцент. Пододвинув меня к занавешенному окну, она села рядом и поставила между стройных ног снайперскую винтовку.
– На, вытрись, все лицо в крови, – и Ули бросила мне на колени белоснежный носовой платок. Я принялся оттирать с лица запекшуюся кровь.
В салоне приглушенно переговаривались, крепко пахло сигаретным дымом. Надо мной тускло светил единственный дежурный фонарь. Скорее всего, на виду меня усадили специально, чтобы было хорошо видно. Да и что я мог предпринять, находясь среди такой толпы головорезов?
Наконец автобус дернулся и затрясся по ухабистой дороге.
Ули, видимо, почувствовала мой взгляд, который я не отводил от ее крепких бедер (смотреть на угрюмых горцев я попросту боялся). А может быть, на какое-то время просто захотела почувствовать себя настоящей женщиной? Она развязала косынку, и светлые вьющиеся волосы рассыпались золотистым водопадом по ее плечам. Мне показалось, что в этот момент в салоне голоса заметно притихли. Наверное, все мужчины уставились на нее. Но потом привычный гул голосов возобновился.
Не в силах удержать свое любопытство, я кинул взгляд на ее безупречное лицо. Ули покосилась на меня и улыбнулась краешком губ. Я отвел глаза, делая вид, что осматриваюсь, и тут же получил болезненный толчок локтем в бок:
– Не оглядывайся, – прошипела она.
Однако я успел увидеть, что проход автобуса пуст, а сидения все заняты. Сидевшие на них боевики общались друг с другом, не обращая на нас никакого внимания.
Затем Ули расстегнула пошире ворот, как будто нарочно показывая кусок своего нежного тела выше груди. Но я уже боялся смотреть на нее, понимая, что с этой девушкой шутки плохи.
– Ты что, маменькин сыночек? – она слегка повернула голову.
Я робко поднял на нее взгляд, и показалось, что ее глаза будто бы немного потеплели.
Пожал плечами и одновременно замотал головой, робея перед ней.
– Нет, почему, – сказал я, – нормальный парень, только не хочу воевать.
Она замолчала.
– Ты у матери один? – спросила она.
– Да, а откуда вы знаете?
– А девушка тебя ждет?
– Да, – сказал я, хотя был далеко не уверен.
– И я ждала своего, да он не вернулся, – сказала она задумчиво.
– А что со мной будет дальше? – спросил я, с надеждой глядя на Ули.
– Ничего хорошего. Они вас, русских, просто так не отпускают. Скорее всего, потребуют за тебя выкуп, много денег. Но твоя мать миллионов собрать не сможет и тогда тебе будет кердык.
– А что такое кердык?
– Да ты чего, парень? Ты где жил-то? – она взглянула на меня с презрительным удивлением.
– В Москве.
– Там все такие наивные?
Она опять замолчала.
Я испугался. Снова подумал о маме. Ведь если со мной что-то случится, она не переживет.
– Ули, – жалобно протянул, и в это время она удивленно посмотрела на меня, будто спрашивая, откуда знаю ее имя, – попросите за меня, скажите, что я ни в чем не виноват.
Она снова улыбнулась краешком губ, но теперь с явным презрением. Промолчала, явно что-то обдумывая. Пальцы, сжимающие винтовку, нервно вздрагивали. Я подумал: «Сколько мы уже едем? Несколько минут или несколько часов?»
Наконец она сказала:
– Почему вы все, москвичи, боитесь погибнуть, как мужчины?
Я не знал, что ответить, да она, видимо, и не ждала. Автобус натужно зарычал и медленно пополз в гору. За отогнувшейся занавеской я увидел мелькающие внизу редкие огоньки какой-то деревеньки. Из-за створки плохо закрытых дверей были видны мелькающие в лунном свете белые стены низких домов.
– Внизу обрыв, – сказала она неожиданно и очень тихо, так, что я не сразу понял. – Если отожмешь эту дверь, сумеешь выскочить. У тебя есть шанс.
Я со страхом посмотрел на нее.
– Возьми вот это, – с этими словами Ули вложила мне в руки холодный кусок металла.
С ужасом обнаружил, что держу гладкую, как яйцо, новенькую зеленую гранату.
Это было как во сне. Переводя взгляд с гранаты на ее двусмысленную улыбку, снова глядел на гранату и соображал, что нужно делать. Но продолжал сидеть, не в состоянии шевельнуться. А Ули косилась холодно и надменно, явно наслаждаясь моей беспомощностью. Вдруг меня как будто кто-то толкнул.
Все произошло мгновенно. Словно во сне я выдернул чеку, каким-то образом перемахнул через колени Ули, с криком «ложись» высоко поднял над головой гранату, тут же швырнул ее в задние ряды и кинулся плечом в створку двери, которая под моим напором открылась. Кубарем покатился под косогор, ожидая оглушительного взрыва, но автобус продолжал натужно рычать, продвигаясь вверх. Почему он сразу не остановился, я так и не понял. То ли у него были недостаточно надежные тормоза для остановки на горе, а может быть, водитель не сразу понял, что произошло? А граната? Почему она не разорвалась? Может быть, это был всего-навсего муляж, и Ули просто хотела посмеяться надо мной? Все это навсегда осталось для меня загадкой.
В тот миг я думал только о спасении. Кубарем скатившись по косогору и не ощущая ударов о камни и стволы деревьев, ринулся через оказавшуюся внизу дорогу к ближайшему дому, каким-то чудом перемахнул через довольно высокий каменный забор и, оказавшись на просторном дворе, хотел было спрятаться здесь, но потом метнулся на задворки, ломанулся через виноградник и скатился к бежавшему в низине ручью. Перебравшись через него, побежал к другой цепочке домов, стоявших под склоном горы. Выбрав самый ветхий домишко, забрался во двор и спрятался в безхозном покосившемся сарайчике, зарывшись в небольшой слой старого прелого сена. Я ждал, что вот-вот послышатся голоса разыскивающих меня людей, но кругом было тихо. Конечно, надо было сразу уходить дальше от селения, но тогда этот клочок сена в заброшенном сарае казался мне раем, и я мгновенно заснул.
Спал, по-видимому, недолго. Когда проснулся, еще виднелись звезды через дырявую крышу. Прислушался – по-прежнему тихо. Неужели ушел? Я не верил своему счастью. Подумал, что в автобусе ехали необученные боевики, которые, должно быть, еще не были достаточно опытны, чтобы обезвредить меня с гранатой. Как я вырвался? Невероятно! Выглянув из сарая и не услышав ничего, кроме сверчков, стал медленно, пригибаясь и стараясь не производить шума, пробираться через заброшенный виноградник в горы, которые ярко освещала предутренняя луна. Своим пронизывающим светом в ту ночь она явно не была мне помощницей. Но, к счастью, я никого не встретил, и вскоре попал под укрытие тенистой рощи.
Снова один… Весь следующий день страх гнал меня дальше в горы, но я старался придерживаться южного направления. Теперь к сильной усталости прибавилась ноющая боль во всем теле – болели ушибы, полученные при падении. Вечером, когда уже почти стемнело, набрел еще на какое-то селение и решил, что нужно, выбрав удобную позицию, оттуда понаблюдать за приземистыми домишками, крытыми на разный лад. Голод торопил, толкал на опрометчивый поступок, но я заставлял себя не спешить. Ведь в поселке могли быть военные или боевики, да и гражданские могли меня выдать. К тому же я не знал, чей это поселок – чеченский или уже грузинский. Все же пересилил себя и стал обходить поселение сверху, поднявшись по склону горы. Этот переход занял часа два, но зато я был спокоен за свою безопасность. Ночь провел как дикий зверь, сделав себе логово в кустарнике на краю распадка. Утром, едва протерев глаза, подполз к растущему над обрывом кустарнику, стал вглядываться из-за него во дворы селения и тут же увидел группу бородатых людей с автоматами, выходящих из дома на улицу.
Весь следующий день снова шел по горам. Шел медленно, часто останавливался и отклонялся от дороги в поисках воды и хоть какой-нибудь еды, но в весеннем цветущем лесу были одни растения. В какой-то момент осенило, что в доставшихся мне джинсах могут заваляться какие-нибудь питательные крошки, но, тщательно проверив все карманы, ничего в них не нашел – неудивительно, одежду же стирали. Может быть, их носил какой-нибудь чеченец, который сейчас воюет с нашими, а, может, они были у него единственными, и он из-за них остался дома. Не без штанов же ему воевать! Тогда получается, что я тоже внес какой-то вклад в эту войну или что там у них стряслось – революция?! Эти и другие, полубредовые, глупые мысли постоянно лезли мне в голову, но я их не прогонял. Они отвлекали меня от голода. Я представлял, что рядом со мной идет друг, которому объяснял свои переживания и охотно делился с ним всем, что приходило на ум, и даже просил у него совета. «Вот ты, говоришь, нужно было остаться, – обращался я к нему. – А зачем? Чтобы меня убили? Там скоро начнется заваруха, если уже не началась, – кто потом обо мне вспомнит?» Примерно в таких рассуждениях провел остаток третьего дня своего пути. Наконец вечером мне повезло, я нашел пластиковую бутылку и набрал в нее воды. Целых полтора литра! Теперь будет легче. Но голод! Чтобы как-то приглушить его, вместе с другими растениями жевал листья берез. Я экспериментировал с этой фито-пищей, но некоторые травы были настолько горькие, что потом приходилось долго отплевываться.
Блокпост
Я уже сбился со счета, который день длится побег, когда увидел блокпост. Вот здорово, свои! Но ведь я же дезертир… Ну, выйду к ним, и что скажу? Здрасьте, ребята!.. Вы тут мой автомат не видели? В общем, решил не соваться, пройти мимо.
Вдруг послышался гул моторов, и к блокпосту подъехали две легковые машины, из которых тут же начали стрелять. Резко ударил грохот выстрелов. С блокпоста ответили ответным огнем. Сидя за большим деревом, я выглядывал, когда стихала стрельба, и снова прятался, когда она возобновлялась. И вдруг мощный взрыв. Высунув голову, увидел что это взорвалась одна из машин. Потянуло дымом и гарью. Снова спрятался за дерево. И вдруг стрельба резко затихла. Я подобрался ближе к блокпосту и, выждав еще пару минут, перепрыгнул в ближайший овраг. Второй машины уже не было, а жигуленок трудно было узнать, если это вообще был он. На дороге лежали убитые – один с бородой, лица второго видно не было. В машину заглядывать не стал – она была похожа на горящую бочку с бензином. Дым и черная копоть стелились по обочине дороги, и ветер уносил их к отдаленному лесу. Четверо наших солдат были убиты. Они застыли в разных позах за бруствером, но я старался не смотреть на них, а искал что-нибудь поесть. Трудно описать состояние человека в такой ситуации. Помню только, что нашел вещмешок, нож, спички и флягу, в которой была водка. Конечно, я мог прихватить с собой автомат и пару рожков, но мне почему-то стало стыдно. А вдруг ребята очнутся, и им нечем будет воевать…
Побежал к лесу. Что меня гнало – не знаю. Страх, ужас или чувство близкой смерти. Наверное, все вместе. Раньше я никогда не видел такого. Свои или чужие – для смерти это не имеет значения. Для нее все свои.
В лесу отдышался и упал на траву. Сначала меня начало трясти, потом вырвало. Перед глазами стоял блокпост и перестрелявшие друг друга люди.
Ощущение смерти долго еще не покидало меня. Не знаю, сколько времени я не решался развязать вещмешок, но думаю, что долго, потому что к тому времени, как открыл прихваченным штык-ножом банку с тушенкой, уже начало темнеть. Я ел, как животное, выхватывая куски мяса из жестянки руками, а жидкость выпивал большими глотками, давясь попадавшими в ней волокнами мяса и жира. Хлеб ломал и глотал большими кусками, почти не разжевывая. Все мои познания о правильном выходе из голодовки были отброшены сразу, как только мелькнуло в голове: сейчас совсем другая ситуация. Во мне проснулись дремавшие звериные инстинкты.
Понемногу придя в себя, хотел было вернуться на блок-пост, но как только вновь представил, что там увижу, ноги сами понесли меня в другую сторону.
Всю ночь я шел, благо светила луна и ориентироваться было легче.
Утром решил как следует выспаться. Как хорошо, когда есть еда и тебя не беспокоят! Достал буханку хлеба и вторую банку тушенки. Но тут почувствовал, что как будто кто-то толкнул меня в спину: ты, рожа дезертирская, а какое ты право имеешь жрать чужой паек?! Посмотрел на банку и уже самостоятельно додумал: а ведь это правда: ем не свое. Фактически, я вор.
Есть сразу же расхотелось, и я убрал банку обратно в мешок, лишь отломив себе маленькую корочку хлеба, которую долго жевал. Но тут же неожиданно пришла другая утешительная мысль: «Я бы смог, конечно, заработать себе на хлеб, но где и как? Сейчас сделать это практически невозможно. А жить надо. Ведь ребята теперь в еде не нуждаются. Пусть я дезертир, но и преступника надо кормить. Даже с военными преступниками обходятся гуманно. Пока вина не доказана, и мне не вынесен приговор, я такой же гражданин, как и все».
С этими мыслями уснул и проспал почти весь день, потому что еще раньше решил, что дальше пойду ночью. Опять светила луна, и я благополучно прошел еще километров двадцать.
Утром устроился на привал возле небольшой речки, по берегам которой росли корявые ивы и несколько таких же березок. Речка сбегала с горы, и ее окружала прохлада, создавая свой микроклимат, располагающий к тихому безмятежному отдыху под разноголосое пение лесных птах. Сидя на берегу, вспомнил о водке, но пить на голодный желудок не решился. Слегка подкрепившись, выждал примерно полчаса и только после этого выпил граммов сто пятьдесят. Вскоре мне стало легко, усталость в мышцах прошла, а глаза закрылись сами собой.
…Счет времени потерял окончательно. Судя по буйному разнотравью в низинах, весна все больше и больше подходила к лету. Мне встретился еще один блокпост, но я побежал от него, не разбирая дороги, как затравленный заяц. Снова где-то петлял, прыгал через распадки, цеплялся за кусты и деревья, стараясь как можно дальше убежать от злополучного места, где коварная смерть поджидает очередную жертву.
Таисия
Я так и не мог понять, где нахожусь. Мог сказать только, что иду на юг, может быть, немного забирая на запад. Эх, знать бы, где этот Степанакерт! За время перехода запечатленные в памяти географические познания начали путаться, но название этого города не забылось. Часто твердил его про себя, как заклинание, надежду на спасение, и само слово «Степанакерт» немного согревало.
Провиант давно закончился. Остатки хлеба я расходовал экономно, строго разделив его на крохотные пайки, и теперь в противогазной сумке, которую нашел на блокпосту, оставался черствый кусочек, да еще во фляге плескалось несколько граммов водки. Ее оставил из соображений какого-нибудь чрезвычайного происшествия – вдруг придется промыть рану или протереть ссадину. За время пути я изрядно поизносился: свитер был грязный, из него везде торчали нитки, светились дыры, джинсы изодрались в лоскуты, а из носков кроссовок выглядывали изодранные пальцы.
Ко всему этому добавилась еще одна беда: когда небо затянула сплошная низкая облачность, потерялись последние ориентиры. Два дня я скитался по горам, пока не набрел на хоженую тропинку. Она вывела меня на невысокий холм, под которым в низине показалось селение. Выше, на противоположном холме над обрывом виднелись очертания не то замка, не то старой крепости. Я решил отправиться туда.
Спустившись лесом в широкий распадок, а потом взобравшись вверх, спрятался в кустах и стал рассматривать одинокое старинное строение, стоявшее ниже по открытому склону, метрах в полутораста от леса на открытой скалистой площадке. Это была широкая квадратная башня, высотой примерно с четырехэтажный дом, сложенная из обтесанного камня и чем-то напоминавшая шахматную туру. Образовавшийся за ней двор, в котором виднелись покосившиеся крыши каких-то хозяйственных построек, полукругом замыкал пристроенный к башне высокий, неровный забор. Местами он был сложен из камня, а местами зашит досками.
Неотрывно наблюдая за высокими железными дверями, располагавшимися прямо посередине башни, я заметил какую-то табличку. На ней что-то было написано, и я хотел было подойти прочитать, но потом решил дождаться темноты. У меня оставалось четыре спички в коробке, прихваченной на блокпосту вместе со штык-ножом и противогазом. Если не будет луны, чтобы разглядеть надпись, пары штук мне хватит.
Однако прочитать написанное мне не довелось, потому что вдруг прошел сильный, но короткий дождь, и я мгновенно вымок до нитки вместе со спичками. Ужасно замерз, после дождя сразу выпил последнюю водку, чтобы хоть как-то согреться, после чего интерес к табличке совершенно пропал. Помню, что вяло подумал: надо бы узнать, кто живет в этой крепости, если в ней вообще кто-то живет…
Вскоре теплый ветер обсушил меня, и я немного согрелся, но от усталости и напряжения сразу же уснул. На рассвете меня разбудил странный стук. Протерев глаза и бросив взгляд на крепость, я увидел возле дверей смуглого мужчину, который своей молодцеватой осанкой, лихо подкрученными усами и широкими галифе над блестевшими хромом сапогами чем-то напоминал гусара. Одет он был в куртку цвета хаки и прикладом автомата выстукивал в дверь что-то типа «Спартак чемпион». Через пару минут дверь открылась, послышался женский голос. Мужчина вошел в крепость, и мне ничего другого не оставалось, как снова наблюдать.
Часа через полтора из-за горы появилась серая туча, и внезапно начавшийся дождь заставил меня перебежать из кустарников ближе к лесу под большую сосну. Дождь быстро закончился, а там и дверь неожиданно открылась. Я увидел женщину. Лица ее не разглядел, потому что рядом, закрывая ее своей фигурой, шел тот, который стучал в дверь. Его я узнал по одежде. Только сейчас у незнакомца не было автомата.
Парочка направилась в лес. Мужчина, пока они шли по открытому месту, несколько раз оглянулся назад, будто боялся, что кто-то увяжется следом, но по сторонам не глядел. Я пошел за ними, скрадываясь за подлеском и прячась за толстыми стволами – там, где лес хорошо просматривался. Боясь потерять людей из виду, вдруг оказался совсем рядом с ними. Тогда опомнился и только тут подумал, что если этот мужик – боевик, то он наверняка умеет слушать тишину, и каждый посторонний шорох его насторожит. Но этого не произошло – похоже, за время скитаний я научился передвигаться беззвучно, как неуловимый снежный человек.
Теперь смог наконец разглядеть женщину. Говорят, ночью все кошки серы. Так и мне после долгого скитания по горам любая женщина могла показаться красавицей. Но все же это был не тот случай. Стройная, достаточно высокого роста, с короткой, небрежно уложенной русой косой. Загорелый высокий лоб ее был открыт, взгляд излучал тепло, и когда она улыбалась, лицо вдруг оживлялось веселыми ямочками на щеках. Одета женщина была в тоненькую розовую кофточку с длинными рукавами, ворот свободно расстегнут. Узкая юбка едва прикрывала колени. Одежда хорошо подчеркивала великолепную, немного спортивную и в то же время очень женственную фигуру. Двигалась она красиво, свободно…
Выйдя на солнечную полянку, мужчина внезапно остановился и, взяв за плечи, притянул красавицу к себе. Он ей нашептывал что-то, а она тихо проговорила:
– Может, не надо? Здесь так сыро.
– Я постелю…
Лес шумел листвой, громко пели птицы, заглушая их стоны, а я дрожал от страха, возбуждения и голода, спрятавшись совсем рядом, за толстым деревом. «Это безумие, безумие стоять здесь», – говорил я себе, но не мог оторвать от них взгляда.
Когда он откинулся на спину, она в забытьи осталась лежать рядом, а я сильно укусил себя за руку, чтобы прийти в себя. Еще не совсем очнувшись, я хотел уйти, но внезапно мужчина заговорил. У него был украинский акцент, и говорил он что-то про кочевую жизнь в горах.
Она мягко в чем-то его упрекала, и по говору чувствовалось, что это настоящая россиянка. «Как она оказалась в этих горах?» – пришло в голову.
Я продолжал смотреть на них, как завороженный, нервно глотая слюну и чувствуя, что краснею от стыда: мне до этого ни разу не доводилось быть свидетелем чужой интимной жизни. Я отполз подальше, перевернулся на спину и сквозь склонившиеся ветки кустарника попытался увидеть небо. Но, даже не глядя на влюбленных, до сих пор видел их перед собой – до того было разгорячено мое воображение.
Потом, вернувшись к реальности, я услышал их голоса где-то совсем рядом. Покосившись в сторону, увидел их уже одетыми, стоящими у того низкого разлапистого дерева, из-за которого я совсем недавно наблюдал за ними. Еще несколько шагов, и они могли меня обнаружить. Я вжался в землю и, кажется даже, не дышал. А он называл ее Таисией, Таей, Таечкой и уговаривал не торопиться. Но она уже пришла в себя и упрямо приговаривала: «Павло, Пашенька, надо идти».
«Почему эти люди здесь, на Кавказе? Может, это уже Россия? – подумал я, – но ведь никаких пограничных знаков мне не встретилось. А что, если где-то рядом какой-нибудь Кисловодск или Ставрополь?»
– Утром ухожу в горы, – сказал он.
Она молчала. Выждав паузу, мужчина заговорил снова:
– Ты не дуйся, это моя работа, в горах меня ждут товарищи.
Женщина ответила, даже не взглянув на него:
– Товарищи твои – такие же, как и ты, бандиты.
– Не смей так говорить, – он крепко схватил ее за запястье, – деньги нужны нам обоим.
Она снова ничего не ответила, подняла выпавший из рук платок и пошла в сторону крепости. Мужчина, минуту заколебавшись, зашагал следом.
«Значит, он наемник, – стал прикидывать я, постепенно успокаиваясь, – а это его любовница. Может быть, она живет одна, а скорее всего, с престарелыми родителями, раз ей приходится заниматься любовью в лесу». Мне ничего не оставалось, как перебраться на прежнее место поближе к крепости и продолжать слежку.
Всю ночь не удавалось заснуть, я дрожал от холода на не успевшей просохнуть после дождя траве. К моей превеликой радости, утром мужчина ушел, прихватив с собой автомат. «А что, если… – мелькнула шальная мысль, – подкрасться к нему сзади и ударить ножом? Нет, – сразу опередила эту мысль другая. – Ты трус, ничего у тебя не получится. Он выглядит здоровее и крепче тебя. Да и хватит ли сил – после такой голодовки – для броска и удара? А убить человека? За что? Почему? Нет, не смогу». Пока я размышлял, его силуэт становился все меньше и меньше, пока вовсе не исчез из виду, растворившись за мощными стволами сосен, покрывающих косогор. Выждав еще несколько минут, я хотел подняться, но вдруг почувствовал, что боюсь. «А что если эта женщина на стороне боевиков, как та прибалтка – Ули? Ну и что, что она русская? И вообще, что я ей скажу?» В таком непонятном состоянии я провел еще около часа и вдруг услышал, что дверь, скрипнув, открывается. Прижался к земле, а когда открыл глаза, увидел, как в сторону села вниз по тропинке от крепости спускается женский, а скорее детский силуэт. Сзади можно было разглядеть длинную светлую косу и темно-синие джинсы. Девушка несла спортивную сумку. «Наверное, это их дочь, – подумал я, – поэтому они и уходили в лес, чтобы не при ней… Все, – наконец приказал я себе, – ты идешь и стучишь или остаешься здесь и подыхаешь с голоду».
Выждав еще несколько минут, я осторожно поднялся.
«Только бы никто больше не пришел, – думал я, подходя к двери, в которой оказалась дверка-лючок на уровне головы человека». На чугунной табличке, прикрепленной к стене, вязью непонятных мне букв было что-то написано и внизу добавлено по-русски: «ХV век. Охраняется государством». Дрожа от страха, стуча зубами, я несколько раз ударил в дверь рукояткой ножа. Минуты через две из-за двери послышался уже знакомый голос:
– Настя, ты? Что-то забыла?
Сердце мое от волнения готово было вылететь из груди.
– Простите, пожалуйста, – почти заикаясь, заговорил я, затыкая нож за пояс и накрывая его свитером, – вы не могли бы мне помочь? Мне ничего не нужно, я заблудился… Не бойтесь, дайте кусок хлеба и я уйду.
Несколько секунд длилось молчание, потом открылся лючок в воротах, и я увидел вчерашние глаза совсем близко, но теперь они смотрели пристально и немного враждебно. Тонкие брови были вопросительно подняты, русая челка выбилась из-под цветастого платка и прикрывала более светлую кожу лба.
– Кто ты? – в голосе слышалась тревога.
– Я из Грозного.
– Солдат?
– Нет, новобранец, – торопливо заговорил я. – Пушечное мясо… Я убежал.
Хозяйка снова спросила недоверчиво:
– Из Грозного? Ты знаешь, сколько это километров?
– Не спрашивайте. Вообще не знаю, где я.
– Ты в Грузии.
– В Грузии? Это хорошо! А как же я проскочил границу? Никакой нейтральной полосы, никаких знаков…
– Наверное, у государства денег на установку знаков нет, – она усмехнулась и снова посерьезнела. – И вообще какой может быть в этой стране порядок… Звать-то тебя как?
– Артем. Скажите, а какое сегодня число?
– Восьмое июня.
– Ничего себе, это я столько шел…
Похоже, моя явная растерянность успокоила женщину, и я услышал:
– Не надо бы посторонних пускать, но тебе почему-то верю. Входи, – ее голос смягчился. – Да, выглядишь ты, прямо скажем, неважно…
Послышался скрип железной задвижки, и тяжело щелкнул замок.
Дверь отворилась. Женщина смотрела с подозрением, но, видимо, поняв, что я не опасен, посторонилась, пропуская меня в башню, потом закрыла дверь, щелкнув засовом.
– Пойдем, ты весь дрожишь.
– Вечером шел дождь, я промок.
Она посмотрела на меня так, будто хотела понять, не увидел ли я в лесу чего лишнего, но быстро успокоилась – наверное, оттого, что вид у меня был уж слишком жалкий.
Через темную арку я прошел за ней следом во двор крепости. Снова яркий свет ударил в глаза, и я увидел внутренний дворик: пристроенный к забору деревянный сарайчик с большим окошком и длинную кишку какого-то каменного строения. Оно лепилось к крепости с противоположной стороны от сарая, на серой стене виднелось одно маленькое окошко. Где-то рядом заскулила собака, я обернулся и увидел неуклюже бегущую ко мне небольшую, черную и очень лохматую дворняжку на коротеньких ножках. Она завиляла хвостом, отчего все ее тело пришло в движение, а поседевшая милая мордочка закачалась из стороны в сторону.
Поскуливая, собачонка стала ласкаться ко мне.
– Это Малышка, – сказала хозяйка. – Она всех любит.
Я почесал у собаки за ушами, испытывая при этом необыкновенную нежность. Давно мои руки не чувствовали тепла.
– Извините. Я бы не стал вас беспокоить, но в село мне идти опасно… А вы тут одна?
– Ну… – она замялась, пытаясь, видимо, понять, что я за человек, – не совсем… Дочь к бабушке ушла. Пойдем, я тебя накормлю. Куда ж ты пойдешь в таком виде…
Женщина открыла покошенную скрипучую дверь бокового жилища. Я последовал за ней. Собака в дверь не пошла, осталась стоять у порога, вопросительно поглядывая нам вслед. В просторной комнате пристройки с высоким сводчатым потолком было гулко. У внешней стены стоял длинный стол со скамейками. В углу темнели какие-то инструменты.
Мы стали подниматься по выщербленной каменной лестнице, стесненной холодными стенами, она привела нас в крепость. Здесь, наверху, был небольшой коридор, отделенный от остального помещения современной каменной кладкой. На стене над раковиной висел рукомойник, рядом стоял стол с решетками, полными посуды. На другом столе в полумраке темнели керогаз и электроплитка с кастрюлей, а в самом дальнем углу – печь с вделанной плитой на две горелки. В стене со стороны коридора было две бойницы, из них хорошо просматривалась опушка леса, на которой мне пришлось коротать ночь. К коридору примыкала единственная, но довольно просторная комната с перегораживающей угол ширмой. Стены ее в отличие от стен коридора были оштукатурены и выбелены. Обстановка комнаты была очень скромная: две кровати, массивный, потрескавшийся шкаф, еще одна железная печка и небольшой деревянный стол. Нарядные занавески, комнатные растения и прочие мелочи говорили о том, что в этом помещении живут женщины.
– Раздевайся, – приказала мне красавица, – а то простудишься. Ты весь мокрый.
Я растерянно смотрел на нее.
– Ничего… У печки посижу.
– Тебя били?
– Да, боевики меня захватили, едва ноги унес.
– Переоденься, посушу твою одежду, – хозяйка полезла в шкаф, достала из него мужскую рубашку и брюки. – На вот, от Павла осталось. – Немножко помедлила, порылась в комоде, достала чистый носовой платок, с нарядной вышивкой по углам: – И это держи. Простыл совсем, сопли в два ручья текут.
– Спасибо, – сказал я, но платок пачкать не стал – слишком он был чистым и красивым.
Хозяйка вышла. Я быстро снял с себя мокрые шмотки, одел предложенное, сунул носовой платок в карман, вытер нос чудовищно грязным свитером и позвал хозяйку. Она вошла с большой кастрюлей, распространяющей невероятно вкусный запах.
Налила в тарелку суп, нарезала хлеб.
– Вот, только сготовила. Еще остыть не успел.
– Извините, не знаю, как вас звать, – мои голодные глаза косились на тарелку.
– Таисия… Таисия Андреевна. Садись, поешь.
Я едва сдержал себя, чтобы не наброситься на еду, как голодная собака.
Быстро смолотив тарелку супа, не стал отказываться от добавки.
– А кто он, этот Павел? – это имя мне не давало покоя.
– Павло? Муж, не муж, – нехотя заговорила она, пристраивая мокрые джинсы и свитер возле печи. Потом вздохнула. – Тебе этого знать не надо. Воюет он… Против федералов.
– Вы не беспокойтесь, я завтра уйду, чтоб у вас неприятностей не было.
– Сам-то ты откуда?
– Из Москвы. Военком говорил, что необстрелянных в Чечню не берут, а нас привезли на поезде, выгрузили, как скот, собрали на площади. А потом началось… Нет, вы не подумайте ничего плохого. Я же не отказываюсь служить, но воевать – это же другое… Воевать должен тот, кто умеет.
– Может, ты и прав, но сейчас все воюют, даже женщины. Из Прибалтики едут, девицы молодые, красивые…
– Да, я одну такую видел у боевиков. Она, собственно, помогла мне бежать. Ули. Вы случайно ее не знаете?
– Нет. Я вообще здесь людей редко вижу.
Меня начало клонить в сон, разговаривать стало лень. Но в животе после сытой еды с непривычки вдруг ужасно забурчало. Стыдясь и стараясь заглушить эти звуки, я снова завел разговор.
– А вы чем занимаетесь?
– Здесь музей был, при Советах реставрация началась. Потом все заглохло. Вот одну эту комнату и успели только отделать. Раньше жила в селе, рядом. Экскурсии здесь водила. Когда очередной конфликт начался, мужа убили, дом сожгли. Перебралась сюда. Так и живем здесь вдвоем с дочкой.
– А туристы бывают?
– Туристов сейчас нет, какие в наше время туристы…
– А бандиты, ну, боевики в смысле?
– А что боевики? Для нас это местное население. Горцы всегда воюют. Кто за женщин, у кого кровная месть, кому деньги нужны… Кавказ, одним словом.
– А в селе, какая власть?
– Там у кого оружия больше, у того и власть.
– А вы, значит, в стороне? Почему вас не трогают? Вы же русская, так ведь?
– Да, но у меня дочь от грузина. Его здесь все уважали. И меня вместе с ним.
Несмотря на то что я проглотил две огромные тарелки супа, голод не унимался. Мне стыдно было попросить еще добавки, но Таисия, видимо, угадав мое желание, налила третью тарелку, сказала:
– Ешь еще, потом наговоримся.
– Да нет, вы не подумайте, я уйду, чего ж мне вас утруждать, – говорил, а сам думал, как бы остаться.
– Куда ты такой пойдешь? Ты хоть в зеркало видел себя? Кожа да кости. Пойдет он!..
– Правда, правда, я уйду. Мне в Армению надо, друг у меня там.
Она звонко рассмеялась и протянула мне зеркало:
– Ну, рассмешил. Посмотри на себя.
Из зеркала на меня смотрело какое-то изможденное чучело. «Господи, неужели это я? Мама родная, да ты же меня не узнаешь! – и вдруг подумал: – А что, если сменить фамилию, приклеить в паспорте такую вот фотку – и прощай военком на веки вечные».
– Да уж, и рожа у меня!..
Посмотрел на Таисию, и какая-то странная тоска наполнила мою душу. Вчера видел ее такой счастливой, а сегодня у женщины были совершенно другие глаза – какие-то грустные, задумчивые, обреченные, что ли?
– Ну что ты на меня смотришь? – спросила она.
– Вы красивая.
– Вы, мужики, все одинаковые, – она ничуть не смутилась. – В чем только душа держится, а все туда же…
– Да вы не то подумали, Таисия Андреевна, просто вы, правда, красивая.
– Вот и Павло говорит то же.
– А откуда он, этот ваш Павло?
– С Украины. Наемник…
– Он за чеченцев?
– У него по-другому. Не за чеченцев, а кто деньги платит. Будут грузины платить – будет за грузин.
– Так это ж подло!
– Много ты понимаешь… Мальчишка еще. И жизни-то не видел, чтоб так рассуждать.
– Я смерть видел. Близко. Вот как вас… Вначале в городе, а потом на блокпосту. Там четверо наших солдат в перестрелке погибло. Они, может, младше меня. Мне-то уже двадцать, я ведь в техникуме учился.
– Уже или еще двадцать? – грустно усмехнулась Таисия, убирая тарелку. – Ладно, хватит о войне, иди отдыхать.
– А вы?
– У меня дел много. Козу надо подоить, да много чего надо…
– Так я вам помогу, если хотите.
– Ты не переживай. Найдется и для тебя работа, когда сил наберешься.
Женщина постелила простыню на одну из кроватей, принесла туда же шерстяное одеяло и кивнула:
– Ложись.
Когда я лег на кровать, почувствовал себя как дома. Первый раз за столько дней! Мысленно стал вспоминать свой «героический» переход, но почти сразу отключился.
Вечером хозяйка переселила меня в подвал, который находился под лестницей башни в подсобном пыльном помещении, заваленном строительным хламом. Она сказала, что так надежней. Спокойней будет нам обоим.
Какое-то время мне было не по себе. Куда я попал? Зачем? Что делать дальше, а главное, от кого и от чего будет теперь зависеть моя судьба? Помню, одеяло было теплое, подушка мягкая, а еще сено – оно приятно пахло и шуршало. «Славная она, добрая, пожалела дурака, а ведь если бы я был сытый и хорошо одетый, и не заметила бы меня…» – так думалось об этой женщине, с которой неизвестно зачем столкнула меня судьба. Наверное, чтобы выжил, но для чего мне жить? Бабушка говорила, что у каждого человека на земле свое предназначение, даже у самого незаметного… Потом я вспомнил о том мужчине, Павле, и почувствовал, что на свете все несправедливо. Вот встречаются двое, и что-то у них зажигается, может быть, подобие любви, а может, и сама любовь. Ведь разные люди, а что-то их притягивает. Как в законе химии. Плюс к минусу. В моем конкретном случае минус – это Павло. Воюет против своих. А она с ним живет. Зачем ей это надо? Она говорит, что у нее растет дочь – значит, из-за дочери, которую надо кормить, надо сберечь. Крепость-то на отшибе, а этого головореза тут, наверное, боятся…
Притушив догоравшую свечу, я попытался заснуть, но тревожные мысли не давали покоя – задремал лишь к утру. Проснулся от голоса Таисии. Лежал и прислушивался. Первый раз за время моего путешествия я не чувствовал усталости, несмотря на то, что в подвале было прохладно. Все же это был не лес, не горы, и не мокрая от дождя земля. А хозяйка звала меня – тихо, по-матерински, видимо, понимая, что я соскучился по дому.
Вышел умываться. В руках у нее свежее, хрустящее полотенце. Стала поливать мне из ковша теплую воду, а я кидал эту воду горстями на лицо, блаженно фыркая. Помню, не успел умыться, как полил такой ливень, что мы еле-еле успели спрятаться под навес.
– Ну вот, – сказал я, – стоило и умываться.
– Стоило, – возразила она. – Надо бы тебя еще подстричь, побрить, да по-хорошему бы и в баньку сводить.
– Да вы не беспокойтесь, я уйду. Я все понимаю. Вам и самим трудно.
Таисия Андреевна была не только красавицей, но и человеком оказалась добрым, заботливым.
«Эх, вот женщина – мечта!» А может быть, я тогда настолько одичал, что для меня любое доброе слово стало как бальзам на душу? По подсчетам она была старше меня лет на пятнадцать. И еще подумалось, что такие встречи нужно прерывать в самом начале, иначе, когда влюбишься по уши, уже ничего с собой поделать не сможешь… Но уже тогда, когда в первый раз мысленно назвал ее просто Таисией, без отчества, начал, сам того не замечая, мысленно сближаться с ней. Таисия… Это имя звучало в моей душе так ласково, так нежно…
– Не хорохорься. Куда ты пойдешь? Пропадешь в горах. Говорят, в лесу волки бродят, нарвешься еще.
– Иной человек хуже волка, – заметил я.
Но хозяйка настояла на своем:
– Никуда не отпущу, герой, тоже мне. Пока дочь у бабки, будешь помогать по хозяйству. От Павла мало какой помощи дождешься.
– Да помогу, конечно, – тут же согласился я. – Вы только скажите, что делать. Даром хлеб есть не стану.
Мы зашли в кухню, и хозяйка накрыла на стол. Теперь ели вместе. Мне было неловко: я жевал хлеб, который не заработал, но очень хотелось есть. К тому было понятно, что хозяйка отдает мне не последнее… Наевшись досыта, я почувствовал, что разленился вконец.
Таисия молча вышла во двор, и я, несмотря на тяжесть в желудке, последовал за ней.
Взял топор и начал колоть дрова. Постепенно втянулся. Я даже не стал отзываться, когда хозяйка позвала меня на обед. Может быть, мне хотелось доказать, что еще что-то могу и чего-то стою?
Таисия в конце концов остановила меня сама.
– Ну, хватит уже, – сказала она, выйдя во двор, – надорвешься еще с непривычки.
Я действительно устал, хотя и не подавал виду. Когда сели ужинать, Таисия налила мне местного вина. Выпил целый стакан. С непривычки вино сразу ударило в голову, и я, немного осмелев, стал спрашивать у хозяйки о родственниках, о соседях, об обстоятельствах жизни и, конечно, о дочери, которую видел мельком. Таисию мои вопросы нисколько не смущали, она охотно рассказывала обо всем, что меня интересовало. Я узнал, что до конца лета, Настя – так звали дочь – пробудет у бабушки, в городе, а поэтому мне можно оставаться в крепости.
– А вернется ваша дочь, вы меня выгоните?
– Нет.
– А, кстати, сколько ей лет?
– Недавно четырнадцать исполнилось.
– Большая. Но разве женщина может заменить мужчину?
– Что ты имеешь в виду? – насторожилась Таисия.
Поняв, что сказал глупость, я попытался исправить положение:
– Просто хотел сказать, что женщина не может колоть дрова, носить тяжелые камни…
Она тут же остановила меня:
– А как женщины рельсы носят, ты видел? Не в Европе, чай, живем. Кавказ.
Мне вспомнился бородатый анекдот про свободную женщину Востока, и вдруг я понял, что совсем не знаю местных обычаев, согласно которым женщина только условно считается, если можно так выразиться, «человеком».
– Восток – дело тонкое… – я попытался замять неловкость, но Таисия посмотрела на меня с обидой.
Она рассказала о том, как погиб ее муж. Я понял, что горцы вообще живут по только им понятным законам, и лезть со своим уставом в чужой монастырь здесь не только не принято, а просто рискованно. Мне пришло в голову сравнение горцев с чукчами или эвенками, которые тоже живут автономно, но поскольку их очень немного, то надо эти народы беречь и охранять.
Таисия над моим сравнением горько посмеялась. Она была настроена против любой войны, даже освободительной. Я понимал ее позицию: именно в такой освободительной войне погиб ее муж… Наш разговор мог бы продолжаться еще долго, но как только стемнело, хозяйка велела мне идти в подвал.
На следующее утро Таисия за мной не пришла, однако было слышно, как она громко разговаривала с мужчиной, сидящим, как мне показалось, за столом в пристройке. Я подумал, что это вернулся Павло, и снова тревожные мысли полезли в голову:
«А что, если она меня выдаст? Не зря же говорят: мягко стелет…» Но страхи и сомнения развеялись, когда я выбрался из подвала и осторожно подкрался к месту разговора. Это не было любопытством, просто в очередной раз во мне сработал инстинкт самосохранения. Пришельца моей хозяйки звали Малхазом. Это был брат ее мужа, о котором она упоминала накануне. Я стал непрошеным свидетелем их разговора, хотя был почему-то уверен, что выйди сейчас к ним, этот человек не сделал бы мне ничего плохого, а может, и помог бы…
Малхаз показался мне настоящим горцем: орлиный нос, глубоко посаженные глаза. Был он небрит, но, несмотря на суровый вид, взгляд у него светился добротой. Я слышал, как Таисия позвала его в комнату, и они пили чай. Малхаз справлялся о хозяйстве, о том, чего надо привезти или купить, а после неожиданно резко переменил тему.
– Бандит твой где? – сурово спросил он.
– Почему бандит? – обиженно ответила Таисия. – Ну что ты сразу начинаешь? Мужа все равно не вернуть. А тут хоть какой мужик.
– А, брось ты… Мужик… Какой он мужик, если с бандитами? Мы между собой сами разберемся. Чего лезет?
– Он не лезет, он в охране.
– Пусть на стройку идет или землю копать. Что, у хохлов, заводов не осталось? Рабочие профессии везде нужны.
– Он говорит, развалилось все. Разве от хорошей жизни…
– Нет. Уж если ты так хочешь, тебе надо нормального жениха.
– Где их взять, нормальных? Буду я их менять, как перчатки – Насте какой пример?
– Да что Настя… Настя уже большая, все понимает. Одумайся, найдем тебе хорошего джигита. Вот и Сулико моя говорит, надо тебе жизнь устраивать. Без мужика трудно теперь. Я же тебе как друг говорю, по-родственному, не водись ты с этим Павлом.
– Хватит уже, Малхаз, сама разберусь.
– Ну, смотри, не ошибись. Спасибо за чай.
Родственник собрался уходить.
– Да, Малхаз, заедь, пожалуйста, к моей маме, Настю проведай.
Вернувшись в подвал, я сделал вид, что сплю.
– Вставай, соня, – позвала меня Таисия.
И снова в ее руках было полотенце. «Обычай, что ли, у них такой?» – подумал я и, протирая глаза, вышел во двор. После уже привычной процедуры вошел в пристройку следом за хозяйкой. Она суетилась, убирая со стола посуду.
– У вас кто-то был? – спросил я.
– А тебе что? Не спал? Не спал, поди…
– Да я просто… Вот мешок с мукой. Вчера не было, а одной вам его не дотащить. Вот и подумал…
– Умник, тоже мне…
Я затих, ожидая, что будет дальше.
– Малхаз приходил, брат мужа. Он хороший, жалеет меня. Только ругается.
– А за что? – спросил я, подавая Таисии ведро с водой.
– Это не твое дело. Это наше, семейное…
– Ну да, понимаю, – промямлил я.
– Мешок нужно убрать, – сказала хозяйка. – Я немного отсыплю, а ты снеси его в амбар. Лепешек напечем. Любишь лепешки?
– Я все люблю, – улыбнулся я, поднимая мешок.
– Мать-то твоя, наверное, убивается. Ты бы ей хоть письмо написал, – сказала Таисия, показывая, куда ставить муку.
– А как его переслать?
– Можно передать с Малхазом, он в городе опустит в почтовый ящик. Почта вроде время от времени работает…
В комнате она кивком указала на стол:
– Садись, – и протянула бумагу и ручку.
Я не мог написать матери всю правду. Не стану же писать о своем дезертирстве? А вдруг, если узнает, где я, поедет сюда искать меня? Правда, за два с половиной года жизни в общаге (техникум находился в другом городе) она привыкла к моей самостоятельности и постоянным разлукам. И если я принимал решения, мать считала, что все обдумал, все взвесил… Нет, достаточно написать, чтобы она не волновалась – поверит и успокоится. Поэтому я написал очень короткое письмо – что живу у хороших людей и собираюсь уехать к Боре.
Обратного адреса не дал, и города, в котором жил Боря, тоже не назвал – так меньше шансов, что меня найдут.
Написание нескольких строк заняло у меня уйму времени.
– Ну, писатель, – улыбнулась Таисия, заходя в комнату, – закончил?
Объяснил, что долго не знал, как рассказать матери о своем положении, ведь ей могли сообщить, что я пропал без вести. Наконец мы разобрались с письмом, и весь остаток дня вместе прибирали двор. Мне казалось, что мы как-то сблизились. Иногда, когда наши взгляды пересекались, мы улыбались друг другу. «И что она нашла в этом Павле?» – думал я, внимательно наблюдая за ее жестами, движениями, манерами. Вот ведь действительно несправедливо: он гад, а она хорошая… Вспомнил о дочери Таисии. Наверное, она такая же красивая, как мать… Хотя вряд ли: ведь отец у нее грузин, а о грузинках я слышал, что они красотой не блещут…
Павло
Вечером Таисия уже не провожала меня в подземелье, а просто пожелала спокойного сна. Однако среди ночи я услышал ее встревоженный голос:
– Артем, Артем! – взволнованно позвала она, опустившись на колени перед лазом в подвал. – Сиди тихо, кто-то пришел. И не вздумай зажигать свечку!
Я отчетливо услышал стук в ворота, и снова екнуло сердце в груди, а на душе стало тревожно. Где-то заискивающе, а потом жалобно, словно кто-то пнул ее ногой, заскулила Малышка. По грубым мужским голосам понял, что вернулся Павло с какими-то дружками.
– Таисия, ты не рада мне, что ли?! – с порога заорал он.
– Рада, Павло, только скажи своим друзьям, чтобы вели себя прилично.
– Они сейчас уйдут, я только им кое-что отдам.
Во дворе раздались шаги. Скрипнула дверь, потом хлопнули ворота. Таисия и Павло поднялись на второй этаж башни. Я приоткрыл люк подвала, пытаясь понять, о чем они говорят. Но даже огромные сквозные трещины в стенах не позволяли разобрать их тихие голоса.
Закрыв люк, лег на подстилку, закутался в одеяло и постарался уснуть. Но не мог. Я боялся Павло и злился на него. Чтобы как-то успокоиться, стал его оправдывать. «Почему мне не нравится этот человек? И видел-то его всего один раз… Ничего плохого он мне не сделал. Во мне просто проснулась ревность, слишком я размечтался о Таисии. Мне нехорошо, потому что этот бандит забавляется с женщиной, в то время как я торчу тут в сыром подвале. Но какое мне дело до их отношений! Кто они мне? Меня это не касается…»
Отвернувшись к стене и накрывшись с головой, решил больше ни о чем не думать и спать, но сон пропал. И все потому, что я понял, что утром Таисия уже не придет ко мне с полотенцем и не покормит меня завтраком. Неожиданно до меня дошло, за что я не люблю этого Павло. Из-за него я должен сидеть в подвале, и неизвестно еще, сколько это продлится. А если он вернулся надолго? Нет, Малхаз его выгонит и приведет Таисии хорошего мужа…
Проснувшись в кромешной темноте, я долго гадал, какое сейчас время суток. Пробрался на ощупь к люку, прислушался. Веселые голоса Павло и Таисии раздавались где-то в отдалении. Приоткрыв люк, я увидел полоску света, пробивавшегося через трещину в стене. Подойдя к ней и щурясь, стал прислушиваться.
– Подожди, Павло, ну, отстань! – она, видимо, освободилась из его крепких объятий. – Вот ты мне все-таки скажи, почему ты с этими бандитами ходишь?
– Не надо мне портить настроение, – ответил он. – Так все хорошо было. Скажи, тебе что, со мной плохо? Не понимаю, что тебе нужно?
– Я раньше думала, что бандиты не все плохие… – Таисия замолчала. – Говорят, что те люди, с которыми ты дело имеешь, убивают федералов, грабят местное население, а у меня дочь растет…
– Это опять Малхаз твой напел? Когда он воевал, ему можно было, он вроде как и не бандит…
– При чем тут Малхаз? Малхаз родину защищал, землю свою, а ты?
– А что я? Я ничего не защищаю, я работаю. Уже сто раз говорил, что в военных действиях не участвую! Уж если на то пошло, так бандит бандиту рознь. Я ни в кого не стреляю.
– И чеченцы не стреляют?
– Чеченцы за свою родину воюют.
– Да кто у них ее отнимает?
– Не знаю. Вообще не мое это дело, и не твое.
– А чье?
– Не знаю, отстань. Давай еще полежим. Мне завтра идти…
– Опять будешь убивать?
– Да отвяжись ты, глупая баба! Что тебя разобрало? Караваны я вожу в горы через Панкисское ущелье. Ишак идет нагруженный, а я его хворостиной: пошел, залетный!
– А на ишаке твоем оружие везут… Думаешь, я дура, не знаю? Не ковры же они перевозят!
– Да ну тебя. Я везу – мне платят. За работу. Охранник я, понимаешь, охранник. Сколько раз тебе говорил! Все, кончай этот базар! Стараешься для нее, а тут на тебе – Павло, оказывается, бандит! – скрипнула кровать, видимо, он обиделся и отвернулся к стене.
Все стихло. Я сидел на закаменелых мешках с цементом возле своего люка и ждал продолжения их разговора. Он начался, когда Павло вышел в коридор умываться.
Таисия подала ему полотенце и сказала жалобным голосом:
– Знаешь, что я подумала? Боюсь за нас. За себя боюсь, за дочку и за тебя тоже. А вдруг убьют тебя, что мне тогда делать?
– Не каркай! Не убьют, а если и убьют, другого найдешь. Ну что ты опять! Хватит уже о плохом. Смотри, солнце какое… Денек будет замечательный!
– Ага, а ты воевать! Ну, они абреки, ладно, а ты-то куда лезешь?
– Ой, Тайка, – мечтательно протянул Павло, – подожди, вот накоплю денег, уедем вместе куда-нибудь в тихое местечко, а еще лучше за границу. Там тебе ни войны, ни безработицы. А если она и есть, то на бирже труда деньги знаешь, какие платят! Живут же люди, ну хотя бы в той же Австралии.
– Ага, хорошо там, где нас нет. Это мы уже проходили. А потом, когда это будет!
– Ты спрашиваешь, когда уедем? Честно скажу, пока не знаю.
– Очевидно, когда ты денег накопишь, – вздохнула Таисия. – А как накопишь, тогда и бросишь. Это я тебе сейчас нужна. Очень удобно: повоевал – тут же и баба под боком.
– Да перестань ты ерунду молоть! Это все твои родственники наговаривают.
– Ты Малхаза не тронь! Он нам помогает. И Сулико его добрая. А ты ушел, и жди… На кого мне рассчитывать, пока тебя где-то носит? Хоть бы раз ведро воды принес!
– А то я и смотрю, – взорвался Павло, – дров наколото, кругом чисто, порядок. Это Малхаз постарался или завела кого? Смотри, узнаю – прибью!
– Только и можешь – прибью да убью. А вот попробуй!
– О, никак защитников нашла? Да вас Самир только из-за меня и не трогает, если хочешь знать. И Малхаза твоего.
– Малхаз, какой-никакой, а родственник, он хоть помогает.
– А я, значит, не помогаю?! Вон сколько всего навез тебе. Кофты, юбки… Сама не оденешь, так у тебя Настька растет.
– Не смей ее так звать!
– О, какие мы гордые! Анастасия Батьковна, не желаете ли бальное платьице примерить?! Тут мне по случаю один хохол пузатый подарил! – видимо, он закурил, мне показалось, что запахло дымом сигареты.
Таисия молчала, понимая, что задела Павла за живое. Тогда я уже догадался, что ее дочь он невзлюбил с самого начала. Вернее, не он ее, а она его. Он, должно быть, считал ее обузой, вечно путающейся под ногами в самый неподходящий момент. Поэтому ему и приходилось уходить с Таисией куда-нибудь, в лес, например. А Павлу конечно же хотелось комфорта, тепла после тяжелых и бессонных ночей – тех ночей, когда он вынужден был скрываться в горах от федералов и конкурирующих бандформирований. Ну и Насте, похоже, очень не нравилось, когда Павло приходил и начинал приставать к матери. Она была уже в том возрасте, когда понимала, чем они занимаются… Настя не могла понять, зачем матери это нужно и почему она поддерживает отношения с этим неприятным человеком. Девочка считала, что до того, как появился Павло, они жили тихо, мирно и свободно. К тому же она очень любила своего отца, с которым Павло не шел ни в какое сравнение. Ведь отец любил их обеих…
– Вот, – снова послышался голос Павла, – все твои беды от того, что много думаешь. Бери пример с местных. Здесь как принято: раз родилась женщиной – знай свое место. А ты рассуждать любишь. Вот бабы местные ковыряются в земле и никуда не встревают. А тебе все ученость нужна. Ученостью сыт не будешь…
– Да не надо мне от тебя ничего, – резко оборвала его Таисия, уходя в комнату. – Жила без тебя, и еще проживу.
– Ну, живи себе, живи, посмотрим, – уже почти неслышно прошипел Павло и громко добавил: – В сарай пойду, на сеновал.
– Иди. Да смотри, не кури там, крепость спалишь.
«Вот урод, – думал я, – такая женщина, а ему еще чего-то надо! А она? Зачем она его терпит? Дала бы от ворот поворот, как говорится. И этот ее Малхаз – чего он смотрит? Врезал бы ему…» Пока я рассуждал, совсем тихо появилась Таисия и шепотом заговорила:
– Живой? Есть хочешь, наверняка. Вернулся Павло. Сиди тихо, не высовывайся, как смогу отлучиться, принесу что-нибудь. Он на сеновал пошел, может, уснет – тогда.
Я закрыл глаза, но заснуть не мог. Да и не привык я спать днем. Встал, приоткрыл люк, подложив под него рукоять ножа, чтобы лучше было слышно, что творится на дворе. Лежал долго, не зная, чего мне ждать и когда наконец Таисия вернется. Но вместо обещанной еды услышал во дворе какой-то шум, охи-вздохи. Понял, что Павло неожиданно подхватил на руки Таисию и унес на сеновал. Все разом стихло, а мне стало не по себе.
«Уж не убил ли он ее? – подумалось. – Когда же он уберется? Эх, тоска какая… и тишина. Хоть бы козы заблеяли…»
Таисия так и не принесла мне ничего до самого вечера. Хорошо, хоть водой запасся. Я лежал и теребил в руках пахнущий свежестью носовой платок – подарок хозяйки.
Наконец послышались долгожданные шаги, шуршание юбки. Таисия принесла поесть, еще раз велела сидеть тихо и быстро ушла. Я даже ничего не успел спросить.
Перекусив, снова лег на сбившуюся постель и задумчиво уставился в потолок.
Вспомнил дом, мать, друзей, погрузку в поезд, свой голодный и страшный марш-бросок, но почему-то это быстро ушло на второй план. В голову лезли мысли о Таисии, которая была сейчас где-то с Павло…
До наступления темноты было еще далеко, но я вдруг ощутил, что уже наступил вечер. Стало совсем тихо. Представил, как солнце постепенно склоняется к западу. Меня охватила грусть. Тяжело быть одному, зная, что совсем рядом люди, но ты с ними не можешь поговорить. Наконец Павло и Таисия вышли во двор и опять стали выяснять отношения. В тишине я хорошо слышал их голоса. Павло пытался помириться, обещал завязать со своей работой, как только представится случай. Таисия ему не верила, и все началось сначала. Но вдруг раздался стук в ворота.
– Кто там? – крикнула Таисия.
– Мама, открывай быстрее!
– Настя, дочка, это ты?!
Знакомый хлопок воротами, и новые голоса послышались ближе.
– Соскучилась Настя по мамке, – это Малхаз.
– Я ненадолго. У бабушки так здорово! Друзья, дискотеки и все такое. Просто дядя Малхаз сказал, что ему скоро опять в город, вот и поехала.
– Смотри у меня, дискотеки! Не слишком рано стала самостоятельной? По ночам хоть там не шляйся!
– Да, пошляешься… У бабушки не забалуешь!
У Насти был приятный голос и звучал он так звонко, что, казалось, будто девочка находится рядом – стоит повернуть голову. Мне не терпелось посмотреть на нее, но оставалось только разглядывать надоевший потолок, пытаясь по голосу представить лицо девочки.
Наверху тем временем начинался ужин. Я определил это по звону посуды. Похоже, Таисия напекла пирожков и угощала ими Малхаза и Настю. Павла не было, наверное, он избегал встреч с Малхазом. На какой-то миг явственно почудился запах пищи, и снова напомнил о себе мой старый приятель – голод. Чтобы не думать о еде, я попытался заснуть. Вскоре это удалось, но ненадолго.
Когда проснулся, снова услышал голос Павла.
– Бездельница! – грозно прикрикнул он. – Козу лучше подои!
– В Жмеринке своей командуй! Это ты, когда Малхаз ушел, выступаешь, а при нем, как мышь в сарае сидел. Думаешь, его нет, так тебе можно и руки распускать?
– Принесла нелегкая непутевую! – сокрушался Таисин любовник. – Сидела бы у своей бабушки, а то приперлась, двух дней не прошло.
– Не ори на меня, уеду завтра, больно охота смотреть на твою рожу бандитскую!
– Как тебе не стыдно, Настя! – встряла в разговор Таисия. – Ведь перед тобой взрослый человек. Совсем от рук отбилась! Будешь так говорить, не пущу больше в город.
– А я все равно уеду, дядя Малхаз отвезет!
Внезапно все стихло, видно, наверху легли спать.
Утром мое внимание снова привлекли голоса, доносящиеся со двора. Я понял, что пришел Малхаз. И тут же услышал, как сухо поздоровался с ним Павло.
– Все по горам лазишь? – спросил Малхаз, который, очевидно, был в хорошем расположении духа.
– Лазают обезьяны по деревьям, а мы ходим, – миролюбиво отшутился Павло.
– Ну, ну, ходите, ходите, – как-то непонятно протянул его собеседник и вдруг громко сказал: – Готова, племянница?!
– Да, – ответила та.
– Ну, пока, Настена, – в голосе Павла слышались нагловатые нотки.
– Пока, хохол пузатый! – ответ девочки прозвучал неожиданно звонко.
– Что ты сказала?
– Что слышал!
– Ты чего так дерзко разговариваешь, Настя?! – Раздался звук легкого подзатыльника.
Потом Малхаз и Настя ушли, а Таисия тут же начала укорять Павла:
– Это из-за тебя. Ну что ты к ней пристаешь? Сходи туда, подай это. Уйди, не лезь. Что она тебе, кукла? Разве можно так с девочкой!
– А что я, – оправдывался Павло, – она как шило в заднице. Сама должна понимать, что и у матери личная жизнь должна быть. Не в лес же нам с тобой опять идти. Надоело!
– Но и не при ней, в конце концов!..
– Так объясни ей, что надо уходить, когда взрослые…
– Что же мне ее, выгнать прикажешь?!
– Все вы бабы такие! – взорвался Павло. – Я к тебе со всей душой, только о тебе и думаю, а ты все о ней. Если я тебе не нужен, так и скажи! У меня, может, чувства, а она: «Мам, дай то, дай это». Сиську еще ей дай – скоро пятнадцать лет девке. Эх, был бы я ее отцом, быстро бы выдрессировал!
– Да что она тебе собака или медведь! – возмутилась Таисия.
– Между прочим, и медведя на велосипеде учат, а ты так ее распустила!..
Подумалось: все – это надолго. Но я снова с любопытством и какой-то злой радостью прислушивался.
Таисия не выдержала, сорвалась на крик:
– Вот и шел бы ты со своими подачками!
– Дура, для вас же стараюсь! Все тебе, тебе, а ты… Думаешь, мне легко? Вот будут деньги – уедем. Вместе уедем…
– Это ты сейчас так говоришь, а как деньги появятся, найдешь себе в городе кралю. Нужна я тебе с ребенком!..
– Ну и дура же ты, Таиська, тьфу, дура, – Павло плюнул, брякнул оружием и забормотал что-то невнятное.
– Ну и уходи, – снова закричала Таисия, – без тебя спокойней!
– А вот это мы еще посмотрим! – отрезал Павло.
Послышался грохот задвижки, хлопнула дверь.
«Неужели ушел?! – подумал я с облегчением. – Если это так, то мне можно наверх, на свободу. Лишь бы он не вернулся. Милые бранятся – только тешатся, – вспомнилась старая пословица, и вновь стало тревожно. – Ведь он может вернуться в самый неподходящий момент. Ревнивый же, гад, наверняка. Подумает еще чего… Ладно я, а Таисию подставлю…» Пока я так размышлял, мысленно раскладывая ситуацию так и эдак, неожиданно появилась Таисия.
– Артем, живой?! – позвала она. – Не бойся, его нет.
Я вышел, отряхнулся от пыли, посмотрел на Таисию. Почувствовал ее плохое настроение и постарался хоть в чем-то угодить.
– Пойду натаскаю воды козам, – предложил я, схватил ведра и побежал к колодцу. Но, пробегая мимо собачьей будки, задел миску с какой-то баландой, которую только что поставила Таисия и к которой уже трусила Малышка. Баланда разлилась. Виновато поглядывая на Таисию, стал складывать вареный картофель и какие-то ошметки в миску.
– Ты еще на мою голову свалился! – всхлипнула Таисия и, скомкав сорванный с плеч платок, уткнулась в него.
Когда вечером пили чай, она уже совершенно успокоилась, даже посмеивалась, дуя на блюдечко:
– Павло ушел, одеколон свой забрал – это значит надолго. Гордый! Хочет показать этим, что уходит навсегда. Ну и скатертью дорога! – а все-таки в словах ее чувствовалась обида, и взгляд был какой-то рассеянный. Все говорило о том, что она любит этого хохла-наемника. Помолчала, потом добавила: – Минимум месяц его не будет.
На следующий день Таисия ушла в поселок, а я, пользуясь ее отсутствием, решил оглядеть округу. Покинув пределы крепости, спустился к пересекающему склон распадку. Поселок сразу скрылся за отдаленным холмом. Дальше идти не решился, боясь попасться на глаза людям. На дне распадка в тени склонившихся акаций бежал ручей. Здесь было очень прохладно, пели птицы, журчала вода. Я прилег, завороженный звуками природы. И до того размечтался о возможной хорошей жизни, что не заметил подошедшую Таисию.
– Ну что глаза вытаращил, сумку возьми!
Она поставила передо мной свою поклажу, но не остановилась, а стала подниматься к крепости. Не шелохнувшись, я провожал ее взглядом. «Эх, вот бы когда-нибудь… Но это невозможно. Я для нее совсем мальчишка»… Уже отойдя достаточно далеко, Таисия оглянулась.
Я тут же вскочил, сбрасывая оцепенение, схватил сумку, пустился вдогонку. Сбивчиво заговорил:
– Тут так хорошо, что я… Со мной что-то такое… Когда шел, ничего этого не видел… вернее, видел, но совсем не так на все это смотрел. Что вы так долго? Я уже начал волноваться.
– Хорошо, что не пошел искать. Давай, заходи, – пропустив меня вперед, она закрыла ворота. – Устала, моталась целый день. Да еще родственники сказали, что свекровь разболелась, а у нее хозяйство… Скоро и к ней идти придется, а это там, за горой – она показала куда-то вверх. – Поднимайся в комнату, выкладывай из сумки на стол, тут гостинцы. Я сейчас приду.
В комнате я поставил сумку на стул и начал выкладывать домашние продукты, в том числе и темную, сильно поцарапанную бутылку с какой-то жидкостью.
– Это вино, – пояснила тихо подошедшая Таисия. – Подарок Сулико. Она каждый раз сует мне какую-нибудь бутылку. У меня в закромах их уже целый арсенал. Хоть свадьбу играй! Хочешь выпить?
– Конечно!
Я откупорил вино, и мы его тут же распили.
– Что-то на меня нашло. Обычно я пью мало, – оправдывалась захмелевшая, порозовевшая и оттого еще более похорошевшая Таисия.
– Ну, если у вас много… вина, то, может, еще одну бутылочку достанем? – обнаглев, спросил я.
Мне хотелось продлить это легкое головокружение, которое ощутил после выпивки.
– Хватит.
Наступило молчание. Я рассматривал лицо Таисии, подмечая каждую мелочь. Особенно мне нравилась крошечная родинка на подбородке.
– Что так смотришь? – спросила она насмешливо, так что сразу стало ясно, о чем идет речь.
– Просто вы такая красивая…
Таисия усмехнулась:
– Налить тебе еще стакан, так и Василисой Прекрасной покажусь.
Я обиженно опустил глаза и пролепетал:
– Была бы у меня такая жена, как вы, я бы вас… то есть ее на руках носил, а ваш этот…
Она резко остановила меня:
– Не твое это дело. Сами разберемся, понял? Много ты про него знаешь!..
– Да я про себя говорю! Что вы так разошлись?! Я же правду говорю, как думаю. Вот даже стишок какой-то ерундовый вспомнил:
Я бы дал свою душу взамен На надежду держать эту руку, Но увел ее пьяный нацмен, Что на рынке торгует урюком.Может стишок, а может, чувство, с каким я его прочел, подействовали на Таисию, и она, улыбнувшись, спросила с подначкой:
– Влюбился, что ли? – и тут же, чтобы не вгонять меня в краску, прикрикнула: – Долго ты будешь копаться, нацмен? Ставь чайник, печку разожги, сидишь, как в гостях… – Помедлив немного, добавила: – Сегодня будешь спать на дочкиной кровати, – и вышла.
Я немного сник: из ее слов выходило, что она считала меня практически ребенком… Сделав все, что она велела, сел на стул. А когда Таисия вошла, с отчаянием утопающего спросил:
– Таисья Андреевна, а почему вы не допускаете, что я мог бы в вас влюбиться? Ведь я все же мужчина…
– Точно, влюбился!.. – засмеялась она. – Мужчина… Мужичок с ноготок! Слушай, а ты, часом, не бабник? А может, и вовсе маньяк? – она разговаривала со мной так, словно я вообще был ребенком.
И все-таки чувствовалось, что мои комплементы ей нравятся. Поэтому я продолжил в том же духе, а поскольку говорил после вина откровенно, то мои слова, видимо, ложились ей на душу, и она вскоре совсем перестала шутить, оттаяла. Рассказывала все больше о родителях, о муже, о своем житье-бытье.
– В Грузию я попала, – говорила Таисия, – когда мне исполнился только год. Отец был строителем – после окончания института его распределили в Телави – город тогда быстро развивался. Мама моя забеременела еще в институте и рожала у бабушки в Калуге. Когда папа обустроился на Кавказе, вызвал маму. Они полюбили здешние края. Отец еще занимался альпинизмом и часто ходил в горы. А однажды не вернулся… Мать так и осталась в этом городе, надеясь, что когда-нибудь дождется его. Работала медсестрой на заводе. Она и сейчас живет там. Старенькая, конечно, уже стала…
– А что было дальше?
– Я, когда подросла, влюбилась в одного спортсмена. Он борьбой занимался, уже начал на международные соревнования ездить. Потом травма случилась, из спорта пришлось уйти. Он долго не знал чем заняться… Тогда я ему стала опорой. А после образования МЧС его назначили начальником лавиноопасной зоны в горный район. Здесь, неподалеку, оказалась эта старинная крепость… К тому времени я закончила техникум гостиничного хозяйства, надо было работать по специальности, и мне благодаря мужу предложили должность смотрительницы. Тогда сюда еще водили экскурсии, присмотр требовался…
После чая она велела мне убирать со стола, а сама принялась перестилать Настину постель. Я охотно приступил к делу, собрал все чашки, кружки и тарелки, вымыл их под висевшим в коридоре рукомойником, поставил чистую посуду на стол. Таисия была за ширмой – на подсвеченном яркой лампой полотне отчетливо выделялся силуэт ее фигуры. Не зная, что делать, опустился на стул, ожидая пока Таисия переоденется. Чтобы она не подумала, что я подсматриваю, сел к ней боком. Наконец она, видимо, надела ночную рубашку и сказала:
– Спокойной ночи. Завтра рано вставать.
– Хорошо, как скажете, – ответил я.
Минуло еще несколько дней. Все это время во мне боролись противоречия. То хотелось немедленно, сию минуту отправиться дальше по намеченному маршруту, то остаться возле Таисии навсегда. Бывали минуты, когда, успокоившись, достаточно трезво размышлял, как буду путешествовать по Грузии – вначале пешком, потом на перекладных, а перед армянской границей уйду снова в горы, где меня никто не остановит.
Моя уверенность основывалась не только на трудном переходе из Чечни в Грузию, но также и на опыте участия в двух геодезических экспедициях по горам во время учебы в техникуме. Кроме того, перед самым призывом в армию мне пришлось путешествовать автостопом на море. Правда, до цели я так и не доехал – по дороге меня обокрали. Пришлось добираться до Москвы, прячась от контролеров по верхним полкам и тамбурам и страдая от голода.
Однако здесь, в крепости, вспоминая это путешествие и то, как я был счастлив вновь оказаться дома, чуть было не заплакал. Ведь такое теперь уже невозможно, меня схватят и отправят в тюрьму за уклонение от службы, если не на железной дороге, так в Москве уж точно…
Настя
Прошла еще неделя. Отъевшись на Таисиных харчах, я стал серьезно подумывать, что самое время откланяться. Однажды проснувшись позже обычного, но еще лежа в кровати, размышлял о дальнейшем пути. «Сообщу об уходе сегодня же, – решил я. – Дороги закаляют, а жизнь под боком у женщины только расслабляет».
Вдруг послышались поднимающиеся по лестнице легкие шаги. В комнату вошла белокурая девочка лет четырнадцати – носик горбинкой, глаза, как у Таисии.
Я сразу понял, что это Настя. Она была в голубых джинсах и желтой футболке.
За ней вошла Таисия. Настя смотрела на меня с недовольством и подозрительностью. Удивленно подперла бока руками и с нескрываемой враждебностью спросила:
– Мам, а это еще кто? Очередной Павло, так надо думать?
– Не так! – нахмурившись, ответила та. – Молчи, и не вздумай кому-нибудь болтнуть, особенно Павлу.
– Ну, хорошо. Может, ты мне объяснишь тогда, что он делает в моей постели, и вообще кто он такой?
– Я…
Таисия опередила мой ответ.
– Дезертир он, сбежал из армии, бродил по горам. Знаешь, как это… «горе горькое по свету шлялося, и на нас невзначай набрело».
Настя опять подозрительно посмотрела на меня и твердо, со всей детской непосредственностью спросила:
– Значит ты трус?
– Нет, просто испугался, – попытался объяснить я. – Так бывает…
– Оставь его в покое, – вступилась за меня Таисия, – много ты понимаешь. Лучше переодевайся, я тебя накормлю.
– Я просто спросила, – пояснила Настя, – не хотела вас обидеть. А знаете, – продолжала она также по-детски прямо, – лучше, наверное, испугаться, чем убивать людей.
– Хватит, Настя, замолчи, – строго произнесла Таисия. – Выйди отсюда, дай парню одеться. Вы бы лучше познакомились, чем волками смотреть друг на друга.
– Я Артем. Извини, что я тут…
– А меня Настей зовут. Вы одевайтесь, смотреть не буду…
– Ну и хорошо, – сказала Таисия и кинула мне выстиранную рубашку.
Натянув джинсы, босиком направился вниз умываться.
– Настя, – услышал за спиной, – иди с ним. Полей человеку, что стоишь?
– А он что, маленький? Может, и в туалет его за ручку отвести? – недовольно буркнула девочка, но тут же, догнав меня, сказала: – Пошли, так и быть, полью, если расскажешь, почему сбежал.
– А зачем тебе? – удивился я.
– Надо.
Во дворе Малышка выбежала из тени забора, и Настя стала ее ласкать, почесывая за ушком, нежно называя по имени.
– Видишь, какая у меня умная собака, – она смотрела на меня глазами, которым еще не свойственны были холод и безразличие, что часто можно увидеть во взглядах взрослых женщин.
Настя поливала мне из кувшина, и я чувствовал, что она меня изучает. Подумалось: «Интересно, какие мысли сейчас блуждают в ее голове?»
– А вы теперь вместо Павло? – спросила она с каким-то задором. Помедлила и добавила: – Он подлый, над матерью издевается, а она его терпит.
– Нет, я к вам попал случайно, меня в Чечню послали служить, а там война…
Настя протянула мне полотенце и вылила на землю остатки воды.
– А как же вы оказались в Грузии?
– Шел, шел и пришел…
– Интересно, сколько же вы шли? Так ведь можно было и заблудиться.
– А я и заблудился. Да ты не волнуйся, я скоро уйду, может быть, завтра.
– Почему так скоро? Если вы дезертир, значит, вас ищут.
– Не знаю, все может быть…
– Так зачем идти, вдруг поймают? У нас тоже война была, только у нас никто не убегал, нам бежать некуда. Это наша земля.
– Я знаю.
– Пойдем в дом, – позвала Настя. – Сулико сыру дала, козьего. Сейчас завтракать будем. Я еще вчера вернулась, просто осталась у родни, думала, Павло еще здесь.
– Он после твоего первого приезда ушел. Они с мамой твоей поругались. Только я тебе ничего не говорил, ладно? Не мое это дело. Я человек временный. Знаешь, как у нас в Москве говорят: «мы сами не местные».
– Так вы из Москвы? – заинтересованно спросила Настя.
– Ага, – кивнул и пропустил ее вперед по лестнице. Перед глазами замелькали худенькие ножки, обтянутые вытертыми джинсами.
– Не бойтесь, я вас не выдам. Не маленькая уже, понимаю. Мне мама сказала, она вас в подвале прятала.
Таисия накрыла стол, и мы сели завтракать.
– Ну и где твой Павло? – неожиданно спросила Настя, подозрительно глядя на мать.
– Ушел. Дела у него. Ты лучше скажи, как там бабушка, что в городе хорошего?
– В городе весело, друзья-подруги… Опять же дискотека, только она мне уже надоела. Все одно: бу-бу-бу. Оглохнуть можно. А вообще-то у бабушки здорово. Мы на горное озеро ездили. Такое красивое…
– Ты что? – встревожилась мать. – Кто тебя отпускал?
– Мы с девчонками, на автобусе.
– С ума сошла! Сейчас бандиты кругом, еще возьмут в заложники. Вот скажу Малхазу, чтобы больше не возил тебя…
– Мам, ну ты чего? Что мне тут сидеть? Здесь скучно одной.
– Ничего, найдешь себе занятие. Лучше книжки читай. И перестань дрыгать ногами!
– Не могу, у меня энергии много, так и прет, – Настя поправила свалившуюся на глаза челку и с жадностью сунула в рот свернутый блин, который предварительно окунула в вазочку с вареньем.
– Много на лето прочитать задали? – спросила Таисия.
– Мало.
– Тогда будешь Артема учить козу доить.
Настя пристально посмотрела на меня, как бы стараясь оценить способности, и, продолжая болтать ногами, улыбнулась:
– Вот поедим и пойдем. Тема у нас добрая, не схватит.
– Тема, – удивился я. – Странное у козы имя.
– Зато легко звать: Тема, Тема!
Я кивнул головой, но несколько смутился. Я, парень, должен доить козу… Смешно и, право, нелепо. Но выбирать в моем положении не приходится…
После завтрака мы пошли в загон к козам. Тема и Розочка – так звали вторую козу – встретили нас приветливо. Сразу признали младшую хозяйку.
– Ну что, – ласково обратилась к ним девочка, – соскучились по мне? Вот я вас сейчас погулять пущу, хорошие мои… Смотри, Артем, какие они красивые, правда ведь?
– Да.
Я обратил внимание на то, что Настя назвала меня на ты.
– Чего стоишь? Давай, покажи, на что ты способен.
Я опустился на корточки и стал тянуть Розочку за соски, пытаясь вспомнить, как это делала Таисия. Настя громко засмеялась и легонько толкнула меня в бок:
– Пусти. Какой ты неумелый, сразу видно, что городской.
Из-под Настиных рук молоко весело побежало в ведерко.
– Вы здесь, конечно, свое дело знаете. У меня же нет такой виллы, как у тебя, – я показал рукой на крепость. – Сама подумай, откуда в городе козам взяться?
– А бабушки у тебя есть?
– Нет. Ни одной. Дом в деревне есть, а бабушки все умерли. У меня, кроме матери, никого, только тетка, и та далеко.
– Плохо, что бабушек нет. У меня их две – одна мамина, другая папина, – Настя отстранилась от козы, помедлила, потом спросила: – А твой отец, он где?
– Погиб в экспедиции, когда мне было семь лет. Он геологом был.
– А моего на войне убили, – вздохнула Настя, снова принимаясь за работу.
Мы помолчали.
– А у тебя здорово получается, молодец! – похвалил я.
– Ничего, и ты научишься, – Настя, улыбаясь, кивнула в сторону Темы.
Потом девочка водила меня по двору, показывала музейные экспонаты: ствол старинной пушки, хорошо сохранившуюся арбу и кое-какие кованые изделия местных ремесленников, запертые в чулане каменной пристройки. Здесь же оказалась неплохая коллекция старинной глиняной посуды. Все это осталось после развала СССР и теперь, похоже, никому не было нужно.
Вечером мы сели ужинать втроем. Я заметил, что настроение у Таисии немного улучшилось. Дочь взяла на себя многие заботы, и ей удалось отдохнуть, заняться немного собой. Вообще Таисия становилась очень красивой, когда была в хорошем настроении.
Наверное, Настя заметила, что я любуюсь Таисией, потому что вдруг стала дразнить меня:
– Эй, а ты все же дезертир или нет?
– Не болтай ерунды, – остановила ее Таисия. – И почему ты взрослому человеку тыкаешь? Это неприлично.
– Да ладно, подумаешь…
– Сложный вопрос, – я не стал уходить от ответа. – Для военкома – наверное, дезертир, преступник, а по совести… не знаю. По крайней мере мне так не кажется.
– Не лезь к человеку, – опять вмешалась Таисия. – Он и так намучался, его убить могли.
– Да… Такие, как Павло, – процедила Настя.
– Молчи! – сорвалась Таисия и, затихнув, добавила. – Совсем в городе от рук отбилась. Вот скажу Малхазу, чтобы он тебе всыпал…
– А ты Артема попроси. Только у него ремня нет. Потому что он дезертир.
Показав матери язык, Настя вскочила и побежала вниз, во двор.
– Не обращай на нее внимания, – успокоила меня Таисия. – У них с Павло сразу нелюбовь вышла. Она его ко мне ревнует.
Кивнув, я снова подумал: «А девочка с характером, лучше ее не гладить “против шерстки”».
Пока мы с Таисией допивали чай, стемнело.
– Ну, ладно, – сказала она, – пора спать.
– Пойду в подвал.
– Не надо. Вот еще! Настя со мной ляжет. Подвал по необходимости. Не овца же ты. Ложись, где спал, – она сказала все это жестко, приказным тоном.
Однако уснуть не дал стук в ворота. «Неужели, опять Павло, – я, кажется, даже взмок. – Вот змей, ну, ушел и ушел, зачем ходить? Может, он меня выследил?» Но заглянувшая в комнату Таисия, которая успела из коридорной бойницы разглядеть пришельца, успокоила меня:
– Лежи, не волнуйся.
Вернувшаяся со двора Таисия была взволнована. Как она преобразилась, как запылало счастьем ее лицо! Я сразу почувствовал, что она получила записку от Павла. Даже спрашивать ни о чем не стал. Отвернулся к стене, давая ей раздеться. Когда Таисия легла в постель, я, боясь лишний раз шелохнуться, спросил:
– А Настя где?
– Сейчас придет, куда она денется.
Проснулся я, когда веселые солнечные лучи начали пробиваться в маленькое окошко. Мне показалось, что обе женщины еще спали, по крайней мере их длинные ресницы были прикрыты, и я потихоньку наблюдал за ними.
Вначале проснулась Настя. Словно не замечая меня и будто специально демонстрируя свою уже начинающую наливаться фигуру, она оделась и вышла во двор. Я тут же стал натягивать штаны. Открывшая глаза Таисия наблюдала за мной молча, и мне показалось, что она смотрит с каким-то укором. Похоже, она думала о Павле, и я вдруг ощутил себя совсем чужим.
– Уеду, неудобно мне вас стеснять, – сказал решительно. – Да и неприятности у вас из-за меня будут.
– Неприятности будут у тебя, с нами или без нас, – ответила она. – Отвернись, я встану.
Я сел на стул, отвернулся, и тут мне захотелось ей чем-то досадить за то, что она все время думает об этом Павле. Ведь я за это время сильно привык к ней.
– Что, ночью от Павла записку принесли? – спросил с усмешкой. – Ждете в гости своего героя?
Таисия молчала.
– Угадал? – добавил я и нагло обернулся, увидев, как она, в одних узких трусиках, натягивает колготки.
– Да какое твое дело, сопляк! – вдруг взорвалась Таисия. – Живешь и живи, что ты в душу лезешь?!
– Надоел я вам хуже горькой редьки. Пойду в подвал, – бросил я с обидой, вставая. И прошел мимо нее, даже не взглянув. В дверях остановился. Не оборачиваясь, сказал: – Завтра уйду.
Таисия спокойно ответила:
– Раз уж ты решил, надо тебя к Малхазу отвести. Он поможет.
Подвала мне хватило на час. Все это время сверху доносились, тревожа душу, звуки какой-то ритмичной мелодии. Я старался не обращать внимания, но они упрямо лезли в уши. Повалялся еще, размышляя о своем дальнейшем продвижении по горам, прикинул, как подготовиться к походу, хотел уснуть, чтобы распиравшие меня противоречивые чувства улеглись, но не смог. Наконец, поднялся наверх. И обалдел: во дворе на оставшемся кусочке стариной брусчатки танцевали две жгучие красавицы. У обеих лица были ярко, до неузнаваемости изменены косметикой. Их пышные, длинные, сильно декольтированные платья с чередой продольных рюшек (у той, что была пониже – розовое, а у другой – ярко-красное) равняли их в возрасте. Рядом на ступеньках пристройки стоял маленький кассетный магнитофон, который я видел у Насти, и из него лилась захватывающая испанская музыка. Та, что была в розовом платье, видимо, исполняла партию партнера. Она вела, руководила, подсказывала. Я стоял как завороженный. И только когда они закончили, зааплодировал и спросил удивленно:
– Настя, Таисия Андреевна, это вы?! Я вас не узнал. Как вы танцуете!..
– Это Настя меня научила, – Таисия счастливо улыбалась.
– Настя, откуда у тебя такие таланты?
– Оттуда! – ответила она высокомерно с пренебрежением истинной испанской донны.
– А где такие платья взяли?
– По наследству достались, – отшутилась Таисия, по-прежнему улыбаясь.
После того как танцовщицы переоделись, смыли с себя косметику и занялись работой по двору, снова кто-то постучал в ворота.
– Что-то зачастили, – сказала озабоченно Таисия.
Я предпочел скрыться в подвале без команды.
Минут через двадцать ко мне заглянула Настя.
– Кто там? – с нетерпением спросил я, пряча от глаз девочки прихваченный топор.
– Ваха приходил. Иди, мать зовет.
– Что-то стряслось?
– Стряслось. Еще как. Сейчас будешь у меня поводырем.
– Каким еще поводырем? – удивился я.
– Увидишь. Нужно идти в горы через перевал. Бабушка Софа совсем разболелась. Радикулит ее мучает. Приступами. Нужно мазью натирать поясницу.
– Так, а я тут при чем?
– А при том. Ты будешь меня сопровождать. Да ты не бойся, – успокоила она, подходя ближе и садясь рядом. – Тебе даже лучше будет. Вчера мальчишка прибегал от Павла. Да еще ночью кто-то от него приходил. Вот мать и бесится.
– Чего это он?
– Не знаю. Опять гадость какую-нибудь задумал.
– Слушай, за что ты его так не любишь?
– Да он над матерью издевается, ему от нее только одно нужно. Я не маленькая уже, понимаю. Ладно, пойдем, – девочка резко взяла меня за руку и потащила за собой.
Мы вышли во двор, где нас уже ждала Таисия. В руках у нее была большая корзинка, и сама она суетилась, укладывая в нее какие-то свертки.
– Вот что, дезертир, – она обратилась ко мне с доверительной улыбкой, – тебе поручаю ответственное задание. Очень на тебя надеюсь.
Я застыл, внимательно слушая, что от меня требуется, а Таисия продолжала:
– Бабушка Сафо, моя свекровь, живет за перевалом. Настя дорогу знает. Проводишь ее и поживи там несколько дней. Помоги по хозяйству, ладно?
– А как же вы тут одна будете? – мне не хотелось расставаться.
– Ничего, переживу. Нож свой возьми. Я его там, на кухне в ящик убрала. Мало ли что…
– Так может лучше топор?
– Вот, глупый, такую тяжесть тащить.
– Мам, – вмешалась Настя, – ну зачем он мне нужен? Что я, одна не дойду? Не маленькая, сколько можно меня опекать!
Я понимал, что обязан Таисии многим, если не всем в сегодняшней своей жизни, поэтому улыбнулся и сказал:
– Настя, мать нужно слушаться? Я же тебя не съем. А вдвоем спокойней.
– Короче, хватит болтать ерунду, – повысила голос Таисия. – Иди переодевайся и вперед. А ты, – обратилась она ко мне, когда Настя ушла в дом, – ты там поосторожней будь. Сам знаешь, время какое. Я, Артем, на тебя надеюсь.
– Хорошо, Таисия Андреевна, а далеко это?
– Часа два идти. Вот корзину возьмешь, тяжелая.
– Пустяки.
Тем временем появилась Настя с магнитофоном в руках и совсем маленьким рюкзачком за спиной, как-то подозрительно оглядела меня и полушутя сказала:
– Пошли, что ли, охрана.
– Слушайся Артема, он хороший, – притянула ее к себе Таисия.
– Да уж, думаю, лучше твоего Павла…
– Ах ты, дрянь такая, – мать хотела дать дочери привычный подзатыльник, но та увернулась, спрятавшись за мою спину.
– Ничего ты мне не сделаешь, теперь у меня охрана есть, – самодовольно сказала Настя, показав матери язык.
– И не стыдно тебе при чужом человеке так себя вести? – всплеснула та руками.
Мы направились к выходу. Таисия открыла ворота, потрясла дочь за вихор, потом остановила взгляд на мне:
– Помоги чем надо, ну, сам понимаешь, да осторожно там.
Чмокнула дочку в лоб и доверительно потрепала мне плечо.
– Ладно, мам, мы пошли, ты тут не скучай, – Настя дернула меня за рукав и направилась вперед по тропинке, на которой я когда-то видел Павла и его возлюбленную.
– Счастливо! – крикнула нам вдогонку Таисия.
Когда мы ушли за гору, я спросил Настю:
– И охота тебе с магнитофоном тащиться?
– В город хочу, – не отвечая на мой вопрос, вздохнула она. – Там здорово, а тут тоска. Ты хочешь в свою Москву?
– Хочу, конечно. В Москве хорошо. Дискотеки, кинотеатры – всего навалом. Только я не люблю громкую музыку.
– Я тоже, – Настя махнула хвостиком волос и произнесла мечтательно. – У тебя дома, наверное, телек есть…
– Конечно, есть…
– Хорошо вам, целый день киношку смотреть можно. Я один раз, знаешь, чего у Малхаза и Сулико видела?
– Почем мне знать.
Настя засмеялась:
– Ты знаешь, умора, одному горскому пацану в семнадцать лет первый раз телевизор показали. Он там, с родителями до семнадцати лет овец пас и первый раз с гор спустился. Так он, когда увидел экран, просто остолбенел! По-русски ни бум-бум, кнопки нажимает и подскакивает от ужаса. В общем, надо было видеть! Не веришь?
– Дикость какая-то, чтобы ни разу телевизора не видеть…
– Ты не понимаешь. В горах, знаешь, какие вещи бывают… Есть такие села, где старухи по сто лет живут. Ни века не знают, ни времени. Какой там телевизор, у них даже света электрического никогда не было. А теперь и у нас тоже свет часто выключают. Грузия стала бедная.
– Грузины слишком гордые, чтобы быть богатыми, – заметил я и втянул в себя воздух полной грудью. – Здорово у вас тут. Никогда и не расставался бы с этой красотой.
– Ничего тут хорошего. Подумаешь, воздух! Ну и дыши сколько хочешь, только все равно скучно. Если бы на море поехать. Мы с отцом ездили.
– Давай поедем вдвоем! Я там только один раз был.
Настя засмеялась:
– С тобой? С дезертиром? Да у тебя и денег-то нет.
– Пока нет, – я слегка обиделся, – но, может быть, как-нибудь заработаю. Было бы желание.
– Где ты тут в горах заработаешь? Разве что кого-нибудь ограбишь…
– Ты думаешь, если я дезертир, то бандит. Ошибаешься. Да что с тебя взять, – я окинул ее взглядом. – Мала еще.
Настя, оскорбившись, приостановилась:
– Кто, я?
– Ты, кто же еще.
Едкое словечко явно вертелось у девчонки на языке, но она сдержалась.
– А ты бы на матери моей женился? – неожиданно спросила Настя, снова прибавляя шаг.
– Ты думай, что говоришь! – растерялся я. – Скажешь такое…
– А что, она тебе нравится, я же вижу! Скажи честно.
– Ну, нравится. Не выгнала меня, в дом пустила. Она у тебя добрая…
– Вот и женись на ней, заберешь нас в Москву.
– Ты что, сдурела?! – возмутился я и, кажется, покраснел.
– Что, испугался? Сразу в кусты!
– Ничего не испугался. Мне твоя мама нравится совсем по-другому, как человек.
– Да ладно, а то не я вижу, как ты на нее смотришь. Не врал бы уж!
– Скажи еще, что на тебя заглядываюсь!
– А что, я вовсе даже ничего, парни меня на дискотеке то и дело танцевать приглашают, – она горделиво повела головой и откинула в сторону челку.
– Что мне на вас смотреть… И вообще вернемся домой – я сразу и уйду.
– Опять обиделся… – Настя заглянула мне в глаза, потом мотнула головой вниз, под гору. – Вон, видишь, там будет поворот, оттуда уже видно село. Устал?
– Немного. Давно не ходил так далеко, больше месяца уже.
– Так что, тебе совсем нельзя в Москву?
– Не знаю, – я пожал плечами и перехватил корзину другой рукой.
– Давай вместе, тебе тяжело, – предложила Настя.
– Нет, так неудобно.
– Смотри, еще долго.
– Дойду как-нибудь, – ответил я, и на некоторое время мы замолчали. Я думал о доме, о матери, мысленно представлял, как она читает мое письмо, хотя вряд ли она успела его получить за такой короткий срок. Потом вспомнил двор, ребят, с которыми учился, девчонок… – и почему-то стало невыносимо грустно. Совсем один, в чужой стране. Кругом горы, все чужое. Хорошо, что есть такие люди, как Таисия. Если б не она, что бы со мной было… Наконец Настя снова заговорила:
– Ты чего притих? Я же говорила, что устанешь. Хочешь пить?
– Хочу.
Девочка, взяв меня за руку, потащила в сторону от тропинки.
– Здесь ручей, правда, вода холодная, но очень чистая.
Мы зачерпывали пригоршнями воду – она холодом обжигала губы.
– Вот ты говоришь, у вас долго живут… – начал я, но Настя не дала закончить.
– Нет, теперь не долго. Война…
– А если бы без войны?
– Тогда долго. По радио передавали, тут один аксакал в сто два года женился и потом еще у него ребенок родился.
– А сколько же было его невесте? Сто лет?
– Нет, шестьдесят пять!
– Вот это да! Как моей бабушке, когда она умерла! Разве так бывает?
– Здесь бывает… Нам туда, – кивком головы Настя показала, куда сворачивать.
Смеркалось, когда тропинка вывела нас на лесистый обрыв. Внизу за деревьями показались маленькие серые домики.
– Это бабушкино селение?
– Да. Под ноги смотри, а то упадешь. Тут камни коварные.
– Погоди, – остановил я Настю.
– Что еще?
– Давай в лесу посидим, дождемся, когда совсем стемнеет. Ни к чему, чтобы меня видели.
– Да этим старикам ни до чего дела нет… Ну, хорошо, – согласилась она.
Мы присели на гнилое бревно и дождались, когда совсем стемнело и на небе заблестели яркие звезды, потом выбрались на плато и, аккуратно ступая по мягкой траве, пошли к селению.
– А людей здесь много? – спросил я.
– Нет. Было восемь, но старый дед Гия умер в прошлом году. Теперь его дом пустует…
У бабушки Софико
Когда мы шли по улице между дремавших домов, в голову мне пришла отличная мысль: а что если остаться здесь, пока кончится вся эта война, или вообще осесть без всяких «пока». Никто меня не найдет, да и кому я, кроме матери, нужен, а ей можно все объяснить… Правда, она будет скучать. Я тут же высказал свою идею Насте, но девочка ее не одобрила.
– Ты что, совсем глупый или ненормальный? – сказала она шепотом. – Ты же здесь со скуки помрешь. А если заболеешь вдруг. Кто тебя лечить будет? Тут докторов нет.
Я подумал, что со скуки не умру, потому что иногда буду навещать Таисию, чтобы полюбоваться ее красотой, но как бы шутя, возразил:
– А ты на что? Ты будешь меня навещать.
– Вот еще, делать мне нечего, – хихикнула Настя, показывая рукой на дом бабушки Софико. – Пришли, заходи, – она толкнула калитку, и мы вошли во двор, а потом в покосившуюся деревянную пристройку, дверь которой оказалась открытой.
В темноте, скрипнув еще одной дверью, вошли в прихожую. Настя достала из корзинки толстую восковую свечу, чиркнула о коробок спичкой. Прихожая и стоявшая в ней в беспорядке разная деревенская утварь озарились светом.
– Ау, бабушка Софико!
Откуда-то издалека донеслось что-то вроде приветствия, но слов я не разобрал.
– Пошли, – сказала мне Настя, – оставь корзину тут, да голову не разбей – притолока низкая.
Во второй комнате на большой железной кровати лежала женщина, почти с головой укрытая одеялом. Настя нашла на столе блюдце и поставила в него свечу.
– Ну что, бабуль, расхворалась? – сказала Настя, наклоняясь к кровати, открывая лицо бабушки и целуя ее в обе щеки.
– А, внучка, хорошо, что ты пришла, садись, отдыхай, я сейчас встану.
– Я не одна, с другом. Смотри, кавалер какой! – Настя стрельнула глазами в мою сторону. – Его зовут Артем.
– Здравствуйте, – сказал я.
– Правда, что ль, кавалер? Смотри, Настька, не время тебе еще детей заводить. Сейчас это не модно. Это раньше у нас было: четырнадцать-пятнадцать лет – фьють – и замуж. Так тогда ж достаток был, а сейчас… одно слово – разруха…
– Бабушка, я пошутила. Это мамкин знакомый. Она прислала его помочь тебе по хозяйству.
– Ах ты, проказница, все тебе озорничать. Скажешь тоже – кавалер! Ну, как у вас, у русских говорят, соловья баснями не кормят. Вы же с дороги, есть, конечно, хотите, – засуетилась женщина, тяжело вставая. – Ходить, понимаешь, могу, а поднять ведро уже тяжело; вот здесь стреляет, совсем тянет, мочи нет…
– Там мать тебе мазь положила, надо натереть поясницу. Будет жечь, но зато поможет.
Слегка прихрамывая, бабушка пошла в прихожую, позвала:
– Настя, давай еду на стол носить. Я как знала, что вы придете, с утра наготовила.
На вид Настина бабушка была совсем древняя, но на самом деле ей, может быть, было и не так много лет – разве разберешь женщин Кавказа… Наелся я в тот вечер от пуза. Никогда не ел с таким аппетитом, разве что в первый день у Таисии, но тогда я не чувствовал вкуса еды. На столе был козий сыр, масло, лобио, сациви и еще какие-то грузинские блюда. Все очень вкусное. Настя все время смеялась надо мной, вернее, над тем, что я ничего не знаю и никогда не был в настоящем горном селении, а уж тем более понятия не имею о местной еде.
– А я теперь себе приготовлю и потом ем дня три, а то и целую неделю, – улыбалась бабушка. – Старая стала, ленивая…
После сытной трапезы мне отвели персональную кровать, стоявшую за ширмой в прихожей, и заботливо уложили спать. Засыпал я долго, хотя за день порядком устал. Уснул на рассвете под тревожное пение горластых петухов. Поспал часа два, а потом услышал, как проснулась бабуля, а за ней и Настя.
– Эй, – позвала тихо девочка, – Артем, ты не спишь? – Она заглянула через низкую ширму, в руках у нее была кружка. – Хочешь?
– А что это?
– Молоко, что же еще. Чудной ты!
– Да откуда я знаю, может, ты меня отравить решила? – пошутил я.
– Да ты что? – обиделась она – Разве я могу? Ну, будешь пить? – девочка сунула мне кружку и присела на мою кровать. – Ты говорил, что на геодезиста учился. Это что-то вроде землемера?
– Ага.
– А что ты будешь измерять?
– Да что угодно!
– А в жизни чего хочешь добиться?
– Я как-то не думал об этом. Вот отслужил бы два года, тогда б и решил, если бы все по-справедливому было.
– А я в городе хочу учиться, в Ростове, – вздохнула Настя.
– Почему в Ростове, а не в Москве? – спросил я.
– В Москву все хотят, только, кто же меня туда возьмет?
– А кем ты хочешь стать?
– Не знаю. Просто в Ростове тетка живет, если школу закончу, поеду к ней, устроюсь на работу куда-нибудь. Я поваром могу. Меня дядя Малхаз научил. Я немного в грузинской кухне понимаю. Или в МЧС пойду.
– А при чем тут МЧС и кухня?
– Это тебе не обязательно знать. Ты пей молоко, да пойдем сено ворошить. Его знаешь сколько!
– Так это… а поесть, – вспомнив вчерашнее обильное угощение, спросил я.
– А ты еще не заработал и вообще дезертирам не положено. Только в исключительных случаях, – девчонка дерзко показала мне язык.
– Ну, ладно, – вздохнул я. – Значит, придется умереть с голоду.
– Не умрешь. Бабушка не даст. Она добрая. Тебе повезло, – хитро улыбнувшись, Настя вскочила с кровати и убежала.
Напившись молока, я вышел во двор и начал изучать обстановку. Все было в диковинку: просторный полупустынный двор, низенький забор, сложенный из булыжников, покошенный сарай-мазанка. Но тут меня позвала Настя. Пройдя через калитку возле сарая, мы вышли в сад-огород и оказались возле еще одного сарайчика-развалюхи, в который и нужно было складывать высохшее сено.
– Куда его столько? – спросил я, заглядывая под покрытую рваным рубероидом крышу.
– Надо – ответила Настя, вручая мне в руки огромные деревянные вилы. – Твоя задача простая, – объяснила она, показывая на огромный ворох сена. – Вот это все нужно раскидать, а вечером собрать и так несколько раз, чтобы трава высохла, понял?
Я кивнул и принялся за дело. Сначала мы работали молча, но потом мне надоело молчать, однако долго не мог подобрать тему для разговора. Да и о чем можно было говорить с этой девочкой? Какие у нас с ней могли быть общие интересы? История? Философия? Природоведение? Что они там еще учат в школе? А что, природоведение – мелькнуло у меня в голове, – разве это не тема?
– А зимой тут как? Снега много бывает? – спросил я.
– Здесь, в долине, мало. Он быстро тает и только высоко в горах лежит почти круглый год.
– А местные жители чем занимаются?
– Разводят кур, овец, коз, растят виноград, но жизнь здесь тяжелая. Все приходится делать вручную. С тех пор как развалился Cоюз, электричества нет.
– Прекрасно, наверное, так жить: тихо и мирно, ни от кого ничего не требуя, никому ничем не быть обязанным. Жизнь ради жизни… А то придумают: смерть ради жизни! Чушь… На фига мне чужая жизнь, если меня убили? А тут живи себе и живи. Ни начальников тебе, ни подчиненных, и уж тем более никаких военкомов…
– Нет! Здесь не жизнь, а тоска! Не по мне все это, – щурилась на солнце вспотевшая Настя.
В полдень мы решили перекусить прямо на свежем воздухе. Настя принесла из дома еду: вареные яйца, бутылку козьего молока, порезанный на ломтики сыр, хлеб домашней выпечки и разложила все это на постеленном возле копны платке. Аппетит мы нагуляли – будь здоров! Еду запивали молоком, передавая бутылку друг другу. Потом отдыхали, лежа на сене бок о бок.
– Я все переживаю за мать, – вздохнув, сказала Настя. – Ну что она с этим Павлом! Ведь когда мальчишка прибегал, он записку ей от него передал…
– Я догадался.
Настя внимательно посмотрела на меня, потом добавила:
– И еще флакон духов. Вот мать и отправила нас сюда, чтобы не мешали им любиться.
– Если у них такая любовь, что ж они не женятся?
– Зачем мне такой отчим? К тому же, чтобы расписаться, надо ехать в райцентр, а это лишние сложности. Но Павло козыряет тем, что накопит денег и увезет маму совсем.
– А как же ты?
Настя не ответила. Мне захотелось ее успокоить.
– Да, жизнь сложная штука… А тут еще я, как снег на голову.
Настя во многом была похожа на свою мать – такая же самостоятельная и гордая. Но за работой я постоянно ловил ее взгляд – девочка, словно пыталась понять меня. Интересно, о чем она думала? А какая будет, когда вырастет? Лицо не такое уж красивое, но милое. Черты немного крупноватые, нос с горбинкой… Вот только волосы, как это золотистое сено… Они, кажется, и пахнут также – ароматной свежестью. А в целом девчонка неказистая. Но из таких утят потом вырастают белые лебеди…
Спокойно, без суеты прошел день. За ним – другой.
Мы заготавливали сено, пололи грядки, наводили порядок во дворе, в курятнике и в загонах для коз. Постепенно, день за днем, привыкал я к Насте. И если в первые дни смотрел на нее, как на вредную девчонку, то теперь стал относиться к ней, как к младшей сестренке. Я уже не представлял себе жизнь без ее капризов, без забавных рассуждений и неожиданных выводов. Она была не такой опытной и предусмотрительной, как Таисия, но достаточно расчетливой и знающей, что ей нужно. И это вызывало уважение. Наши «я» были очень похожи.
Однажды в полдень, когда мы с Настей обрезали ветви виноградной лозы, моя напарница ушла на сеновал. Еще немного поработав, я отправился следом. Чтобы не тревожить девочку, постарался бесшумно войти в открытую дверь сарая. Настя лежа рассматривала какую-то фотокарточку и не сразу заметила меня. Вдруг она испуганно вскинула глаза и спрятала фото.
– Что это у тебя? – спросил я.
– Ничего, – сказала она недовольно, потом подумала и вынула фотокарточку: – Впрочем, на, посмотри. Он тебе нравится?
Я прилег рядом. На фотографии на фоне моря с гордым видом стоял молодой, высокий, очень худой кавказец.
– А что он, женщина, чтобы мне нравиться, – шутливо ответил я.
– Нет, правда, как он тебе?
Почувствовав, что ей на самом деле важен мой ответ, я постарался сказать, что думаю:
– В общем, этот джигит ничего, лицо у него, вроде, нормальное, видимо, думающий человек.
– Да, это очень развитый мальчик, – обрадовалась Настя. – Живет в бабушкином городе, точнее, сейчас учится в Москве в университете, после первого курса приехал на каникулы.
– Наверное, родители у него богатые, раз может позволить себе в Москве учиться, – сказал я.
– Да, ты прав. Но он на самом деле умненький мальчик. Это мой друг. Он серьезно изучает языки и книг много читает, – после паузы Настя вдруг вскинула на меня глаза. – А ведь это он меня испанскому танцу обучил. Как он танцует! Если б ты видел! В Москве, в студии обучается.
Мне стало стыдно, что я ничему подобному не обучен, да и вообще мало что умею. Правда, в детстве пробовал заниматься и плаванием, и борьбой, и легкой атлетикой, но быстро все бросал. Было неинтересно. Мне показалось, что Настя, рассказывая о достоинствах своего друга, сравнивает меня с ним, и я немного обиделся. Она почувствовала это и толкнула меня в бок.
– Ты чего? Ревнуешь что ли? Я же сказала: он мне просто друг и ты друг, разве нельзя дружить сразу с несколькими людьми?
– Да нет, можно.
– Вот и хорошо. Я тебя когда-нибудь с ним познакомлю!
Вскочила и куда-то умчалась. Некоторое время я продолжал работать один, а потом, решив, что девочка на что-то обиделась, воткнул вилы в собранную копну и пошел искать Настю. Но ее нигде не было – ни на сеновале, ни во дворе, ни на улице. Вошел в дом. Бабушка Софико стояла на коленях перед образами, разместившимися в углу передней комнаты. Она не обернулась на мои шаги, а я застыл в дверях, боясь потревожить ее молитву.
Наконец старушка поправила черный платок, зашамкала губами, опираясь на скамью, тяжело поднялась, выпрямилась и, не оборачиваясь, проговорила:
– Ну что стоишь, джигит? В ногах правды нет. Так у вас говорят? А Настя в лес убежала, сказала, к вечеру вернется. Не переживай, это у нее бывает…
– А откуда вы узнали, что я вошел?
– Э, милый, поживи с мое, затылком видеть будешь. Садись к столу молочка попей с лепешками, я только что испекла.
До вечера мы просидели с Настиной бабушкой за столом у раскрытого окна, из которого просматривалось зеленое, покрытое лесом ущелье. Бабушка рассказывала о том, как погиб на границе ее муж, а потом, вовлеченный в события, связанные с переделом Грузии, сложил голову и сын.
Настя пришла, когда солнце зашло за гору. Она молча попила молока и легла на кровать в передней комнате, отвернувшись к стене. Мне не спалось. Я сел у окна и стал разглядывать появившиеся на небе звезды.
– Ты где была? – спросил тихо, чтобы не разбудить бабушку.
– Загорала на лесной поляне.
Я не знал, о чем ее еще спросить, но девочка заговорила сама:
– Уеду я, наверное, снова в город.
– Тебе со мной скучно?
– Ты странный какой-то и веселиться не умеешь.
– А твои подруги умеют?
– Умеют. Там не только подруги…
Новые впечатления
Мы отдыхали на сеновале, подстелив под себя широкий бабушкин плед.
– Ты неразговорчивый, – внезапно произнесла Настя. – Все надо вытягивать. Сознавайся, ты хитрый и скрытный и никогда не говоришь, что у тебя на уме.
– А что же мне, все время про свои беды рассказывать? – усмехнулся я.
– И что же у тебя за беда?
– А кто меня дезертиром дразнит?
– И правда… Что тебе теперь будет? Тебя ищут, наверное, – задумчиво произнесла девочка и тут же встрепенулась – Ничего, останешься здесь в деревне, пока там все не утихнет, а потом вернешься.
– Ага, с бородой, седой такой старик. Робинзон Крузо.
– Нет, не Робинзон. Я буду к тебе приходить.
– По пятницам, что ли? – засмеялся я.
– Да ну тебя! Я серьезно, а ты… – обиделась Настя.
Помолчали.
– Ты, думаешь, они так долго воевать будут? – вдруг испуганно спросила девочка. – Значит, этот гад Павло нас долго еще мучить будет…
– Да может, его убьют раньше.
– Хоть бы и убили. Только плохо так говорить. Лучше бы он от мамы отстал…
Настя сделалась задумчивой, потом, ничего не сказав, ушла в дом. Было ясно, что у нее жизнь тоже не сахар и что если бы не Малхаз, девчонке было бы совсем плохо.
Я долго сидел один, наблюдая, как солнце, садящееся за гору, освещает последними лучами виноградник, начинающийся за небольшим огородом. Там было много неспелой «Изабеллы». Постепенно мысли вернулись в обычное русло. Если меня считают убитым и списали, как текущие потери, это может быть, и неплохо… Но, с другой стороны, куда мне деваться без паспорта, без денег? А если ничего не предпринимать, то так можно всю жизнь просидеть в горах и всю жизнь бояться, что тебя найдут и будут судить. Вспомнил, как когда-то в старой газете видел фотографию мужика, похожего на дикаря. Еще во время Великой Отечественной он спрятался в сарае то ли от немцев, то ли от своих и просидел там лет пятьдесят. Кто-то его кормил. А выходил он только по ночам – вот как боялся! А чего бояться в семьдесят-то лет?
Впрочем, тут же вспомнился рассказ покойной бабушки о том, как умирал ее дед. Ему уже было под девяносто, когда большевики отобрали у него все: дом, землю, лошадей… Он был вынужден доживать последние дни у соседей, которые поставили ему кровать в сенях, рядом со свиным хлевом и курятником. Так вот, перед смертью в свои девяносто лет прадед подозвал мою бабушку и сказал, что ему страшно умирать…
Наконец совсем стемнело, и я пошел в дом. Настя с бабушкой сидели за столом и слушали приемник. Заботливая Софико налила мне чаю и пододвинула тарелку с вкуснющей чурчхеллой.
– Вот опять у вас цены подняли, а зарплату не дают. В Грозном война идет. Такая была большая страна. Все жили мирно. Кто нас всех перессорил?
– Такие, как Павло, и поссорили, – вмешалась Настя.
– Кто такой этот Павло? – удивилась Софико.
– А ты разве не знаешь? Мамкин новый ухажер.
– Эх, глупое дитя, что же маме одной теперь всю жизнь вековать? Когда мой муж умер, мне тоже одной плохо было. А уж сейчас и вовсе трудно. Хорошо ты пришла и вот Артем твой…
– Да никакой он не мой, просто помогает. Дезертир!
– Э-э, зачем так говоришь о молодом человеке. У него тоже гордость есть. Я видела, как он козу доит. Смешно, ой смешно, но она его слушается! Чувствует, что мужчина. Хозяин. А ты так говоришь. Дезертир, зачем дезертир? Если человек не хочет воевать, зачем силой тянуть?
– Да, бабушка, ты скажешь. Если никто воевать не будет, кому же тогда страну защищать?
– Какую страну? Чечня хочет жить самостоятельно, зачем мешать этому? Ах, впрочем, внучка, сейчас с этой демократией столько бандитов развелось, и, правда, страну защищать надо. Артем, у тебя родители есть?
– Есть, мама.
– Вот будет убиваться, плакать. Она ведь тебя потеряла…
– Я не оправдываю себя. Знаю, в Чечне гибнут мои сверстники…
– Хватит, все равно назад пути нет, – сказала Настя.
– А может быть есть? Послушай, Настя, а твой дядя посылал куда-нибудь письма? Вообще вы с кем-нибудь переписываетесь? Это я к тому – дошло письмо к маме или нет, как ты думаешь?
– Наверное, дошло. Не знаю. Давай ты новое напишешь, а я, когда поеду в город, его опущу. Нет, отнесу прямо на почту. Сильно переживаешь?
– Конечно.
– А вообще-то ты правильно сделал, что сбежал, – Настя пристально посмотрела на меня и после паузы добавила: – Тебя все равно бы убили в первом бою. Ты беззащитный.
– Это почему еще?
– Да ты не обижайся. Просто ты не рожден быть воином. Не дано тебе.
– А кому дано? Уж не тебе ли?
– Я ведь не мужчина, но себя в обиду не дам. Меня отец научил. Пойдем, покажу.
– Что? – удивился я.
– Пойдем, пойдем, не бойся.
Мы вошли в сарай, и Настя протянула мне деревяшку:
– Представь, что это нож, и ты на меня нападаешь. Ну, держи крепко и бей сверху.
Я замахнулся, и вдруг полетел вперед, с трудом понимая, что произошло. Настя, ловко перехватив мою руку, резким рывком потянула вперед. Понял, что она поймала меня на движении.
– Ого, – выдохнул я и, вскочив на ноги, ударил уже снизу.
Снова моя рука ушла в сторону, и я получил коленом в живот.
– Вот ты и готов, – сказала Настя, намекая на то, что могла ударить меня ниже.
– Это против ножа или палки, – заметил я, – а вообще здорово. Ты молодец.
– А хочешь, я тебя научу? Это просто. Обычные законы физики. Встань еще.
Я встал в стойку и сделал замах.
– Опускай руку медленно, – скомандовала Настя. – Вот видишь: твоя последняя фаза – наклон. Сейчас весь твой вес переместился в удар, и, если тебя дернуть вперед, ты полетишь дальше. Скорость умножится на вес. А мне нужно только вовремя увернуться. Я еще и не такое видела. Знаешь, как спецназ умеет?
– Нет, – покачал я головой.
– Они двумя пальцами отводят в сторону штык-нож и выхватывают у тебя автомат, а еще так могут, что ты сам в себя стреляешь. Только я так не умею. Ну, хочешь, будем тренироваться?
– Не знаю, – пожал я плечами, – можно попробовать.
Возились мы часа два. Закончили усталые, испачканные сеном. Я слегка поранил ладонь, Настя сразу это заметила и лизнула мне руку, а потом приложила к ране зеленый листик. Важно пояснила:
– В слюне есть вещества, которые убивают бактерии.
Отец Георгий
Так прошло несколько дней, но тут неожиданно нашей беззаботной жизни пришел конец. Известия из крепости заставили меня покинуть уединенный уголок земли, где нам с Настей было так хорошо. Мальчик принес записку: Таисия велела нам возвращаться, и мы собрались в путь. Бабушка Софико собрала снохе полную корзину гостинцев, так что обратно идти было нелегко. Дорогой я думал о том, что придется снова вести убогое существование, проводя большую часть времени в подземелье, подобно кроту. Настроение было испорчено окончательно. Однако я и предположить не мог, что в тот же день окажусь в центре событий, можно сказать, исторических – по местным меркам.
Когда мы подходили к крепости, перед нами буквально вырос дядя Малхаз. Мне даже показалось, что он шел за нами следом, а потом обогнал, чтобы впечатлить нас внезапностью своего появления. При виде небритого сурового горца мне стало не по себе.
– Настя, – настороженно сверля меня пронзительным взглядом, спросил он, – а что это за герой? Ты кто?
– Это мой друг Артем, – Настя дернула меня за руку. – Познакомься: это мой дядя Малхаз. Брат моего отца.
Малхаз решительно и твердо протянул мне мозолистую ладонь.
– Гомарджоба. Здравствуй, – сказал он сипловато, крепко пожал мою руку и снова оглядел меня с ног до головы.
– Вот и познакомились, – радостно сказала Настя и, взяв нас под руки, повела в крепость. – Мама одна? – спросила она у Малхаза.
– Одна, ушел ее дружок. Похоже, надолго. Там стали воевать по-крупному. Думаю, и до нас скоро доберутся, – Малхаз кивнул в мою сторону. – Где же ты такого друга нашла? Он вроде не из местных. Эй, парень, ты откуда такой взялся?
– Из Москвы – ответил я, немного стесняясь.
– А что так тихо? – заметил Малхаз. – Боишься чего?
– Да нас, москвичей, нигде не любят, вот я и…
– А-а, любят, не любят… Какое мне дело! У вас свои проблемы, у нас свои. Ты здесь зачем?
– Долго рассказывать – ответил я.
– Дядя Малхаз, он человек надежный, только попал в нелепую ситуацию. Из армии он дезертировал. Теперь вот его совесть мучает, – пояснила Настя.
Я поежился.
– Так просто: дезертировал, совесть мучает, – усмехнулся Малхаз и спросил: – Это правда?
Я кивнул.
– Там такая стрельба началась, а мы еще присягу не приняли. Вот я и подумал, что право имею… Но получается, что и своих предал. Я уже много на эту тему передумал…
Малхаз вздохнул, еще раз внимательно посмотрел на меня, потом, потирая ладонью небритые скулы, стал приговаривать:
– Ну да, ну да. Может, ты и прав. По тебе видно, что искренне говоришь. Пойдем.
Мы вошли в крепость, ворота которой оказались открытыми. Вышедшая к нам навстречу Таисия светилась радостью, но Настю поцеловала сдержанно. Потом Малхаз уединился с Таисией, и некоторое время они о чем-то разговаривали. Я выпытывал у Насти, о чем они могут шептаться, но она только пожимала плечами, успокаивая меня, что все будет хорошо. Оставалось только верить ее словам.
После разговора с Таисией Малхаз отозвал меня в сторону и, немного помолчав, сказал:
– Артем, послушай дорогой, хочешь, чтобы тебе спокойнее на душе стало, хочешь джигитом себя почувствовать?
Не понимая, к чему он клонит, ответил:
– Ну, хочу.
– Дело наше правое, – начал доверительно Малхаз. – Мы за родную землю воюем. Я руковожу ополченцами, и мне нужно отнести в деревню оружие. Поможешь мне?
Я пожал плечами, посмотрел на Настю. Та слышала обрывки нашего разговора и теперь ждала, как я поступлю. Мне не хотелось, чтобы она считала меня трусом.
Малхаз, видя мою нерешительность, добавил:
– Дело-то пустяковое. Однако вроде как на боевом задании побываешь.
Еще раз посмотрев на Настю, я ответил:
– Хорошо, помогу.
Оказалось, что Малхаз прятал в крепости оружие, и это было еще одной причиной его неприязни к Павлу. Как я узнал позже, Павло тоже имел здесь схрон, и однажды Малхаз нашел его тайник, но чтобы не подставлять Таисию, из всей партии поменял всего два новых автомата на старые. Поначалу это не бросилось в глаза, но когда боевики вернулись, они что-то заподозрили, и Павло устроил Таисии разборку, хотя ни деталей, ни каких-либо подробностей мне не рассказали.
Под покровом ночи мы с Малхазом стали переносить за пределы крепости автоматы Калашникова и боеприпасы к ним. Сделали несколько ходок к оврагу.
Здесь к нам присоединились два молодых грузина, и мы быстро переправили оружие в деревню.
Дорогой я спросил:
– Малхаз, а зачем вам столько оружия? Собираетесь с кем-то воевать?
Мой вопрос явно не понравился, он резко ответил:
– Не твое дело. Меньше знаешь, крепче спишь, – и стал говорить по-грузински со своими помощниками.
Когда подошли к селению, Малхаз сказал:
– Отдай автоматы им. Подожди меня у виноградника.
Парни навьючили на себя дополнительную ношу, я же остался стоять в тени лозы. Когда Малхаз вернулся, он сказал:
– Пойдем, у нас там праздник – я тебя приглашаю.
Отказываться было бесполезно, и вскоре я сидел в одном из домов в окружении бравых джигитов за накрытым столом, уставленным большим количеством бутылей вина. На почетных местах находились два старца – самые уважаемые в селении люди. Застолье выглядело очень благопристойно. Оно совсем не напоминало нашу бесшабашную, безудержную пьянку, когда, крепко набравшись, публика идет в разнос. Джигиты поочередно выходили на круг и лихо отплясывали национальные танцы. Один стучал в барабан, другой играл на каком-то инструменте, типа зурны, названия которому, к сожалению, я не знаю и сейчас, а сам Малхаз самозабвенно шпарил на гармонике. Она была старая и совсем не похожа на нашу русскую гармонь, но звучала не хуже, а может быть, даже и лучше. Малхаз играл просто виртуозно.
Заставив меня выпить изрядное количество вина и похлопав по спине, он предложил присутствующим тост за дружбу и понимание между нашими народами, а когда мы уже стали своими, как говорится, в доску, велел мне выйти на круг и изобразить что-нибудь как представителю дружественного народа. Помню, я растерялся и сказал, что плясать не умею, но могу сыграть на гитаре.
Принесли инструмент. Подкручивая колки, я одновременно раздумывал, что бы спеть. Еще в школе у нас были популярны частушки на кавказский мотив.
Несколько куплетов пришлись как раз к месту, и я, что называется, дал себе волю. Особенное одобрение вызвал куплет следующего содержания:
Если друг пришел домой, Шахер-махер ставь на стол, Если выпил и загрустил — Ты не мужчина, не грузин…После этого меня, можно сказать, зауважали, и впервые Малхаз назвал меня «братом».
Конец веселью пришел совершенно неожиданно. С рассветом на окраине деревни, совсем недалеко от дома, где мы находились, вдруг прогремел сильный взрыв, и сразу началась стрельба. Мужчины повскакивали со своих мест, бросились к оружию. Мне тоже сунули автомат, но я его тут же выронил, потому что у самого окна что-то разорвалось и ослепило меня. При падении зацепил торшер и грохнулся вместе с ним на пол. Затем последовал еще разрыв, и я потерял сознание. Очнулся от толчка в живот. Меня пинали ногой.
– Э, Саши, а вот этот вроде живой, смотри, дышит, – раздался надо мной голос.
Двое мужчин подняли меня с пола.
– Вставай, друг, – обратился ко мне мужик с окладистой бородкой. – Пойдем, будешь нас прикрывать, а то твои дружки очнутся и пойдут в погоню.
Второй, лица которого я не видел, тихо засмеялся. Появившийся в проломе стены еще один кавказец что-то крикнул на своем языке, и меня куда-то поволокли.
Через несколько десятков метров бросили на землю, завязали глаза, а потом подняли и усадили на подъехавшую телегу. Еще слышались выстрелы, но телега медленно увозила меня в очередную неизвестность…
Спустя какое-то время сидевший рядом со мной мужчина сказал:
– Что, парень, не повезло тебе. Ты сам кто?
– Артем…
– Русский, а с грузинами песни поешь! – удивился все тот же голос. – Значит, ты с ними против нас воюешь.
– Нет, я попал в деревню случайно. Шел в Армению к другу. Что вам от меня нужно? Я даже не знаю, кто вы такие! Откуда мне знать, кто с кем воюет?
– Э-э, не прикидывайся дурачком. Скажи еще, что в гости приехал к любимой бабушке. Ну, рассказывай, откуда ты?
– Я вам правду говорю: направляюсь в Армению к другу, а из-за войны приходится добираться на перекладных. Заблудился и долго не мог найти прямой дороги, а в деревню попал совершенно случайно. Могу вам адрес назвать, проверьте. Друга Борисом зовут. Борис Голубев.
Сидевший на телеге стал совещаться с двумя пешими сопровождавшими. Они говорили что-то на своем языке. Я так и не понял, то ли это были грузины, то ли абхазы, то ли осетины. Кто их там разберет?.. Одним словом, – горцы.
Часа два, наверное, мы тряслись в телеге по утренней прохладе. По дороге нас догнала еще одна подвода. Наконец, судя по крикам запоздалых петухов, мы въехали в селение. Повозка остановилась, и меня куда-то повели. Скрипнула дверь. Втолкнув внутрь какого-то помещения, мне сняли с головы повязку. Я исподтишка осмотрелся. Это был, скорее всего, сарай или просторный амбар, освещаемый лишь проникающими через щели лучами солнца.
Но разглядеть мне его не дали, открыли люк в земле и толкнули вперед:
– Лезь в яму!
Послушно спустился по ведущей в подземелье лестнице. Люк надо мной закрылся. В подвале было еще несколько узников. Кто-то из них вскоре чиркнул спичкой, зажег лучину и осветил мое лицо. Я увидел унылые лица троих кавказцев и совсем лысого старика, который своим гордым видом сразу вызывал уважение. Один из молодых спросил, как меня зовут, потом назвался Хфитисом и представил других. Старик, помедлив, назвался сам.
– Зови меня Георгием, – сказал он с тяжелой отдышкой.
Мне почему-то сразу захотелось называть его на церковный лад, отцом Георгием. Он все время кашлял и просил пить. Видимо, у него был жар. Оглядевшись, я увидел жбан с какой-то жидкостью и плоскую чашку подле него.
– Это что, вода? – спросил я.
– Да, – вяло ответил Хфитис.
Я налил в чашку воды и, нерешительно нащупав в кармане носовой платок, вынул его. Рассматривая нарядные узоры по углам, вспомнил Таисию. Потом, вздохнув, смочил платок в воде и приложил к голове старика.
Мой вздох не остался незамеченным. Старик посмотрел на меня с благодарностью и спросил слабым голосом, указывая на платок:
– Тебе дорога эта вещица?
– Да, отец.
Потом наступило долгое тягостное молчание. Я осмысливал, что со мной произошло, состояние было подавленное. Вскоре один из парней начал приставать ко мне с дурацкими вопросами, на которые я не мог дать ответа. Он очень боялся, что его убьют или продадут в рабство. В принципе такая перспектива ждала и меня…
В отличие от этого парня больной старик держался достойно. Потом нытика и еще одного парня забрали. Нас осталось трое.
– Не бойся, – говорил мне отец Георгий. – Скоро меня выручат, и тогда, если все будет в порядке, я тебе тоже помогу.
Не очень верилось немощному старику, который слабел день ото дня. Время тянулось страшно медленно, и в любую минуту нас могли вывести и расстрелять где-нибудь в овраге…
От баланды, которую нам раз в сутки спускали на веревке в ведре, меня поначалу тошнило. Потом как-то привык. В придачу к баланде каждому бросали маленький, черствый кусок хлеба. Свой я отдавал совсем ослабевшему старику.
Через несколько дней увели Хфитиса.
– Ну вот, – сказал старик, еле шевеля губами, – скоро придут за мной.
– Да нет, отец Георгий, вас не убьют, – успокаивал я его.
– А кто тебе сказал, что меня убьют? Нет, меня выкупят. Им меня убивать нельзя, невыгодно.
Я не стал допытываться, понимая, что старику трудно говорить, хотя мне было интересно узнать, кто он такой и как попал в плен.
К концу второй, а может, уже и третьей недели, я сильно ослаб. От баланды сил не прибавлялось, ел ее скорее машинально. Сон был беспокойный, в кромешной тьме при почти полном бездействии трудно было понять, спишь ты или уже находишься в ином мире. Иногда во тьму проникал рассеянный свет, и я видел каких-то людей. Что это было: видения, галлюцинации или сны – разобрать трудно. Только прерывистое дыхание старика меня немного успокаивало: он был моей последней надеждой. Однажды Георгий совсем затих, и я, преодолев оцепенение, стал прислушиваться. Проходили мгновения, а мне казалось, что прошло уже очень много времени. Столбенея от страха, подполз к старику, нащупал его тело, приложился ухом к груди. Внезапно он начал колотиться от слабого смеха. Потом старика пробил кашель. Я поднес чашку к его губам, придерживая голову. После этого он, слабо откинувшись на скомканную телогрейку, спросил:
– Ну что, сынок, испугался? Думал, умер? Я у тебя еще на свадьбе погуляю, – затем слабой рукой нащупал мою голову и погладил по волосам.
Больше всего убивала неопределенность. Мне никто ничего не предлагал и не говорил со мной. За это время могли бы предложить мне освобождение за выкуп – не знаю, что еще может быть в такой ситуации. Возможно, они хотели меня на кого-то обменять и просто ждали подходящего случая. Но когда этот случай произойдет?! Через год, два, а может быть, никогда…
Наконец пришли и за стариком. Двое надзирателей спустились в подземелье и, обращаясь с отцом Георгием бережно, как с сокровищем, стали аккуратно поднимать его наверх. Старик властно остановил их.
– Артем, подойди ко мне, – позвал он.
Я повиновался.
– Вот, видишь, сынок, я же говорил, что меня выручат. Держись, я тебе помогу. Ты хороший человек, хотя я о тебе почти ничего не знаю. Но ты отдавал мне свой хлеб, и я этого не забуду. А платок береги. Потом постираешь, он будет, как новый, – отец Георгий улыбнулся и скомандовал на местном наречии: – Поднимайте!
Я почти плакал. Мне было жалко расставаться с человеком, к которому успел привязаться. Трудно было оставаться совсем одному без всякой поддержки.
Прошло, наверное, не меньше недели, и я дошел до полного отчаяния. Георгий про меня, должно быть, забыл или умер в дороге. А Настя? Таисия? Малхаз? Похоже, с ними тоже что-то случилось…
Помощи ждать было совершенно не от кого, а бежать невозможно – тяжелый железный люк всегда был закрыт сверху на засов. «Ну что же мне так не везет? – думал я. – Зачем согласился помогать этому Малхазу? Что им всем от меня нужно? Лучше бы сразу убили».
И вдруг произошло невероятное: за мной пришли, снова завязали глаза и повезли на телеге. Через пару часов в каком-то ущелье передали людям Георгия, которые тут же сняли с моих глаз повязку. Они объяснили, что Георгий заплатил за меня выкуп. От них же я узнал, что этот чахлый, но гордый старик не последний в горах человек.
Когда мы приехали в его хорошо охраняемый роскошный дом, он принял меня на пороге, как сына, со слезами на глазах. Мы обнялись. Старик уже достаточно окреп, и в его объятиях чувствовалась сила.
– Артем, дорогой! – радовался он, взмахивая руками, и, позвав полную женщину в цветастом платье, сказал: – Зарема, это Артем! Это он за мной, как за отцом, ухаживал!
– Проходите, проходите в дом, гость дорогой! – засуетилась женщина.
Зная обо мне только, что я путешественник, Георгий предложил пожить у него, сколько пожелаю. Ни в первый день, ни в последующие, я ни в чем не знал отказа: кушанья всегда были самые изысканные, любое мое желание удовлетворялось, условия для отдыха предоставлялись самые комфортные. Например, отведенная мне для проживания комната утопала в коврах, кровать была с огромной периной, лежа на которой, я не чувствовал своего тела.
После ужина мы с отцом Георгием переходили из просторной гостиной в каминный зал и, сидя в кожаных креслах у уютно потрескивающего огня, вели долгие разговоры. От него я узнал, что мы были в плену у банды, специализирующейся на похищении и торговле людьми. Причем похищали бандиты всех без разбора: стариков, женщин и мужчин разных национальностей. Потом людей освобождали за выкуп, либо продавали в рабство. Я старался не задавать Георгию лишних вопросов, а сам он о себе почти ничего не говорил. Даже когда в первый день, рассматривая на стене фотографию молодцеватого усатого артиллериста в военной форме, я спросил: «Отец Георгий, а в Великую Отечественную вы воевали?», – он ответил сухо: «Да. Но вспоминать об этом не люблю, – и добавил: – Это один из моих пятерых братьев. Они все погибли на войне». Долго я не решался говорить о себе настоящую правду, но однажды все рассказал откровенно – что дезертир, что пробираюсь к другу в Армению.
Думал, Георгий, воевавший с фашистами за нашу страну, меня осудит, но он только загадочно сказал:
– У каждого человека судья где-то глубоко внутри находится. Тебе решать, как жить дальше. Но мать забывать не должен. Если пожелаешь, я отправлю тебя в Москву.
Я не ответил. Отец Георгий понимающе вскинул брови и добавил:
– А если хочешь, у моря можешь пожить. В пригороде Сухуми у меня есть уютный дом.
Я вспомнил, как Настя мечтала съездить на море, и промолчал.
Больше недели я приходил в себя, и все это время чувствовал заботу и внимание. Написал новое письмо маме. С почтой здесь было проще, и я знал, что письмо наверняка дойдет. На этот раз оно было длинное. Изложил все по порядку, исключая ненужные подробности своих приключений, и заверил маму, что со мной все хорошо, и нахожусь под опекой доброго и богатого человека, но идею добраться до Бориса не оставил. Еще раз предупредил, чтобы о моих письмах она никому не говорила, особенно если мной будут интересоваться из военкомата.
Как-то раз после ужина мы не перешли по обыкновению в каминный зал, а продолжали маленькими глотками смаковать прекрасное «Киндзмараули», оставаясь за убранным столом в гостиной.
– Завтра отвезу тебя в одно место, – сказал Георгий, задумчиво поворачивая стоящий на столе стакан с темно-рубиновой жидкостью. – Оттуда уже не возвращаются или возвращаются, но очень редко, – он посмотрел на меня серьезно, добавил: – Не бойся, это хорошее место.
Осознание
Наутро меня разбудил сын Георгия Иван, и мы вышли во двор. Старик в плаще, с накинутым, как у монаха, на голову капюшоном, уже сидел в повозке, запряженной парой серых лошадей, и держал вожжи. Я устроился рядом с ним. Мне было и страшно, и одновременно любопытно. Куда он хочет меня отвезти, зачем?
– Куда мы едем? – спросил я, когда хозяин хлестнул вожжами, и лошади тронулись.
Георгий промолчал. Вдруг трое сопровождающих, которые вышагивали по разные стороны повозки, затянули песню, грустную, больше похожую на поминальную молитву. Часа через три мы поехали в гору. Все время вверх и вверх, потом спешились и вдвоем, оставив повозку внизу, отправились по узкой тропинке еще выше. Наконец Георгий заговорил:
– Ты когда-нибудь слышал про Святую гору?
– Нет, – сказал я, – а что это?
– Там, высоко в скалах живут монахи. Сейчас сам увидишь.
– А зачем мы туда идем? Вы думаете, что там я буду в безопасности?
– Ты же не хочешь ехать домой, а в Армению я тебя не пущу. Нечего тебе там делать. У твоего друга трое детей, больная жена. Ты будешь ему в тягость, разве не так?
Я удивился, как быстро Георгий навел справки о Борисе и его семье, ведь о больной жене и трех детях я ему не говорил.
– Да. Вообще-то об этом я не подумал…
– Вот видишь, старый Георгий все предусмотрел.
– А в монастыре этом много людей?
– Человек шесть осталось.
– А у них там есть телевизор, радио и все такое?
– Эх, глупый ты, – засмеялся старик. – Зачем им все это? Они с Богом разговаривают. Это лучше, чем радио или телевизор. Ты еще скажи тискотека. Это когда молодые парни девок тискают. Тискотека, да, понимаешь… Не хотят работать. Сколько молодежи без толку болтается!
– А монахи, они что делают?
– Молятся.
– И все? – удивился я. – А на что они живут?
– Им Бог дает. Сейчас сам увидишь.
Наконец мы дошли до места. На небольшом лесистом плато стояла маленькая, сложенная из камней церковь – купол ее напоминал раскрытый зонтик. Нас встретили два монаха, одетые во все черное. Георгий поклонился им в пояс, а одному поцеловал правую руку. Монах перекрестил старика, и они обнялись.
– Вот, привел к вам молодого человека, – обратился Георгий к старшему. – Он из России. Православный.
– Как звать тебя? – спросил монах. Лицо его, суровое и непроницаемое, на первый взгляд показалось мне страшнее, чем у боевика, первый раз захватившего меня в плен. Для завершения образа монаху не хватало только автомата.
– Артем, – ответил я.
– Артемий, – поправил он. – Рассказывай, брат Артемий, с чем пришел. – И добавил, обращаясь к Георгию: – А ты пойди, отдохни пока.
Когда старик ушел, монах усадил меня на широкую лавку под навесом.
– Ну, расскажи, что там у вас в Москве?
Я растерялся, пояснил, что не был дома уже три месяца, и в который раз пересказал историю моих бедствий. Монах слушал молча, казалось, что он меня даже и не слышит, а думает о чем-то постороннем, но в конце монолога покачал головой, горестно вздохнул и с какой-то тоской или укором посмотрел мне в глаза.
Нет, он не осуждал меня, не старался показать мне, какой я плохой. Монах говорил о моем поступке… Мне стало ужасно стыдно. Только теперь до меня однозначно дошло, что я дезертир, трусливо сбежавший с поля боя, бросивший своих товарищей, таких же, как и я, но принявших достойную смерть. Попытался сказать что-то в свою защиту, но монах быстро разъяснил неверность моих рассуждений, и я не возражал, понимая, что он знает нечто большее, чем любой другой человек, и имеет право так говорить. На все мои возражения и оправдания монах давал ответы, с которыми я не мог не согласиться, и в конечном счете в моем сознании произошел сдвиг, повлиявший на всю мою дальнейшую судьбу…
По его словам получалось, что, конечно, глупо зря рисковать жизнью, но не менее глупо и бояться смерти, которая все равно неизбежна, а путь настоящего мужчины, воина проходит где-то посредине…
Переночевав в отведенной нам келье, на следующий день мы вернулись в дом Георгия. Не смог, не пожелал я остаться жить в затворничестве, хотя, благодаря Георгию, монахи готовы были принять меня послушником. Я ничего еще не видел в жизни, и остаться здесь было для меня все равно, что умереть…
Уже подходя к оставленной нами внизу повозке с лошадьми, я вдруг остро почувствовал беспокойство. Обогнув скалу, вместо трех оставленных внизу человек, мы увидели целую толпу вооруженных людей. На площадке стояло два УАЗика и джип Георгия с его водителем.
Когда мы приблизились, от толпы отделился человек средних лет в высокой папахе и гимнастерке без погон. Чертами лица он походил больше на русского, чем на человека гор. Георгий о чем-то долго совещался с прибывшим, потом подошел ко мне.
– Вот так сюрприз… Теперь тебе точно надо возвращаться к монахам, – сказал он, и я уловил его в его словах некоторую иронию. Он на мгновенье задумался и добавил: – У нас здесь новый конфликт. Тебе у меня находиться опасно.
Я отвел взгляд от проницательных глаз Георгия и стал смотреть вдаль, туда, где до горизонта громоздились горы, а за ними – свобода и, может быть, хорошо оплачиваемая работа – это если рвануть за границу… Но вдруг видение исчезло и вместо него всплыло лицо монаха.
Его иконописные глаза смотрели на меня не с укором, а с улыбкой, понимающей и ободряющей. Как же я могу не оправдать его доверия и дружбы отца Георгия? А тот терпеливо ждал от меня ответа, хотя его самого ожидали люди, ему нужно было действовать. Я решительно и твердо сказал:
– Я с вами, отец Георгий! Считайте меня своим сыном… Буду вам во всем помощником.
Старик улыбнулся, притянул меня к себе, обнял.
– Спасибо тебе, сынок! Ты будешь настоящим джигитом.
Так я оказался в гуще боевых действий. Вместе с Георгием и его сорокадвухлетним сыном ушел в местное ополчение. Распутывать кавказский клубок оказалось ничуть не проще, чем знаменитый гордиев узел. Но я должен был начать наконец-то жить, а не существовать. Бороться, побеждать, терпеть поражения, неудачи, но идти вперед, а не топтаться на месте! После беседы с монахом мне очень хотелось действовать, чтобы почувствовать себя мужчиной, личностью, хотелось побороть свой страх, свою трусость, искупить, наконец, свои грехи…
Спустя несколько дней мы с Георгием сидели в окопе. Бой пока не начался. Обе стороны чего-то выжидали. Я уже имел опыт коротких стычек, но Георгий никогда не пускал меня в самое пекло. И это несмотря на то, что со мной занимался настоящий военный инструктор и я уже довольно метко стрелял из пистолета навскидку и неплохо владел приемами рукопашного боя.
Приобретая бойцовский опыт и размышляя над словами монаха, я все больше переживал, что струсил когда-то, и по большому счету предал Родину…
Теперь же в предвкушении боя, как бы подхлестывая себя, я сказал Георгию:
– Отец, а ты знаешь, раньше я как-то находил себе оправдания, теперь у меня их нет. Преступник и есть преступник…
– Ай, глупый… Какой ты преступник? Преступники те, кто всю страну развалил и разворовал. А я за нее кровь в сорок четвертом и сорок пятом проливал. Ты – жертва. Но если не хочешь воевать, то должен с детства готовить себя к войне. Вот как мой Иван. Видел, как он стреляет?
– Ну да, у вас джигиты с трех лет в седле. А где я в Москве седло найду? Скажешь тоже, – обиделся я.
– Если захочешь, найдешь. Родину защищать надо. Но не так, как это делают теперь. Раньше, при Сталине, все воевать умели. Сейчас армию развалили. Нас, – он посмотрел на меня и уточнил, – я-то по-прежнему считаю себя бойцом Советской армии, – разоружают везде. Это политика… Совсем у России плохи дела. – Немного помолчал, потом улыбнулся: – А все-таки чудной этот монах Венедикт. Молиться, говорит, надо и каяться, тогда Господь простит Россию… Слушай, а ты почему у него не остался? Он человек верный. Не выдаст, это точно.
– Человек-то он надежный, да мне с ним не по пути. Ты ведь и сам догадываешься, что у меня в душе творится…
– Ну ладно, ладно, все будет хорошо, сынок… Ты хоть веришь, что за правое дело воюешь?
– С трудом. Я за тебя воюю, отец…
Я плохо разбирался в вопросах кавказской политики и поэтому не стал ничего больше говорить. Боялся обидеть Георгия, для которого практически стал сыном…
Неподалеку, сраженный пулей, уткнулся лицом в земляной бруствер человек из ближайшего окружения Георгия. Я его часто видел в доме старика. Потом, совсем рядом откинулся навзничь еще один горец, поваленный автоматной очередью.
Иван, сын Георгия, пригибаясь в окопе, подбежал к нам с двумя товарищами. Он отодвинул в сторону убитого горца, занял его позицию и короткими очередями калаша стал сдерживать натиск противника. В промежутках между стрельбой Иван что-то кричал на своем языке. Я не понимал, чего он хочет, и продолжал стрелять в бегущих на окопы людей.
– Уходим! – наконец по-русски крикнул Иван. – Уводи отца.
Я посмотрел на Георгия. Он продолжал стрелять со странной отрешенностью на лице. Тогда Иван, что-то крикнув своим напарникам, схватил отца за рукав и потащил на запасные позиции, куда вел прорытый проход. Как ни странно, Георгий его послушался и, снимая автомат с бруствера, крикнул мне:
– Артем, отходим!
Потом Иван отстал, сказав, что прикроет нас. И практически тут же нам с Георгием преградили дорогу двое.
Они, видимо, обошли нас с фланга. Один из них, показавшийся на фоне яркого неба неправдоподобно громадным, уже передернул затвор, но рядом грохнул взрыв, и оба нападающих упали.
Один из них свалился прямо на меня, и пока я пытался из-под него выбраться, он очнулся. Тем временем Георгий успел выхватить из-за пояса нож и замахнулся на нападающего, который уже направил дуло автомата на меня. Мелькнула мысль, что все кончено, но в этот момент я услышал знакомый голос:
– Артем! Ты?! Что ты тут делаешь?
Это был Малхаз.
Как-то странно улыбаясь, он положил автомат рядом с собой, на край бруствера, а тяжело дышавший Георгий дрожащими руками с силой вогнал кинжал в ножны. Оба горца пристально, с недоверием смотрели то на меня, то друг на друга.
– Артем? Ты жив? – удивленно спросил Малхаз. – Я думал, тебя убили…
Потом внезапно оба начали смеяться. Их веселость передалась и мне.
– Что это вы? – спросил я, вытирая слезящиеся глаза.
– Так, – сказал Георгий, глядя на Малхаза.
– Вот уж не думал встретить тебя, – покачал головой тот и достал из кармана сигареты.
– Дай мне, – отрывисто произнес Георгий. – А скажи мне, Малхаз, – старик, как-то хитро прищурился, – ты помнишь Ларису?
– Какую? – спросил тот.
– Неужто, забыл? Врешь! Все ты врешь!
– Ах, старый осел, не дает она тебе покоя?!
– А тебе? Вспомнил, чурбан глиняный!
– Сам ты чурбан, – ласково огрызнулся Малхаз и неожиданно затянул:
На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь. О том, как ночи ясные…– Помнишь? – спросил он, резко оборвав песню.
– А как же. Любимая послевоенная!.. Но давай лучше нашу, – и оба затянули песню, слов которой я, естественно, не понял.
До поздней ночи мы сидели за одним столом. Оказалось, что Георгий и Малхаз знакомы с тех пор, когда меня еще и на свете не было. После войны Георгий остался служить в комендантском полку. Был он тогда сержантом. В начале пятидесятых к ним в роту охраны прибыло из учебки молодое пополнение и среди них – Малхаз. Тогда земляки здорово сдружились, несмотря на заметную разницу в возрасте. К тому же Малхаз по окончании срока службы остался на сверхсрочную и вскоре стал командиром Георгия. После демобилизации из армии оба поехали осваивать целину, а потом Малхаз примкнул к гидростроителям, уехал на север, и пути-дороги друзей надолго разошлись.
Они все время подшучивали друг над другом. Воспользовавшись моментом, я полюбопытствовал:
– А вот вы вспоминали Ларису – кто она?
– Э-э, Артем, эта женщина нравилась нам обоим. Когда-то очень давно мы вели более благородную междоусобную войну, а именно за обладание сердцем этой самой Ларисы. А ну, покажи! – Георгий ткнул пальцем в плечо Малхаза.
Тот расстегнул пуговицы рубахи и освободил правое предплечье, на котором красовалась татуировка в виде головы красавицы.
– Видишь, она до сих пор с ним! Э, Малхаз, скажи мне, пожалуйста, если тебе, не дай бог, оторвет руку, ты будешь по ней скучать?
– По руке? Конечно!
– Э-э, я говорю не о руке, а про нее, – Георгий показал на татуировку.
– Это жена моя, Сулико, что мне по ней скучать? А ты все эти годы думал, что это Лариса?
– Да…
– А вот и не угадал!
Оба захохотали и подняли кружки. На следующий день в этой так и оставшейся для меня непонятной войне было заключено перемирие…
Снова в крепости
Мы с Малхазом отправились в крепость. Внимательно глядя на дорогу, он рассказывал:
– Знаешь, парень, женщины за тебя очень переживали. Им сказали, что тебя убили. Только Настя не поверила. Среди мертвых тебя не было. Я сам чудом остался жив, вот видишь, ногу зацепило.
Он приподнял штанину и показал мне свежий шрам.
Пока мы ехали горной дорогой на его стареньком москвиче, я рассказал Малхазу и о подробностях своего пленения, и о благородстве Георгия, который освободил меня за немалый выкуп. И вот я увидел знакомые очертания башни. Таисия, открывая нам двери, сияла от радости. Она поцеловала меня в щеку и обняла Малхаза. Настя была более сдержанной. Вечером я ей выложил все, что со мной случилось за этот беспокойный месяц. Под конец сказал:
– Ты знаешь, Настя, я решил подаваться к своим. Завтра или послезавтра уйду. Лучше быть наказанным за дезертирство, чем болтаться вот так… Сюда я вернулся только, чтобы еще раз вас повидать, спасибо за все сказать…
– Ты со своей мамой связался? – спросила она.
– Пока нет. Уж лучше, когда все определится… Струсил – надо отвечать, – сказал я, и перед глазами снова всплыло суровое лицо монаха.
Знал бы я в ту минуту, как круто и неожиданно уже на следующий день повернется в очередной раз колесо моей судьбы!..
Ранним утром в ворота крепости кто-то настойчиво забарабанил.
– Кого еще принесло? – встрепенулась разбуженная Настя.
Таисия Андреевна быстро выбралась из кровати, тревожно посмотрела на меня и пошла к воротам.
Мигом подхватил одежду и, сбежав вниз, я спрятался в своем укрытии. Прислушиваясь к разговорам наверху, с досадой подумал: «Зря топор не захватил». Однако предпринимать что-либо было уже поздно.
Вскоре стало понятно, что вернулся Павло и привел с собой нескольких бандитов. Пока они умывались на улице колодезной водой, ко мне незаметно прошмыгнула Настя.
– Артем, – шепнула она. – Сиди тихо, там Павло и его дружки.
– Сколько их?
– Шестеро. Ночью я отведу тебя к Малхазу. Или нет, лучше к бабушке Софико…
– Какая бабушка, мне надо к своим, – я злился на себя за медлительность, из-за которой приходилось снова отсиживаться в подвале.
Но Настя не дала мне договорить, шикнула:
– Все, сиди тихо, пока не дам знать, что они ушли.
Весь день бандиты выпивали и балагурили на дворе. Настроение у них было приподнятое, судя по всему, получили деньги за какую-то операцию. С заходом солнца они сели играть в карты за столом в боковой пристройке. О том, что меня обнаружат, я особенно не переживал: люк был замаскирован под облегченную керамзитовую плиту, к тому же Настя насыпала на нее для маскировки какого-то мусора.
В эту ночь боевики не ушли. Вернее, ушли, но не все. Двое остались и гремели возле козьего загона оружием.
Поздно ночью Настя пробралась ко мне, и в полной тишине мы слушали разговоры Таисии и Павла.
– Во, слышишь, – шепотом комментировала Настя, – подарок он мне, видите ли, принес. Вешает матери лапшу на уши. Нужен мне его подарок как собаке пятая нога. Так, мама, правильно, дай ему, дай. Там еще эти двое. Этой ночью тебе уйти не удастся…
Не удалось сделать это и в следующую ночь. Бандиты то уходили, то возвращались, словно челноки, курсируя между крепостью и своим базовым лагерем. Только Павло никуда не ходил, он все время был с Таисией. Думая задобрить ее, бандюга приволок с собой кучу разной мелочовки, которую можно купить на любом московском развале. Чувствовал он себя, как дома. К вечеру, изрядно выпив, увел Таисию из крепости. Зато его дружки продолжали пьянку.
Так продолжалось несколько дней. А потом…
Однажды в жаркий полдень Павло с Таисией опять ушли в лес, а в крепости осталось несколько боевиков. Они играли в карты за столом в пристройке. Настя должна была их обслуживать. Подай то, сходи за этим…
– Эй, принеси нам еще вина! – услышал я грубый окрик одного из бандитов.
Через несколько минут раздался пьяный голос другого:
– Скоро там будет пожрать?
Видимо, Настя уже появилась перед ними с бутылкой вина, потому что третий голос проорал:
– Смотри, какой жопа! – бандит что-то еще добавил на своем языке, после чего все громко заржали.
Послышалась возня, звон разбившейся посуды и вой:
– А-а-у-у! Сука! Она меня в яйца ногой!
– Пустите меня, уроды! – вскрикнула Настя.
Медлить было нельзя. Достав из ножен штык-нож, я бесшумно открыл люк и выскочил из подвала. Выглянув из-за угла, увидел, что двое обросших щетиной боевиков выкручивают Насте руки, а третий расстегивает штаны. Еще успел заметить на столе среди глиняных кружек пистолет Макарова. «Вот ублюдки! Пьяные звери, нелюди!» В ярости крепко сжал рукоять ножа, примериваясь для удара. В последний момент передумал, перехватил нож за лезвие. «Главное попасть рукоятью в висок, – соображал я, – как учил инструктор Георгия, и он отключится. Потом надо успеть схватить пистолет…» Зарезать человека, как животное, было не в моих силах.
Я выскочил из-за угла и с размаху засветил насильнику по голове. Хотя удар пришелся вскользь, тот сразу свалился. Я дернулся было к пистолету, но один из державших Настю успел раньше и выстрелил в потолок. В следующую секунду тяжелый удар обрушился на меня сзади, и я потерял сознание.
Когда пришел в себя, увидел четвертого бандита: оказывается, он молча сидел на ступеньках лестницы, наблюдая за происходящим. Боевики прислонили меня к стене, двое держали за руки, а третий и четвертый отрабатывали удары. Били только по рукам, и по корпусу – лицо не трогали. Настя была уже заперта в подвале – оттуда слышались ее приглушенные крики. От сильного удара в солнечное сплетение я снова потерял сознание.
Потом меня на время оставили в покое. Я то приходил в себя, то снова отключался, лежа на холодном полу. Боевики покуривали и посмеивались, сидя на скамьях и чурбаках. В очередной раз очнувшись от грохота выстрела, я увидел над собой фигуру Павла с дымящимся в руках пистолетом, хотел пошевельнуться, но по телу прокатилась такая боль, что чуть не закричал. К счастью, оказалось, что Павло стрелял не в меня, а в потолок, чтобы остудить пыл бандитов. Таисии рядом не было – видимо, ее, как и Настю, где-то заперли.
На меня вылили два ведра воды и тем самым окончательно привели в чувство.
Настю извлекли из подвала, и усатый боевик повел ее наверх, в комнату матери. Проходя мимо меня, она вскрикнула:
– Артем!
Хотела броситься ко мне, но ей не дали, удержав за руки.
Павло осмотрел мой схрон и, вернувшись, скомандовал своим:
– Этого связать, и в подвал. Завтра в расход пустим.
Ночь я провел в полубредовом состоянии. Преодолевая ужасную боль во всем теле, отрешенно думал: «Вот и все. Конец. Теперь всегда будет темень, как в этом подвале. Хоть бы еще бы разок взглянуть на небо и солнце».
Утром за мной пришли двое бугаев, выволокли наверх, повели во двор.
Ослепленный солнцем, я стал искать глазами Настю, но ее не было. Вдруг послышались сбегающие по лестнице шаги. Из пристройки выскочила Таисия и бросилась на боевиков.
– Оставьте его в покое! Он ни в чем не виноват! Куда вы его тащите!? – закричала она.
За ней выскочил Павло, замахнулся кулаком.
– А, сука! Хахаля завела!.. Ну все, убью!
Он долго еще орал и ругался, но до рукоприкладства не дошло.
– Негодяй, мерзавец, сволочь! – кричала Таисия, отталкивая удерживающих ее боевиков. – Не трогай парня, Малхаз тебе этого не простит!
В это время из башни выскочил боевик и что-то быстро зашептал на ухо Павлу. Тот злобно покрутил головой и велел боевикам снова бросить меня в подземелье.
Спустя какое-то время за мной спустился обросший мужик с отвратительной рожей. Он усмехнулся, и по его взгляду я понял, что мне конец. Пинками он вытолкал меня наверх, в руки двух таких же образин. На дворе уже толпилось человек десять бандитов.
Стараясь на них не смотреть, я прислушивался к разговорам. По-русски они почти не говорили. Только матерились. Что ж делать, если наш великий и могучий используют во всем мире в основном для этих целей! Однако эту мелькнувшую у меня в голове мысль прервал голос мужика, похожего на дьякона, – рыжебородого с острым кривым носом и надменным взглядом. Раньше я его в крепости не видел:
– Эй, урод, ты кто – федерал? – он подошел совсем близко, вглядываясь в меня. – Как сюда попал? Может, ты разведчик?
– Да какой он разведчик! – из толпы отделился Павло. – Он, сука, Таськин хахаль. Нашла в городе…
– Не мешай! – хрипло оборвал его бородач. – Он что, глухонемой? Сам скажет!
– Ну, ну, – Павло злорадно посмотрел мне в глаза и, оскалившись крепкими ровными зубами, смачно сплюнул.
– Ну, щенок, чего молчишь? Кто такой?
– Я из Москвы. К боевым действиям не причастен…
– Что его спрашивать, видно же, что Таськин хахаль, – снова заговорил Павло и пристально посмотрел вверх на бойницу башни, в которой, вероятно, была теперь заперта Таисия. – Она всю ночь про него жужжала, выгораживала. Убью суку!
Лицо у него, несмотря на правильность черт, было жуткое. Наверное, из-за взгляда: злобного, хищного, подлого.
Бородач властно, но тихо сказал:
– Не мешай, пусть говорит.
Я решил рассказать правду – знал, что благодаря простодушному лицу, мне чаще всего верят даже самые недоверчивые типы. Выслушав мои объяснения, бородач о чем-то задумался. В этот момент Павло снова стал сыпать угрозами в мой адрес, видимо, не понимая, что тем самым помогает мне. Уж очень ему хотелось доказать Таисии, что знает про ее тайную любовную связь.
Бородач, слушая Павла, о чем-то думал, а потом рассмеялся:
– Вах, какой хитрый москвич! Ехал к другу, а попал к бабе! Эх, Павла, бедный твоя любовь! Такой девушк нашел, а она тебя променять на москвича!
Следом загоготала вся бандитская свора.
– Э, москвич, – продолжал кривоносый, – а ты, наверное, богатый, раз она с тобой связалась. С голожопого какой толк! А?
Толпа вооруженных людей снова залилась хохотом. Выждав, когда наступит тишина, бородач, обернулся к своим:
– А я ему почему-то верю, – и, снова взглянув на меня, добавил: – Эх, жаль, что ты не новый русский… А может, у тебя дружки богатые? Чую, можно получить за тебя выкуп. Эй, Павла, а что, пусть баба твоя его выкупит. Посмотрим, как она его любит.
– Гы, гы, ха, ха! – смеялась довольная толпа.
Павло сказал тихо:
– Ты, борода, трепись, да знай меру. Пользуешься тем, что тебя Муса приблизил?
– Ну ладно, ладно, шайтан, я пошутил…
Павло, глядя исподлобья, процедил:
– Муса справедлив, он сам бы за такое яйца отрезал.
Видно было, что слова бородача сильно задели его самолюбие. Теперь Павло уже наверняка думал, что пока он шлялся по горам, Таисия крутила со мной любовь. Ему казалось, что собратья по банде смеются над ним, видят в нем рогоносца. Было понятно, что он будет искать любой повод, чтобы прикончить меня…
В тюрьме
Сразу после разговора с рыжебородым двое боевиков повели меня со связанными за спиной руками прочь из крепости. Я так и не увидел Настю и, шагая по тропе, с тревогой думал о ней. Даже поймал себя на мысли, что ее судьба и судьба Таисии волнуют меня больше собственной.
Мы шли долго, но, возвращаясь от своих тяжких мыслей в реальный мир, я не мог бы сказать, сколько прошло времени – оно никак не фиксировалось в моем сознании. Может быть, остановилось, а может быть, неслось с бешеной быстротой. Я каждую минуту ожидал, что сейчас последует команда остановиться и меня расстреляют, а может быть, сделают это между прочим, на ходу. Спина моя взмокла от внутреннего напряжения, по ней бежали струйки холодного пота. Однако меняющийся горный ландшафт свидетельствовал, что мы прошли не одну сотню метров. Стоило ли идти так далеко, чтобы покончить со мной? Понемногу я стал успокаиваться и начал гадать, что меня ждет?
Через несколько километров горная тропа вывела нас на широкую асфальтированную дорогу, на обочине которой стояли раздолбанные старенькие «жигули». При нашем появлении двери машины открылись, и из нее вышло трое кавказцев в камуфляже. Они шумно поздоровались с моими конвойными, перекинулись с ними несколькими фразами, по-деловому быстро затолкали меня стволами автоматов в салон автомобиля и попрыгали туда сами. Меня опять везли в неизвестность.
Довольно скоро мы спустились в долину, проехали по ней с полчаса и повернули в боковое ущелье. Здесь наконец показались какие-то строения за высоким бетонным забором. Дорога вела прямо к воротам, на КПП. Нас встретили трое вооруженных людей, с виду ничем не отличающихся от боевиков. У всех автоматы, защитная форма, которую в просторечии зовут «зеленкой». Поначалу показалось, что меня привезли в военную часть, но вскоре я понял, что это тюрьма. Причем не просто тюрьма, а тюрьма еще старого, советского образца. Если можно считать это везением, то мне повезло – перспективы на жизнь как-то прояснились. Чтобы расстрелять, не обязательно везти в тюрьму…
Боевики и охрана почему-то разговаривали между собой по-русски. С акцентом, но понять было можно. Меня хотели продать какому-то Залимхану – позже, а пока использовать в качестве бесплатной рабочей силы. Кто такой Залимхан? Какая работа? Что это за место? Вопросы толпились в голове, безнадежные и безответные, но когда охранники, развязав руки, толкнули меня за вертушку проходной, вопросов стало еще больше, только теперь не общего, а частного характера.
Первым делом меня обыскали. Вывернув карманы, охранники отобрали всё, что в них было, завели меня в какую-то комнату и велели сидеть смирно. Через несколько минут пришел надзиратель. В следующей комнате он заставил меня раздеться, голым провел по коридору и, открыв массивную железную дверь, втолкнул в дезинфекционную комнату. Что со мной было – не передать никакими словами: слезы, кашель, удушье… Говорят, эта процедура является самой обычной, и через нее проходят все вновь поступившие в тюрьму. Со слов охраны это делается для нашей же пользы, чтобы заключенные не заразили друг друга какой-нибудь заразой или не занесли в тюрьму инфекцию.
После мучений меня переодели в специальную робу и отвели в барак.
Условия в тюрьме были невыносимые: духота, вонь, грязь, мухи, объедки – одним словом, кошмар. И на этом фоне – «элитный» барак уголовников, которые имели практически все удобства. Я даже на воле так не жил, как они сидели! Все тридцать три удовольствия. Если у тебя есть деньги, то нет никаких проблем. Никогда бы не подумал, что в тюрьме можно так пировать… В остальном же тюрьма была, как тюрьма: бетонный забор, два ряда колючки, вышки с часовыми, даже пулеметы. Три барака расположились буквой «П» в центре зоны. По краям, ближе к забору, тянулись цеха и стояло несколько административных зданий. Туда никого не водили и не пускали. Другие три барака, которые находились от проходной дальше других строений, судя по всему, пустовали, так как были отделены от наших колючей проволокой, и проход к дальней зоне был закрыт. Так, видимо, было проще охранять территорию, хотя с той стороны была вышка, на которую ходила охрана, проходя по длинному узкому коридору вдоль стены.
В тюрьме находилось около тысячи заключенных. Публика разношерстная, в основном люди без определенных занятий и целей, обычные паразиты, которые бывают в любом обществе. Один барак полностью занимали местные, то есть грузинские уголовники, два других – разный уголовный сброд вперемежку с абхазскими и русскими военнопленными. Меня направили в третий барак. Здесь сидели люди со схожими судьбами: кого-то похитили, кто-то попал в плен или, как я, сбежал из армии. Но по слухам среди русских были и такие, которые вроде Павло наемниками служили, а потом за какие-то грехи угодили сюда.
Русские слонялись с потерянными лицами. Со мною никто даже не заговорил, за исключением двух офицеров, которые в моем понимании были нормальными мужиками. Один майор, другой капитан. Попали они сюда годом раньше. На вопрос, как это произошло, отделались молчанием, но намекнули, что воевали. Майора звали Валерой, а капитана Валентином. Естественно, как у всех в тюрьме, у обоих были клички, происходившие от фамилий – Седой от Седова и Фирс от Фирсова, но это не суть важно. Мне тоже приклеили «погоняло» – Артамон.
В общем, тюрьма, наверное, не самое плохое место на свете, и здесь люди живут, только с одной оговоркой – не долго. Одних выпускают по сроку, других – по амнистии, третьи бегут, четвертые просто исчезают, а есть такие, что прямо тут и умирают. В нашем бараке была анархия – грузин мало, абхазов много, наших совсем немножко. Но если какая работа – выезжали на русских. Нет такого дела, которое русский мужик сделать не сможет, не осилит – местные так и говорили.
Меня первое время гоняли на стройку. Начальник тюрьмы себе новый дом строил. Отведут под конвоем, обратно приведут тоже под конвоем. И так каждый день. Благо начальник попался въедливый. Мне, говорил, тяп-ляп не нужно. Вам сидеть долго, поэтому торопиться не надо. Мужик он был странноватый, но не очень злой. Правда, первый месяц я ужасно боялся, что меня продадут Залимхану, как обещали боевики.
Я уже рассказал Седову с Фирсовым, что в первый же день своей службы сбежал из армии. Они даже и слушать не стали мои оправдания. Махнули рукой. Люди бывалые, понимали, что к чему.
Ребята все мечтали, что начальство их разыщет и обменяет. Все же офицеры как-никак. Но время шло, и ничего не менялось. Иногда были такие минуты, что жить не хотелось. Заберут кого-нибудь в больничку, а он, глядишь, и не вернулся. Был человек, и нет. Вроде только вчера рядом ходил, вместе раствор месили, а сегодня о нем даже не вспоминают. Вот и ты так же завтра – раз, и нету тебя, Артем, на этом свете. Сколько я за это время передумал – две «Войны и мир» написать можно, а прошло-то всего с месяц, не больше. Особенно трудно было в августе, когда послали работать на каменоломню. Жара, работа на износ…
Конечно, вспоминал о Насте и Таисии. И жалко их было, и себя ругал, что не сумел их защитить. Все как в бреду. Павло, боевики, тюрьма – ведь бред натуральный. А с другой стороны, правду сказал самый великий горец: «Нет человека – нет проблемы». Может, им теперь там, в крепости, лучше без меня? Порой так и хотелось завыть волком. Только слова монаха вспоминались и поддерживали. Когда самые черные мысли в голову лезли, внутренний голос говорил: «Нельзя тебе уходить из жизни – должок за тобой». И вот раздумывал я, что это за должок. И опять вспоминались слова монаха. Ничего вроде особенного, но как они были сказаны! Бог, говорит, тебя насквозь видит и все про тебя знает. Должен ты грех свой искупить. Не просто искупить, а кровью. Невинный за виновных – у кого руки по локти в крови. Так ведь Бог тоже Сына Своего не пожалел… Подумай, говорит, об этом.
А чего мне думать? Я испугался. Страшно было. Обычное человеческое чувство – страх. Тогда, по наивности, мне еще казалось, что сижу ни за что, но теперь-то знаю, что это было предупреждение свыше, знак такой, чтобы задумался над тем, как живу. Если разобраться, чем я лучше тех уродов, которым, кроме баб и водки, ничего не нужно? Здесь и уголовники, и охрана почти все такие. Нет, не все…
Встречались в тюрьме и нормальные люди, которые постарше, кто еще при Союзе служить начал. Один такой «дедок» мне сильно помог. Дело было так. Время шло к зиме, и вдруг утром подходит пожилой вертухай и тычет в меня пальцем.
– Пойдем, – говорит.
«Ну, все, – думаю, – пришел мой конец». Сердце в пятки ушло. Иду чуть живой.
Заводит он меня в каптерку возле проходной, а там Настя! Как бросится ко мне:
– Артем!
Я чуть сознание не потерял. Она улыбается, а слезы так градом по щекам и катятся… Потом отстранил ее, разглядываю.
– Повзрослела ты, Настюха, – говорю.
– Как ты? – спрашивает. – Мы тебя три месяца искали.
– Да, так, помаленьку, – отвечаю. – Как Таисия… То есть мама твоя?
– Так себе… – Настя поджала губы.
Мы сели на скамейку, я взял ее за руку – на душе сразу так спокойно стало.
– Павло с мамой разругались в пух и прах, – начала рассказывать Настя. – Мамка себе места не находит. Уже ехать искать его хотела, да Малхаз отговорил. Ты, говорит, совсем голову потеряла с этим негодяем. Как Настю одну оставить? Он ведь знает, что я этого гада ненавижу. Павло-то ушел и не сказал, куда тебя дели. Малхаз с ног сбился – все искал тебя, искал. Мы уже думали, что они тебя или убили, или в рабство продали. Я даже хотела, чтобы Павло этот проклятый появился, сказал бы, где ты… А вышло наоборот. Мать-то он потом все-таки простил, поверил, что у тебя с ней ничего не могло быть. Но зато мне стал мстить. Когда уходил – злорадно так сказал: хрена ты теперь своего хахаля увидишь, висеть ему на первой сосне. Так плохо стало. А ты вот живой…
По ее щекам полились слезы – не остановить. Я гладил ее по руке, успокаивал, как мог. Отошла.
– Дядя Малхаз, – продолжала Настя, – все-таки узнал, где ты, денег дал, чтобы свидание устроить. Да молодые охранники меня только на смех подняли, сказали, что за такие деньги… Они мне таких гадостей наговорили. А дедок этот, – она показала на отдалившегося за решетку надзирателя, – заступился за меня. После на улице встретил, сказал, чтобы приходила в его смену. Без денег, конечно, все равно не обошлось.
– Это к блатным запросто приходят, – сказал я. – Вертухай еще и виноват будет, если не пустит. Найдут его потом с пробитой башкой в горах, если вообще найдут. Тут с этим делом просто. Здесь к своим пускают за так, а к чужим за деньги… – я замялся. – А ты не знаешь, Насть, как насчет меня, может, Малхаз договорится, чтобы отпустили?
– Безнадежное дело, дядя уже узнавал. С боевиками никто связываться не хочет.
– А если подстроить – типа подстрелили случайно. В конце концов сам умер…
– Мы уже об этом думали. Дядя Малхаз говорит, что этот вариант не пройдет. Купить свидание здесь и то не просто, а ты говоришь о выкупе. Это надо через самых главных боевиков, ты у них в картотеке, но здесь нужны совсем другие деньги, сотни тысяч долларов. А где их взять?
Я долго молчал, потом спросил:
– А главных никак не обойти?
– Ты что, о тебе Муса знает, все постараются откреститься.
Скрипнула дверь. Старый надзиратель вошел к нам и без всяких церемоний, сказал:
– Пора.
Мы с Настей поднялись, неотрывно глядя в глаза друг другу. Она обняла меня и прошептала в ухо:
– Мы будем думать, как тебя спасти.
Узнав, что приходила Настя, Седов и Фирсов передали мне записку со своими данными и номерами частей. Попросили, чтобы незаметно Насте сунул, если придет еще. Может, она найдет оказию нашим военным передать. Я их уверил, что отец Георгий или Малхаз помогут. Правда, они сказали, что уже отправляли две записки на волю, а результата никакого.
Время шло к зиме. Насчет выкупа меня никто не вызывал. Наверное, справки навели, что мать моя даже тысячу долларов наскрести не сможет. В это время нас водили в горы – лес валить. Работа была очень тяжелая, а кормили так же хреново, как и раньше. Дедок тот начальником конвоя был. Эх, жаль, что я даже не спросил, как его имя и отчество. Знаю, что свои называли его «Дилой». Может, это было прозвище, но что оно обозначало, не знаю. Уже потом до меня дошло, что это может быть сокращенное от Автандила. Так вот этот Дила опять свел нас с Настей – среди снега, в лесу.
Ох, как же после этой встречи жить захотелось! Потом ходил, как пьяный. Однако действительность быстро выбила из меня оптимизм. Уже через несколько дней настроение было опять на нуле, даже со своими друзьями почти не разговаривал. Оставалось только ждать Настю. Верил, что с ней придет и мое спасение… А ее не было и не было. Уже зима почти прошла, у нас люди все чаще пропадать стали. Один, другой, третий… Правда, забирали как-то выборочно. Поначалу вешали на уши лапшу, что одного перевели, за другого выкуп дали. Но тюрьма слухами полнилась. А потом в один день человек тридцать забрали – и с концами. Никаких следов. Причем все военнопленные. Как зло пошутил один грузин: «Сокращение штатов».
Собрались мы на совет: я, Валера и Валентин. Решаем, что делать.
– Бежать надо, братцы, – сразу выпалил я.
– Прыткий больно, – сказал Седов. – И как ты себе это мыслишь?
– Перелезть через забор, раскрутить колючку… Или подкараулить охранника, когда он, как свинья, нажрется. Отнять у него автомат и на проходную.
Седов засмеялся:
– Ты совсем еще пацан наивный.
А я ему:
– Чем глупее план, чем он абсурдней, тем он легче проходит, я читал.
Валентин поначалу посмеивался, а потом задумался, долго соображал и, наконец, выдал:
– В побег рвануть просто, но все нужно детально обмозговать. Хорошо бы узнать, когда у них электричество отключают. Главное, что мы знаем, когда им деньги дают.
– А какая разница? Если бы их нам давали, а то охране.
Опять Валера меня на смех поднял:
– Тема, ты и есть Тема. От слова темный. Им как деньги дают, они водку пьянствуют и в карты режутся.
– Ну и что, – говорю, – а на вышках все равно сидят.
– Э нет, – говорит Валера. – Сидят-то сидят, но тоже спят. Эх, Тема, где твоя невеста? Когда прийти обещалась?
Я смутился:
– Да какая она мне невеста… Может, случилось что?
– Не знаю, – протянул Седов. – Я поговорю с местными зэками, может, кое-что выведаю. К побегу тщательно готовиться нужно.
Проще всего можно было уйти, когда на работу гоняли. Там ни вышек, ни забора, зато собаки. Если эта тварь тяпнет – мало не покажется. А сил отбиваться не было, кормили одной баландой. Да и зимой в побег идти – разве что на удачу. Я совсем упал духом и, когда исчезал очередной заключенный, думал, что моя очередь будет следующей. Кто-то вытаскивал нас, как будто бочонки лото из мешка, а мы смирно ждали своей смерти.
К концу марта нас в бараке осталось не больше половины. И тогда я рассчитал, что к маю, если ничего не произойдет, точно никого не останется.
Где-то через пару дней пригнали новую партию заключенных. Человек шесть – восемь. Уже не помню, какие у них были истории, но мы получили много полезной информации. Это, наверное, и подвигнуло Валеру к решительным действиям. Он придумал план, в котором у каждого из нас была своя роль, но плану его не суждено было осуществиться.
За день до назначенного побега неожиданно меня позвал тот же старый надзиратель Дила. Впустив в комнату свиданий, он вопреки уставу, тактично вышел в коридор. Передо мной стояла Таисия Андреевна. Она заговорила первой:
– Присядем. – В углу стоял деревянный стол с двумя широкими скамейками. – Не волнуйся, – продолжала она, – с Настей все в порядке. Она теперь учится в городе. Отправили ее туда, потому что жить в горах стало опасно.
Я только кивал головой. Она говорила и говорила, словно торопясь выплеснуть все свои страхи от ненадежной, неустроенной жизни, поделиться своей усталостью от безысходности, от неспособности обеспечить человеческую жизнь ни себе самой, ни своей дочери…
Уже в конце нашего свидания Таисия обняла меня и сунула какой-то конверт, шепнув:
– Смотри, чтобы этого никто не увидел, иначе нам обоим конец.
В конверте была схема – подробный план тюрьмы с обозначенными ограждениями, коммуникациями, расположением всех постов, временем смены охраны, а главное с указанием наилучшего места для побега.
Улучив момент, я передал схему Седову, пояснив, что получил это во время свидания. Он меня отечески потрепал меня по плечу и похвалил:
– Молодец. И подруга у тебя молодец! Это нам здорово поможет.
А Фирсов добавил:
– Я бы ее к ордену представил: этих деталей нам как раз и не хватало.
В принципе мы и так уже многое знали, только с местом побега у нас не было определенности, и тут, будто по заказу, – схема. Самый подходящий участок обнаружили быстро. Стенка там была немного порушена, и пустой барак, бывший склад, прикрывал от ближайшей вышки, а главное, что в этом месте проволока была обесточена. Все, что требовалось – миновать запретку. Но в нее, разумеется, еще тоже нужно было попасть…
В тот день в тюрьму привезли деньги – зарплату охранникам. За двое суток до этого я чуть с ума не сошел, ожидая, когда Седов назначит день побега. Накануне забрали еще четверых, совсем безобидных ребят из военнопленных – двух рядовых и двух сержантиков. Эти запомнились особенно хорошо – пацаны совсем, хотя уже повоевали. Все хорохорились, надеялись, что наши их вызволят. А тут вдруг без всяких предупреждений куда-то увели – и тишина… Оставшиеся зэки шептались, что и этих в расход пустили, что будто бы для них мы траншею за тюрьмой рыли, что не сегодня – завтра до остальных очередь дойдет. Жуть тогда меня взяла. А испуганным в побег идти никак нельзя. Там нужна холодная голова и трезвый рассудок, это я теперь хорошо понимаю.
Гудеж охранники начали уже часов в восемь вечера. Были майские праздники. Народ по старинке отмечал, был бы повод. Хотя повод всегда можно найти. Деньги дали – вот и повод.
Мы, естественно, все были на нервах. Я ощущал себя словно капсюль: тронешь – взорвусь. Нет, страха не было – какое-то другое чувство. Но точно не страх. Теперь мне кажется, что это была та странная отрешенность, готовность к любому исходу, которые предшествуют поступку, который люди потом называют подвигом. Но тогда я так, конечно, не думал.
Мысли были другие. Почему-то мне было жалко Дилу. Вот, думаю, если мы уйдем и все получится, охране не поздоровится. Попадет и Диле, хотя в ту ночь была не его смена. Хороший он человек, не вредный.
К часу ночи пьянка достигла апогея, и перепившаяся охрана начала постреливать в воздух. Мы уже к этому привыкли, поэтому народ спал спокойно: сон – дело святое. А если во сне убивают, так это даже и не страшно. Сам не заметишь, как очутишься на том свете. К трем часам шум затих, и зона погрузилась в тяжелый, болезненный сон. Мы не спали. Я все время смотрел на Фирсова. Ждал, когда он подаст знак. Но как мы ни скрывали своих планов, утаить их не удалось.
– Фирс, – услышал я шепот слева. – Ну, чего лежишь? Пора. Я с вами. Только не отнекивайся. Я тебя давно просчитал.
Я узнал голос. Это был Толик. Нормальный уголовник, себе на уме, как, впрочем, и все остальные.
– Буди своих и пошли, – кивнул он в сторону крайних окон.
«Откуда он все узнал? – подумал я. – Неужели, где-то ляпнули…» Но зона есть зона. Здесь все про всех знают.
Короче, мы пошли. Толян этот тертый калач был. Он уже и сам все рассчитал, и дырку в запретке нашел, и даже додумался, как на окне решетку отогнуть. Оставалось только добраться до складского сарая.
По ходу у нас на пути встала вышка с мощным прожектором. Если засветит – считай, крышка. Но произошло чудо.
– Смотри, – шепнул Фирсов, – прожектор отключен. Кто-то постарался, – и посмотрел на Толяна.
– Может, у них опять проблемы с электричеством? – предположил Седов.
– Кто его знает, – бросил Фирсов, – во всей зоне горит всего пара-тройка ламп…
Пригибаясь, мы бесшумно пробежали мимо вышки и спрятались за сараем.
– Охрана то ли спит, то ли на вышке вообще никого нет, – сказал Седов, выглядывая из-за угла.
– Не хрена здесь торчать, валим по-быстрому, – забеспокоился Толян. – И вообще о вертухаях не думайте. Мысль – она как радиоволна. Ты напрягся, а этот змей на вышке тоже насторожился. Точно говорю, к бабке не ходи. Я проверял…
Я ему не очень поверил, а потом об этом пожалел. Как будто обидел его напоследок. Тем более что в гибели Толяна, как бы ни успокаивали меня Фирсов и Седов, я виню только себя…
Побег
Седов с Фирсовым пошли первыми. Валентин проволоку резал, Валера ему помогал. Колючки много. Вся ржавая, чуть дернешь неосторожно – звенят железки, привязанные через каждый метр, как консервные банки в войну. Ребята вырезали проход, закрепили, и Толян меня за ними подтолкнул. Лучше бы не толкал. Я заторопился и ногой проволоку зацепил. Пару раз звякнуло, и затихло. Я подумал, что пронесло, и благополучно спрыгнул вниз.
Толя шел за мной. Почти уже стену перемахнул. И вдруг очередь. Я-то уже внизу был, на земле, но показалось, что по мне. А потом, как пошли стрелять! Седов видел, что Толян повис на проволоке. Я не оглядывался. Сирена завыла, да так громко, что казалось, горы зашевелились. Мы бежали вверх по склону, и я думал только об одном: как бы своих не потерять.
Миновав тягун, чуть передохнули и снова бросились вперед. Минут через двадцать до нас донеслись звуки погони. Лаяли собаки. Эхо разносило их лай по округе, и казалось, что нас окружают со всех сторон.
Вначале была задумка бежать на север, прямиком к нашей границе. Так вернее. Правда, в Тбилиси стояла часть, но ребята посчитали, что этот маршрут длиннее и опасней. Однако, уходя от погони, мы далеко уклонились к югу. В этом направлении было легче пробираться, и здесь было меньше вероятности нарваться на засаду. Чтобы сбить со следа собак, пришлось какое-то время бежать по ручью. Удивительно, как мы в темноте не переломали ноги.
К рассвету у нас за плечами было уже несколько километров. Вот только куда мы шли? Впрочем, эта мысль не особенно тревожила меня: теперь не зима, и со мной опытные офицеры, хоть и донельзя изнуренные. Для них такие условия не в первой, впрочем, как и для меня. Но втроем – втройне веселей. Только бы уйти от погони! Расслабляться нам Валера не давал, он все время торопил, лишь когда поднялось солнце, устроил пятиминутный привал и снова погнал дальше, только теперь мы уже не бежали, а шли с максимально возможной скоростью.
Погода была отличная. На небе ни облачка, сплошная синева. Травка молоденькая, цветочки и прочая красота мира, которую не очень замечаешь, когда видишь ежедневно. Обычно так происходит с жителями морских побережий. Они не понимают отдыхающих, приехавших на море. Что в нем хорошего? Вышел из дома – и вот оно, никуда не делось. Каждый день море, надоевшее море… Как в том фильме: опять икра, хоть бы хлеба купила!
Кстати, о еде. Кухней заведовал Валентин. У него был мешок со всей нашей провизией – в основном хлеб да сухари, которые мы успели заготовить.
К вечеру, почти выбившись из сил, сделали передышку перед распадком у скал, чтобы в случае опасности уйти по склону и затаиться. Как самому младшему, мне разрешили поспать. Я лег на траву и моментально заснул. Ровно час полного спокойствия, без страха и тревоги. Такой час в нашем положении стоит не меньше года. Немного отдохнул. Стало легче, хотя общее напряжение сказывалось.
Когда начало смеркаться, Седов выбрал место для ночлега, и мы развели небольшой бездымный костер. Вокруг были горы, лес притих. Природа готовилась ко сну.
– Ну что у нас там на ужин? – спросил Валера, пристраиваясь поближе к костру и потирая руки.
– Как всегда, сухари, – улыбнулся Фирсов и стал выдавать каждому законную «пайку».
– Ну и хорошо. Голодный теряет бдительность, а сытый – расслабляется, – заметил Валера. – Поэтому человек всегда должен быть немного голоден.
После ужина Седов наломал палочек и зажал их в ладони, оставив снаружи концы:
– Давайте тащить, кому длинная – тому караулить первому. Кому самая короткая – последнему.
Фирсов вытащил самую короткую, я подлиннее. Самая длинная осталась в руке у Седова.
Как только рассвело, Валентин выдал каждому по паре кусков хлеба, и мы тронулись в путь. Теперь мы уходили от долины в узкое междугорье и шли, продираясь через кустарник, вдоль ручья. Седов сказал, что ручей выведет нас к перевалу, за которым мы будем в безопасности. А там уже решим, куда двигаться дальше.
К вечеру остановились. Валера выбрал лужайку возле ручья и разжег костер. Спичек у нас было много – коробок пять. Был самодельный нож, карандаш и несколько листов тетрадной бумаги, а еще большая парафиновая свеча, которую Фирсов выменял у одного зэка. В тот вечер Валера сделал первую запись в походном дневнике: «2-ой д. п. Прошли 8—10 км». И еще какие-то непонятные для меня знаки.
– А что это за иероглифы? – спросил я, заглядывая в лист.
– Это специальное письмо, – объяснил Валера, – спецшифр. Чтобы понятно было только посвященным.
– А зачем так?
– Экономия места и секретность.
– Секретность-то зачем? От кого?
– От посторонних глаз. А потом, это ж, так сказать, исторический документ. Переход через Кавказ, – пошутил Валентин.
– Точнее, перебег, – поправил Валера, и они дружно засмеялись.
Утро выдалось холодным.
– Давайте костер разожжем, – предложил я, – у меня зуб на зуб не попадает.
– Терпи, казак, сейчас козьей тропкой пойдем, враз согреешься.
Два дня пути были позади. Идти становилось все труднее, потому что тропа вдоль ручья забиралась вверх, то прижимаясь к скалам, то взбираясь на узкие карнизы. Несмотря на голод и усталость, на душе было странное чувство. С одной стороны свобода, с другой – неизвестность. Куда мы идем? Наверное, Малхаз уже рассказал Таисии о моем побеге, ведь охранник Дила, похоже, его человек. Нет, я не хотел больше возвращаться в крепость. Там мне было хорошо, но свобода есть свобода. Ее надо ценить.
С трудом давались километры пути. Моим спутникам было легче. Они, если мы доберемся до своих, скоро будут дома. Их-то после недолгой проверки отпустят. А я? Что будет со мной?..
Я снова думал о Толяне, Насте, Таисии, о доме, о Малхазе, вспоминал Георгия…
На фоне неба стал четче вырисовываться силуэт кряжистой снежной вершины, замыкающей долину. В горах расстояние обманчиво: кажется до «сахарной головы» рукой подать, но идешь час за часом, а она не становится ближе. У нас оставалась всего одна буханка хлеба – дня на три, если совсем ужаться.
По мере подъема все меньше становилось деревьев и кустарника по склонам. Перед снежной вершиной, на которую мы держали ориентир, долина расходилась на два ущелья. Здесь же разделялся и ручей. Мы направились по правому ответвлению.
Ручей стекал уступами, рядом с ним шла звериная тропа. Ох, и тяжело же было карабкаться! Иногда встречались, казалось, совсем непреодолимые преграды в виде осыпи или крутой скалы.
Время от времени я срывал с одиночных мелких кустиков молодые веточки с набухшими почками и на ходу жевал их, пытаясь утолить голод. На редких привалах мы засовывали в рот по корке хлеба, тщательно жевали, стараясь насладиться вкусом немудреной еды, и потом еще долго не проглатывали мякиш.
Распадок, перерезавший хребет, несколько облегчил нам переход через массив.
Сверху открылась потрясающей красоты картина горного ландшафта с отдаленными снежными вершинами. Валера оказался прав: по эту сторону перевала простиралась долина со множеством боковых ущелий. Но до нее еще нужно было дойти.
Валентин показал на северо-запад, в сторону нагромождения гор, и сказал:
– Пробраться через них будет тяжко.
С этой стороны перевала самый трудный путь пролегал по обнаженным скалам, кое-где покрытым мхом и лишайником. Наконец добрались до распадков, пробираться стало полегче. Все чаще появлялся кустарник и низкорослые деревья. Через какое-то время мы наткнулись на ручей, а после того, как прошли несколько километров по выстланному валунами руслу, заметили старую тропу. По ней шли еще несколько километров вдоль склона, не спускаясь в долину. Обогнув отрог горы, увидели террасу с заброшенным виноградником и полуразрушенную хижину. Здесь тропа устремилась вниз. Снова в распадке открылся веселый ручей.
Вечером в долине ручья, укрытой плотным кустарником, в полной темноте разожгли костер. Валера нарвал каких-то листьев, а когда вода закипела, сделал отвар. Кислый, терпкий на вкус, но пить можно. Какие-никакие витамины. Даже уверенности прибавилось.
Фирсов смотрит на костер, и в его темных зрачках отражаются веселые огоньки пламени. Валера пишет что-то в дневнике. Вскоре оба ложатся спать. Сегодня мое дежурство – первое.
Я не даю костру угаснуть, собирая сухие ветки вокруг нашей стоянки. Потом спускаюсь к ручью за водой. Грею кипяток, пью. Внутри теплеет, но сон продолжает одолевать. Тикают Валерины часы. Я ни разу не интересовался, откуда они у него. Может, он их в тюрьме у кого выменял на что-нибудь? Время тянется, как сгущенка, приторно и вязко. Поймав себя на этом сравнении, прикидываю, что сгущенка сейчас показалась бы вкуснее черной икры.
Ночь холодная, и вскоре я начинаю дрожать. Чтобы не замерзнуть, машу руками, делаю приседания, стараюсь думать, о чем угодно, только не о холоде. Главное, что меня утешает, – свобода. Нет надо мной начальников, военкомов, надзирателей. Почему человек не может жить один? Зачем ему вся эта цивилизация, общество, борьба за власть? Вот она свобода – живи, не хочу! Только бы одежду иметь путную, жилье, да кусок хлеба с маслом… Вспоминаю Настю, Таисию, но тут же всплывает рожа Павло. Сытая, самодовольная. Так и хочется ему врезать…
Наконец меня сменил Валера. Я лег, уткнувшись в воротник грязной промокшей робы, и тут же отключился с надеждой на лучшее. Мерз даже во сне, но не было сил пошевелить рукой.
Утро погодой не порадовало. Было сыро, висел клочковатый туман, скрывавший горы. Фирсов неожиданно наткнулся на заросли барбариса. Он принес охапку фиолетово-бордовых листьев. Снова мы кипятили воду и пили барбарисовый чай. Оказалось – очень вкусно! В Москве тоже растет барбарис, но мне и в голову не приходило, что его листья можно использовать в пищу. Другое дело ягоды, но их много не съешь…
С непогодой все мои мысли о тихой жизни в горах улетучились. Даже горячий чай не спасал. Но Валера не дает расслабиться. Вот уже командует:
– Нужно идти дальше, пока хватит сил.
Сколько нам еще мыкаться по горам? Этот – пятый – день похода мне особенно хорошо запомнился.
Фирсов первым услышал шум. Мы спускались в ущелье, ведущее к долине. Старались идти быстро, насколько позволяла петляющая тропа. И вдруг:
– Вертушка! – Седов остановился и стал прислушиваться.
Фирсов кивнул утвердительно:
– Да… Но откуда? Может, нас ищут?
Гул винтов был слышен отчетливо. Казалось, он надвигается прямо на нас. И вдруг раздался грохот – страшный такой, оглушительный. Мне показалось, что началось землетрясение.
– Что это? – спросил я растерянно, глядя на Валеру.
Тот нервно сглотнул:
– Вертушка грохнулась, не иначе. Быстро туда!
Фирсов тоже оглянулся:
– Зачем?
– Может, наши, – сказал Седов, уходя в сторону взрыва.
Мы быстро пошли за ним. Вскоре запахло гарью. Туман продолжал стелиться по ущелью, но Валера шел точно, и вскоре на склоне горы мы обнаружили первые обломки вертолета: кусок винта и еще какие-то железки.
От взрыва вертолет раскололо на несколько частей. Судя по сломанным деревьям, его изрядно протащило по склону.
Мы отдышались, и Седов с Фирсовым начали осматривать место крушения. Они искали планшет погибших пилотов. Я старался не смотреть, хотя уже было пора привыкнуть к смерти.
Мертвые нам помогли. Среди останков мы нашли флягу со спиртом, зажигалку и сигареты. Планшет был цел и невредим. В нем, как и предполагал Валера, оказалась подробная карта.
Вертолет был не наш. Все надписи по-грузински, но Валера соображал и без надписей. Куда и зачем летел вертолет, мы так и не поняли, но у летчиков нашлось кое-что из еды и «макаров». Собрав все ценное, стали быстрее уходить от опасного места. Вскоре здесь могли появиться грузинские военные.
В полдень перевалили на другую сторону отрога, в который врезался вертолет. Спустились к очередному ручью и сделали привал.
– Так-то спокойнее, – сказал Седов, подходя к воде, чтобы умыться. – То ущелье они будут прочесывать.
Через час после привала меня начало сильно лихорадить. Фирсов сказал встревоженно:
– Ты чего, парень, ты это брось. Заболеть, что ли, вздумал?
– Не знаю, – отвечал я, – худо мне.
Седов снял робу, а потом предусмотрительно надетый под нее бордовый свитер. Протянул его мне:
– Сейчас мы тебя вылечим. На-ка, одень.
Валера заставил меня надеть свитер под робу. Был он тонкий, мелкой вязки, с маленьким белым цветочком на груди. Я вспомнил, что точно такие же цветы встречал на перевалах, когда бежал из Чечни. Кажется, они называются эдельвейсами. Этот свитер и сейчас со мной.
Пока я одевался, Фирсов налил мне полкружки спирта и заставил выпить залпом. Спирт на голодный желудок, да на свежем воздухе… Я вырубился сразу, прямо под кустом, на заботливо наломанных моими спутниками ветках.
А проснулся – голова свежая, ничего не болит, не знобит. Правда, как вспомнил вертолет, настроение сразу испортилось. Хорошо, думаю, что не смотрел на погибших, а то бы было еще хуже.
Даже не спросил, сколько их было. Фирсов вроде говорил, что трое. Но зато теперь у нас есть пистолет и карта. Валера долго ее изучал, потом, ткнув пальцем, сказал:
– Ага, вот мы где. Вот эта долина. В принципе придерживаясь ее, пройдем через два перевала и выйдем к Гори, а дальше – к Большой Грузинской дороге. Но это теоретически. А уж как обстоятельства повернутся – посмотрим.
– Валер, – сказал я, – давай найдем деревню или село. Хоть поесть что-нибудь попросим. А может, переобуть чего дадут.
– Размечтался, – оборвал меня Седов. – Скоро розыскные вертолеты летать начнут. Ноги надо делать.
– Слышь, Валер, – сказал Фирсов, – все равно надо к людям, у меня башмак на излете, порвется скоро.
– И у меня кроссовки, как морда у бульдога… – протянул я.
– Вижу, как ты ему пасть перевязал, чтобы жрать не просил, – вздохнул Седой, – Ладно, кончайте, рано расслабились. Нам еще топать и топать. Слушай мою команду: короткими перебежками вперед, силы экономить, соблюдать осторожность. Пошли.
Валентин сразу вскочил:
– Есть, товарищ майор!
Я пристроился ему в спину, и мы начали спуск вниз, в долину. Вышли на тропинку и потянулись друг за другом. Валера все время оглядывался назад. Туман вскоре рассеялся, серые облака поднялись выше, на северо-востоке появился лазоревый просвет, открыв нагромождения белоснежных вершин. В прозрачном воздухе все было отчетливо видно. Теперь нас могли легко заметить. Валера резко взял в сторону кустарника, который тянулся аж до следующего холма, покрытого корявым лесом.
Взобрались на холм. Впереди, на равнине, будто грибы выросли дома. Они были, как на ладони. Фирсов стал их пересчитывать.
– Сколько? – спросил Седов.
– Двенадцать или тринадцать. С той стороны не видно. Низина.
Действительно, самые нижние дома спускались по уклону. Там, похоже, текла река. Валера махнул рукой, и мы пошли за ним на следующий подъем. Взбирались минут сорок, если не больше. Я устал передвигаться в таком ритме, но изо всех сил старался не отставать. Наконец передышка. Упал на землю, почти теряя сознание. Голова кружилась, не мог понять почему. Может, от голода, может, от перепада давления. Дышал тяжело. Видя мое состояние, Валера велел Фирсову дать мне воды и кусок хлеба.
Седов долго вглядывался в окраину деревни. Внизу действительно текла река. На другом берегу стояло несколько построек довольно хлипкого вида и один приличный дом.
Решили перейти реку вброд и разведать, что в постройках. Спустившись к реке, увидели каменный старенький мост, а на другом берегу, сразу после моста – кусты. Идти в ледяную воду не хотелось, и мы стали уговаривать Седова переправиться по мосту. Он долго не решался, но потом принял решение пересекать мост по одному, бегом. Валера, пригибаясь за каменными бортами моста, отправился первым. Река шумела сильно, ворочая дикие валуны. Я пошел вторым. За мной Фирсов. Слава Богу, было все тихо, пробежали нормально и кустами пробрались в заброшенный сарай.
На крыше строения местами обвалилась черепица, внутри сложенных из булыжника стен валялось старое сено, какая-то деревенская утварь. В двух окнах еще остались потрескавшиеся стекла. Мне было приказано наблюдать за домом, а Фирсову – за дорогой, ведущей к мосту.
Вечером Фирсов отправился на разведку. Через полчаса Валера начал волноваться. Прошло еще полчаса, а Валентина все не было. Я уже не сомневался, что с ним что-то произошло.
Наконец сквозь шум реки донесся собачий лай. Седов загнал патрон в патронник и щелкнул предохранителем.
– Если что, уходи оврагом, – показал он в сторону реки, – я прикрою.
– А ты? – спросил я.
– Как получится, – отмахнулся Валера и осторожно вышел из сарая.
Лай собаки приближался. Седов скрылся из виду, а я молил Бога, чтобы пронесло. Через некоторое время послышались чьи-то шаги. Я упал в траву и стал наблюдать из-за угла. Первый силуэт, второй… Из груди вырвался вздох облегчения. Свои… Первым шел Фирсов, следом Валера. Вскочил на ноги и побежал к ним. Валентин был в крови. Я подумал, что он ранен.
На самом деле все оказалось просто. В доме жила какая-то бабка. Фирсов решил утащить у нее курицу. Кур много, одной меньше, одной больше – от старухи не убудет. Целый час Валя караулил, пока бабка уйдет со двора. Наконец дождался, кинулся к сараю. Куры галдят. Пока он там пытался одну поймать, старуха опять вышла из дома. А за ней следом – псина. А Фирсов голову курице уже скрутил. Кровью измазался, стоит не шелохнется, а пес тут как тут, да еще брехать начал. А бабка то ли глухая, то ли еще что. Так и не заметила ничего. Валентин рассказывал, а мы смеялись.
Через некоторое время Фирсов показал на зарумянившуюся над костром курицу:
– Вот она – простая человеческая радость. По большому счету, много ли нам надо?
В эту ночь первый раз за последнее время мне удалось крепко заснуть. Утром вскипятили чай из трав. В окна сарая заглядывало яркое солнце. Я смотрел на осунувшиеся, обросшие щетиной лица мужиков и думал:
«Настоящие Робинзоны. Да и у самого уже борода, как у попа, правда, жидковатая…»
– Валь, а ты кто по гороскопу? – почему-то спросил я.
– Телец.
– Так ты в этом месяце что ли родился?
– Не поверишь… Сегодня.
– Что же ты молчал? – Седов аж привстал. – Это надо отметить! Спирт у нас еще остался. Так… Тогда сегодня отдыхаем.
На следующий день мы вышли в широкую долину между двух гор. Внизу текла река, а дорога петляла серпантинной ленточкой. На холме возле реки расположилась деревня. Подальше, внизу – еще одна. Возле домов – высокие деревья. Тихая, размеренная, почти незаметная жизнь. На склоне горы сделали привал.
– В деревню идти опасно, – сказал Валера, всматриваясь в даль и покусывая веточку акации.
– Я пойду, – предложил Фирсов.
Валера поморщился, какое-то время разглядывал карту, пытаясь понять, где мы находимся, и наконец отрицательно покачал головой. Фирсов пожал плечами, но спорить не стал.
К вечеру мы обогнули нижнюю деревню. Я насчитал в ней двадцать шесть домов и еще несколько построек типа административных зданий. А провизия у нас между тем была уже на исходе: хлеба осталось полбуханки и НЗ в виде горстки сухарей на брата.
И тут мы вышли к асфальтовой дороге. Ее пересекала высоковольтная линия. В сумерках прошли еще несколько километров. Казалось, вот-вот за поворотом покажется большой город, и мы будем спасены. Но за изгибом шоссе снова открывались горы и неизвестность…
Наконец за очередным поворотом Валера наткнулся на ручей и объявил:
– Привал! Костра разводить не будем…
Фирсов выдал последнюю пайку хлеба.
– Завтра, похоже, придется идти на гоп-стоп, – сказал он, убирая в мешок тряпицу, в которой оставалась единственная зачерствевшая горбушка.
И опять мы упорно шли вперед. Куда? Я давно уже не размышлял об этом – верил ребятам и старался не отставать. Дорога теперь извивалась по краю пропасти, по обе стороны которой нависали скалистые громады. Но за очередным выступом скалы горы резко расступились, уступая место зеленой долине, а река, расширяясь, смиряла свой бешеный бег.
– Оба-на, блокпост, – сказал Валера, останавливая нас. – Давайте-ка сюда, – и дал знак прижаться к скале.
– Где? – напрягся я.
– Вон тот скалистый мысок видите?
– Ну, – кивнул Фирсов.
– Вроде вижу, – подтвердил я.
– Из-за этого мыса вытекает еще одна река. Видите, вроде каменистого пляжа, там, где реки сходятся. А теперь присмотритесь получше. Над пляжем, на уступе горы, – серое сооружение. Это и есть блокпост. Что будем делать?
Развернув карту, Седов объяснил, что перейти реку возможно только на слиянии или ниже его, где на той стороне нет неприступных скал. Но слияние у наблюдателей блокпоста было, как на ладони, а лезть вверх на скалы возможно только с альпинистским снаряжением, которого мы не имели. Возвращаться назад за многие километры, чтобы выбрать другой маршрут, не хватило бы сил.
– Ну, вот и все, – вздохнул Фирсов, оценив обстановку. – И вперед не пройти, и обратно нельзя. Надо передохнуть, – он устало указал на небольшую ложбинку между обочиной и краем обрыва.
Мы спустились в нее, прилегли. Однако отсюда, из-за кустарника, обзор был плохой. Был виден только блокпост, а нам нужно было разглядеть хоть какую-нибудь тропку на уступах каньона, чтобы проскользнуть мимо наблюдателей.
– А что, если ночью? – предложил я.
– Ага! – хмыкнул Фирсов. – У тебя что, прибор ночного видения вместо глаз? Грохнешься со скалы – костей не соберешь. А они врубят прожектор – и слияние будет у них, как на ладони.
– Может, все-таки, проскочим как-нибудь, – не унимался я.
– Нет, – заключил Валентин, – решительно здесь дело гиблое.
Он сорвал травинку, сунул ее в рот, пожевал, потом откинулся на спину и замер. Глаза у него были открыты, и у меня было такое чувство, будто смотрел Валентин не в небо, а сквозь него, пытаясь увидеть там нечто такое, чего обычно человек увидеть не может. Мне стало не по себе, и я перевел взгляд на Седова. Тот смотрел в сторону реки и что-то бормотал себе под нос.
– В общем так… – начал он. Помолчал, подумал и заключил: – Перед самыми сумерками начнем спускаться в каньон на веревках.
– Имеешь ввиду те, что на обломках вертолета прихватили? Они же обгоревшие, – удивился Фирсов.
– Только местами. Проверить надо будет на прочность и в слабых местах связать. Потом вдоль берега проберемся к слиянию.
– А если там глубина с головой? Ты об этом подумал?
– Тогда поплывем.
– Унесет.
– Другого варианта нет.
Мы долго проверяли веревки на прочность, связывали их, облегчали экипировку. Все лишнее спрятали в ложбине под большим камнем. Потом стали высматривать место спуска и, наконец, привязали веревку к стволу корявой сосны, уцепившейся корнями за край обрыва, под которым оказалась крохотная бухточка с грудами больших и маленьких валунов на дне. Когда предгорья накрыли сумерки, начали спуск. Сначала полез Фирсов, потом я. Под самыми скалами вниз по течению простиралась узкая полоска тихой воды. Обнаружив ее, мы с Валентином несказанно обрадовались. Однако Седова что-то долго не было. Мы уже начали волноваться, не случилось ли чего. Но оказалось, что майор возился с веревкой. Видя, что спуск не так труден и можно удержаться за уступы камней, он ее отвязал, сделал на конце петлю, которую накинул на камень, чтобы можно было снять снизу. Все-таки молодец Валера! И здесь все предусмотрел. Если бы не эта веревка, осуществить задуманное было бы трудно, потому что дальше бурное течение настолько сильно ударяло в берег, что удержаться на нем без подстраховки было немыслимо.
Примерно за час мы добрались до края каньона. Далее берег хорошо просматривался с блокпоста даже в отблеске звезд.
Валера подал знак остановиться.
– Будем переходить здесь, – сказал он шепотом. – Вон на том берегу чернеет распадок, идите на него. Теперь без страховки. На виду у часовых с веревкой возиться некогда.
– Да там же снесет на хрен, – удивился Фирсов.
– Не снесет, если крепко ногами упираться будешь, на разливе везде мелко.
Мне с перепугу казалось, что они говорили очень громко. Однако шум реки заглушал наши разговоры.
– Слышишь, Валер, – сказал вдруг Фирсов, – может, пусть малый один идет, а мы отвлечем их?
– Нет, – отрезал я, – без вас не пойду. Помирать – так всем вместе.
В это время луч прожектора пробежал по бурлящей поверхности реки, захватил противоположный берег и на мгновение осветил распадок на той стороне.
– Усек, куда драпать надо? – толкнул меня локтем Валентин.
– Усек, только река широкая.
– Прорвемся, – грустно улыбнулся Седов.
– Эх, была бы это Волга, – с грустной усмешкой сказал Фирсов. – В своей реке как-то и помирать веселее.
– Тоже мне, Чапаев нашелся, – хмыкнул Седов. – Ладно, хорош лясы точить.
Он вошел в воду, осторожно нащупывая дно, оступился, но равновесия не потерял, оглянулся и уже не приказал, а попросил:
– Держи дистанцию, парень, ладно? И не загораживай мне блокпост – если что, я их отвлеку.
Я выждал паузу и двинулся за Валерой. Сразу угодил в какую-то яму, окунувшись в ледяную воду по грудь. Выбрался. Хотел вернуться, но Фирсов зашипел:
– Иди, а то дороги не будет.
Сжавшись от холода, я обошел яму и побрел за Седовым, спотыкаясь на крупных валунах. Время остановилось, каждый метр переправы казался вечностью. На середине вода стала выше пояса. Быстрое течение стремилось сбить с ног, но я кое-как удерживался. Фирсов почти поравнялся со мной, но был несколько ниже по течению. Идущий впереди Валера вдруг остановился и пропустил меня вперед.
Не было слышно ни звука, лишь шумела вода. Потом неожиданно кто-то засмеялся так громко, что в ущелье проснулось эхо. И тут же тишину прорезал треск автоматной очереди. Я машинально пригнулся и чуть было не потерял равновесие. На какие-то секунды снова стало тихо, а я изо всех сил рвался к берегу, но движение было замедленным, как во сне. Еще очередь. На воде заплясали фонтанчики от пуль. Эхо гоняло грохот от скалы к скале. Я судорожно всматривался в течение реки, боясь не удержаться на ногах, и брел к противоположному берегу, туда, где под горами была черная вода. Казалось, что все пули летят в меня, почему-то не попадая. Седов с Фирсовым остались где-то позади. Внезапно пуля свистнула над самой головой. Я невольно оглянулся и увидел как-то странно приседающего и почти не продвигающегося вперед Валеру. Он погрузился в воду по плечи, еще как-то удерживаясь, но в следующий миг река повалила его.
Я уже находился под скалами, под их спасительной тенью, но до берега было еще далеко. Увидев торчащий из воды валун, метнулся за него, прижался всем телом к его леденящей, но надежной поверхности. Стрельба продолжалась. Пули визжали, отскакивая от камней. Чуть дальше я увидел еще одну черную глыбу и перебежал за нее. Вот и берег. Юркнув за осколок скалы, отлежался, дождавшись, пока стрельба полностью прекратилась.
Придя в себя, начал оглядываться и тихо позвал: «Валя!», надеясь, что Фирсов каким-то чудом оказался на берегу. Но никто не ответил. Боясь, что меня услышат сверху, я перешел почти на шепот, продолжая звать товарища. Но вокруг, кроме скал, реки и темноты, ничего не было. И тогда я заплакал. Уткнулся носом в холодные булыжники и не мог остановиться.
Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно охвативший все тело озноб привел меня в чувство. Я сел на камни и стал машинально стягивать с себя сапоги, а затем мокрую тяжелую одежду. «Нет, не может быть, они живые», – успокаивал я себя, выливая воду из сапог, выжимая портянки, свитер, штаны. Гимнастерку выжимать не стал, тихо пустил ее по течению реки. Вдруг почувствовал что-то твердое, но никак не мог сообразить что это. Потом до меня дошло: пистолет. Ведь это Валера сунул мне пистолет летчика с двумя патронами.
Вытянув его трясущимися руками, передернул затвор, щелкнул предохранителем и произнес вслух: «Последний для себя». Но тут вспомнил, что патронов у меня два. Значит, рано сводить счеты с жизнью. Я снова оглянулся в надежде увидеть Валентина, но вокруг никого не было, только играли блики на зловеще-черной реке.
Убрав пистолет в карман, опустился на колени и набрал в ладони воды. Напился. Это немного успокоило. Я понял, что остался один и теперь моя судьба зависит только от меня самого. Машинально стал натягивать мокрую одежду, затем обулся, заправил в штаны свитер и уже без промедления, оглядываясь на отдаленный блокпост, стал карабкаться вверх по распадку.
Потом пошел по расщелине, которая уходила куда-то в сторону, а затем стала забирать сильно вверх. Чем дальше я лез, тем больше убеждался, что попал в тупик. Пошли неприступные отвесные скалы. Пришлось возвращаться назад, в распадок, и искать другой путь. Стал карабкаться по уступам скал, которые скоро вывели на склон. Гора была не сильно крутая, к тому же повсюду изрезана козьими тропами. Тем не менее через час-полтора я окончательно выбился из сил и, почувствовав под собой поросшую мхом площадку, прилег.
Разбудил меня жуткий холод и надвигающийся откуда-то шум. Может быть, показалось? Нет. Я различил приглушенный лай собаки, голоса людей и понял, что это погоня. Я затаился, надеясь, что собаки меня не почуют. Голоса слышались все ближе. Вдруг сверху посыпались камни, едва не разбив мне голову.
Преследователи остановились на краю обрыва прямо надо мной и стали шарить мощным фонарем по скалам. Я не шевелился, только трогал пистолет. В какой-то миг рука сама скользнула в карман. «Застрелиться? И больше ни страхов, ни мучений… Ведь когда-то меня не было на свете, а мне от этого хуже не было». Но лицо монаха снова появилось передо мной: «Ты остался жив. Значит, должен жить, а если умереть, то только в бою с врагом». – «С каким врагом? Ведь они мне не враги, и я им тоже не враг», – спросил я мысленно. – «Эти не враги. Но у твоей Родины много врагов». Видение исчезло. Голоса людей и лай собак стали отдаляться. Борясь с холодом, я выждал еще некоторое время, а потом стал карабкаться дальше.
Наконец достиг первой тонкой березки у обрыва – ее белоснежный ствол отчетливо выделялся в темноте. Ухватился за него и взобрался на плато. Огляделся, прислушался и перебежал в заросли высокого кустарника. Снова вслушался. Тишина! Тогда стал осторожно пробираться вперед. Внезапно открылось освещенное луной пространство. Я увидел лесную просеку, по которой проходила широкая грунтовая дорога. Опешив, отпрянул назад. За вырубкой, метрах в ста, стоял высокий лес, а над ним в отдалении щетинились спинами гигантских динозавров горы. Набравшись смелости, перемахнул через дорогу и, петляя между пней, побежал в сторону леса.
Все время казалось, что вот-вот начнут стрелять, но слышал я только свое громкое дыхание. Наконец добрался до леса и, цепляясь за деревья, стал уходить в чащу.
– Стоп, – внезапно приказал я себе. – Куда меня несет? Сколько еще можно плутать?
Конец пути
Размышляя над этими непростыми вопросами, я нашел поваленное дерево и сел на него.
Идти, не зная куда, было неразумно. Оставаться на месте – тоже. К тому же ночи в горах холодные. Город был там, куда вела найденная мною дорога, это точно. Перед спуском к реке мы с Валерой рассматривали это место на карте. Ниже, через несколько километров, дорога вольется в шоссе.
Преодолевая усталость, я направился краем вырубки, а потом по дороге в сторону города.
Шел, как говорится, на автопилоте. Едва волочил ноги от усталости. С рассветом сообразил, что продвигаться дальше опасно. Пришлось углубиться в лес. Вскоре я вышел на залитую солнцем поляну. Тепло расслабило, и силы окончательно покинули меня. Все тело гудело от напряжения. Руки и ноги не хотели слушаться. В голове был туман. Повалился на еще сыроватую траву и забылся.
Во сне меня теснили горы и бетонные надолбы, я не мог найти между ними прохода и звал на помощь ребят. Наверное, я плакал, потому что, когда проснулся, почувствовал, что кожу под глазами стянуло. Вскочив, стал оглядываться, опасаясь, что выдал себя криком. Однако окружающая зеленая благодать и мелодичное пение птиц меня успокоили. Не знаю, сколько спал, но одежда почти высохла. Теперь я почувствовал себя полным сил.
Сейчас, когда опасность ощущалась не так остро, я вспомнил о пистолете. Он по-прежнему лежал в кармане. Я подумал и решил, что оружие мне больше не потребуется. Оно будет только лишней уликой. Вынув пистолет из кармана, долго смотрел на него и гладил вороненую сталь, а затем решительно засунул макар под корни огромной сосны. Поднявшись с земли и отряхнув прилипшие рыжие иголки, неторопливо стал пробираться к дороге. На ходу придумал, что в случае расспросов буду выдавать себя за отбившегося от бригады строителя.
Шел долго: шарканье по мелким камешкам уже изрядно надоело. Вскоре показалась первая машина. Она ехала навстречу, и я подобрался, понимая, что уже не успею спрятаться на оголенной обочине дороги. Но белая «Волга» проехала мимо, и усатый водитель даже не посмотрел в мою сторону. Попуток же не было долго. Наконец появилась первая – пустой Камаз – на мои сигналы руками он не остановился. Я уже шел часа два.
Вдруг сзади послышался гул мотора.
– Стой! – замахал я руками, увидев приближающийся старый, потрепанный «москвич». Потом выскочил на дорогу, перекрыв ему движение.
Машина затормозила, обдав меня пылью. В окно высунулся худой старик в огромной кепке, гладко выбритый, но при огромных усах. Он недовольно посмотрел на меня, но дверцу автомобиля открыл. Я с радостью прыгнул на сиденье, боясь лишний раз взглянуть на водителя.
Вскоре выехали на основную дорогу. Здесь то и дело сновали машины. И вдруг впереди замаячил хвост военной автоколонны. Мы быстро приближались к ней.
– Наши! – пролепетал я, потрясенный увиденным.
Старик странно посмотрел на меня и принялся обгонять колонну. Солдаты и сержанты, может быть, мои одногодки, сидели на броне БТР, идущих во главе и в конце колонны. Другие солдаты с автоматами в руках тряслись в крытых тентами кузовах. Перед глазами снова, как живые, встали Фирсов и Валера. Они ушли, но их место займу я. А Настя… Сколько таких девчонок еще живет в Чечне, Грузии, других районах Кавказа? Любой негодяй, подобный Павлу, может их безнаказанно обижать. И если не я, кто другой защитит этих девчонок!? Об этом, похоже, и говорил монах, но тогда его слова для меня звучали слишком абстрактно. Пока в голове прокручивались эти мысли, мы уже далеко обогнали колонну.
– Стой! – неожиданно выкрикнул я. – Стой! Тормози!
Старик посмотрел на меня с испугом, но ничего не сказал, остановился. Я выскочил на дорогу и, дождавшись приближения головной машины, стал размахать изо всех сил руками. Однако и БТР, и грузовики проезжали мимо друг за другом в том же темпе, как и прежде. Лишь замыкающий БТР притормозил, с его брони спрыгнул молодой лейтенант.
– Что размахался? – спросил он недовольно.
– Я свой, в плену был.
– Как это в плену?
– Так…
– Ладно, разберемся, – лейтенант махнул рукой сидевшему на броне связисту с радиостанцией, тот подбежал, и лейтенант сказал в микрофон: – Двадцать первый, прием. Тут парнишка русский, говорит, сидел в плену… Есть, товарищ подполковник.
Хвостовой ЗИЛ остановился.
– Давай беги к той машине, – сказал лейтенант.
Я со всех ног пустился вперед. Два солдата втянули меня в крытый кузов, усадили на скамейку. Ко мне сразу подсел молодой майор, стал спрашивать, кто я такой и откуда. На радостях чуть было не сказал правду, но вовремя спохватился, вспомнив, что мне грозит дисбат и что толку от этого никому не будет.
Сосредоточившись, сказал, что из Москвы, что был призван в Грозный и сразу попал в «котел». Был контужен. Очнулся уже у чеченцев. А они продали меня в рабство. Дальше пошло проще: бежал, попал в крепость к Таисии Андреевне, где был пленен боевиками, попал к Зелимхану, а тот меня сдал в тюрьму на временное хранение. Да вот только еще бы малость – и расстреляли бы там меня в числе других пленных. Рассказал о вертолете, о том, что бежал с нашими офицерами, и что они геройски погибли.
Оказалось, что они уже знают о перестрелке на блокпосту, но о побеге информации у майора не было.
– Здесь все куда-то бегут, – сказал он как-то неопределенно. – У них тут сейчас полный развал. Суверенитет. Делай что хочешь. Домой приезжают – всей родне подарки, деньги. Конечно, весь аул гордится: дескать, наш Махмуд в люди вышел. А Махмуд этот разбоем да грабежом промышляет, наркотой торгует. С того у него и бабки, и машины, и квартиры везде… Эх!..
Наконец мы приехали в пункт назначения – воинскую часть за бетонным забором, обнесенным поверху колючей проволокой. Невольно подумалось: «Снова как в тюрьму попал, только теперь в нашу». Нет, оказалась строевая часть. Меня сразу определили в санитарное отделение – майор лично проследил, чтобы мной занялись как следует. А часа через два ко мне пришел следователь. Простой с виду мужик, и не скажешь, что он из ФСБ или ГРУ. Въедливый, правда, ужасно. Все удивлялся, как я номер части мог забыть. А что я, все помнить должен? Один раз и слышал номер этот.
– Поподробнее можешь рассказать, как в плен попал? – спросил следователь.
– Чего говорить, вы все равно не поверите.
А он мне:
– Я не трибунал, это их дело приговоры выносить. Ты мне расскажи, как дело было, может, и поверю.
– Сами посудите: пригнали нас, построили. Мы еще и присяги не приняли. Тут, говорят, боевые действия, надо своим помочь. Берите автоматы, и вперед. А мы автоматов и в руках никогда не держали. Еле-еле рожок нашел. Пока соображал, как этот рожок прицепить, все куда-то подевались, двор пустой, только стрельба, да взрывы где-то рядом. Смотрю – уазик едет. Я думал, наши, рванул к машине, а там чеченцы. По голове мне дали, и все. Ничего не помню. Очнулся, когда в машине везли. Глаза, руки завязаны, болтают по-своему. Так и попал неизвестно куда. Сарай помню. Там еще несколько россиян было. Общаться нам не давали. Потом продали меня в рабство к старику Аслану. Что это за аул и где находится – не знаю. Бежал оттуда наугад и попал к Таисии Андреевне.
Следователь спросил, где эта крепость находится, я сказал. Потом рассказал, как Павло продал меня Зелимхану, а тот определил в тюрьму.
– Много наших, говоришь, в тюрьме было?
– Много.
– Где тюрьма-то знаешь?
– Где-то в ущелье возле границы.
– Как тюрьма выглядит?
– Три барака действующих, еще два пустуют. Наших вначале было человек пятьдесят, а потом оставалось десятка два или около того. Человек тридцать в расход пустили, не считая абхазов.
– То есть как?
– Так. Расстреляли.
– Кто там сидел? – спросил он.
– Уголовники в основном. А еще пленные офицеры, рядовые, сержанты. Но расстреливали, естественно, только наших да абхазцев. Говорили, будто на работу уводят. Но назад никто не возвращался. Узнали мы от одного вертухая, что в расход их пускают, ну и решили с двумя офицерами драпать, пока до нас очередь не дошла.
– А те офицеры где?
– Убили их у блокпоста.
– Еще кто-нибудь бежать пытался?
– Был еще с нами Толян, уголовник. Как он про наш побег узнал, мы понятия не имели. С виду такой тихий был. Жалко его. Из-за меня он и погиб. Я колючку зацепил случайно, а охрана стрельбу начала. Вот его и… А Валеру с Валей потом, когда речку переходили. Может, живы они, а, товарищ следователь? Что если поискать? Я место покажу.
– Да, подкинул ты нам работенку. Ничего, разберемся.
– А в Чечне воюют?
– Воюют, воюют. Что, боишься, что тебя отправят?
– Нет, сам хочу. В спецназ.
Следователь, похоже, растерялся, спросил:
– Как это, сам хочешь? Большинство призывников отмазку ищут, чтобы не на войну, а ты – добровольно в пекло?
– Да, хочу, воевать! – сказал я твердо.
– Хорошо. А кого из офицеров части помнишь?
– Смайкина, – сразу выпалил я, потому что этот симпатичный капитан почему-то запал мне в душу…
Много он мне еще задавал всяких вопросов. Проверял. Но я твердо стоял на своем. Дали по башке, и ничего не помню. Пусть докажут, что дезертир.
Уже через день из санитарного отделения меня перевели в казарму к солдатам. А еще через неделю вызвали снова:
– Смайкин, говоришь? Был такой… – следователь посмотрел мне прямо в глаза и отчеканил: – Капитан Смайкин погиб смертью храбрых, посмертно представлен к ордену.
Я ждал чего-то подобного. Из той мясорубки живым выйти мудрено было… А следователь зачитал по бумажке:
– Седов Валерий Викторович, уроженец города Саратова, погиб при исполнении боевого задания. Фирсов Валентин Сергеевич, уроженец Одинцовского района Московской области, погиб при выполнении боевого задания. Оба будут представлены к правительственным наградам посмертно…
Тут я присел на стул, совсем плохо мне стало. Так отчетливо Валеру с Валей увидел, словно они живые передо мной встали. Следователь аж подскочил на стуле, воды мне принес.
– Ты чего, парень? Все нормально?..
– Теперь-то хоть мне верите?
– Да. Вас много сейчас таких. Думаю, определят тебя в часть. Ты ведь свое не отслужил?
– А вы за меня походатайствуйте, чтобы в спецназ.
– Да что ты заладил с этим спецназом! – буркнул следователь. Потом успокоился: – Ладно, учтем твои пожелания.
Наступило молчание. Следователь что-то писал.
Я очень волновался, не сводя глаз с его волосатой руки. От того, что он сейчас напишет, зависела моя судьба. Наконец следователь оторвался от бумаги и посмотрел на меня.
– Вот что, Артем Александрович, я тут письмо набросал в штаб округа. Там в ГРУ есть майор Иванюта. Он такими, как ты занимается. Ты ему про тюрьму расскажешь, а он твои данные еще раз проверит.
На следующий день меня отправили во Владикавказ в кузове крытого грузовика, набитого дембелями. Подпрыгивая на ухабах, я рассматривал их счастливые лица, кителя, украшенные пестрым неуставным рукоделием, и думал: «Если бы не дезертирство, к этому времени мог бы уже отслужить. Конечно, если бы не убили, в первом же бою…» И сердце снова заныло, вспомнились жуткие крики в пылающей арке, лица мертвых молодых солдат на блокпосту. «Я за всех отомщу», – стучало в висках.
По прибытии в штаб меня сразу отвели в кабинет майора Иванюты. Он мне не понравился, но расспрашивал по делу. Ничего лишнего. Расстались мы вполне мирно.
Через пару недель карантина мне выписали предписание и направили служить в действующую часть – как ни странно, именно в спецназ. К осени, пройдя начальный курс подготовки молодого бойца, я уже совсем освоился с армейской жизнью, подружился с ребятами в своей роте.
Время шло к зиме, но в жизни ничего не менялось, если не считать того, что наладил переписку с мамой.
В дальнейшем не раз ходил и летал в горы на задание. Через год службы «заработал» орден. Часто вспоминал о Насте и Таисии, однако в крепости мне удалось побывать не скоро – только после службы в армии.
Прощание
Навестив маму, я быстро заскучал. Все друзья разлетелись кто куда, были заняты своими делами – словом, никому не было до меня дела. А на Кавказ, наоборот, с каждым днем тянуло все сильнее – очень много там осталось недоделанных дел. Поэтому, отдохнув недельку, я сел на поезд и поехал к Георгию в Сухуми, где он теперь жил постоянно.
По поводу встречи мы загуляли на всю катушку, и праздник жизни мог продолжаться до бесконечности. Но мне не терпелось поехать в горы. Я каждый день просил у Георгия отправить меня к Малхазу, однако тот был неумолим. Так продолжалось неделю, пока наконец однажды Георгий не сдался перед моей настойчивостью:
– Ты мой друг и я не могу тебе ни в чем отказать.
На следующий день он дал мне сопровождающего с машиной, и мы поехали в места, по которым я скитался после побега из армии.
Малхаза дома не было. Его жена Сулико, о которой я знал только понаслышке, сказала, что он в крепости, которая теперь пустует.
– А где же Настя и ее мама? – спросил я.
– Настя уже года три, как у бабушки живет, а Таисия то ли в Ростове, то ли в Таганроге – о ней ничего не слышно.
Я оставил сопровождающих у Сулико и один отправился в крепость. У ворот гремел ключами бородач, в котором я с трудом узнал Малхаза. Он вначале испугался, но когда услышал мой радостный оклик, расплылся широкой, удивленной улыбкой:
– Здравствуй, дорогой, – улыбался я, похлопывая его по худой сутулой спине.
А он, вытирая слезящиеся глаза, никак не мог поверить, что это я, только все повторял:
– Артем, это ты? Артем, это ты?
– А где Настя, где Таисия Андреевна? – спросил я.
– Э, дорогой, они теперь к нам не приезжают, давно уже как уехали, сразу после твоего побега из тюрьмы, а Настя даже раньше. Таисия тогда с Настей поругалась и к матери в город ее отправила – с бабушкой теперь живет Настя. Невеста она уже, в этом году в институт собиралась поступать.
– А схема побега, что Таисия передала, это твоих рук дело?
– М-м, – промычал он, утвердительно кивнул, потом весело похлопал меня по плечу. – Молодец, джигит, оправдал надежду.
– А Таисия, как она? – не выдержал я.
– Таисия, Таисия, – Малхаз погрустнел, пожал острыми плечами. – Не знаю, кто говорит – там, кто – еще где.
– Ну а адресочек Настин дать можешь?
– Записывай, только поговаривают, что жених у нее есть.
Я достал из рюкзачка блокнот и записал адрес. Мы все еще топтались возле ворот крепости.
– Малхаз, – попросил я, – открой, пожалуйста, хочу попрощаться. Ведь это и мой дом – он научил меня многому…
– Да, да, понимаю, – пробормотал Малхаз и снова загремел ключами, стараясь попасть в поржавевшую замочную скважину.
В жилой комнате наверху башни царило запустение и беспорядок. Кровати, стол и массивный комод стояли на своих местах, но на них лежал толстый слой серой пыли. Занавески, матерчатая ширма, комнатные цветы и прочие приметы заботливых женских рук отсутствовали. На полу повсюду валялись грязные клочки бумаг, засохшие огрызки, пустые банки и другой мусор. В крепости царило уныние. Оно передалось и мне.
– Пойдем, мне пора, – появившийся Малхаз, прервал созерцание.
Этим же днем я расстался с ним и Сулико, скорее всего, навсегда.
В Тбилиси
Я быстро нашел нужную мне пятиэтажку. Сухощавая крепкая старушка открыла дверь квартиры. Спросив о Насте, я некоторое время топтался у порога, но когда назвал свое имя, пожилая женщина впустила меня в дом и даже предложила чаю.
Мы сидели у окна, она рассказывала о Насте, о Таисии. Подтвердились слова Малхаза о том, что отношения у них не сложились.
– Теперь они вообще не видятся, и все из-за этого Павла, – подвела итог сказанному старушка.
Я спросил где Настя. Надежда Ивановна немного помедлила, потом неохотно ответила:
– Она теперь живет в Тбилиси, в общежитии, учится в педагогическом институте на историческом отделении.
На следующий день я находился уже в Тбилиси. Было обеденное время, поэтому пошел прямо в институт. Найти нужную группу не составило большого труда. Но пришлось подождать перерыва, стоя у дверей аудитории.
И вот наконец долгожданный звонок. Из аудитории шумной толпой вывалили студенты. Настя первой увидела меня из глубины помещения:
– Артем, это ты…
– Настя!
Мы обнялись. Проходящие мимо студенты оглядывались на нас.
На оставшуюся пару Настя не пошла. Мы неторопливо шагали по тротуарам густо усажанных деревьями улиц и говорили, говорили, вспоминая прошлое. Она задавала мне много вопросов о тюрьме, о побеге, об армии, о моей маме, а о себе почти ничего не рассказывала. Все же я узнал, что Таисия и Павло живут в Ростове, у них квартира, а Настя решила жить самостоятельно.
– А еще, – она засияла счастливой улыбкой, – я хожу в самую лучшую студию танцев.
– Испанских?
– Нет, латиноамериканских.
Я обнял ее и потрепал по плечу:
– Настюха, ты совсем не изменилась! – и добавил: – А что если нам посетить какое-нибудь кафе?
– Ага, – кивнула она. – Пойдем, есть здесь одно место, мы с девчонками туда со стипендии ходим.
В уютном полуподвальном кафе, стены которого украшали крупные чеканки по мотивам грузинского эпоса, было достаточно многолюдно, но официантка нашла для нас свободный столик. Когда принесли заказанные блюда и хорошее вино, из колонок у пустой сцены полилась знакомая мелодия. Услышав музыку, под которую она когда-то танцевала со своей мамой, Настя улыбнулась и погрустнела.
Я стал говорить о том, что все время, и когда сидел в тюрьме, и во время побега с офицерами, и в течение последующей службы, всегда думал о ней и о Таисии. О том, как обязан им и хочу отблагодарить за их доброту.
– Хочешь, я тебя увезу, переведешься учиться в Москву.
Она долго не отвечала, потом улыбнулась:
– Поздно. Мы с моим женихом уже подали заявление в ЗАГС, через неделю свадьба.
– Поздравляю, – сказал я, а потом попросил: – Дай мне адрес Таисии Андреевны…
Ненужная встреча
Таисию и Павла удалось разыскать достаточно быстро. Жили они в комфортабельной кооперативной двенадцатиэтажке. Из глубины двора, со скамейки на детской площадке, я наблюдал за подъездом, надеясь увидеть знакомые лица. Но они не появлялись. Лучше всего было бы дождаться Таисию у подъезда одну, увести куда-нибудь в кафе и спокойно поговорить обо всем. Я твердо решил, что такая женщина ни в коем случае не должна жить с этим негодяем. Только вряд ли удастся ее убедить. Значит, придется принять меры…
В подмышечной кобуре у меня лежал маленький трофейный пистолет, доставшийся после одного армейского задания. Я прикидывал… Наверное, чтобы не привлекать внимание к своей персоне, Павло устроился куда-нибудь работать. Он, должно быть, регулярно по утрам уходит из дома, а вечером возвращается. Нужно выяснить этот режим, а потом…
Пока я сидел на скамеечке под тополем, люди выходили и заходили в подъезд, к которому было приковано мое внимание, но в этих фигурах не угадывалось ничего знакомого. И вот наконец в человеке в темных очках, вышедшем из припаркованного прямо у подъезда черного БМВ, я узнал Павло. Молодцеватая осанка и лицо его нисколько не изменились – те же гусарские усы, роскошная шевелюра, жесткий разрез рта. Выглядел Павло, как пижон: белая сорочка, легкая кожаная куртка модного покроя, отливающие сталью брюки и шикарные ботинки с длинными носами.
На другой день утром я увидел Таисию. Они вместе вышли из подъезда, сели в БМВ и куда-то отправились. Таисию в модном костюме деловой женщины не так просто было узнать, хотя она по-прежнему почти не пользовалась косметикой.
Убедившись, что Таисия и Павло действительно проживают по этому адресу, я решил, что и мне не лишне «легализоваться». Вскоре устроился на работу грузчиком в речном порту и неплохо зарабатывал. Через месяц купил дряхлую «копейку» за триста баксов, и так как любил заниматься техникой, довольно быстро привел ее в рабочее состояние. Подрабатывал извозом и потихоньку узнавал, как живут и чем занимаются мои подопечные.
А жили Павло и Таисия без росписи в паспорте, но вполне мирно и в достатке.
Детей Таисия больше заводить не стремилась, а потому все накопления они тратили на себя. У них была собственная фирма – занимались оптовой продажей бытовой техники. Имели и загородный коттедж на берегу Дона. Частенько ходили в ночные клубы и казино. Похоже, Таисия здорово подсела на рулетку. Следуя хвостом за заказанным ею такси, я в конце пути нередко оказывался у огромного теплохода с надписью «Казино “Тихий Дон”», в котором Таисия пропадала до утра.
Каждый раз, глядя на название этого казино, я улыбался. В наше время мне уже не раз приходилось встречать такую бестолковщину. Можно подумать, будто герои великого романа не жили настоящей жизнью, а играли в какую-то азартную игру…
Однажды я поджидал удобного момента у казино. В четыре часа утра к причалу подъехало такси, из которого выбрался Павло. Он поднялся на палубу и скрылся в казино. Примерно через час бывший наемник вновь появился на палубе, уже с Таисией – та покачивалась, была заметно пьяна. Они о чем-то спорили. В этот момент я лихо подкатил к трапу и предложил, изменив голос:
– Вас подбросить?
– Поехали!
Павло хлопнулся на переднее сидение, а свою подругу усадил сзади, словно брезговал находиться с ней рядом. Запах дорогих духов смешался в салоне с запахом перегара. Как только я тронулся, Павло не удосуживаясь даже повернуть к Таисии голову, заговорил на повышенных тонах:
– Все, завтра можешь не выходить на работу. Я дал тебе должность не для того, чтобы ты просаживала наше кровное бабло.
– Да пошел ты, – она икнула. – Засунь себе свое бабло в задницу.
– Представляешь, шеф, – он посмотрел на меня, – эта стерва за одну ночь швырнула пять косарей зеленых под хвост коту.
– Бывает!
– Да что ты понимаешь! Ты таких бабок и в руках-то не держал, иначе не ездил бы на такой помойке.
Я промолчал. Павло явно не узнавал меня. Таисия же, сидевшая сзади, притихла. Я напрягся: «Неужели, признала? Да нет вроде…»
Не услышав ответа, Павло снова стал жаловаться:
– Мне сказала, что поедет ночевать к сестре. Ладно бы к любовнику поехала, а то в казино! Ну, не стерва ли?..
В это утро я благополучно доставил их домой, хотя ужасно хотелось поставить в наших давних взаимоотношениях точку. Простым нажатием на спусковой крючок.
Я приступил к разработке плана устранения Павла. Утром они обычно вдвоем отправляются в офис и находятся там до конца рабочего дня, потом едут домой. В принципе когда маршрут известен, остальное сделать несложно. Правда, примерно с неделю после инцидента в казино Таисия по ночам никуда не выезжала, наверное, Павло здорово ограничил ее в деньгах. Но это были мои догадки.
Самым простым вариантом было встретить Павла по пути на дачу. Обычно он в пятницу завозил туда Таисию и какую-нибудь из ее подруг. Сам потом уезжал в город. Дорога к даче шла сначала полями, а потом неширокой, но довольно дикой лесополосой. Здесь-то и можно было уложить на дороге шипы для прокола шин, а когда Павло начнет возиться с колесами, убрать его либо ножом, либо накинув удавку на шею – в армии нас обучили «работать» с любым инструментом.
Я изготовил металлическую ленту с шипами, наподобие тех, что используются у диверсантов. В одиночку готовить покушение не очень удобно, но я рассчитывал достать через своих друзей прибор ночного видения. Он позволял увидеть автомобиль Павла еще издали. Под покровом ночи можно было подпустить машину достаточно близко, чтобы разглядеть ее номер. Не хотелось навредить другим в случае ошибки: БМВ на дорогах встречались довольно часто.
Вскоре нужный прибор удалось раздобыть. Помог прапор, который раньше служил в нашем полку на Кавказе – теперь он заведовал здесь военным складом.
Теперь я был готов поквитаться с этой гнидой за все и за всех. В субботу с вечера наблюдал из-за деревьев за всеми машинами, въезжающими в лесополосу перед дачами. БМВ Павла не было. Когда стемнело, я забрался на толстый сук большой сосны, которая росла на краю поля, и натянул на голову шлем прибора ночного видения: теперь все номера проезжающих машин были как на ладони.
Было уже за полночь, когда вдали в клубах пыли показалась машина Павла. Я медлил, пока не различил знакомые номера. Тогда соскочил на землю и уложил на пыльную дорогу приготовленную ленту с шипами. Спрятавшись за ближайшим деревом с ножом в руке, я приготовился к нападению. Другая рука готова была в случае необходимости выхватить пистолет.
Черный БМВ, лихо вкатившись в лесополосу, налетел на поставленную ленту, раздался свист пробитых шин, машина запрыгала на колдобинах, ударяясь о землю ободами, и стала тормозить, медленно приближаясь ко мне.
Однако когда автомобиль готов был уже остановиться, Павло вдруг снова газанул на спущенных колесах. Видимо, заподозрил что-то неладное, и теперь пытался уйти любым способом. Однако как ни ревел мотор, машина не могла теперь разогнаться и еле ползла. В этот момент я вполне мог использовать запасной вариант, открыв стрельбу по стеклу водительской двери, и потом в упор, как бешеную собаку, добить Павла. Но помешали обстоятельства.
Обычно в такое время со стороны дач машины уже не ездили. Но тут в посадке послышался гул мотора и между ветвей замелькали огоньки фар.
Добежать незамеченным до ленты я бы уже не успел, поэтому предпочел остаться в тени деревьев. Проскочив мимо БМВ Павла, старенькая «ауди» также проколола себе все четыре колеса. Из нее выскочили парень с девушкой, которая, увидев пробитые шины, всплеснула руками:
– Ну вот, съездили на дискотеку!
Тем временем я видел, как у БМВ приоткрылась пассажирская дверь, и Павло выскользнул из машины. Он был с противоположной от меня стороны, и я услышал, как затрещали в лесополосе кусты – Павло удирал со всех ног, видимо, смекнув, что покушение было совершено именно на него. «Теперь будет думать, что счеты с ним сводят друзья-бандиты», – мелькнуло у меня в голове.
Ничего не оставалось, как тоже уйти подальше от этого места. За полкилометра отсюда, на другой проселочной дороге в укрытии стояла моя «копейка», и вскоре я уже подруливал на ней к дому, в котором снимал однокомнатную квартиру.
После неудачной попытки покушения я целую неделю не появлялся ни возле дома Павла, ни возле его офиса. Конечно, стоило бы выждать больше времени, чтобы все улеглось, но мне очень хотелось увидеть Таисию. И вот после очередных выходных, кажется, во вторник, я снова припарковался на углу двенадцатиэтажной башни, в надежде хоть издали поглядеть на нее. К тому же необходимо было выяснить, как ведет себя Павло. На стреляную лису труднее охотиться.
Таисия подъехала не как обычно вечером, вместе с Павлом, а несколько раньше и на такси. Я только припарковал свою «копейку», как увидел ее в боковое зеркало. Захлопнув дверь желтой «Волги», она бодрой походкой направилась к подъезду, но вдруг замедлила шаг.
Я надеялся, что Таисия пройдет мимо, однако, поравнявшись с моей машиной, она резко дернула дверь «копейки». Та была заперта. Таисия начала энергично стучать кулаком в окошко. Я увидел совсем рядом ее взволнованное лицо. Она просила:
– Артем, открой, открой, я тебя узнала.
Я, с трудом соображая, что делать, вначале хотел дать по газам и уехать, но не смог. Вместо этого открыл защелку двери и впустил Таисию в салон.
– Поехали отсюда куда-нибудь подальше.
Я немедленно включил скорость и покатил со двора. Женщина озабоченно посматривала по сторонам, пока мы не выехали на проспект и не направились в сторону Дона. Я знал одно тихое место на набережной. Туда мы и поехали. Дорогой Таисия рассказала, что узнала меня в тот самый раз, когда я подвозил их с Павлом из казино.
– Он ни о чем не догадывается, – прибавила она поспешно. – Даже после покушения, которое ты на него совершил.
– Почему ты думаешь, что это я?
– Нетрудно догадаться. Павло думает, что ты погиб где-нибудь в горах. А я сразу все поняла…
– А он на кого думает?
– На одного бандита, который должен ему кучу денег.
В это время мы заехали на безлюдную площадку, предназначенную для стоянки машин. И как только остановились, Таисия, повернувшись ко мне вполоборота, прошептала:
– Артем, я тебя прошу, не делай этого, не убивай его. Я для тебя все сделаю, что пожелаешь, только не делай этого… У меня много денег, я буду помогать тебе.
– Что ты… что ты несешь, Таисия? Деньги его мне не нужны, они кровью пахнут!
– Я люблю его…
– Уходи, – собравшись с духом, сказал я.
Она пристально посмотрела мне в глаза, торопливо нашарила ручку двери и, ничего не сказав, вышла. Я смотрел ей вслед, а она шла вдоль ограждения набережной, медленно удаляясь, как будто ждала оклика.
В тот же день я покинул Ростов, навсегда оставив Павла в покое…
Эпилог
Удивительно тесен мир. Разве мог я предполагать, что уже после опубликования романа встречу карельского охотника. И где бы вы думали? В самом центре Москвы! Стоял октябрь. День выдался солнечный. Я шел по Петровке к метро «Охотный ряд», когда неожиданно увидел мужчину, ведущего за руку мальчишку-дошкольника. Лицо мужчины мне показалось знакомым, но я очень торопился и потому последовал дальше.
Однако у меня дурацкая привычка – долго мучиться над загадками памяти. Уже когда входил в метро, меня осенило: это же тот охотник, который меня когда-то спас!
Я резко развернулся и побежал назад, надеясь, что он не успел затеряться на пока еще малолюдной утренней улице. Догнал я их почти у Малого театра, окликнул.
Мужчина с ребенком остановился. Я напомнил ему о нашей встрече в тайге. После короткой паузы мужчина наконец улыбнулся.
– Рад вас видеть. У вас все нормально? – спросил он.
Я пожал плечами.
– Все хорошо. Вы знаете, я ведь опубликовал вашу рукопись…
– Правда?.. Спасибо. Но это уже не важно. Я все забыл и не хочу вспоминать. У меня теперь другая жизнь, – мужчина посмотрел на часы. – Извините, мы опаздываем. Всего вам доброго.
Мы распрощались. Я еще некоторое время смотрел им в след, пытаясь разгадать, как сложилась жизнь у этого парня. Он продолжал шагать твердой походкой, и ребенок весело семенил рядом с ним. Оказавшись за памятником Островскому, мой знакомый обернулся. Увидел, что я стою на месте, улыбнулся и поднял в приветствии руку.
Мерибель – Расторгуево, 2005–2006 гг.

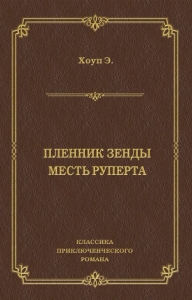



Комментарии к книге «Рейд «Черного Жука» (сборник)», Иван Иванович Макаров
Всего 0 комментариев