М. Кравков Ассирийская рукопись
Выпал первый снег, и небо укуталось дымными, шерстяными лоскутьями туч. И гул городской утерял свою четкость, звучность и грохот и сменился приглушенным шумом, неспокойным и безличным, как мохнатые гусеницы облаков, переползавшие от горизонта до горизонта. Намокшие с осени, зябко нахохлились домики, или холодно и безучастно высились каменными стенами. Стаи голодных людей вразброд, в одиночку рассыпались по улицам, по учреждениям. Делали свое хлопотливое дело, скучали, увлекались, отбывали положенное служебное время или досадовали, что в сутках только 24 часа, но почти у каждого за спиной у важных или нудных занятий стоял проклятый или шутливый вопрос — чем я буду сегодня сыт? Все обтрепались и пообносились. И победно серел цвет фронта, цвет войны, окопов, лишений и смерти. Солдатская шинель. Во всех видах, фасонах. Без различия пола и возраста. И от этого стороннему наблюдателю могло сделаться скучно, так же, как арестанту, скорбно живущему в асфальте, кирпичах и железе. Но нам было некогда скучать, надо было бороться за жизнь.
И судьба, созидательница удивительнейших парадоксов, сделала так, что я оказался сторожем вновь организованного городского музея. Я был хранителем великой красоты, южной яркости красок, совершеннейших форм, выплывавших из белого мрамора, спокойных и уверенных достижений науки. Точно костер, замкнувшись в стенах, фантастически пылал среди большого, оборванного и голодного города. Я был приставлен к этому костру и был, по-своему, счастлив.
Сегодняшний день выдался хлопотливым.
В Трамоте, в отделении Бесхоза, оказалась для нас целая партия статуй. Они долгое время странствовали по железной дороге, ненужные никому, охраняемые по какой-то мистической инерции, наконец, добрались до нашего города и были свезены в подвал Трамота. Для каждой вещи уготован жизнью свой положенный угол, таким же образом определились и статуи, и мы получили приказ принять их в музей.
Вообще принимать бесхозяйное имущество было замечательно интересно. Это, в полном смысле, были обломки чьей-то разрушенной старой жизни, обломки, подчас проникнутые острым напоминанием о недавних хозяевах, об их быте и интересах.
Нас не занимало личное и интимное, — мы пытались построить большое историческое здание, и самозабвенно собирали строительный материал. Но эти статуи оказались на редкость неинтересными.
Гипсовые Венеры, Юпитеры и Меркурии, огромные, выше человеческого роста, обычно ученические модели.
Целое сонмище древних богов и богинь, видимо, эвакуированных убегавшими белогвардейцами вместе с каким-нибудь училищем рисования или мастерской школьных пособий.
Было их до 50 штук, и я с утра, на трамотовых лошадях, возил эту тяжесть в музей. В перегрузке живейшее участие принимали прохожие. Какие-то красноармейцы, славные, веселые ребята, помогали мне втаскивать статуи в двери. Большинство же зевак обменивалось замечаниями по поводу легких костюмов богинь, а кто-то ухитрился всунуть Тритону, вместо отбитого рога, в который тот трубил, бутылку, придав, таким образом, классической группе несколько отечественный колорит. В конце-концов, мы загромоздили этим хламом всю свою кладовую, уставили вестибюль и три последние статуи разместили вверху, в картинной галлерее.
Художник Сережа, пылкий энтузиаст, веселый озорник и богема, прищурил глаз:
— Интересно что-то скажет, почтеннейший Юрий Васильевич, об этом Пантеоне?..
Юрий Васильевич Букин — наш старый маэстро и ученый руководитель. Всю жизнь он провел среди искусства, в Эрмитажах и Луврах Европы, и от этих времен, может быть, сохранил особый медовый и пряный аромат дорогого табака, исходивший от его седых усов и бороды.
— Д-да, — покачал я головой, набивая трубку китайской махоркой, — история будет!
Но Букин уже входил. В рваном заплатанном пальтишке, с торчавшей ватой, с палкой в руке, строгий старик. Как воспитанный человек, вежливо, но слегка подозрительно, поздоровался с нами, пробормотал о холоде и расстегнул воротник. Мы ждали. Даже татарченок, уборщик, и тот ожидал. Букин тронул довольно бесцеремонно палкой спину ближайшей нимфы, потом нагнулся, заинтересовался.
— И много этого сокровища навезли?
Я ответил.
Букин покачал головой.
— Твори, Господи, волю твою! Только как-нибудь, знаете, по школам бы распихать...
— Что вы, что вы, Юрий Васильевич, — замахал руками Сережа, — Губоно распорядилось у нас все это сконцентрировать...
— Концентраторы... — отчеканил Букин и вдруг заметил:
— А знаете, вся эта дрянь может иметь и некоторый интерес. Откуда она?
— Сам Трамот не знает, — ответил я.
— А я знаю, — сказал Букин. — Это из М, тысячи за две верст отсюда. Был там некто Корицкий Пал Палович. Большой миллионер, любитель искусства и антиквар. Потом он раззорился и стал маниаком. Собирал он, например, коллекцию замков — чорт знает для чего! А последней его причудой были статуи. Так как мраморные и оригинальные были ему недоступны, то он заказывал и всюду скупал дешевые, гипсовые копии. И накопил их уйму. Года четыре тому назад я был в его дворце и видел. Но у него попадались и подлинно драгоценные вещи. Помню одну ассирийскую рукопись, — за нее Британский музей предлагал ему громадные деньги. Корицкий не продал. А потом я слышал, что он умер, и всеми его собраниями завладел какой-то темный проходимец. Так эти статуи оттуда — видите штамп № мастерской?
Желчность Букина растаяла в этих воспоминаниях, особого возмущения он не проявил, и ожидаемый эффект не удался.
На улице, вероятно, подымалась метель, потому что Инна, сестра Сережи, работавшая у нас, вошла вся засыпанная снегом.
— Здравствуйте, Снегурочка! — поклонился я.
— Здравствуйте, дед-мороз, вы опять, конечно, сегодня не топили?
— Как мог я топить, когда у меня осталась последняя порция угля на сегодняшнюю ночь?
Начали подходить экскурсии, и я отправился по своим делам.
Они были многообразны и сложны. Во-первых, я должен был истребовать от Райтопа необходимый на неделю уголь, потом получить по карточкам для сотрудников папирос, затем на себя и Сережу взять учетные бланки в военном комиссариате и, наконец, договориться с профессором X. об определении привезенных в музей чучел тюленей.
И я, в своем качестве сторожа (а в требовательной ведомости значилось «и истопник»), свободно приходил, например, к ректору университета и вел с ним беседы о музейных делах. Правда, я сам когда-то учился в университете!
Хотя это был Губтоп, но там царил отчаянный холод, все работали в полушубках и встретили меня также холодно. Заведующий угольным сектором поджимал сердито губы и. сколько я ни распространялся о возможной гибели народного достояния и невосстановимых культурных ценностей, он упорно ответствовал — «нет»! Это была крепость, забронированная со всех сторон требованиями невыполнимых смет и расчетов, огражденная колючей изгородью тысяч разрешительных инстанций, разбросанных по всему городу.
На счастье мое, мне попался знакомый конторщик. В один из воскресников мы вместе грузили шпалы и друг другу понравились. Он совершенно бескорыстно выручил меня и через полчаса, с каким-то чудом подписанным ордером на уголь, я вышагивал к военному комиссариату.
Учетный бланк для себя я достал очень легко, но с Сережей случился казус.
— Сергей Киряков... — повторил про себя человек с настороженным мятым лицом; — тов. Русанов, — крикнул он через стол: Киряков, вы слышали?!
Подошел круглолицый, решительный, с револьвером на поясе.
— Кто спрашивает? — заискал он глазами.
— Вы? Киряков Сергей — бывший генерал?
— Художник, — улыбнулся я, — ему 20 лет всего.
Потом оба недоверчиво рассматривали Сергеевы документы и, наконец, успокоившись, выдали нужную карточку.
Последний визит мой был к профессору. Здание университета, пострадавшее в гражданскую войну было, как оспой, изъязвлено пулеметными пулями. Внутри я ходил по холодным и темным корридорам, пока не попал в казетам, заставленный скелетами, банками, чучелами птиц и зверей. В середине топилась железка и, скорчившись, из-за трубы на меня пугливо и недоверчиво глядел старичок, обмотанный женской шалью. Это и был профессор. Я застал его в тот момент, когда он пек лепешки, наливая поднятую на соде опару прямо на печку. Профессор узнал меня, успокоился и сконфузился.
— Я, видите-ли, покушать захотел, и мне как раз полфунта мук принесли... — оправдывался он. О тюленях договорились мы быстро, он был спец по зоологии позвоночных и обещал зайти в музей посмотреть.
Трудовой мой день был закончен, и я пошел обедать в столовку Нарпита.
На первый взгляд столовка походила скорее на баню. Помещалась в полутемном подвале. Была наполнена паром: морозным — с улицы и горячим — из кухни. Смесь разнообразнейших ароматов висела над грязной полутьмой и в ней маячили люди, стоявшие в очереди, сидевшие за столами, уходившие и входившее. Я глотал горячее хлебово со скользкими, как грибы, безвкусными обрывками легких, глотал торопливо, быстротой насыщения компенсируя недостающий вкус. От окружающего было впечатление злостной пародии на ресторан. Иные с собой приносили дополнительные кусочки хлеба и, окончив еду, заботливо завертывали уцелевшие крошки.
И защитный цвет серой шинели придавал обладателям их и здесь особую уверенность акклиматизировавшихся: у них и голос звучал иначе и повадка была порешительней. А те, которые донашивали старые, «приличные» пальто и шубки, — держались забито и даже растерянно, и я глядел на них с невольной жалостью. Это были, может быть, чеховские дяди Вани, Астровы и сестры, растерявшие свои вишневые сады и когда-то мечтавшие о сказочных кутежах и обретшие ныне свой обеденный час в столовке Нарпита.
А мне, как музейному человеку, было интересно думать о крупинках былой красоты, некогда носимых этим людом. Вышел я из столовой уже затемно и направился к дому.
Тонко таял снежок на лице, я шел, и мне вспоминалась Инна. Всегда она захвачена каким-нибудь интересом, переполнена им до краев, и других захватывает тем же или, может быть, собой. Голодная, а глаза веселые, как ее восемнадцать лет...
Реже встречались прохожие — глуше и пустыннее сделались улицы. Отворяю чугунную калитку, вхожу в ущелье двора. Двор — узеньким тупиком. С одной стороны громада музея. С другой — высокий брандмауэр и к нему прилепилась моя сторожка. В музее потухли огни — уже окончена работа.
* * *
Новый день — новая жизнь.
— Вставай, кочегар, — стучит мне в окошко Сергей. — Отпирай свой замок!
На щеке у него мазок оранжевой краски.
— Не беда... — вытирает лицо рукавом: — Сегодня с портретом возился.
Мы выходим в музей. В нем время не имеет, кажется, власти. Как стояли вчера фигуры с застывшей гримасой или улыбкой, в такой же позе и с тем же лицом встречают они меня и сегодня. И бумажка, оброненная вечером на пол, терпеливо ждала всю ночь моего возвращения. И все-таки, как-то невольно, с любопытством заглядываешь в просторную залу, перешагивая порог. Словно протекшие часы могли изменить неподвижные изваяния, или лица их могли загореться другой, не вчерашней улыбкой. Но все, конечно, было без смены.
Подметал я опилками пол и думал, что, может быть, просто нет дара у нас проникнуть в душу вещей, в их скрытую жизнь сцепления атомов, причудливыми комбинациями оформленных в образы, приближающие материю к человеку. И, может быть, овладев сверх-рентгеновской проницательностью, мы увидим когда-нибудь в мертвом мраморе бурный поток бесконечного движения, бесконечно ничтожных частиц. И от этого не хотелось мириться с мыслью, что в нашем музее, в скопище необычных, прекрасных и странных предметов, все было бы обыденно и неподвижно.
Трелью забил телефон. Я отставил щетку, снял трубку. Центральная милиция передала телефонограмму.
— Вот, товарищи, — сообщил я Букину и Сереже, — милиция отыскала какие-то ценности. При обыске у спекулянта. Дом и улицу я записал. Просили прибыть кого-либо из музея.
— Нет уж, увольте, — круто обрезал Букин, и, заметив Сережино оживление:
— Вообще в этих делах я — не советчик! — и с достоинством удалился из кабинета.
Сергей прищурил глаз и закусил губу:
— Сейчас отправлюсь. А вдруг там что-нибудь действительно ценное? Ведь, понимаете, теперь по частным рукам могли разойтись ошеломляющие вещи!
— Конечно, идите, — поддержал я, — это просто интересно.
Сергей смотался в два счета, под мышку портфель, хлопнул дверью и нет его.
Как в действии втором, вошел Букин, оскорбленный, с бьющимся под щекою нервом.
— Я так больше не могу, — заявил он. Даже не мне, а так, в пространство. — Если я, художественный эксперт, приглашен сюда для руководства музейной работой, то я совсем не желаю, чтобы меня связывали с этой вакханалией обирательств и реквизиций. Но я вижу, что меня стихийно в это вовлекают!.. Понимаете — стихийно! Раз все на этом строится, все, то я не могу выпасть из общего участия. А это — нет! Простите! Мне 65 лет, и доброго имени своего я терять не хочу.
— Юрий Васильевич, — попробовал я, — но мы же спасаем важное для науки...
— Вздор, вы ничего не понимаете! — крикнул он и выбежал из комнаты. Через минуту вернулся и подал мне руку:
— Извините, я погорячился! Пойдемте работать.
Паркетный блеск холодного и пустого зала, и бьется где-то сердце тишины.
Мы снимали старый лак с потускневших картин. Большое, потемневшее полотно осторожно трогали тряпкой, смоченной спиртом. Сплывала мертвая тусклость времен, просыпалась неподозреваемая свежесть красок, и захваченный Букин отступал назад и глядел вдохновенно, по-юношески. Словно с него самого стирали брюзгливость и старость и раздраженную неуживчивость. И тихо, в молчании зала, смотревшего многоцветными очами в золотых глазницах-рамах, тихо работали мы вдвоем, а на улице бестолково, шумно, героически и преступно, самоотверженно и корыстно, ткалась паутина новой жизни, рвалась, расползалась и вновь смыкалась невиданными узорами, прекрасная в своей смелости, непонятная в усложненности переплетшихся нитей.
И оба мы, Букин и я, по-своему были причастны к созданию громадного муравейника, и остро чувствовал я это в те минуты, когда оживали краски на старом и драгоценном полотне.
— Долго что-то Сережи нет, — заметил я.
Букин сощурил глаз. Морщинкой еще состарил старый доживающий умный лоб и, глядя в картину, буркнул:
— Увлекается. Власть своего рода мальчуган получил. Интересно, ведь... реквизировать!
Мне не хотелось сердить старика улыбкой, я спросил о картине.
— Как вы думаете, чья-же это работа?
Сережин энтузиазм уже приписал ее кисти Пуссэна, и Букин об этом слышал.
— Это? — и серьезно и строго, по-профессорски педантично, — определил:
— Судя по составу красок, по выработке холста, — это, несомненно, старая вещь, копия, может быть, времен Пуссэна. И копия — не плохая. Но, разумеется, не Пуссэн.
Букин любил объяснять, когда его слушали, и мне всегда казалось, что от передаваемых им новых интимных деталей, словно телом сызнова обрастал уцелевший скелет какого-нибудь исторического образа. Но сейчас разговор был оборван ворвавшимся Сережей. Именно ворвавшимся, — с увлеченным лицом, с загипнотизированными глазами, со свертком под мышкой. Мимо веселого недоумения моего, мимо сожалеющей гримасы Букина — к столу и на стол осторожно и бережно сверток. И снял бумагу. Я невольно привстал. Чудный фарфоровый конь, взметнувшийся на дыбы, и рыцарь-всадник, стянувший удила! Звякнула об пол жестянка. Это Букин выронил шпатель. И затем, трагически-сосредоточенный, медленно подходил к столу седой старик, и дрожали морщинистые руки его, когда он ощупывал фарфор.
— Где вы это достали? — глухо спросил он и сел.
И едва не плача, торопясь и волнуясь, выпаливал Сережа.
— Там, в холодном чулане, в каком-то ящике. Еще там примерзли к полу — книги, ветхие — должно быть, старообрядческие. И рукописи. Одну я принес — вот!
Букин, не слушая, встал. Застегивал старое свое пальто и смеялся пожелтевшими усами.
— Сейчас-же идемте туда. Все, что там есть, надо изъять! — топнул он ногой, — вы сказали... этой милиции, чтобы она охраняла?! — И, торжественно показав на всадника, — объявил:
— Ценнейшая вещь. Мейссенский фарфор. Или украден из Эрмитажа или из какой-то очень хорошей коллекции. Ну идемте, Сергей, идемте!
И, отмахиваясь руками на мои вопросы, догонял убежавшего вперед Сережу.
Зачарованный, я остался разглядывать дивную группу. Огненным заревом поднялся конь на дыбы, опираясь хвостом и копытами. Каждый мускул играл под тонкой шкурой. Так правдиво и сильно передал композицию мастер. Оторвавшись, я взял принесенную книгу. Потемневший коричневый переплет, отороченный путаной золотой вязью. «Путешествие вокруг света», изданное Плюшаром в Санкт-Петербурге. На крышке стоял полустертый штемпель: «библиотека А. Корицкого». Я задумался, припомнил. Да, тот самый Корицкий, о котором рассказывал Букин? Его статуи стояли у нас в музее. Теперь же, странно, попала и книга. Я недоумевал, перелистывая страницы, пока из них не выскользнул список. Это был длинный перечень предметов старины и искусства, написанный, видимо, давно, при чем против некоторых названий стояли кресты, обозначенные сравнительно свежими чернилами. В числе отмеченных была и книга, которую я держал в руках, и статуи, привезенные вчера, и много других вещей. Несомненно, что кто-то выбирал по списку, и почему-то часть отобранного оказалась в нашем городе. Но любопытство мое стало жгучим, когда открыженным жирным крестом оказалось название ассирийской рукописи, того самого редкостного, по рассказам Букина, документа, который тщетно хотел купить у Корицкого британский музей.
— Чорт возьми, — улыбнулся я, — вот бы найти! Это был бы рекорд. Своего рода — дело профессиональной чести... Да, конечно, для науки бы спасся важный исторический памятник, а для Республики, помимо другого, сохранилась бы и вещь высокой стоимости материальной.
Понятно, с какой стремительностью я бросился к дверям, заслышав возвращавшихся Букина и Сережу. Оба были нагружены до-верха. На извозчичьих санках возвышались сундук и узлы. Можно было подумать, что кто-то переезжал в музей на квартиру.
— Помогайте, — хрипел под тяжестью книг задыхавшийся Букин, — и много еще там осталось... Сейчас Сережа поедет...
Я не остался в долгу и козырнул своей находкой. Букин ткнулся в документ, близоруко пробежал его и посмотрел на меня одобрительно, как довольный учитель на понятливого ученика. Пока мы перетаскивали вещи наверх, пока Сергей печатал себе какой-то дополнительный мандат и, наконец, уехал, Букин хранил загадочное молчание, отвечал односложно и с усмешкой, не обычной своей иронической, даже презрительной, а смешком добродушного деда, что-то веселое знающего, а вот, припрятавшего от внука... И когда все успокоились и вдвоем мы сели к ажурному столику, инкрустированному слоновой костью, Букин вынул ломтик черного хлеба, посыпанный солью, разломил его пополам и угостил меня. А после начал:
— Интересные новости хочется говорить за приятным занятием. Будем завтракать и толковать. Прежде всего, мой дорогой, все эти вещи, которые мы навезли — принадлежали Корицкому. Этому масса доказательств в сундуке — до фамильных его портретов включительно. Дальше. Все имущество кто-то пытался вывезти из пределов России, конечно, на Дальний Восток. Ваш список как раз и перечисляет отправленное. Почему это не удалось и кто пытался похитить коллекции — я пока не знаю. И, наконец, самое главное, — знаменитая рукопись где-то здесь, — хлопнул он по ручке кресла, — в этих предметах... Вот, посмотрите...
Я взял протянутый лист, неграмотно отпечатанный на машинке. Верх был оторван. Я читал: «в сундуке № 3» — перечислялись подробно книги; «№ 4» содержал старинные платья. Ниже столбцом назывались предметы и указывалось, в чем какой упакован. Красным обведена фраза: «ассирийская рукопись — в правой...», дальше химический карандаш замазал написанное, даже протер бумагу.
— Что значит «в правой»? — догадывался я, — в правой стороне? Чего?
— Не знаю, — с сожалением ответил Букин, — во всяком случае, мы переберем весь хлам, даже разломаем сундуки, если это понадобится...
В этот день я насильно оторвал себя от музея, отправляясь на обычные свои хлопоты в учреждения. Разборку вещей мы назначили на завтра, и этим завтрашним днем я был полон до счастья. Мутный город, серые люди, грязный снег, изредка пламя флагов. Не весна, не зимняя оттепель, а парная сырость, от которой слякоть гниет под ногами. Туманы страха нависли над людьми, и они толпятся кучками против новых объявлений Ревкома, родившихся ночью; доходя до Чека, люди свертывают с тротуара и идут подругой стороне, и многие взглядывают украдкой на большой трехэтажный дом с многочисленными подъездами.
Нет отклика у меня на эти чувства — мое внимание заострено на нашей странной тайне.
Трудная жизнь кругом: для старых людей — кладбище прошлого; и для новых, молодых духом, — нет ясного завтра, — есть стремление, есть лишь поход вперед в самум, через пустыню, через клубы бури... Я не знаю и этих сомнений — интересно мне дожить до утра, активно, всем существом своим зарыться в загадку, брошенную случаем. Удивительно скоро удаются мне сегодня хлопоты, и самые неудачи не цепляют глубоко: сорвалось сейчас — потом выгорит! И я нажимаю на время, толкаю часы и минуты — вперед и скорей! Скорей, — навстречу нашему завтра.
* * *
И оно пришло, это утро. Все мы в сборе: я и Букин, Сергей и, в жадном ожиданьи, Инна. Пол обширной рабочей комнаты завален вещами. Направо — книги. У стены — материи, платья. У другой — статуэтки, иконы, причудливые безделушки. Весь скарб, свезенный вчера. Стол холмится бумагами. Букин сам занялся их разборкой. Работаем молча, быстро — пересматриваем, записываем, откладываем. Странно красивы эти вещи отвлеченной какой-то и несродной времени нашему красотой.
О чем звенит мне тяжелая крышка хрустального кубка? Не нужен он, трижды не нужен в моем сознании, а все-таки я любуюсь холодным пожаром лиловых искр в переливах стекла. И совсем нелепо выглядит веский серебряный диск — китайское, древнее зеркало. Одна сторона его вспучена завитушками волн и в волнах рыбы-химеры кусают себе хвосты. Скольких людей пережила эта вещь!
Попадается мне молитвенная подушечка уральского старообрядца. Серебряными цветами расшит малиновый шелк — когда бьет поклоны упрямый кержак — чтобы лба не разбить, подкладывает подушку. И иные странные, дорогие и яркие вещи цветным базаром раскидываются передо мной. А рукописи нет. И загадочное указание «в правой» так и останется неразгаданной тайной. Напрасно мы с Сережей ворочаем сундуки, напрасно остукиваем их дно и стены — там не может быть потайного хранилища.
Вошел татарченок-уборщик, сказал Букину:
— Юра Васичь, тебя там товарища дожидает.
Морщится Букин:
— Вечно мешают!
Не прошло и три минуты — опять гонцом татарченок — за мной, на этот раз. Чувствую что-то неладное. В канцелярии Букин и какой-то человек, похожий на жокея. Может быть, потому, что, опершись на стол, охлапывает стэком лакированные краги. Букин в растерянности и затруднен до огорчения.
— В чем дело, Юрий Васильевич?
Человек полуоборотом повертывает ко мне лицо, не меняя позы. Беру бумагу у Букина и читаю.
Приказ Губоно о назначении к нам в музей на должность второго хранителя предъявителя сего, товарища Жабрина. Должность эта у нас, действительно, была вакантна. Человек делает полуулыбку и хладнокровно объясняет. Я вижу застывшие, неправильно посаженные, косоватые глаза и прыщи на лице со следами пудры.
— Я не знаю, кто вы, товарищ, — раздельно, словно диктуя, говорит мне он, — но заведующему музеем я представляюсь, как новый ваш сотрудник... В приказе все сказано ясно.
И смотрит на меня, усмехаясь, вопросом.
— Ничего не поделаешь, раз вы назначены! — с удовольствием выговариваю я.
Человек заморгал, закривил губами, выпрямился и поклонился.
— Позвольте представиться — Жабрин!
Руки холодные, мягкие, влажные.
И, уже к обоим нам, открываясь на чистоту, вроде как — бросьте дуться, ребята, ведь я вот какой:
— Право, товарищи, я отчасти даже невольно. Меня направила в Губоно Биржа Труда. Но я всегда был так близок к искусству — работал в №-ском музее, знаю профессора X... А отсюда попал случайно, как демобилизованный. По специальности — я скульптор...
Букин пожевал седыми усами, сдержанно промолчал — был обижен на вмешательство Губоно. Меня заскребло сначала чувство угрозы для семьи наших сжившихся и сработавшихся товарищей. Будто этот, непрошенный, вот сейчас заявит права хозяина. Но в то время мелькали люди — являлись негаданные и проваливались в неизвестность. И через минуту я уж освоился с Жабриным, философски помирился с закономерностью его появления. Мало ли кого у нас ни бывало! Жабрин был принят и получил позволение осмотреть музей.
С жадным страстным любопытством не то маниака, не то изголодавшегося по красоте человека, осматривал он картины, статуи, все, на что натыкался его беспокойный и раскосый взгляд.
С нами тон его изменился. Совершенно не стало и тени того напора, с которого он начал. Напротив, теперь он походил на пассажира, кулаками и локтями протолкавшегося к удобной лавочке и сразу ставшего успокоенным, добродушным и даже к другим участливым.
Был он очень вежлив, поддакивал с деревянным восторгом, не мог, должно быть, иначе, и, как вилкой, колол раскосыми глазами то нас, то вещи Может быть, от этого мне с ним делалось скучно и вместе с тем беспокойно. Букина он расположил, в конце-концов, полнейшим смирением. Сережа был слишком захвачен работой и к Жабрину не отнесся никак. Зато Инне он не понравился сразу, и она, потащив меня за рукав, сказала:
— Слушайте, Мороз, я этому молодчику не верю... Букин раскис, а Сережка вообще ничего не видит и не слышит... Будьте хоть вы умницей...
— Да в чем?
— Ну, я же не знаю, — нараспев и досадливо протянула она. Сощурила глаз по-хулигански и показала вслед Жабрину нос.
— Вот ему!
Заметила, что на нее удивленно уставился Букин, фыркнула и убежала.
Пока Жабрин ходил выправлять документы, мы окончили разборку вещей Корицкого и нигде ни малейшего следа, ведущего к рукописи — не нашли. Тогда же мы решили не разглашать об этом пока никому.
— И этому... Жабрину не говорить! — пылко заявила Инна.
— Вот глупая, — удивился Сережа, — ведь он же наш сотрудник?
— Подождем немного... — предложил я.
— Узнаем его поближе — тогда и можно будет рассказать, — примирил всех Букин.
На том и порешили.
Этим вечером я сидел у себя в кочегарке, греясь, и думал. Огонь ревел за крышкой топки. Котел солидно и влажно сипел. Я был один, и отблески пламени хороводом рубиновых гномов веселились на потолке. От крепкой махорки, от усталости, от плохого питания голова моя приятно закружилась, и я начал думать отрывками, эскизами мысли, не фабулой связывая их, а настроением. Сегодня у меня была большая удача. Я давно собирался продать свои карманные часы и купить какое-нибудь подобие куртки, ибо существующий мой костюм мог быть признан таковым лишь условно. С риском попасть под облаву и быть застигнутым на торжище, в час, когда все должны быть на работе, а следовательно, оказаться причисленным к спекулянтам, — я вышел на базар. И там, среди торгующих спичками, пуговицами и манчжурскими сигаретами, среди мрачного, озабоченного люда, принесшего с домашним хламом проклятье нужды и голода, я нашел, что мне было нужно. Попался чудак, польстившийся на мои часы и взамен предложивший хороший зеленый сюртук лесного ведомства. На меня он был очень длинен, но и это пошло на пользу. Какой-то крестьянин, узнав, что сюртук я купил для себя, предложил продать ему только полы. Давал он за них 15 ф. муки, и я тут же, на возу, отрезал ему излишек костюма, и был обеспечен едой на 2 недели.
Жмурясь от тепла, полулежа, сейчас я вспомнил все это и славил жизнь.
Когда же думал, что рядом за стеной таинственно спит огромный, пустой и темный музей, — мне становилось еще уютней и интересней. Я оттолкнул дверцу топки и в лицо ударил раскаленный жар угля, красным полымем заморгали, задвигались потолок и стены, и выступили фантастические тени. И в дремоте узнавал я в огненном языке Сережу, ослепительным бликом смеялась мне Инна, а там, где отсвет сливался с темнотою, шевелился и прятался Жабрин...
* * *
Утром возникло неприятное дело. Едва мы успели собраться на службу, как явилась группа военных, и один, отрекомендовавшись квартирьером какой-то прибывшей части, заявил, что принужден занять под постой наш нижний этаж. И показал мандат, от которого у Букина запрыгали глаза.
— А это куда прикажете деть? — вступился я, — чучела зверей и другие коллекции?
Квартирьер был большой нахал. Он сделал мне глазки и весело рассмеялся.
— На двор, на двор, дорогой товарищ, на улицу, наконец, куда хотите!
— Да вы знаете, какую ценность это все представляет?
— Простите. Здоровье красноармейца для меня ценней. Или, может быть, вы полагаете правильней оставить своих соломенных зверей в доме, а бойцов Красной армии на морозе?
Крыть было нечем. Я одернул сунувшегося возражать Сережу и записал фамилию квартирьера.
Тот заявил, что завтра к 12 часам помещение должно быть очищено, и удалился. Было такое чувство, будто мы все получили коллективную оплеуху.
Букин ходил по комнате, криво усмехался огрызками желтых зубов и молчал. Сережа возмущался громко:
— Пойду к председателю Губревкома... Это безобразие... Бандитизм! В Москву телеграфировать надо!
Жабрина еще не было. Инна тоже не приходила.
— Что же, Юрий Васильевич, — надо идти хлопотать?
— Только не мне, — замахал руками старик, — я, знаете-ли, скажу — может не понравиться. И вообще от этой дипломатии — увольте! И Сереже тоже не рекомендую. Он — порох. Выйдет скандал и никакого толка. Идти вам.
Так и порешили.
Отправился я к нашему непосредственному начальству — в Губоно. Заведующий, не-кстати, уехал в Москву, а его заместитель, человек из революционеров недавних, страх не любил конфликтов. Да и я с ним почти-что не был знаком.
Объявлять свое служебное положение сторожа я не решился и назвался уклончиво сотрудником музея и представителем коллектива служащих. Все это было сущей правдой. А если к этому прибавить мой рыжий солдатский полушубок и руки, в которые въелся уголь, то фигура моя становилась до известной степени значущей и, во всяком случае, обязывала хотя бы к несложному разговору. Зам выслушал, удивленно поднял брови, точно впервые заметил корзину, стоявшую под его столом. Потом досадливо наморщился и потер ладонь о ладонь.
— Видите ли... товарищ, я, конечно, сообщу... доложу. Правда, это несколько... как бы это сказать? ну, черезчур военный, что-ли, подход... в 24 часа! Но, — и тут он понизил голос, — вы же видели, из какой инстанции мандат? Как-нибудь, на время, уберите свои коллекции... Пройдет этот период уплотнения и вам вернут...
Ушел я молча, но бороться решил до конца. Отправился к одному приятелю — старому партийцу из Губполитпросвета, вечно занятому, раздираемому на все стороны. Сел на стул, устало и грузно, и шапку на стол, прихлопнув, положил.
— Не уйду, пока не договоримся. — И рассказал.
— Не может быть! — возмутился тот. — Чего-же делать то?
Сделать он, правда, мог еще меньше, чем зам, но вспомнил:
— Есть одна идея, но тут все зависит от случая. Вчера приехал член Реввоенсовета Васильев, у него и полномочия от Наркомпроса. Шпарь к нему! Он живет в «Модерне»...
— Прямо так?!.
— А чего же? Сорвется, — хуже не будет.
— Правильно говоришь. Спасибо тебе!
От души пожал ему руку. Крепко. Шел по дороге — сердце горело. Каким оголтелым или злоумышленным был человек, так легко, с кондачка, поставивший под удар большое наше и нужное дело? И искренно ненавидел в эти минуты фатоватого квартирьера. Совсем не думал о том, что нет у меня ни рекомендации, ни о том, что Васильев — член Реввоенсовета. Нес, как знамя или как факел, свой негодующий протест.
Вот «Модерн». Зеркальная дверь, зеркало в вестибюле. Камень, железо, частью стекло — выдержали наше время — остались от прошлой шикарной гостиницы. А ковры, цветы, тепло и швейцар — не выдержали — похерились. Со швейцаром исчезла и чистота: намерзший снег на ступенях, на стенах или пыль, или копоть. Черная доска. Криво мелом: Васильев — № 17. Нашел! Коридоры темные, пахнет керосином. Пыхнул спичкой — семнадцатый номер. Постучал. За стенкой ходят шаги. Еще постучал. Дверь открылась сразу — в полусвет, в табачный дым. Сунулась голова.
— Войдите-же, я сказал...
— Могу-ли я видеть тов. Васильева? И попутно сфотографировались занавески на окнах, и шипящий примус со сковородкой, и толстая женщина, почему-то враждебно огрызнувшаяся на меня глазами.
— Я — Васильев, — грудным и усталым голосом сказал человек.
Я назвался.
— Садитесь.
Васильев длинный, в одной фуфайке, ссутулился на кресле, захватил рукой небритый подбородок, слушает и думает из-под нахмуренных бровей.
— Такой произвол, простите, ни в какие ворота не лезет! — закончил я свою жалобу.
Васильев пощурил глаз, отпустил подбородок и мягко тронул меня по колену.
— Не волнуйтесь — уладим. Я знаю немного это дело.
Успокаивающий у него приглушенный бас.
И громко в соседнюю дверь:
— Коля!
Предстал адъютант — воплощенная готовность с револьвером и блокнотом.
Болезненно морщась, говорил Васильев куда-то в пол, негромко, раздельно, настойчиво.
— Я просил, чтобы так не решать. Надо выяснить раньше. Что за спешка?
— Но... тов. Васильев, — перепугалась готовность, — сам-же сотрудник музея указал квартирьеру...
— Какой сотрудник? Мало-ли говорят... Вот официальный представитель музея.
Взял блок-нот, кинул в страницу несколько строчек.
— Поезжай сейчас в штаб, передай это Михину. Скажи — я просил...
Адъютант щелкнул каблуками и исчез.
Васильев улыбнулся хорошей измученной улыбкой. И провожая до двери, сказал просто, по-товарищески:
— Ладно, что вы меня захватили. Я завтра уезжаю.
И добавил задумчиво:
— Случается в этой суматохе, знаете, всякое...
Как на крыльях, вышел я из «Модерна»!
Женщина везла на салазках охапку дров, — паек, как она объяснила, — и рассыпала их у подъезда гостиницы. Я собрал с удовольствием эти дрова, и сам перевез через улицу салазки и, наверное, еще раз проделал бы то же, если бы это понадобилось, и с такой же радостью. Так подняла и взвинтила меня отзывчивая теплота Васильева. Идя навстречу прохожим, я внезапно чувствовал рождающуюся у меня улыбку, старался сдержаться и ничего не выходило, и встречные тоже начинали улыбаться. В таком настроении я дошел до музея.
Нахлобучил татарченку картуз на глаза:
— Букин здесь?
— Верху они се, — радостно залопотал мальчишка.
Мягко ступая валенками, по дороге я зачем-то свернул в канцелярию и стремительно распахнул дверь. От раскрытого шкафа отскочил человек с таким испугом, что я даже не признал в нем сразу нашего Жабрина. На пол рассыпалась папка с грудой бумаг. Был момент непередаваемой неловкости. Жабрин спиной ко мне скорчился, подбирая разлетевшиеся листочки. Это были бумаги Корицкого. Или я нашелся, или так уж велик был наплыв переполнивших меня радостных чувств, но я торжественно провозгласил в этот жалкий момент:
— Ура, наша взяла!
Жабрин в тон мне ахнул, что-то заговорил, все елозая на коленях, подбирая бумаги.
— Мои нервы никуда не годятся, — оправдывался он, — я укладывал дела и от неожиданности вот все разронял...
Я помчался наверх. Было общее ликование. Сережа каждого угощал папиросой. Весь остаток дня я работал, как бешеный. Увлечение мое не слышало ни усталости, ни время.
Пробегая мимо Инны, разбиравшей библиотеку, я галантно приветствовал ее воздушным поцелуем. От изумления она открыла рот и бухнула из рук толстенный том.
— Ох, окаянный!
— Так действует на женщин один воздушный поцелуй!
— Какой нахал!! Ни воздушный, ни настоящий... Я прервал ее, поцеловав прямо в губы. И опрометью бросился по залу. Вдогонку мне полетела щетка и весело-возмущенный окрик.
* * *
Опять новое утро, а я еще чувствую славный прошедший день, чувствую бодрым, свежим подъемом. Кончаю утренний кофе и жду Сережу. У меня в гостях мой приятель, тоже сторож — старик Захарыч. У Захарыча нос, как дуля, весь иссечен морщинами. От мороза и водки налился вишневым закалом. Пьем на верстаке, к кофе сахарин, разведенный в бутылочке. Захарыч не признает сахарина.
— Не, паря. Ежели-бы то николаевски капли — то так, так, а чё я всяку всячину буду в себя напячивать?
— Ну, пей так...
— Я с солью. Кофий-то с ей, будто, наварней... Да! Отстоял ты, значит, музей? Это, брат, не иначе, кака-то гнида солдат на вас наторкнула! Скажи, заведенье такое и старый и малый учиться ходят и... на тебе! Под постой!
— Выкрутились кое-как...
— Выкрутился! Это ты на начальника такого потрафил. А то, знаешь, оно, начальство то, всякое бывает. Иной, глядеть, Илья Муромец — на заду семь пуговиц, а... бога за ноги не поймат... А этот, с головой попался...
Вошел Сергей.
— Айда музей отпирать!
— Идите, ребятишки, — подымается огромный Захарыч, — идите и по мне куры плачут — пойду.
Захарыч — сосед. Он — напротив, через улицу, сторожит совнархозовский склад.
Снимаем печать — отмыкаем замок.
В полутьме высокого, затемненного железными шторами, зала неясно поблескивали ряды стеклянных цилиндров с заспиртованными препаратами. Через комнату тяжело навис растопыренными костьми скелет морской коровы, истлевающий памятник однажды угасшей жизни, такой непохожей на нашу.
Позванивая ключами, я направился отпереть парадную дверь, когда изумленный голос Сережи окликнул меня.
— Смотрите... это что?
С неделю тому назад, за отсутствием места в кладовых, мы поставили в вестибюле несколько статуй, привезенных мной из Трамота. Так и высились с тех пор три гипсовые фигуры у двери, как три холодных швейцара. Сейчас весь пол вокруг них был усыпан раздробленным гипсом. У юноши с диском одна рука отвалилась и торчал из плеча безобразный железный прут, словно обнажившаяся кость. Фавн, играющий на свирели, и девушка с урной стояли изувеченные таким же манером, однорукие, точно скрывшие боль под каменной маской.
— Что за дьявол, — открыл я глаза, — смотри-ка... у всех по руке отпало...
Сергей был подавлен.
— Ничего не понимаю, — вздергивал он плечами, — что... такое!
Кто мог это сделать? Когда? Наконец, зачем?! Не могли же руки отломиться сами?! — Я внимательно исследовал статуи.
— Погоди... смотри на этот излом... Почему он пропитан влагой? Пахнет уксусом. Вот так история!
Выше отлома глубокие вдавлины истерзали гипс, как следы зубов. Я набил свою трубку, отошел, закурил и сел.
— В чем-же дело-то, — обескураженно приставал Сергей, — твои предположения?!
— Единственно: эти граждане ночью повздорили и перекусали друг друга...
— Иди к чорту, — обиделся Сергей, — балаганщик!
Как-то и не заметил я подошедших Букина и Жабрина. Букин рассердился, вспылил. Жабрин очень испугался, и сразу сделался каким-то официальным.
— Поручай вам охрану музея, — кипятился старик, — тары-бары — это мы умеем! А под носом чорт знает что происходит!
Потом поразобрался и, как говорят, отошел.
— Хорошо, что дрянь испорчена, — успокаивался он, — гимназические модели... А ведь у нас мрамор есть... ценный...
Жабрин тоже осмелел. Нюхал отбитые куски, кажется, даже лизал.
— А знаете, товарищи, — объявил он, — эти статуи кто-то облил уксусной кислотой. Кислота разъела гипс и он за ночь отвалился.
Объяснение было правдоподобно. Начали вспоминать. Последняя экскурсия ушла вчера поздно, уже начало смеркаться. И экскурсия-то была из какого-то детдома. А мальчишки особое, и притом озорное, внимание всегда уделяли нашим статуям. И был даже случай, когда Аполлона однажды украсили старой прорванной шляпой. Естественно, что и нынешний казус можно было объяснить скверным хулиганством какого-нибудь озорника. Тем более, что в толкотне татарченок наш легко мог и не досмотреть за всеми. На том и покончили. Разбитые статуи решили убрать, а татарченку сделали строгий наказ за посетителями смотреть в-оба.
— Знаете, Юрий Васильевич, — говорил я Букину, поднимаясь с ним в верхний зал, — это какой-то исключительный случай. Заметьте, какое уважительное отношение к музею со стороны рабочих, красноармейцев и школьников. Можно сказать, — даже любовное отношение. И вдруг такая чертовщина!
Тогда-же я вспомнил недавнюю угрозу постоем, какую-то темную для меня обмолвку адъютанта Васильева и опасения Захарыча. И связал почему-то все это с сегодняшним происшествием. Невольно рождалось подозрение о какой-то интриге, рождалось тем легче, что из нервной тревоги была соткана вся тогдашняя жизнь. По Сереже все это скользнуло поверхностно — он просто возмутился, потом прогорел и забыл. Забыл для картин, для страстной своей хлопотни. А Инна — омрачилась.
* * *
Удивительное время. Время, когда границы возможностей отодвинулись в неизвестность. Когда выход из самого гибельного положения находился по-детски просто, когда гибель подстерегала, не оправданная ни обстоятельствами, ни здравым смыслом. Мы смотрели на жизнь в телескоп, мы стремились приблизить к себе дух событий, мы хватали чувствами оформления массовых передвигов и сборов. А там, в глубине, меж корнями пришедших в движение массивов, из неведомых недр просачивались незаметные ручейки нездорового, странного и причудливого, вытекшие из болота жизненного отстоя. Мы замечали их, когда они лезли в глаза, и все-таки не удивлялись.
— Ведь музей собирает всякие редкости? — допытывается у меня белолицая дама с темными впадинами под глазами, в черной шляпе со страусовым пером.
— Конечно... если они нужны для науки.
— Ах, это так приятно слышать, что еще интересуются наукой... Видите-ли, одна моя знакомая... она очень нуждается, хотела бы продать музею замечательную вещь...
— А именно?
— Человеческую кожу...
— To-есть как... кожу?
— Так, содранную с живого человека...
— Это, действительно, замечательно. Но расскажите поподробней?..
— Сейчас. У вас нет папирос? Махорка? Ну, все равно, мерси. Я умею свертывать. Муж моей знакомой был офицером пограничной стражи. Это было в 13 или 12 году. Он служил на монгольской границе. В это время случилось восстание монгол против китайцев, и творились ужасные зверства. И его отряд случайно наткнулся на банду, которая только что содрала кожи с двух китайских купцов. Банду разогнали, а кожи взяли себе на память офицеры отряда. Одна попала к мужу моей знакомой... Вот она...
Дама протянула мне сверток в газетной бумаге.
Это было нечто, похожее на папушу листового табаку, — коричневый, хрупкий, морщинистый свиток.
— Она теперь засохла, — объясняла дама, — если ей дать хорошо отсыреть, она развернется и будет, как рубашечка... распашонка...
— Чорт возьми, — невольно вырвалось у меня, — и сколько же за это хочет ваша знакомая?
— Продуктами... или золотом?
— Где-ж у нас золото?..
Дама вынула бумажку, развернула, прочитала:
— Два пуда муки крупчатки, 10 ф. масла, 5 ф. сахара, 1/2 ф. чая и 2 ф. мыла. Ведь недорого?
Нет, это было для нас дорого, и дама ушла огорченная.
Говорит мне Жабрин:
— А жаль, все-таки, что упустили. Пригрозить бы ей соответствующим учреждением — так, поверьте, задаром бы отдала... Проделикатничали вы... Но я вот о чем хотел вам сказать...
И, вполголоса, весьма озабоченно:
— Повлияйте вы на товарища Кирякова! Ей богу, добра не будет от этой литературы! Он, ведь, держит ее на виду. И сам попадется и нас подведет!
Надо сказать, что у нас в музее в ворохах получавшихся отовсюду книг и газет нашлась колчаковская литература — несколько брошюр и воззваний. И Жабрин первый наткнулся на них. Ha-днях он намеком давал мне понять о своих опасениях, теперь заговорил прямее. Как раз вошел Сережа.
— Слушай-ка, — говорил я ему, — надо как-то устроить, чтобы, правда, недоразумения не вышло.
— Просто — уничтожить, — заявил Жабрин.
— Ну, товарищи... — загорелся Сергей, как бойцовый петух, — вы... думайте, что говорите! Прежде всего, литература в моем отделе — и я отвечаю. А теперь по существу. Мы обязаны отразить в музее нашу эпоху? Обязаны! А если так, если вы собираетесь представлять революцию, так дайте и путь, которым она пришла! И всех этих Колчаков и Деникиных, через которых она перешагнула — тоже представьте. А сегодняшний день без вчерашнего — будет непонятен. Это — истина! Что же касается уничтожения, то такую штуку можно предложить, либо свихнувшись, либо по-заячьи струсив.
В наступившем молчании я увидел, что нас было четверо. Четвертой стояла вошедшая Инна, — закусила губу и смотрела на кончик ботинка.
Жабрин встал и, бледно усмехаясь, пошел к двери...
— Зачем ты облаял его, Сережа? — смеясь укорила Инна.
— Да чорт возьми! — возмущался Сергей. — Что за дикие подходы такие к вещам? Самое естественное и обычное в нашем деле становится осложненным такими «высшими» соображениями, что их мне и не понять! Либо я дурак круглый, либо вы дураки!
— Мы дураки, Сережечка, — успокоил я, — а ты все-таки книжки-то собери и запиши в каталог. Формально.
* * *
— Экий разиня, Сережка... Вечно что-нибудь потеряет...
— Что вы, Инночка, ищете?
— Помогите, Морозка... Там Букин в истерику впал. Ему, видите-ли, в кладовую понадобилось, а ключ, как нарочно, исчез. Давайте вместе пошарим...
Это была история довольно обычная. Сережа в пылу работы всегда закладывал связку ключей куда-нибудь в шкаф или на подоконник и потом в раздражающих поисках метался по всему музею.
Осмотрели мы канцелярию — ничего не нашли. Спустились сверху Букин и унылый Сережа.
— Может быть, Жабрин взял? — спросил я его.
— Он ушел по делам уж с час... да и зачем ему ключи?
Обрадовал татарченок. Он нашел. Ключи оказались рассыпанными по ступеням лестницы, уходившей в верхний этаж. Проволочка, на которой они были скреплены, видимо, разогнулась.
— Да... — бормотал Сергей, опять омрачась, — тут все... кроме нужного. От кладовых все-таки нет...
И сколько мы не искали, ключ, как в воду канул.
— Нечего делать, — придется новый заказывать, — решил Букин. — Пойдемте портреты перевешивать...
Инна тянет меня за рукав и смотрит грустным, тоскливым взглядом.
— Мороз, я чего-то боюсь...
* * *
Жабрин дело знает. В этом я несомненно убеждаюсь, приглядываясь к его работе. Он знает стиль, эпоху и цену. Но вкуса у него, по моему, нет. Или вернее есть, но не свой, а какой-то общепринятый.
Сейчас уже вечер. Инна и Букин ушли, а мы втроем — оканчиваем занятия. Электричество горит ярко — оно одно сохранило неизменным свой блеск в этот тяжелый год. В канцелярии очень холодно, мы работаем в полушубках.
Для себя необычно я подумываю о том, как приду в свою кочегарку и спать завалюсь. Может быть, это холод тянет меня к постели, или я голодней, чем всегда, на сегодняшний вечер, или заспать мне хочется нудное невеселое настроение, за последние дни загораживающее мне дорогу.
Сергей и Жабрин пересчитывают разобранные за день предметы, а я проверяю по книге.
Жабрин, видимо, помирился с Сережей и теперь разговорчив, как именинник. Уверен он в чем-то, и от этого все ему приятно. Я думаю, что душой он холодный и казенный, точно сделанный на заказ. Но это — по-моему. А так: своя у него, конечно, жизнь и мысли и в своих пределах он плох и хорош. Анекдоты вот у него не выходят. Непосредственности мало.
— Ого! — осматривает он сложенные в порядок экспонаты, — на красноармейский паек наработали! А, ведь, не дадут... Говорят, что в городе на два дня только хлеба осталось...
— Почему? — машинально спрашиваю я.
Жабрин улыбается.
— Фронты, вероятно, все съели. А тут того гляди еще фронтик объявится. На Байкале. Поговаривают о каких-то группировках ближних монгол.
— Бросьте вы эту чепуху, — прерывает Сергей, — ну, что за охота всякие сплетни повторять? И так они на каждом торчке висят! Повеселей что-нибудь расскажите.
Жабрин качает головой.
— Заработались вы очень и нервничаете. Вот вам история о людях, которые побольше нас перегружены. X, например, так тот даже в уборную с телефоном ходит... А уж Y так занят, что, спать ложась, с собой в постель машинистку кладет!
И сам хохочет. Невольно улыбнешься.
— Запишите, пожалуйста, эту штуку, — обращается к Жабрину Сергей.
Жабрин садится писать этикетку, Сережа держит в руках старинный веер, диктует надпись и следит за пером. И случайно я замечаю, как, озадаченный, вдруг Сергей застывает над пишущим, по лицу его бегут полутени мыслей и окаменевают растерянным изумлением. С кривой улыбкой, сам себе не веря, он откладывает веер и достает из кармана сложенную бумагу. Я наблюдаю. Подымает голову и Жабрин.
— Но это же удивительно, — наконец, разводит Сережа руками, — до какой степени ваш почерк, т. Жабрин, похож на это...
Жабрин порывисто вскакивает, почти вырывает у Сережи бумагу. Я узнаю тот список вещей Корицкого, который мне показывал Букин. Жабрин проглядывает листок и отбрасывает его с презрением.
— Вы плохо разбираетесь в начертаниях, — холодно замечает он, — а, чорт, из-за вас этикетку испортил!..
Он размазал ее, упершись ладонью в непросохшие чернила. И с досадой порвал в клочки.
— По-моему, на сегодня довольно,— говорит он, и зябко поводит плечами, — холодно очень...
Решаем кончать. Расходимся по домам. Сережа задумчив. Жабрин крепко жмет мне руку и заглядывает в глаза.
* * *
Сладко разоспался я ночью. Но вот меня властно потянуло что-то сквозь толщу сна, как рыбу вытягивают из воды, и, нехотя выныривая в холод действительности, я сразу просыпаюсь от громкого и настойчивого стука. Зажег электричество, надел полушубок и валенки, подошел к дверям.
— Кто там?
— Отворите.
Отпер. В дверь просунулся штык, другой и, по мере того, как я отступал вглубь комнаты, один за одним входили вооруженные люди. Ясно — обыск. Это было в порядке вещей, и я не смутился.
— Вы такой-то?
— Я!
— Вот ордер...
Я повертел бумажку — не проснувшимися еще как следует глазами, увидел штамп Чека, свою фамилию и приписку: «задержать вне зависимости от результатов»...
— Арестован? — догадался я. И человек в папахе кивнул головой. Обыск был очень короткий, ибо имущим я мог считаться разве лишь относительно лица совершенно голого. Даже красноармейцы улыбались.
— Захватите постель, товарищ... — сказал начальник, — все-таки мягче будет...
И, приглашая меня отправляться, пробормотал.
— Чорт его знает!.. Недоразумение, должно быть...
Мороз и тишь. Миры рассыпаны в недоступном небе, электрические фонари обнажают пустое уныние долгих улиц.
Мы шли кучкой по мостовой и молчали. На перекрестке скрипел невидимый в высоте парус плаката, и тень его колебалась над снегом, как крыло пугливой вечерней птицы. Я шагал и мне не жалко было ни черных, спящих домов, ни открытого неба, ни мертвого света. Я даже не удивлялся, не спрашивал себя «почему», а просто шел, как идет человек на вокзал, к ночному поезду. Вот освещенные подъезды и часовые. На этом положен зарок молчания и тайны. Пришли. До сих пор я видел это здание только снаружи, теперь перешагиваю порог...
Сонные привычные люди. Скучливо взглянули и опять за свое. Их несколько в затушеванной полутенями комнате. Сонный комендант, зевая, принимает от конвоя бумаги. Подходит ко мне другой, в валенках. Молчаливо обшаривает с плеч до пяток. Показывает на табурет — заполнить анкету. Писать анкеты вошло в обычай. И карандаш, не затрудняясь, пишет по знакомым графам. «Давшие неверные сведения несут ответственность». Так стоит в заголовке. И сколько этих — дававших, сидело до меня на этом табурете, какие бури мыслей, бросавшихся на самозащиту, вероятно, просыпались над плоским и невзрачным листом анкеты!.. Я встал.
— Куда его? — спросил вошедший часовой.
— Веди наверх.
Мы вышли через двор, глубокий, точно шахта. Плоским слоем колышется над снегом свет. Туманны, как привидения, фигуры часовых. Вверху молчит ночное небо. Внизу молчит земля. Я точно между двух разжатых челюстей. Взбираемся по винтовой железной лестнице. Далекий корридор и тусклые пучки огней под потолком. Направо и налево двери, за ними тайна, чрезвычайность и секрет... Где-то сзади в большом невидимом и пустом пространстве отдаются наши шаги. Я иду впереди, мой спутник сзади, а между мной и им — укол штыка.
— Сюда!
Малюсенькая комната, совсем пустая. Часовой притворяет дверь, я кладу на подоконник свое одеяло. Здесь тепло и тихо.
— Можно ложиться?
— Можно!
Это славно, мне хочется улечься и собраться с мыслями. Я расстилаю одеяло, протягиваюсь на полу. Ощущение — дивное, многие не знают его и на пуховых тюфяках. Под голову — шапку, и я согреваюсь. И сейчас только начинаю понимать, что бессознательно я все время анализировал свое положение. Таким нешуточным, стало быть, был визит сюда! И только я остался со своими мыслями в покое, как сразу мне представились всевозможные варианты мотивов к моему аресту. По музейной привычке, я даже подразделил их на категории. Контр-революция? Никак не подходила. Во всяком случае, я за собою ничего не знал. Спекуляция? Тут, конечно, грешен. Как и все. Купил, например, на днях сюртук лесного ведомства и продал полы от него, сменял их на муку. Но это все не то. Саботаж? Не может быть. Преступление по должности? Должность моя небольшая — сторож и истопник. Правда, я исполнял еще тьму обязанностей, но умыслом и сознанием неповинен был, как казалось мне, ни в чем.
Оставалось одно — неощутимое, всевластное и вездесущее — клевета, донос. Но это — выяснится... А пока что — очень все интересно — и моя обстановка и моя судьба.
Я задремал и потом проснулся. В углу что-то слушает часовой, за стеклами ночь. Из коридора доносятся глухие голоса. То один, то несколько. И вдруг рассыпался голос прыгающими вскриками рыданий... Я слушал. Отдаленный дверями, в молчании полуночи, безнадежно, жалко и страшно рыдал неизвестный голос... Глаза мои невольно расширились... И я думаю, если бы в граммофоне записать этот плач, а потом, выпустив на свободу плакавшего человека и, в покое оставив его, сыграть ему записанное на пластинке, — он не стал бы больше жить от острейшего унижения. Таким звериным, примитивным, молящим о пощаде был его вопль. А потом, словно захлопнули наглухо дверь, и все затихло. Часовой зевнул, переставил приклад винтовки. Я знаком с тюремной обстановкой и мне известны ее ночные страхи. Но всегда такие крики родят во мне чувство чего-то зловещего. Я второй раз заснул и второй раз проснулся от шума в комнате. Должно быть, короток был мой сон, потому что за окнами также была еще ночь. Вошедший человек сделал общий кивок головой — и мне и часовому.
— К следователю!
Я вышел в коридор — часы пробили три.
* * *
По одной стороне стола — я, по другой — человек в матросской рубашке. Рубашка желтая, хаки, а широкий, отбросной воротник карминно-красный. Цветовой удар в однотонную полутьму холодного зала. Фуражка блином, примята лихо, ремень от маузера через плечо. И... пишет. Весь стиль испорчен!
Ответил на все, что он коротко спрашивал. Та же анкета. Потом броском!
— Вы родственник Кирякова?
— Нет.
— Но знаете его?
— Конечно. Сергей Киряков сотрудник нашего музея.
— Он — бывший офицер?
— Насколько мне известно — нет.
И я рассказал следователю, как однажды в Губвоенкомате подумали, что Сергей — генерал Киряков.
Следователь заинтересовался, потом перевел глаза на мои руки.
— Вы физической работой занимаетесь?
— Я же истопник.
Оба мы улыбнулись. Потом несколько частных фраз о царизме и о революции, к которой и я и он были в свое время причастны.
— Подпишитесь, — устало сказал следователь, — и... идите.
— Но что же это все значит?
Следователь махнул рукой.
— Разберут. Доложу начальнику секретно-оперативной части...
Выходя в коридор, я столкнулся... с Сергеем! Оба мы приостановились от неожиданности. У него был свой часовой, который сейчас же впихнул его в дверь. На прощанье Сергей улыбнулся мне подавленной улыбкой.
Любопытно, как часовому передается отношение начальства! Вот следователь со мной беседовал так, что у солдата сразу создалось впечатление, что я случайный пациент Чека и, вероятно, не преступник. И он, заводя меня в комнату, сам спросил:
— Знакомый, что-ли?
— Сослуживец.
— Бывает, — рассудил красноармеец, — ты вот наверху сидишь, а он в подвале... Ну, спи!
Я лег. Но, чорт возьми, как осложнились мои тревоги! Я ничего не понимал. Арестован Сергей. Вероятно, и Жабрин. И, невольно улыбнувшись, про себя спросил: — И Букин?.. Но, ведь, и Инна... Она сестра Сережи!.. Мне так сделалось жалко эту милую девушку. Ну ее-то за что? Да, дьявольщина, — всех-то нас, наконец, за что? Ведь это же граничило с комическим?! Я ничего не понимал. Я осужден был на бесплодные догадки на неизвестный срок...
* * *
Утро. Пробуждение и смена часовых. Плотно стал в углу небольшой, ощетинившийся смоляно-черными усами. Вероятно, мадьяр. Лежать, как будто, неприлично. Я подобрал свое одеяло и стал ходить, разминаясь. Шаг, два, три — назад. Шаг, два, три — назад. Перед окном. В него видна стена и окна, закрашенные белым. Опять я мучаюсь вопросами и путаюсь в паутине невероятных предположений. Но, начинаю думать, ведь и выбор возможностей безграничен? И он предоставлен случайности. И если одной из них угодно было привести меня сюда, то почему другой не углубить, не растянуть сцепление событий до последнего звена? Но о себе серьезно думать в этом смысле я не мог, а за Сережу и других мне было страшно...
— Котелка у вас нет? — спросил у меня вошедший красноармеец с добродушием завхоза. — Ну, я вам в своем принесу.
Это было весьма кстати. Мне очень хотелось пить и есть. И он, действительно, принес горячий кофе, паек хлеба, и что меня совсем очаровало, — сахар! Завернутый, как заворачивают в аптеках, порошки. Мы, видимо, считались на красноармейском положении...
Я еще не успел допить своей порции, как новый человек отворил дверь. Поглядел в бумажку, потом спросил мою фамилию.
— Имя, отчество, — следил он по записке, — собирайтесь с вещами.
Какие у меня сборы! Одеяло под мышку, и я готов. Опять коридоры, теперь не такие глухие, словно проснувшиеся, прибравшие свою ночную тайну. Лестницы с часовыми и комендантская. Там много народу — выходят, входят. Сопровождающий подвел меня к столу.
— Подпишитесь, — сунул мне бланк комендант.
Читаю — подписка о невыезде из города. Ого! Весело запрыгало перо...
— Пропустить его!
И я, прижимая к себе одеяло, свободно переступаю роковой порог Чека...
Свежий утренний холодок. Серое небо и хлопья снега нежно льнут к горячему лицу. Какая-то старушка — у подъезда расплывается в счастливую улыбку:
— Освободили, знать? Спаси тебя...
* * *
Ах, с каким съедающим нетерпением шагал я к музею! Вот и знакомая дверь — уже отперта. Значит, кто-то остался на свободе и мог распорядиться... Первым встретил меня татарченок, и тотчас-же мордашка его, с оттопыренными ушами округлилась, как блин, и засверкала зубами.
Дальше Букин. Старик от радостной неожиданности даже побежал мне навстречу. Торжественно поцеловал и долго тряс руку.
— В чем дело, в чем дело!? — допытывался он.
— Кто еще арестован? — спросил я.
— Сережа. А разве его не освободили с вами?
— Не знаю.
— Идите наверх, там Инна. Расскажите...
Эта, взвизгнув, бросилась мне на шею. Потом тревожно спохватилась:
— А Сережа?
— Ничего не знаю...
У Инны ужасный вид. Должно быть, она не спала всю ночь: лицо посерело, черные тени под глазами. Дрожит от беспокойства.
— У нас был обыск, еще с вечера. Все перерыли, пересмотрели. Спрашивали тот проклятый вчерашний ключ... Бедный братишка... за что его?
Я рассказал, как ночью видел Сергея. Умолчал только, что он был в подвале.
Но расспрос о ключе уже говорил многое. Значит, кто-то воспользовался потерей ключа чтобы скомпрометировать Сергея, может быть, сочинить на этой почве какую-нибудь небылицу. Но кто мог это сделать? Очевидно тот, кто хорошо знал нашу повседневную жизнь. Здесь пришлось применять метод исключения. Я — этого не делал, Инна, конечно, тоже. От старого Букина такого доноса я ждать не мог. Слишком он был порядочный человек. Оставалось одно: либо наш татарченок, по-ребячески разболтав и прикрасив вчерашнее происшествие, дал материал какому-нибудь досужему шептуну, либо виной всего был Жабрин. И последнее было вернее.
— Ух, какой гад, — даже заскрипела зубами Инна, — но, милый Морозочка, если это он, то зачем все это? Чем ему Сергей помешал?
Это и для меня было загадкой. А, может быть, основной причиной были политические подозрения? Ведь недаром-же следователь спрашивал — не офицер ли Сергей. Может быть, его злополучно путают с каким-то белогвардейцем Киряковым, и тогда версия о доносе Жабрина теряет свою убедительность. Беспокойства нашего, в общем, разговор не уменьшил. Надо было что-то предпринимать. Я посоветовал Инне отнести Сергею в Чека передачу, а сам решил отправиться в Губоно и там позондировать почву.
Навстречу по лестнице бежал через три ступеньки Жабрин. От татарченка он уже узнал о моем освобождении.
— Поздравляю, поздравляю, — задыхался он, и смеялся и сочувственно ахал и даже рукой к моему плечу прикоснулся, словно убедиться хотел, что это действительно я, а не призрак.
— Неужели он? — думал я, — как трудно поверить...
— А... Сергей Васильевич... еще в заключении? — шопотом спросил он и скользнул глазами как-то вкось, до пола.
Он! — решил я.
* * *
Вошел в Губоно, в кабинет к заместителю. Тот был один и испуганно удивился.
— Вы... откуда?
— Сейчас из музея, а утром из Чека...
— Вас, стало быть, освободили?
Я рассказал ему все, что счел нужным. Слушал он меня с большим любопытством, расспрашивал о подробностях не столько моих приключений, сколько того, что я видел в Чека. Очевидно, это учреждение интересовало его, как и многих, особым, почти паталогическим интересом. Спрашивал он полушопотом, с таким конспиративным видом, что со стороны мы, наверное, походили на двух заговорщиков.
— Но вот, что грустно, товарищ, — сказал я. — Киряков-то остался сидеть, и я уверен — по ошибке. А время, сами знаете, горячее, и ошибки бывают всякие...
Зам решительно прервал меня и даже встал из-за стола.
— Раз арестован — значит, были причины. А рассуждать об ошибках не наше дело. В свое время все выяснится. Извините, но я очень занят...
Уходил я, не могу сказать, чтобы очарованный своим начальством.
Товарищи, с которыми я беседовал, посоветовали ждать, и кое-кто из людей партийных и отзывчивых обещали навести справки.
* * *
Когда я вернулся, жизнь в музее текла обычной своей чередой, и мой инцидент уже всем казался исчерпанным. Только не было Инны, которая ушла с передачей. Букину во что бы то ни стало нужно было открыть кладовые.
— И так это дело тянется уже третий день. Давайте вскроем дверь и потом закажем ключ.
— Но, — осторожно возражал Жабрин, — как же мы, сломав замок, оставим дверь не запертой? Я думаю, что будет лучше изготовить ключ, а уж потом — вскрывать.
— А сколько времени мы будем ждать ключа?
— Ну, день-два. Не более трех...
— Позвольте, — вмешался я, — ключ будет изготовлен в два часа. Сосед, знакомый слесарь, это сделает...
— Конечно, как хотите... Но предупреждаю, товарищи, что могут быть неприятности. То же Губоно нас может обвинить, если дверь нам не удастся запереть и... что-нибудь пропадет.
Этот предостерегающий тон меня возмутил.
— Ломаем, и никаких чертей! Я лично буду отвечать за все...
Жабрин вздернул плечами и круто повернулся.
— Я здесь не участник!
— Тем лучше, — раздраженно ответил я.
Война с ним начиналась в открытую.
Дверь в кладовую находилась под лестницей, в глубокой нише. Днем электричество не горело и нам светил фонарь. Дверь была тяжелая с таким же тяжелым висячим замком. Я долго подбирал отмычку, наконец, нашел и, щелкнув, открылась дуга замка. Я был вдвойне доволен — во-первых, Букин не станет надоедать этой проклятой кладовой, а во-вторых, я утер нос этому трусу и интригану, каким мне стал казаться Жабрин. Я был сильнее Букина и потому налег на дверь. И, подняв с пола фонарь, вступил в кладовую. Сперва я как-то не осознал того, что бросилось в глаза при скудном свете фонаря. Потом невольно ахнул.
Представьте погреб, полный трупов. Мертвецкую, иль место, где случилась массовая казнь. Но только вместо мертвецов валялись в разных положениях раздробленные статуи. И желтый отсвет фонаря играл на белом гипсе краской тела и увеличивал зловещее, пугающее сходство. Повсюду в этом странном морге разбросаны куски расколотого гипса, и все подернуто мельчайшей белою пылью....
Невольно я отступил назад...
— Неслыханно... — промолвил бледный Букин, и челюсть у него дрожала. Я бросился осматривать побоище. Лежали странно каменные трупы с игривой, жалобной или бестрастной мимикой, как будто продолжали даже в этом положении существовать все той же жизнью, которая однажды навсегда окаменела на их лицах. У всех были отбиты руки.
— Смотрите, — ужаснулся Букин, — как тогда!
Прибежал и Жабрин. Он сразу стал официальным и нам враждебным.
— Мой долг — об этом сообщить, — сказал он. — И соучастником в такой истории я не желаю оказаться... — При этом оступился и невольно сунулся ко мне. Я оттолкнул его ладонью в грудь.
— Сообщай, мерзавец!
Он стукнулся об стену, сгорбился и выскочил из двери.
— Зачем это? — взмолился Букин.
— Я этого так не оставлю... — издали хрипел со злобой Жабрин.
Должно быть, я совсем ослеп от бешенства, и сразу шагнул к нему. Он ждать меня не стал и выбежал на улицу. Даже напуганный татарченок через силу заулыбался.
Что делать?! Я кинулся к телефону. Вызвал уголовный розыск, Губоно, просил прислать кого-нибудь для составления акта.
Букин выглядел совершенно убитым. Он говорил:
— Какой вандализм!.. Ведь среди разбитых были недурные копии... Под нас подкапываются, злоумышленная рука старается скомпрометировать...
Старик чуть не плакал.
Да, это объяснение показалось мне интересным. Разве не мог тот-же Жабрин, из желания выдвинуться, посадить на наши места каких-нибудь своих людей, совершить эту гнусную провокацию? Уголовная хроника богата убийствами живых людей, что-же тут говорить о каких-то статуях.
Я сидел, дожидаясь прихода официальных представителей, курил и молчал. Тихо было в огромном здании. Серый день еле светил в запыленные окна канцелярии, скучно и ровно тикали часы, было гулко кругом и холодно. Татарченок жался к углу — он был тоже напуган, растерян, чувствовал общую беду и, наверное, жалел своим маленьким сердцем всех нас. Инна еще не возвращалась.
Что-то теперь с Сергеем?
Дверь открылась, шум, вошло много народу. За татарченком пошел встречать и я. Даже был рад, что вот, как-нибудь, разрешится это до невыносимости напряженное и тягостное состояние. Пришли одновременно и от Губоно и от уголовного розыска, и Жабрин пришел. От Губоно был тот старый партиец, который выручил однажды нас добрым советом, когда музею угрожал постой.
— Мне уже рассказал ваш сотрудник, — указал на Жабрина, — скверная история!
Осмотрели. Оказалось, что из 50, привезенных мной из Трамота статуй, уцелели только три, и то, может быть, потому, что они стояли вверху, в картинной галлерее.
Человек с портфелем и наганом отвел меня в сторону:
— Киряков Сергей арестован?
— Да.
— Ключи от этой кладовой были у него?
— Обычно — да. Но на днях они, по-моему, были украдены.
— А почему вы это думаете?
Действительно, почему? У меня, к сожалению, не было никаких доказательств.
— Ну, знаете, гражданин, этому вашему Кирякову придется ответить... Корыстных мотивов здесь нет... Здесь налицо — злостное истребление принадлежащего Республике имущества... Акт — явно контр-революционный.
— Но, я надеюсь, будет подробное следствие... Надо же доказать его причастность...
— Это уж забота Губчека.
— Разве туда передается дело?
— Безусловно.
Чорт возьми — какой недобрый оборот все это принимало! Что мог сказать мне мой приятель из Губоно? Он был смущен.
— Не знаю, товарищ, не знаю, — твердил он и избегал встречаться со мной глазами. — По человечеству, мне жаль Кирякова, если он тут не при чем. Но... он ответит! Если не будет отыскан другой виновник. Пока на два дня закройте музей до особых распоряжений.
С отчаянием говорил я, убеждая и чувствуя, что нет в словах моих убедительности. Собеседник только пожимал плечами.
— По совести говоря, мы должны подозревать вас всех. А Кирякова тем более. Он и формально ответственен за все... Что я могу еще вам сказать? Если вы так уверены в невиновности Кирякова — отыскивайте скорей настоящего преступника...
Он повернулся уходить, а человек с портфелем и холодным взглядом прибавил значительно:
— Но торопитесь... Очень торопитесь!.. — и ушел.
* * *
Холодное тоскливое одиночество. Дружную и рабочую нашу спайку рассыпала навалившаяся беда. У каждого теперь свое горе, своя забота, и каждый естественно замыкается в них. Мне болезненно тяжело сознавать крушение того общего, что роднило нас на одной работе, и этой работой включало в жизнь. А потом невольно проснулась и мысль об опасности. Откуда она придет, для меня ли лично или для тех, кого я любил, — я не знал. И в этом неведении, в ежеминутном ожидании, в незнаньи лица грядущей гостьи, пожалуй, и крылась причина тревожного моего настроения.
Букин по-старчески ослабел, занемог, ушел домой. Все ключи и бумаги после Сережи у Жабрина. Мне противно с ним говорить, и он боится меня, поторопился уйти. Днем в моей кочегарке особенно уныло. И сыро и холодно. Я не могу сидеть и ждать. Ведь ждать я должен самого отвратительного. Конечно, и я и Букин вряд-ли рискуем чем-нибудь серьезным. Но о Сереже и думать ужасно... Все внутри меня требует действия, не мирится с пассивным и нестерпимым ожиданием. Но что делать? Итти? Куда и к кому? А главное — с чем? Все, что можно было сказать, я сказал. И чувствовал, что это лишь детский лепет, и что обвинители наши, по совести, правы и разуверить их ничем, кроме фактов, нельзя. Но откуда я возьму эти факты, от которых зависит, может быть, жизнь Сергея? Единственное место, где могут они отыскаться — это там, в музее.
Дверь в сторожку мою распахнулась. Вошел Захарыч. Ушастая шапка, куст бороды и негнущиеся в рукавицах руки — как ласты у моржа.
— Здорово, сынок!
— Здравствуй, отец!..
Хлопнул рукавицами.
— Курить есть? Смерз я на посту, и курево вышло...
Подал кисет:
— Садись.
Долго скручивает, молчит. Обсосал цыгарку, выбил кресалом огонь. Задымил.
— Как живешь-то...
— По-всякому, отец...
— Слыхал, парень, слыхал. Таскали тебя? Ничего, от сумы да от тюрьмы не уйдешь... А художник ваш там остался?
— Да.
— Доходился, видно, по ночам...
— Как по ночам?
— А ты не примечал так, ничо?
— Нет. Ничего.
— Да ночами-то зачем он в музей ходил? Э-эх ты, Алексей божий, обшитый кожей! Паришься тут у котла да не знаешь...
— Да в чем дело, Захарыч?
— Ты... погоди! Не торопись. Расскажу тебе с глазу на глаз. Мне, паря, с трону мово на улице все видать. А меня в тени под воротами не видно... Когда же это? Третьеводни, что-ли, караулю я, слышу — скрип-скрип — идет по вашей стороне ктой-то. Сидеть скушно — я глянул. Быдто, как в чуйке идет, с саквояжем. Дело ночное — один я на улице. Подошел к вашей парадней, слышу — штору поднял, ключ щелкнул — значит, дверь отпер. И штору за собой опустил. Я так и мыслил — из ваших кто-нибудь. Кто чужой так — нахалом пойдет? Гром ведь от шторы — да и не первый раз...
Я был потрясен этим сообщением, но боялся показать и виду, опасаясь, что старик встревожится и замолчит.
— Значит, не первый раз приходил?
— Раза три я его видал...
— Ну, а лицо? — попробовал я.
— Смеешься, парень! Ночью тебе с другой стороны лицо разобрать... Росту как-бы среднего. Ну, заболтался я, однако. Ты... гляди, никому не рассказывай! А то и тебе и мне... Наш ведь брат всегда на затычки... Прощай!
Это было открытие! Штора на улице, действительно, была без замка. А стеклянная дверь отпиралась обычным ключом. Рост средний... Но кто? И Сергей и Жабрин, наконец, я сам, были среднего роста. Напряженно старался я сделать какой-нибудь вывод и, случайно взгляд мой упал на старинный пистолет, который я взял для чистки к себе. Это допотопное оружие внушило мне авантюристическую идею — итти и ночью продежурить в музее. Не явится ли таинственный убийца статуй, хоть и страшно это прибавлять, а скажу: и убийца Сережи?.. Я взял пистолет. Он был тяжелый, с гнутой ручкой, окованной медью, с кремневым замком, приделанным с боку. В губах курка зажат кремень. С трудом я взвел курок, нажал на спуск. Щелкнул резко и струйки искр брызнули на полку... Это убедило меня в серьезности оружия и одновременно и затее моей как-бы придало веса. Теперь — зарядить... Действующего оружия у нас не было никакого и достать его было негде. Я вспомнил, что у меня в куче всякого хлама валялся патрон от охотничьего ружья. Я нашел его — оказался он заряженным. Расковырял и достал порох. Всыпал в широкое дуло пистолета и забил старательно войлоком. Теперь — пулю. Это было легко. От старой водопроводной трубы я отрубил кусок свинца и молотком придал ему грубо-шарообразную форму по калибру пистолета. Туго вошла моя пуля, но когда вошла, то я сразу полюбил пистолет. Это была моя бесспорная выручка, — мало-ли на какие жизненные случайности! Оружие всегда придавало мне особенное спокойствие.
Уже день, как я не видел Букина, уже день, как заперт наглухо музей, уже второй день я не вижу Инны и мучаюсь за нее и Сережу. Если она не придет сегодня до вечера, я сам отправлюсь разыскивать ее. Теперь окончательный вопрос — как попаду я в музей на свое ночное дежурство? Можно попасть. Правда, ключи от входа у Жабрина, но у меня остался ключ от железной шторы, вечно спущенной на окно, выходящее на двор — против моей кочегарки. Форточка в этом окне не запиралась, а само окно замыкалось только верхним шпингалетом. Значит — путь мне открыт. Только томительно в бездействии ждать сумерок.
О целесообразности самого предприятия я и не думал. Чего там! Какой-нибудь один процент на успех... да будет ли и тот? А, может быть, меня еще до темноты придут и арестуют, как соучастника. И это вполне могло случиться. Понятно, в таком положении я был согласен, на какое угодно безумство, лишь бы уйти от самого себя. Медленно, медленно двигалось время. Еще три дня тому назад в эти часы мы весело и вдохновенно работали в музее. А теперь словно нерв жизни порвался, и я не знаю, куда девать себя. Так действует, должно быть, насильственный отрыв от привычной работы.
Я спрятал свой пистолет и лег на койку. Мне почти не хотелось есть, а в столовку я решил не итти: боялся пропустить Инну. И кончил тем, что заснул в дремоте сумерок. Проснулся я от яркого света лампочек — значит, станция дала уже ток, значит, было не менее 5 часов вечера.
Я вышел во двор. Ночное морозное небо и с улицы свет фонарей. Но шум городской замолк. Было, стало быть, поздно. Я решил пойти к воротам, — не пора ли их запирать. Но навстречу мне из-за угла вышла темная, торопливая фигурка. Это Инна! С радостью я выступил из тени ей навстречу. Она метнулась испуганно, узнала, сжала мою руку.
— Идемте к вам!
Я почувствовал недоброе. Во всем — в молчаливости ее, необычной, нервной спешке. При свете я увидел похудевшее, осунувшееся лицо — трагические складки изогнули углы ее губ. Она молча села и взглянула на меня. Больше мне ничего не надо было говорить. Не знал только — произошло ли уже то ужасное или еще нет.
— Нет еще, Морозка... нет, — думая совсем о другом, находясь совсем не здесь, как-то машинально ответила она на незаданный вопрос.
— Но худо, милый... ох, как худо! — снова вырвалась она из молчания, и в глазах, как в открытые окна, засветилась вся мука, вся тоска беспомощности перед нависшим ударом. Что мог я сделать для этой хрупкой девушки, пришедшей ко мне, как доплетается смертельно раненый до перевязочного пункта?.. И раненые и иные страдающие люди напоминают горько обиженных детей.
— Я боялась застать ворота запертыми, — продолжала Инна.
— Извините, — прервал я ее, — а сколько времени сейчас?
— Около 11 часов...
Неужели я проспал 7 часов? На лице моем, очевидно, отразилось что-то особенное, потому что Инна сразу встрепенулась и с безумной надеждой потребовала:
— Что? Вы знаете что-нибудь? говорите-же....
Я рассказал.
Она слушала с горящими глазами, всеми мускулами лица хватая передаваемое.
И этой призрачной капли надежды было достаточно, чтобы воскресла в ней душа к новой, еще неизведанной попытке...
— Я иду с вами! — Пояснила тихо: — Вы же понимаете, Морозка, что я места себе найти не могу!..
Это было так очевидно, что, не колеблясь, я согласился.
— Тогда пора, — сказал я, — давайте собираться. Там чортовский холод. Мы захватим каменный уголь и растопим камин.
Сложил в мешок угля. Положил в карман пакетик кофе, пригоршню сухарей и приготовил чайник с водой. Затушил свет в кочегарке, запер уличные ворота.
Вдвоем мы стояли перед окном, перед черной, бесконечно высокой, казалось, стеной. Закоулок двора был замкнут со всех сторон слепыми каменными громадами и видеть нас никто не мог.
С трудом я поднял скрипевшую ржаво тяжелую штору. Форточка легко поддалась, и рука моя изнутри оттянула шпингалет. Мягко открылось окно в черноту, пахнувшую тепловатой затхлостью. Я спустился в комнату, принял мешок, помог забраться Инне и запер окно.
Звонкая тишина и особый архивный запах старых слежавшихся книг. Дорогу я знал наизусть, огня решил не зажигать и, взвалив на плечи мешок, осторожно пошел вперед. Инна держалась за меня. Толкнув запевшую дверь, мы вступили в высокий нижний зал. Здесь было холоднее, и в глубоком мраке неожиданно проявлялся темным блеском стеклянный шкаф, или загораживало дорогу чучело зверя. Скрипели полы, и скрип уносился эхом в дальние комнаты и там стихал неясным вздохом. В отдаленном углу светилась полоска из трещины шторы в окне, и ровным воркующим шумом роптал невидимый вентилятор где-то под сводами потолка. Я нащупал перила широкой лестницы, ведшей наверх в картинную галлерею. Чугун ступенек заохал под шагами, словно предупреждал кого-то о нас. С площадки стало светлее — окна второго этажа были без ставень. Поворачивая, я почувствовал, как Инна резко вздрогнула, и сам невольно вздрогнул, обернувшись... Чья-то тень скользнула рядом у стены. Это было только зеркало и наше отражение. Вверху теплее и запах полотна и красок. Засинели квадраты окон. Переплели паркет паутиной лучей, растаяли пятнами на полу фонарные отблески. Вытянулась и белела у стенки мраморная фигура. Напомнила мне обо всем.
Прямо в зал выходила рабочая комната художников. Тяжелая плотная материя закрывала вход. Потом стеклянная дверь и опять занавеси. Мы вошли. Я добрался до окон и опустил длиннейшие глухие портьеры. Теперь можно было осветить. Нащупал включатель и сразу все ожило, засияло и загорелось сказочной роскошью.
— Устраивайтесь, Инна, я пойду взгляну, не виден ли свет из зала.
Вышел. Даже точки не пробивалось сквозь складки драпри. Я вернулся. Теперь нужно было затопить камин. Я достал за шкафом ворох изломанных подрамников, настругал сухих смолистых щепок и сложил на решетку костром. Огонь запылал порывисто и буйно, а я подкладывал в него куски обмерзшего каменного угля. Труба загудела, камин засмеялся теплом и дымом. Мы придвинули к нему громадные кресла, спавшие в белых чехлах, и погрузли в глубине подушек. На столик рядом я положил пистолет, предварительно подсыпав на полку щепоточку пороха. Комната давала убийственный контраст и с нашим настроением и со всем окружающим. Здесь хранилось то, что мы не выставляли в общие залы. И Сережа расставил и развесил все так, чтобы вещи делали комнату радостной и торжественной. Дивные итальянские копии Мадонн с картин Мурильо, Рафаэля и других мастеров, в пышных, горящих золотом, рамах дышали со стен. Мягкие, игривые акварели с Ватто, Фрагонара и Греза висели в простенках между мохнатыми панцырями персидских ковров, ленивых, величественных и загадочных, как создавший их Восток. Изящные статуэтки, воздушные, порхнувшие на пьедестале, разбросались на странных тумбочках и колонках. Наборы мебели разных старых стилей заняли отдельные уголки этой комнаты, а стоявшие зеркала то в белых овальных рамах, то в рамах из красного дерева, или просто зеркальные плиты с глубиною и холодом хрусталя бесконечно множили, смешивали и переливали игру многоцветных и вспыхивающих красок. На полу растянулись чудовищные белые медведи, и шкура тигра под венецианским столиком тепло дремала оранжевым, красным и черным мехом.
— Вот что, Инночка, — сказал я. — Я жалею, что не подумал об этом раньше... Вообразите, придут меня арестовать, или еще зачем, и найдут здесь, в музее... Тогда история со статуями может показаться совсем в ином свете... И тут же не только подозрение, прямая улика будет против нас — забрались, взломав окошко. Значит, и раньше так же забирались...
— Тогда мы погибнем... — подумав, сказала Инна, — как сейчас погибает брат. Мне только вас, Морозка, будет очень жалко...
— Знаете, — говорил я дальше, подвигая к огню чайник, — но зря погибать мне все-таки не хочется. А тут можно кое-что выиграть. Если действительно за мной придут, то этой штукой, — указал я на пистолет, — я избавлю себя от всех дальнейших перипетий. А на случай, напишу письмо, в котором расскажу, как я перебил эти статуи. Понимаете мой план? Виновник будет отыскан, а Сергей освобожден.
Инна слушала меня с возрастающим испугом. И когда я кончил, заслонилась ладонями.
— А ваше присутствие можно будет объяснить любовной историей. Просто, я назначил вам здесь свиданье. Я и вам напишу соответствующее письмецо, а вы его спрячьте в карман.
Я прервал ее негодующий жест.
— Иначе вы испортите всю игру. И вместо одного трупа их будет три!
Я жестоко выговорил это, потому что она содрогнулась и умолкла.
Под треск камина я писал эти нелепые признания, тщательно обдумывал подробности, объясняя поступок свой неприязнью к Букину, Жабрину и Сергею, и откровенно прибавлял, что письмом этим решил разоблачить себя только в случае неизбежной смерти.
К Инне записка была на другой бумаге, другим карандашом и была составлена в пошлых и пылких признаниях, в уговорах притти и в гарантиях полной тайны. Эту записку я нарочно измял и заставил Инну положить себе в карман.
— Слушайте, — я расскажу о Сергее, — сказала Инна, — расскажу об этих ужасных двух днях... Когда вас освободили, его перевели в тюрьму. И все, с кем я говорила, считают Сережу тяжелым преступником. У меня нет сил убедить их в противном... Иные относятся даже участливо, но... ко мне, а не к нему! Следователь в Чека прямо сказал: я понимаю ваши переживания, это и естественно, раз вы сестра. Но, кроме родственных ваших чувств, вы ничего не даете нам, никаких оправдательных материалов... И когда я вчера просила дать мне свиданье с Сергеем — он и слушать не хотел, а сегодня... мне сразу дали свидание и... в тюрьме говорили, что это самый нехороший признак. Видела я Сергея всего пять минут из-за двух решеток и, конечно, ни о чем переговорить не могла. Но ему удалось передать мне письмо через арестованного, который разносит передачу... Слушайте?! Что это?..
В зале за дверью словно шевельнулось. Шуркнуло, ворохнулось.
Погрозил пальцем Инне:
— Молчите!
Взял пистолет, взвел курок и шагнул за портьеру. Прислушиваясь, тихо выступил из-за занавеси. Никого. То же молчание и неподвижный свет переплетшихся нитей, исчертивших паркет голубой паутиной. Слышно, как бьется пульс, как, скрипнув, сядет на шнурах картина. Глухим щелчком отзовется с улицы одинокий выстрел — и опять тишина в пустоте.
И еще пустей, и еще черней и напряженней тишина эта там, внизу, в первом этаже.
Но вот что-то мягкое шлепнулось в темноте, перевернулось и мелко побежало. И писк.
— Крысы! — соображаю я и возвращаюсь в комнату. Перед прогорающим камином сидит в кресле Инна, откинула голову и, полузакрыв глаза, ждет. Золотые часы на шифоньере бьют хрустальным звоном два раза. Какая-то напряженность в этом сильном и ярком электрическом свете. Я сажусь на старое место, беру исписанные лоскутки бумаги и читаю письмо Сергея:
«Вот что, родные мои! Мне очень хочется вам написать, потому что просто это нужно. Я думаю, что мое положение скоро изменится. И это будет хорошо, потому что сейчас мне очень худо. Я как-то психически развинтился — не то, чтобы нервничаю или трушу. Нет. Но все мои мысли разбежались по разным направлениям. Одна думает об вас, другая — об одиночке, третья — о наступающей ночи и так далее и так далее, но каждая — свое. А воедино они уже не собираются и внутренне, чувствую, — я уже перестаю существовать. Вот как, оказывается, действует на людей то положение, в котором нахожусь и я. Теперь о другом — немного повеселее. Меня гнетет одиночка. И в особенности вечерний свет запыленной, очень тусклой электрической лампочки. В нем такая казенность и безучастность, что становится даже душно. Но и он в тысячу, в миллион раз лучше темноты! А лучше всего — это солнышко. Когда доживешь до него, — то так хорошо станет и тихо на душе, как бывало в детстве, в родной семье. А после обеда уже начинаешь думать о приближении вечера. Вчера, после поверки, мне предложили пойти на тюремный спектакль. Я очень обрадовался, когда услышал где-то за переходами коридоров дружный шум многолюдия. Спектакль был в большой двусветной зале бывшей тюремной церкви. В ней темно вверху, над потолком, а спущенный дуговой фонарь слепит пронзительным зеленоватым светом низ, обращая людей в бледных мертвецов. Странный концерт! Скамьи. На них мужчины и женщины. Женщины с одной стороны. Но ходят перед началом вместе, говорят, толкутся толпой. Толпа из шинелей и дубленых полушубков. Я замешался в народ и смотрел на сцену. Она сделана на приступочке упраздненного алтаря. Выше — занавес из старых мешков, еще выше — полукруглая арка, на которой золотом написано «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». С боку рампы мадьяр-часовой оперся на винтовку. Общий сдержанный ропот. Оживленные, пожалуй, но очень бледные люди. Ропот то повышается, то стихает. И так и кажется, что сейчас вот замолкнет шум и невидимый оркестр грянет комаринского. Или хор запоет херувимскую песню, а из-за мешков выйдет дьякон с кадилом, со стенными поклонами. Или визг какой-нибудь оглушит истерический, предсмертный. И во всех этих случаях толпа будет одинаково вздрагивать, ежиться и моргать запугаными глазами. И вздрогнул сам от зашевелившихся около плеч, от расступающейся ко мне дорожки. Подошел небольшого роста, остроголовый. Лица я не видел, смотрел на густо небритую щеку и крючок уса, свисавшего вниз. Человечек так властно взял меня за рукав, потянул его к полу, что я сразу примирился с этим принудительным знакомством. Он зашептал, не глядя на меня, но так, что я слышал его торопливое сообщение, пробежавшее точно ящерица. Он — поручик Б. и знает, что в коллегии Губчека вчера состоялось решение о нем, еще о ком-то и обо мне, Сергее Кирякове. Значит — этой ночью или следующей... Человек оторвался от моего рукава и исчез в толпе. Вот и все. Но откуда он мог меня знать? Кошмар»...
Я отбросил письмо, Инна привстала...
Да! Там, в глуби музея отдался хрустящий и длительный треск.
И пока я встал, пока тянул к себе со стола пистолет, что-то сыпалось, падало и ломалось. Потом стихло — умерло. Но так четко в могильную тишину ослепительно сверкавшей комнаты прошли эти звуки, такие определенно-необычные, что уж ни крысы, ни случайные шорохи причиной их быть не могли.
Осторожно, чтобы не щелкнуть, взводил я курок. Повернул выключатель, и мрак укутал меня, и я слышал, как бьется сердце у Инны и мое собственное. Ощупью раздвинул мягкие портьеры и стал у выхода в зал. И, чем дольше длилось молчание, тем отчетливей начинал понимать пустоту. И со всех сторон потянулись ко мне незримые нервные щупальцы беспокойства, еще не оформившегося в страх.
До этого не дошло.
Ясный металлический звяк и грызущий хруп, будто кусал кто-то сахар...
То, чего я хотел.
Инстинкт охотника горел во мне, когда вот уже скраден зверь, и секунда отдаляет от радости или горькой неудачи... Инстинкт мстителя за прожитые муки... Сознание, что на ниточке держится, слепой случайностью подсунутый выход из невыносимой тягости...
Посыпался на пол, будто песок или галька, и гулко хлопнул отвалившийся камень...
Сгибаясь, я шагнул, заглядывая в зал.
Неясная тень копошилась у площадки лестницы, не стесняясь, брякала железом.
Я ступил на шаткую половицу — старческим, раздраженным визгом запела она.
С грохотом отбросив тяжелое, кто-то прыгнул в чугун ступенек. Загудела лестница каскадом стремительного топота... В три прыжка я был у перил. Неизвестный мчался в темноте...
С оглушительным звоном вдрызг рассыпался подвернувшийся шкаф. Дикий вскрик и шум падения.
Это дало мне время сбежать по лестнице. Помню только ощущение крепко стиснутых зубов.
Неизвестный метался вдоль стенки, потерявши дверь. Его откинуло мое приближение. Он шмыгнул у меня под руками и бросился назад к лестнице. В темноте я не мог поймать его пистолетом.
Я слышал безумный стук по ступенькам, и только вверху, в полумраке, мелькнула согнувшаяся фигура.
Спуск!
Шибануло пламя, руку рвануло вверх, к потолку, и весь дом заполнил выстрел.
Топот. Женский крик. Грохот разбитых стекол.
И... тишина.
Задыхаясь, я выбежал наверх.
У проломанной рамы нагнулась Инна, ищет глазами на улице...
Обертывается порывисто:
— Он выбросился в окно!..
А дальше пошло все отливом, на убыль, тише и тише, и твердо стало у твердой грани...
Я не чувствую холода в одной куртке, без шапки и на морозе. Но тело дрожит еще мелкой рябью неулегшегося волнения.
Переброска короткими, заглушенными фразами.
Группой, кольцом обступили мы медленно шевелящегося на снегу человека. Дергает каблуками на льду тротуара. Виснет бессильная голова. И в лице сведенном, с закушенным ртом, я вижу Жабрина...
Все молчат.
— Вот он, вор-то, — говорит, наконец, Захарыч-сторож, — успокоился...
— Успокоишься, — замечает красноармеец, — как со второго этажа об тумбу хряпнешь...
Ночное небо, по-ночному, темные люди.
Мне становится холодно, дрожь пронизывает всего меня.
— Идемте скорей к телефону, — шепчет мне Инна, крепко цепляет плечо, — идемте скорее.
* * *
Я хожу по полю ночных событий.
Уже новый день, уже Инна чем свет убежала в тюрьму встречать Сережу, — его освобождают по телефонограмме из Чека.
И новым мне кажется наш музей, точно прошедшая ночь борьбой и кровью изгладила безобразный кошмар пережитого.
Ходим целой комиссией. Я и Букин и представители власти.
Найден наган, оброненный внизу. Наверху, у площадки, зеркало, разнесенное на куски моей пулей.
Из кремневого пистолета не хитро промахнуться!..
— Загрыз таки одну... — указывает член комиссии на лежащую статую.
Правая рука отъедена у нее кузнечными клещами.
— Это что?! — изумляется Букин.
В снежно-белом отколе гипса из предплечья у статуи выставился жестяной цилиндр.
Я вытягиваю трубку, похожую на пенал. В ней пергаментный сверток.
Букин хватает у меня из рук, развертывает и цепенеет в сияющем торжестве.
Нет для него ни истории прошедшей ночи, ни всего того, что смяло и на другие рельсы бросило его старческую, негибкую жизнь. Он — воскрес!
Он победно вздымает сверток и кричит:
— Господа, ассирийская рукопись найдена! Недаром преступник искал ее в статуях. Помните, — обращается он ко мне, — там, в бумаге, было указано «в правой?». Теперь мы, как люди науки, можем точно добавить — в правой руке!






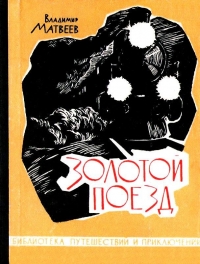
Комментарии к книге «Ассирийская рукопись», Максимилиан Алексеевич Кравков
Всего 0 комментариев