Александр Насибов, Алексей Азаров Авария Джорджа Гарриса (сборник)
Александр Насибов Авария Джорджа Гарриса
1
Морозным февральским утром 1945 года с одного из аэродромов севера Франции, уже освобожденного от оккупантов, стартовал бомбардировщик американской армии. Машина тяжело оторвалась от земли, набрала высоту и взяла курс на восток.
Бомбовые люки самолета были пусты. Самолет выполнял не совсем обычное задание. На борту его находились пассажиры – полковник Джордж Гаррис со своей секретаршей и радисткой Патти Джонсон.
Полковник дремал, откинувшись в кресле, которое для него наскоро укрепили в тесной и не оборудованной для пассажиров кабине. Он был плотен, рыжеволос. Красное лицо наискось – от левого виска к углу рта – пересекал шрам, который багровел, когда полковник волновался.
Сейчас шрам был словно налит кровью – Джорджу Гаррису очень не по душе была эта командировка. До сих пор счастье не изменяло ему, жизнь казалась легкой и приятной. Долгое время он занимал важный пост в материально-техническом управлении военно-воздушных сил США. Это был чудесный период, когда деньги сами плыли в руки. Компании не скупились на доллары, лишь бы получить побольше заказов на поставку всего того, в чем нуждалась военная авиация, и надо было только не зевать и не терять головы.
Гаррис так именно и поступал. Обширные связи в деловом мире, десятка два ловко обделанных дел позволили ему сравнительно быстро сколотить кругленькую сумму, которая обеспечивала приятное существование на долгие годы. Он сменил свой автомобиль на машину последней модели одной из лучших фирм; перебрался на жительство в квартал фешенебельных ресторанов и особняков; подумывал уже об обзаведении семьей – дело было только за выгодной партией. И тут – американцы и англичане высадились во Франции.
«Влип», – решил Гаррис, когда получил назначение в Европу. Однако там оказалось не так уж плохо. На Западе нацисты сопротивлялись только для видимости, и джипы со звездными флажками на ветровых стеклах быстро катили по гладким дорогам к сердцу страны.
Полковник Гаррис молниеносно разобрался в обстановке, которая сложилась в голодающей Нормандии. Несколько удачных спекуляций лежалыми консервами и такой же мукой сделали его текущий счет в банке еще более солидным. Теперь можно было подумать о вилле в Калифорнии и о моторной яхте!..
Джордж Гаррис был настроен тем более оптимистично, что все говорило о быстром окончании войны. Русские армии здорово били фашистов, совершали чудовищные скачки вперед, размалывая в муку, казалось, самые неприступные узлы сопротивления нацистов. Не надо было быть гением, чтобы понять, что такого натиска не могла выдержать ни одна из армий мира. Словом, все шло хорошо – и вдруг эта нелепая командировка! Начальству, видите ли, потребовалось согласовать несколько важных вопросов с русскими. И оно решило послать своего представителя не кружным, но безопасным путем, а прямо через территорию врага: так, мол, быстрее. Конечно, летели не генералы, и им было плевать на зенитки немцев!..
Гаррис вздохнул и тяжело заворочался в кресле. Он привычно полез в карман за трубкой, но вспомнил, что находится не на земле, и мысленно выругался.
В глубокой задумчивости была и Патти Джонсон. В памяти девушки всплывали картины довоенных лет, такие дорогие и хорошие картины… Вот она сидит за завтраком в кафетерии, а он только что вошел в зал и растерянно оглядывает занятые столики. Только возле Патти есть свободное место. Они встретились взглядами, и девушка невольно улыбнулась: ей сразу понравилось его хорошее открытое лицо с чуть насмешливыми глазами… Он подсел и представился: Дэвид Кент, конторщик. А вечером они встретились и долго бродили по городу. Дэвид проводил ее до дому, внимательно посмотрел в глаза и поцеловал… Знакомство Патти и Дэвида превратилось в дружбу, дружба – в любовь, хотя он никогда не произносил этого слова. Их встречи продолжались месяца три. А потом японцы напали на Пирл-Харбор и началась война. Кента призвали. Он писал, что стал летчиком. Вскоре в армию ушла и Патти. Они потеряли друг друга на долгие годы и вот сегодня встретились: Дэвид Кент оказался командиром самолета, на котором Гаррису и ей предстояло лететь к русским.
Патти закрыла глаза и счастливо улыбнулась. И в этот момент за окном вспух багрово-дымчатый пузырь и машину резко тряхнуло.
Пассажиры вскочили на ноги. Гаррис приник к окошечку, пытаясь разглядеть землю. Он видел, как оттуда протягивались к самолету дымчатые трассы. С каждой секундой их становилось все больше. Сбоку всплыла цепочка шрапнельных разрывов. Пилот прибавил газу и бросил машину в сторону, выводя ее из зоны обстрела. Но было поздно: один из снарядов разорвался под фюзеляжем, другой прошил крыло. Гаррис почувствовал резкую боль в левой руке. Самолет клюнул носом и накренился.
Из кабины пилотов радист Барт выволок безжизненное тело второго пилота лейтенанта Билдинга. Патти вскрикнула и метнулась к кабине.
– Кент, Кент! – воскликнула она. – Дэвид, вы живы?
Капитан Кент не повернул головы. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы выровнять машину и не дать ей свалиться в штопор. Патти были видны его побагровевшая от напряжения шея и ссутулившиеся плечи.
Действуя штурвалом и педалями, пилот поставил, наконец, машину горизонтально, но тут отказал правый мотор. Бомбардировщик стал снижаться.
Кент повернул голову.
– Придется садиться! – прокричал он. – Предупредите там, чтобы приготовились!
2
Широкая безлюдная равнина где-то на востоке Германии. С запада ее окаймляют развалины разбитого американскими бомбами городка, с востока – цепь невысоких холмов. Равнина была когда-то обширным картофельным полем. Теперь она поросла сорняком, до черноты высушенным морозом и ветром. Одинокая скала среди холмов только подчеркивала безжизненность пейзажа.
Капитан Кент старался посадить самолет на равнину. Бомбардировщик неуклюже ковылял в воздухе, с каждой секундой теряя высоту. Наконец машина брюхом коснулась земли, прочертила по полю широкую полосу и, достигнув одинокой скалы, остановилась; на мгновение она сохранила равновесие, а потом качнулась и подняла к небу израненное крыло.
С трудом отворилась дверца кабины. На землю спрыгнул капитан Кент, за ним капрал Барт. Оба они едва держались на ногах. Кент был ранен в бок, а капрал очумело мотал головой, на которой вспухла огромная шишка. Офицер и капрал вытащили из кабины лейтенанта Билдинга, стараясь не касаться его замотанной в одеяло ноги.
Последними покинули самолет Патти Джонсон и полковник Гаррис, поддерживавший наскоро перебинтованную руку.
– Барт, ваш парашют, живо! – скомандовал Кент.
Капрал вскарабкался в самолет, вытащил оттуда парашют, развернул его и разостлал у скалы. Он с Кентом отнесли к скале Билдинга.
– А теперь, – сказал командир экипажа, – взберитесь на скалу и как следует оглядитесь вокруг.
Барт отправился. К Кенту подошел Гаррис. Он был растерян, подавлен случившимся, испуганно озирался. Пистолет свой полковник передвинул поближе к животу, расстегнув кобуру.
– Это очень опасно? – хриплым от волнения голосом спросил Гаррис. – Как далеко немцы?
Кент пожал плечами:
– Странный вопрос… Кто может поручиться, что нас не схватят в ближайшие пять минут?
Обернувшись к Патти, пилот попросил ее развернуть свою радиостанцию, так как рация самолета оказалась разбитой осколком зенитного снаряда.
Радистка установила передатчик на камень возле скалы и стала готовить его к работе. Девушка волновалась, и руки плохо повиновались ей. Неловкое движение, и рация едва не упала. Гаррис охнул и грубо выругался. Патти вздрогнула и вновь чуть не свалила передатчик.
– Спятили вы, что ли? – прорычал полковник.
– Легче, сэр, – угрюмо проговорил Кент. – Поберегите нервы. Еще не наступило самое худшее.
Гаррис осекся и испуганно оглянулся. Патти взглядом поблагодарила летчика. Билдинг застонал.
– Что со мной, Дэвид? – спросил он слабым голосом.
У второго пилота была перебита нога, и Кент, стараясь смягчить выражения, объяснил ему это. Билдинг вновь потерял сознание.
Патти доложила, что станция к работе готова. Командир самолета стал вращать рукоять движка, радистка застучала ключом.
Гаррис подсел к Билдингу и, видя, что тот открыл глаза, сказал:
– Держитесь, старина. И мне порядком досталось от того проклятого снаряда. Держитесь. Сейчас Кент вызовет какую-нибудь машину, и все будет в порядке!
– Машину! – передразнила Патти. – Такси!
В этот момент в наушниках радистки раздалось попискивание морзянки. Кто-то отвечал на сигнал бедствия экипажа бомбардировщика. Закусив от волнения губу, Патти передала продиктованный Кентом текст аварийного сообщения и ориентир для посадки: три костра в ряд; садиться с севера, оставляя костры слева; осторожно – поле неровно!
Радистка переключилась на прием, с минуту слушала и устало сняла наушники.
– Все, – сказала она. – Это какая-то американская станция у русских. Приказано ждать самолет.
Девушка уронила голову на руки и заплакала. Кент сидел обессиленный, в каком-то оцепенении.
– Дело сделано, – бодро проговорил Гаррис, вывинчивая пробку фляги. – Не мешает выпить, Кент.
Он налил себе, выпил, потом наполнил стаканчик для пилота. Вытащив трубку и табак, Гаррис закурил.
– А ведь это отлично, что летят американцы, – сказал он, выпустив клуб дыма.
Кент пожал плечами:
– Не вижу разницы: кто! У меня одно желание – скорее унести отсюда ноги.
Гаррис покачал головой и поднял палец.
– Видите ли, я, конечно, верю русским. В сущности – они неплохие люди. Но спасать американцев должны только американцы. Русским же следует укрепиться в уверенности, что они обязаны нам многим, если не всем, а мы – только Господу Богу!
– Вы прекрасно знаете, что это не так.
– Не перебивайте… Этого многие не понимают. А это очень важно для того времени, когда не будет войны. Ведь теперь, Кент, недалеко и до развязки.
– Интересно, как думали вы, когда до развязки было далеко да и неизвестно было, какая наступит развязка?
Гаррис строго посмотрел на пилота.
– После того как в игру вступили русские, вопрос о том, какая будет развязка, для меня лично отпал. Остался лишь вопрос сроков.
– Тем более! – воскликнул Кент. – Хотя, впрочем, я не политик. За меня думают президент и мои командиры. И отлично, что это так. Ибо, когда обо всем начинаешь размышлять сам, то трещит голова.
– Сейчас надо быть политиком, парень. А вы молоды и не понимаете…
– Все только и делают теперь, что говорят о политике. И о русских.
И Кент рассказал полковнику о своей единственной встрече с русским. Это было в Штатах, на одном из северных аэродромов, где приземлилась советская военная машина, доставившая какое-то официальное лицо. Американские летчики тепло встретили своих русских коллег, потащили в ресторан. Советские летчики оказались отличными парнями – веселыми и общительными. Они до слез хохотали, глядя на выступавших на эстраде чечеточников-негров, потом пригласили их к столу. В ресторане поднялся переполох, но русским, видимо, было плевать на это. Они на славу угостили артистов, пожали им руки, подарили, как и белым, сувениры – звездочки или монеты, он не помнит точно что.
– Неграм! – воскликнул Кент в заключение своего рассказа. – И мне лично это очень понравилось!.. Вот и все, что я знаю о русских. Правда, мне известно еще, что они взяли на себя главную тяжесть в этой трудной войне. Не так ли?
Гаррис кивнул.
– А если это так, – продолжал Кент, – то с ними надо вести только честную игру.
– И раскрывать свои карты? – иронически улыбнулся Гаррис. – Ни один деловой человек не поступает подобным образом.
– В сделке – да. Но это – война!
– Сделка, война, – пожал плечами полковник. – Нет разницы. Война – я имею в виду военный союз – та же сделка.
– Значит, кончится война, кончится сделка?
– М-м, – замялся Гаррис. – Видите ли, хозяином послевоенного мира должна стать Америка. Боюсь, что русским не очень по душе такая перспектива…
Разговор прервал спустившийся со скалы Барт. Он доложил, что в пяти милях – дорога. По ней проходят немецкие грузовики. В районе посадки самолета ничего подозрительного не замечено.
Кент приказал капралу набрать сухой травы и веток для сигнальных костров, приготовить бензин и спички. Патти, уже успокоившуюся, он направил дежурить на скалу.
– Глядите в оба, Барт, – торжественно сказал Гаррис. – Не опоздайте с сигналом. За нами летят янки!
– Наши? – радостно воскликнул капрал. – О, все будет в порядке, сэр!
3
Стало темнеть. Кент подсел к Билдингу. Гаррис задумчиво прохаживался неподалеку. Вдруг он остановился и прислушался.
– Кент, – сказал полковник. – Кент, вы слышите что-нибудь?
Пилот встал.
– Как будто шум моторов… Какой-нибудь самолет.
– Держу пари, что это он!
– Что вы, полковник! Слишком рано.
Гаррис схватил Кента за руку.
– Глядите, – заорал он. – Глядите же! Вот он! И – совсем низко!
Теперь и командир корабля увидел идущий с востока самолет.
– Снижается, – продолжал кричать Гаррис, от волнения пританцовывая на месте. – Он садится, Кент! Бегите же!
Сомнений не было. Машина разворачивалась для посадки. Кент, все еще удивляясь тому, что она пришла так быстро, помчался по полю.
– Что случилось? – спросил Билдинг, открыв глаза.
– Пришел самолет, парень! Подумать только: не истекло и полчаса, а они уже прилетели. Черт, отыскать нас здесь без сигнала!.. Нет, это могли сделать только янки!
Тем временем самолет планировал на посадку. Гаррис видел, как он коснулся колесами земли, помчался, подпрыгивая, по полю и вдруг резко остановился. К машине спешили Кент и Барт. А из кабины навстречу им выпрыгнуло несколько фигурок.
– Я командир советского бомбардировщика, прибыл за вами.
– Глядите, Билдинг, – кричал Гаррис, размахивая здоровой рукой. – О черт, целуются! Нет, все это больше походит на хороший голливудский боевик! Клянусь, я расчувствовался, как мальчишка, и, кажется, сам обниму кого-нибудь из них!
Полковник был растроган. Он отвернулся и украдкой смахнул слезу. Потом он гордо выпрямился и обернулся, отыскивая радистку.
– Патти, – позвал он, – Патти, где это вы?
– Я здесь, сэр!
Патти слезла со скалы радостная, счастливая. Гаррис снисходительно улыбнулся ей.
– Ну, теперь все ваши страхи позади. Заберите мой реглан. Мы улетаем.
4
Через минуту в сопровождении Кента и Барта к Гаррису подошел высокий молодой человек в меховом комбинезоне и таком же шлеме. Он козырнул и представился:
– Капитан Пономаренко.
– Как? – переспросил Гаррис, делая шаг назад.
Летчик улыбнулся.
– Капитан Пономаренко. Так меня зовут. Я командир советского бомбардировщика, прибыл за вами.
Теперь Гаррис понял все. Он как-то вдруг обмяк, засуетился.
– Вот ранили меня и Билдинга, – сказал он жалобно. – И Кенту досталось…
– Не волнуйтесь, – успокоил его советский пилот. – Все будет хорошо. В нашем госпитале вас быстро вылечат.
– Да, да, – горячо подхватил полковник. – Вы славный парень, капитан!
Советский летчик увидел Патти и ласково кивнул ей.
– Девушка?.. О, теперь мы рады вдвойне!
– Но ведь радио приняли американцы? – воскликнула Патти здороваясь.
– Да, – подтвердил Пономаренко, – ваш сигнал был получен американской рацией, по которой согласовываются действия на этом участке вашей и нашей авиации. Мы как раз выполняли задание близ этого квадрата. Американцы связались с моим командованием. Я получил приказ взять вас. И вот мы здесь и очень рады оказать вам услугу. Это даже не услуга, а наш долг. Ведь мы союзники.
Пономаренко понравился Гаррису. Полковник похлопал русского пилота по плечу. Тот несколько смутился, полез в карман за папиросами. Кент раскрыл портсигар и предложил сигареты. Гаррис протянул летчику трубку и кисет, посоветовав отведать настоящего кепстена.
– Спасибо, – сказал Пономаренко, вытаскивая коробку. – Со мной московские папиросы. Попробуйте их.
Гаррис и Кент взяли по папиросе. Полковник долго вертел папиросу в руках, рассматривая странный картонный мундштук, прежде чем решился закурить. Папироса ему понравилась.
– Гм, – проговорил он, – московские… – И неожиданно спросил: – А капитан э-э… большевик?
– Да, – ответил пилот. – Я член Коммунистической партии.
Наступила пауза. Потом Гаррис заторопился: надо лететь, они и так потеряли много времени зря; право, следует поторопиться!
Пономаренко объяснил, что при посадке повреждено шасси – в сумерках он не заметил камня. Гаррис вздрогнул, и шрам на его лице проступил темной, почти черной полосой.
Заметив, что американец волнуется, Пономаренко поспешил успокоить его: авария небольшая, ее уже исправляют. Полчаса, и все будет в порядке.
Настроение Гарриса упало. Он насупился, что-то проворчал, поплелся к скале и уселся на разостланное у ее подножья пальто. Русский и американский пилоты устроились неподалеку и вновь закурили.
– Давно летаете, капитан? – спросил Кент.
Советский летчик объяснил, что с самолетом познакомился только в войну, а до этого в армии не служил. Кент осведомился о том, как выполнено сегодняшнее задание. Пономаренко оживился.
– Этот завод мы искали две недели! Там делали жироскопы к самолетам-снарядам и торпедам. И сегодня завод перестал существовать.
– Надо полагать, что славно поработали ракетчики? – вставил тоном знатока Гаррис.
– Нет, – сказал русский пилот. – Мы просто рискнули спуститься пониже. И у немцев сдали нервы. Внезапно по нас был открыт сильный огонь. Он-то и позволил установить местонахождение отлично замаскированного объекта. Рискнули и выиграли!
– Выиграли, – буркнул Гаррис. Его раненая рука горела, и это ухудшало и без того скверное настроение полковника.
Кент с любопытством глядел на своего русского коллегу. Вот только… И неожиданно для самого себя он вдруг спросил:
– Правда ли, что в Советском Союзе всякий, кто женится, должен получить разрешение властей?
Пономаренко расхохотался.
– Вы напрасно смеетесь, – с укоризной проговорил Гаррис. – На вашем месте я бы…
– Смеюсь потому, что этот вопрос мне уже задавали, и не один раз!
– Вот видите!
Пилот оборвал смех.
– Мне и смешно и печально. Такие же нелепые вопросы нам часто задают ваши соотечественники, приезжающие в Советский Союз. Но – только в первые дни. А потом они стыдливо просят извинений. Но это не меняет дела. Нелепые слухи распространяют про нас американские газеты. Чего они добиваются?
– Чего добиваются? – спросил Гаррис. Он приподнялся на локте и в упор смотрел на советского летчика. – О, они добиваются многого. Они хотят, чтобы в вашей стране пышным цветом расцвели демократия и прогресс. Перед вами широко раскрывается сокровищница американской культуры.
Пономаренко нахмурился.
– Мы не все можем перенять у американцев, – сказал он.
– Что же именно? – удивился полковник.
– Многое. Например, электрический стул, суды Линча, гетто и резервации! – Он помолчал и твердо заключил: – Да, и еще многое другое… Простите, пойду взглянуть, как идет ремонт шасси.
Пономаренко ушел, и Патти с негодованием обернулась к Гаррису.
– Вы напрасно затеяли этот разговор, – решительно сказала она. – Вы обидели этого славного парня!
– Не вашего ума дело, Джонсон, – огрызнулся Гаррис.
– Я думаю, что Джонсон права, сэр, – сказал Кент. – А газеты могли и соврать. Они так часто печатают ложь.
– Иной раз нужна и она, Кент!
– Оставьте! Ложь всегда ложь и всегда отвратительна.
Кент чувствовал себя очень плохо. С каждой минутой все больше давала знать о себе рана – он потерял много крови. Внезапно летчик качнулся и упал бы, не поддержи его Патти. Девушка усадила Кента на камень, расстегнула воротник, потерла виски. Вскоре он пришел в себя.
– Не волнуйтесь, – сказал Кент, слабо улыбнувшись. – Ничего страшного… уже прошло.
– Я так перепугалась!..
– Перепугались… Вы любите меня, Патти?
– Не надо сейчас об этом…
– Нет, – сказал Кент, – вы должны ответить. Скоро мы расстанемся. Кто знает, выпадет ли мне снова счастье везти Джорджа Гарриса и его секретаршу Патти Джонсон!.. Вы должны дать мне слово, Патти!
– Боже мой, сейчас, Дэвид?
– Да. Вы думаете я не начал бы этого разговора раньше? Но легко сказать – раньше. Конторщик с перспективой стать старшим конторщиком – и все. А теперь я офицер, пилот. Еще год-другой, и у нас будет достаточно денег, чтобы устроить себе гнездо – пусть на первое время. Кроме того, после войны все будет иначе. Так говорил президент. Так пишут газеты… Ну, Патти? Вы молчите. Быть может, у вас есть другой?
Девушка покачала головой.
– Я люблю только вас, Дэвид…
Вернулся Пономаренко. Он сообщил, что дело идет к концу. Машина скоро сможет подняться в воздух.
– Идите сюда, капитан, – позвал его Гаррис. – Так, садитесь.
Полковнику хотелось сказать что-нибудь приятное за ту хорошую весть, которую принес ему этот симпатичный русский пилот, пусть немного резкий и самонадеянный. И он заявил, что Пономаренко скромничает, не считая свой прилет за американцами услугой. Это не так. Это услуга. Больше того, это подвиг! Так же хорошо ведут себя на фронте многие советские воины, и американцы поэтому весьма ценят своих союзников.
– Да, да, – сказал Гаррис в заключение. – И в подтверждение этого я хочу вам рассказать об одном письме. Только вчера я получил его из Штатов. Пишет мой старинный друг Арчибалд Дермонт. Лет сорок назад он начал со стрижки овец в Иллинойсе. Теперь Арчи – владелец крупной фирмы. Он член конгресса и весьма уважаемый человек… Словом, то, что у вас называется «капиталистическая акула» или что-то в этом роде…
Пономаренко улыбнулся.
– Что же пишет ваш друг? – с любопытством спросил он.
– О, Дермонт в курсе всех дел Белого дома. И он утверждает, что теперь со всей уверенностью можно говорить о решительном повороте во взаимоотношениях американцев и русских.
– Время покажет, – неопределенно заметил пилот.
– Нет, нет, он прав!.. И Советы должны по достоинству оценить ту гигантскую и бескорыстную помощь, которую им щедрой рукой шлет преданный заокеанский друг… Вы понимаете меня?
– Как вам сказать, – Пономаренко помедлил, потом решительно вскинул голову. – Вот прибыл один пилот из Мурманска. Он рассказывает: американский транспорт доставил туда зерно. Выгрузили его и… сожгли. Зерно было заражено страшным вредителем.
Гаррис развел руками.
– Недосмотр, надо полагать…
– Будем надеяться, что так…
– И – к делу! Так вот, Дермонт утверждает, что у нас очень положительно оценивают перспективы нашего послевоенного сотрудничества. Ваша страна – это такое широкое поле деятельности для предприимчивых людей с деньгами!
– «Поле деятельности», – усмехнулся Пономаренко. – Хотелось бы, чтобы у вас по достоинству оценили все то, что делает и будет делать наш народ для всего человечества. Вот что могло бы лечь в основу нашей прочной дружбы. А сейчас…
Гаррис вскочил с места. Он хотел что-то возразить, но Пономаренко жестом остановил его.
– А сейчас – вот вам пример. Вообразите: стоит дом, в нем два этажа, и каждый из них занимает семья. Шайка бандитов ломится в дверь. Может вас удивить, что квартиранты верхнего этажа спешат на помощь живущим внизу? Ведь надо быть идиотом, чтобы не сделать этого. Победив внизу, бандиты устремятся наверх. И разве не смешно такую помощь выставлять как некое геройство? Это даже не помощь. Это – самооборона!
– Из этого я заключаю, что вы плохо знаете американцев, – торжественно сказал Гаррис.
Патти горячо воскликнула:
– Да, да, – не все такие, как… Дермонты!
Пономаренко пожал плечами.
– Мы и не думаем так. Но ваши Дермонты еще сильны.
– Оставьте Дермонтов в покое и бросьте ваши пропагандистские разговоры, – грубо прервал его Гаррис. – Право, вы рассуждаете, как марксистский теоретик.
– Я кандидат наук. Война – стал летчиком…
– Я так и знал, что имею дело с большевистским агитатором!
– Полковник! – с упреком заметил Кент.
Гаррис досадливо отмахнулся.
– Оставьте меня! Я знаю, что говорю. Этот пилот не очень хорошо воспитан. И, будь это в другой обстановке, я бы…
– А вы не стесняйтесь и здесь, – ответил Пономаренко.
Русский капитан и американский полковник несколько секунд смотрели друг другу в глаза.
Тяжелую паузу прервал второй пилот советского бомбардировщика. Подойдя, он остановился в стороне и кивком подозвал своего командира. После короткого разговора летчики поспешно отправились к самолету.
Гнев Гарриса как рукой сняло. Он приподнялся на локте и с тревогой смотрел им вслед. Гаррис видел, как летчики подошли к машине, склонились над шасси. Потом один из них вскарабкался в самолет.
– Кент, – взволнованно сказал полковник, – там что-то стряслось. Сдается мне, что это с проклятым шасси…
Был встревожен и Кент.
– Если понадобится, они скажут сами, – мрачно заметил он.
– Нет, нет, – закричал Гаррис. – Глядите, теперь и второй полез в самолет! – Он чуть не задохнулся от пришедшей ему в голову мысли. – Они хотят улететь без нас, Кент!!!
Гаррисом овладел панический страх. Он вскочил на ноги и схватил реглан.
– Я пойду туда сам!.. Я выложу им всю правду! Как подло то, что они собираются совершить! Я не пожалею долларов!.. Идемте, Кент!
Гаррис осекся. Летчики показались из машины, спрыгнули на землю, и один из них зашагал к скале. Это был командир корабля. Подойдя, он сказал:
– Поломка шасси оказалась серьезнее, чем можно было предположить раньше. Шасси исправили, как могли. Но это недостаточно надежно. Оно не выдержит всех… Мы уже радировали. Сюда идет вторая машина. Несколько человек останутся и улетят на ней…
У Гарриса задрожал подбородок. Сбылись его предчувствия! Он знал, что все это не кончится добром. Гаррис резко обернулся к Кенту.
– Вы слышали? – с горечью спросил он. – Ну, что теперь скажете?
Прежде чем Кент смог что-нибудь ответить, Пономаренко объявил:
– Остается часть моего экипажа. Мы здоровы – вы ранены…
Гаррис отшатнулся от пилота. Сознание, разум полковника отказывались воспринять то, что услышали его уши.
– Идите в самолет, – распорядился Пономаренко.
Обернувшись к сопровождавшим его двум сержантам, он приказал им взять раненого.
5
В эту минуту дежуривший на скале капрал Барт заметил серо-зеленые фигурки людей, перебегавшие по полю. Это был немецкий отряд, спешивший к месту посадки самолета. Между ним и машиной находилась скала, и солдаты уже приближались к ней.
– Немцы! – крикнул Барт, скатываясь со скалы.
Тотчас же раздалось несколько автоматных очередей. Члены экипажа Пономаренко – сержанты Мельников и Волк – кинулись к скале и открыли ответный огонь. Командир советского самолета и Кент выхватили пистолеты. Барт присоединился к русским сержантам. Только Гаррис и Патти стояли на месте, будто окаменев.
– Скорее в машину! – крикнул им Пономаренко.
Прибежал четвертый член экипажа советского бомбардировщика, стрелок-радист Джавадов. Он доложил командиру, что дорога к самолету еще свободна. Если задержать немцев, можно взлететь!
Капитан Пономаренко приказал Джавадову отнести в машину раненого лейтенанта Билдинга. Здоровяк Джавадов легко поднял американца и побежал к самолету. Гаррис, словно придя в себя, вдруг засуетился, оглянулся по сторонам, схватил за руку Патти и засеменил за Джавадовым.
С каждой секундой перестрелка разгоралась, напряжение боя нарастало. Вот несколько фашистов, скрытно пробравшись по неглубокой канаве в сторону, кинулись к обороняющимся с фланга. На их пути оказался сержант Мельников. Двух врагов он скосил очередью из автомата, с третьим схватился врукопашную. Они катались по земле, сцепившись в тесный клубок. Гитлеровец оказался серьезным противником. Его словно сделанные из железа пальцы сдавливали шею сержанта Мельникова. Тот хрипел в отчаянных попытках освободиться. Рука Мельникова нащупала камень, и в следующее мгновенье советский сержант обрушил на голову врага страшный удар. Пальцы фашиста разжались. Мельников вскочил на ноги, оглянулся. В стороне капитан Пономаренко отбивался от двух наседавших на него солдат. Мельников поспешил на помощь командиру, застрелил одного. Но другой солдат изловчился и взмахнул штыком. Вперед метнулся капитан Кент, и удар пришелся в его левую руку. Американский летчик упал.
– В машину его! – приказал Пономаренко.
Сержант Волк поднял Кента и побежал к самолету.
Бой продолжался. Примчался Джавадов. Он принес несколько гранат и с ходу швырнул одну из них далеко вперед. Грохот разрыва смешался с нарастающим ревом моторов. Над скалой пронесся взлетевший бомбардировщик. Капитан Пономаренко на секунду приподнялся, провожая глазами свою машину…
Немцы, их было до взвода, замкнули кольцо. Положение обороняющихся стало критическим. Прекратил стрельбу раненный в шею сержант Мельников. В следующую минуту был подбит капитан Пономаренко. И только сержант Джавадов продолжал вести бой. Он действовал автоматом, расстреливая последний диск. Рядом с ним шлепнулась граната на длинной деревянной ручке. Секунду она вертелась, а потом взорвалась. Джавадов встал, тяжело шагнул вперед и рухнул на тело своего командира.
6
Капитан Пономаренко открыл глаза. Он сидел, прислоненный к скале, против пожилого худощавого гауптмана. Немец курил и внимательно наблюдал за его лицом, словно изучая его.
Пришел в себя Джавадов. Он был невредим, но оглушен. Секунду кавказец соображал, а потом оскалил зубы и, крича что-то по-азербайджански, кинулся на гауптмана. Стоявший рядом с офицером солдат ударил Джавадова, и тот снова упал.
Гауптман сделал знак низкорослому мрачному лейтенанту с изрытым оспой лицом. Тот скомандовал. Солдаты поволокли Джавадова и Мельникова куда-то в сторону. У скалы остались только офицеры, включая пленного Пономаренко.
Гауптман приказал пилоту встать. Тот исполнил требуемое.
– Кто вы такой? – спросил немец. – Какая часть, сколько машин, где базируетесь, почему потерпели аварию?
– Это не моя машина, – пожал плечами Пономаренко, поглядев в сторону разбитого американского бомбардировщика.
– Бросьте врать! – прикрикнул на него гауптман.
– Я говорю правду. Там опознавательные знаки. Вы же офицер – разберитесь.
Гауптман обменялся взглядом с рябым лейтенантом. Тот отправился к машине и, вернувшись, что-то сказал начальнику.
– А где люди с американского самолета? – спросил гауптман у Пономаренко.
– Улетели.
– На чем?
– На моем самолете. Мы спасли их.
– А сами… остались здесь?
Офицер вытащил пистолет, приставил его к груди пленного и вновь задал вопрос об экипаже американской машины. Пономаренко молчал и прямо глядел в глаза гауптмана. Тот понял, что русский говорит правду. Но предоставить машину другим, а самому оказаться в таком положении!.. Фашистский офицер никак не мог понять, чем, собственно, можно объяснить такой поступок? По его требованию Пономаренко рассказал о происшествиях последнего часа. Офицер слушал, не перебивая, изредка бросая на русского испытующие взгляды. Потом он приказал своему помощнику удалиться, закурил сигарету и дал закурить Пономаренко.
– Поговорим немного, – сказал гауптман, присаживаясь на камень. – Поговорим и будем откровенны. Прежде всего: убивать вас я не собираюсь… Но раньше, чем начать наш главный разговор, я хотел бы спросить…
Капитан Пономаренко тревожно посмотрел на немца.
– Что вам от меня надо?
– Вопросы задаю я. Ваше дело отвечать. Вы… хорошо знаете американцев?
Пономаренко пожал плечами.
– Они в союзе с нами. Помогают нам… правда, не очень хорошо…
Гауптман усмехнулся.
– И это все?.. Мало. Я знаю о них гораздо больше. Мой отчим – владелец одного химического концерна. Не будем называть имен, но очень крупного концерна. Три десятилетия назад концерн установил деловой контакт с одной американской фирмой. Тоже крупной и тоже химической. О, мы стали друзьями. И я могу с удовлетворением сообщить, что наши деловые связи не ослабли даже во время этой войны. Нужны факты?.. Извольте! Последние партии наших фау, взрывающиеся сейчас где-нибудь в Лондоне, и наши торпеды, которые так славно расправляются с судами союзников, начинены новой чудовищно сильной взрывчаткой, изобретенной американскими химиками. Ее передали нам американские дельцы. Ну?..
Гауптман ждал, что русский пленный будет возмущаться, негодовать, но Пономаренко остался равнодушен. Помедлив, он спросил:
– А сколько таких же ценных патентов переправили через океан германские промышленники? Или я ошибаюсь, и американцы помогали вам бескорыстно!
Гауптман молчал. Этот русский пилот словно прочитал его мысли. Американцы, будь они прокляты! Сколько ценностей выкачали они из бедной Германии! Скольких немецких промышленников обобрали и пустили по миру без нитки! Патенты… Разве можно подсчитать и оценить все то, что уплыло к янки по всевозможным картельным и иным соглашениям, которыми хитрые и коварные заокеанские дельцы опутали простодушных и доверчивых германских фабрикантов и заводчиков!..
Немецкий офицер гневно стиснул челюсти и скрипнул зубами.
– Мы ненавидим их!.. Немногим меньше, чем вас, русских. Американцы!.. Они хотят положить в карман весь мир и ничего не оставить другим… А вы – глупец. Разве кто-нибудь из так называемых союзников русских сделал бы для вас то, что сегодня совершили ради них вы?!
Неподалеку раздались выстрелы, крики «хальт!». Пономаренко и гитлеровский офицер видели, как солдаты метнулись куда-то в сторону, стреляя и крича, окружили кустарники и выволокли оттуда человека. Ему скрутили за спиной руки и пинками заставили идти к скале.
– Ведите сюда! – приказал гауптман.
Вскоре задержанный был доставлен. Пономаренко вскочил на ноги в глубоком волнении. Перед ним, истерзанный, избитый, с залитым кровью лицом, стоял капитан Кент! Он встретился взглядом со своим русским товарищем и раздвинул в горькой улыбке разбитые вспухшие губы.
– Я не мог улететь без вас, дружище… Хотел помочь. Чертовски не повезло. Можете вы простить меня?..
– Кто это такой? – спросил гауптман.
Кент молчал. Он, не отрываясь, глядел в лицо Пономаренко.
– Кто вы? – заорал гитлеровец.
Кент шевельнул плечом, но снова не удостоил ответом немецкого офицера.
– Американец, – объяснил один из солдат. – Подкрался и пытался стрелять.
Пономаренко подошел к Кенту, обнял его, заботливо вытер с лица кровь. Потом он обернулся к гауптману.
– Как видите, разные бывают американцы… Не так ли?
Кента увели. Гауптман продолжал прерванный разговор.
– Вы, – сказал он, вновь усаживаясь на камень, – будете слушать меня внимательно, если, конечно… хотите жить. Вы мне нужны, капитан, как, впрочем, и я вам. Налицо обоюдная заинтересованность, то есть то, что требуется для сделки. Я и предлагаю вам сделку. Вы получаете свободу и можете убираться к своим. Больше того, я даже помогу вам перейти линию фронта. Ну, согласны?..
Пономаренко не ответил, и гауптман по-своему истолковал его молчание.
– Я думаю, что согласны. Какой дурак захочет умереть, вместо того чтобы жить! Но и вы должны оказать мне услугу. Я ничего не делаю даром… Так вот, будем откровенны. Немцы проиграли войну. Скоро все кончится, я понимаю это. Несомненно, русские займут всю Германию. А я хочу жить, и жить хорошо. Вы должны помочь мне в этом. Вы явитесь к своему командованию и подробно расскажете об обстоятельствах вашего чудесного спасения. Вы не пожалеете для своего рассказа красок. Моя фамилия – Векслер, Гюнтер Векслер. Запомните хорошенько. И – не беспокойтесь: никто из тех, что попали вместе с вами в плен, не смогут вам повредить. Эти люди будут уничтожены здесь же, при вас. Давайте руку!
Пономаренко несколько секунд сидел неподвижно. Потом он встал, стиснул кулаки и, наклонившись вперед, двинулся на Векслера. Гауптман попятился, расстегивая кобуру.
Сделав несколько шагов, пилот остановился. Силы оставили его. Он зашатался и опустился на землю.
7
21 апреля 1945 года советские войска начали бои за Берлин. В эти дни в своем бетонном логове под зданием новой имперской канцелярии принял яд Адольф Шикльгрубер – Гитлер.
30 апреля в 14 часов 25 минут над зданием берлинского рейхстага взвилось алое Знамя Победы.
2 мая пала столица фашистской Германии, в боях за овладение которой Советская Армия взяла в плен свыше 300 тысяч немецких солдат и офицеров.
8 мая в одном из пригородов Берлина представители немецкого главнокомандования подписали акт о безоговорочной капитуляции. А на следующий день в столице братской Чехословакии – Праге, освобожденной советскими войсками, прогремел последний выстрел Второй мировой войны.
Наш народ, которым руководит Коммунистическая партия, одержал величайшую в истории человечества победу. Закончилась Великая Отечественная война.
В этот день по улицам одного небольшого городка, расположенного на западе Германии, в сверкавшем лаком автомобиле ехал полковник Джордж Гаррис. Его лицо, осанка, блеск глаз, парадная форма, многочисленные орденские ленточки на груди – все это свидетельствовало о преуспевании и благополучии, об отличном настроении. Еще бы! Только несколько дней назад он получил это новое чудесное назначение, став военным комендантом не очень крупного, но весьма важного промышленного района Германии. Да, черт возьми, его звезда разгорелась ярко и все выше поднимается на этом небосводе бизнеса и славы! Гаррис довольно ухмыльнулся и, расправив плечи, огляделся вокруг.
Машина шла по центральной улице, сплошь застроенной высокими, в дымчато-черной штукатурке зданиями. Нижние этажи домов, занятые конторами и магазинами, были зашторены гофрированным металлом – деловая жизнь города еще не была восстановлена.
Автомобиль обгонял группы немцев. Они несли какие-то кошелки, свертки; иные катили груженые детские колясочки. Военный комендант выехал к центральной площади города и тут понял, куда направлялись жители. На площади стояла толпа. Здесь была организована барахолка и шел оживленный торг. Американцы обменивали пачки сигарет, консервы и желтые коробки со стандартными продовольственными пайками на различные вещи, отдавая предпочтение часам, фотографическим аппаратам и золотым безделушкам. Голодные немцы были сговорчивы, и коммерсанты делали неплохие дела.
К площади подкатывали виллисы и доджи, из которых выпрыгивали все новые группы предприимчивых спекулянтов.
Гаррис усмехнулся. Каждый заботится о своем бизнесе, как может. Такова природа янки: при любых обстоятельствах они остаются деловыми людьми. И этим только можно гордиться.
На следующей улице два изрядно подвыпивших солдата тащили в дом какую-то девушку, визжавшую и отбивавшуюся. Парни в лихо сдвинутых набок пилотках хохотали и шаг за шагом преодолевали сопротивление молодой немки.
Гаррис кашлянул и отвернулся. В радостные дни, подобные тем, какие переживает сейчас каждый американец, не следовало вмешиваться в такие дела. К тому же ничего с этой девчонкой не стрясется. А солдаты заслужили это маленькое развлечение.
Машина въехала в широкие позолоченные ворота, прошуршала шинами по аллее и затормозила возле большого красивого дома. Полковник выбрался из автомобиля и взошел по ступеням крыльца в просторный холл. Здесь, перед массивной темной дверью, сидел капрал с глазами навыкате – будто он был чем-то испуган. Капрал вскочил, с грохотом свалив стул.
– Что нового, Динкер? – спросил Гаррис.
Капрал Динкер доложил, что все в порядке, если не считать небольшого происшествия: возле колонны боевых машин задержан немец.
– Немец? – переспросил Гаррис. – Давайте его сюда.
И он прошел в кабинет. Это была большая, отлично меблированная комната. Дальний ее угол занимал массивный письменный стол с таким же креслом. Возле одного из окон стоял столик с радиостанцией, за которым работала Патти Джонсон.
Гаррис круто обогнул стол и с размаху опустился в кресло. Патти подала ему расшифрованную телеграмму. Она начиналась словами: «Военному коменданту», и Гаррис дважды перечитал их, крякнув от удовольствия. В самом деле, это не шутка – быть военным комендантом района, в котором сосредоточено столько заводов, рудников и прочих приятных вещей! Повозиться здесь годик, другой, не потратить времени зря, и потом… Предвкушая это «потом», Гаррис зажмурился от удовольствия и что-то замурлыкал, отчего сделался похож на огромного рыжего кота. Затем он открыл глаза и оглядел стоящую перед ним радистку.
– Ого! – сказал Гаррис. – Вы принарядились сегодня, девочка! Счастлив тот, кто подцепит такую жену. Вы не думаете еще о подобных вещах? Война окончена, и теперь каждый может позаботиться и о себе.
Патти печально опустила голову.
– Вы все еще не можете забыть того капитана, все еще верны ему? – воскликнул Гаррис. – Конечно, жаль Кента, но – что делать? Его давно нет в живых. Господь принял душу этого храброго пилота.
Полковник вздохнул и возвел очи горе. Патти стояла, готовая расплакаться. В эти дни все празднуют победу. Такая радость у каждого. А она!.. Кент, Кент, как любила его Патти! Какой это был преданный друг… Ей очень жаль и того русского – Пономаренко с его экипажем, мужественных русских воинов, настоящих рыцарей…
Девушка не выдержала, поднесла платок к глазам и, сгорбясь, отошла к окну.
Стало не по себе и полковнику. Он тяжело завозился в кресле, зажег трубку, кашлянул. Все-таки много горя причинили людям эти нацисты. Но мертвых не воскресишь, а живые должны жить.
– Да, должны жить, – проговорил Гаррис вслух. – Патти, советую вам жить. Идите и постарайтесь развеселиться. Я не терплю печальных лиц.
Патти вышла из кабинета. Солдат ввел задержанного. Гаррис с веселым презрением посмотрел на немца. Это был молодой человек в поношенной пиджачной паре, с невыразительными, словно оловянными, глазами и стертым лицом.
– Кто вы такой? – спросил Гаррис.
Немец молчал.
– Выкладывай! – заорал полковник. – Или ты думаешь, что у меня есть время возиться с каждым паршивым немцем!
– Я хотел бы предложить свои услуги, – робко проговорил арестованный.
– Что он сказал? – озадаченно спросил Гаррис.
Солдат вытянулся.
– Я так понял: он хочет служить нам, сэр.
– Так… – Гаррис помедлил. – А ну, обшарьте его карманы!
Солдат ощупал задержанного.
– Ровным счетом ничего, – сказал он.
– Это и подозрительно. Искать лучше!
– Герр полковник, – торопливо заговорил немец, – я имею предложение… Я честный немец и хотел бы… мне сказали, мы можем рассчитывать на хороший прием. Я окажу услугу…
– К черту твои услуги! – оборвал его комендант.
Солдат вдруг стащил с арестованного пиджак.
– В подкладке что-то хрустит… Ага, вот!
И, вспоров шов пиджака, он вытащил бумагу.
Гаррис внимательно ее прочитал.
– Так, – сказал он зловеще, – значит, честный немец?
Вошел капрал Динкер.
– Вы суетесь не вовремя, капрал, – недовольно сказал Гаррис.
– Но вас спрашивают двое, сэр… Кажется, их зовут мистер Стэнхоп и мистер Кей.
Гаррис вскочил на ноги.
– Стэнхоп и Кей! – вскричал он в сильнейшем волнении.
– Да, сэр.
– Где же они?
– Возле часового. Прикажете пропустить?
Полковник схватился за голову.
– Вы заставили ждать этих джентльменов? О, какой же вы идиот, Динкер! Зовите!.. Пригласите их!
Капрал метнулся из комнаты. Гаррис поправил перед трюмо мундир и пригладил волосы. Отворилась дверь, и он, протянув вперед руки, поспешил навстречу двум посетителям в светлых пальто и шляпах.
– Здравствуйте, Гаррис, – густым басом проговорил высокий и очень полный американец, румяный и седоволосый.
– Бог мой, мистер Стэнхоп! Это вы? Как я рад, какую вы оказали мне честь!
– Здравствуйте, дружище, – сказал другой гость.
Гаррис на секунду оставил Стэнхопа.
– И вы, Кей!.. Нет, провалиться мне на месте, если это не сон!
Гаррис был в восторге от встречи. Он суетился вокруг гостей, собственноручно принял их пальто и шляпы.
Через минуту все трое сидели в креслах, расставленных вокруг низкого полированного столика. Гаррис раскрыл ящик с сигарами, предложил Стэнхопу и Кею.
– Нет, – сказал он, зажигая спичку, – не верится, что вы – и вдруг здесь, в этой дыре!
– Давненько мы не виделись, – задумчиво проговорил Стэнхоп.
– Два года! И я скажу: это срок!
– Срок, но вы – словно законсервированы, – заметил Кей.
– Еще бы, – усмехнулся Стэнхоп, оглядывая кабинет, – здесь совсем недурно.
– И даже очень недурно, – подтвердил Кей. Он бросил взгляд на молчаливо стоящих в своем углу немца и солдата. – Ладно, кончайте скорее с вашим делом. У нас не очень много свободного времени.
– Только секунду, – воскликнул Гаррис. Он взял со стола найденную у немца бумагу и подошел к арестованному.
– Так, значит, честный немец? – с угрозой проговорил он. – И даже после того, как я обнаружил эту бумажку? Получай, каналья!
И Гаррис сильно ударил немца, потом еще и еще.
– Ловко, – сказал Стэнхоп.
Гаррис оглянулся на гостей, оценивая произведенное впечатление. Гости были довольны.
– Ловко, – повторил Стэнхвп. – Коммунист?
Гаррис заглянул в бумажку.
– Обершарфюрер СС Макс Штиммель! А прикидывался овечкой!
– Я хотел сказать, – начал было немец.
– Молчать, – заорал Гаррис. – В тюрьму его! И смотреть получше!
Солдат вытолкал задержанного из кабинета.
Вошла Патти. Кивнув сидящим, она обратилась к Гаррису:
– Я могу работать, сэр?
– Да… то есть… – Гаррис вопросительно посмотрел на гостей. – Это радистка Джонсон. Она не помешает, если немного постучит там, в углу?
Стэнхоп кивнул. Патти прошла к аппарату. Гаррис подсел к гостям.
– Ну вот, – улыбнулся он. – Теперь я к вашим услугам. Расскажите же, как там в Штатах?
– В Штатах отлично, – сказал Стэнхоп. – Там не может быть плохо.
– Еще бы! – воскликнул Гаррис. – Война победно завершена. В Европе нет больше нацизма. И все видят, что это заслуга янки! Почему в Штатах должно быть плохо!
– А как здесь? – спросил Стэнхоп.
Гаррис выпрямился в кресле и выпятил грудь.
– Здесь мы уже сделали свое дело, джентльмены. Три дня, как не слышно ни одного выстрела. Признаться, мы даже отвыкли от этого. Тишина, как в Капитолии в полдень, когда почтенные конгрессмены заняты перевариванием своих бифштексов.
Кей, худощавый человек лет пятидесяти, с темными колючими глазами и горбатым хищным носом, иронически усмехнулся.
– Насколько нам известно, – сказал он, – здесь вообще не очень стреляли… последнее время.
Гаррис развел руками: не его вина в том, что напуганные мощью американского оружия немцы удирали поспешно и не смогли организовать сколько-нибудь серьезного сопротивления.
– Бросьте, – сказал Стэнхоп. – Вы говорите не с репортерами. И давайте выпьем. Неужели здесь придется погибнуть от жажды?
– Вы плохо думаете обо мне. Виски, вермут или джин?
Гости попросили виски, и Патти принесла бутылки, бокалы со льдом и сифон с содовой.
– Славная девушка, – сказал Стэнхоп, провожая Патти взглядом.
Гаррис усмехнулся.
– Я знаю толк в людях и умею подбирать их для себя. Исполнительна и надежна, как арифмометр. Но последние полгода сильно отразились на ней. Бедняга никак не может прийти в себя… Патти, – сказал комендант громко. – Вы можете отдыхать.
– А как же рация, сэр?
– К черту рацию. Война окончилась, и теперь рация может подождать. Ничего с ней не стрясется.
Патти вышла.
– Что же случилось с ней? – спросил Кей.
– Это длинная история, – Гаррис нахмурился, отгоняя мрачные воспоминания.
Скрипнула дверь. В кабинет просунулась голова капрала Динкера. Он робко доложил, что к коменданту пришел еще один немец.
– Где его взяли? – спросил Гаррис.
– Он пришел сам, – объяснил Динкер. – Это какой-то странный немец, сэр.
– Гоните его!
– Я пытался это сделать, но он не уходит. Он утверждает, что знает этих джентльменов. Право, я…
– Стоп, капрал, – прервал его Стэнхоп. – Он сказал, что знает нас?
– Да… И что вы назначили ему встречу здесь.
– Зовите его!
Динкер исчез и через минуту ввел посетителя. Это был Гюнтер Векслер, гауптман. Но сейчас одежду его составляли не мундир офицера, как полгода назад, а отлично сшитый серый костюм, пыльник и шляпа.
– Ба, да это Векслер! – воскликнул Стэнхоп.
– Могу поклясться, что это он! – подтвердил Кей.
Векслер, сияя улыбкой, подошел к американцам и горячо пожал им руки.
– Да, – сказал он, – это я, господа. Рад приветствовать вас в моей стране. Чтобы пожать вам руки, я сделал за три часа почти триста километров.
– Знакомьтесь, – сказал Кей и представил Гаррису Векслера. Последний отрекомендовался представителем фирмы «Хофт унд Векслер, химические заводы».
Кей наполнил бокалы и торжественно заявил, что сегодняшняя их встреча – это знамение судьбы. Война окончена, и они больше не враги.
– Именно так, – подтвердил Векслер. – Впрочем, деловые люди не были врагами даже тогда, когда гремели пушки и рвались бомбы.
Все выпили. Завязалась оживленная беседа.
8
Патти медленно шла по дорожкам сада. Было тепло. Ярко светило солнце. Влажная после дождя земля, одетые молодой листвой деревья, огромный куст ранних роз, покрытый крупными алыми цветами, источали гамму ароматов, от которых слегка кружилась голова.
Но девушка не замечала прелестей весны. Не для нее была эта весна. На сердце Патти была осень. Тогда, перед взлетом самолета, она могла бы задержать Кента, – слабый, он едва двигался, и ей достаточно было бы сделать небольшое усилие, чтобы Кент остался в самолете и улетел вместе с ней и Гаррисом. Но когда Кент направился к люку и вывалился на землю из готового начать разбег самолета, Патти восприняла это как нечто само собой разумеющееся. Кент не мог поступить иначе! Он был очень честным. И он остался верен себе даже в эту трудную минуту… А те русские! О, это сильные, очень сильные люди! И – странно! Теперь, всякий раз, когда Патти начинает думать о Дэвиде, рядом с ним в ее сознании всплывает милое, добродушное лицо русского пилота Пономаренко…
Патти вздохнула, вспомнив, как они прилетели на аэродром русских. Приземлившуюся машину окружили летчики во главе с командиром части. Они уже знали обо всем, стояли молча, и только в стороне командир тихо беседовал с летчиком, привезшим их, выясняя подробности. Тишину нарушили только рыдания маленькой русоголовой девушки, – как потом узнала Патти, – кельнерши из столовой пилотов… Прошел час. Командир советских летчиков отдал приказ. Взревели моторы десятков машин. Один за другим уходили в воздух самолеты. За гибель своих товарищей летчики мстили, отправляясь в тыл врага с полным грузом бомб. О, кто сомневается, что они хорошо выполнили свое дело!.. Но все равно, нет в живых Кента и тех чудесных советских пилотов. Надо жить, говорит полковник Гаррис. А как? Как жить теперь Патти? Что ее ждет впереди?..
Часы на городской башне пробили два раза. Патти испуганно встрепенулась. Через несколько минут должен был начаться очередной радиосеанс, особенно важный. Девушка взбежала по ступеням крыльца и вошла в кабинет Гарриса. Там было накурено и шумно. Видимо, хозяин и гости изрядна выпили.
При появлении Патти Стэнхоп встал, держа в руках стаканчик.
– О, мисс…
– Джонсон, – подсказал Гаррис.
– Джонсон… Не выпьете ли вы с нами?
Патти объяснила, что должна работать: прием из Штатов. Стэнхоп сокрушенно развел руками и сел. Патти прошла в свой угол.
– Кстати, – сказал Стэнхоп, обращаясь к Гаррису, – вы так и не рассказали нам, почему печальна ваша радистка.
– Извольте, – ответил комендант. – Это произошло минувшей зимой. Вместе с ней мы летели с наших баз на севере Франции прямиком к Советам. Все шло хорошо, пока нас не обстреляли над одним из городов. Машина получила хорошую порцию свинца, мы – тоже. Пришлось сесть. Мы вызвали по радио помощь. Пришел самолет русских. И мы уже собирались подняться в воздух, как вдруг появились немцы.
– Ого! – сказал Стэнхоп.
Векслер, готовившийся закурить сигарету, задержал в руке спичку и обжег палец.
– …Все же нам удалось взлететь. Конечно, поднялась ужасная паника, и мне м-м… пришлось проявить некоторую… распорядительность. Но в общем все обошлось. Все, если не считать того, что мой пилот Кент в последний момент выпрыгнул из машины.
– В воздухе? – воскликнул Стэнхоп.
– На земле. Дело в том, что эти русские затеяли перестрелку. Вот Кент и не захотел их оставить.
– Так они остались на земле?! – воскликнул Кей.
– Да…
– Русские и ваш пилот?
– Да… Порыв сумасшедшего. Чудак, он мог спасти шкуру.
– И они погибли?
– Несомненно.
– Д-да, – проговорил Кей. – Но при чем здесь ваша радистка?
– Видите ли, она и Кент… Словом, оказывается – они знали друг друга давно и уговорились даже пожениться. И представьте – Джонсон никак не может его забыть!
Векслер внимательно поглядел на Гарриса, потом перевел взгляд на Патти и усмехнулся.
– Печальная история, – проговорил он. – Жаль этих бедных людей.
– Да, – кивнул Стэнхоп. – Но перейдем к делу. Мы слушаем вас, мистер Векслер. Вы сделали триста километров за три часа не только ради удовольствия пожать нам руки.
Немец погасил сигарету.
– У вас говорят: время – деньги. Мы, немцы, думаем точно так же. Мы сильно пострадали за последний год-полтора. Без вас нам не оправиться. Время идет. Нельзя медлить. Поэтому мы говорим сегодня: помогите Германии, дайте нам возможность встать на ноги, и мы щедро отблагодарим вас. Кстати, немецкие заводчики и фабриканты у руля германской промышленности – верная гарантия того, что у нас не поднимет голову коммунизм. И это, как мы думаем, не только в наших интересах!
– Ближе к делу, – сказал Стэнхоп.
– Семь наших заводов разрушены. Вместе с двумя другими, почти целыми, они находятся на востоке, в зоне русских. Остается еще шесть. Они здесь, и они в порядке. При наличии сырья и рабочих мы могли бы через месяц-другой выпустить первую партию продукции. Для начала это может быть взрывчатка. Подчеркиваю: отличная взрывчатка.
– Но для какого дьявола нужна взрывчатка? – грубо прервал его Гаррис. – Япония тоже не протянет долго: я слышал – русские хотят вмешаться…
– Погодите, Гаррис, – сказал Стэнхоп. – А сумели бы вы, Векслер, делать те сорта, которыми начиняли самолеты-снаряды?
Немец усмехнулся.
– Есть кое-что и получше…
Кей беспокойно шевельнулся в кресле.
– У вас есть записи, планы восстановления заводов, другие документы?
Гаррис молча, с растущей тревогой наблюдал за тем, как Векслер раскладывал на столе бумаги.
– И мы, – сказал Векслер, – были бы бесконечно счастливы, если бы новые фау, еще более мощные, сделанные руками немцев и американцев, понеслись на восток!
Бывший гауптман произнес эту тираду, стиснув кулаки и выпучив глаза, захлебываясь от ярости и злости.
Гаррис медленно встал.
– Послушайте, – угрюмо сказал он, – вас знают мои друзья, и это хорошая рекомендация. Кроме того, вы мой гость. Но вы – спятили! И я предупреждаю, что если…
– Садитесь, дружище, – перебил его Стэнхоп. – После войны каждый идет своей дорогой. И неизвестно, куда ведет дорога красных.
– Нет, нет, – заторопился Гаррис, – я понимаю: за ними нужен глаз и глаз, но снова войну!..
– Если они не угомонятся, – то да, снова, – жестко сказал Кей. – Давайте ваши бумаги, Векслер. Мы внимательно их рассмотрим. Зайдите к нам завтра. Отель «Виктория». Подойдет это вам?
– Вполне.
Векслер встал, взял пыльник и шляпу.
– Я ухожу полный надежд, джентльмены. Я искал, и я нашел друзей.
– Ищите и обрящете – так, кажется, сказано в Священном Писании, – кивнул Стэнхоп.
Векслер ушел. Гаррис сидел хмурый, сосредоточенно размышляя. Предметом его дум был Вильям Стэнхоп. Крупный предприниматель и делец, доверенный одного из могущественнейших людей Америки, который владеет не одним миллиардом долларов, мистер Стэнхоп появлялся только там, где, как сказал бы военный, намечалось направление главного удара. Если надо было, он без шума устранял любые препятствия. Если возникала нужда, Стэнхоп горстями швырял вокруг себя деньги. Он не признавал никаких преград, и Гаррис мысленно всегда сравнивал Стэнхопа со слоном, который мчится вперед, сокрушая на своем пути все. Со Стэнхопом Гарриса связывала многолетняя дружба. Впрочем, это не то слово. Стэнхоп учился в том же колледже, что и он. И случилось как-то так, что Стэнхоп еще в те времена стал опекать Гарриса, оказывать ему свое покровительст+во. За это Гаррис часто выполнял особо щекотливые поручения своего доброжелателя.
Другой гость был вполне достоин Стэнхопа. Правда, он всегда предпочитал не лезть вперед, а держаться в тени, но кто-кто, а уж Гаррис знал, что инициатором и творческим вдохновителем ряда блестящих коммерческих комбинаций содружества Стэнхоп – Кей был именно он, Мортимер Кей, человек с глазами рыси и нюхом шакала.
И вот – оба они здесь. Значит, готовится что-то весьма большое и интересное… Черт, надо быть настороже, чтобы не упустить своей доли. А он, кажется, вел себя не совсем так, как следовало бы… Причина появления в этом городке Стэнхопа и Кея была Гаррису до сих пор неизвестна, и это только разжигало его интерес.
Молчание прервал Стэнхоп.
– Слушайте меня, Гаррис, и постарайтесь понять. Вы должны запомнить, дружище, что войны больше нет… против немцев, и теперь вы должны заботиться о них!
Гаррис, ожидавший чего угодно, но только не этих слов, даже привстал от удивления.
– Будь я проклят, если шевельну хоть пальцем!
– Слушайте и постарайтесь понять, – прервал его Кей.
Стэнхоп продолжал:
– Вам надо заботиться о них, чтобы мы могли посылать сюда все то, чего за океаном скоро станет слишком много. Вы должны знать также, что на немцев будут возложены задачи особой важности… Вот пока все, что я могу сообщить. Вы умный человек и вы поймете, что недосказано. Теперь о заводах…
– Вы не можете жаловаться, – воскликнул Гаррис. – О заводах я заботился, как о самом себе. Я лез из кожи вон, но добился своего: ни один из них не пострадал!
– Знаю. Что касается заводов, то все самое ценное здесь должно либо принадлежать американцам, либо работать так, как это выгодно нам.
Кей зажег сигару и откинулся в кресле.
– Сейчас, – заметил он, – заводы и фабрики Штатов дымят круглые сутки. Они выбрасывают на рынок продукцию на многие миллиарды долларов. Внутренний рынок заполняется с катастрофической быстротой. Что произойдет, когда он заполнится? Думает ли об этом господин Гаррис? Нет, очевидно. А мы думаем. Ведь все говорит о том, что большинство стран Европы поворачивает фронт против Штатов!
– И если, – заключил Стэнхоп, – мы не станем твердой ногой здесь и на востоке, все может пойти к черту. Или мы добьемся своего, или нас задушат у нас же, за океаном. Они молчат, пока имеют работу и жратву. А когда не будет ни того, ни другого? Что тогда? Нет, пусть подыхают другие!
Кей сказал:
– Хороня монарха, англичане говорят: умер король, да здравствует король! Мы говорим: закончилась война, да здравствует война!
– Настоящая война… против русских? – прошептал Гаррис.
Стэнхоп пожал плечами.
– Пока я назвал бы ее м-м… холодной войной – войной шпионов и газет, радио и общественного мнения, войной пактов и торговых ограничений. А что будет потом – разрабатывается в Пентагоне… Все это вы должны хорошо понять, Гаррис. Берегитесь, чтобы не оказаться старомодным. Нигде это не опасно так, как в нашей стране. Тому, у кого появляется старческая одышка и немощь, – тому приходит конец! Ведь вы не хотели бы выйти из игры, старина? – Стэнхоп прищурил глаза и, передразнивая, проговорил: – Русские союзники… проклятый нацист. Э, теперь поют другие песни!
Гаррис сидел подавленный и растерянный.
– А теперь, – сказал Стэнхоп, – перейдем к более приятным вещам. – Он вытащил пакет и передал его коменданту. – Возьмите это, дружище. Мне поручено поздравить вас первым, генерал Гаррис!
Полковник разорвал пакет. Там был приказ о производстве его в бригадные генералы. Гаррис встал, свалив стул. На минуту он лишился дара речи.
– А это от меня, – проговорил Кей, протягивая пакетик. – Я не хотел отставать от Стэнхопа. Это – награда за заводы.
В пакете были погоны генерала и чек на крупную сумму.
Стэнхоп наполнил бокалы. Все встали. Гости провозгласили тост за благополучие и дальнейшее преуспевание новоиспеченного генерала.
Гаррис был растроган.
– Клянусь, – взволнованно проговорил он, – клянусь, что вы не пожалеете о том, что сделали для меня. – Он помолчал, сурово сжал губы и выгнул грудь. – Генерал Гаррис! О-о!.. Я счастлив, джентльмены!
9
Большой каменный подвал. Низкие своды, черные с прозеленью стены, решетчатое оконце под потолком и окованная железом дверь – все это напоминало страшные камеры пыток, воссозданные фантазией театральных художников для средневековых трагедий.
Но подвал не был бутафорией. В нем находились настоящие узники. Шестеро людей, орудуя куском железа и обломками табурета, рыли в углу яму. Работали молча, с каким-то ожесточением. В тишине слышались глухие удары о землю и тяжелое порывистое дыхание. Все были очень слабы, часто останавливались, чтобы собраться с силами.
Когда яма, длинная и узкая, была готова, люди заковыляли к нарам, которые тянулись вдоль одной из стен. Там лежал их товарищ – седьмой обитатель подвала.
Взошло солнце. Луч его проник сквозь оконце, скользнул по полу, взобрался на нары и осветил широко открытые неподвижные глаза лежащего, его задранный вверх подбородок с короткой всклокоченной бородой, грудь, измазанную запекшейся кровью. Это был сержант Мельников.
Стали видны и лица стоящих подле нар людей. Один из них – капитан Пономаренко, двое других – сержант Джавадов и капитан Кент.
Джавадов наклонился над телом Мельникова, поднял его и понес к яме… Вскоре в углу вырос невысокий могильный холмик. Узники стали на колени, заботливо выровняли и пригладили руками насыпь. Джавадов отошел в сторону, и оттуда раздались его глухие, сдержанные рыдания – он был близким другом погибшего.
Пономаренко обнял сержанта, пытаясь успокоить.
– Не надо, товарищ капитан, не надо… Я Степана, как брата, любил, но плачу не только о нем… Мой старший брат рассказывал: когда в девятнадцатом году в Баку муссаватисты расстреливали отца, а он рядом стоял, связанный, то тоже плакал – от бессилия и ярости!..
Пономаренко очень хорошо понимал переживания Джавадова. Он и сам едва сдерживался. Тяжелое испытание выпало на их долю. «Плен» – это слово он ненавидел больше всех других страшных слов. Отправляясь в полег, Пономаренко всегда досылал патрон в ствол пистолета. Если его собьют, если ранят и не хватит сил оттянуть затвор оружия, то приставить пистолет к сердцу и спустить курок он сумеет! Лучше смерть, чем плен, думал пилот, и вот – оказался в плену!..
Пономаренко вспомнил, что произошло после разговора с гауптманом у разбитого американского самолета.
Немецкий офицер понял, что с ним не «сваришь каши». Гауптман оставил в покое Пономаренко и долго допрашивал других пленных, разговаривая с каждым в отдельности. Капитан догадывался, чего добивается немецкий офицер. Но замыслам гауптмана не суждено было свершиться. Кент и Мельников сидели, плотно сжав губы. Они молчали и лишь изредка отрицательно качали головой. Джавадов глядел на гитлеровца горящими глазами и, несмотря на связанные за спиной руки, несколько раз порывался вскочить и кинуться на врага.
Потом гауптман поднялся на ноги, подозвал рябого лейтенанта. Указав ему на пленных и сделав выразительный жест, гауптман забрал с собой людей и увел к поджидавшему их бронетранспортеру.
Рябой с двумя солдатами подняли пленных и повели куда-то в глубь поля. Пономаренко и его товарищи, не сговариваясь, подтянулись, выпрямились и запели «Интернационал».
А затем произошло следующее. Лейтенант остановил их и стал о чем-то шептаться с солдатами. Те слушали, поглядывая на пленных и согласно кивая. Оба они, как и лейтенант, были пожилыми людьми.
Кончив разговор, лейтенант подошел к пленным. Он улыбнулся и, ткнув себя пальцем в грудь, объявил, что он – печатник из Лейпцига. Солдаты же, – продолжал лейтенант, – тоже из простых людей: один – берлинский учитель, другой – грузчик гамбургского порта. Им приказано расстрелять пленных. Однако они решили не делать этого.
Пусть русские товарищи идут на восток. Быть может, им посчастливится и они доберутся до своих.
Развязав пленным руки, офицер и солдаты ушли.
Два дня пробирались на восток капитан Пономаренко и его товарищи, старательно обходя населенные пункты, сторонясь дорог. На третий день ослабевших от голода и ран беглецов схватил отряд полевой жандармерии…
Эти месяцы они провели в затерянном среди болот лагере!.. Конечно, капитан Пономаренко много раз мог лишить себя жизни. Умереть тут было легче, чем выжить. Но советский офицер с первого же дня оставил даже самую мысль о смерти. Ведь он, капитан Пономаренко, оставался для своих подчиненных командиром и здесь. Он отвечал за них перед Родиной, перед партией, перед своей совестью!
Надо ли говорить о том, что капитан Пономаренко и его товарищи твердо решили бежать из лагеря! Решение о побеге они приняли еще в колонне пленных, в которой двигались на запад. Но советские летчики, наученные горьким опытом, поняли, что побег надо подготовить тщательно и прежде всего всем им следует окрепнуть и набраться сил.
План операции составлялся долго и тщательно. Летчики собирали продовольствие, прилагали отчаянные усилия, чтобы достать оружие. Это удалось только сержанту Джавадову. Неунывающий кавказец раздобыл где-то ржавый тесак, который они вычистили и наточили.
Дело с побегом двигалось медленно, но верно. Бежать, кроме группы Пономаренко, собирались и другие лагерники. И когда почти все было готово, нашелся предатель и донес о предстоящем побеге. Эсэсовцы переполошились. Начались поиски зачинщиков. Подозрение пало на группу Пономаренко. За нею стали следить.
Пономаренко решил ускорить проведение операции на сутки. И вот в назначенный час запылало несколько бараков. Пленные выскакивали из горящих помещений, инсценируя панику. Охрана растерялась. Джавадов, Мельников и еще трое пленных сняли двух часовых, и путь к свободе был открыт.
Всего бежало больше сотни людей. Они тотчас же разделились на мелкие группы и разошлись в разные стороны. Капитан Пономаренко за две первые ночи увел далеко от лагеря свой небольшой отряд. В глухой лесной чаще он остановился для отдыха. Казалось, ничто не угрожало беглецам. Но опасность была рядом. В лесу раздался лай ищеек, шедших по следу…
Схватка была короткой. Безоружная группа не могла долго защищаться.
Избитых и истерзанных, приволокли их в лагерь и бросили в этот каменный мешок вместе с тремя другими беглецами.
Это случилось неделю назад. Тогда-то и получил пулю в грудь сержант Мельников.
Допросы и избиения продолжались непрерывно. А трое суток назад в лагере поднялась суматоха. Охрана торопливо уводила колонны заключенных. Наконец шум стих, а затем в отдалении послышалась стрельба… И с тех пор вокруг лагеря царила тишина. Запертые в карцере, они остались одни – без пищи, без воды, без сил, чтобы выломать эту тяжелую, словно бронированную, дверь… Впрочем, быть может, попытаться еще раз?
Пономаренко скомандовал. Лагерники подошли к двери, навалились на нее. Но дверь даже не дрогнула. Один из заключенных, высокий старик, пододвинул к стене табурет, забрался на него и выглянул в окошко.
– Что там, профессор? – спросил Пономаренко.
Профессор Иоганн Буйкис – ученый биолог из Риги – вздохнул и слез с табурета.
– Все то же, – мрачно проговорил он. – Унылое болото и ничего живого.
Сидевший за столом мужчина лет тридцати, с тонким и болезненным лицом, встал и в порыве отчаяния бросился на нары.
– Не могу больше! – простонал он. – Где предел этой нечеловеческой подлости! Убили бы сразу. О, звери!
Его звали Гавриил Беляев. Год назад молодой хирург Беляев был заброшен на самолете в тыл врага для оказания помощи группе обмороженных партизан. Спустившись с парашютом, он попал к партизанам в тот момент, когда они отчаянно отбивались от отряда карателей. Хирург вынужден был действовать не скальпелем, а автоматом. Пятерых партизан, в том числе и Беляева, схватили…
Всегда твердый и выдержанный, Беляев сильно сдал за последнее время. Он ослабел и часто терял над собой власть. Сейчас Беляев лежал, стиснув руками голову, и повторял: «Звери, звери!»
– И вы бы согласились, чтобы вас так просто убили? – мягко спросил его Пономаренко.
– Что угодно, но только не это!
– Нет, – покачал головой пилот. – Я жить хочу! Жить, чтобы рассчитаться за все! Как думаешь, Джавадов?
– Жить! – воскликнул кавказец. – Жить и отомстить!
– А если и умереть, – продолжал летчик, – то так, чтобы захватить с собой на тот свет с десяток врагов!
– Без них скучно на том свете, – мрачно улыбнулся Кент. – Но еще лучше, если жить будем мы, а подохнут – они!
– Слышали, доктор? – сказал Пономаренко. – Так вот, держитесь! Надо держ…
Он не договорил, побледнел и потерял сознание. Джавадов и Кент подхватили пилота и отнесли на нары. За ними отправился к нарам старшина Островерхий – бывший председатель колхоза на Харьковщине. Это был коренастый неторопливый человек средних лет, с тяжелыми руками крестьянина. Кряхтя, забрался он на нары и тотчас же заснул.
Уложив Пономаренко, Джавадов и Кент подсели к столу.
– Третий раз сегодня, – заметил сержант. – А говорит: надо держаться. Сердце, как у льва!
– Сердце, – с досадой ответил Беляев. – Еще день-два, и лопнет к чертям это сердце!
– Быть может, и не следовало затевать истории с побегом? – задумчиво проговорил Буйкис.
Беляев поднял голову, злобно усмехнулся.
– Конечно, надо было вести себя, как бараны на бойне, и по мере сил работать на этих извергов!
– Не о себе говорю, – обиженно поджал губы профессор. – Я что? Я свое прожил и, если хотите знать, хорошо, с пользой для общества! А вот вы – молодые! Жалко же…
Пономаренко застонал.
– Воды ему надо, – сказал Кент.
– Воды, – усмехнулся Джавадов. – Где возьмешь воду?
Пилот снова застонал – мучительнее, громче.
– Доктор, – позвал Кент, – подойдите к нему.
– Оставьте, – махнул рукой Беляев, – пусть хоть умрет спокойно!
Джавадов одним скачком оказался подле Беляева, схватил его за грудь. Страшен был Джавадов в эту минуту. Но хирург не испугался.
– Пустите, – равнодушно проговорил он. – Пустите… ну! Разве врач я теперь? Он умирает от жажды. Прибавьте, что все эти месяцы ваш командир так и не смог оправиться от ранения. Да еще эти побои…
Пономаренко затих. Кент оставил его и подсел к столу, где собрались остальные. Лагерники стали обсуждать создавшееся положение. Буйкис считал весьма странным поведение охраны лагеря, забывшей об обитателях карцера.
– И ничего странного, – возразил Беляев. – Немцы удрали, видимо, получив сведения, что неприятель близок. В суматохе забыли о нас. А это собачье болото в стороне от всяких дорог. Поди сыщи в нем лагерь! До того, как его обнаружат, мы сто раз умрем с голода и жажды.
– Нет! – воскликнул Джавадов и приложил руку к груди. – Сердце чует, что освободят нас!
– Да, придет свобода! – вскричал Буйкис. – И мы снова станем людьми, которые могут делать все, что хотят. – Он взволнованно зашагал по подвалу. – Знаете, я начал перед самой войной такую важную работу!.. Интересно, удалось ли жене сохранить мои записи, библиотеку…
Беляев насмешливо посмотрел на него.
– Записи… библиотеку… Вы уверены, что ваша жена цела, а дом не сравнен с землей?
Буйкис схватился за сердце.
– Зачем болтаете? – угрюмо сказал Джавадов. – Старика расстроили. Его поддерживать надо, а вы…
– Оставьте меня в покое! – вспыхнул Беляев.
– Это вы никому не даете покоя! Мужчиной надо быть. Стыдно!
Беляев поднялся, хотел что-то сказать, но не смог и тяжело рухнул на место, Буйкис подвел его к нарам и уложил.
– Бедняга, – сказал он. – Ему совсем плохо. Не понимает, что говорит.
– Не понимает? – нахмурил брови Джавадов. – Очень хорошо все понимает!
– Вы несправедливы, сержант… Разве он виноват?.. А вам, мой друг, советую крепко держать себя в руках. Сейчас, милый мой друг, такое время…
Буйкис не договорил, махнул рукой и пошел укладываться. За ним двинулся Кент.
Прошло полчаса. Все спали, и только Джавадов сидел у стола, подперев руками голову. Пономаренко открыл глаза. Ему было лучше, и Джавадов просиял. Но вот он нахмурился и, оглядев лежащих на нарах товарищей, тревожно сказал:
– Расклеиваться стал народ… Я сам сейчас с Беляевым ругался. Товарищ капитан, нас, коммунистов, трое. Может быть, поговорим немного, а?
– Поговорим, – кивнул Пономаренко. – Я и сам об этом думал. – Он встал и прошел к столу. Джавадов разбудил Островерхого.
На нарах тяжело завозился Кент, простонал Беляев. Пономаренко оглядел их, вздохнул.
– Думаю, – сказал он, – что наша главная задача – это сохранить людей.
Джавадов и Островерхий кивнули.
– Значит, – продолжал Пономаренко, – будем беречь их, сколько хватит сил… Принеси-ка воду, Остап Афанасьевич.
Островерхий направился к нарам и вернулся, бережно неся консервную банку. На дне ее плескалась вода.
– У тебя была вода? – прошептал Джавадов, заглянув в банку.
– Была… Четвертый день берегу.
Прошел к нарам и Пономаренко. Он вытащил откуда-то стеклянную банку, в которой на четверть было воды. Слив в нее порцию Островерхого, капитан прикинул: воды набралось около стакана.
– Будем считать, – сказал пилот, – что это наши взносы в пользу слабых.
Джавадов стоял, стиснув перед грудью кулаки. О, он бы дорого дал, чтобы иметь возможность слить в банку и свой пай! Но, увы, воды у Джавадова не было! Вдруг сержант посветлел, метнулся в угол подвала и молча положил на стол кусочек черствого хлеба.
Капитан Пономаренко понял состояние товарища. Он придвинул хлеб к банке.
– Будем считать, – сказал пилот, – что это наши взносы в пользу слабых. Разбуди народ, старшина, и раздай каждому поровну. – Пономаренко поднял палец: – Учтите, мы уже получили свою долю!
За всем этим уже несколько минут с напряженным вниманием наблюдал проснувшийся капитан Кент. При последних словах советского летчика он соскочил с нар.
– Пусть меня повесят, если я выпью хоть каплю!.. Вы… вы не знаете, какие вы люди!
Островерхий двинулся с банкой к американцу.
– Нет! – воскликнул Кент. – Тысячу раз нет!
10
Неизвестно, чем бы все это кончилось. Пономаренко, Джавадов и Островерхий настаивали, а Кент не менее решительно отказывался от воды. Проснулись Буйкис с Беляевым.
И в этот момент в дверь постучали.
Все повскакали с мест. Вновь раздался стук.
– Хелло! – прокричал кто-то. – Есть ли здесь живые?
– Наши! – воскликнул Кент. – Это американцы!
Он заколотил в дверь руками.
– Ломайте ее, ребята, ломайте дверь! Здесь свои!
Раздался скрежет взламываемого замка. Дверь распахнулась. В подвал вошли два капрала. В течение нескольких минут в подвале творилось нечто невообразимое. Все кричали, перебивая друг друга и толкаясь, трясли руки американцам, смеялись и плакали. Джавадов выбежал из подвала.
– Кто вы такие? – спросил один из прибывших, молодой парень с военной медалью.
– Русские, друг, – ответил Островерхий.
Капрал расплылся в улыбке. Беляев, Буйкис, Кент тормошили солдат, расспрашивая о положении на фронтах. Капрал сообщил о капитуляции Германии.
– Повтори! – потребовал Кент.
– Русские взяли Берлин. Мы подперли с запада и соединились на Эльбе. Крышка захлопнулась. Конец войне!
Пономаренко закрыл глаза и присел на табурет.
Вбежал Джавадов с ведром воды. Кент зачерпнул кружку и поднес ее к губам капитана Пономаренко. Тот мгновенно осушил ее. Затем выпил еще и еще. С неменьшей жадностью утоляли жажду и другие обитатели карцера. Ведро быстро опустело. Островерхий вновь наполнил его.
– Кажется, мы пришли вовремя, – шепнул капрал товарищу.
– Здорово же досталось вам, – сказал солдат. – Но теперь все будет в порядке.
– Как у нас в Штатах, старина? – спросил Кент.
Капрал резко обернулся.
– Кто вы такой?
– Пилот с бомбардировщика. Как там Америка?
– О, – военный поднял палец, – сейчас за океаном бум, какого не знала история! Все сошли с ума. Янки решили помочь Европе… Самое время ехать к себе, в Алабаму. Вместе поедем, парень!
– Идет!
– Подойдите ко мне, – попросил Пономаренко. – И дайте вашу руку.
– Стоит ли?.. Ваши сделали во сто раз больше!
– Верно, – воскликнул Кент, – во сто тысяч раз больше! Как, кстати, вас зовут?
– Хорпер… Стенли Хорпер, сэр…
– Так вот, Хорпер, мы голодны дьявольски!
Капрал смутился. В его машине – ничего съестного. Они наткнулись на этот лагерь случайно. Быть может, русские потерпят до утра? Утром им привезут все.
Джавадов заявил, что лично он, став свободным, может терпеть. Но пусть капрал не забудет полоскания. Тут сержант выразительно щелкнул себя по горлу.
Хорпер ухмыльнулся и кивнул.
Буйкис попросил американца рассказать, как часто здесь ходят поезда и когда он, Буйкис, сможет вернуться на родину. Хорпер ответил, что поезда пока не ходят, но завтра приедут представители командования и все уладят. Несомненно, они будут отправлены домой немедленно.
Беляев попросил бумагу и карандаш, набросал на листке несколько слов и размашисто подписался. Он сказал, чтобы эту записку передали врачу. Если врач не сможет приехать, то пусть пришлет лекарства: здесь есть больные.
– Будет сделано, – сказал Хорпер. – Ведь вы тоже врач, сэр?
– Да, – задумчиво сказал Беляев, – кажется, я снова стану врачом…
Капрал постоял с минуту, переглянулся с товарищем и заявил, что должен ехать. Уже смеркается, а предстоит немалый путь. Быть может, американский пилот поедет с ними?
– Нет, – сказал Кент, – мы уедем отсюда вместе.
Хорпер объяснил, что охотно взял бы всех, но машина не вместит столько народа. Кент рассказал капралу о подвиге своих товарищей. Хорпер подошел к Пономаренко.
– Мы в долгу перед вами, сэр. Как, впрочем, все американцы в долгу перед русскими. И я еще хочу сказать…
– Говорите, – кивнул Кент, – говорите и не жалейте слов. Их у вас все равно не хватит, чтобы как следует отблагодарить этих людей.
– Да, мы в долгу. Но мы отдадим этот долг!
Пономаренко улыбнулся и сказал:
– Лично у меня правило: никогда не делать долгов. Верьте, это самое лучшее. Тогда не надо и расплачиваться.
– Браво, капитан, – воскликнул Кент. – Хорошо сказано.
Спутник капрала рассматривал могилу Мельникова.
– Что это такое? – спросил он.
Кент объяснил. Американцы обнажили головы и постояли в глубокой задумчивости.
11
На рассвете Джавадов вышел из подвала. Было тихо. Едва тянул ветерок. Болото еще только просыпалось. Над ним клубились испарения. Вдали сонно кричала птица…
Сержант спустился к протекавшему неподалеку ручью, разделся и кинулся в воду. Он долго купался, по-мальчишески колотя по воде руками, подымая тучи брызг, фыркая и отдуваясь.
Бодрый и раскрасневшийся, вернулся он в карцер. Пономаренко сидел на нарах, обхватив руками колени. Он хорошо провел ночь и чувствовал себя значительно бодрее.
Лагерники вставали, потягиваясь и щурясь от яркого света, проникавшего через распахнутую дверь. Все были оживлены, в отличном настроении, смеялись и шутили.
– Чудесное утро! – воскликнул Буйкис, выглянув за дверь.
– Еще бы, – заметил Беляев. – Это первое утро свободы!
Профессор согласно кивнул.
– Вперед, товарищи, – сказал он, – идемте пить волшебный элексир здоровья – воздух весеннего утра!
Буйкис и Кент вышли. Пономаренко сделал попытку последовать за ними, но, морщась от боли, опустился на табурет. Джавадов подошел к капитану, секунду помедлил, а потом решился и поднял его на руки. Капитан Пономаренко пытался сопротивляться, но кавказец только смеялся и прибавлял шагу. Скоро они догнали остальных.
В подвале остались только Беляев и Островерхий, поднявшиеся позже других. Они оделись и тоже направлялись к двери.
В это время подъехал виллис. Из него вышли капрал Хорпер, два солдата с пакетами еды и обершарфюрер СС – тот, которого недавно допрашивал Гаррис.
– Доброе утро, – несколько смущенно сказал капрал. – Вот привезли вам еду, лекарства и остальное… А где другие?
– Ушли прогуляться, – сказал Беляев.
Наступила пауза. Хорпер стоял, теребя в руках пилотку. Ему было явно не по себе.
– Что-нибудь случилось? – тревожно спросил врач.
– Нет, ничего, – пробормотал капрал. Потом он решился и ткнул пальцем в сторону немца: – Это ваш новый комендант.
– Что? – не понял Беляев.
– Я не виноват, – глухо проговорил капрал, глядя себе под ноги. – Это приказ…
– Ладно, – развязно сказал комендант, – давайте знакомиться. Я – Макс Штиммель. Сколько человек в этом лагере?
Беляев вздрогнул.
– Вы что же – немец? – спросил он.
– Я сотрудник американской военной комендатуры. Сообщите фамилии заключенных.
Врач кинулся вперед и вцепился в грудь Штиммеля. Солдаты с трудом оттащили его. Старшина Островерхий стоял, вобрав голову в плечи и стиснув кулаки.
Хорпер что-то сказал солдатам и, не поднимая головы, торопливо отошел. Он вскочил в машину и рывком сдернул ее с места. Капрал мчался, пригнувшись к рулю. Навстречу ему бежали возвращавшиеся с прогулки люди. Но капрал, казалось, не видел их. Виллис вылетел на шоссе и скрылся за поворотом.
Пономаренко, Джавадов, Буйкис и Кент в недоумении глядели ему вслед. Потом они торопливо вбежали в подвал.
– Что здесь случилось? – спросил Буйкис.
Кент развел руками.
– Капрал мчался как одержимый. Он видел нас, но не остановился.
– Знакомьтесь, – сказал Беляев. – Наше новое начальство.
– Не понимаю…
Беляев горько усмехнулся.
– В чем дело, приятель? – обратился к одному из солдат Кент.
Солдат, плечистый парень лет двадцати пяти, жевавший резинку, выплюнул ее и равнодушно сказал:
– Нас прислали с этим человеком. Приказано охранять лагерь перемещенных лиц. И он назначен старшим.
– Перемещенные лица? – переспросил Пономаренко.
– Погодите, – сказал Кент, потирая лоб. – Я что-то плохо соображаю… Кого же они собираются держать в этом лагере?
– Да нас же, черт возьми! – крикнул Беляев. – Нас! Теперь мы – какие-то перемещенные лица…
Кент расхохотался.
– Вы и я – капитан американской армии?
– Ну, капитана, быть может, и выпустят, а вот нас, советских граждан… И комендантом поставили немца!
Беляев налитыми кровью глазами посмотрел на Штиммеля и двинулся вперед. С другой стороны к коменданту подбирался Джавадов.
– Назад, – сказал широкоплечий солдат. – Мы будем защищать этого человека.
Беляев остановился, а Джавадов не обращал внимания на угрожающе выставленные карабины…
– Отставить, сержант, – сказал Пономаренко. Он обернулся к солдатам и спросил: – Кто же прислал вас?
– Генерал Гаррис.
– Гаррис?! – Кент рванулся вперед.
Послышался шум автомобиля.
– Смирно! – скомандовал Штиммель.
В подвал вошел генерал Джордж Гаррис. Шагнув через порог и разглядев лица людей, он остановился, ошеломленный.
– Вы? – наконец, выговорил он. – Это вы?!
Солдаты и Штиммель с удивлением видели, как генерала окружили истощенные, одетые в лохмотья люди, а он улыбался им, дружески хлопал по плечу.
Джавадов поймал на себе взгляд генерала, вытянулся.
– Здравия желаю, товарищ… господин генерал! – по-военному отрапортовал он.
Гаррис взял его за плечи и тепло улыбнулся.
– Вы хотели сказать «товарищ»? Правильно, парень! Это то самое слово. Ведь мы боевые друзья!
Джавадов широко улыбнулся. Говорить в эту минуту он не мог.
Особенно долго тряс Гаррис руку капитана Пономаренко.
Когда все немного успокоились, генерал сел и вытащил трубку. Набив ее, он сказал:
– Нет, все это просто непостижимо. Это сон какой-то! А вы, Кент, – герой! Да, да, я утверждаю это! И вы, русские, на примере капитана Кента можете видеть, на что способен любой американец, когда дело идет к тому, чтобы помочь товарищам.
– Оставьте это, сэр, – умоляюще проговорил Кент.
– Нет, я горжусь вами, мальчик, и не устану говорить это! И я возношу сейчас самые горячие молитвы провидению. То божья воля, что все вы живы. А ведь кое-кто пытался похоронить вас. Но я в таких случаях всегда говорил: эти люди не могут пропасть!
Кент думал о Патти. Что с ней? Жива ли она?.. Наконец он не выдержал.
– Один вопрос, генерал… Наши общие знакомые… М-м… Ну, одним словом…
Гаррис хитро ухмыльнулся.
– Можете не продолжать, Кент. Она со мной, и она ждет вас, или я ничего не смыслю в подобных делах!
Кент шумно вздохнул. Пономаренко украдкой пожал ему руку.
– А теперь, Кент, – сказал Гаррис, усаживаясь поудобней, – выкладывайте все по порядку. Я страшно люблю рассказы о героях.
– Пусть говорит капитан Пономаренко, сэр…
– Ладно, – кивнул генерал, – давайте, капитан.
Тем временем Беляев приоткрыл привезенные Хорпером свертки. Там была еда, сигареты, бутылка с яркой этикеткой.
– Простите, генерал, – сказал врач, – не позавтракаете ли вы с нами?
Гаррис покачал головой.
– У меня нет аппетита. И потом здесь м-м… не очень приятно завтракать.
– Как хотите, – пожал плечами Беляев. – А у нас есть аппетит, и отличный. К столу, ребята!
Все набросились на завтрак. Гаррис удивленно наблюдал, с какой быстротой исчезают припасы.
– Здорово же вы работаете челюстями, – пошутил он. – Можно подумать, что вы не ели три дня!
Беляев поперхнулся и больше не прикасался ни к чему. Перестали есть и другие. Гаррис понял, что совершил нетактичность. Решив загладить ее, он обернулся к Штиммелю.
– Правый борт моей машины. Пара бутылок коньяку – живо!
Немец щелкнул каблуками и кинулся исполнять требуемое. Когда коньяк был принесен, Гаррис поставил его на стол.
– Это вам от меня, – провозгласил он. – Куда ни шло, и я выпью с вами.
Штиммель откупорил коньяк и наполнил кружки. Гаррис поднял жестяную кружку и сказал:
– За американскую и русскую армии!
– За русскую и американскую армии, – сказал Пономаренко.
– Он прав, сэр, – подхватил Кент. – Именно за русскую и американскую армии.
– Ладно, – кивнул Гаррис, – я принимаю этот тост.
– Господин генерал, – проговорил Пономаренко, – мне надо задать вам несколько вопросов. Немца с солдатами прислали сюда вы?
– Гм, – нахмурился Гаррис, – сказать по чести, я думал, что здесь обыкновенные пленные.
– Какая разница? Вы же знали, что здесь русские!
– Все это так, но… В общем в отношении вас и членов вашего экипажа вопрос ясен. Вы вернетесь на родину немедленно. Но что касается других, то здесь надо еще разобраться.
– Разобраться в чем, генерал?
Гаррис снисходительно улыбнулся.
– О, во многом, мой друг: национальность, подданство и всякие такие штуки.
– Никаких штук, – отчеканил Беляев. – Все мы граждане СССР и требуем, чтобы нас немедленно передали в руки советских властей.
Гаррис с сожалением посмотрел на него.
– Самое скверное – торопиться в таких делах или говорить за других. Мы враги насилия над личностью. И у нас есть приказ: кто не хочет возвращаться к себе, волен выбирать любую другую страну. Некоторые могут даже удостоиться чести ехать в Соединенные Штаты Америки! – Гаррис поднял палец. – Но – только некоторые, не все!
Пономаренко насмешливо заметил:
– Видимо, часовые здесь для того, чтобы мы, не дай бог, не удрали в… Америку!
– Простите, сэр, – вмешался Кент, – значит, если я правильно понял вас, мне будет разрешено не возвращаться домой, а ехать в Россию, если я выражу такое желание?
– Черт знает, что вы говорите, Кент! Это не может касаться американцев.
– Вот те на! – удивился Беляев. – Американские законы и вдруг не касаются американцев!
– Я еще не кончил, – продолжал Пономаренко. – Другой вопрос. Нам в начальники дали немца, который, быть может, еще неделю назад стрелял в американцев или русских… Что это, результат ошибки, спешки?..
– Или не ошибка, не спешка? – вставил Джавадов.
– Как много вы уделяете внимания пустякам, – примирительно сказал Гаррис. – Война окончена, надо жить, а вас занимают пустяки.
– Пустяк? – Джавадов гневно стиснул челюсти. – За такой «пустяк» можно убить!
Гаррис не выдержал и, наконец, сбросил маску. Он встал и стукнул по столу кулаком.
– Хватит!
Поднялся и Пономаренко.
– То есть как, простите, хватит?
– Хватит! – заорал Гаррис. – Этот немец на американской службе. Зарубите это себе на носу. Он будет действовать от моего имени.
– Вот теперь понятно, – тихо проговорил Джавадов. – Люблю мужской разговор. И как мужчина мужчине скажу вам, господин генерал: подлец вы!
Гаррис шагнул вперед и рванул из кобуры пистолет.
– Вот-вот, – улыбнулся Пономаренко, закладывая за спину руки, – примерно так с нами разговаривали фашисты. Правда, они не ограничивались одними разговорами. Но ведь и вы не собираетесь кончить на этом?
Генерал оставил пистолет и с ненавистью оглядел лагерников.
– Вы все дурно воспитаны. И если бы я знал…
– То что, генерал?..
– Я бы не приехал сюда!
– Логично. Война окончена. Вам не угрожает теперь перспектива встречи с вооруженными фашистами. Больше того, теперь, видимо, они ваши друзья. Самое время поговорить о воспитанности советских людей! Кстати, беседу на эту волнующую тему вы уже начинали однажды…
– Вы злоупотребляете моим терпением. Когда-то оказали мне помощь…
– Жалею…
– Что-о?
– Жалею, что оказал вам помощь!
– И я жалею, – сказал Джавадов. – Тогда слепой был. Сейчас глаза открыты: фашиста видят!
– Молчать! – Гаррис оглянулся. Солдаты придвинулись к нему. – Я ухожу. Собирайтесь, Кент. Вам нечего делать в этой компании. Здесь слишком пахнет красными.
Кент пожал плечами и не тронулся с места.
– Жаль, но мы решили выбираться отсюда вместе. Мы так свыклись друг с другом. И потом, это не такой уж плохой запах, сэр!
Гаррис в бешенстве зашагал по подвалу. Он оказался у могилы и поставил на нее ногу.
– Тогда, – сказал генерал, – пеняйте на себя, Кент. Боюсь, что вы плохо кончите. И вы все берегитесь. Мы не прощаем подобных вещей.
Пономаренко подошел к Гаррису.
– Уберите ногу, генерал, – с угрозой сказал он. – Здесь похоронен сержант Советской Армии. Он спас вам жизнь!
12
Стэнхоп, стоя за спиной сидевшего в кресле Гарриса, хохотал, держась за бока, и голос его проникал далеко за пределы кабинета военного коменданта.
– Как, – восклицал он, – как вы сказали? Повторите!.. Нет, это было здорово! Держу пари, что вы выглядели там не менее глупо, чем сейчас здесь!
– Почему вам так весело? – проговорил Гаррис. – Лично я не вижу в этом ничего смешного.
Комендант был мрачен и сидел насупившись, не поднимая головы.
– Почему мне весело? – переспросил Стэнхоп. Он оборвал смех, обошел столик и уселся против генерала. – Вы хотите это знать, да? Что ж, извольте! Мне смешно, что наш доверенный и уважаемый человек оказался в положении щенка, которого больно отстегали и пинком вышвырнули за порог. Поджав хвост, щенок убрался восвояси, а теперь, повизгивая от обиды и боли, рассказывает, как дурно с ним обошлись!.. Разве это не смешно, Гаррис? Видимо, вы забыли, кого представляете. Забыли о великой стране, призванной диктовать свою волю всему живому на земле.
– Я до последнего волоса предан своей стране!
– Э, мы плюем на слова и требуем дел. А вы, вместо того чтобы действовать, и действовать решительно, струсили и позволили красным в том лагере орать о своих взглядах. Ох, любопытно будет взглянуть на этот район, если военный комендант Гаррис разведет в нем такие же порядки. Или вы думаете, что мы пришли сюда для того, чтобы помогать немецким коммунистам и Советам?.. Поймите же, Гаррис, я разглагольствую обо всем этом так горячо не из-за полдюжины каких-то каторжников. Дело вовсе не в них.
– В чем же оно? – спросил Гаррис.
– Я не теряю надежды вдолбить в голову военного коменданта, что он действовал как идиот. Дело в вас, Гаррис!
Комендант испуганно посмотрел на собеседника.
– Во мне?..
– Именно. Вы начинаете походить на тех простаков, которые хотят побороть коммунизм при помощи деклараций и речей, тогда как для этого есть только одно средство – сила!.. А вы вступили зачем-то в нелепую дискуссию с русскими. И они переиграли вас… Что касается этого Кента…
– Он-то и заварил всю кашу. Он и тот русский – Пономаренко.
– Что касается Кента, то о нем мы решим ночью.
– Но что делать с другими?
– Наградить за спасение американского полковника!.. Впрочем, не время шутить. Позаботьтесь о них, ведь вы не давали еще информации об этом лагере?
– Нет, он обнаружен только недавно.
– И отлично. Моя мысль вам ясна?
– Да…
На столе коротко звякнул междугородний телефон. Из штаба командующего сообщили, что высылают нарочного с пакетом особой важности. Говоривший хотел передать еще что-то, но в трубке щелкнуло и все смолкло. Гаррис с досадой швырнул ее на рычаг. Сегодня связь со штабом прерывалась уже третий раз.
– Я должен покинуть вас на некоторое время, – сказал генерал вставая.
– Отправляйтесь. Я бы все равно попросил вас оставить меня одного. На час мне нужен этот кабинет. Идите и пришлите мне капрала.
Вошедшему Динкеру Стэнхоп сказал:
– Скоро сюда придет мистер Кей и еще один человек. Вы знаете его – это майор Хилд из ОСС. Они будут сопровождать людей в штатском. Больше сюда никого не впускать.
Динкер ушел. А через полчаса дверь отворилась, и Кей ввел в кабинет четырех немцев. Пятый человек – майор Хилд – остался у дверей.
Немцы поклонились. Майор козырнул. Кей откашлялся и заговорил. Голос его звучал робко, почтительно. Можно было подумать, что перед Кеем не партнер по бизнесу Стэнхоп, а какое-то очень высокое начальство.
– Сэр, – сказал Кей, – это те люди, о которых я позволил себе просить вас. Отличные люди, сэр…
– Пусть они сядут, – сказал Стэнхоп, нисколько не удивляясь странному поведению Кея.
Немцы сели, но тотчас же поднялись, ибо Кей, наморщив лоб, провозгласил:
– Это, мистер Стэнхоп, джентльмены!
Не глядя на немцев, Стэнхоп несколько раз прошелся по кабинету. Остановившись перед Кеем, он спросил:
– Как имена этих людей?
– Адольф Шраде – горючее для реактивных двигателей, – доложил Кей, – Фриц Никербрунер – искусственный каучук и волокно, Гуго Бот и Эбергардт Шлихтинг – ядерная физика.
Стэнхоп выслушал это с непроницаемым видом.
– Знают ли эти люди, что как военные преступники – а именно такими являются ведущие инженеры нацистской индустрии – они подлежат суду военного трибунала?
– Нет, сэр, я не говорил им еще об этом.
– Напрасно, – строго сказал Стэнхоп. – Впрочем, я не могу особенно винить вас, Кей. До последней минуты мы надеялись…
Он не договорил и сокрушенно развел руками. Наступила пауза. Немцы, вытянув шеи, следили за американцем. Но тот словно не замечал их.
От имени инженеров заговорил Гуго Бот – мужчина лет шестидесяти, тучный, по-видимому, астматик.
– Герр Стэнхоп, – начал он, делая неожиданные остановки между словами, – спасаясь от армий русских, мы проделали путь, преисполненный горести и печали. Теперь все позади. Мы надеялись… и после этого – суд, военные преступники!.. Вы шутили, конечно. Письма, которые мы получали от наших американских друзей…
– Суд – не инициатива американцев, – сухо сказал Стэнхоп. – Его потребовали русские. И мы тут бессильны. Вот почему я ничем не могу порадовать вас. Боюсь, что вам предстоит обратный путь – на восток.
– Боже мой! – воскликнул Кей. – Но ведь там тюрьма, Сибирь!
– Нет, нет, только не это! – простонал Бот. – О, будь проклят этот обманщик Гитлер!
На лице Кея было написано огорчение и глубокое сострадание.
– Сэр, – робко сказал он, – неужели нет никакой возможности спасти этих людей?
Стэнхоп пожал плечами.
– Вы же знаете, Кей: союзнический долг перед русскими…
Встал Шлихтинг – молодой худощавый человек с гладко обритым черепом.
– Хорошо, – резко проговорил он, – я еду на восток, к русским. Но не с пустыми руками, а со своими записями, которые кое-что значат для тех, кто интересуется физикой атома!
– Вы не сделаете этого, Эбергардт! – воскликнул Гуго Бот.
– Сделаю! И они, уверяю вас, не станут резать курицу с золотыми яйцами.
– Сэр, – тихо сказал Кей, – а что, если они исчезнут?
Стэнхоп изобразил на своем лице удивление.
– Исчезнут, – повторил Кей. – На время этих людей в Германии не окажется. Ведь могут же они несколько лет прожить и работать в другой стране!
Наступила пауза. Казалось, Стэнхоп обдумывал предложение. Немцы, не отрываясь, глядели в его лицо.
– Исчезнут, исчезнут… – Стэнхоп оживился. – А ведь это идея, Кей!.. Впрочем, нет. Нет такой страны, куда за ними не дотянулась бы рука Москвы!
– Есть такая страна, – воскликнул Кей.
– Чепуха.
– Это Америка, сэр!
Шлихтинг заявил, что не сделает и шага за пределы Германии. Никто не обратил внимания на его слова. Все наблюдали за Стэнхопом, а он медлил с ответом.
– Нет, – наконец сказал Стэнхоп. – Официальным путем это невозможно.
– То, что невозможно для других, не всегда препятствие для вас, сэр, – льстиво проговорил Кей.
Стэнхоп покачал головой. Завтра или послезавтра передача военных преступников русским военным властям должна состояться. И единственно, что еще можно сделать для этих джентльменов, это позаботиться об их семьях. Он всегда ценил деловые связи с германскими коммерсантами и учеными…
Стэнхоп встал, давая понять, что беседа окончена.
Гуго Бот вскочил на ноги.
– И это все?! – воскликнул он. – Нет, я согласен! Я поеду куда угодно, но только не на восток!
– Я тоже, – медленно проговорил Шраде. – Мне не из чего выбирать.
– Вы, Никербрунер? – спросил Бот.
– А семья?.. Впрочем, сделанного не зачеркнешь. А сделано слишком много… Еду.
Шлихтингом овладела паника. Он метался от одного немца к другому, упрашивая, уговаривая, требуя не ехать. Конец этой сцене положил Бот. Он силой усадил Шлихтинга в кресло и злобно сказал:
– Попробуйте остаться, и я сам напишу русским, какой вы святоша!.. А мы, – он яростно сжал кулаки, – мы еще вернемся сюда! Они вспомнят еще Гуго Бота!
Шлихтинг затих. Все обернулись к Стэнхопу.
– Мы готовы, – сказал Бот.
– Хорошо, – ответил Стэнхоп. – Но я рискую. На карту ставится все – мое доброе имя, репутация, мои деньги. И риск должен быть оплачен.
Он вынул перо и в течение минуты писал на листке бумаги.
– Два условия: вы подписываете вот это и улетаете немедленно. Самолет?
– Готов! – сказал майор у дверей.
Бот прочитал бумагу.
– Пять лет? – испуганно спросил он.
– Да, пять лет хорошей работы на меня.
Махнув рукой, Бот подписал. За ним поставили свои подписи остальные немцы. Стэнхоп бережно сложил и спрятал бумагу, потом обернулся к Хилду.
– Прямо на аэродром, Хилд! Вы летите с этими людьми и сдаете их… вы знаете кому.
13
Когда за немцами закрылась дверь, Кей бросился в кресло и залпом выпил стакан воды.
– Уф, – простонал он, – это было чертовски тяжело!
Американцы встретились взглядами и расхохотались. Они долго смеялись, вытирая слезы, кашляя и сморкаясь. Стэнхопу стало жарко. Он снял пиджак и повесил его, расстегнул манжеты сорочки, завернул рукава.
– За эти полчаса они выжали меня, как лимон. Но мы добились своего: эти люди едут в Штаты добровольно. А они здорово нужны там. Хозяин может быть доволен.
Капрал Динкер доложил, что пришел Векслер. Стэнхоп схватился за голову.
– Я и забыл о нем! У вас все готово, Кей? Тот кивнул, и капрал ввел гостя.
Векслер выглядел усталым, расстроенным. Он молча снял пыльник и шляпу, также молча опустился в кресло.
– Срок истек, – сказал Стэнхоп после продолжительного молчания.
– И второго срока не будет, – добавил Кей.
Векслер решительно заявил:
– Ваше предложение принять невозможно. Фирма не может согласиться продать свои заводы.
– Тогда я не завидую ни вам, ни фирме, – пожал плечами Стэнхоп. – Вы проиграете.
– Но ведь мы предложили вам то, что никогда ни одна фирма не предлагала другой. Эти условия…
– Мы не фирма, – прервал его Стэнхоп, – мы – победители!
Векслер был в смятении. Он предложил американцам такие условия, что, приняв их, они становились такими же владельцами заводов, как и немцы. Стэнхоп и Кей говорили о дружбе, взаимопонимании, сотрудничестве. Неужели это пустые слова? И потом ведь Стэнхоп и Кей не вложили в дело ни копейки! В конце концов их предложение идет вразрез с понятиями о чести!..
Американцы сидели молча, лишь время от времени иронически поглядывая на собеседника. И Векслер испробовал последнюю возможность достичь компромисса. Он предложил оплатить намечаемую долю Стэнхопа и Кея золотом! Но Стэнхоп был равнодушен. Очевидно, Векслер плохо понял его. Речь идет не о каких-либо компромиссах. Им нужны заводы. Они должны владеть ими целиком и безраздельно.
Векслер встал. На лице его было написано негодование. В течение этой недели Стэнхоп и Кей непрерывно увеличивали свой нажим на него. Он был великодушен, отступал шаг за шагом, соглашаясь на все более выгодные для них условия. Но есть предел всему! Ведь поступив по совету американцев, хозяева заводов останутся на улице. Они станут нищими!
Стэнхоп был невозмутим. Он вынул бумагу, разгладил ее, пристукнул по ней ладонью.
– Подписывайте и получайте свои десять миллионов. Верьте, и это слишком высокая цена за заводы, которые должны по репарациям отойти к русским.
– Мои заводы? – вскочил взволнованный Векслер.
Кей усмехнулся и вытащил из портфеля толстую папку. Он раскрыл ее и передал немцу. Тот прочитал и выпустил документ из рук. Папка заключала перечень предприятий, подлежащих репарациям, и среди них значились предприятия фирмы «Хофт унд Векслер, химические заводы».
– Ну, – сказал Стэнхоп, – вы убедились теперь, что дело достаточно серьезно? Ваше положение я бы назвал катастрофическим. И мы, как вы видите, действуем в ваших же интересах.
Кей вздохнул и высказал предположение, что, быть может, второй вариант – передача заводов Советам – больше устраивает господина Векслера.
– Но ведь все равно уже поздно, – пробормотал немец. – Заводы в репарационных списках.
– Это не ваша печаль, – усмехнулся Стэнхоп. – Ваше дело подписать бумагу и получить свои деньги. Об остальном будем беспокоиться мы. Это влетит нам в кругленькую сумму, но что делать?..
Немец все еще колебался. Тогда Кей нажал на спрятанную под столом кнопку звонка. В ответ на это на столе зазвонил телефон. Стэнхоп протянул к нему руку, но Кей сделал ему предостерегающий знак. Аппарат прозвенел снова. Он стоял возле Векслера, и тот машинально снял трубку. Спрашивали военного коменданта. Векслер ответил, что генерала Гарриса нет. В трубку продолжали говорить. Немец слушал с каждой секундой все более взволнованно, потом медленно положил трубку на рычаг.
– Звонили из штаба командующего, – пробормотал он. – Просят немедленно вернуть документ по репарациям для передачи его советскому военному командованию.
Наступила пауза. Молчание, длившееся несколько минут, прервал Стэнхоп.
– Надо решать, – мягко сказал он. – Ладно, Векслер, одиннадцать миллионов марок. И пятьсот тысяч – лично вам!
Кей сделал протестующее движение, но Стэнхоп остановил его.
– Слово есть слово. Что сказано, то сказано.
Векслер глубоко вздохнул, схватил перо и подписал документ. Потом он встал, взял шляпу и плащ и, волоча его по полу, ушел.
Никто не посмотрел ему вслед. Кей сделал движение – взять бумагу. Однако Стэнхоп с живостью, которую трудно было бы предположить в нем, выхватил документ из-под руки партнера и спрятал во внутренний карман пиджака, который тотчас же и надел.
– Эту бумажку лучше всего хранить у сердца, – усмехнулся он.
– Быть может, мы спрячем ее в мой портфель? – предложил Кей, льстиво заглядывая в глаза собеседника.
– Только у сердца, – возразил Стэнхоп. Он ласково погладил грудь пиджака. – Черт, здесь как будто даже стало теплее!
Довольный своей шуткой, он захохотал. Американцы наполнили стаканчики и выпили.
– Но… честно, Вильям! – сказал Кей.
– Вы имеете дело со мной!
– Это-то меня и тревожит.
– Честно, Кей, только честно, – успокоил партнера Стэнхоп. – Можете спать спокойно. Здесь хватит на двоих.
Кей выдрал из папки лист, который только что показывал Векслеру.
– Чистая работа! – воскликнул он, вертя лист перед носом Стэнхопа.
– Еще бы, – усмехнулся тот. – Так, как подделывает документы Мортимер Кей!..
– Другие поступили бы с этим немцем еще хуже. А у нас он даже выиграл на этой комбинации.
– У вас выиграешь, – протянул Стэнхоп, глядя в колючие глаза Кея. – Не хотел бы я стать вашим конкурентом, старина. Но надо отдать вам должное. Вы битком набиты чудесными идеями. Не всякий догадался бы вставить в эту папку один-единственный листик…
– При виде которого беднягу Векслера едва не разбил паралич!
– А потом этот телефонный разговор. Он был сюрпризом и для меня. Кто звонил?
– Э, один из моих людей. Он дежурил в соседней комнате.
– Нет, вы гений, Кей. Телефон доконал его. Это был удар в челюсть!
– Нокаут!.. А листик этот мы сожжем… Никогда не следует оставлять следов.
Кей поджег бумагу и держал ее в руках, пока она не сгорела вся.
14
Вошел Гаррис. Он сообщил, что распорядился и сейчас в лагерь выезжает группа надежных людей для наведения там порядка. Эти каторжники еще вспомнят генерала Гарриса!
Гаррис видел сияющие физиономии Стэнхопа и Кея и только собирался расспросить гостей о причине такого хорошего настроения, как вошел капрал Динкер и доложил, что вернулся Векслер, который просит принять его всего на несколько минут. К удивлению Гарриса, Стэнхоп и Кей выказали к Векслеру полнейшее равнодушие и отказались говорить с ним – Динкеру было приказано доложить, что их уже нет в комендатуре.
Когда капрал вышел, Стэнхоп показал Гаррису бумагу, подписанную Векслером. У генерала перехватило дыхание.
– Ловко! – только и смог выговорить он.
– Мы охотились за этими заводами почти двадцать лет, – с гордостью сказал Стэнхоп.
– Награда за труд пришла. Теперь они ваши, – не скрывая зависти, воскликнул военный комендант.
– И ваши, Гаррис!
– Мои?.. Вы шутите!
Стэнхоп снисходительно похлопал генерала по плечу.
– Ладно, Джордж, не все же время ругать вас. Мы решили назначить вас наблюдающим за этими заводами.
Гаррис был растроган. Он разволновался еще больше, когда Стэнхоп сообщил, что для начала он получит полпроцента акций и десять тысяч долларов.
– Дальнейшее, – сказал Кей, – зависит от того, как эти заводы будут обеспечены рабочими, энергией, сырьем.
– Словом, – заключил Стэнхоп, – все в ваших руках, дружище.
– Все будет хорошо, можете не сомневаться в этом! – воскликнул Гаррис. – А этот идиот Векслер…
Стэнхоп прервал его. Кстати, о Векслере. Надобность в Векслере уже отпала. Больше того, если он начнет болтать лишнее и слоняться вокруг этих заводов, то ничего хорошего не произойдет.
– Он не будет слоняться вокруг моих заводов, – с угрозой проговорил генерал.
Кей посоветовал военному коменданту побольше разузнать об этом немце. В это смутное время не безгрешны и ангелы. И если бы Векслер вдруг оказался нацистом, военным преступником или чем-нибудь в этом роде…
– У него физиономия гангстера, – заявил Гаррис.
– Вот-вот, – кивнул Кей. – Мы расплатимся честно, но что случится с ним потом – это дело военных.
Гаррис поднял стаканчик виски.
– Вы рассуждаете, как Сократ. Это дело военных!
И он опрокинул стаканчик в рот.
Генерал предложил осмотреть заводы. Стэнхоп и Кей согласились. Все они надели шляпы и пальто и готовились спуститься к машине. Однако поездку пришлось отложить. Капрал Динкер доложил, что военного коменданта спрашивают двое русских – полковник и майор.
Гаррис растерянно оглядел собеседников.
– Впустите их, – сказал Стэнхоп. – Посмотрим, чего они хотят.
Капрал ввел в кабинет посетителей. Вперед шагнул полковник – высокий, широкий в плечах и тонкий в талии, со смуглым лицом, с которым приятно контрастировали светлые глаза и пепельно-серые волосы. «Такой бы мог сниматься в кино и делать большие дела», – подумал Стэнхоп.
Гость представился – полковник Ребров, комендант соседнего участка. Он назвал своего спутника – майор Афонин, помощник военного коменданта.
Русские и американцы познакомились. Касаясь цели своего визита, Ребров указал, что до сегодняшнего дня граница его района проходила в сорока километрах к востоку отсюда, и он с помощником прибыли к соседям решить несколько дел.
Гаррис любезно усадил гостей в кресла. В это время к подъезду комендатуры подкатил виллис. Из него выпрыгнул нарочный и торопливо взбежал по ступеням крыльца.
– Срочный пакет военному коменданту, – сказал нарочный Динкеру. – Приказано вручить немедленно и лично.
Динкер вошел в кабинет. Генерал был увлечен беседой.
– Пакет? – сказал он. – Отдадите после.
– Но нарочный сказал…
– Проваливайте, капрал!
Динкер пожал плечами и вышел.
Комендант продолжал прерванный разговор.
Да, он весьма рад приезду своих русских коллег. По правде говоря, он и сам собирался посетить советскую зону, но все никак не удавалось – дела, дела… Гаррис сокрушенно развел руками. Кстати, что пьют офицеры? Ему хорошо известно, что русские, как и американцы, знают в этом деле толк!
Ребров и Афонин попробовали отказаться, но Гаррис покачал головой и поднял палец:
– Великий Марк Твен советовал никогда, ни при каких обстоятельствах не отказываться от выпивки. Это самое умное, что я когда-либо прочитал в книгах!
И генерал разлил коньяк. Все подняли рюмки.
– За наших славных союзников! – сказал Кей.
Ребров и Афонин наклонили головы и выпили. Русский полковник понравился Стэнхопу – он выглядел скромным и воспитанным человеком, отлично умел держаться. Американец придвинулся к нему поближе, предложил сигару, зажег спичку.
– Знаете, – сказал Стэнхоп, – вы первые офицеры Советов, которых мы видим так близко. И если так выглядит вся ваша армия, то мы можем только гордиться и…
Ребров усмехнулся.
– Это не лучший способ составить себе мнение о Советской Армии.
– Но мы здесь недавно и не имели еще случая… И потом мне нравится этот способ!
– Все-таки я настаиваю на своем, – сказал Ребров. – Тем более что мы должны высказать вам кое-какие неприятные вещи и вряд ли понравимся.
Гаррис беспокойно посмотрел на советского офицера. А тот продолжал:
– Месяц тому назад сюда заглядывали наши разведчики. Они установили, что в районе имеется два концлагеря, в которых содержатся советские граждане… Карту, майор!
Майор Афонин разложил на столе карту.
– Вот они, эти лагери. Один – большой: до пяти тысяч пленных. Вам известно, генерал, что за день до вступления сюда американских войск лагерь был разрушен, а пленные исчезли? Впрочем, пленные не исчезли. Их уничтожили… А ведь было условлено, что этих несчастных будут выручать именно ваши войска!
– Мы не успели, – пробормотал Гаррис.
– Это могло случиться… На войне многое случается. Но вот странно: не пострадал ни один промышленный объект вашего района, хотя известно, что немцы готовили их уничтожение. Они думали, что сюда придет Советская Армия… В этом случае американской армией была проявлена достаточная оперативность.
Стэнхоп встал. Он заявил, что разговор стал походить на следствие, и это ему не нравится. Кстати, вряд ли генерал Гаррис обязан отчитываться в своих действиях перед кем-либо, кроме своего командования.
Ребров пожал плечами и промолчал.
– Теперь о другом лагере, – сказал он после паузы. – Мы были и в нем. Там та же картина, исключая каменный подвал, стоящий в стороне от бараков. Он был цел. На нарах лежали связанные немец и два американских солдата. Они рассказали, что до сегодняшнего утра в подвале содержались пленные – пятеро русских и американец. Часа за четыре до нашего прибытия они связали охрану и бежали.
Гаррис вскочил с места. Куда бежали эти люди? Ребров пожал плечами и сказал, что это его не интересует. Его интересует другое: что это за люди, зачем их держали в лагере и почему им понадобилось бежать? В самом деле, ведь советских граждан, находящихся в немецких лагерях, бывших, конечно, надлежит незамедлительно передавать органам советских Вооруженных Сил. В данном случае это не было сделано. Странная история…
Гаррис сидел и обдумывал ответ. Его выручил Кей. Он зажег сигару, затянулся и, усмехнувшись, заявил, что не видит в этой истории ничего странного. Очевидно, эти люди – чистейшей воды преступники. Это ясно даже младенцу. Пусть советский полковник рассудит сам: немцы уничтожили всех заключенных и пощадили только их!
– Да, да, – подхватил Гаррис, благодарно взглянув на Кея, – конечно же это преступники! О, попадись только они в мои руки!..
То, что произошло в следующую минуту, заставило генерала Джорджа Гарриса вскочить с места, раскрыть от изумления рот и застыть в состоянии полнейшей растерянности.
Распахнулась дверь. В нее влетел насмерть перепуганный капрал Динкер, а за ним – нарочный, дожидавшийся в приемной с пакетом. Затем в кабинет вошли, вернее ворвались, раскрасневшиеся, запыхавшиеся, со сверкавшими от волнения и гнева глазами капитан Пономаренко, капитан Кент, врач Беляев, сержант Джавадов, профессор Буйкис и старшина Островерхий.
Капитан Пономаренко огляделся, сделал несколько шагов вперед и остановился перед советским военным комендантом.
– Разрешите, товарищ полковник? – прерывающимся от усталости и волнения голосом проговорил он.
– Кто вы такой? – сурово спросил его Ребров.
– Командир звена советских бомбардировщиков капитан Александр Пономаренко!.. Теперь – пленный… Шестеро пленных, товарищ полковник, бежали из бывшего немецкого, а теперь американского концентрационного лагеря. Мы пришли сюда, чтобы потребовать правды от военного коменданта генерала Гарриса. Пусть он отвечает, если может!.. Мы больше недели томились в каменном подвале уже после окончания войны!..
– Так это те самые люди, генерал? – удивленно спросил Ребров.
Генерал Гаррис что-то пробормотал.
В кабинет вбежала Патти. Она кинулась к Кенту, к Пономаренко, смеясь и плача. Воспользовавшись суматохой, капрал Динкер и солдат выскользнули из кабинета.
– Боже мой! – повторяла Патти, обхватив руками голову Кента и вглядываясь в его лицо, – боже мой, что они сделали с вами, Дэвид! – Девушка обернулась к советскому пилоту: – И с вами, капитан… О, на вас кровь! Вы ранены?..
Советский пилот нахмурился.
– Это старая рана, – сказал он.
Капитан Кент прятал за спину левую руку. С нее на пол падали тяжелые темные капли.
– И вы ранены, Дэвид!
Кент улыбнулся – одним ртом: глаза его, ставшие вдруг жестокими, неотрывно сверлили Гарриса.
– Пустяки, Патти, – сказал он, – в нас сегодня стрелял американский солдат. Это, конечно, легкая рана, но она не заживет всю жизнь!
– Я не знала, – взволнованно говорила Патти, – я ничего не знала, Дэвид! Только четверть часа назад мне случайно сказали, что где-то нашли пленных и одного из них зовут Кент! Дэвид, мистер Пономаренко, ведь вы верите Патти?
Здесь радистка оглянулась, увидела Реброва, Афонина. О, теперь она поняла все! Генерал Гаррис пригласил сюда русского полковника, чтобы при всех рассказать ему о подвиге экипажа советского бомбардировщика, отблагодарить от имени американцев!.. Девушка вытащила из кармана кителя сложенный лист бумаги и торжественно протянула его полковнику Реброву.
– Возьмите эту газету, сэр, – воскликнула она. – Здесь рассказано о героизме ваших соотечественников!
Ребров быстро пробежал глазами заметку.
– Все так и было? – спросил он Гарриса.
Тот не ответил, занятый своими ногтями, которые он сосредоточенно разглядывал.
– Но там говорится о полковнике Гаррисе, – сказал майор Афонин, также прочитавший заметку.
– Это произошло полгода назад, – пояснила Патти. – Тогда мистер Гаррис был полковником!
– Понимаю… Но какое же преступление совершили эти люди? – Ребров вопросительно посмотрел на американцев.
Патти всплеснула руками:
– Преступление?!
Кент шагнул вперед.
– Нет, друг, – остановил его старшина Островерхий, – теперь я говорить желаю! – Он повернулся к Реброву и, встав смирно, торжественно, вполголоса, со сдержанной силой сказал: – Партией, Родиной своей клянусь, товарищ полковник, – не совершали мы преступлений, с совестью жили. Каждый в лагере настоящим человеком был. Я, старшина Остап Островерхий, за каждого ручательство даю – и вот за этого капитана Кента, американца! Подходящий, скажу, он парень. А этот, – презрительно мотнул он головой в сторону Гарриса, – этот в душу нам наплевать хотел. А не вышло, хоть и грозился он!
– Не вышло! – воскликнул сержант Джавадов. – Война кончилась, товарищ полковник, а мы из одного плена в другой попали! Сколько дней держал нас в подвале этот… союзник!
Гаррис молчал. О, он бы дорого дал, чтобы оказаться сейчас где-нибудь далеко отсюда. Молчали и Стэнхоп с Кеем. Наступившая тяжелая пауза затягивалась все больше, ибо русские терпеливо ждали. С каждой секундой напряжение нарастало. Поэтому Гаррис страшно обрадовался, когда в возникшей тишине скрипнула дверь и просунувший в кабинет голову капрал Динкер робко, но настойчиво заявил, что нарочный с пакетом не может больше ждать.
Пакет!.. Пакет был выходом из этого, казалось, безвыходного положения! Сославшись на пакет, можно будет отложить неприятный разговор, а он, Гаррис, тем временем что-нибудь придумает. Гаррис приободрился, поспешно взял пакет и потянулся за ножницами.
Однако он не успел вскрыть пакет. Раздался торжествующий возглас Джавадова. Гаррис поднял голову и увидел входящего в кабинет Векслера и метнувшегося к нему советского сержанта. Немец был чем-то страшно перепуган, попытался удрать, но кавказец настиг его и успел схватить за полу плаща.
– Стой, дорогой, – рычал Джавадов, оттаскивая Векслера подальше от двери. – Стой, говорю! Зачем торопишься? Только пришел и уходишь! Так не бывает между знакомыми!
– Векслер, – прошептал Пономаренко.
– Векслер! – заорал в восторге Кент.
Гаррис, к которому уже успел вернуться его апломб, возмутился самоуправством сержанта.
– Оставьте его, – потребовал генерал. – Это мой человек.
Кент обернулся как ужаленный.
– Ваш человек? – широко открыл глаза он.
– Это фашист! – кричал Джавадов. – Тот самый фашист!
Ребров ничего не понимал. Гаррис тоже.
– Сейчас я объясню вам, – сказал капитан Пономаренко.
Бывший гауптман обладал способностью разбираться в обстановке. Он заметил и гневные лица русских, и растерянные физиономии американцев. И Гюнтер Векслер понял, что его последний шанс – это сыграть на каких-то противоречиях, которые возникли в этой комнате между русскими и американцами.
Немец поднял руку.
– Ладно, – сказал он, – я расскажу все сам!
Стэнхоп тяжело поднялся с кресла и подошел к Векслеру.
– Советую вам молчать, – с угрозой проговорил он.
Но Векслеру было не до Стэнхопа.
– Господин полковник, – сказал он, обращаясь к Реброву, – я заявляю, что…
Стэнхоп обернулся к Гаррису.
– Действуйте же, черт вас побери!
Гаррис встал и заявил, что сам будет вести допрос этого человека.
– Нет, – возразил Ребров, – я хочу его выслушать.
Гаррис потемнел от злости.
– Минуту, полковник, – сказал он. – Хозяин здесь я… Убирайтесь, Векслер!
Кент усмехнулся.
– Ну уж нет! Теперь-то он не улизнет. Этот человек командовал отрядом, который едва не схватил вас, генерал, с Патти, а потом ранил и забрал в плен русских товарищей и меня. Он предлагал нам мерзость и, не добившись своего, приказал расстрелять нас!
Кей мгновенно оценил обстановку.
– Убейте его, Гаррис! – завопил он.
Гаррис понял партнера. Он ринулся к немцу, на ходу вытаскивая пистолет. Ребров и Кент с трудом остановили генерала и отобрали оружие. Гаррис тяжело дышал и клялся, что Векслер все равно не уйдет от него.
– Вы кончили, и я могу продолжать? – спросил бывший гауптман.
– Нет, черт возьми! – воскликнул Гаррис. – Вас отведут в тюрьму и мы поговорим там!.. Динкер!
Ребров взглянул на часы и поднял руку.
– Его никуда не отведут… без моего приказания.
Генерал Гаррис окончательно потерял над собой власть. Захлебываясь от ярости и брызжа слюной, он выкрикивал отдельные фразы и слова, смысл которых заключался в том, что здесь американская зона и командует в этой зоне только он, Гаррис, а не кто-нибудь другой, будь это сам дьявол.
– Нет, – сказал полковник Ребров, когда американец немного успокоился. – С шестнадцати часов сегодняшнего дня этот район отходит к советской зоне оккупации Германии… Мы впустили войска союзников в Берлин.
– Бросьте шутки! – вскричал встревоженный Стэнхоп.
– Мы не шутим, – пожал плечами Ребров. – Вот приказ.
– Приказ!.. Ха, приказ! Пусть тысячи приказов ваших начальников. Здесь в ходу только американские приказы!
– Резонно, – все так же спокойно проговорил полковник Ребров. – И я знаю: соответствующий приказ вашего командования должен быть и у генерала.
Генерал Гаррис развел руками и заявил, что не имеет подобных приказов. Ребров почувствовал, что американец говорит искренне, и в недоумении пожал плечами.
И тут майор Афонин вспомнил, что американскому коменданту доставлен срочный пакет.
Гаррис вскрыл пакет, прочитал и молча швырнул его на стол. С чувством растерянности прочли содержимое пакета Стэнхоп и Кей.
Ребров сказал:
– Район переходит к нам в шестнадцать часов. Сейчас шестнадцать часов и пять минут.
Кей взглянул на часы.
– Вы ошибаетесь. Сейчас только пятнадцать часов и пять минут – мой хронометр работает точно.
– Сейчас шестнадцать часов и шесть минут, – сказал советский полковник, посмотрев на свои часы. – Вот уже шесть минут, как вы пытаетесь хозяйничать в чужой зоне… Что же касается часов, то документ составлен с учетом московского времени. По нашим часам велась война. По ним сейчас пишутся и приказы союзников. Согласитесь, что это только справедливо!
На улице возник какой-то рокот, гул. С каждой минутой он нарастал. В город в строгом строю, как на параде, вступала колонна танков. За ней двигались грузовики с артиллерией, моторизированная пехота.
Ребров подошел к окну, с минуту постоял возле него, заложив за спину руки. Он обернулся.
– Советская Армия вступила в свой район, – объявил полковник. – Генерал Гаррис, потрудитесь сдать его мне.
За окнами послышался рев моторов тяжелого самолета. Машина с американскими опознавательными знаками пронеслась над домом и взмыла вверх. Стэнхоп и Кей торопливо прошли к окну, проводили самолет взглядом. Улыбнувшись, они пожали друг другу руки.
Вошел советский майор. Подойдя к полковнику Реброву, он что-то тихо доложил ему, повернулся и тотчас же вышел.
Ребров едва заметно улыбнулся и, обратившись к Гаррису, сказал:
– Вы нарушаете порядок, генерал. Ваши люди пытались сейчас вывезти из советской зоны четырех немцев, не имевших на то установленных документов. Их сняли с самолета в последний момент. Конечно, мы беспрепятственно разрешили вылет находившемуся в той же машине майору вашей армии.
Увидев, как вытянулись лица Стэнхопа и Кея, полковник Ребров участливо спросил:
– Вы чем-то огорчены, господа? Быть может, устали? Идите, я не задерживаю вас.
Американцы переглянулись и направились к выходу. У Стэнхопа хватило выдержки остановиться у порога, зажечь сигару и швырнуть спичку в угол. Потом они скрылись за дверью.
Ребров приказал майору Афонину увести Векслера. Тот всполошился, торопливо подошел к коменданту. Он много знает, он должен рассказать русским все об этих американцах!
– Уведите его! – брезгливо сказал полковник Ребров.
– Жаль, – вздохнул капитан Кент, когда за фашистом закрылась дверь. – Так хотелось дать ему в морду. Но у вас получилось лучше, полковник. Именно таким я представлял себе советского полковника. Мне очень хочется сказать вам что-нибудь хорошее…
Ребров улыбнулся. Кент подошел и крепко стиснул руку полковника.
– Я знаю – это рука друга! – воскликнул пилот.
Гаррис поднялся с кресла и, не глядя на присутствующих, сказал, что придет вечером. Тогда он и советский комендант покончат с делами. Он постоял с минуту, шевеля пальцами – как бы собираясь что-то сказать, но ничего не сказал и медленно направился к выходу. Кент, сжав кулаки, глядел ему вслед.
Патти, не перестававшая плакать, разрыдалась с новой силой.
– Стыдно… как мне стыдно, – повторяла она.
Кент и Пономаренко успокаивали девушку.
К ним присоединился и Ребров. Патти постепенно затихла и теперь лишь изредка всхлипывала.
Кент поднял голову и оглядел товарищей.
– Надо прощаться, друзья, – печально сказал он. – Мы много перенесли горя. Но сегодняшний день – для меня самый тяжелый… И Патти сказала правду: нам с ней сейчас очень стыдно… Вы плохо думаете об американцах, полковник?..
– Зачем же, – ответил Ребров. – Мы любим и уважаем народ вашей страны. Вот и сегодня я познакомился с одним хорошим американцем.
– О, спасибо! – воскликнула Патти. Она подошла к Реброву, обняла и поцеловала его. – Спасибо, сэр! И… простите нас за этого Гарриса! Кто бы мог подумать!..
Кент начал обходить товарищей прощаясь. Он и Пономаренко обнялись, с минуту глядели друг другу в глаза, трижды поцеловались.
Советский пилот сказал:
– Вы вели себя мужественно, Дэвид, но неосторожно. И я очень боюсь за вас. Берегитесь, они могут наделать вам гадостей.
– Кент, друг! – воскликнул Джавадов. – Ко мне едем, на Кавказ, в Азербайджан! В моем доме, как брат, будешь жить! А вас, – он обернулся к Патти, – сестрой назовем. Дом дадим, корову, овец дадим! Кент на тракторе пускай работает, вы – в школе, наших детей по-английски учить будете! Едем к нам, дорогие! Какой у нас хлопок, какой виноград!..
Все улыбнулись горячей, взволнованной речи кавказца. Но Кент сказал, что не может принять этого предложения. Нет, его дом за океаном! И у Дэвида Кента там сейчас много важных дел. Там, черт возьми, должны узнать наконец правду! Кент улыбнулся и крепко стиснул руку Джавадова.
Вошли американский офицер и два солдата – в белых шлемах. «Военная полиция», – подумал Кент и спросил:
– В чем дело?
– Капитан Дэвид Кент? – сказал офицер.
– Он самый.
– Вы арестованы. Приказ генерала Гарриса.
Пономаренко вздрогнул и шагнул вперед. Ребров мягко взял его под руку.
Солдаты военной полиции стали по бокам арестованного. На минуту Кент побледнел, растерялся. Но вот он снова взял себя в руки, выпрямился, расправил плечи.
– Прощайте, друзья, – сказал он. – Я всегда буду думать о вас. Вспоминайте обо мне и вы… Прощайте, Патти. Я очень люблю вас.
Александр Насибов Рифы
Глава первая
Белое солнце стояло в зените. Белое, будто выгоревшее от зноя, небо простиралось над зеленым морем и серой лентой дороги, по которой мчался одинокий мотоциклист. И хотя скорость была велика, тугие струи встречного ветра не холодили, а жгли голову, шею, грудь водителя.
Машина взлетела на бугор. Здесь начинался крутой поворот. Джафар наклонился, точно вписал мотоцикл в вираж, и, вырвавшись на прямую, прибавил газу.
В следующую секунду газ был сброшен, нога прижала педаль тормоза. Впереди на правой обочине стоял легковой автомобиль. Возле него были двое. Один поднял руку.
Неуловимым движением Джафар подал машину в сторону, «притер» ее к багажнику «Волги». Левый передний баллон автомобиля был разодран. К нему тянулся черный извилистый след. «Волга», видимо, шла на большой скорости, баллон лопнул, однако молодчина шофер удержал автомобиль на дороге, даже поставил его за проезжей частью шоссе. Можно понять, чего это стоило: разлетелся-то передний баллон!
Шофер, торопливо орудовавший домкратом у передка машины, поднял побагровевшее от напряжения лицо, оглядел мотоциклиста и вновь принялся за работу.
К Джафару подошел офицер милиции, коротким движением подбросил руку к козырьку фуражки.
– Капитан Белов! – Он коснулся пальцами крыла мотоцикла. – Друг, уступи машину. До города тебя подвезут. Через час встретимся в управлении, верну в целости!
У Джафара пересохло во рту. Отдать новенькую «Яву»!.. Полтора года копил деньги. В Москву ездил за машиной. И запросто отдать ее первому встречному! А он, может, и ездить толком не умеет…
– Вот так надо, друг! – Капитан провел ребром ладони по горлу. – Очень прошу!
– А если… вместе? – хрипло сказал Джафар.
Капитан сощурил глаза.
– Ладно!
И уселся на второе седло.
…Удивительная машина «Ява-350»! Кажется, только тронулась, а скорость уже под шестьдесят. Так и рвется из-под водителя, будто живая.
В московском магазине он долго терзался: какой мотоцикл брать? Собственно, решение созрело еще в Баку: куплена будет одноцилиндровая «Ява». Она дешевле, весит меньше, экономичнее в расходе горючего. Да и мотор у нее мощный – двенадцать сил!
И все же, оплатив чек, он вдруг оглядел длинную шеренгу нарядных мотоциклов, поставил на место отобранную машину, принялся что-то доказывать продавцу. Потом помчался в сберкассу, взял остаток денег по аккредитиву и вновь ворвался в магазин, когда там уже вешали табличку: «Закрыто на обед». Он купил мощную двухцилиндровую красавицу «Яву-350».
Стрелка спидометра приблизилась к цифре 70.
– Быстрее можешь? – капитан напряг голос, чтобы перебороть свист ветра.
Джафар довернул ручку газа. Мотор запел напряженнее, злее. Стрелка указателя скорости миновала 80-километровую отметку, медленно двинулась дальше.
Отличная подвеска у «Явы». Телескопические амортизаторы добросовестно гасят толчки. Но восемьдесят пять километров – это скорость, каждая выбоинка на дороге дает о себе знать. А ну напорется на гвоздь колесо «Явы», как баллон милицейской «Волги»!..
Впереди пылил большой самосвал. С каждой секундой он был все ближе.
– Обходи! – скомандовал капитан.
Мотоцикл с воем пронесся мимо дизельного чудовища.
И вдруг Джафар увидел, что дорога разбита. Секунду назад поврежденный участок шоссе был закрыт желтым крылом самосвала. Теперь выбоина находилась прямо перед колесом «Явы».
– Держись!
В последний миг Джафар рванул вверх руль машины.
Удар!
Мотоцикл сделал длинный прыжок, прыгнул снова, затем еще раз.
– Спокойнее! – капитан похлопал водителя по плечу.
Но Джафар был уже во власти гонки. На скорости девяносто километров они обошли два лесовоза, «Победу» и серебристый рефрижератор.
Впереди обозначился перекресток. По боковым шоссе к нему ползли автобусы. Два автобуса, с обеих сторон. Один уже готовился выехать на магистраль.
– Свет, – крикнул Белов, – включи свет!
Джафар мгновенно зажег фару, заработал переключателем. Ничего, что сейчас день и ярко светит солнце. Свет фары, пусть маленький, бледный, свет все же заметен. Видно, что он мигает. Дежурящий у перекрестка инспектор должен понять, что мотоцикл просит дороги, должен остановить автобусы, чтобы предотвратить столкновение. Разыскивать лихачей, пронесшихся на бешеной скорости, он будет потом!..
Еще несколько километров, и мотоцикл влетел в город.
Последние минуты Джафар ехал медленнее, а разок умышленно тряхнул пассажира на ухабе. Он уже знал, что везет капитана милиции к центральному рынку. Значит, вся эта погоня – за каким-то спекулянтом. А он-то думал…
Рынок. От его ворот отъехало такси. Соскочив с мотоцикла, капитан преградил путь «Волге».
– Кого привезли? – спросил он, наклонившись к водителю.
Шофер, пожилой человек с пышными усами, широко ухмыльнулся. Блеснули крепкие белые зубы.
Лицо у таксиста было морщинистое, дряблое. И два ряда ослепительно белых зубов!
«Вставные», – догадался Джафар.
– Кого привез? – переспросил водитель. – Конечно, пассажира, дорогой!
– Вы разговариваете с офицером, – строго сказал Белов. – Куда ушел пассажир?
Таксист неторопливо вылез из автомобиля, достал сигарету, не спеша положил в рот.
– Не знаю. – Он зажег сигарету, подержал в пальцах и только тогда закончил фразу: – Не знаю, где пассажир, товарищ капитан. Мое дело привезти клиента, получить деньги. Дальше – его дело. На рынок ушел.
– Документы! – Белов отобрал у водителя шоферское удостоверение и путевой лист. – Будете ждать здесь!
Он повернулся к Джафару, сделал ему знак побыть возле такси и побежал к воротам рынка.
Джафар едва сдерживал раздражение. Надо же, чтобы именно его остановила на дороге милиция! Гнали как сумасшедшие, едва не угробились на яме, и во имя чего?
Он подошел к лоточнице, торговавшей съестным, купил пирожок, стал жевать. Изредка он бросал косые взгляды на таксиста. Очень хотелось, чтобы тот попытался сбежать или, на худой конец, порвал какую-нибудь бумагу, зашептался с прохожим… Было бы на чем отыграться!
Но шофер постоял у машины, зевнул и, усевшись в кабину, развернул газету. На приехавшего с офицером милиции мотоциклиста он и не посмотрел.
Итак, «зубастик» привез на базар спекулянта. Следивший за такси милицейский капитан начал погоню. Однако случилась авария, машину настигли только теперь, когда пассажир с «криминальным» грузом ускользнул. Все понятно. Не ясно только, при чем здесь шофер? Мало ли что положат в такси!
У автомобиля появился Белов, стал просматривать отобранные бумаги, сделал запись в блокноте.
– Кого, говорите, привезли?
– Пассажира, дорогой товарищ капитан. – Шофер явно подтрунивал над офицером. – Мужчину. Ну, что еще?
– А вы спокойнее… Где сел пассажир?
Таксист назвал селение, где взял пассажира. Джафар быстро взглянул на Белова: они прибыли в город с противоположной стороны.
– Хорошо, так и запишем. – Капитан рассеянно посмотрел на водителя. – А что вез пассажир?
– Груз.
– В багажнике?
– Да, начальник. Но сейчас багажник пустой!
– Все же откройте.
Шофер в сердцах наклонился к багажнику. Неловкое движение, и он ушиб руку о клык бампера.
– А!.. – Таксист затряс кистью.
Джафар увидел широкое серебряное кольцо на безымянном пальце левой руки таксиста. Заметил украшение и Белов.
– Колечко носите…
– А что? – Таксист зло оскалил зубы. – Запрещено?
– Отчего же? Носите на здоровье!
Белов поднял крышку багажника. В нем были запасное колесо и замасленная брезентовая сумка с инструментом.
Джафар тоже заглянул в багажник. В лицо ударил густой рыбный дух.
– Какую рыбу везли? – спросил Белов.
– Мешки были. – Таксист захлопнул багажник. – Два мешка. Может, рыба. А может, раки. Сейчас много раков, начальник. Что кладут, то везу. Высадил пассажира, получил деньги – до свиданья!
– Ладно, – сказал Белов, возвращая документы, – можете ехать.
Шофер сел в машину. Такси лихо взяло с места.
Обернувшись к Джафару, Белов неожиданно улыбнулся.
– Здорово водишь мотоцикл. Гонщик?
– Хотел стать гонщиком. Прошел полный курс наук. Однако не вышло.
– Что же так?
– Другим делом заболел.
– Футбол? – Белов оглядел крепкую фигуру собеседника. – Нет, скорее штанга. Или борьба?
Джафар покачал головой.
– Тороплюсь капитан… Я, видишь, с вахты. Сутки в море пробыл. В другой раз поговорим. Садись, подвезу, куда надо.
«Ява» подкатила к подъезду городского отдела милиции. Белов написал в блокноте несколько слов, вырвал листок, протянул Джафару.
– Мой телефон. И фамилия, чтобы не забыл. Позвони, когда будешь свободен.
Они расстались.
Джафар поглядел вслед Белову. Невысокий, сухощавый, он бесшумно взбежал по ступеням крыльца, кивнул милиционеру у двери, исчез на лестнице.
Глава вторая
Отъехав от рынка, такси направилось в старую часть города. Небольшие обветшалые домики лепились здесь вдоль извилистых улочек, иной раз столь узких, что на них не разминулись бы два всадника. Над строениями нависала древняя стена со сторожевыми башнями, бойницами и зубцами. Так выглядела знаменитая Крепость, много веков назад положившая начало городу. В ней царили тишина и сумрак, от домов всегда тянуло сыростью и прохладой, и человека, впервые попавшего сюда, не оставляло ощущение неизвестности, тревоги. Казалось, в каждой подворотне подстерегает опасность…
Такси блуждало по Крепости. Водитель, опасавшийся преследования, старательно запутывал след. Наконец машина остановилась. Некоторое время шофер сосредоточенно курил, прикидывая, как быть дальше.
Вчера он угнал этот автомобиль с площадки технического обслуживания таксомоторного парка. Он знал: машина записана на профилактический ремонт, раньше завтрашнего вечера ее не хватятся. Поэтому спокойно ездил по городу и окрестностям.
И вот неожиданная встреча с офицером милиции. Хорошо, если это обычная проверка, случайность. Тогда можно решиться еще на один дальний рейс, привезти на рынок остатки товара. Но вдруг милиция уже ухватилась за конец ниточки, начала распутывать клубок, готовится взять его с поличным?.. Нет, пожалуй, не стоит рисковать. Однако лишний рейс – это деньги, большие деньги.
Деньги! Он сплюнул, злобно выругался… Сколько он помнит себя, всегда только и думал о деньгах, охотился за ними. Иной раз везло, он становился богат. Но деньги не задерживались в руках, быстро исчезали, и тогда охота возобновлялась…
Как же все-таки быть с машиной? Может, в самом деле рискнуть на рейс? Он с сомнением покачал головой, нагнулся и, пошарив под сиденьем, вытащил пучок пряжи – концов, как называют шоферы этот обтирочный материал.
В течение четверти часа он старательно орудовал концами в кабине, уничтожая возможные следы, которые, конечно, будет искать милиция, как только обнаружит похищенный автомобиль.
Закончив, он сунул концы в карман и, не оглядываясь, пошел прочь по пустынной улице.
Человек этот, специалист по кражам в пассажирских поездах, полгода назад был выпущен из заключения. Однако, оказавшись на свободе, он не совершил ни единой новой кражи (если не считать угона такси). Он целиком был поглощен поисками одного своего знакомца и больше всего на свете боялся, что не удержится, возьмется за старое, оплошает и «сгорит», прежде чем найдет этого человека.
Судьба столкнула их в колонии, где Солист (такова была кличка поездного вора, предпочитавшего работать в одиночку) был поставлен бригадиром на лесоповале. Началось с того, что одному из заключенных устроили «темную» – его накрыли одеялом и принялись избивать. Бригадир вовремя подоспел к месту происшествия, освободил пострадавшего. Им оказался некий Владислав Буров, бывший торговый работник, осужденный на сравнительно небольшой срок за какие-то махинации на продовольственном складе. Он горячо благодарил спасителя, пытался отдать ему часть посылки, только что полученной с воли. Солист подношение отверг, так как стремился окончательно покорить сердце Владислава Бурова.
Мог ли думать Буров, что «темную» организовал ему сам бригадир! Однако так это и было. Неделю назад один из новичков, желая выслужиться перед бригадиром, сделал ему подарок – передал пачку хороших папирос. Дело происходило вскоре после ужина, неподалеку от бараков. Солист тут же закурил. Новичок стоял рядом и подобострастно улыбался. Вдруг он увидел проходившего в отдалении Бурова, удивленно присвистнул. И тут же пояснил, что это крупный скупщик золота и драгоценных камней. Ловкач, каких свет не видал. А сел по пустяковому делу. Выкрутиться, правда, не смог, но сыграл со следователями в кошки-мышки: те так и не догадались о его второй и главной профессии!
– Откуда сведения? – спросил бригадир.
– Да мы с ним из одного города! – воскликнул новичок. – Сам у него золото брал. Я же зубной техник, и мне нужно золото.
Он приводил новые подробности из жизни преступника, сыпал именами, фактами. Солист слушал и… не верил. Однако решил все же прощупать этого человека.
Так родилась идея – провести избиение Бурова и последующее его спасение сердобольным бригадиром. Солист полагал, что это неплохое начало для знакомства.
Он не ошибся в расчетах: Буров клюнул на приманку. Да иначе и быть не могло. Бригадир – фигура видная. Человек, которому он покровительствует, приобретает большие преимущества. Он может быть поставлен на легкую и выгодную работу.
Торгового жулика освободили через год с небольшим. Солист по совпадению вышел на волю в тот же день.
На радостях крепко выпили в поезде. Солист решил использовать скупщика золота в своих целях.
Утром, когда бывший бригадир проснулся, приятеля в купе не оказалось. Буров исчез.
Он долго колесил по стране, разыскивая обманувшего его дружка. След Бурова обнаружился в этом городе. Продолжая поиски, Солист на время изменил правилу – работать без партнеров, вошел в компанию браконьеров, сделался поставщиком икры на черный рынок. За полчаса до того, как его остановил и опросил капитан Белов, он привез и сдал спекулянтам около пятидесяти килограммов свежей осетровой икры. Махинации с красной рыбой и икрой оказались прибыльным занятием – они давали не меньше, чем кражи в поездах, и, кроме того, были намного безопаснее: до сих пор браконьерам все, кажется, удавалось благополучно. Вот только сегодня он едва не попал впросак…
Погруженный в раздумье, он медленно брел по улице. Бодрился, внушал себе, что не произошло ничего особенного. Но на сердце было тревожно, росло ощущение надвигающейся опасности. И Солист вновь вспомнил о скупщике. Только бы добраться до него, хоть одним пальчиком дотянуться!.. А потом, с большими деньгами – подальше отсюда, как можно подальше!..
Время близилось к обеду, но жара не спадала. Он медленно тащился по раскаленному асфальту. Неподалеку от набережной зашел в крытый брезентом павильон. Здесь всегда подавали ледяное пиво.
Вскоре официант поставил перед ним две запотевшие бутылки. Пиво было налито в стакан. Солист уже поднес его к губам, как вдруг рука задрожала, пиво расплескалось. Он с трудом подавил яростное стремление перебежать зал и, подскочив к столику в углу, заглянуть в глаза худому высокому человеку, сидевшему там за стаканом чаю.
Это был Владислав Буров.
Несколько минут ушло на то, чтобы прийти в себя, успокоиться. Наконец Солист отдышался. Слава богу, встретились! Уж теперь-то скупщик не ускользнет, раскроет мошну. Бурова он выпотрошит так, как потрошат икряного осетра!
Он залпом проглотил стакан пива, налил себе еще, с наслаждением выпил и этот стакан.
Глава третья
Джафар стоял на корме катера, только что отвалившего от причала искусственного островка. Застывший посреди моря решетчатый остров чем-то напоминал водяного паука. Только вместо многочисленных ножек-ниточек у него были толстые стальные сваи. Помост, тело острова, высоко поднимался над водой, чтобы в шторм не достало самой большой волной. В центре помоста красовалась устремленная в небо огромная вышка. От ее верхушки и до моря было около шестидесяти метров. Так что, когда Джафар взбирался на полати – крохотную площадку под верхним срезом вышки, – он оказывался как бы на крыше здания этажей в двадцать.
Сегодня Джафар пробыл на полатях от зари и до обеда. Еще накануне мастер приказал сменить сработавшееся долото на конце бурильной колонны в забое скважины, к этому дню уже достигшему двухкилометровой отметки. Чтобы добраться до долота, требовалось извлечь из скважины все трубы – «поднять инструмент», как говорят нефтяники.
Операция началась с наступлением рассвета. Загрохотала могучая лебедка, вытягивая первую «свечу» – длинную тяжелую трубу, из этих труб состоит колонна. Когда, наконец, стальная махина вылезла из устья скважины, вступил в дело механический ключ весом в тонну. Его на тросах подвели к скважине, отвинтили трубу, и лебедка потянула «свечу» вверх.
Джафар был уже наготове в своем вороньем гнезде. Вот верхний обрез «свечи» поравнялся с полатями. Рабочий ловко захлестнул ее веревкой, крепче уперся ногами в настил площадки и, подтянув перепачканную в жидкой глине многопудовую трубу, поставил ее «за палец» – специальный выступ в стене вышки.
А трос лебедочного кронблока уже тащил из недр новую «свечу».
В двухкилометровой бурильной колонне многие десятки «свечей» и подъем инструмента закончили только к полудню. Как гигантские макароны в пачке, выстроились «за пальцем» бурильные трубы. Негодное долото заменили новым. После короткого отдыха все пошло в обратном порядке: одна за другой «свечи» свинчивались в колонну и исчезали в скважине.
Бурение возобновилось. Где-то глубоко под морским дном зубастое долото грызло породы, прокладывая путь к нефтеносным пластам. Работу вела новая вахта. Сменившиеся направлялись в поселок.
Между тем катер быстро бежал к берегу. Стихал грохот бурильного агрегата. Островок уменьшался в размерах, будто уходил под воду. Вскоре можно было различить только вышку. Затем исчезла и она.
Джафар расположился на пустынном пляже, у самой кромки воды. Поселок, конторы промысла и морских разведчиков нефти, причал для катеров, автобаза – все это осталось в стороне. В море маячили свайные помосты с островерхими вышками. Иные скважины находились в работе, но большинство было пробурено. Нефть мчалась на берег по трубопроводам, проложенным на дне Каспия.
Одна вышка стояла на отлете, километрах в четырех от пляжа. Джафару хорошо были видны и сам островок, и темные точки возле него – киржимы и катера. Суда заканчивали укладку нефтепровода. Буровая номер двадцать четыре… Геологи долго спорили, прежде чем дали разрешение пробурить скважину на новом участке: многие считали его бесперспективным. Из двадцать четвертой ударил мощный фонтан нефти!
Жарко!.. Джафар снял безрукавку, расправил плечи, с удовольствием оглядел море. Был один из немногих дней, когда на Каспии полный штиль. Неподвижная вода казалась синей только на горизонте, а возле берега она была серая и блестящая, будто полированный алюминий.
Каспий, или Хазар, как называют его азербайджанцы, – удивительное море. Здесь мирно соседствуют крабы и раки, в сетях рыбаков не редкость белуги с тонну весом, двухметровые осетры и крохотные бычки, огромные севрюги, сазаны.
Сейчас Каспий спокоен, ласков. А стоит вырваться из-за прибрежных гор знаменитому северному ветру, и море мгновенно вскипает, покрывается мелкими злыми волнами. Они быстро растут, дыбятся. И вот уже глыбы бело-зеленой воды обрушиваются на корабли, на устои стальных островов, на прибрежные скалы и рифы.
Лет пятнадцать назад погиб отец Джафара. Он был мастером буровой партии, прокладывавшей разведочную скважину на дальнем морском участке. Рабочее место бригады находилось в одиннадцати километрах от берега, в районе песчаной банки.
Добуривались последние сотни метров скважины, когда налетел шторм. Непогода нагрянула неожиданно, вопреки прогнозам синоптиков, и людей с буровой не успели снять. В море остались вахта и сам мастер.
В течение первых суток на далеком островке не было причин для беспокойства. Штормы – дело привычное, люди не раз попадали в такое положение.
Несмотря на непогоду, работа продолжалась. Свободные от вахты нефтяники отдыхали в домике на краю помоста – там было несколько коек, имелся запас воды, продовольствия, папирос, действовала электрическая плита.
К исходу вторых суток ветер достиг ураганной силы. Бригадир собрал нефтяников в домике, запретил выходить: по островку было опасно передвигаться, ветер мог подхватить неосторожного, сбросить с помоста.
А в море гуляли валы, каких не видел еще ни один нефтяник, – огромные, крутые, с лохмотьями желтой пузыристой пены. «Волны давят на остров, ветер бьет вышку, – докладывал мастер по коротковолновой рации, – вышка начинает раскачиваться».
Наступила ночь. Ветер не ослабевал.
На берегу собрались те, чьи мужья и братья находились далеко в бушующем море. Среди них была жена мастера с сыном – в ту пору Джафару едва исполнилось пять лет.
В конторе морского разведочного бурения в эту ночь никто не сомкнул глаз. Все работники собрались в радиорубке. Стояла мертвая тишина. Слышался только хриплый баритон в динамике. В эти критические минуты мастер сохранил выдержку, присутствие духа.
Ему было сообщено: наготове стоят корабли, они выйдут в море тотчас, как только появится возможность приблизиться к опасной банке. Но мастер знал: под напором урагана все сильнее раскачивается вышка, расшатывает весь остров – вот-вот он рухнет…
Вскоре связь с островом оборвалась. Это был конец.
Мать увезла Джафара к своим родителям, в далекое селение. Она прокляла море, отнявшее мужа. Она сделала все, чтобы Джафар, когда подрастет, и думать не смел о Каспии.
Она умерла лет шесть назад. А спустя два года Джафар приехал сюда, окончил школу нефтяников и стал работать в той самой конторе, где когда-то трудился отец…
Вздохнув, Джафар принялся за прерванную работу: проверил акваланг, осмотрел фотокамеру, бережно опустил ее в водонепроницаемый футляр. Он сам склеил эту коробку из органического стекла, придумал хитроумный запор: надвинешь крышку, повернешь рычаг, и в бак с фотоаппаратом не просочится ни капли влаги.
На воде уже покачивалась автомобильная камера с пришнурованным к ней круглым куском брезента. Акваланг и прочее снаряжение было уложено на брезент. Джафар надел ласты, оттолкнул плот от берега и поплыл за ним в море.
Уже неделя минула с того дня, когда случай свел его с капитаном Беловым. Ну, было и прошло. Казалось, давно бы следовало забыть о милицейской «Волге» с лопнувшим скатом и о бесплодной погоне за спекулянтом. Так нет, память все время возвращалась к этому происшествию.
Вот и сейчас в ушах звучал глуховатый баритон Белова: «Обязательно позвони».
Позвони!.. Всю эту неделю Джафар, что называется, дневал и ночевал в буровой. Там произошла серьезная неприятность: обвалились стенки скважины. На островке начался аврал. Никто из нефтяников не считал себя вправе съехать на берег. Сменившиеся с вахты наскоро ели и спешили к вышке, чтобы подсобить товарищам – на счету была каждая пара рук.
«Работать на морской буровой – не халву есть». Афоризм принадлежал соседу Джафара по комнате в общежитии старшине промыслового катера Фирузу.
Вспомнив эти слова, Джафар усмехнулся. Да, нелегкое ремесло, что и говорить. Во всяком случае, у охотников за спекулянтами жизнь спокойнее. С утра до пяти часов дня ловишь подонков, потом запираешь стол – и домой: обедать, газеты читать.
Он энергичнее заработал ластами. Скорее бы добраться до места. Не терпелось испробовать под водой цветную пленку. Джафар никогда еще не снимал на цвет пронизанное солнцем море, водоросли, сверкающих рыб…
И все же кого ловил капитан Белов? Мелкого спекулянта, по дешевке скупающего рыбу? И сколько лет этому Белову? Пожалуй, тридцать. А глаза у него упрямые. И рот упрямый: когда слушал ответы таксиста, губы сжал так, что побелели… А вообще-то парень как парень.
Джафар попытался представить: ровно в пять Белов запирает свой кабинет, едет домой, съедает обед и, стащив сапоги, с газетой в руках заваливается на клеенчатый диван…
Размышления были прерваны стуком мотора. Подлетел катер, отработал назад и закачался рядом. Загорелый до черноты здоровенный парень в полосатой тельняшке оставил штурвал, перегнулся через борт, помахал Джафару рукой. Это был Фируз – сосед и приятель Джафара.
– Эй, – крикнул Фируз, – эй, парень, опять тебя понесло на рифы?
Вместо ответа Джафар шлепнул ладонью по воде и окатил катерника фонтаном брызг.
Мгновение, и Фируз прыгнул в море, ухватил Джафара за плечи, толкнул в глубину.
Они долго барахтались в теплой прозрачной воде, ныряли, угощали друг друга шлепками.
– Ты откуда шел? – спросил Джафар, когда, утомившись, они забрались в катер и улеглись на корме. – Не с двадцать четвертой?
– Оттуда, – Фируз поднял большой палец. – Полный порядок на буровой. Трубопровод уложили. Дали давление – держит. К вечеру пойдет нефть на берег. Думаю, тонн сто будет, не меньше.
Двадцать четвертую скважину пробурила бригада Джафара. На днях он улучил час, съездил на эту буровую, посмотрел, как устанавливали фонтанную арматуру – сложную систему толстых труб и задвижек. Сейчас, когда подводная магистраль к двадцать четвертой проложена, задвижки откроют. Нефть из скважины хлынет на берег. Она будет бить через штуцер – стальную болванку с отверстием в горошину, бить с такой силой, что за сутки заполнит резервуар в сотню тонн.
Отдохнув, Джафар прыгнул за борт.
– Когда тебя ждать? – спросил Фируз.
– К вечеру.
Катер описал дугу и устремился к пристани.
Глава четвертая
Рифы, множество рифов усеивают этот участок моря. Они начинаются в полутора километрах от берега и полукругом охватывают нефтепромысел. Некоторые камни затаились под самой поверхностью воды и обнажаются только в шторм, когда разведет большую волну. Иные выставили напоказ зазубренные вершины – цвета ржавого железа, с ядовито-зелеными пятнами водорослей по нижней кромке. Будто гнилые клыки неведомого чудовища…
Скальный архипелаг – гиблое место для кораблей. Рейсовые теплоходы, танкеры и катера нефтяников обходят его стороной. Не рискуют идти в скалы и маленькие кулазы рыболовов: не выбраться из каменного лабиринта, если задует ветер.
Поэтому на рифах безлюдно. Зато здесь тысячи птиц. Бакланы и чайки облюбовали скалы для гнездовий, охотятся, справляют свадьбы, выводят потомство.
У ближнего к берегу конца архипелага высится, будто страж, диковинный остров. Он образован двумя утесами с глубоким седлом посредине и напоминает спину двугорбого верблюда. Есть на островке крохотный пляж, есть и бухточка – от моря ее ограждает скальный барьер, в бухте всегда тихо, как в лагунах коралловых островов. Рифовое ограждение маленькой бухты прерывается у восточной оконечности двугорбой скалы. Природа создала там неширокий проход, свободный от подводных камней.
Солнце стояло высоко, когда Джафар приблизился к приметному острову, втолкнул плот в полосу чистой воды, скользнул за ним в бухту. Он выбрался на берег, вытащил плот и бросился на горячий песок.
– Уф-ф!.. – послышалось где-то совсем рядом.
Из гладкой, как стекло, воды бухточки высунулась усатая голова тюленя. На Джафара уставилась пара любопытных глаз.
Несколько секунд зверь был неподвижен, затем фыркнул, опрокинулся на спину и исчез в глубине.
Джафар рассмеялся, с наслаждением зарылся руками в мелкий, как сахарная пудра, песок. Песок и скалы, соленая вода и сохнущие на камнях клочья морской травы источали резкий волнующий аромат, от которого туманилось в голове.
Незаметно он задремал.
Скала отвесно уходила под воду. Где-то у самого дна она казалась неясной тенью. Здесь же, у поверхности моря, сверкала и искрилась, как отлакированная.
Возле скалы в прозрачной воде неподвижно лежал Джафар. Разбросав руки, он в упор разглядывал каменный выступ. Как и вся скала, выступ был густо облеплен мидиями. Створки раковин были раскрыты, в них виднелось розовое мясо моллюсков – мидии всасывают воду, пропускают ее через свои сифоны, добывая пищу и кислород.
Но море колеблется. Вот вода отхлынула, обнажив часть скалы с гроздьями мидий. И моллюски, как по команде, захлопнули свои известковые домики. Набежала волна – ракушки разом раскрылись.
За широким стеклом маски лицо Джафара сморщилось в улыбке. Жаль, что у него фотокамера, а не киноаппарат. Снимать маленьких хитрецов надо так, чтобы было видно, как они «работают».
Он отплыл от скалы, перегнулся в пояснице, бесшумно ушел под воду, повис над загромождавшими дно камнями. Впрочем, камни только угадывались они были густо покрыты кустиками коричнево-рыжей водоросли. Здесь, в зарослях цистозиры, всегда пасутся стаи рыбьей молоди, проплывают косяки взрослых рыб, нередко появляются «короли» Каспия – осетры. А на самом дне лежат на песчаных проплешинах головастые бычки.
Все это Джафар наблюдал много раз. Но сейчас море было пустынно. Ни в толще воды, ни на дне – ни единого живого существа. Странно!
Вынырнув, Джафар глотнул воздуха, снова спустился на дно бухты. Перед глазами была та же картина: красивый подводный ландшафт – и ни одной рыбы.
Он оттолкнулся от плоского, как стол, камня, всплыл и, выбравшись из воды, стащил с лица маску.
Что же случилось с бухтой? Куда исчезла рыба? Может, распугали тюлени? Этих хищников много на рифах. Однако растревоженная ими рыба всегда возвращалась в знакомые места. А сейчас в бухте нет даже раков – больших серо-зеленых раков, которые в любую пору во множестве ползают в водорослях и между камнями. Подумать только, исчезли и раки!
Джафар надел акваланг, пристегнул пояс с ножом и вошел в воду.
Десять метров глубины. Дно бухты. Он лег на мягкие водоросли, пальцами осторожно раздвинул кустики цистозиры. Да, пусто. Повернувшись на бок, поглядел на поверхность. И там ничего живого. Впрочем, вот перед стеклом маски промелькнули крохотные светлые стрелки – табунок мальков. Ну да эти не в счет…
Метр за метром была исследована вся бухта. Джафар покинул ее, решив обогнуть под водой весь остров.
За рифами дно опускалось. Пловец оказался на склоне подводного холма, двинулся вниз по склону. Здесь уже царил сумрак. На водорослях и камнях проступила синева. И вода стала холоднее. Так бывает в поле перед дождем: только что ярко светило солнце, но вот его заслонила туча, все померкло, откуда-то потянул ветерок и холодит тело…
Он поднес к глазам руку с глубиномером. Стрелка показала двадцать метров.
Еще несколько движений ластами, и скальное дно сменилось песком. За стеклом маски поплыла унылая серая равнина. Ни веточки водорослей, ни единой рыбы.
Дальше дно обрывалось. И здесь Джафар вдруг увидел рака. Тот задом вылезал из провала, напрягался, дергал хвостом. Чувствовалось – тащит груз.
Вот рак выбрался на песок. В его клешне был зажат длинный белый лоскут. Поначалу показалось, что это обрывок ткани. Но нет, добычей рака было мясо.
Джафар заглянул в провал – и отпрянул. Из мрачной бездны торчало тело большого осетра.
Овладев собой, он шевельнул ластами, повис над провалом. Брюхо метровой рыбы было вспорото по всей длине, в разрезе копошились сотни бычков и раков.
В глубине, под осетром, виднелись неясные тени.
Джафар тяжело дышал. Инстинкт властно звал туда, где тепло, свет. Но он пересилил себя, осторожно, чтобы не задеть мертвую рыбу, спустился в провал.
Снова осетры!
Дно глубокой ямы устилал черный вал. На нем громоздились большие рыбы – обезглавленные, с вспоротыми животами. Их тоже облепили морские могильщики – бычки и раки.
Тишина. Сумрак. Мутная ледяная вода. И дюжина истерзанных мертвых тел. Будто утопленники…
Джафара стала бить дрожь. Он поспешно выбрался из ямы, всплыл, вылез на сушу.
Что за негодяи погубили осетров? Может быть, браконьеры: икру вынули, а рыбьи туши побросали за борт, чтобы не осталось следов преступления? Но браконьеры прижимисты, алчны. Будут они швыряться центнерами осетрины!
Может, осетров выловили честные рыбаки, но поднялся шторм, судно попало в беду, и улов вернулся в море…
Он поморщился. Последние десять дней не было штормов. Да и весть о гибели любого судна мгновенно бы разнеслась по побережью.
Послышался рокот мотора. Джафар поднял голову, прислушался. Катер в этих местах? Откуда он взялся?..
Он стал карабкаться на утес.
Да, это был катер. В самой гуще скального архипелага плыла большая черная моторка с двумя подвесными двигателями. «Фархад», – прочитал Джафар на ее транце.
– Вернитесь, – крикнул он, – эй, не ходите дальше!
Он продолжал кричать, но трое мужчин, сидевших на корме катера, не шелохнулись. Должно быть, не слышали.
Джафар взволнованно наблюдал за судном. Вот оно перед большим камнем. Еще миг, и катер врежется в скалу. Однако он обошел препятствие.
Теперь моторка бежала по участку, кишащему подводными рифами. Но рулевой даже не сбавил скорости. Катер вилял, его корму заносило на поворотах, и рифы оставались в стороне. Казалось, они расступаются, чтобы дать дорогу смельчакам.
Джафар невольно залюбовался искусством рулевого. Это была работа высокого класса. Катерник знал рифы, как собственную квартиру.
Несколько минут, и моторка исчезла из глаз.
Джафар в раздумье спустился к бухте, присел возле воды. Спекулянт рыбой, которого преследовал капитан Белов, взял груз где-то здесь, на побережье. Близ поселка, в подводной яме островка скальной гряды лежат выпотрошенные осетры. Здесь же рыщет катер с двумя сильными подвесными моторами…
Глава пятая
Ранним утром к одинокому домику на северо-восточной окраине города подъехал милицейский автобус. Находившийся здесь постовой милиционер молча открыл калитку и пропустил во двор высадившуюся из машины оперативную группу.
Работники милиции прошли в дом, где произошло убийство. Белов задержался у входа, чтобы побеседовать с участковым уполномоченным – тот первый узнал о случившемся и раньше других прибыл на место происшествия.
Выяснилось, что дом этот частный и лишь месяца полтора назад переменил владельца. Новый хозяин был человек пенсионного возраста.
Участковый показал в угол двора. Там, возле стены, лежала на боку большая кавказская овчарка. Ее раскрытые глаза были неподвижны, из пасти вывалился синий язык.
– Отравили, – сказал участковый.
– Как вы узнали о происшествии?
– Из-за нее. – Милиционер показал на собаку. – Соседский мальчик встает на рассвете, выгоняет козу пастись на пригорок. И всякий раз, когда он проходил мимо этого дома, овчарка чуяла его, надрывалась в лае. А сегодня не подала голоса. Мальчику показалось это странным. Он взял камень, швырнул через стену. Оттуда ни звука. А тут я иду…
– Понятно, – перебил его Белов. – Что известно об убитом?
Оказалось, что в те дни, когда новый хозяин въезжал в дом, участковый получил санаторную путевку и уехал на лечение. Он вернулся из отпуска только позавчера…
Из дома вышел помощник Белова.
– Хозяин убит, собака отравлена, улик – кот наплакал, – сказал он.
– Установил причину преступления?
– Скорее всего ограбление. Впрочем, еще следует разобраться. – Помощник взглянул на участкового. – Убитого звали?..
– Щекин Василий Михайлович.
– Правильно. – Помощник полистал паспорт. – Правильно, Василий Щекин.
– Ладно, идемте в дом, – сказал Белов.
Он уже настроился на то, что увидит беспорядок, хаос – обычную картину помещения, в котором похозяйничали бандиты. И все же, открыв дверь, он ошеломленно остановился на пороге. Все здесь было искалечено, разбиты квадратный обеденный стол, второй стол поменьше, шкаф с одеждой и бельем, два чемодана в углу. У самого порога лежало на боку старинное плюшевое кресло: ободранные сиденье и спинка, торчащие во все стороны пружины…
А в глубине помещения стояла на высоких ножках никелированная кровать. На ней лежал убитый. Белов откинул простыню, которой было накрыто тело. Он сразу узнал покойника – фотография на паспорте была очень отчетливая.
На трупе имелось множество мелких ран – царапин, порезов, но ни одна из них не могла быть причиной смерти.
– Задушен, – сказал за спиной Белова судебный медик. Он показал на подушку, косо прислоненную у изголовья. – Вот этой… Отчетливо видны следы зубов.
Белов механически кивнул. Сейчас больше всего его интересовали порезы на груди и животе убитого. С минуту он соображал, потом обернулся к участковому:
– Он был связан?
– Да.
– Понятно, – кивнул Белов
– Вроде бы пытали его, – сказал помощник. – Принуждали в чем-то признаться…
Белов осторожно обошел комнату, осмотрел разбросанные вещи. У опрокинутого гардероба валялась обувь – пара поношенных туфель, две пары еще не надеванных. Здесь же лежали новый костюм, шуба с дорогим каракулевым воротником.
– Вот и я удивляюсь, что не взяли их, – пробормотал помощник. – Вещи-то дорогие!
Белов рассеянно оглядел комнату. Что же искали убийцы? Может, документы?.. Взгляд следователя задержался на окрашенной зеленой краской стене. На ее гладкой поверхности проступали едва заметные пятна.
Он отошел к дальнему от окна концу комнаты, прижал щеку к стене, поглядел против света. Свет падал косо, на стене обозначились десятки маленьких впадинок.
– Стену выстукивали, – сказал Белов.
Один из офицеров, осматривавший книжную полку, вдруг достал нож, раздвинул лезвием слои листа фанеры и вытащил запрятанный там документ. Это был паспорт.
Оба паспорта – тот, что принадлежал Щекину, и второй – раскрыли и положили рядышком на столе. Фотография на них была одна и та же. Но владельцем второго паспорта значился Владислав Буров.
– Смотрите, покойный был в заключении, – сказал Белов, прочитав запись в документе. Он встал, передал паспорта помощнику. – Убежден, что липовый паспорт – тот, по которому покойный был прописан и жил в этом доме. Но все равно, надо проверить оба. Как можно быстрее!
Проверка паспортов отняла сутки. Белов оказался прав в своих предположениях. Попутно выяснилось, что, выйдя из заключения, Владислав Буров не совершил ничего предосудительного. Тогда возник новый вопрос: зачем ему потребовалось жить по фальшивому документу?
По требованию Белова домик на северо-восточной окраине города – его кровлю, стены, пол – тщательно исследовали специалисты. Пустот и тайных хранилищ найдено не было.
Шаг за шагом милиция прочесывала город и порт, но не могла напасть на след убийц. Убийц – потому что, по всей вероятности, преступников было трое: сторож продуктового магазина, расположенного в сотне метров от домика Бурова, видел в ту памятную ночь, как к дому приблизились трое неизвестных. Было темно, люди находились далеко, и он разглядел только силуэты. На рассвете трое каких-то людей прошли в обратную сторону…
Поиски продолжались. И каждую ночь двое оперативников скрытно пробирались в домик покойного и оставались там до рассвета: те, что выстукивали стены домика, могли вернуться…
Однако новостей не было. И когда со дня преступления истекла неделя, Белов решил отказаться от ночных засад в доме.
В этот день он много работал, лег поздно. А незадолго до рассвета его поднял с постели телефонный звонок. Говорил участковый уполномоченный. Совершая обход участка, он столкнулся у дома Бурова с тремя подозрительными. На приказ остановиться те ответили выстрелом и скрылись, наготове стояла машина.
Белов выехал на место.
При свете фонаря он увидел, что примыкавший к дому угол двора разрыт.
– Странно, – сказал участковый, – копали только здесь. Нигде больше не тронули.
– Где стояла собачья конура? – спросил Белов.
– Примерно на этом месте, в углу.
– Вот и разгадка. Преступники рассуждали так: если то, что они ищут, запрятано во дворе, то скорее всего закопано там, где определена на жительство свирепая собака. В том месте они и стали копать. Все, как видите, просто. Хуже другое. Мы пытаемся следить за ними, а они наблюдают за милицией… Итак, вы спугнули их, и они удрали, не закончив работы. Это правильно?
– Да, товарищ капитан.
– Но они и не могли ничего найти. Весь двор мы прощупали приборами. Весь двор…
Белов запнулся, будто пораженный внезапной мыслью. Наморщив лоб, нерешительно поглядел на окружавшую двор стену из дикого камня, придвинулся к ней. Вот он подошел к стене, коснулся ее пальцем, потом попытался качнуть руками глыбу серого ноздреватого камня. Глыба сидела прочно. Соседние тоже были намертво вцементированы в стену. Белов продолжал проверять камни. И вот одна из глыб неожиданно легко вывалилась из гнезда.
В стене образовался проем. Белов сунул туда руку – она ушла по локоть, по плечо, и только тогда глубоко внизу пальцы нащупали что-то тяжелое, мягкое…
Белов медленно вытянул руку с зажатым в пальцах длинным парусиновым мешочком. Его развязали. Он был доверху набит золотыми монетами.
Они стояли, растерянно глядя на лежащее в ногах сокровище.
Первым очнулся участковый.
– Там, может, еще есть, – хрипло проговорил он.
Белов вновь погрузил руку в тайник. Да, в стене был и второй мешок с золотом и третий…
Удача не приходит одна. Вечером был получен ответ на запрос в исправительно-трудовую колонию, где отбывал заключение Владислав Буров, В присланном из колонии пакете оказалось несколько справок и фотографий. На одном из снимков Белов опознал человека, которого преследовал вместе с Джафаром.
Глава шестая
И снова мчалась «Ява» широкой дорогой, соединяющей поселок морских нефтяников с городом. Мотор пел свою песню, асфальтовая лента послушно ложилась под колеса мотоцикла.
У Джафара было отличное настроение. Вчера бригада закончила проходку скважины. Когда смолк грохот лебедки, нефтяники собрались у бурильного станка. Мастер, молодой инженер, извлек из кармана спецовки логарифмическую линейку, сделал подсчет.
– Сколько? – не выдержал Джафар.
– Плюс девять суток, – сказал мастер и озорно присвистнул.
Бурильщики свое дело сделали. Слово теперь за рабочими промысла. Если и они не промедлят с подготовкой скважины, все будет в порядке. «Плюс девять суток» – это эшелон «лишней» нефти для государства и, кроме того, большая экономия. А те, кто досрочно пробурил скважину, получат солидную премию.
Вот и двадцать четвертая скважина, от которой недавно проложен трубопровод к берегу, день ото дня добреет. Она дает уже нефти больше любой другой на промысле.
«Ява» чинно проехала перекресток, памятный по совместной гонке с Беловым. Джафар вежливо улыбнулся инспектору. И тотчас прибавил скорость. Следовало торопиться: где искать капитана Белова, если он опоздает и рабочий день в учреждениях будет закончен!..
В городе у здания милиции он смело поставил «Яву» между автомобилями с красной полоской по борту, вошел в телефонную будку, набрал номер.
…Они сидели рядышком, на диване. На письменном столе зазвонил телефон. Белов перегнулся через стол, взял трубку.
– Занят, – сказал он, выслушав невидимого собеседника. – Занят с товарищем. Позже зайдешь. А пока запиши. Моторная лодка с черным корпусом. На кормовом срезе полукруглая надпись «Фархад». Два подвесных мотора. Лодка замечена в море, близ поселка, который у тебя на примете. Выясни, где она зарегистрирована, место стоянки. Установи владельца. Все это срочно.
Белов положил трубку.
– Спасибо, что не поленился, приехал в город, – сказал он Джафару. Вот и я вспоминал тебя. Сегодня как раз думал: «Надо бы навестить знаменитого гонщика».
– Кто же погубил осетров? – сказал Джафар, продолжая прерванный разговор, – Неужели браконьеры?
– Они!
– Ловят рыбу и снова ее в воду?
– Бывает и так. Мясо осетров – ценность, но не самая большая…
– Понимаю: икра! Но покупатель найдется и на мясо. Какой же дурак будет выбрасывать его в море?
– Одного такого ты видел. И это вовсе не дурак, а хитрый и опасный преступник.
– Таксист? – воскликнул Джафар.
– Он такой же таксист, как ты или я.
Джафар молча смотрел на собеседника.
– Ну что ж, слушай, – сказал Белов. – Все равно я хотел разыскать тебя. Ладно, слушай, Джафар. В тот раз, разговаривая с шофером такси, я почувствовал, что он лжет. Ехал-то он не из того селения, мы это точно знали.
– Я так и понял. Понял, что не веришь ему…
Белов кивнул. Он продолжал:
– Хотел было задержать водителя. Передумал. Решил, что полезнее понаблюдать за ним. Полагал – это не составит труда: фамилия, место работы, номер машины – все известно… Выяснилось, что в таксомоторных парках нет такого шофера.
– А машина?
– Нам заявили: она стоит, ждет очереди на профилактику… В общем машины в парке не оказалось. Накануне ее угнали. На этой базе такие порядки, что это проще простого. Конечно, я поднял тревогу. Через два часа машину нашли. Она была брошена.
– Опытный, гад, – сказал Джафар. – Понимал: уж если офицер милиции заинтересовался…
– Очень опытный, – подтвердил Белов. – Только подумай: ночью угнал машину, а наутро выехал на ней со всеми необходимыми документами. Я-то сам их проверял…
– Так и исчез?
– Как тебе сказать…
Белов вынул из стола большое фото. На снимке были изображены столкнувшиеся автомобили: грузовик врезался в заднее крыло «Волги».
– Здорово вмазал, – сказал Джафар, разглядывая искореженный багажник легкового автомобиля.
– Здорово… А теперь отгадай: что это лежит на дороге между задними колесами «Волги»?
Джафар долго разглядывал серую кучу, вывалившуюся из разбитого багажника машины.
– Икра, – сказал Белов. – Шестьдесят килограммов зернистой икры было в багажнике «Волги».
– Машина чья?
– Частная. Но это неважно. Ее тоже угнали, через двое суток после того, как выяснилась эта история с такси… И вот авария, водитель «Волги», который не виновен в столкновении, стремглав бежит к телефону, чтобы звонить в милицию… – Белов скривил губы. – До сих пор никак не дозвонится.
– Неужели «зубастик»? – сказал Джафар.
– Водителя «Волги» никто не запомнил. И все же это он. На такси, а потом и на разбитой «Волге» были обнаружены следы. Они принадлежат одному и тому же лицу. Кто этот человек, мы знаем. Ищем его… А время идет. Он, может быть, готовит новые преступления.
– Теперь понятно, зачем я понадобился.
– Да, мы с тобой хорошо запомнили его лицо, помним походку, жесты, голос…
– Кольцо на пальце левой руки.
– Ну, кольцо он, конечно, снял. Впрочем, всякое бывает… Мы можем рассчитывать на тебя?
– Конечно, но что я должен делать?
– Пока ничего. Я позвоню. Или приеду в поселок… Само собой, если ты вдруг где-нибудь увидишь его, обратись к любому работнику милиции. Назови мою фамилию, объясни… Меня знают.
– Понятно.
Белов проводил товарища.
У двери Джафар обернулся.
– А все-таки, почему выбросили осетров?
– Чудак человек! Когда позволяют обстоятельства, браконьеры реализуют и мясо красной рыбы. Но туши осетров громоздки. Их не всегда скрытно провезешь в город…
Глава седьмая
Где-то за скальным архипелагом клонилось к воде заходящее солнце изжелта-красное, тусклое, будто остывающий слиток меди. Вскоре двугорбая скала заслонила солнечный шар. И тогда в столпившиеся над горизонтом кучевые облака ударили багровые стрелы.
Все, кто был в море, на буровых, прервали работу, с тревогой посмотрели на горизонт. Такой закат предвещал ветер…
Еще несколько минут облака полыхали в огне, затем сумрак лег на воду и землю. В густых синих тенях утонул поселок нефтяников – два ряда домиков с садами, вытянувшихся вдоль песчаного пляжа.
Поселок казался пустым. Обсаженная деревьями улица была безлюдна. В домах не зажгли огней. Так уж здесь заведено: привезут из города новый фильм, и в клубе собираются все жители. Сперва смотрят картину, потом молодежь танцует в фойе, а взрослые сидят вдоль стен и судачат.
Так было бы и сегодня. Однако в середине сеанса вдруг дали свет и на сцену вышел директор конторы бурения.
– Только что получена штормовая, – сказал он. – Ждем до восьми баллов.
Никаких дополнений не требовалось. За год на Каспии едва набирается пятьдесят тихих дней. В остальные штормит. Для нефтяников, чья жизнь проходит в море, непогода – дело привычное. Когда поступает штормовое предупреждение, каждый знает свои обязанности.
Некоторое время директор наблюдал, как группы зрителей покидают зал, потом тоже ушел.
Для тех, кто остался – дети, женщины и старики, – сеанс возобновили.
В клубе механик крутил веселую комедию, а в поселковых домах нефтяники надевали брезентовые плащи с капюшонами и спешили на пристань.
Широкий деревянный помост пристани был залит светом прожекторов. На воде покачивались катера и киржимы. Ревели продеваемые моторы. Люди в плащах привычно прыгали на палубу судов, отдавали швартовы. Суда отваливали и исчезали в темноте. Предстояло обойти островки с вышками, проверить действующие скважины, а с тех, что еще бурились, снять и привезти на берег людей.
К полуночи работа была завершена. Последним вернулся катер, доставивший Джафара и его товарищей: бригада только что начала проходку новой разведочной скважины.
Рабочие высадились, гурьбой двинулись в поселок.
Поселковая площадь была пустынна. В центре стоял столб с громкоговорителем. Дикторы заканчивали передачу ночного выпуска последних известий.
Джафар замедлил шаги, остановился возле столба. Несколько часов назад, когда далекий островок вел по радио очередной разговор с конторой бурения, мастер вдруг поманил Джафара, передал ему трубку.
Между директором конторы бурения и Джафаром состоялся следующий диалог.
– Мне сейчас звонил из города капитан Владимир Белов, – сказал директор. – Знаешь такого?
– Да, – ответил Джафар. Он плотнее прижал трубку к уху. – Слушаю вас!
– Так вот, Белов просил тебя связаться с ним по телефону, как только окажешься на берегу.
– Я ночью приду с моря…
– Ночью и позвони. Он очень просил.
И директор выключил связь.
Сейчас Джафар не знал, как поступить. До конторы бурения – добрых два километра. Тащиться туда, будоражить сонного дежурного… Да и не известно, на месте ли дежурный: вдруг запер помещение, ушел на пристань или еще куда-нибудь. Будешь тогда сидеть и ждать…
Вдруг он заметил освещенное окно. Поселковая почта! На почте был городской телефон, единственный на весь поселок. Только бы разрешили поговорить!..
Окно было распахнуто. В комнате сидел старик в сетке с непомерно широкими рукавами и ловко перебрасывал костяшки на счетах. Джафар легонько побарабанил пальцами по створке окна. Старик поднял голову, снял очки и, близоруко щурясь, поглядел в темный оконный проем.
– Здравствуй, Теймур-даи, – искательно сказал Джафар. – Опять все спят, а ты горишь на работе. Зачем огорчаешь любящих тебя жителей поселка?
– Здравствуй и ты, свет моих глаз, – последовал ответ. – Какой шайтан привел тебя к этой обители в столь поздний час?
В прошлом старик был учителем в медресе. Он не раз рассказывал, как однажды повздорил со своим духовным начальством. Дело дошло до драки, пастыри надавали друг другу пощечин. Инцидент можно было замять, но строптивый муэллим отказался принести извинения. Он оставил выгодную должность и сделался… актером в провинциальном театрике, где одинаково плохо играл владельцев гаремов и их наложниц: в ту далекую пору в азербайджанском театре все роли исполняли только мужчины.
Разные слухи ходили о дальнейшей деятельности Теймура-даи. На склоне лет судьба определила ему заведовать почтой в этом поселке. От былого остался вздорный характер отставного актера да любовь к витиеватым оборотам речи. Старик был с норовом, любил съязвить, подтрунить над ближним.
– Ну, – сказал Теймур-даи, отхлебнув кислого молока из полулитровой стеклянной банки, – ну, отвечай, высокочтимый Джафар, почему ты не спишь, когда сном объяты и воды, и суша и спит даже Вели Тахмасиб, которому райком комсомола объявил вчера выговор с занесением в учетную карточку?
Вели Тахмасиб был заведующим поселковой баней и личным врагом Теймура-даи: в бане случались перебои с горячей водой, а старый почтарь так любил попариться… Сейчас нерадивому банщику влепили взыскание, и Теймур-даи торжествовал.
– Я только что с моря, – сказал Джафар, сдерживая улыбку. – Шел мимо, свет горит у тебя в конторе. Дай, думаю, погляжу, что поделывает старый труженик.
– И что ты узрел, о лучший из Джафаров? – в тон ему ответил заведующий почтой.
– Убедился, что, хвала аллаху, любимец поселка здоров и бодр. Теперь могу спокойно отправиться в общежитие… после того, как ты исполнишь мою просьбу.
– Ты всуе помянул имя Аллаха, – сказал почтарь, прикрыв глаз. – А Он возьмет да запретит мне пододвинуть к окну телефон, чтобы ты мог позвонить в город.
Джафар остолбенел.
– Подумать только, до какой я дошел жизни, – проворчал старик. – Среди ночи мне звонят, поднимают с постели. Кто этот Белов, по поручению которого я должен бежать в общежитие и выяснять, не вернулся ли с моря Джафар Набиев?
– Ты уже ходил туда?
– Два раза! – Старик запрокинул голову и вылил в рот остатки кислого молока из банки. – Кто такой этот Белов, что позволяет себе беспокоить старого почтенного человека?
– Мой товарищ…
– Вахсей! – Старик побагровел от негодования. – И вы не нашли другого времени для своей болтовни? Иди прочь! Завтра позвонишь.
– Это не болтовня, – быстро сказал Джафар. – Белов работает в милиции.
Старик, уже приготовившийся захлопнуть окно, задержал руку. Он надел очки, молча поглядел на Джафара. Потом поставил на подоконник телефон.
– Звони, – коротко сказал он, взял банку из-под кислого молока и направился в соседнюю комнату, служившую ему спальней.
Джафар набрал номер.
Белов снял трубку, как только прозвучал первый зуммер.
– Наконец-то, – с облегчением проговорил он. – Я уже думал, не успеем созвониться! Нас никто не слушает?
– Нет…
– Очень хорошо!.. Так вот, посудина, о которой ты рассказывал, принадлежит кому-то из компании нашего знакомца… Понял, кого я имею в виду?
– Да, да, Володя!
– Теперь она может называться по-иному: замажут одно имя, намалюют другое. Разумеешь? Хочу сообщить: вчера на рассвете она вышла в море. В ней трое, и среди них «зубастик», как ты его называешь. Впрочем, нас интересует вся компания – они друг друга стоят. Судно должно быть неподалеку от тех мест, где ты однажды его видел. По нашим сведениям, занимается… да, ты отлично знаешь, чем оно занимается! А возвращаться на берег будет завтра, вероятно, под вечер. Мы установили, где обычно происходит выгрузка добычи, готовим встречу. Но часто бывает: ждешь голубчиков в одном месте, а они вдруг объявляются в другом. Так и теперь: не исключено, что высадятся в твоем поселке.
– Полагаешь, у них могут найтись здесь помощники?
– Не хотелось бы думать, что так. Но всякое бывает… И вот я вспомнил о тебе, Джафар. Вдруг понадобится твоя помощь… Я знаю, завтра ты свободен. Как, не передумал?
– Мы же договорились!
– Ну, спасибо… Разумеется, наши люди будут и в поселке. У них есть фотографии «зубастика». Однако, когда имеешь дело с таким типом, на карточки полагаться нельзя. Джафар, только мы с тобой встречались с ним, видели…
– Я помню наш разговор!
– Хорошо. Слушай внимательно. Днем тебе надо быть в районе поселковой пристани. Весь день будь там, Джафар! Если надобится, к тебе подойдут, назовут мою фамилию. Действуй тогда по указанию этих товарищей.
– А вдруг я сам увижу «зубастика»?
– Хочу надеяться, что увидишь. Поэтому гляди в оба. Тебя должно интересовать каждое судно, возвращающееся с моря, его экипаж, пассажиры. Обнаружив этого типа, не приближайся к нему, наоборот, держись подальше. Это очень опасный враг, он наверняка вооружен. Взялся за морской промысел, потому что жаден, алчен, а вообще-то занимается делами куда более серьезными… Поэтому, что бы ни случилось, сам ничего не предпринимай. А если заметишь его, подай знак. Скажем, вынь платок и вытри лицо. Три щеку и смотри в сторону этого человека. Тебя поймут… Все ясно?
– Ясно, Володя.
– Ну ладно. Мне сказали, будет ветер. Получена штормовая.
– Плохо.
Белов помолчал.
– Однако уже ничего не изменишь: они в море. Покойной ночи, Джафар!
– И тебе того же!
В телефоне раздался щелчок: Белов положил трубку.
Из соседней комнаты вышел Теймур-даи с банкой кислого молока.
– Поговорил?
– Да, спасибо. – Джафар постарался весело улыбнуться.
– О чем это вы болтали? – поинтересовался почтарь, усаживаясь за стол.
– Да, так… Приглашает к себе, хочет познакомить с девушкой. Говорит: очень красивая…
Теймур-даи поднял палец.
– Аллах знает, что ты Его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры – лжецы, – торжественно провозгласил он
– Что это? – не понял Джафар.
– Сейчас ты слышал первый раздел шестьдесят третьей суры Корана!.. А теперь иди в свое общежитие.
Ветер обрушился на поселок незадолго до рассвета.
В последние минуты перед ненастьем стояла сторожкая, напряженная тишина. Только с северных дальних нагорий доносился тоскливый плач ночных скитальцев – шакалов.
Но вот очнулось одинокое гранатовое деревцо, дремавшее на поселковой окраине. Не было еще ветра – он только перевалил через горы и мчался к поселку, а гранат проснулся, его нежные листья затрепетали в тревоге.
Затем шорох прошел по кроне могучей чинары. В садах зашептались шершавые листья инжира.
И разом ударил ветер.
Пыльное облако поднялось над поселком, потянулось к белесому небу с прозрачным серпом молодого месяца. В гуле и свисте бури потонули голоса разбуженных непогодой людей, лай растревоженных псов.
А шторм, набирая силы, мчался через поселок к морю, вспенивая, мял воду, сотрясал островки с вышками.
Джафар проснулся, когда полностью рассвело. Дом подрагивал – казалось, по нему колотят огромные мохнатые лапы.
Вспыхнул свет. Это Фируз включил лампу на своей тумбочке.
– Погляди, что делается! – воскликнул он. – Сто тысяч дивов вырвались на свободу!
Новый порыв ветра пронесся над домом. Застонали деревья в саду. Где-то со звоном лопнуло стекло.
– Погаси лампочку, – сказал Джафар.
– Есть погасить! – Фируз нажал кнопку выключателя, спрыгнул с кровати и прошлепал к окну.
Отсюда, с мансарды единственного в поселке двухэтажного дома, были видны море, пристань с прильнувшими к ней судами, строения на берегу, часть пляжа.
– Хазар совсем побелел от злости, – сказал Фируз. И сокрушенно прибавил: – Как у бедняги Фируза свободный день, так обязательно шторм. Ты заметил?
– Заметил, – сказал Джафар. – Природа мстит. Как воскресенье, так ты на пляже, и всякий раз с новой знакомой.
Ухмыльнувшись, Фируз вышел на середину комнаты, расставил ноги, выгнул грудь.
Как-то он прочитал о «культуристах», тотчас купил гантели, резиновые тяжи, добыл двухпудовик. Ои и без того был сильным, рослым парнем. А год усиленных тренировок довершил дело. Сейчас перед Джафаром стоял юноша с удивительно красивыми мускулами.
– Ну, – проговорил Фируз, демонстрируя, как на согнутой руке вспухает огромный бицепс, – ну, что скажешь?
– Такому туловищу да еще умную голову, – вздохнул Джафар.
Он повернулся к стене, пытаясь заснуть. Но сон упорно не приходил.
Снова ударил ветер, с воем промчался к морю. Наступило короткое затишье. И тогда с берега донесся встревоженный женский голос.
Фируз выглянул в окно.
– Замерщица Нора стоит у коллекторной. Размахивает руками, кричит… Ага, идет главный. Очень спешит. Старик, а как побежал!
Джафар тоже посмотрел в окно. У коллекторной собралось уже несколько человек. Что-то там случилось неладное.
– Одевайся, – бросил он.
Через минуту они были на берегу.
Замерщица в который раз рассказывала, что при очередном осмотре приборов обнаружила падение давления на «выкиде» двадцать четвертой скважины. За короткое время давление снизилось до нуля. Это означало, что скважина прекратила подачу нефти на берег.
Буровая находилась в четырех километрах от берега и в ясную погоду была видна отчетливо. Теперь же, когда море затянуло серой дымкой, с трудом просматривался даже конец пристани.
Что произошло на маленьком решетчатом острове? Да мало ли что могло случиться! Песок и парафин, поднимающиеся из недр вместе с нефтью, не редко закупоривают ствол скважины. Бывает и так, что песок разъедает фонтанную арматуру на устье скважины, горючее выливается на свободу, хлещет в море открытым фонтаном. Это особенно опасно: вылетит из скважины камень, ударит по стали – искра! – и над островком вспыхивает гигантский факел нефтяного пожара…
Из расположенной на пристани радиорубки выбежал радист, устремился к инженеру.
Оказалось, что радист принял срочное сообщение. Штормующий далеко в море корабль обнаружил на воде много нефти. Гонимая ветром широкая нефтяная река движется от берега – по ветру, к югу. Пеленг показал, что горючее идет от поселка и расположенного неподалеку в море нефтепромысла. О своих наблюдениях моряки доложили береговому начальству. Оттуда послали уведомление в город. И вот запрос: что случилось на промысле?
Инженер закончил чтение радиограммы.
Фируз сказал:
– На моем катере новый сильный мотор.
Подошел заведующий промыслом, потянул в сторону инженера, стал шептаться с ним.
– Новый мотор поставили на мой катер, – громко сказал Фируз. – Очень сильный и надежный мотор. Куда хочешь, могу идти.
Руководители промысла на реплику не реагировали. Молчали и остальные. Да и что говорить? Все знали: на буровую идти нельзя. Уже при шести баллах промысловые суда должны стоять у причалов. Сейчас восемь баллов в море.
Фируз не сдавался. Ни к кому не обращаясь, как бы рассуждая вслух, он заявил, что двадцать четвертая обошлась государству в сотни тысяч рублей. А сколько людей трудились, чтобы пробурить скважину? Она стала лучшей на промысле, давала столько нефти в сутки. И вот теперь скважина может погибнуть. Странно, что некоторые люди боятся…
– За тебя, между прочим, боятся, – сказал заведующий промыслом.
– А мне не страшно, – крикнул Фируз. – Могу дать расписку: ответственность беру на себя!
– Иди ты со своей распиской, знаешь куда, – сказала замерщица Нюра. Тоже нашелся, Тарзан несчастный!
Все засмеялись. «Тарзан» – это было здорово сказано. Месяц назад в клубе состоялась лекция по истории кинематографа. Заезжий лектор сопровождал рассказ отрывками из фильмов. Фируз ахнул, когда на экране вдруг заметался обнаженный «владыка джунглей» – Тарзан. А наутро он в одних плавках ворвался в коллекторную, дико заорал, подхватил на руки Нюру, потащил к пристани. Нюра, конечно, в обиду себя не дала – влепила шутнику звонкую оплеуху. Сейчас она припомнила Фирузу тот случай.
Радист обратился к главному инженеру:
– Павел Ильич, по прогнозу, ветер после полудня будет садиться, а к вечеру стихнет.
Инженер оглядел линию гор на севере.
– Очень может быть – сказал он. – Летом штормы короткие. – Да вон, горизонт как будто светлеет. Думаю, сядет ветер.
– Тогда и пойдем в море, – решил заведующий. – Балла на три уймется, отправимся на двадцать четвертую.
Глава восьмая
Во втором часу дня от промысловой пристани ушло в море судно. Домогательства Фируза – послать на двадцать четвертую его катер – были отвергнуты. В трудный рейс назначили большой надежный киржим.
Смирившись, Фируз попросился идти на киржиме матросом. Он доказывал, что умеет слесарничать, монтировать на устье скважины фонтанную арматуру. Кроме того, участвовал в прокладке трубопровода на двадцать четвертую – это тоже могло пригодиться.
Но его не взяли и матросом: во главе лучшей ремонтной бригады на буровую отправлялся сам заведующий.
Провожаемый десятками людей, киржим отвалил от причала и вскоре скрылся из глаз. Нефтяники собрались у дверей радиорубки, где главный инженер держал с киржимом прямую связь.
Заработал динамик радиостанции.
– Павел Ильич, – разнесся по пристани голос заведующего промыслом, – скважина не виновата. В полутора километрах от берега поврежден трубопровод. Серьезная авария. Море кипит: вулкан!
– Как же это случилось?
– Ума не приложу, что там произошло, под водой.
– Иди на буровую, закрывай задвижки на арматуре, – посоветовал инженер.
– Я так и решил. Буду выключать скважину. Вызывай водолазов, Павел Ильич! Здесь стихает, ветер падает. Скоро можно будет работать. На месте аварии оставляю буй.
Динамик умолк ненадолго.
Вскоре на пристани стало известно, что киржим приблизился к двадцать четвертой, но старшина не рискует швартоваться и высаживать людей. В открытом море волны бушуют вовсю. Судно может разбить о стальные ноги острова.
Главный инженер тотчас отправил второе по величине судно – моторный баркас. Во время высадки людей баркас будет держаться близ островка, чтобы прийти на подмогу, если нефтяники окажутся в беде.
На пристани собиралось все больше народу. Шторм шел на убыль, жители поселка готовились возобновить прерванную непогодой работу в море.
Появился и Теймур-даи. С минуту он стоял на берегу, всматриваясь в столпившихся у радиорубки людей, потом ступил на пристань. Вскоре он был возле Джафара.
– Глаза красные, – участливо сказал почтарь. – Ты, парень, совсем не спал?
– Какой, к черту, сон! – Джафар досадливо дернул плечом. – Посмотри, какая беда случилась…
Голоса на пристани стихли: снова заработал динамик.
– Подходим, – сообщил заведующий промыслом, – сейчас будем высаживаться. Павел Ильич, связался с водолазами?
– Никак не могу докричаться.
– Продолжай, пока не добьешься. Объясни: повреждение в районе, где труба проходит близ рифов. Ветер боковой, дует из-за камней. Поэтому у места аварии зыбь небольшая, вполне можно работать… Ну вот, баркас подошел, будем высаживаться!
– Счастливо! – крикнул главный инженер.
Переключив рацию, он стал вызывать водолазную базу.
Фируз обернулся к товарищу:
– Понял, где авария?
– У двугорбой скалы.
– Точно. До нее метров сто, я это место знаю.
– Совсем близко, – сказал Теймур-даи. – Почти рядом…
Он рассеянно обернулся. Позади стоял человек в тенниске навыпуск. Скользнув по нему взглядом, почтарь повторил:
– Совсем рядом скала…
Между тем инженер установил, наконец, связь с водолазной базой. Несколько минут разговора, и он с досадой отодвинул микрофон передатчика. Все специальные суда были заняты на срочных работах в порту. Только завтра одно из них освободится и будет направлено к месту аварии.
– Завтра направят, – пробормотал инженер. – А им еще тащиться на своей лайбе семьдесят километров!..
Фируз просунул голову в дверь рубки.
– Павел Ильич, водолаз есть на месте. Водолазный катер тоже!
– Поменьше болтай, – сказал инженер.
– Он не болтает, – Джафар подошел к двери. – Если позволите, могу попробовать.
– Джафар Нагиев? – Инженер был озадачен. – У тебя есть м-м… водолазные принадлежности?
– Да, акваланг.
Человек в тенниске навыпуск приблизился, стал за спиной Джафара.
Теймур-даи, растолкав людей, вошел в рубку, сел рядом с инженером.
– Очень хорошо ныряет Джафар со своим аппаратом, – сказал почтарь. – Я сам видел. И они видели. – Старик показал на собравшихся возле рубки нефтяников.
За дверью зашумели. В поселке многие знали об увлечении Джафара.
– А катер – мой! – Фируз заслонил спиной приятеля.
В динамике раздался голос старшины киржима.
– Высадил бригаду, Павел Ильич, – весело доложил он. – Кранцы сорвал, разбил фальшборт, но заведующий и бригада – на двадцать четвертой! Разворачиваюсь и вместе с баркасом иду назад. Людей с острова буду снимать вечером, когда станет потише. Так приказал заведующий. Ты понял меня, Павел Ильич?
– Понял. Давай к берегу!
Инженер выключил радиостанцию и закурил – впервые за последние часы.
– Хорошо! – Фируз потер ладони. – Теперь наша очередь. Беги за аквалангом, Джафар.
– В море не пущу, – сказал инженер. – Рискованно.
– А высаживаться на двадцать четвертую было не рискованно?
– Это разные вещи… В общем без заведующего не разрешаю.
– А он в море, – воскликнул Фируз, – связи с ним нет. Вернется вечером!
– Будем ждать…
– Сутки теряем, – сказал Джафар. – Это полтораста тонн нефти, Павел Ильич!
– Тебя, Павел-киши, считали смелым человеком… – Теймур-даи укоризненно покачал головой. – Хочешь, сам с ними пойду на катере?
– Этого еще недоставало, – воскликнул инженер. – Да чтобы я пустил в море этакую старую песочницу!
Человек в тенниске взял Джафара за руку.
– Я от Белова, – шепнул он. – Лейтенант Сушков…
Джафар понимающе кивнул.
– Настаивай, – сказал Сушков, – нельзя терять столько нефти.
Показав на инженера, Джафар развел руками.
Почтарь продолжал спорить. Многие из тех, что собрались на пристани, поддерживали идею Фируза и Джафара, тоже вступили в разговор.
– Ну хорошо, – сказал инженер. – Допустим, нырнул Джафар, убедился, что нефтепровод лопнул. А что дальше?
– Может, не лопнула труба – дала трещину, – неуверенно проговорил Фируз. – Джафар обмотает ее брезентом, резиной, прикрутит проволокой. Это же временно, пока придут водолазы.
– Чепуха! – воскликнул инженер. – Сами же слышали: нефть бьет так, что море бурлит. Трещина? Как бы не так! Труба, конечно, лопнула. Что вы там будете делать со своим аквалангом?
Наступило молчание. Инженер был прав. В самом деле, как действовать на дне моря? Специалисты по подводным работам имеют особое оборудование, инструменты. Например, сварочные аппараты, которыми легко обрезать негодный кусок трубы и наварить новый.
Помощник Белова потянул в сторону Джафара.
– А это не подойдет? – Он показал на толстый шланг, лежащий в куче бурового оборудования на грузовой площадке пристани.
Джафар оценил совет. Шланг, по которому в бурящуюся скважину закачивают глинистый раствор, достаточно прочен: слои корда перемежаются с прокладками из резины и брезента, и все это стянуто толстой стальной проволокой. Соединить таким шлангом концы лопнувшей трубы нефтепровода да как следует закрепить стыки – и все будет в порядке.
– Спасибо! – Джафар стиснул руку Сушкову.
– Вместе пойдем в море, – сказал тот.
– А… здесь как же?
– Останутся другие.
Видя, что Джафар колеблется, Сушков сказал:
– Так надо…
Катер стоял на якоре. Ветер почти совсем стих, однако по морю еще катились гряды больших пологих волн. И каждая, достигнув катера, швыряла его вверх. Катер задирал нос, дыбился, а в следующую секунду устремлялся с кручи в глубокий пенный провал.
– Невесомость, – кричал Фируз, когда судно падало с водяной горы, как в ракете, а?
Сушков сидел на корме и молча улыбался. Это был жилистый загорелый человек лет тридцати. Он очень быстро получил разрешение отправиться к месту аварии нефтепровода: подошел вместе с Джафаром к инженеру, шепнул несколько слов, и тот согласился…
Недалеко от катера прыгал на волнах бело-красный буй. Возле него появилась голова Джафара в резиновой маске.
– Нашел? – крикнул Фируз.
Пловец отрицательно помахал рукой, снова нырнул.
Он погружался в четвертый раз, а все не мог отыскать трубопровод. Конечно, проще было бы вести поиск с аквалангом. Но запас сжатого воздуха в баллонах не безграничен. Здесь, на глубинах до пятнадцати метров, его хватит минут на сорок. Поэтому Джафар решил сперва понырять без акваланга, осмотреть повреждение и наметить план действий. А уж потом он наденет баллоны и приступит к ремонту трубы.
Но оказалось, что не так-то просто найти трубопровод. Шторм поднял со дна ил и песок. Под водой было видно всего на метр-полтора.
Вот Джафар снова всплыл, вырвал изо рта загубник дыхательной трубки.
– Заметь место, – донеслось до катера.
Фируз вскочил на ноги. Он провел мысленную линию от буйка к голове пловца и дальше – на берег. Линия уперлась в остроконечную вершину, торчавшую над цепью прибрежных гор.
– Есть пеленг!
Несколько взмахов руками, и Джафар оказался у борта катера. Его подняли, усадили на корме. Толстым рубчатым полотенцем Фируз докрасна растер товарищу плечи и грудь.
На листе бумаги Джафар набросал схему. Ровная линия, обозначавшая дно, прерывалась зигзагом – глубокой выемкой. 3aтем над грунтом протянулась нитка нефтепровода. Карандаш довел его до выемки, сместил вниз и оборвал.
– Понятно, – сказал Фируз. – Большой разрыв?
– Около метра.
– Но как это получилось?
– Думаю, волны и штормовое течение вымыли грунт из-под части трубопровода. Труба потеряла опору, провисла. А дальше: удары волн, вибрация…
– Что будешь делать?
Джафар с благодарностью взглянул на Сушкова. Взяв карандаш, он нарисовал шланг и «надел» его на разорванную нитку нефтепровода.
– Надо, чтобы средняя часть шланга легла на дно впадины. Тогда шланг примет значительную часть нагрузки.
– Поглубже надвинь его на концы трубы, – сказал Фируз. – Надежнее будет.
Они оценивающе оглядели толстый шланг, широкими кольцами уложенный на дне катера.
– Думаю, хватит, – сказал Джафар. – В куске метров пятнадцать, если не больше. Переставь катер!
Фируз поднял якорь и, сообразуясь с ориентирами, перевел судно.
Все это время Сушков сидел на своем месте, у люка в кубрик, и курил сигарету. С момента отхода катера третий член экипажа не проронил ни слова.
Фируз, не посвященный в ночной телефонный разговор, был в недоумении. А Джафар думал только о предстоящей работе под водой.
Тяжелый грязевой шланг перевалили через борт и спустили на дно. В прочную веревочную рачню, где уже покоилась пудовая балластина, уложили листы резины, нарезанный кусками брезент, большой моток мягкой железной проволоки и две ножовки. На прочном тросе рачня отправилась под воду.
Джафар стал одеваться для работы на дне: натянул свитер, защелкнул на талии пояс со свинцовыми пластинами, прицепил к поясу нож, кусачки и плоскогубцы. Фируз помог надеть акваланг, подал маску и дыхательную трубку.
– Свитер зачем? – вдруг спросил Сушков.
Фируз, отвертывавший вентили баллонов, вздрогнул от неожиданности.
Джафар объяснил: вода в свитере нагреется теплом пловца, защитит человека от прямого соприкосновения с «внешней» водой – более холодной.
Сушков кивнул и достал новую сигарету.
– Готовы вентили, – сказал Фируз.
Джафар сел на борт, свесил ноги в воду. Надевая маску, оглядел рифы до них было рукой подать. Странно: над оконечностью двугорбой скалы, обращенной к открытому морю, как будто курился дымок.
– Фируз!
Катерник поднял голову.
– Ну-ка! – Джафар рукой показал на рифы.
– Что? – Фируз посмотрел. – Не вижу…
– Да ничего там нет, – сказал Сушков. – Так, дрожит воздух над скалами…
Дымка уже не было.
Еще несколько секунд Джафар медлил. Потом надвинул на глаза маску, сунул в рот загубник воздухопровода и боком свалился в воду.
Стоя на дне, Джафар ножовкой отпиливал заусеницы на изломе трубы: острые края лопнувшего нефтепровода очень быстро проткнули бы грязевой шланг.
Пилить сталь трудно даже в мастерской, когда обрабатываемая деталь зажата в тисках, действуешь обеими руками. Здесь же, под водой, это была адова работа.
Подумав, он сел на дно, ногой придавил пружинящую трубу. Дело пошло веселее.
– Бам-м!..
Резкий протяжный звук ударил по ушам. Это был сигнал. Каждые пять минут Фируз должен был опускать под воду длинный стальной стержень, бить им по валу винта, чтобы Джафар ориентировался во времени.
Итак, прозвучал первый сигнал, а убраны только две заусеницы. Всего их пять.
Пилить надо быстрее. Но спешка увеличит расход сжатого воздуха. Джафару же необходимо экономить содержимое баллонов, чтобы дольше пробыть под водой, успеть закончить ремонт трубопровода.
Выход один – дышать реже, подольше задерживать воздух в легких. Он понимал, что это опасно: в крови накапливается углекислота, отравляя организм. Однако надеялся, что обойдется.
Полотно ножовки со скрежетом врезалось в металл. Сверкающие опилки медленно опускались на дно. В белой от мути воде они казались царапинками на матовом стекле.
Работая, он пытался представить себе все то, что должно произойти в ближайшие часы. Преступники высаживаются на берег, из засады появляются офицеры милиции с пистолетами наготове, «зубастик» и его товарищи поднимают трясущиеся от страха руки… А потом из пиратской моторки выгружают икру, туши осетров.
И еще он думал о дымке над оконечностью двугорбой скалы. Фируз и этот… Сушков ничего не заметили. Но дымок все же был. Был и исчез… Люди на скале? Да нет, чепуха! До скалы совсем близко, он бы увидел людей, если… Если они не прячутся!
Мысль эта была столь неожиданна, что Джафар даже прервал работу.
«Вот как разыгралось воображение! – Он покрутил головой. – Перенервничал, мерещится всякая чертовщина…»
Скорее бы закончить, выйти наверх!
Пятая заусеница отвалилась и бесшумно упала на дно после того, как Фируз двойным ударом железного стержня предупредил, что миновало десять минут.
Джафар отбросил ненужную теперь ножовку, встал на ноги и, поднатужившись, надел на трубу конец тяжелого шланга. Потом он спланировал к другому концу лопнувшего нефтепровода и все повторил.
Получилось хорошо. Средняя часть толстой кишки смутно темнела на дне ложбины, а приподнятые края были метра на два надвинуты на концы нефтепровода.
Предстояло так укрепить стыки, чтобы отремонтированный участок выдержал давление горючего.
Снова просигналили с катера.
Джафар взял из рачни большой кусок брезента, обмотал им стык шланга и трубы, по всей длине обкрутил проволокой.
Теперь следовало наложить слой резины. Это оказалось труднее – толстый упругий лист скользил в пальцах, пружинил. Прошла уйма времени, прежде чем удалось намертво закрепить его проволокой.
Работа продолжалась. Навалившись всем телом на трубу, он обернул ее новым листом резины, потянулся за мотком проволоки в рачне, да так и застыл с протянутой к ней рукой. Большая веревочная рачня, загруженная резиной и брезентом, рачня с тяжелой балластиной на донышке, медленно ползла по песку. Она уже пропахала метровую борозду!
В следующий миг заработал мотор катера.
Джафар рванул аварийный замок пояса, сбросил грузы и устремился к поверхности.
В тот момент, когда голова его появилась из-под воды, на нее обрушился удар. Джафар потерял сознание, стал погружаться.
Он медленно опускался ко дну. От рассеченного лба тянулась полоса рыжей мути. Сведенный судорогой рот все еще держал загубник воздухопровода.
Еще несколько секунд, и Джафар коснулся песка – сперва безвольно простертой рукой, потом всем туловищем.
Появился косяк кефалей, скользнул над неподвижным телом и растаял в белом тумане.
Второй косяк подплыл к лежащему. Внезапно шарахнулся и исчез. У человека шевельнулась рука. Пришли в движение ступни. Из-за затылка вырвалась гроздь пузырей воздуха…
Когда Джафар вновь появился на поверхности моря, катера не было.
Акваланг, только что спасший ему жизнь, стал помехой: под водой баллоны почти не весят, теперь же они давили на плечи, отнимали последние силы. Да и воздуха в них почти не осталось.
Джафар сбросил баллоны.
В голове пульсировала боль. Сознание работало вяло. Он был словно во сне, никак не мог собрать мысли. Только бы выдержать, достичь скал, отдышаться!..
С каждым взмахом руки он приближался к цели. Вот она, двугорбая скала. До нее метры!
Вдруг он услышал звук мотора. Мотор работал где-то за скалой, совсем недалеко.
Звук нарастал. Из-за камней вырвался катер, сделал крутой поворот, умчался на рифы.
Джафар успел разглядеть людей на палубе. Катером управлял «таксист». Рядом стоял еще кто-то. А на корме расположился… Сушков!
Фируза на катере не было.
Волны били Джафара, грозили швырнуть на камни. Отчаянно работая ластами, он отплыл в сторону, улучил миг и скользнул в бухту.
Первое, что он увидел, была разбитая моторка. Ее носовая часть затонула. Из воды торчала корма «Фархада» с двумя подвесными моторами.
Джафар выбрался из воды, стал карабкаться на горб островка, едва не плача от боли в коленях, которые обдирал об острые выступы, от сознания своей беспомощности, от ярости, бешенства.
Наконец-то вершина острова.
Он сразу увидел петляющий между скалами катер.
А от берега, с противоположной стороны, к рифам спешил киржим.
Джафар вскинул руки над головой, закричал.
Его заметили. На киржиме завыла сирена. Судно прибавило скорость, стало огибать двугорбую скалу.
Вот оно зашло с подветренной стороны и застопорило машины. Раздались короткие частые гудки. Джафара вызывали на борт.
Глава девятая
Фируз попытался пошевелить руками, ослабить веревки. Не получилось – связали крепко. И ноги стянуты так, что стали отекать.
Но если бы и удалось освободиться от веревок – что толку? Из тесного кубрика выбраться можно только ползком. Высунешь голову в люк – и попадешь к тем, что захватили катер.
Сколько их? Судя по голосам, трое…
Он стал перебирать в сознании все то, что произошло… Взял стержень, чтобы подать Джафару очередной сигнал, перегнулся через борт… Очнулся в кубрике связанный, когда на катере уже включили мотор. Катер прошел немного и встал. Тогда-то и раздались новые голоса: Сушков принимал пассажиров. Оказывается, те ждали на рифах.
А Джафар остался под водой… Впрочем, как только заработал мотор, он, конечно, всплыл. Наверное, плывет к поселку за помощью. Да и на берегу уже подняли тревогу: с пристани видно место, где стоял на якоре катер… Словом, в беде не оставят.
Он снова заворочался на дне кубрика. Удалось повернуться на бок. Теперь перед глазами был крохотный иллюминатор. За толстым стеклом мелькали скалы.
«В рифах рыщут, прячутся, – подумал Фируз. – Знают, что катер будут искать».
Кисти были стянуты за спиной. Он пошевелил ими, стал шарить по настилу, на котором лежал. Но под пальцами были только доски.
С трудом приподнял голову, осмотрел кубрик. Ничего подходящего. Надо же: лишь вчера произвел генеральную приборку, выбросил в море весь хлам. Осталось только зеркальце – вон оно болтается на гвозде под иллюминатором. Смотрись в него, горе-моряк, проворонивший свой катер!
А если разбить зеркало?.. Фируз вспотел от волнения. Он с опаской посмотрел на задвинутый люк, медленно поднял связанные ноги, коснулся ими потолка кубрика. Упираясь ступнями в потолок, повернулся. Теперь колени были возле иллюминатора. Еще усилие, и они надавили на зеркало. Стекло хрустнуло.
Долгие минуты ушли на то, чтобы вновь перевернуться на спину, нащупать пальцами острый осколок. Фируз воткнул его в щель в настиле кубрика и стал перепиливать веревку.
Между тем катер проскочил рифы и вырвался на чистую воду.
Солист уверенно вел судно. Он стоял у штурвала, жадно курил, поминутно оглядывался.
– Теперь куда пойдем? – спросил Сушков.
– К берегу. Катер затопим. Погляди, где у него пробка.
– Нельзя к берегу. Надо подальше уйти. Здесь, у поселка, уголовка ждет. Я же сказал: накололи нас…
– Не брешешь? – Солист выхватил пистолет, подбросил на ладони, сунул назад за пазуху. – Темнить будешь – прикончу!
– Ты о другом думай, – сказал третий бандит, тощий человек в стеганке.
– Не лезь! – Солист обернулся к нему, оскалив зубы. Заросший, с всклокоченными волосами, в порванной грязной одежде, он был страшен.
Но человек в ватнике не испугался.
– Чего там «не лезь»! – он скривил губы. – Сам же виноват, а яришься… Какую тебе ксиву сготовили – права, путевку, а ты завалился, как жлоб… А моторку я, что ли, угробил? Парня на берег кто посылал? Снова ты! Мол, плаваешь хорошо, а мы еле гребем на воде. Чем тебе парень не угодил? Ты лодку хотел, он тебе катер пригнал… О деле думай – как концы замести, от уголовки оторваться…
Наступило молчание.
– Про уголовку – старик? – спросил Солист после паузы.
– Кто же еще! – ответил Сушков.
– Выкладывай, как было.
– Ну, приплыл на берег. Кругом темнота. Насилу нашел его хазу. Рассказал, как и что. Думал, базарить будет: «Фархада»-то на его денежки покупали…
– А он?
– Выслушав меня, всплеснул руками и стал благодарить своего Аллаха, что так получилось. Дескать, оперативники нагрянули, обложили поселок. А он мечется на берегу, не знает, как нас предупредить, чтобы не приходили…
– Откуда знает старик про оперов?
– Подслушал! На почте по телефону с городом говорили. А у него там второй телефон, в другой комнате. Он и подслушал.
– Худое дело, – пробормотал главарь банды. Он показал на темневший далеко впереди мыс. – Вон там будем высаживаться… Ищите пробку, да поскорее!..
Человек в ватнике приложил козырьком руку к глазам, вгляделся в горизонт.
– На мысу будет сподручно, – сказал он. – Там и дорога недалеко.
– Они нас в поселке встречают, а мы – на шоссе, и концы в воду!
Преступники подняли доски настила, обнажив нижнюю часть шпангоутов и кильсон. Кингстона не было.
– Должно, в кубрике! – крикнул Солист. – А ну, лезьте туда!
Мыс был совсем близко. Следовало торопиться – брошенный у берега катер сразу укажет след. И Сушков приоткрыл люк кубрика.
Здесь все было в порядке. Связанный им человек лежал в той же позе. Он был неподвижен. Вероятно, все еще без сознания. Или смирился со своей участью.
Сушков влез в кубрик, стал шарить по настилу. Широкая медная пробка кингстона оказалась прямо под люком. Он тронул пробку. Та поддалась.
В люк всунулась голова Солиста.
– Нашел?
– Порядок, – успокоил его Сушков.
– Отвинчивай и вылезай: подходим!
Сушков стал отвертывать пробку. Один поворот. Второй. Третий…
Он стоял на коленях, спиной к связанному.
А Фируз в эти секунды перерезал последнюю прядь одной из веревок. Кисти были в крови, пальцы ломило от боли, но он все водил и водил крепкий, как железо, смоленый трос по осколку стекла в щели настила.
Последний поворот пробки. Давлением воды ее вытолкнуло из кингстона. Невольно Сушков отпрянул.
В тот же миг сзади протянулась рука, схватила его за шею, рванула.
Бандит опрокинулся на настил. Фируз навалился на него, огромной ладонью зажал рот Сушкову.
– Убью, если крикнешь, – прошептал он.
У Фируза была свободна одна рука. Обхватив ею врага, он рвал другую из-под опутывавших ее веревок, извивался, пытаясь освободить ноги.
Между тем вода прибывала. Она почти совсем скрыла лежавшего на настиле преступника.
Наконец-то свободна и вторая рука! Фируз вцепился ею в горло бандита, но получил сильный удар ногой в живот и отлетел к переборке. И тут же на него бросился Сушков. Стиснув друг друга, они катались по настилу тесного кубрика, наносили удары – руками, коленями. Ноги Фируза все еще были связаны, и это давало противнику преимущество.
В кубрике шла борьба, а на палубе уже никого не было. Несколько минут назад катер обогнул мыс, направился к его основанию и, развернувшись кормой к берегу, высадил на мелководье двоих бандитов. Все больше погружаясь в воду, неуправляемое судно медленно поплыло дальше.
Катер намного опередил киржим: тяжелому судну с большой осадкой пришлось далеко обходить рифы, чтобы не напороться на подводные камни.
На носу киржима стояли Джафар и Белов. Первое время они видели в бинокль мелькавший среди скал катер, определили, что тот пересек скальный архипелаг. А затем преследуемое судно затерялось в волнах.
Наконец рифы остались позади. Справа, километрах в трех, был берег, далеко впереди обозначился мыс.
Подошел старшина киржима.
– Не видно их, – сказал он. – Может, к берегу подались?
– Хорошо, если так, – заметил Белов. – Там их ждут…
– Катер, – крикнул матрос, наблюдавший за морем с крыши рубки. – Вот он, огибает мыс!
Он оторвал бинокль от глаз, рукой показал направление.
Джафар навел бинокль на оконечность мыса. В окулярах возникла точка.
– Видишь его? – спросил Белов.
Джафар кивнул.
Старшина подал команду. Киржим на полной скорости понесся к мысу.
– Умные! – сказал старшина. – На мысу камыш как стена. Дивизию можно спрятать. А рядом автомобильная дорога.
– По дороге не пройдут, – заметил Белов. – Там все перекрыто. – Он тронул за плечо старшину. – А за мысом что? Есть еще удобные места для высадки?
– На пять километров тянется голый берег: песок и песок…
– Давайте к мысу. К самому основанию!
– Не подойду. – Старшина покачал головой. – Там очень мелко.
– Ну, сколько сможете! Я высажусь, а вы обойдете мыс – они, может быть, все же пошли дальше…
Старшина пошел в рубку.
Белов обернулся к товарищу. Бледный, с повязкой на голове, сквозь которую проступала кровь, Джафар стоял, наклонившись вперед, не спуская глаз с далекого катера.
– Не нервничай, – тихо проговорил Белов. – Сам подумай: на хвосте у них висим, побоятся тронуть Фируза…
– Я пойду с тобой!
– На ногах едва держишься! В больницу тебя надо, а не…
Белов не договорил. Киржим приблизился к мысу, стал поворачивать.
– Давай! – крикнул старшина, высунувшись из рубки.
Белов вынул пистолет, поднял его над головой и соскочил в воду.
Джафар неподвижно стоял на борту. Он видел, как Белов достиг берега, вошел в камыши. Стена серых стеблей качнулась, поглотив человека, выпрямилась и застыла.
Тогда Джафар бросился в море.
Камыши сомкнулись за спиной Белова, и сразу стало тихо и сумрачно. Пахнуло плесенью. Под ногами запружинила гнилая земля.
Он осторожно раздвигал заросли, шаг за шагом приближаясь к противоположной стороне мыса.
Впереди обозначился просвет. Это была поляна. На ней высилась куча высохшего камыша. Куча шевелилась!
Белов взвел курок пистолета. Раздался щелчок, слишком громкий для тишины камышового царства. Из вороха стеблей появилась морда зверя. Еще миг, и на поляну вышел шакал с добычей в зубах: из пасти почти до земли свешивалась птичья голова на длинной шее.
Зверь постоял, прислушиваясь, скользнул в заросли.
Белов смело перебежал поляну. Шакал – чуткий зверь. Он охотился – значит вокруг спокойно.
Теперь было недалеко до берега. Десяток-другой шагов, и Белов вышел к воде. Он сразу увидел киржим. Судно разворачивалось к мысу. Это означало, что катера не обнаружили.
Однако его не видно было и возле мыса. Куда же девался катер?
Белов побежал к основанию мыса. Возле берега плавали в тихой воде принесенные штормом бревна, холмики водорослей. А впереди, где заросший мыс переходил в низкий песчаный берег, на воде что-то чернело.
Тоже бревно или куча водорослей?
Но от этого предмета расходились круги. Он двигался! Двигался и медленно погружался!
Белов бежал, напрягая все силы.
Вдруг из камышей выскочил человек, вбежал в мелкую воду и, высоко поднимая колени, устремился к тонущему катеру. А тот уже был готов скрыться в глубине.
По белой повязке на голове Белов узнал Джафара.
На пути Белова оказалось нагромождение промазученных досок, водорослей. Пришлось войти в камыши, чтобы обогнуть препятствие.
Когда он вновь появился из зарослей, Джафар плыл назад, поддерживая на воде Фируза.
– Жив? – крикнул Белов.
Джафар не ответил.
Белов вбежал в воду, принял Фируза. Тот был без сознания.
– Откачивай, – тяжело дыша, проговорил Джафар. – Скорее!
И он снова поплыл к катеру.
Через несколько минут Джафар вынес на берег Сушкова.
Подошел киржим, отдал якорь. Все, кто был на борту, прыгнули в воду, поспешили на помощь.
Где-то на берегу грохнул выстрел.
– Беги, Володя! – крикнул Джафар.
Белов кинулся на звук выстрела.
За мысом начинался крутой каменистый холм. Вновь прозвучал выстрел, теперь уже на вершине холма, затем еще один.
Перескакивая с камня на камень, Белов карабкался по крутому откосу.
Первым, кого он обнаружил на холме, был Солист. Бандит лежал за Обломком камня и, вытянув руку с пистолетом, готовился выстрелить. Другой рукой он опирался на камень: растопыренные толстые пальцы, широкое серебряное кольцо на одном из них.
Преследователя он не видел.
Белов подполз, рванул в сторону руку преступника с пистолетом. Грянул выстрел. Пуля ударила в камень, с воем умчалась в небо.
Он вложил в удар все то, что накипело на сердце за эти недели. Бандит опрокинулся на спину и потерял сознание.
Послышались голоса. Белов встал. Он увидел: у подножья холма милиционер ведет второго преступника; двое оперативников карабкаются по склону.
Белов подождал их, указал на лежащего и пошел назад, к мысу.
Фируз и его противник были там, где их вытащили из воды. Оба уже очнулись.
Джафар хлопотал возле друга, бинтовал обезображенные кисти Фируза, что-то говорил ему, улыбался…
Белов подсел, достал сигарету.
– Четвертого не упустите, – морщась от боли, сказал Фируз.
– Поселковый почтарь, – вставил Джафар. – Оказывается, он хозяин «Фархада»… Подслушал наш с тобой разговор!..
Помолчали. Потом Белов поднялся на ноги.
– Я подгоню машину. Отвезу вас в поселок.
Фируз покачал головой, поглядел на лагуну, где затонул катер.
– Быстрее же будет, – настаивал Белов. – Тебе к врачу надо!
– Куда он уйдет от своего катера? – сказал Джафар. Он тоже встал, тронул Белова за плечо. – Ты поезжай, Володя, не теряй времени…
Алексей Азаров Где ты был, Одиссей?
1. В гостях у Циклопа – июль, 1944
Одноглазый Циклоп – лучший мой друг. Мы это с ним установили вчера. Он так красочно и горячо расписывал перспективы, открывающиеся передо мной, если я всегда и во всем буду держать его руку, что я едва не бросился ему в объятия. Только врожденная сдержанность помешала мне сделать это. Мы скрепили договор о дружбе кружкой-другой светлого пива и решили, что на свидание с Кло явимся вдвоем.
Впрочем, лукавый Циклоп нарушил слово и прихватил в кафе приятелей. Сейчас они сидят за угловым столиком и со cкучающими физиономиями потягивают аперитивы. С нами они не разговаривают и даже не смотрят на дверь, откуда должна появиться Кло Бриссак, двадцати двух лет прелестная и таинственная.
Если Циклоп мой друг, то Клодина – моя гордость, рост сто пятьдесят семь, талия пятьдесят пять, размер обуви – тридцать третий. Согласитесь, такое встречается не каждый день. Если же к перечисленным достоинствам добавить родинку на левой щеке, голубые глаза и длиннющие волосы, волшебством парикмахера превращенные в старое золото, то, право, легко понять Циклопа, загоревшегося желанием познакомиться с Кло, и чем скорее, тем лучше. Ради такого случая он даже переоделся в новенький костюм, узковатый в плечах, и заколол свой бордовый, очень корректный галстук жемчужной булавкой.
Утром, готовясь к свиданию, Циклоп так волновался, что выкурил лишнюю сигарету. Десять штук в день, – вот та норма, которую он себе определил во имя долголетия, и ровно десять слабеньких «Реемтсма» умещается у него в портсигаре. Об этом я узнал вчера во время задушевной беседы, равно как и то, что дома у него невеста – премилое существо, с коим он обручился еще в сороковом.
– А как же свидание с Кло? – спросил я. – Господь, освящающий браки, не прощает измены избранницам, даже, если они совершены в помыслах, а не действии.
– Бриссак – особый случай. И потом, кто она – женщина или призрак? Или, быть может, плод вашей фантазии?
– Я реалист.
– Вы? – Очки Циклопа нацелились в мою переносицу. – Милый мой, да вы или сущее дитя, или фантаст почище Гофмана. Три месяца знакомы с вашей Кло, а не знаете адреса и, бьюсь об заклад, ни разу не слазили ей под лифчик.
– Так оно и есть.
– Так или не так, я это выясню. Если, конечно, Клодина Бриссак не призрак. В последнее время, знаете ли, я столь часто имею дело с призраками, что считаюсь в наших кругах доктором оккультных наук. Вы меня поняли?
– Еще бы! – сказал я и пожал плечами.
При желании мне ничего не стоило поразить Циклопа деталями, которые на известный срок развеяли бы его сомнения, но я предпочитаю приберечь их напоследок, на тот стопроцентный возможный случай, если Кло не явится в кафе. Ночью я так долго думал о ней, что вся жизнь Клодины, просмотренная, как лента фильма, запечатлелась в моей памяти: знаю я и склонности Кло, и ее сокровенные привычки, и особенности, вроде манеры растягивать гласные в слове «милый».
– Так где же ваша крошка? – спрашивает Циклоп и постукивает ногтем по стеклу часов.
Ноготь хорошо отполирован и вычищен. Кожица у основания подрезана. Я слежу за рукой Циклопа и думаю о том, что у него удивительно красивые пальцы: длинные, тонкие пальцы пианиста или аристократа.
– Еще не вечер, – отшучиваюсь я. – Да и где гарантия, что Фогель не напутал? Говорил же я вам, что на могиле несколько кашпо, и было бы лучше, если б я сам поставил гвоздики куда надо. А ваш Фогель…
– Ни слова о нем!..
Правый, живой глаз Циклопа, увеличенный стеклом очков, с пугающей быстротой приобретает мертвенную холодность левого, фарфорового. В голосе проскальзывает резкая нота. Уловив ее, двое за столиком в углу угрюмо настораживаются и смотрят в нашу сторону.
– Успокойтесь, Шарль, – говорю я и медленно, не расплескав ни капли, подношу ко рту чашку с остывшим кофе. – Согласитесь, что я прав: Фогель не производит впечатления первого ученика.
– Скажите-ка это ему.
– Ну нет! Хирурги дерут втридорога, особенно когда имеют дело со сложными переломами… Но я не об этом, Шарль! Просто мне кажется, что на кладбище нужно было ехать нам с вами. Второе кашпо слева в нижнем ряду и три крапчатых гвоздики, и Кло прочла бы мой призыв: «Приходи завтра!»
Живой глаз Циклопа тихо оттаивает.
– Или наоборот, говорит он с полуулыбкой. – «Не приходи никогда». Три махровые гвоздики и еще какой-нибудь пустячок, о котором вы мне позабыли сказать. Так может быть?
Беседовать с Циклопом одно наслаждение. Он строит фразы легко и изящно, и где-нибудь в светском салоне я бы мог ошибиться и принять его за маменькиного сынка с приличным состоянием. В своем кабинете он явно не на месте. Письменный стол слишком огромен для него, а пуританские формы полевых телефонных аппаратов диссонируют с его белоснежными рубашками из батиста и очками в тонкой золотой оправе. Когда я впервые увидел его за столом, то с грустью понял, что судьба подкинула мне чистое «зеро».
Очевидно, флюиды и прочие импульсы, рождающиеся при работе мозга, все-таки существуют, ибо Циклоп вдруг накрывает мою руку своей почти бесплотной и мягко говорит:
– Не надо волноваться, мой друг.
– С чего вы взяли?..
– Ну, ну, только не лгите. Я же вижу: вам не по себе. Сознайтесь, что Кло – мираж в пустыне, и мы сейчас же поедем домой. Ну как?
– Подождем.
– А не зря?
– Чего вы хотите? – говорю я серьезно. – Чтобы я взял и вынул вам ее из кармана? … Черт возьми, я больше вас заинтересован в свидании. Если мы уедем, а она придет, кто проиграет? Не вы же?
– Будь по-вашему, Мюнхгаузен! Гарсон, еще два кофе. Не очень крепких.
После полудня в кафе пусто. Девушки, забегающие сюда, чтобы за бокалом оранжада посплетничать о любовниках и купить у буфетчика из-под полы пару чулок «паутинка», – все эти Мари, Рози и Люлю с кожей той нежной голубизны, что свидетельствует о постоянном недоедании, давно уже разошлись по своим конторам, шляпным мастерским и салонам мод. Кафе, как и весь Париж, в промежутке с часу до четырех – зона пустыни, и только мы застряли в нем, как бедуины на привале.
– Пейте, – говорит мне Циклоп и отставляет свою чашку. – Договорились – еще полчаса? И баста!
– Кло придет. Вы получите ее, Шарль, а я получу…
– Ну и характер! Вы и в аду открыли бы мелочную лавку! Признайтесь, мой друг, у вас в роду не было торговцев?
– Только чиновники.
– Ах да, колониальная администрация в Марокко. Странно, почему у вас такая кожа серая, ни мазка загара? Законы наследственности на вас не распространяются?
Все та же игра! Третьи сутки подряд. Я изрядно устал от нее и к тому же хочу спать. Сейчас Циклоп начнет вытягивать из меня подробности относительно моего детства или расположения улиц в Марракеше или спросит, сколько франков стоил до войны на базаре праздничный наряд туарега. Мелочи, сотни мелочей, которые он ухитряется проверять с феноменальной быстротой. Вчера к концу разговора, когда Фогель, раза три встававший и уходивший куда-то, вернулся в последний раз и положил на стол какую-то бумажку, Циклоп, бледно улыбаясь, уличил меня во лжи относительно расположения бара в мадридском отеле «Бельведер». Я пытался спорить, но Фогель быстренько вычертил план, и мне ничего другого не осталось, как сослаться на плохую память.
– К тому же я жил там сутки, – добавил я как можно небрежнее.
– Но названия коктейлей помните?
– Все просто: за каждый из них я платил… Я всегда помню, что именно приобретаю на свои денежки… А бар – справа он или слева, какая разница?
– Очень любопытно, – сказал Циклоп. – Очень, очень любопытно, как расходятся взгляды у разных людей на один и тот же предмет. Фогель оплатил ваши счета в пансионе и утверждает, что вы настоящий мот. Сами вы признаетесь, что скупы, как Гарпагон, и знаете цену каждому сантиму. Мне вы не представляетесь ни тем, ни другим – здравомыслящий реалист, и только. А вот доктор – помните его? – убежден, что вы сумасшедший и тот припадок, который сразил вас вечером, есть следствие органических изменений центральной нервной системы.
– У меня был припадок?
– А разве… Не помните?
– Смутно. Что-то белое и синяк на левой руке.
– Халат врача и гематома – вы так рвались, что доктор пропорол вам вену иглой. Давно это с вами?
– Было в детстве, потом прошло. Нет, я не сумасшедший!
– Я тоже так думаю, – кивнул Циклоп. – Для шизофреника вы слишком логичны. Даже то, как вы через Испанию попали в Париж, убийственно логично. Кстати, где у нее родинка, у вашей Кло?
– На левой щеке, – сказал я и попросил сигарету.
Когда я прикуривал, пальцы у меня дрожали.
Сейчас я слежу за собой и радуюсь: кофе в чашке недвижим. Черный кружок и замершая в центре соринка – микроокеан и тонущий кораблик Одиссея. Одиссей – это я. Все есть на моем пути: и бури, и плач сирен, и жуткий бег между Сциляой и Харибдой, и хозяин пещеры Циклоп. Где ж ты был, Одиссей, куда тебя носило?
Циклоп с непроницаемым лицом смотрит на часы. Белый манжет, перехваченный жемчужной запонкой, свободно свисает с узкой руки. Она так женственна и артистична, что кажется, еще миг – и ей дано будет вспорхнуть над возникающими из складок скатерти клавишами, и Бетховен встретит Кло, входящую в кафе, гимном, достойным ее красоты.
– Полчаса прошли, – говорит Циклоп деловито и поправляет выскочивший манжет. – Пора домой. Там мы побеседуем о наших делах в спокойной обстановке. Согласны? Заодно я буду рад услышать от вас, как и когда вы придумали сказку о Клодине Бриссак. И зачем вам она понадобилась – это я тоже не прочь узнать.
– Фогель перепутал кашпо…
– Фогель ли перепутал кашпо, вам ли потребовалось показаться кому-то в моем обществе – все это вещи, достойные размышлений. У нас с вами впереди бездна времени для бесед по душам, и чутье говорит мне, что беседы эти будут очень, очень откровенными… Допивайте свой кофе.
Двое встают из-за столика и, не дожидаясь, пока Циклоп отсчитает деньги, выходят из кафе. У них прямые спины, обтянутые стандартными пиджаками, и грубая обувь военного образца. Такую солдаты вермахта сбывают на «черном рынке» около Триумфальной арки. Там же, у арки, кулисье торгуют валютой всех стран мира. Один из них и продал мне ту самую двухфунтовую бумажку с радужными разводами и тонкими штрихами защитной банковской сетки.
Гарсон отсчитывает сдачу, а я пью свой кофе. Мне-то совсем не хочется спешить…
Мы выходим на улицу, на самое пекло, и горячий тротуар Елисейских Полей мягко приминается под моими каблуками. Небо – синее с белым, ни дать ни взять океан, по которому Одиссею уже, пожалуй, не плыть никогда. Разве что мысленно… Я невесело усмехаюсь про себя банальности сравнения и иду вместе с Циклопом к машине. Двое в военных башмаках шествуют сзади и подпирают меня взглядами.
«Мерседес» стоит за углом, охраняемый щуплым субъектом в шляпе с перышком. Когда мы приехали, он уже ошивался тут, возле афишной тумбы. Усики и цепкий взгляд странно не вяжутся с отлично сшитым дорогим костюмом; из бокового кармана торчат тонкие перчатки. Субъект открывает дверцу, пропускает Циклопа и сильным движением толкает меня в задний отсек машины, куда уже успели забраться парни в стандартных пиджаках.
– Садитесь и вы, Фогель, – говорит Циклоп. – Мы потеряли два часа.
Фогель с треском захлопывает дверцу и, раньше чем машина берет с места, защелкивает наручники на моих запястьях. Шляпа с перышками царапает мою щеку.
– Осторожнее, – говорю я. – Он выбьет мне глаз, Шарль.
– Ну, ну, Фогель…
– Все в порядке, штурмбаннфюрер. Я только надел браслеты… Я его и пальцем не коснулся…
– Еще успеешь, – негромко говорит Шарль, он же Циклоп, он же СД-штурмбаннфюрер Карл Эрлих.
И «мерседес» устремляется по улицам Парижа от центра к периферии. Именно там, подальше от деловых кварталов, в Булонском лесу, расположилась пещера моего Циклопа. Называется она просто и со вкусом – гестапо.
Я закрываю глаза и думаю об Одиссее, кораблик которого занесло чертовски далеко от родных вод… Впрочем, какой я Одиссей? Меня зовут Огюст Птижан. Сын отставного чиновника из Марракеша Луи-Жюстена Птижана и Флоры, урожденной Лебрие. Мне тридцать семь лет; у меня слабое сердце, одышка и плоскостопие, сделавшее меня негодным к призыву в тридцать девятом; и главное – мне очень надо жить…
2. Кое-что о странствиях – июль, 1944
Главное – мне очень надо жить. И Эрлих это превосходнейшим образом понимает. Понимает он и то, что ни один человек на свете, оказавшись в моей шкуре, не станет исповедоваться с детским простосердечием. Посему он в третий раз на протяжении утра выслушивает рассказ Огюста Птижана о том, зачем и почему Птижан перебрался весной из Марракеша в Париж. Надо отдать ему должное: слушать он умеет.
– Ну вот, – говорю я, добравшись наконец в своем повествовании до злополучного отеля «Бельведер». – Там-то я и решил, а не попробовать ли счастья в Барселоне? Мне сказали, что суда в Марсель ходят довольно часто и что с испанским паспортом у меня не будет затруднений… Продолжать?
– Да, да, конечно, – вежливо говорит Эрлих и склоняется над стопкой бумаги. Стопка лежит идеально прямо, но штурмбаннфюреру что-то не нравится, и он подравнивает ее металлической линейкой, сдвигает на пару миллиметров вправо. – Не забудьте, пожалуйста, подробности поездки… Любые мелочи важны… Хотя что я – у вас, мой друг, такая память, что мы с Фогелем не устаем поражаться. Вы не увлекались мнемотехникой?
– Нет… Но вы правы: память у меня хоть куда!
Слова, слова! Я изливаю их таким могучим потоком, что Рона в сравнении с ним показалась бы жалким ручьем. Однако Эрлих готов тратить и время, и терпение, выслушивая импровизации Огюста Птижана, а Фогель, человек в общем-то, как мне кажется, желчный и экспансивный, ни звуком, ни жестом не выражает протеста и, согнувшись в три погибели над громоздким «рейнеметаллом», знай выстукивает себе которую по счету страницу протокола. Печатает он одним пальцем, но быстро и записывает все дословно. Машинка сухо потрескивает, и я, описывая маршрут Мадрид – Сарагосса – Барселона, чувствую себя знаменитостью, дающей интервью…
Я думаю о Фогеле, и возникает пауза, разрушаемая Эрлихом. Он не любит, когда я останавливаюсь.
– Вы что-нибудь забыли?
– Я устал.
– Скоро отдохнете, – говорит Эрлих с намеком. – На чем он запнулся, Фогель?
– На Сан-Висенте-де-Кальдерс. Перечитать?
– Не стоит, – говорю я. – В Сан-Висенте я сошел с поезда и пересел в автобус. Большой автобус марки «бенц», с багажным отделением наверху.
– Почему перешли?
– Какая-то авария на станции. Говорили, будто вагон сошел с рельсов или выворотило шпалы… Не помню… Это было шестнадцатого апреля, можете проверить.
Эрлих кивает и принимается выравнивать стопку бумаги на столе. Вид у него скучающий. Чтобы немного взбодрить штурмбаннфюрера и подогреть его интерес, я, описывая поездку, вспоминаю несколько деталей, таких, как синий берет на водителе и перебранку между ним и огромной, неправдоподобных форм валенсийкой, севшей в Виллафе. Сбиться я не боюсь, ибо все так и было – автобус, синий берет и валенсийка, оравшая на весь салон, что она, хотя и заняла два места, заплатит за одно, поскольку в правилах не оговорено, что плата удваивается, если щедрый Господь награждает женщину добротной задницей…
В этом месте рассказа вновь возникает пауза, но уже не по моей вине. Микки, в плиссированной юбочке и приталенном мундире шарфюрера СС, аккуратно постукивая сапожками, входит в кабинет и, выдохнув: «Хайль Гитлер!», сменяет Фогеля за машинкой. «Наконец-то!» – облегченно роняет Фогель и пересаживается на подоконник, чтобы немедленно приступить к своему излюбленному занятию – подпиливанию ногтей.
– Добрый день, мадемуазель, – говорю я Микки. – Прелестная сегодня погодка, не так ли?
У СС-шарфюрера точеные ножки и невыразительное личико, украшенное прической в стиле Марики Рокк. Насколько я знаю, немки в Париже, досыта объевшись «Девушкой моей мечты», все, как одна, украсили себя валиками надо лбом и подвитыми локонами сзади и за ушами. Некоторым это идет, но помощницу Эрлиха постигла неудача. Марикой Рокк она не стала, зато приобрела удивительное сходство с диснеевским Микки Маусом – очень противным, на мой вкус, мышонком. Микки не долго размышляет над ответом.
– Скажите ему, чтобы он заткнулся, штурмбаннфюрер! – изрекает она и ловко перебрасывает влево каретку. – Или он заткнется, или я ему врежу в пах. Еврейская свинья!
Эрлих долго и с интересом разглядывает нас обоих.
– Он не иудей, шарфюрер.
– Все равно пусть заткнется!
– Уже заткнулся, – говорю я кротко, чтобы доставить Микки удовольствие. – Однако как же с Барселоной, штурмбаннфюрер? Рассказывать или не надо? Госпожа шарфюрер против того, чтобы я здесь трепался…
Я все жду, что Эрлих однажды сорвется, и тогда будет то, что рано или поздно должно быть: крик, удары, сломанные кости и вывернутые суставы. Не понимаю, почему он церемонится с Огюстом Птижаном? Четверо суток я заговариваю зубы, потащил гестаповцев в кафе, куда якобы должна была явиться Кло, отпускаю шуточки – и все безнаказанно. Будь на месте Эрлиха статуя Бисмарка и у той лопнуло бы терпение.
Все же последняя моя реплика заставляет штурмбаннфюрера побледнеть. Бледнеет он своеобразно – сначала кровь отливает от лба и подбородка, подчеркивая розоватую сетку на скулах, потом сереют сами скулы, и наконец белеет нос, весь за исключением кончика, который светится, словно тлеющая сигарета.
– Не зарывайтесь, Птижан, – тихо говорит Эрлих. – Сумасшедший вы или просто лжец – дело третье. Но что вы шпион, у меня сомнений нет. Надеюсь, нет их и у вас?
– Как раз наоборот…
– Хватит! Давайте о Барселоне. Где вы останавливались там?
– В «Континентале».
– Где питались? В ресторане? На каком этаже?
– На втором.
– Чушь. В Европе все рестораны без исключения расположены на первом.
– А в «Континентале» на втором. Боже мой, сколько можно твердить об этом? … «Континенталь» стоит на Рамбла-де-Каталуна, в пятидесяти шагах от площади Де-Каталуна и в ста от улицы Пассо-де-Грасиа… Нетрудно проверить.
– Когда открывается ресторан? Утром, в полдень?
– Утром он работает недолго, а по-настоящему открыт вечером, с восьми.
– Опять лжете?
– Да нет же, – говорю я и пожимаю плечами. – Чистейшая правда, хотите присягну на Библии? Вам знакомо такое понятие «сиеста»?
– Ну? – поощряет меня Фогель, отрываясь от ногтей.
– Сиеста – послеполуденный отдых. Днем в Барселоне спят, ходят в кино и обедают. В апреле тоже, хотя жара еще не столь убийственна. Кинотеатры открываются в одиннадцать, а рестораны в восемь или в девять. Это легко проверяется. Рассказывать дальше?
Дальше ничего нового не последует. Я опять, в пятый раз, упомяну о Гомесе, продавшем мне паспорт, опишу во всех штрихах от ватерлинии до клотика «Лючию», плавающую под флагом нейтральной Коста-Рики, повторю историю, как сошел в Марселе ночью и до утра прятался в пустом пакгаузе, а утром, пользуясь беспечностью часового, выскользнул за ограду порта и, не мешкая, ринулся на вокзал, на парижский экспресс. Восемьдесят четыре часа с перерывами мы – Эрлих, Фогель и я – занимаемся набившим оскомину вопросом о моей поездке из Марокко во Францию, поездки, предпринятой ради спасения Алин Лекрек, нареченной Птижана, застрявшей в Париже с первых дней оккупации. Восемьдесят четыре из девяносто шести часов, прошедших с момента моего ареста гардистами, истратившими треть суток на оформление документов и бессистемные побои.
Меня взяли в метро в одиннадцать с минутами. Черт разберет, что уж там померещилось сухопарому молодцу в брюках-гольфах, буравившему остренькими глазками пассажиров на станции Распай. Он стоял у выхода и, повинуясь одному ему известным причинам, положил мне руку на плечо. Документы мои были в порядке, костюм безупречен, и я без опаски сунул гардисту удостоверение и пропуск комендатуры. Пропуск был, разумеется, фальшивый, но выглядел лучше настоящего – печати жирно сияли черной краской, все подписи были на местах. «В порядке», – сказал гардист, и в этот миг к моим ногам, скользнув по подкладке, сухим листом спланировал двухфунтовый банкнот Британского королевского банка. Бежать было некуда, и молодчик, захватив мою руку по всем правилам каратэ, потащил меня наверх, где и сдал гардистскому патрулю.
Восемь часов спустя штурмбаннфюрер Эрлих в полной форме приехал за мной во Дворец юстиции и с Острова перевез в Булонский лес. Гардисты были недовольны, но возражать не посмели и даже помогли мне почистить пиджак – восемь часов, они старались выбить из меня показания, где тайник с валютой: костюм от Вуазена и хорошие манеры арестованного привели их к твердому выводу, что Огюст Птижан имеет отношение к спекулянтам из-под Триумфальной арки. В силу этих причин пиджак мой к моменту прибытия Эрлиха напоминал лохмотья театрального нищего. Эрлих, брезгливо морщась, подождал, пока гардисты орудовали платяной щеткой; фарфоровый глаз его при свете ламп исторгал молнии, тогда как живой с неподдельным интересом исследовал многочисленные синяки и ссадины на моем лице.
Усталость, побои, напряжение – все, вместе взятое, кончилось тем, что в Булонском лесу я свалился в припадке; явился некто в белом, я заплакал, потом захохотал и скатился в бесформенную бездну, откуда выкарабкался только к следующему утру. С тех пор мы почти неразлучны с Эрлихом; я говорю, он, слушает и никак не хочет сорваться с тормозов…
– Рассказывать дальше? – повторяю я и, оглянувшись, посылаю Микки роскошную улыбку: пусть видит, что я не сержусь на нее.
Эрлих не торопясь выходит из-за стола и присаживается рядом с Фогелем на подоконник. Скрещивает руки на груди и на миг задумывается.
– Значит, так… – начинаю я.
– Стоп! – говорит Эрлих и зевает, прикрыв рот ладонью. – К чему спешить, милейший? Повторите-ка мне, от «а» до «зет», как вы ехали из Мадрида в Барселону. И не ошибитесь, ради бога. Поняли? … Ну валяйте, а мы с Фогелем послушаем; мы страшно любим слушать, не так ли, Фогель?
Черт бы его побрал, этого Эрлиха! Бесконечные повторы медленно, но верно ведут штурмбаннфюрера к цели. Не родился еще человек, способный изложить одну и ту же историю полдюжины раз кряду и при этом ни разу не спутать деталей, не сбиться, не обмолвиться – словом, не подарить опытному следователю пару-другую зацепок, ухватившись за которые он может найти искомое. Преимущество Эрлиха состоит и в том, что он не делает попыток навязать мне волю, а равнодушно ест все те блюда, что я готовлю на своей кухне.
– Я устал, – говорю я, и на сей раз чистейшую правду.
Эрлих поднимает брови.
– Вот как? Но мы еще и не начинали беседовать по-настоящему… Ну, ну, Птижан, не хитрите. В ваших интересах не портить отношений. Вчера вы признались, что занимаетесь шпионажем в пользу голлистов и назвали связную, явку, опознавательный сигнал на кладбище. Будь я легковернее, мы бы этим ограничились и списали бы вас в Роменвилль. Залп – одним голлистом меньше…
Слезы наползают мне на глаза.
– Я лгал, господин Эрлих… я думал…
– Что спасете этим жизнь? Ах, – как неразумно!.. Повторяю: окажись я легковернее, все было бы кончено. Подвал, третья степень, а затем форт Роменвилль и залп из семи винтовок… Цените нас с Фогелем, дорогой Птижан! Вы живы, вас обхаживают как принцессу – и все для чего? Во имя гуманизма? Отчасти! Во имя буквы закона? Тоже верно, но не совсем. Просто и Фогель и я – порядочные ребята, считающие, что и в наш жестокий век не перевелись романтики… Ваша любовь к Алин, ваши поиски любимой – такая история близка моему сердцу. И вот я подумал: а почему бы и нет? Почему бы и не поверить влюбленному, вдруг он не лжет?.. Тогда не Роменвилль, а концлагерь и интернирование до конца войны. Улавливаете разницу?
Мягкая, обволакивающая боль сжимает мое сердце, и лицо Эрлиха, покачнувшись, начинает плыть перед глазами… Я знаю, что это такое, и изо всех сил цепляюсь за стул. Ногти скребут по дереву, откалывая остренькие щепочки… Сейчас я начну смеяться, а потом Фогель и Эрлих взовьются к потолку и будут летать надо мной, долбя клювами череп… Нет!.. Я-то точно знаю, что я не сумасшедший… Это все доктор Гаук, это он сказал, что у меня не в порядке с головой… Чепуха! Я здоров и отлично помню, как ехал из Мадрида в Барселону. Сначала поездом, а затем в автобусе; шофер может это подтвердить. Он не посмеет лгать, зная, что жизнь ближнего зависит от его слов… Вот он стоит в углу – синий берет и рубашка с закатанными рукавами… Эй, парень! Подтверди Эрлиху, что ты вез меня из Сан-Висенте!..
Спокойствие приходит ко мне – прочное и умиротворенное. Теперь, когда шофер здесь, в гестапо, я могу и поспать. Я укладываюсь на перину и зажмуриваю глаза, совсем как в детстве, когда засыпал под стук ходиков с кукушкой… Впрочем, нет! Не было ходиков! Ничего не было, и детства тоже…
Сон наваливается на меня, вдавливает в перину, окутывает мраком и теплом. Из душного тепла выходит доктор Гаук, халат его хрустит, а голос подобен хрустальному звону…
…С острым звоном лопается горлышко здоровенной ампулы, и я прихожу в себя. Врач в белом халате поверх черной формы помогает мне вскарабкаться на стул и мощной лапой перехватывает мою руку у запястья.
– Ну как?
Это Эрлих.
– Все то же, штурмбаннфюрер.
А это врач – доктор медицины Гаук; его я, честно говоря, опасаюсь больше Эрлиха и Фогеля, вместе взятых.
– Что вы предлагаете? – спрашивает Эрлих равнодушно, словно меня нет в комнате.
– Исследование спинномозговой жидкости – пункцию, штурмбаннфюрер. Тогда мы будем знать наверняка. Можно попробовать и барбитураты внутривенно – субъект растормаживается и говорит все, следуя за потоком сознания. Минуты две, не меньше. Очень эффективно при распознавании симуляции.
– На сколько вы его возьмете?
– На сутки. После пункции придется лежать.
– Но допрашивать можно?
– Конечно. Только не поднимайте его с постели.
– Хорошо. Я все обдумаю и сообщу решение. Свободны!.. Все свободны, и вы тоже, Фогель. Шарфюрер, оставьте мне протоколы. Перерыв, господа…
Врач, Фогель и Микки покидают комнату. Микки выходит последней, успев послать мне недобрый взгляд. Пробую по привычке ответить ей улыбкой, но губы словно одеревенели и плохо слушаются меня. Эрлих спрыгивает с подоконника и достает портсигар из нагрудного кармана.
– Голова… – говорю я.
– Голова кружится? Пустое, все пройдет. Все проходит в нашем мире, мой милый!
– Тривиально…
– А что не тривиально? Жизнь? Смерть? Чем вы отличаетесь от двух миллиардов двуногих, и почему я, штурмбаннфюрер Эрлих, трачу на вас время? Не догадываетесь?
– Нет, – говорю я довольно твердо.
– Ладно, закуривайте. И не изображайте сумасшедшего. У вас это неплохо получается, но думаю, что пункция и барбитураты подведут черту под спектаклем. Слышали, что сказал врач?
– Черту под спектаклем? Вы скверный стилист, Эрлих!
Штурмбаннфюрер чиркает спичкой и ладонью отгоняет сигаретный дымок. Выпускает тонкую струйку, целясь мне в глаза.
– Отлично! Чувство юмора всегда при вас, точно кожа, мсье Птижан. Следовательно, вы не лишились способности рассуждать здраво и давать оценки происходящему? Я прав?
– Допустим.
Слабость еще не прошла, но я уже не цепляюсь за стул. В ампуле, вероятно, был сильный стимулятор – такое ощущение, будто я хватил добрый стаканчик коньяку и сейчас балансирую на границе между трезвостью и опьянением.
– Тогда курите, – говорит Эрдих и, протягивает мне портсигар.
– Трубка мира?
– Все может быть…
– А как же третья степень? Я все жду и жду!
Эрлих прищуривается и убирает портсигар.
– Всему свой срок… Слушайте внимательно, Птижан. У меня три версии. Первая – вы шпион. Вторая – донкихотствующий романтик. Третья – сумасшедший. Последние две мы пока оставим и сосредоточимся на первой. За нее так много аргументов, что затрудняюсь пересчитать. Но вот вопрос – кто вас послал? В Париже вы три месяца – мы проверили, и оказалось, вы не лжете… Клодина Бриссак? Может быть, вы выдумали ее, а может, и нет. Во всяком случае, полагаю, в кафе вам требовалось побывать… Итак, кто вас послал? Это самое основное. Вчера вы сказали: французы. Сказали без колебаний и не испытывая при этом видимых мук совести. Но разве так предают своих? Полноте, Птижан! Не считайте меня новичком!
– Я и не думал…
– Стоп! Сейчас моя очередь говорить… Четверо суток вы врете мне, хотя и знаете, что банкнот лежит здесь, в столе; Алин Деклерк в Париже никогда не проживала, а при обыске в пансионе найдены кое-какие вещички, купленные вами не во Франции!
– Белье? – словно вспоминая, говорю я. – Белье с английскими метками? Но оно продается в Рабате в любой лавке.
Эрлих кивает.
– Верно. Во всем, что касается Рабата и отрезка Марракеш – Барселона, вы довольно точны. И знаете – я вам верю. Вы приехали именно оттуда, из Марокко. Вот почему я и утверждаю, что за вашей спиной не французы, а более мощная и богатая организация. Разведка господина де Голля не в состоянии затратить столько франков на переброску. Англичане, без особых фокусов, переправляют агентуру голлистов через Ла-Манш – и скатертью дорога!.. Другое дело – вы. Сам выбор маршрута говорит за то, что Огюст Птижан не рядовой агент, а фигура покрупнее! Много крупнее. Если же помнить, что «Бельведер» и «Континенталь» – фешенебельные отели, то – вы следите за моей мыслью? – мсье Птижан вырастает до размера колосса… Какое у вас звание, мой друг? Майор? Или еще выше?
– Маршал Франции!
Раз Эрлиху хочется видеть меня колоссом, то почему бы не присвоить себе любой высший ранг, вплоть до генералиссимуса. Мне это ничего не стоит.
– И вот еще что, – добавляю я небрежно. – Алин Деклерк действительно никогда не жила в Париже. Мне страх как не хотелось, чтобы гестапо рылось в доме будущего тестя. Кому это захочется, верно? Но еще меньше мне улыбается быть расстрелянным в качестве агента. Поэтому, господин Эрлих, не соблаговолите ли вы взять карандаш и записать настоящее имя моей невесты? А заодно и ее старый адрес – по нему она проживала до сорокового… Прошу вас, пишите, 8-й район, улица Гренье, 6, Симон Донвилль. Ее семью знает вся округа. Заодно консьерж скажет вам, что три месяца назад я справлялся о Симон. Думаю, он не откажется удостоверить мою личность. А теперь – нельзя ли сигаретку? У вас ведь «Реемтсма»? Очень приличный сорт…
Иногда это полезно – подбросить в костер полено потолще. Парадокс из области физики: пламя отнюдь не увеличивается, а, напротив, убывает, и иногда надолго. Кроме этого полена, у меня в запасе есть еще несколько, одно лучше другого.
Словом, поживем – увидим.
3. Циклоп, Гаук и сукин сын фогель – июль, 1944
Поживем – увидим. Авось да небось. Сколько веков утешается человечество этими суррогатами реальных надежд? Лично меня они не обольщают. И я говорю себе: «Огюст, ты хороший парень, но ты вляпался в скверную историю. В лучшем случае тебя без особых хлопот шлепнут как-нибудь поутру в заболоченном рву старого форта Роменвилль. Будет солнечно и тихо, и меланхоличные лягушки проквакают тебе отходную. Однако десять против одного, что Циклоп и Фогель вытянут перед этим из тебя жилы, а ты только человек, и, как знать, не сболтнет ли твой язык чего-нибудь лишнего?..»
Вечером СС-гауптштурмфюрер доктор Гаук сделал мне пункцию. Сделал мастерски – я и не почувствовал, как игла вонзилась между позвонками, слабый скрип – и только. Я сидел на стуле лицом к спинке и глазел на стену, где ползали большие черные мухи. Таких почему-то называют мясными. Мухи ссорились и склочничали, точно домохозяйки в коммунальной кухне. Пока Гаук выкачивал спинномозговую жидкость, мухи успели передраться, а Фогель, присутствовавший при операции, мрачно морщась, советовал мне не дожидаться результатов анализа и выкладывать правду.
– Сукин ты сын, – сказал я ему, намеренно разделяя слова. – Тебя разве не учили, что давать советы – привилегия старших? Ты думаешь, если напялил черный мундир, так сразу стал умнее всех? Или нет?
– Заткнись!
– О, как страшно!.. Ты действительно сукин сын, Фогель. И еще трус. Ставлю голову об заклад, что после высадки прачка не успевает приводить в порядок твои кальсоны. А когда союзники возьмут Париж, ты продашь всех и фюрера тоже, вымаливая себе местечко под солнцем. Вот оно как…
Гаук не успел сменить позицию и стать между нами: черный и стремительный – сущая пантера! – Фогель метнулся ко мне и нанес апперкот, сделавший бы честь самому Джо Луису. К счастью, Гаук уже извлек иглу: я установил это, вынырнув из обморока; в противном случае остатки дней своих Огюст Птижан провел бы с двумя дюймами крупповского железа между позвонками.
Гаук взял меня под мышки и водрузил на стул.
– Вот что, – сказал он с мрачным юмором. – Вы выясняйте, кто есть кто, а я пойду. Только учтите, штурмфюрер, потом не просите меня собирать целое из осколков.
Фогель сосредоточенно погрыз ноготь.
– Хорошо, гауптштурмфюрер. Но пусть он помолчит.
– Не слушайте, вот и все.
Говоря, Гаук раздвинул мне веки, надавил на переносицу.
– Посмотрите на мой палец… Сюда… А теперь сюда…
По спине у меня текло что-то мокрое и горячее. Может быть, кровь. Я скосил глаза, следя за пальцем Гаука… До операции он изрядно помучил меня всевозможными манипуляциями: стучал по колену молоточком, заставлял стоять на ребре сиденья стула, чертил перышком решетку на груди. Судя по всему, он взялся за меня всерьез.
– Доктор, – сказал я. – Я хочу рисовать. Пусть мне дадут карандаши, я нарисую на стенке козлика. Я рисую, как Модильяни, даже лучше Модильяни.
Гаук негромко заржал, показав крепкие желтые зубы.
– Вам мало прогрессивного паралича?
– Что-нибудь не то?
– Козлик – ближе к шизофрении. Хороший сумасшедший должен знать симптомы…
Гаук марлевой салфеткой вытер мне спину и одним движением пришлепнул наклейку.
– Одевайтесь!
– А как же козлик? – запротестовал я. – Дадут мне карандаши?
– Дайте ему их, штурмфюрер, – сказал Гаук и снова заржал. – Пусть рисует. Я, знаете ли, собираю сувениры.
– Еще что?
– А ничего. Шесть часов он должен лежать на брюхе и не двигаться. Пусть ему принесут горшок, а то, чего доброго, попрется на парашу. Ясно?
Они ушли, а я остался, лег на койку и закрыл глаза. Еще шесть часов. А что потом? Наверно, барбитуратовая проба. Две минуты болтовни, не зависящей от моей воли и отражающей поток сознания. Значит, имена, адреса, даты…
Одеяло прилипло к мокрой от пота спине. Толстое добротное одеяло с пышным ворсом и ткаными руническими знаками в углу. Клеймо СС.
Шесть часов… Из них три, похоже, прошли…
Я лежу на животе и мягкой алюминиевой ложкой рисую на линолеуме длинноногого козленка. Мордочка выходит хоть куда, но все же чего-то не хватает. Чего? Ах да! Рогов нет… Черенком ложки я пририсовываю козленку два штопора и длинную бороду, похожую на мочалку… Мне никто не мешает. В комнате я один, а в двери нет глазка. Обыкновенная комната и обыкновенная дверь, разрисованная масляной краской под орех. Раньше здесь, должно быть, жила прислуга.
Плохи твои дела, Птижан. Хуже некуда.
Впрочем, так ли это?.. Граф Монте-Кристо сидел в каменном мешке, выдолбленном в скале одинокого острова. И то ухитрился бежать. Славный герой Дюма-отца обломком чего-то там – кажется, кувшина или миски? – сумел проложить себе ход в тверди. Трудно же ему было! Многопудовые гранитные блоки, вековая известь, твердая как алмаз… Чем я хуже Монте-Кристо? У меня есть ложка, а стены особняка сложены из обычного кирпича, связанного в два ряда.
Посмеиваясь над Птижаном, пасующим перед не бог весть каким препятствием, я прихожу к твердому выводу, что герои романов были из другого теста. Ну какой я герой? Стену и то сломать не могу, да и внешность у меня заурядная – так, человек из толпы…
Я пририсовываю козлику хвост-пупочку и думаю, что это за штука – барбитураты внутривенно? Насколько наркотик развязывает язык и что можно наболтать за сто двадцать секунд? Очевидно, сильное опьянение, резкое снижение контроля, расторможенность и все такое прочее… Да, невесело…
Надо за что-то зацепиться и не дать себя сбить. Клодин Бриссак? … Что ж, пожалуй, годится. Держись за нее, Птижан! Наркотик будет делать свое, а ты тверди: Клодин, Клодин, Кло, Клодин Бриссак. Тысячу раз повторяй и рисуй ее: руки, голос, лицо… Ладно, с этим ясно. А сам я кто? Пусть будет Одиссей. Сумеешь ли ты построить цепь ассоциаций от Одиссея к Гауку и Эрлиху? Гаук и Циклоп… Давай попробуем все подряд: Клодин Бриссак, блондинка, живет в одиннадцатом районе, адреса не знаю; Гаук – белый халат; Циклоп, Циклоп, Циклоп… Медленнее! Иначе не заполнишь две минуты… Итак, Клодин Бриссак – подруга Одиссея. Где ты был, Одиссей?.. Не так. Это уже за гранью дозволенного. Одиссей никуда не выезжал за пределы Рабата и Марракеша. Только в Париж – через Мадрид и Барселону.
Козлик, козлик, где ты был?.. Мой козлик с рожками штопором – почтенный домосед. Час назад я создал его, поместив слева и наискосок от кровати, и он все еще торчит там и даже пупочкой не шевелит. Мне бы так – раз и навсегда стать на своем и ни на дюйм не двинуться в сторону.
Что нашли при обыске в комнате? Белье с английскими метками. Почтовую бумагу: такой здесь нет в продаже. Тоже английская. Фогель, вернувшись из пансиона, приволок в гестапо не только мой чемодан, но и бумажный пакет, куда, по-видимому, собрал мусор из пепельниц и корзинки. Сукин сын, этот Фогель; он примитивнее Эрлиха и ждет не дождется часа, когда тот позволит ему спустить с меня шкуру. Боюсь, однако, штурмбаннфюрер не даст ему перестараться.
Вечер сейчас или ночь? Не знаю. Окно снаружи забито досками, ни черта не разберешь… Пока мне ни разу не удалось спровоцировать Эрлиха и вызвать у него ярость. Врачи говорят, что у меня слабое сердце, долгих побоев я не выдержу.
Каждый знает, на что он идет. Я с самого начала считал себя наименее подходящим к будущей роли. У меня было время отказаться – неделя, кажется. На третий день пришел и сказал: «Согласен». Почему?.. Нет, я вовсе не пересмотрел взглядов на самого себя. Говоря «согласен», я по-прежнему считал, что ничего толкового не выйдет. И все же – почему я согласился? Была одна мысль, не существенная на первый взгляд. Коротко сформулированная, она уложилась в пять слов: «Но ведь кто-то обязан решиться?» Этим «кто-то» мог оказаться семьянин, отец детей, прекрасный муж, сын, брат… жених, в конце концов! А Огюст? Ни кола ни двора, и сам себе хозяин. Одинокий прохожий в толпе из числа тех, что всегда берет два билета в кино и один предлагает незнакомой девушке. Только так почему-то случается, что девушка, видите ли, пришла с кавалером, и вот – сердце не камень! – ты отдаешь ей и второй билет, а сам бредешь домой, где ждут тебя книга и остатки завтрака, накрытые газетой.
Одиночество… Но нет, не оно было причиной, когда я сказал: «Согласен». Причина в ином, и конечно же поверьте, не в соображении, что дело, за которое я взялся, легче делать холостяку, нежели семьянину, озабоченному женой и детьми. Не в этом суть! Мое дело не профессия. Профессия – это что-то иное. Отоларинголог, электрик, продавец бакалейного товара, астроном, водопроводчик, наконец, – все они действуют, повинуясь своей разумной воле и дисциплине, получая денежный эквивалент труда и более или менее гордясь пользой, приносимой повседневно. Но вот канатоходец; это профессия? Или нечто иное, искусство, что ли, без которого, разумеется, человечество вполне способно обойтись, как рано или поздно оно обойдется и без специалистов вроде Огюста Птижана… Я гляжу в потолок и думаю, что если рассматривать мое дело как службу и только, то легко сравнить Огюста Птижана с профессиональным воякой, сражающимся, поскольку война – его ремесло… Ну уж нет, не так! Выбирая, я знал одно: я не профессионал, но меня мобилизовали на защиту раньше, чем миллионы солдат. Я защищаю общество и идею, и мне не до белых перчаток! Профессия? Нет. Осознанная необходимость, помноженная на огромное до бесконечности понятие долг!
Вот оно главное – долг. Перед собственной совестью, людьми и идеями, без которых жизнь Огюста Птижана теряет смысл. Он держит меня в своих жестких, но разумных рамках, мешая сейчас разом избавиться от всего: опустошающих мозг допросов, предстоящей боли и медленной, изуверски затянутой смерти. Ах, как это красиво выглядит – броситься на Эрлиха и получить пулю! Эффектная сцена, требующая замерших от волнения зрителей и исполненных пафоса слов о грядущем возмездии убийце. Но если разобраться, то это был бы не героический финал, а паникерское бегство с передовой, та преподлейшая трусость, за которую расплатиться пришлось бы другим… 25 июля… До этого дня я обязан жить – и не просто выторговывать часы и сутки, но всеми средствами добиться того, чтобы дверь моей камеры приоткрылась хотя бы на толщину бумажного листка. Иначе подлинное грядущее возмездие отодвинется на миг или секунду и тысячи людей умрут, ибо каждый краткий миг войны оплачивается кровью… 25-е… А потом?.. «Тот, кто ставит много целей, не достигает ни одной». Так сказал один мудрый человек, учивший Огюста Птижана уму-разуму в не очень отдаленном прошлом. Святые слова! Но стоп, Огюст!.. Прошлое твое подобно туману, оно почти эфемерно, и думать о нем все равно, что ловить ветер сачком… Девушка, многодетный «кто-то», причины и следствия… Было это или не было? Как знать… Скорее всего, ты все это выдумал, Птижан, – и про билет в кино, и о разговоре, закончившемся словом «согласен»… Да, Гаук прав: ты сумасшедший. С самого детства. Все, что было когда-нибудь с тобой, – ирреальность, бред, перемешанный с обломками бытия, искаженными свихнувшимся сознанием. Твердо помнишь ты лишь то, что Кло Бриссак живет где-то в одиннадцатом районе и у нее родинка на левой щеке.
«Не так уж мало!» – думаю я и, не поворачивая головы, улыбаюсь входящему в комнату Эрлиху. У него характерные шаги, чуть шелестящие, я различу их среди тысяч других.
– Как вы себя чувствуете? – говорит Эрлих и садится, закинув ногу на ногу. – Хочу вас обрадовать. Симон Донвилль действительно жила на улице Гренье. Ее семья съехала оттуда в сороковом. Консьерж припоминает, что месяца три назад его кто-то спрашивал о Симон. Остается уточнить несколько мелочей, чтобы убедиться, что мы с вами имеем в виду одну и ту же особу. Где она работала или училась?
– Симон?.. Она ушла из лицея. Летний сезон проболталась на побережье, рисовала пейзажи, но дело не пошло, и она бросила живопись. А осенью, кажется в сентябре, подруга устроила ее манекенщицей в «Бон Марше».
– В универмаг?
Я вовсю стараюсь, чтобы ответ звучал гордо.
– Самый знаменитый в Париже, штурмбаннфюрер! Расположен на улице Севр и занимает целый квартал. Золя описал его в романе «Дамское счастье». Не читали? Да, универмаг, самый прославленный и самый старый, основан в 1852 году.
– Такая точность!
– Я польщен, штурмбаннфюрер.
– Пустое, Птижан. Просто я плачу дань вашим способностям. И вот еще что – обострите, пожалуйста, вашу память до предела. Сейчас придет Гаук, и мы проделаем маленький эксперимент, о котором договорились утром. Вы не станете возражать?
– Напротив, – говорю я любезно. – Здесь вы хозяин, действуйте не стесняясь.
– Разумно… Но не разумнее ли отбросить стыдливость и откровенно все рассказать? Если вы захотите, исповедь останется между нами… Понимаете, наш химик очень заинтересовался бумагой… той, что мы взяли в пансионе. Он утверждает, что на ней водяные знаки Ливерпуля; и фактура характерна именно для ливерпульской… Так что ж, «правь, Британия, морями»?
– Ни в коем случае! «К оружию, граждане, равняйтесь, батальоны!»[1]
– Упрямство не приводит к добру… Входите, господа!
Фогель входит первым и, обогнув кровать, останавливается в изголовье. Покачивается с носка на каблук и, не сдержавшись, потирает руки. Для контрразведки такие, как он, не годятся. Слишком легко дают выход эмоциям, низкая организованность мышления, мстительность и связанная с ней повышенная самооценка. Эрлих из иного теста. Эрлих и Гаук. Им можно наплевать в лицо, наступить на мозоль, задеть за самое живое – глазом не моргнут, стерпят… до известного часа, конечно.
Эрлих отстраняет Фогеля, ставит стул возле моей головы, садится и кладет руки на колени.
– Лежите смирнехонько, и все будет хорошо.
Гаук черными каучуковыми жгутами перехватывает мои запястья и, развернув левую руку ладонью вверх, привязывает концы жгутов к раме подматрасника. Белый халат его пахнет валерьянкой и чем-то сладким, трупным.
– Валяй, клистирный мастер, – вяло говорю я, следя за тем, как тонкая игла шприца вонзается в набухшую вену. – Будь здоров, Циклоп, поверь, я и не шелохнусь…
– Что он несет? – спрашивает Фогель. – Уже действует?
Светлая жидкость в баллоне «Рекорда» убывает, облизывая деления. Гаук разжимает пальцы, и наполовину опорожненный шприц повисает, оттопырив вену иглой. Доктор накладывает руку мне на запястье, щупает пульс и издает довольное ржание:
– Все нормально.
Ничего особенного. Голова ясная, только тело горит. Жар постепенно подбирается к плечам, шее, перебрасывается на затылок и концентрируется там – круглый, пышущий, как шаровая молния. Почти приятно… Мне становится весело, и я показываю Гауку язык.
– А ты не дурак, – говорю я, и голос мой звучит музыкально. – А Циклоп… ой, не могу… Ну и сволочи же вы, господа! Боже мой, какие же вы все сволочи!.. И все вы боитесь будущего… Ведь так?.. Союзники придут в Париж и прихлопнут вас всех до одного. Слышишь, Фогель?
Меня распирает от желания смеяться и говорить. Я пьян, и понимаю это, и все-таки ничего не могу поделать. Я должен, обязан, я просто не имею права болтать пустяки – мне страшно нужно сказать Циклопу все, что я о нем думаю.
– Ха! – говорю я и захлебываюсь смехом. – Вот те на… Циклоп, ты думаешь, я шпион? Так оно и есть… Шпион, ну и что здесь такого? Я с детства любил подглядывать и всегда шпионил в классе для учителя…
Не так плохо. Но наркотик еще только начал действовать. Сколько еще я смогу контролировать себя?.. Минуту? Или чуть больше?.. Только бы не проговориться!
Эрлих кладет мне руку на голову и треплет волосы.
– Что же вы замолчали? Говорите. Циклоп – это я? Очень, очень метко, хотя и обидно… Ну, я слушаю вас.
В ушах у меня начинает шуметь. Кто-то поднес к ним огромную раковину, выплескивающую из горловины звуки прибоя. Море… Я гулял по берегу и собирал цветные камешки. Надо ли говорить о камешках?
– Значит, Циклоп? – повторяет Эрлих медленно. – Очень забавно!
Мозг мой намертво схватывает слово. Одно слово Циклоп.
– Одиссей, – слышу я свой голос. – Я Одиссей… а ты Циклоп. И Гаук. И сукин сын Фогель…
– Одиссей?
– Ну конечно же… Это я…
– Это кличка? Прозвище? Имя по коду?
Эрлих говорит раздельно и настойчиво.
– Имя по коду?
– Одиссей и его Пенелопа… Клодин Бриссак, Кло, у нее родинка на щеке.
Я говорю быстро и не могу остановиться. Слова сами по себе повисают на кончике языка и срываются с него каплями; я ощущаю вес и вкус капель; их много, сотни, и я не в силах ими управлять… И в то же время я – а может, не весь я, а только какая-то часть? – слышу себя со стороны и со страхом жду, когда вместе с другими сорвется капелька, обтекаемая, кругленькая – Люк… «Забудь о нем, Огюст!»
– У меня бред, – успеваю сказать я, чувствуя, что мне не удержать эту проклятую каплю. – Я болен… Одиссей доплыл… Не бывает сумасшедших шпионов… Не бывает. Мне говорили… что я болен…
Слишком много сил ушло. Я построил длинную и более или менее связную фразу, но больше не могу. Все летит в тартарары, а мне безразлично. Отупев, я смотрю, как Гаук надавливает на поршень шприца. Туман ползет на меня, скрывая его руку, стену… все…
Я что-то говорю. Мозг еще работает; в нем мерцает какая-то лампа, не выключенная наркотиком. Но себя я больше не слышу. Кто-то пишет в тумане яркими буквами «Кло Бриссак»; стирает и выводит новую – «Радист Люк, улица…»
И опять на миг я прихожу в себя, чтобы вытолкнуть в воздух бессмысленное: Циклоп, Гаук, Одиссей. Шаровая молния в затылке взрывается и погребает адрес и полное имя радиста… Сказал или нет?
4. Почти тот свет – июль, 1944
Сказал или нет? Совсем немного времени требуется, чтобы убедиться: сказал…
Эрлих встречает меня у дверей кабинета и молча указывает на кресло. Мягкая кожа, простеганная ромбиком, принимает Огюста Птижана и оседает, спружинив. Штурмбаннфюрер садится напротив. Он наряден и чуточку торжествен.
Какое сегодня число? Девятнадцатое?.. Меньше чем через неделю контрольный день в моем банке. Если я не явлюсь двадцать пятого и вместе с кассиром не обревизую содержимое абонированного сейфа, трио в составе кассира, одного из директоров и бухгалтера вскроет его и сверит содержимое с описью. Таков порядок. Старинный порядок, заведенный на тот случай, ежели клиент заболел, умер или забыл нанести визит в контрольный день. «За последние двести лет, – сказали мне в банке, – у нас не было случаев пропаж. И все же мы установили контрольные дни – в интересах самих клиентов, естественно». Значит, в моих интересах… Черт бы драл всех этих господ, пекущихся о клиентуре. В данную минуту меня куда более утешило бы, если б в банке на протяжении двух последних столетий пропажи из абонированных сейфов стали массовым явлением. По крайней мере, тогда я мог бы надеяться, что из портфеля, лежащего за семью замками, исчезнет тонкая пачка бумажек, читать которые совсем не обязательно служащим банка… Вся надежда на Люка. У него есть доверенность, и он знает защитный шифр. Люк говорил, что кассир – вылитый Дон-Кихот! – похоже, связан с Сопротивлением. Если Люка не допустят в хранилище, возникнет обидный парадокс – Дон-Кихот из франтиеров своими руками передаст гестапо частные бумаги Огюста Птижана, любая из которых будет стоить Огюсту головы!..
Эрлих мизинцем поправляет бутоньерку и наклоняется ко мне.
– Ну как, выспались, Птижан?
– Голова, – говорю я. – Что за дрянь, которой меня пичкали вчера? Никак не могу протрезвиться.
– Кофе?
– Не откажусь.
Эрлих дотягивается до стола и придавливает фарфоровую кнопку звонка. Говорит Микки, сунувшей нос в кабинет:
– Два кофе, шарфюрер. И скажите Фогелю, чтобы позвонил мне через полчаса. Где Гаук?
– Откуда мне знать? – говорит Микки нелюбезно и трясет прической а-ля Марика Рокк. – Вечером он был в казино.
– Свободны, шарфюрер!
Микки с треском захлопывает дверь, а Эрлих, натянуто улыбаясь, поворачивается ко мне.
– Хорошая девочка, но никакого понятия о дисциплине. И притом мечтает об офицерских погонах. Ее отец старый член партии, начинал еще со Штрассером…
– Вы не боитесь?
– Упоминать Штрассера?.. Что ж, сейчас не модно воздавать тем, кто почил после «чистки Рема». Карл Эрнст, Штрассер, Хайнес… Кое-кого из них я знал, а с Ремом работал в штабе СА. Я ведь из СА, Птижан. И, поверьте, мне приходится нелегко в СД. Случается, что коллеги косятся… и вот оно, следствие – шарфюрер Больц. Я не раз предупреждал ее, что не люблю, когда сотрудники без моего ведома общаются с руководством. Но что поделаешь: бригаденфюрер Варбург питает к ней слабость… Вы понимаете, что я имею в виду?
– Постель или доносы?
– Всего понемножку. Бригаденфюрер еще не стар. Больц давно получила бы повышение, если бы не Штрассер. В штабе СС слишком хорошо помнят, что партию создали он и Дрекслер, а не фюрер… И не всем это нравится…
– Сложное положение, – говорю я сочувственно.
Эрлих оживляется.
– Вы так думаете? О, как вы правы!.. Бригаденфюрер считает людей СА вторым сортом и подчеркивает это на каждом шагу. А я терплю… Вы знаете, Одиссей, что значит для таких, как я, терпеть унижение? Молчать и говорить: «Так точно» и «Никак нет»? Варбургу, видите ли, не по душе мои методы. Старомодные и негермански гуманные! А Больц… Хотя что я – все это не слишком интересно. Не так ли? У нас с вами столько общих проблем, что пора перейти к ним. Вы согласны, Одиссей?
Я киваю и принимаю из рук вошедшей Микки чашку кофе. Вдыхаю крепкий аромат, но думаю не о кофе, а об Эрлихе. Из какого он теста? Я мало что знаю о штурмбаннфюрере: умен, в меру начитан, в меру культурен и вежлив. С претензией на оригинальность… Но кто и когда утверждал, что враг обязательно должен выглядеть кретином, этакой волосатой гориллой без проблеска мысли на челе?.. Меня подмывает спросить Эрлиха, где он потерял глаз. На Восточном фронте?..
– Вы воевали, штурмбаннфюрер?
– Да, во Франции. А потом я служил в зондергеррихте, Одиссей.
– Особый суд?
– Я юрист по образованию, доктор права.
– Берлин?
– Нет, Гейдельберг.
Юрист, доктор права, старый бурш и ни единого дуэльного шрама на лице. Об этом стоит подумать… Нет, он непохож на труса. Здесь что-то иное.
– Одиссей – это псевдоним? – быстро спрашивает Эрлих и достает из внутреннего кармана свежий платок. Проводит кончиком по губам.
– Собственного изготовления.
– Не понял? …
Коротко, чтобы не тратить драгоценного времени штурмбаннфюрера, я объясняю ему, что означают Одиссей и Циклоп.
– А Фогель?
– Так и живет безымянный. Знаете, не сложилось…
– Зовите его Хароном, – серьезно советует Эрлих и прячет платок. – Я не шучу. Фогель перевез на тот свет столько народу, что старина Харон лопается от зависти. У нас в СД, дорогой Одиссей, есть все – и река мертвых, и авгиевы конюшни, и свой столп – бригаденфюрер Варбург… Так вот, от вас зависит, с кем вы предпочитаете иметь дело, с Циклопом или Хароном.
– Так далеко зашло?
– Хуже некуда. Считайте сами. Фальшивый пропуск, пробелы в биографии, английские метки и радист Люк, живущий на улице…
– Это еще кто?
– Вы спрашиваете меня? – говорит Эрлих и поднимает брови. – Слабо даже для экспромта. Минута на размышление вас не устроит, Одиссей? А больше, честное слово, на таком вопросе не выиграешь.
– Но я не знаю никакого Люка!
– Так уж и не знаете? Полноте, Одиссей!
– Я уже сказал… Вы же не осел, Эрлих, и слух у вас преотличный. Или не надо рассчитывать на вашу догадливость, а следует просто послать вас подальше?
– Рискните…
– Ну и подонок! – медленно и словно рассуждая вслух, говорю я. – В первый раз встречаю такого покладистого мерзавца. Ему хоть горшок с дерьмом на голову надень, он и то вытерпит! Еще чего доброго сочтет, что это рыцарский шлем, жалованный за заслуги на турнирах.
Под конец я не выдерживаю, и почти кричу, и… трезвею от тишины. Эрлих, потирая серую щеку, долгой паузой, словно точкой, подводит итог моему взрыву. Мне и на этот раз не удалось вывести его из себя.
Губы Эрлиха складываются в высокомерную улыбку.
– Я не тороплю… Хотя… Слушайте, Одиссей! Давайте в открытую. Бригаденфюрер санкционировал третью степень – я возражал, но без успеха. Фогель позвонит мне, и, если вы не разговоритесь, ничьи молитвы не спасут вас… Согласен, о Люке вам тяжело начинать… Может быть, лучше займемся Клодиной Бриссак?
Кло Бриссак… Еще одна оплошность Птижана… Я никогда не знал ее и даже имени не слыхал до того утра, когда Люк сказал мне, что Бриссак приедет из Тулузы и будет ждать на вокзале. В принципе я не должен был с ней встречаться, но так уж все совпало – связной слег, а тот человек в Тулузе отказывался брать что-либо, кроме фунтов стерлингов. От него шла хорошая информация, и Люк свел меня с кулисье; мы, поторговавшись, заключили сделку; мне посчастливилось с такси, и прямо от Триумфальной арки я поспел на вокзал – за минуту до отхода тулузского скорого. Деньги ухнули как в прорву в бисерную сумочку Клодин, пожилой провинциалки с жидкими волосами, убранными у висков. В спешке я и не заметил, что один банкнот застрял в бумажнике… А на обратном пути меня взяли… Пока гардисты ногами выколачивали из Огюста Птижана признание о тайнике с валютой, старина Огюст успел-таки вспомнить, что имя Клодин Бриссак – записано им утром твердым карандашом типа «4Н» на клочке газеты и что клочок этот, по всей видимости, остался в удостоверении.
Жалостливая история о бедном влюбленном, застрявшем в Париже, сулила передышку как минимум в сутки. Все-таки служба безопасности не каждый день сталкивается с молодчиками, признающимися, что они нелегально прибыли в оккупированную Францию из свободного Марокко. Эрлих поначалу клюнул на нее, но, увы, ненадолго. Фальшивые пропуска не продавались на «черном рынке», а если и попадались, то все в них было стопроцентной «бронзой» – от бланка до подписей. Мой же был на настоящем бланке, и лишь печать оказалась скопированной. Эрлих, строго глядя на меня сквозь очки, прочел заключение эксперта: «Печать исполнена с помощью наборного клише». Спросил: «Где вы его раздобыли?» Мне ничего не оставалось, как довольно быстро сознаться, что месяц назад в кафе я познакомился с девицей, причастной к Сопротивлению. Она пообещала найти мою невесту, используя связи в бывшей Зоне, а взамен попросила время от времени переносить какие-то пакеты с кладбища Пер-Лашез на вокзальную явку, где в качестве почтового ящика использовалось углубление в цоколе столба освещения. Мы действительно когда-то пользовались этим столбом и кашпо на могиле, и Эрлих, проверив, нашел углубление там, где положено. Дальше все шло своим чередом. «Имена, клички, связи?» – спросил Эрлих, и я выложил ему Кло Бриссак, двадцатидвухлетнюю красавицу.
Я считал, что это имя все равно известно гестапо: не могли же они проворонить клочок в удостоверении?.. И как же был я разочарован, вспомнив вдруг, что его там нет и быть не может: скатанную в шарик бумажку я выбросил еще на вокзале!.. Я пил светлое пиво, выставленное Эрлихом в качестве залога взаимопонимания, и, проклиная себя за обмолвку (зачем гестапо знать подлинное имя?), фантазировал относительно кафе и опознавательных знаков для рандеву. Это был идиллический день, когда штурмбаннфюрер почти верил Огюсту Птижану и надеялся, что тот, дав ему связную, расскажет еще немало интересного.
Фарфоровый глаз Циклопа, словно пистолетное дуло, целит в мой лоб. Живой правый, с легкой косинкой, устремлен поверх моего плеча.
– Значит, Люка вы не знаете? – повторяет Эрлих и вздыхает. – Жаль… Не сумасшедший же вы в самом деле?
– Как знать, – говорю я.
– Да нет. Гаук не ошибается. Вы симулянт, Одиссей, и, кроме того, изрядная шельма! И все-таки вы все расскажете. Не мне – Фогелю. Мне вы больше не нужны… Жаль. Слово чести – жаль. Перед вами открывалась неплохая перспектива.
– Секрет?
– Да нет, пожалуй… Будь вы правдивы, мы завтра же расстались бы. Вы сняли б себе новую квартиру, объяснили людям отлучку – причину нетрудно придумать, – встретились с друзьями и зажили бы, как жили раньше. Время от времени мы виделись бы с вами и определяли дальнейший ход событий.
– Очень мило, – говорю я и выдавливаю улыбочку. – Где-то я читал, что это именуется перевербовкой.
– Дело не в термине.
– Конечно. Потому-то я и настаиваю, что приехал из Марокко за невестой. Вы же убедились: она жила на улице Гренье.
– Да, жила. Еще одна загадка: откуда вам известно имя той, что сбежала еще в сороковом? Вы были в Париже тогда?
Да, Эрлих не простак. Дай ему только вцепиться в шкуру, и он доберется до шеи. Мне и в голову не пришло, что эпизод с отъездом семьи Донвилль обыграется таким вот образом.
– Браво! – говорю я. – Отличный ход, Циклоп!
– Не пытайтесь меня злить.
– Но вам же не нравится… Не врите, Эрлих, и не играйте в непробиваемость. Циклоп – это вас бесит! Ох как бесит!
– Нисколько, – говорит Эрлих спокойно, и я понимаю, что он не притворяется. – Оружие слабого – издевка. Последняя соломинка…
Телефон на столе – один из четырех полевых квакушек АЕГ – зуммерит протяжно и требовательно.
– А вот и развязка, – говорит Эрлих и берет трубку. – Штурмбаннфюрер Эрлих! Я искал вас, Фогель. Прихватите Гаука и спускайтесь вниз. Сейчас Одиссей догонит вас…
С полминуты он вслушивается в писк, доносящийся из трубки, потом прикрывает чашечку микрофона и доверительно склоняется ко мне. Шепчет:
– Фогель спрашивает, кто такой Одиссей? Объяснить? Или лучше сделать ему сюрприз? – И в микрофон: – Сами увидите, штурмфюрер!
Еще минута уходит у Эрлиха на то, чтобы вызвать конвой, подписать бумажку о моей передаче с рук на руки, встать и самому распахнуть дверь.
– В случае чего, проситесь прямо ко мне, Одиссей. Я буду у себя до глубокой ночи. Советую не затягивать.
Ковровая дорожка в коридоре багрова, словно пропиталась кровью. Дорога на эшафот…
– Сюда, – говорит эсэсовец и подталкивает меня к боковой лесенке. – Не расшибись, здесь крутые ступени.
Дверь – большая, окованная железом. Шляпки гвоздей украшены наконечниками. Кольцо, за которое берется рука конвоира, свет, слова:
– Хайль Гитлер! Штурмфюрер, один арестованный в ваше распоряжение!
Очень много света от трех ламп под потолком. Темные балки с ввинченными в них крюками. В свое время в подвале, подвешенные за крюки, хранились окорока, колбасы и пармезан в сетках. В подвале еще и сейчас пахнет сыром.
Даже если я выдержу все, двадцать пятого кассир вскроет сейф в банке. Он связан с Сопротивлением, милый Дон Кихот, но инструкция и присутствие директора и бухгалтера заставят его передать портфель в Булонский лес. Два листка шифрованных записей. Одна надежда, что они окажутся не по зубам криптографам гестапо!..
Я даю Фогелю усадить себя на табурет и бессмысленно разглядываю лежащие на эмалированном подносе инструменты. Кусачки, изогнутые щипцы, какие-то спицы с хромированными наконечниками. Гаук, приветственно помотав головой, щупает пульс, сверяясь с часами.
– Я думал, вы психиатр, – говорю я.
– Чему не научишься! – говорит Гаук и отпускает мою руку. – Прекрасный пульс. Можете начинать, Фогель.
Мой палец и спица. Боли нет, только красная капля появляется на кончике фаланги и опадает, лопается, заливая ноготь. Я отдергиваю было руку, но она прихвачена браслетом к скобе на столике, а сам столик врыт в бетон пола… Разве то, что я чувствую, можно назвать болью?!
– Где живет Люк? – слышу я. – Где живет Люк?
Гаук вытягивает из воротника длинную шею. Кадык его безостановочно снует вверх, вниз и снова вверх. Глаза гаупт-штурмфюрера расширяются, ноздри трепещут. Он впивается лапой в плечо Фогеля и без усилий отбрасывает его в сторону. В свободной руке Гаука изогнутые щипцы. Я не мог оторвать от них взгляда и кричу, когда щипцы захватывают ноготь и сдергивают его вместе с мясом.
5. Просто один день – июль, 1944
Щипцы захватывают ноготь и сдергивают его вместе с мясом. Стук инструментов, падающих на поднос. Крик. Лицо Фогеля и его тяжелое дыхание… Сон повторяет явь, и я, открыв глаза, правой, целой еще рукой стираю пот со лба. Левую руку крючит от долгой несмолкающей боли. Словно кто-то дернул за басовую струну, заключенную в теле, и заставил ее вибрировать…
– Ты жив, Огюст? – спрашиваю я себя, и голос Эрлиха отвечает мне:
– Сомневаетесь, Птижан? Напрасно!
– Штурмбаннфюрер… Какая честь, – бормочу я, не имея сил приподняться. – Располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома.
Циклоп сидит боком у меня на ногах и, не глубоко затягиваясь, попыхивает сигареткой. Он в полной форме: черный мундир, серебряный витой погон на плече, довольно толстая колодка орденских планок и Железный крест второго класса у левого кармана.
– Закурите?
– Нет… Никотин вредит здоровью… А впрочем, черт с вами, давайте!
Эрлих лезет в карман и извлекает сразу две пачки – целую и начатую. Щелчком вытряхивает тоненькую «Реемтсма», раскуривает ее и сует мне в рот. Похоже, что и другой карман набит сигаретами – что-то остроугольное оттопыривает его.
– Открываете лавочку, Циклоп?
– Вы о чем?
– Боковые карманы… табачный запас…
– Все острите? Лежите спокойно и старайтесь поменьше говорить. Гаук осматривал вас ночью и сказал, что сердце ни к черту. Еще один сеанс – и крышка.
– Скорее бы, – говорю я без тени иронии.
– Все мы смертны. Гаук едва вытащил вас. Адреналин, кофеин, камфора.
– Не помню.
– Странно было бы, если б помнили! Вы лежали пластом и были бледны, как херувим.
Эрлих кончиком пальца стряхивает пепел на пол. Сдувает крошки с рукава мундира. Золотые очки подпрыгивают на его длинном породистом носу.
– Послушайте, Птижан, – говорит он очень тихо. – Вы не могли бы проявить любезность и не называть меня Циклопом? Не очень-то приятно, когда подчеркивают твой недостаток, а? Согласны?
Поистине что-то перевернулось в этом мире! Я с изумлением всматриваюсь в физиономию Эрлиха. Физиономия как физиономия. Спокойная; нос, искусственный глаз, тонкие бледноватые губы – все на месте, как и полагается. И все-таки происходит что-то странное. Сам воздух комнаты словно бы наполнен растворенной в нем тревогой.
– Вы что, свихнулись, Эрлих? – говорю я с прорвавшейся ненавистью. – Да мне на… на ваши переживания! Или это ход? Новый ход, придуманный вами? Гуманизм, старомодные методы – это было. Пытки тоже. Переходим на интеллектуальную платформу? Так?
– Нет, – говорит Эрлих и проводит рукой по лицу, словно умыв его. – Вы здорово ненавидите меня, Птижан?
– Разумеется!
Эрлих давит сигарету о спинку кровати. Искры падают на одеяло, и по комнате ползет пронзительная вонь.
– Что-нибудь неясно? – спрашиваю я и, забыв о левой руке, пытаюсь пожать плечами.
Попытка дорого обходится мне. Басовая струна, вибрирующая между ладонью и ключицей, натягивается и срывает меня с места. Боль выгибает тело дугой, и стон сам собой процеживается сквозь зубы… Левая рука оплетена бинтом, как заготовка скульптора. На белом – коричневое, ржавое, окаймленное расплывшимся розовым; вчера я потерял сознание окончательно, когда Гаук содрал третий ноготь.
– Воды?
Струна все еще вибрирует, и я мотаю головой: ко всем чертям!
– Выпейте же. Вот упрямец! – Эрлих подносит к моему рту фаянсовую кружку. Зубы стучат о край; вода льется на подбородок, шею, грудь, неся холодок и облегчение.
– Лежите спокойно, Птижан, и помолчите. Глупо пикироваться в вашем положении. Может быть, немного соснете?
– Чего вы хотите, Эрлих?
– Пока ничего.
– Хотел бы верить… Или нет? Или все-таки цель у вас есть? Почему бы вам, например, не сообщить, что вы – в душе, конечно! – симпатизируете мне? Или не попробовать доказать, что штурмбаннфюрер Эрлих – хорошо законспирированный сотрудник Интеллидженс сервис? Я ведь поверю. Тем более если вы шепнете мне какой-нибудь пароль, полученный под третьей степенью от прежних жильцов этой вот комнаты!
– Значит, не поверили бы? – задумчиво говорит Эрлих. – А что, если я скажу, что у доктора прав Эрлиха есть свои расхождения с господином фюрером и рейхсканцлером?
– Боже, как это свежо! Особенно сейчас, когда высадка стала фактом, а союзники вот-вот войдут в Париж.
– В Париж? До этого еще далеко, Птижан. Гораздо дальше, чем вы думаете. Да и не здесь решается судьба войны. Попомните мои слова. Фюрер сказал…
– Фюрер? У вас же с ним принципиальные расхождения, Эрлих! Вы на редкость непоследовательны.
Резкая морщина в виде буквы «фау» выпячивается на лбу штурмбаннфюрера.
– Подождите, – говорит он резко и поднимает руку. – Все не так примитивно, Птижан. Наберитесь терпения и послушайте… Вы – шпион. Английский или американский, а вполне возможно, французский или НКГБ. Доказательств «за» у меня целый ворох: фальшивые документы, признание о радисте, нелегальный переход границы, английские деньги… что еще? Не то что зондергеррихт, но любой имперский суд не поколеблется, вынося приговор… Другой вопрос – как вы держитесь? Если не считать двух-трех ошибок, вполне пристойно. Больше того, ваше вчерашнее молчание дало мне право уважать вас. Фогель и Гаук не часто срабатывают вхолостую… А теперь обо мне. Вы ждете, Птижан, что я скажу: война проиграна, и начну рвать рубаху. Не так. До конца далеко, и фортуна изменчива… Но вот какая история. Мой отец – вам не скучно, Птижан? – был очень здоровым и сильным человеком. Не помню, чтобы он болел. И еще он был очень экономным, мой дорогой отец. Он работал на картонажной фабрике Брюнинга обер-мастером и получал шестьдесят марок в неделю, и однажды рассудил, что глупо, не болея, вносить двадцать марок каждый месяц в страховую кассу. «Я положу их на твою сберкнижку, Карл», – сказал он мне и так и сделал. Мы все радовались: отец, мать, сестра и я. Больше всех я, само собой. Но вот – слушайте внимательно! – пришел день, и стряслась беда. Понимаете, все предначертано и все подчинено закону подлости. В цехах у Брюнинга гуляли сквозняки – держать двери открытыми дешевле, чем поставить принудительную вентиляцию, а господин Брюнинг, заметьте, был не меньшим экономом, чем мой драгоценный фатер. Словом, сквозняк, отец не сберегся… и три месяца пневмонии с несколькими кризисами. Врачи, койка в больнице, препараты, сиделка… Тут-то и выяснилось, что отец поторопился выйти из страхкассы. Нам пришлось самим, без чьей-либо помощи, заплатить все до последнего пфеннига! Где сбережения, где моя сберкнижка? Мало того, мать изрядно пораспродалась, а сестра…
– Пошла на панель? – безжалостно заканчиваю я.
Эрлих на миг теряется.
– Вы!..
– Да нет, это я к слову. Обычно у сентиментальных историй с моралистическими сюжетами бывают вот такие концы. Если я ошибся, примите мои поздравления: рад буду узнать, что ваша сестра уберегла невинность.
– Это пошлость!
– Конечно, – соглашаюсь я, в который раз удивляясь выдержке Эрлиха. – Но и ваш рассказ не менее пошл. Вот его мораль: застрахуйся, даже если уверен, что все будет отлично… Короче, хотя вы и считаете, что война не проиграна, все-таки вам не терпится получить свой полис на случай того-сего. Но я не агент по страхованию!
– Это все, что вы поняли? – устало говорит Эрлих. Он делает паузу и добавляет: – Как вам пришло в голову, что я собираюсь просить? И кого? Вас?
– Меня, – говорю я просто. – Только труд напрасен: я не из Лондона и конечно же не из Москвы… И вот что – убирайтесь вон!
– Хорошо, – говорит Эрлих и встает. – Я попробую…
– Что попробуете?
– Уйти. Возьмите сигареты, могут пригодиться…
Нервным коротким движением Эрлих бросает на одеяло коричневую мятую пачку «Реемтсма» и, расправив плечи, идет к двери. Стучит. Дверь не сразу открывается, и в освещенном проеме вырисовывается неправдоподобно огромная фигура солдата вермахта в полевой форме и с автоматом на груди.
– Что надо?
Вот это фокус! Я пялюсь во все глаза, не в силах постигнуть смысла происходящего.
– Я хотел бы выйти, – говорит Эрлих, и руки его бессильно свисают вдоль мундира. – Позовите фельдфебеля.
– Запрещено, – отрезает солдат и отталкивает штурмбаннфюрера в глубину комнаты. – Назад! И не стучать больше!
– Хорошо, – говорит Эрлих и поворачивается на носках. Плечи его опущены.
– Что это? – спрашиваю я, когда дверь закрывается.
Эрлих возвращается к кровати и, присев, тянется к пачке. Вытряхивает сигарету и, не закурив, крошит ее в пальцах.
– Что происходит?
– Не знаю, – тускло говорит Эрлих и ссыпает табак на пол. – Я, как и вы, под арестом.
Для провокации слишком сложно: рассказ с намеком – это еще укладывается в стандарт; но сцена с переодеванием, мнимый арест – слишком смахивало бы на фарс. Что-то тут не то. Но что именно?
Мысленно я снимаю шляпу перед собой и раскланиваюсь, воздавая по заслугам чутью, еще час назад уловившему в атмосфере комнаты еле ощутимый привкус тревоги. Браво, Огюст!
– В чем вы провинились?
– Ни в чем, – говорит Эрлих, выкрашивая новую сигарету. – Я и сам ничего не понимаю. Вермахт появился в два сорок пополудни, и нам едва дали собраться. Приказ Штюльпнагеля.
Он вплотную наклоняется ко мне, обдав запахом свежего белья.
– Птижан… Я скажу вам то, чего нельзя говорить. Не знаю, правда ли это, но у империи новый рейхсканцлер.
– Что?
– Тише… Ради бога, тише… Вот прочтите. Майор из штаба Штюльпнагеля вручил нам всем приказ. Под расписку.
Бледные фиолетовые буквы пляшут у меня перед глазами. «Приказ… 1. Безответственная группа партийных руководителей, людей, которые…» Мимо! Дальше! Что там? Вот: «…группа… пыталась использовать настоящую ситуацию, чтобы нанести удар в спину нашей армии и захватить власть в своих интересах». Переворот? Но кем он совершен? Дальше, Огюст! «2. …правительство… объявило чрезвычайное положение и доверило мне все полномочия главнокомандующего…» Кем подписано? Не спеши, Огюст, по порядку. «3. …вся власть в Германии сосредоточивается в военных руках. Всякое сопротивление военной власти должно быть безжалостно подавлено. В этот смертельный час…» Подписано: «Германской армии генерал-фельдмаршал Витцлебен…»
– Переворот? – говорю я. – Ай-яй-яй! Что ж вы не застрелились, Эрлих? Смерть от пули, утверждают, приятнее, чем в петле! Или вы сомневаетесь, что Гиммлера повесят? Сдается мне, армия не очень любит рейхсфюрера СС и конечно же не замедлит вздернуть его, а рядом с ним – и верных его сподвижников.
«Фау» на лбу Эрлиха становится багровым.
– Не ликуйте, Птижан, – говорит он любезно. – Все вернется на круги своя. И раньше, чем вы думаете. Мы, люди СД, будем нужны любой власти.
– А я-то думал, что вас арестовали!
– Так оно и есть… и в то же время мой арест ничего не значит. Заметьте, мне удалось устроить так, чтобы попасть именно к вам, а не в соседнюю комнату или подвал. Не все потеряно. Понимаете…
Конец фразы я пропускаю мимо ушей. Вопросы куда более серьезные, нежели риторика штурмбаннфюрера, теснятся в голове. В Германии переворот. Военные у власти. Что это означает? Капитуляцию? Ни в коем случае. Скорее всего сепаратный мир на Западе, все силы – на Восток. Только так… А где обожаемый фюрер? Прихлопнули?
– Который час? – спрашиваю я механически, не в силах увязать все, столь внезапно свалившееся на Огюста Птижана и, признаться, ввергнувшее его в некоторую растерянность.
– Двадцать три с минутами.
– Сутки…
– Вы о чем?
– Сутки назад я был в подвале. А теперь штурмбаннфюрер Эрлих сидит здесь и сам ждет, не спровадят ли его в помещение с крюками под потолком. Там превосходные крюки, выдержат и быка.
Этой издевкой я прикрываю разочарование, охватившее меня при мысли, что некая идея – чертовски скользкая! – о которой я думал вчера и позавчера и трое суток назад и в которой заметное место отводилось Эрлиху, вдруг разом обесценилась. От того, что военные дорвались до власти, Огюсту Птижану не станет легче. СД, абвер ли – какая разница? Вся штука в том, что у меня нет сил начать с новым следователем долгий путь, пройденный с Эрлихом…
Эрлих снимает с руки часы и трясет их над ухом.
– Стоят, – говорит он с оттенком изумления. – Черт побери, до чего я распустился: забыл завести! Сейчас не двадцать три, Птижан, а больше. Может быть, глубокая ночь. Вы любите ночи, Огюст?
– Утро мне милее.
– Не скажите, ночью тоже хорошо. Темно. Часы привидений и самых смелых фантазий. Мрак помогает вообразить себя всесильным и бессмертным. Недаром все великое и тайное рождается под покровом темноты.
– Прошлой ночью в подвале я этого не заметил.
– Пеняйте на себя, Одиссей! Кто заставляет вас молчать?.. Мой бог! А знаете, Огюст, ваше упорство действительно импонирует мне. Если все станет на места, у нас найдется случай вернуться к этой теме и к притче. Идет?
– Поживем – увидим, – говорю я, прислушиваясь к вибрирующей струне. Она натягивается и натягивается, и физиономия Эрлиха качается, увеличивается в размерах.
«Не смей, Огюст!» – приказываю я себе и прикусываю губу. Сильнее. Еще сильнее. Только бы не обморок! Только не забытье, в бреду которого Огюст Птижан способен сказать много лишнего. Один к тысяче или один к миллиону, что солдат и бумажка с фиолетовыми буквами – фальшивка, атрибуты фарса, изобретенного Эрлихом, чтобы добиться контакта со мной. Но даже если один на миллиард, Огюст Птижан обязан вычислить величину этого шанса и принять его в расчет.
– Не молчите, Эрлих! – прошу я и подтягиваюсь повыше. – Поправьте, пожалуйста, подушку. Вот так… Нет ли у вас в запасе новых, историй? Расскажите мне о Микки; кто она такая, эта шарфюрер Больц?
Шум, невнятный, нарастающий, с вкрапленными в него голосами и клацаньем металла, возникает за дверью, что-то глухо валится; оханье, возня; железный хруст замка и Фогель на пороге.
– Штурмбаннфюрер!
Эрлих разгибается и роняет сигарету.
В полуотворенную дверь мне видно, как трое в черном волокут упирающегося солдата. Огромные сапоги, посверкивая сбитыми подковками, цепляются носами за выбоины в полу, скребут его; солдат глухо мычит и однообразно охает под ударами.
– Фогель!
Звучный стук сомкнувшихся каблуков. Пронзительное:
– Нашему фюреру… Адольфу Гитлеру – зиг хайль!
– Зиг хайль! – слабым эхом откликается Эрлих и вскидывает руку к плечу. – Зиг хайль! Зиг хайль!
Рот Фогеля перекошен. Штурмфюрер на грани прострации, и слова выбрасываются из него сами собой – отрывистые и наэлектризованные.
– Он жив! Он жив, штурмбаннфюрер!.. Заговор… Рейхсминистр Геббельс выступил по радио… Я первым вырвался – и за вами! Сразу же!.. Штюльпнагель – предатель!
Эрлих разводит плечи в геометрическую прямую; машинально отработанным жестом поправляет портупею.
– Спокойно, штурмфюрер. И ни слова больше! Поднимемся наверх, и вы расскажете все по порядку.
Подбородок Фогеля заостряется: он тянется изо всех сил, не замечая, впрочем, что непослушные ноги перекатывают тело с каблука на носок, пляшут джигу.
– Сигареты, – говорит Фогель. – Вы забыли сигареты. На одеяле…
– Пусть остаются. Ловите спички, Птижан!
Коробок сухо брякается на пол, опережая новую порцию фраз.
– Все-таки, Фогель, мы с ним коротали не один час. Это тот уникальный случай, когда солдат фюрера имеет право проявить снисходительность к врагу. Идемте, Фогель!
Ну и денек!.. Я, конечно, не в восторге от подвала с крюками, но там хоть все ясно. Ни малейшей неопределенности. А сегодняшние неожиданности, не поддающиеся быстрому истолкованию и анализу, кого угодно сведут с ума. Особенно если учесть, что арест Эрлиха обращал в прах идею Огюста Птижана… Хрупкую идею, надо сознаться; но что поделать, если другой нет и как ни прикидывай, похоже, не предвидится.
6. «Туман над Кардиффом» – июль, 1944
Да, другой идеи нет и, похоже, не предвидится. Я ломал голову над ней несколько суток и ломаю сейчас, когда мосты сожжены. Так уж я устроен: даже решив что-нибудь, не могу сразу преодолеть колебаний…
– Вы раскаиваетесь, Одиссей?
В голосе Эрлиха звучит предостережение «Не советую вилять!» – расшифровываю я и, озлившись, отвечаю резче, чем следует.
– Лишь бы вы не ушли в кусты!
– Что с вами? Нервничаете?
– Имея вас союзником, легко потерять покой.
– Не преувеличивайте. Не так я страшен, как кажется.
– Еще бы! О крюках в подвале и иголках я всегда вспоминаю с умилением.
– Полноте, Одиссей! Надо же было убедиться, что вы умеете молчать… Может быть, позвоните отсюда?
– Слишком много людей. Поехали… Кстати, о молчании. А если Фогель возьмется за вас, вы-то выдержите?
– Сомневаетесь?
– Сомневаюсь, – серьезно говорю я и глубоко затягиваюсь сигаретой. – Почему вы курите такую дрянь, Эрлих? Сущая трава! Вот что, когда доедем до бульваров, купите мне пачку «Житан». Два франка, не разоритесь.
– Ничего, – говорит Эрлих насмешливо. – Я вычту их из сумм, отобранных у вас при аресте. Вы не против?
– Помнится, несколько дней назад в кафе вы упрекали меня в мелочности. Оказывается, я вправе дать вам сто очков вперед… Который час?
– Без трех девять.
– Доедем до угла и остановимся. Там бар, а в баре телефон.
– Я пойду с вами. И давайте договоримся: без сальто-мортале. Я неплохо стреляю и…
– Можете не продолжать, – говорю я и выплевываю окурок в окно. Красный светлячок отлетает в сторону, выбросив на лету маленький снопик искр, и исчезает – Эрлих ведет «мерседес», не сбавляя скорости.
Мелкая отвратительная дрожь, родившись внизу живота, подбирается к плечам; правой рукой я баюкаю левую – безобразный белый кокон, подвешенный на бинте. Боль и озноб сопровождают меня третьи сутки подряд, отпуская ненадолго и возвращаясь вновь, цепкие, как клещ. Сдается мне, что Огюст Птижан начинает температурить… Этого еще не хватало!
Голубые неоновые буквы БАР глубоко упрятаны под широкий козырек: дань войне и ее черному ангелу – авиации, распластывающей над ночным Парижем свои алюминиевые крылья. Бомбардировок не было, но боши, очевидно, считают, что береженого бог бережет.
– Я пойду с вами, – повторяет Эрлих.
Нос, щеки, очки штурмбаннфюрера, окрашенные неоном, слабо светятся во мраке салона машины. Рукой в перчатке Эрлих небрежно поворачивает баранку, и «мерседес», осев на задние колеса, с ходу замирает, прижавшись к тротуару.
– Хорошо, – соглашаюсь я беззаботно, словно речь идет о пустяке. – Дистанция – двадцать шагов.
– У меня с детства скверный слух.
– Вот как? И все-таки чего не случается! Верите ли, но я знавал мальчишку, который с задней парты слышал, о чем шепчутся на первой.
– Редкая способность!
– А вдруг и вы небесталанны? Вдруг номер телефона и мои слова войдут в ваши уши и застрянут там?
– Хорошо, – говорит Эрлих с раздражением. – Мы же договорились… В баре есть второй выход?
– Конечно.
– Извините, Птижан, но я люблю гарантии. Подождем четверть часа.
Полевой «симменс», ребристый и остроугольный, вклинен на сиденье между мной и Эрлихом. Прижав к уху трубку, штурмбаннфюрер свободной рукой поворачивает выключатель радиотелефона; несколько раз прижимает кнопку зуммера.
– Здесь – Эрлих!.. Шесть человек в машине к бару «Одеон» на улицу Савойяров… Да, шесть человек. Я жду у входа: «мерседес» – номерной знак ЦН семь – ноль один… Повторите!..
– Это не по правилам, – укоризненно говорю я, когда Эрлих кладет трубку в зажимы. – Хорош подарочек!
– Побег заключенного тоже не презент.
– С чего вы взяли?
– Наш роман только начинается. Согласитесь, Огюст, обидно было бы расстаться на самом интригующем этапе.
Я делаю оскорбленную мину и демонстративно отодвигаюсь, забыв, что в темном салоне Эрлих не увидит моего лица. В общем, все идет более или менее нормально. Наберемся терпения на пятнадцать долгих минут. Ждать – это я умею.
– Вы бывали в «Одеоне»? – спрашивает Эрлих и протягивает мне портсигар. Я нащупываю сигарету и, не закуривая, сую ее в карманчик пиджака.
– Нечасто.
– Здесь весело? Хорошие вина?
– Как и везде. С вашим приходом в Париже заметно поскучнело.
– Война, Птижан. В Берлине тоже танцуют нечасто.
– Охотно верю!
– Опять? – говорит Эрлих и сердито дует на спичку, крохотное пламя пригибается, лижет его палец. – О черт!.. Слушайте, Птижан, это крайне неразумно – на каждом шагу демонстрировать ненависть к нам. Особенно сейчас.
– Разве? А мне казалось, что молекулы обожания так и струятся из меня. Странно, что вы этого не почувствовали.
Маленькая пикировка всегда скрашивает ожидание. Темный «хорьх» появляется гораздо раньше, чем я предполагал, и сердце Огюста Птижана, не подготовленное еще к встрече, словно бы замирает, чтобы секунду спустя забиться в ритме тамтама.
– Штурмбаннфюрер!..
Слава богу, это не Фогель. Его мне меньше всего хотелось бы увидеть в нашей компании. Кажется, это один из тех, что ездили с нами в кафе.
– Трое станут у входа, – негромко говорит Эрлих, – а трое у задней двери. Поищите во дворе и постарайтесь не перепугать прислугу бара. Никакого шума. Не хватает только, чтобы посетители приняли нас за облаву и начали прыгать из окна. Вы поняли?
– Да, штурмбаннфюрер.
– Ну дерзайте, Птижан!
– Который час?
– Девять десять.
Отличное время. Люк должен быть в кафе «Лампион». Если, конечно, после моего ареста он не исчез, оборвав все связи. Так тоже может быть, и тогда Огюсту Птижану придется худо.
Разом ослепнув и оглохнув, я выбираюсь из машины и на слабых ногах бреду к зеркальной двери «Одеона». Эрлих поддерживает меня под локоть.
Темные тени и пятна – должно быть, те трое, матовая плоскость, слабо освещенная изнутри, писк двери, скользящей на роликах, и вот мы входим в царство зеркал, плюша и прочей забытой мною роскоши. Запах скисшего вина, обычный запах скверного бара, бьет мне в нос.
Бар «Одеон» – не путать с рестораном, носящим то же имя! – третьеразрядное заведение, и швейцара здесь не полагается. Посетители, скупо тратящие франки на выпивку, обязаны сами открывать и закрывать двери. Единственно, кто встречает их, – гардеробщица, всегда немного пьяная и фамильярная. Ее зовут Жужу – вполне подходящее для такого заведения имя. Мы почти знакомы: раза три я сидел в «Одеоне», коротая одинокие вечера. При желании я мог бы уйти с Жужу, как любой из посетителей, но не делал этого и, одеваясь, совал Жужу десять франков просто так. Поэтому она сразу же узнает меня и, игнорируя присутствие Эрлиха, восклицает с восторгом:
– Алло, Пьер!
– Огюст, – поправляю я.
– Ах да, конечно же… Огюст… Давненько ты не заходил. Дела?
– Пишу поэму, – сообщаю я и треплю Жужу за подбородок. – «Житан» найдется?
– Для тебя всегда!
Эрлих корректно берет меня за локоть.
– Кто эта милашка?
Жужу словно и не слышит. Она привыкла, что обнаженные плечики и маленькая, обтянутая блузкой грудь вызывают повышенный интерес, и научилась отличать настоящих клиентов от ненастоящих. Эрлих – ненастоящий. Сунув мне сигарету, Жужу наконец снисходит и до штурмбаннфюрера. Булавка в галстуке и запонки – три приличные жемчужины – производят переворот в ее отношении к нахалу, осмелившемуся сказать «милашка». Правильное произношение Эрлиха с легким акцентом и длинный нос наталкивают маленькую прозорливицу на почти правильный вывод.
– Твой друг из Эльзаса? – спрашивает Жужу. – Скажи ему, чтобы не приставал. Скажет тоже: «мила-а-ашка».
– Ладно, – говорю я. – Все в порядке, Жужу. Телефон работает?
– А что ему сделается.
– Я позвоню, а вы поболтайте.
Я уверен, что Эрлих теперь прилипнет к Жужу и постарается вытянуть у нее все, вплоть до адреса. Разумеется, любые подробности он мог бы узнать и завтра, через людей из Булонского леса, но ставлю сто франков против окурка, что штурмбаннфюреру не терпится поразнюхать, в каких отношениях состоят Огюст Птижан и гардеробщица из «Одеона».
Покачиваясь от слабости, я добираюсь до столика в дальнем углу и плюхаюсь на золоченый диванчик. Телефон стар, как Ной. Обколупленный черный ящичек, украшенный фигурной вилкой и покоящийся на четырех птичьих лапках. В допотопной, давно не чищенной трубке долго шуршит и потрескивает, и голос телефонистки едва пробивается сквозь помехи.
– Монпарнас! Говорите номер!
– Алло, мадемуазель, – сиплю я, прикрыв микрофон ладонью и искоса присматривая за Эрлихом, интимно беседующим с Жужу. – Норд – две тройки – семь – пять.
Только бы не переспрашивала!.. Нет, обошлось.
– Соединяю.
Париж – столица мира, но так и не удосужился перейти на автоматическую связь. В другое время мне это не мешало, но сейчас я проклинаю телефонную компанию и советников мэрий, не исхлопотавших в свое время кредитов на реконструкцию.
– Кафе «Лампион».
Ну, господи благослови!
Отгородившись ладонью от всего мира и от Эрлиха в особенности, я торопливо говорю:
– Кафе? Алло! Соблаговолите позвать мсье Маршана. Да. Мсье Анри Маршан, художник. Он должен быть в синем зале…
Из трех залов «Лампиона» – синего, зеленого и красного – Люк почему-то предпочитает первый… Пока швейцар пускается на поиски Анри, буркнув в трубку: «Подождите!», я продолжаю наблюдать за Эрлихом и гадаю, услышал ли он хоть слово. Нет, пожалуй. Жужу смеется так, что у Эрлиха должно заложить уши.
Голос Люка возникает в трубке, стряхивая скалу с души Птижана. Вполне свободно могло быть так, что Люк раз и навсегда переменил адреса. Волна благодарности к другу, верящему в меня до конца, захлестывает мое слабое сердце и лишает дара речи.
– Эй, – слышу я. – И долго будем молчать?..
Долгий шуршащий звук – очевидно, Люк дует в трубку.
– Да говорите же!
– Анри?
– Кто это?
– Анри, это я. У меня всего пара минут…
– Огюст?!
Только бы не бросил трубку!.. Будь Огюст Птижан на месте Анри Маршана, он так бы и сделал и к тому же немедля навострил бы лыжи из кафе. Судите сами: звонит человек, пропавший среди бела дня и, судя по всему, арестованный гестапо, и сообщает, что у него «пара минут»…
– Ну я слушаю, старина!
Словно гора с плеч!..
– Не повторяй ни слова из того, что услышишь, – говорю я, мысленно умоляя Жужу смеяться погромче. – Когда кончим разговор, немедленно уйди из кафе. Переберись на аварийную квартиру. Думаю, что гестапо сейчас переворачивает вверх дном Центральную, отыскивая нас с тобой на линии. Понял?
– Да. Это все?
– Нет. Слушай, Анри. Свяжись с Центром и добейся, чтобы третьего августа Би-би-си в первой утренней передаче на Францию вставило фразу: «Лондонский туман сгустился над Кардиффом». Запомнил?
– Да. Слушай, а ты-то где?
– «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», – повторяю я настойчиво. – Если фразы не будет, считай, что я окончательно засветился. Двадцать пятого возьми портфель. Понял, Анри?
Краем глаза я вижу, как Эрлих обходит Жужу и делает шаг к столику. Между нами метров десять расстояния, и я еще могу успеть сказать несколько фраз.
– Немедленно уходи!
– Откуда ты говоришь?
– Я арестован, – отвечаю я и слышу короткое «о!» Люка. – Если до пятнадцатого не дам знать о себе, работай один. «Почтовый ящик» – резервный.
Я кладу трубку на вилку и пальцем сдергиваю вниз тугой узел галстука… Кажется, удалось… Уложился ли я в две минуты?.. Эрлих, вероятно, поручил своим людям взять разговоры под контроль. Весь фокус в том, успеют ли слухачи за сто двадцать секунд не только установить, с кем соединен «Одеон», но и натравить гестаповцев на кафе. Вряд ли. За две минуты при самой отличной мобильности, при самых быстрых авто и самых тренированных агентах не осуществить операцию по блокированию «Лампиона» и захвату лица, чьи приметы неизвестны. Люк должен успеть уйти!..
– Все как надо? – говорит Эрлих.
Я киваю и нашариваю спички. Где-то у меня должна быть крепкая «Житан», полученная от Жужу.
– Ваши, конечно, слушали разговор? – говорю я, прикуривая.
– Не будьте ребенком, Огюст. Нет конечно. Он одинаково опасен для нас обоих. Неужели вы не догадываетесь?
– Ладно, – говорю я и с силой затягиваюсь. – Поехали?
– Пора. Забавная штучка эта Жужу.
– Дайте ей десять франков. От меня.
– Вот, возьмите.
Эрлих протягивает мне две бумажки, которые я, выходя, сую в передник разочарованной Жужу.
– Уже? – спрашивает она.
– Я же сказал: пишу поэму. Ни грамма свободного времени, Жужу!
В «мерседесе» Эрлих сует мне синюю пачку «Житан».
– Цените. Купил для вас у этой шлюхи.
– Она не шлюха.
– Толкуйте, Огюст!.. Впрочем, бог с ней. Значит, третьего августа?
– «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», – медленно говорю я и поворачиваюсь к Эрлиху. – Довольны?
Штурмбаннфюрер возится с зажиганием.
– Нормальная сделка, – говорит он минуту спустя, когда мотор наконец заводится.
«Нормальная сделка». Как для кого. Вжавшись в подушку сиденья, я размышляю об этом… «Да нет, – успокаиваю я себя. – Все было логично, Огюст. Четверо суток ты держался – наркотик, подвал, задушевная исповедь в день покушения на Гитлера, все-то ты прошел и не заговорил. У Эрлиха, пожалуй, нет оснований не верить тебе. Хотя бы на пятьдесят процентов. Когда ты попросился наверх и, представ пред ним, предложил разговор с глазу на глаз, он не был удивлен. Он ждал такого разговора, верил, что он будет. По его логике почва была удобрена, и Огюст Птижан обязан был воспользоваться соломинкой для спасения жизни».
– С глазу на глаз? – сказал тогда Эрлих. – Не поздно ли?
– В самый раз, – заверил я его.
Потом, когда я в общих чертах изложил свои соображения, он позволил себе выразить недоумение:
– Вас так заботит престиж?
– Еще бы – сказал я горячо. – Мы выиграем войну, что бы ни случилось. И мне не улыбается попасть под полевой суд и быть повешенным в Уондевортской тюрьме.
– Почему именно в ней?
– Традиции, сэр! – сказал я по-английски. – Британия очень консервативна в своих привычках.
– Ладно, – сказал Эрлих угрюмо. – Это дело нужно обдумать. Такие вещи я не решаю сам.
Он позвонил и справился, у себя ли Варбург.
– Спросите бригаденфюрера, примет ли он меня.
Ни следа легкомыслия, остреньких разговорчиков – все прочно, обстоятельно, солидно.
– Через два часа мы вернемся к нашим баранам, – сказал Эрлих и отправил меня в подвал, откуда извлек с нордическим педантизмом именно через два часа, ни минутой позже.
– Сейчас вас побреют и оденут, Птижан, – сказал Эрлих, нервно поправляя очки. – Я не хотел бы вести беседу здесь. Мне разрешено совершить с вами прогулку. Куда бы вы хотели поехать? В Венсен?
– Все равно.
Эрлих сам правил «мерседесом»; нас не сопровождали. Я не рассчитывал на подобную снисходительность и спросил Эрлиха: к чему бы это?
– С такой рукой не убежишь, – сказал Эрлих и любезно улыбнулся. – И вам не справиться со мной. Если же вы начнете выкидывать кунштюки, я пристрелю вас, как это ни прискорбно.
– А Варбург?
– Что Варбург? Молчащие агенты противника не представляют для него цены.
На окраине Венсена, к югу от дворца, Эрлих въехал в лес и остановил машину. Достал портсигар и, пересчитав сигареты, протянул мне одну.
– Коньяк был бы уместней, – оказал я.
– Будет и коньяк, – заверил Эрлих серьезно. – Ну выкладывайте.
Я повторил ему предложение – слово в слово.
– Слишком сложно! – ответил Эрлих, подумав. – Варбург с меня шкуру спустит, если разберется в подоплеке.
– Дело ваше. Но другого предложения не будет.
– А что выиграю я?
– Слушайте, Эрлих! Вы же сами хотели начистоту? Извольте… Вы умны и понимаете, что конец рейха – вопрос времени. Или я наивный чудак, плохо угадывающий смысл притчи, или вам нужен полис. Так?.. Вы смелы, но осторожны, Эрлих. Хотите скажу, как я это угадал?
– Ну?
– Шрамы. Бурш без шрамов на лице – это нонсенс. Бурш-юрист – нонсенс вдвойне. В университетах Германии юристы известны как самые отчаянные забияки после медиков.
– Допустим…
– Полис для вас в моих руках, так же как мой – в ваших. Я предлагаю союз. Прочный и взаимовыгодный.
– Проще будет, если вы назовете ваших людей, и мы, повременив, возьмем их, так сказать, перманентно. Вам я устрою побег – мнимый, разумеется, – вы доживете до конца в ореоле славы. Аресты же отнесут на счет того, кто станет первым в вашем списке. Я сам составлю документы.
Дверца была распахнута; я сорвал былинку и растер ее в пальцах, печальный запах травы прилип к коже… Запах родной земли Одиссея.
– Ну нет! – сказал я. – К тому дню, когда вы возьмете третьего или пятого, Лондон получит сто шифровок с предостережением: Птижан предает. Соглашайтесь, Эрлих… Или нет? Впрочем, мне плевать. Подвалом с крюками вы меня не напугаете.
– Пожалуй…
– За чем же остановка? Мне надоело повторяться, но для вас я готов и сто раз подряд растолковывать идею. Слушайте! Вы выпускаете меня, и я работаю под вашим контролем. Для виду я сообщаю Лондону, что сумел завербовать крупного гестаповца, пекущегося о своем будущем после войны. Мотив вербовки таков, что ему поверят. После высадки многие немцы покрупнее вас чином дорого дали бы за гарантии с нашей стороны. Получив согласие, я использую вас как источник. Вы даете хорошую дезинформацию и иногда подлинные данные, чтобы мой босс не переполошился. Затем я осторожно ввожу вас в игру, замыкаю связи и даю возможность гестапо убрать всех, кем оно интересуется. Провалы мы спишем на промахи в конспирации и организационные издержки. Варбургу не обязательно знать, что ваше сотрудничество со мной будет, так сказать, двойным, как и мое с вами. Для него автором комбинации будете вы, а целью ее – проникновение в резидентуру Птижана и разгром ее, когда вся организация будет «накрыта шляпой».
Эрлих расстегнул пиджак. Булавка в галстуке радужно засветилась под солнцем. После того дня, когда Витцлебен и его коллеги чуть не свернули шею фюреру, а Штюльпнагель арестовал парижских гестаповцев, Эрлих в первый раз предстал предо мной в штатском. Двое суток Огюста Птижана не спускали в подвал и не поднимали на допросы, если не считать получасовых вызовов по чисто формальным поводам – все те же Марракеш, путь из Мадрида в Барселону и из Барселоны в Mapсель… Если я правильно истолковал этот прозрачный намек, Эрлих выжидал, когда Птижан наконец среагирует на притчу! Я томил его сорок восемь часов – вполне достаточно, чтобы набить себе цену.
– План неплох, – сказал Эрлих и резко притянул меня к себе. – Все на месте, если это Лондон! Где гарантии, что именно Лондон, а не Москва? Или деголлевцы? С ними я не веду переговоров.
– Слишком мелко?
– Не то. Французы – побежденная нация. Они будут мстить.
– Я дам гарантии, – сказал я, не меняя позы. – Придумайте фразу и назначьте день, когда вы хотели услышать ее по Би-би-си.
Тогда-то Эрлих и произнес, не особенно задумываясь, глуповатую-таки фразу про лондонский туман и назвал дату – третьего августа. Это была первая и единственная ошибка, допущенная им. До нее все шло гладко, и Огюст Птижан мог верить, что идея принадлежит ему, а не сработана Эрлихом и Варбургом. Не поторопись Эрлих с заготовленной комбинацией слов, я в конце разговора бросился бы на него и заставил бы пустить в ход пистолет. Только так! Ибо Огюст Птижан не имел права затевать игру с гестапо – игру, в которой ему заранее была отведена роль проигравшего. Обмолвка Эрлиха меняла дело, хотя и не исключала риск… Риска оставалось сколько угодно.
– А Варбург? – спросил я. – Странно, он даже не поговорил со мной.
– А зачем? – был ответ. – Бригаденфюрер уверен, что вы мелкая сошка, связанная с Сопротивлением. Козявка, несущая бог весть что. Я так его ориентировал, а Гаук добавил, что вы сильно смахиваете на душевнобольного. Потому-то мне и удалось доказать, что самое правильное будет подлечить вас и выпустить, посадив в сачок… Когда вы свяжетесь с Лондоном?
– Мне нужно позвонить…
– Идет, – сказал Эрлих решительно. – Пусть это будет первым вкладом в наш пул.
– Акции пополам? – спросил я и засмеялся.
– И дивиденды тоже, – в тон докончил Эрлих.
…«Успел ли уйти Люк?» – думаю я, припав плечом к дверце «мерседеса»; Эрлих ведет машину с сумасшедшей скоростью. Темные улицы проносятся за стеклом, патрульные мотоциклы уступают дорогу. Мы возвращаемся в Булонокий лес, сделав первый шаг по пути к неизвестности. Отныне Огюст Птижан «посажен в сачок». Найдется ли в нем дырка, чтобы выбраться наружу? На этот вопрос у меня пока нет ответа.
7. Есть ли дырка в сачке! – июль – август, 1944
Итак, отныне Огюст Птижан «посажен в сачок». Найдется ли в нем дырка, чтобы выбраться наружу? На этот вопрос у меня пока нет ответа… Двадцать пятое июля, двадцать седьмое… тридцатое… Дни идут за днями, однообразные и изматывающие. Раз в сутки Эрлих присылает конвой, и я поднимаюсь наверх, где выслушиваю набившие оскомину вопросы и выкладываю протокольные стереотипы. Словно сговорившись, мы не касаемся Венсенского леса, «Одеона» и джентльменского соглашения, заключенного с благословения Варбурга. Фогель и Микки присутствуют при допросах, и я замечаю, как методично и умело Эрлих вдалбливает им в головы, что Огюст Птижан – мелкая сошка, случайный для Сопротивления человек, которым если и приходится заниматься, то скорее по инерции, нежели в силу особой необходимости. Микки просто бесится, в десятый раз записывая мой рассказ об обстоятельствах знакомства с семьей Донвилль и приметах Симон, моей невесты. Фогелю Эрлих поручил составлять запросы, и тот ежедневно приносит ворох официальных бумажек из префектур, в коих значится, что интересующие гестапо Донвилли в данных департаментах не проживают. Нудная работенка и бесплодная, поскольку члены семьи благополучнейшим образом перебрались в Касабланку еще в ноябре сорокового. Впрочем, это известно Птижану; для Фогеля же судьба Донвиллей – книга за семью печатями.
Одновременно Фогель занят поисками спекулянта, продавшего Птижану бумажку в два фунта, но и здесь дело стынет на мертвой точке, ибо приметы кулисье, сообщенные мною, с равной долей вероятия можно отнести к доброй половине мужского населения Парижа, а заодно и к самому Фогелю – среднего роста, худощавый, хорошо одевается.
Эрлих нарочито избегает оставаться со мной наедине; он не торопится, понимая, что третье августа так или иначе поставит точку в конце затянувшейся главы. Не сомневаюсь, что Варбург из неведомого мне далека пристально следит за всем происходящим и тоже ждет. Он ведет беспроигрышную игру. Фраза в передаче Би-би-си надежнее любого признания Птижана удостоверит гестапо, что перед ними агент Лондона, и не просто агент, но эмиссар достаточно высокого ранга, способный заставить правительственную радиостанцию включить в официальную программу галиматью о лондонском тумане. Такое бывает нечасто!
По указанию Эрлиха меня снабдили изрядным запасом «Житана» и толстых крепчайших «Голуаз», и я, излагая свои легенды, окуриваю кабинет штурмбаннфюрера отнюдь не фимиамом. После безвкусных «Реемтсма» черный табак «Житан» доставляет страстному курильщику Птижану несказанное удовольствие. Не меньшее наслаждение получает он и от того, что по прошествии нескольких суток после двадцать пятого из банка, судя по всему, ничего не передали гестапо, и, следовательно, Люку удалось-таки получить портфель. Ради одного этого стоило затеять возню по сколачиванию пула «Птижан – служба безопасности».
Словом, у каждого из нас свои интересы, и все мы, запасшись терпением, ждем третьего августа.
Одно только плохо – рука. Она болит, и по ночам я скриплю зубами, лежа на спине и глядя в потолок, на котором дремлют, собравшись вокруг лампы, мухи и анемичные бабочки. Как они проникают в заколоченное окно – загадка, но факт остается фактом, и камера переполнена разнообразными чешуйчатокрылыми, навязывающими Огюсту Птижану свое общество. Я рассматриваю их и – в который раз! – думаю об игре, авторами которой в равной степени являемся мы трое – Эрлих, бригаденфюрер Варбург и я.
Я сосу «Годуаз» и размышляю. О чем? Обо всем понемногу. О женщине, так и не ставшей моей женой. О том, что в случае чего Люк возьмет дела в свои руки и Центр не останется без информации. Таблицы связи, лежавшие в портфеле, действуют с первого августа. Без них рация Люка онемела бы, но теперь все в порядке. Даже если Птижану суждено умереть, Анри Маршан сумеет постепенно восстановить группу. У него есть кончик нити – Кло Бриссак. От нее – звено к звену – Люк доберется до остальных. На это уйдут недели, может быть, несколько месяцев, и все же группа не распадется…
…Нет все-таки «Голуаз» тоже изрядная гадость! От них дерет горло, а вкусовые пупырышки на языке каменеют, обращаясь в наждак… Я выплевываю окурок и зажигаю «Житан» – эти чуть послабее. Вообще-то я люблю трубочный табак, выдержанный в меду, но с ним Огюсту Птижану пришлось расстаться, равно как и с множеством привычек, навыков и пристрастий. Говоря «согласен!», я наряду со многим прочим обрекал себя и на воздержание. Умные люди несколько месяцев учили меня тому, как легче расстаться со старым багажом и приобрести новый. Были тысячи способов, годившихся вроде бы на любой случай, но оказавшихся при ближайшем рассмотрении неприменимыми ко мне… О милый Огюст – неповторимая ты индивидуальность! Сколько мучились с тобой товарищи, втолковывая то и се и частенько становясь в тупик от твоих недостатков! И тем не менее ты многому сумел научиться!
«Да ты хвастунишка, Огюст!» – говорю я с удивлением и пытаюсь заставить себя заснуть. Последняя ночь. Ночь со второго на третье. Чем встретит меня утро?
Дым под потолком слоисто колышется у лампы, окутывая млеющих мух. Стеклянная колбочка с раскаленным добела волоском источает жар и порождает атмосферные микробури, крохотные потоки, вихри и самумы. Совсем иная буря разразится над Огюстом Птижаном, если утреннее радио не передаст, что лондонские туманы сгустились в Кардиффе. Эрлих не пойдет на то, чтобы вторично устроить экскурсию в «Одеон». Семь еще целых пальцев Птижана обеспечат Фогеля работой часа на два, а затем он изобретет еще что-нибудь и еще, пока Огюст либо заговорит, либо помешается от боли. Однако и сообщение Би-би-си само по себе не значит, что все о'кэй! Варбург и Эрлих полагают, что нашли удачное средство поводить Птижана за нос. Я словно бы присутствовал при том, когда они совещались и Эрлиху удалось доказать бригаденфюреру, что игра в кошки-мышки закончится благополучным финалом, в коем главная мышка приведет кота к своим сородичам и кот славно пообедает. Неуспех с наркотиком и «третьей степенью» гестапо занесло себе в пассив и трезво подытожило, что при такой раскладке нет смысла полагать, будто Птижан развяжет язык. Держать в руках резидента и не добиться ничего – за это со штурмбаннфюрера жестоко спросят на берлинской Принц-Альбрехтштрассе. Кальтенбруннер или кто-нибудь иной воздадут ему не лаврами, а терновым венцом… А ведь так хочется лавров!.. Вот то-то и оно!.. Как он старался, Эрлих, внушая мне мысль, что готов при благоприятных обстоятельствах перекинуться на сторону британского льва! Даже не зная, чем кончится для него двадцатое июля, он все-таки вел свою линию, и притча о страховке, рассказанная как раз тогда, когда судьба штурмбаннфюрера висела на волоске, должна была убедить Птижана в искренности повествователя. Хороший класс работы… Мудрено ли, что Птижан пал в объятия? Представляю, как ликовал Эрлих, выслушивая меня! Резидент Интеллидженс сервис предлагает игру, в которой оба участника выступают в качестве двойников. Отлично! Предложение принимается, и пусть Птижан обольщает себя надеждой, что штурмбаннфюрер Эрлих согласен стать осведомителем англичан. Пусть «сидит в сачке» и выводит гестапо на след своих коллег. Чем черт не шутит, не удастся ли в итоге захватить канал связи с Лондоном целиком в свои руки и, до поры сохранив резидентуру в неприкосновенности, пичкать через нее СИС порциями дезинформации. Такая игра может длиться долго, а когда в Лондоне спохватятся, то хлоп – сачок превращается в нож гильотины, и головы Птижана и его соратников отделяются от туловищ… Одно неясно до конца: Лондон ли стоит за Птижаном или кто-нибудь другой? Отсюда «Одеон» – беспроигрышный ход, обставляемый так, словно Эрлих смертельно рискует.
«Пожалуй, все правильно, – думаю я, поглаживая ноющую руку. – Непонятно лишь, почему Эрлих так старательно устраняет Фогеля из игры. Боится? Но ведь за штурмбаннфюрером стоит Варбург!.. Что-то здесь не так, Огюст!»
…Я засыпаю, чтобы тут же открыть глаза, поднятый с постели за шиворот.
– Хватит дрыхнуть! Подъем!.. Да поднимайся же, скотина!
Во сне я только едва успел пригубить чашечку какао и еще чувствую его вкус у себя не губах.
– С вещами!
Эрлих или тюрьма Френ? Не случилось ли чего-нибудь – этакой пустяковины, не предусмотренной Птижаном и вызвавшей катастрофу?
Вместе с эсэсовцем в камере благообразный господин в штатском. Черные брови и седые элегантные височки.
– Криминаль-секретарь Хюбнер, комендант, – представляется он и делает знак солдату СС. – Отпустите его. Где ваши вещи?
– Все мое при мне, – говорю я.
– Зубная щетка, мыло, кружка?
– Не обзавелся.
– Это ваши деньги? Документы? Пересчитайте!
На кровать шлепается бумажник, отобранный у Птижана при аресте, удостоверение, расческа, носовой платок. Холодными пальцами я торопливо открываю отделения: немного франков, визитные карточки, локон в пластмассовом пакетике, двухфунтовая бумажка.
– Если все в порядке, распишитесь.
Изящным «Монбланом», вернувшимся ко мне вместе с другими вещами, царапаю подпись в углу плотного полулиста, заполненного машинописным текстом. Чернила успели засохнуть, и перо скребет бумагу.
– Осторожнее, – говорит криминаль-секретарь и отгибает рукав. – Без двадцати семи восемь… Не забудьте дату.
По знакомой лестнице, каждая ступень которой известна мне лучше собственных черт, я взбираюсь наверх. На предпоследней ступеньке есть коварная ямка, и все-таки Птижан ухитряется, помня о ней, споткнуться и чуть не полететь кубарем. Эсэсовец, помянув черта, придает Огюсту вертикальное положение и, больно прищемив локоть пальцами, ведет по коридору, по мрачной бордовой дорожке.
Дверь, Еще одна… Кабинет Эрлиха.
– Стой спокойно! Лицом к стене.
Я поворачиваюсь, а эсэсовец стучит и, дождавшись ответа, бубнит в комнату из коридора:
– Штурмбаннфюрер! Один арестованный в ваше распоряжение.
– Пусть войдет!
И я вхожу. Стол, полевые телефоны, кресла – одно против другого, шикарный, весь в полировке «телефункен» на столе и Эрлих, привстающий мне навстречу со своего места.
– Здравствуйте, Одиссей. Садитесь.
Эсэсовец все еще торчит в дверях, и Эрлих, спохватившись, меняет гостеприимный тон на командный.
– Свободны!
Шторы на окнах отдернуты, и серый утренний свет стелется по натертому паркету. Я иду к креслу, пачкая дубовые квадраты пыльными отпечатками, и сажусь, почти падаю в мягкое кресло… Приемник работает, негромко бормочет, перемежая речь музыкой; зеленый зрачок светится, как у кота на охоте.
– У нас три минуты, – говорит Эрлих. – Всего-навсего три, Одиссей. Будет над Кардиффом туман, вы получите лист бумаги и напишете краткий отчет о работе в Интеллидженс сервис. Очень краткий. Для подробного я создам вам условия… Ну и, разумеется, подписка. Я, такой-то, обязуюсь и так далее. Кстати, теперь я могу узнать ваше имя?
– Вам нравится – Стивенс?
– Фамилия не из редких.
– Меня устраивает, а на оригинальность я не претендую… Но подписок не будет!
– Поговорим потом.
Из нас двоих Эрлих волнуется больше. Второй раз за эти дни я замечаю, что движения его становятся суетливыми, а речь отрывистой… Приемник перемешивает музыку с морзянкой, потрескивает, а большие напольные часы за спиной Эрлиха подтягивают минутную стрелку к девятке.
– «Бам-бам-бам… Бам!» – выбрасывает приемник. И снова: «Бам-бам-бам… Бам!» Колокол Биг-Бена, позывные Британской радиовещательной корпорации.
– Хотите пари? – шепчет Эрлих.
Я сердито мотаю головой.
– Дурной тон.
«Бам-бам-бам… Бам!» И наконец: «Говорит Лондон! Дорогие радиослушатели, Би-би-си начинает передачу для Франции. Вы услышите в нашей программе обзор текущих новостей, ответы на вопросы, репортаж о церемонии в Кентерберийском соборе. В заключение – симфонический джаз под управлением…»
Эрлих, покосившись на дверь, приглушает звук. Встает из-за стола и неслышным шагом пересекает комнату. Резко поворачивает ручку, и Микки едва не влетает в кабинет. При этом лицо ее ухитряется сохранять выражение сосредоточенности, губа прикушена.
– Шарфюрер Больц! – негромко говорит Эрлих. – Вы что-нибудь забыли? – Он делает паузу и повышает тон: – Вон отсюда!
– Да, штурмбаннфюрер, – лепечет Микки и – от растерянности, что ли? – делает книксен.
Эрлих притворяет дверь и – руки в карманах – возвращается к столу. И вовремя. Обзор текущих новостей Би-би-си не длиннее хвоста карликового терьера. После паузы диктор, с жестковатым акцентом выговаривая французские слова, переходит к ответам на вопросы. Собственно, этот раздел – гвоздь утренней программы, ибо «ответы» – форма связи лондонского руководства с резидентурами Интеллидженс сервис во Франции.
– Мадам Дюроше спрашивает, – вещает диктор. – Каков прогноз на последнюю декаду августа? Отвечаем: август ожидается прохладным, с дождями и ветром…
«Дюроше, – думаю я. – Мне-то что за дело?» Мадам вполне свободно может на поверку оказаться террористом из первой секции МИ-6 или усатым интеллектуалом из группы сбора политической информации… К Огюсту Птижану ответ, адресованный мадам, совершенно очевидно, не имеет отношения… Без особого внимания я вслушиваюсь в продолжение: «Таким образом, туманы распространятся на всю северную часть острова, включая графства…»
– Это не для вас, – шепчет Эрлих и прибавляет звук.
– Не мешайте! – говорю я.
– Передачу все равно записывают…
«…и в частности, – заключает диктор, – лондонский туман сгустится над Кардиффом. Мы особенно подчеркиваем это, мадам Дюроше: лондонский туман сгустится над Кардиффом!»
…Ну вот и все… Я напоминаю себе шар, из которого выпустили воздух. Я так долго ждал. И теперь, когда фраза произнесена, – в самом первом сообщении! – глубокое равнодушие приходит ко мне.
– Поздравляю, Стивенс! – говорит Эрлих и выключает приемник. Снимает трубку телефона. – Бригаденфюрер у себя? Здесь – Эрлих! – Пауза. – Только что передали, бригаденфюрер! – Снова пауза. – Ах, вы сами слышали? Я приказал записать. – Еще одна пауза. И энергичное: – Само собой! Да, бригаденфюрер. Хайль Гитлер!
Трубка с клацаньем укладывается в гнездо.
– Что с вами, Стивенс?
Чужое имя режет мне слух.
– Ничего, – отрубаю я и тяжело перевожу дух.
– Понимаю… Но ведь все обошлось!
– Могли и не успеть.
Это правда; именно о том я и думал. Я не сомневался ни в Люке, ни тем более в Центре, но техника есть техника, а Лондон изрядно далеко.
– Хотите капельки, Стивенс? – насмешливо спрашивает Эрлих.
– Примите сами, – огрызаюсь я и вожусь со спичками: «Житан» никак не хочет раскуриваться.
– Ах, мадам Дюроше, что за тон! Чем дерзить, лучше поинтересовались бы, какую квартиру снял вам ваш друг Эрлих. Пальчики оближете. В центре, четвертый этаж, и окна на тихую улицу. Три прекрасно меблированные комнаты, ванная, газ, телефон…
– И слухачи на проводе.
– Само собой!
– И полдюжины побегушечников перед дверью и в заднем дворе.
– Что поделать…
– Остается предположить, что в передней поселитесь вы сами и будете спать у порога?
– За шутку такого сорта стоило бы вас наказать, но я не мстителен. И – учтите – я совсем не намерен навязывать свое общество. Предлагаю иное: прелестная горничная, она же экономка и ангел-хранитель. Ни за что не догадаетесь, кто она!
– Микки?
– Ну что за интуиция! Пинкертон и тот зарыдал бы от зависти… Хочу предупредить: у Микки один недостаток – она крайне любознательна. А в остальном просто клад: мила, покорна и домовита. С ней у вас хлопот не будет, благо, что бригаденфюрер просветил шарфюрера Больц о границах уступчивости.
«Житан» наконец раскурился, и я, полюбовавшись струйкой дыма, позволяю себе в свой черед воздать Эрлиху по заслугам.
– У вас божий дар быть сводней. Или нет?
Эрлих выпрямляется в кресле и складывает руки перед собой. Костяшки сцепленных пальцев белеют, а живой глаз, увеличенный стеклом очков, темнеет.
– Это последняя выходка, которую я прощаю… Хватит! Берите бумагу, Стивенс, и за дело! Пишите. «Я, Огюст Птижан, состоящий на службе в Сикрет интеллидженс сервис под именем Стивенса, добровольно и без нажима, руководствуясь личными соображениями, даю настоящую подписку в том, что обязуюсь постоянно информировать отдел IV-E5 – 5 Главного управления полиции безопасности и СД Германской империи о заданиях, получаемых мною от английской разведки, технических и иных средствах, передаваемых ею мне, и лицах, о деятельности которых в пользу стран – противниц Германской империи мне станет достоверно известно…» Да, не ошибитесь в наименовании отдела: первая цифра римская, остальные арабские… Что вам не нравится?
– Чертовски смахивает на одностороннюю перевербовку. Вот что я вам скажу!
– Без подписки Варбург не выпустит вас живым… Я все сказал, Стивенс!
Я и сам знаю, что все. Однако считаю нужным поторговаться. Англичане упрямы, и контрразведки всех стран мира осведомлены о том, что агенты СИС, как никто другой, умеют обставить свой переход на службу к конкуренту элегантным торгом.
– Вы загоняете меня в тупик, – говорю я с видимым колебанием.
– Никакого тупика! – возражает Эрлих. – Чистая проформа Вы же знаете…
– Этот документ…
– Будет похоронен в моем сейфе. Слово чести, Стивенс!
Я скриплю пером, выводя строчки. Узкий почерк с наклоном влево. Острые окончания букв. Эксперты должны удостоверить, что текст исполнен в английской манере письма. Перечитав написанное, я ставлю подпись и число. Помахиваю листком, высушивая чернила.
– Я перееду сегодня?
– Да, к вечеру. Врач осмотрит вас, а из «Бон-Марше» привезут костюм.
– Мне можно будет выходить?
– Конечно. Вас будут провожать… не мешая…
– Согласен. А теперь ответьте все же на тот вопрос, который недавно задавали вы сами: что выиграл я?
– Тс!.. Экий вы, право!
Штурмбаннфюрер выходит из-за стола и говорит, понизив голос до предела:
– В вашей новой квартире нам не помешают… Фрейлейн Больц!
Урок, как видно, был не впрок. Микки появляется в комнате с быстротой, свидетельствующей, что она не покидала коридора.
– Знакомьтесь, – говорит Эрлих безмятежно. – Огюст Птижан – ваш патрон. Лотта – ваша секретарша. Надеюсь, вы подружитесь.
Лотта Больц безмолвствует, и Огюст Птижан догадывается, что из всех врагов, с которыми он имеет дело, Микки, пожалуй, самый прямолинейный. Эрлих и здесь не промахнулся, подсовывая покупателю товар с гнильцой.
8. Фогель и золотое руно – август, 1944
Товар с гнильцой. Иначе Микки не назовешь! Белый передник и наколка не придали ей обаяния, а французские фразы, с грехом пополам складываемые ею, звучат как унтер-офицерские команды. В платье и должности полугорничной-полусекретаря Лотта Больц продолжает чувствовать себя шарфюрером СС – личностью, принадлежащей к касте господ. Кажется, она всерьез удивляется, почему Огюст Птижан не испытывает священного трепета, когда она по утрам бесцеремонно входит в спальню и сдергивает одеяло со словами: «Вставайте к завтраку!» В первый раз я вежливо посоветовал ей стучать, прежде чем входить, а во второй сообщил, что если она не последует совету, то мне придется пустить в ход брючный ремешок. Это был единственный случай, когда Микки засмеялась.
– Лотта, – сказал я назидательно и поднял палец, – вы не боитесь остаться без места? Любое терпение имеет пределы, и, видит бог, я дам вам расчет.
Ответа не последовало, и я принялся размышлять, кем была шарфюрер Больц до поступления в отдел Варбурга? Служила в «Организации немецких девушек» или в концлагере?
При всех недостатках Микки далеко не глупа. У нее хватает ума не спорить в открытую, а в части практической сметки она даст фору экономнейшей из французских домоправительниц. Завтраки, приготовленные ею, точнейшим образом соответствуют моему аппетиту: когда я встаю из-за стола, на тарелках не остается ни крошки, но в то же время я при всем желании не втиснул бы в желудок и кусочка сверх отмеренной Микки порции… Покончив с завтраком, Микки принимается за уборку: квартира вылизывается до блеска, кухонная утварь надраена и сияет; чехлы на мебели сидят, как мундир на сверхсрочнике.
Веник и щетка сменяются на спицы – все свободное время шарфюрер Больц вяжет носки и напульсники. Образцовая немецкая женщина: «кухня – дети – церковь». Лицо ее разглаживается и становится нежным и юным; она почти красива, когда орудует спицами, нанизывая петли. «Жениху? – спросил я. – У вас есть кавалер, Лотта?» Микки не сразу удостоила меня ответом. «Для наших солдат!» – сказала она, обойдя вопрос о женихе.
Дважды в день звонит Эрлих, и Микки преображается.
– Да, штурмбаннфюрер! Все в порядке, – рапортует она, стоя навытяжку перед телефоном – Нет, он ни на что не жалуется… Да штурмбаннфюрер!
Рука моя никак не хочет заживать. Багровые бугры, вздувшиеся на месте содранных ногтей, сочатся сукровицей и гноем. Гаук, озабоченно сморщившись, накладывает новые повязки и делает обезболивающие уколы. Без них я не мог бы спать… Повязки дурно пахнут; пальцы все больше и больше распухают, и у меня закрадывается мысль – не гангрена ли это?
– Пустяки, – по обыкновению ржет Гаук, обнажая желтые прокуренные зубы. – В крайнем случае оттяпаем пару кусков мяса, и дело с концом.
Он приезжает вечером с лицом, розовым от выпивки. Штатский костюм сидит на нем мешковато, шляпа заломлена на затылок. Распутывая бинты и манипулируя шприцем, он не снимает черных перчаток. По-видимому, у гауптштурмфюрера СС доктора медицины Гаука свои представления об антисептике.
Ближе к ночи появляется Эрлих. Микки вносит машинку – портативный «мерседес», и я третьи сутки подряд диктую отчет о своей работе в СИС. Там, где Огюсту Птижану не хватает знаний, он не без успеха прибегает к фантазии, в результате чего, например, невинный номер «А» в бельэтаже отеля «Анфа» в Касабланке превращается в конспиративную квартиру резидентов СИС в Алжире. Особенно интересует штурмбаннфюрера все, что касается функций «французской секции» Сикрет интеллидженс сервис и МИ-9 – организации, занятой агентурной работой на континенте. Я как могу удовлетворяю его любопытство, стараясь вставить в отчет побольше конспиративных кличек. Джон, Джек, Майкл, Харви – эти имена и приметы лиц, коим они принадлежат, занимают не один абзац в многостраничном романе, сочиняемом Огюстом. Единственно, где я избегаю выдумок, это в рассказах о руководстве: с джентльменами, стоящими во главе СИС, на Принц-Альбрехтштрассе должны быть знакомы… За номер «А» и всяких там Джеков я не боюсь. Ответ из Алжира от резидентуры РСХА придет в лучшем случае через несколько недель; что же касается кличек, то, хотя гестапо и известны основные фигуранты Интеллидженс сервис, работающие по Французской зоне, никто не может поручиться, что Огюста Птижана инструктировали именно они, а не чины разведки из других отделов. Все же я стараюсь как можно меньше касаться Лондона, сведя свое пребывание в нем к краткому периоду – две недели… Эрлиха как будто бы все устраивает. Он слушает, почти не прерывая, однако после его вопросов Птижан всякий раз чувствует себя так, словно только что погулял на краю пропасти.
Так было, скажем, когда штурмбаннфюрер словно невзначай спросил о 39-й комнате. При этом он просматривал полдюжины страниц, продиктованных мной в первый день, из чего Огюст Птижан обязан был сделать вывод, что 39-я комната упоминается именно в них. Я напряг память и вспомнил, что, во-первых, не говорил о ней и, во-вторых, что, поскольку вопрос поставлен в связи с заданием Птижану установить базу германских рейдеров, дело скорее всего касается военно-морской разведки.
– Вы об Адмиралтействе? – спросил я, словно с трудом припоминая. – Ах да, конечно… Боюсь, что ничем вас не порадую. Я знаю, что такая комната есть – вход в нее через подъезд на площади Молл, прямо против памятника Куку… Моряки не жалуют гостей, а я не набивался на приглашение.
Эрлих кивнул, и новая глава романа, создаваемая плодовитым Огюстом, пошла без задержек.
Где-то около полуночи Эрлих отпускает шарфюрера Больц на покой, и мы остаемся вдвоем за рюмочкой коньяка. «Камю» тяжело плещется в хрустале; алмазные грани отсвечивают голубым, розовым, зеленым; торшер приглушенно высвечивает узоры на ковре, и мы – задушевные друзья – ведем долгую беседу о будущем. Эрлиха беспокоит мой вид. Костюм, заказанный у «Бон-Марше» по старой мерке Птижана, висит на мне балахоном; повязка источает тяжелый запах, и я то и дело дергаюсь от приступов боли.
– Вас надо показать хирургу, – говорит Эрлих с таким нажимом и заботой, словно я всячески отнекиваюсь от осмотра специалистом. – В таком виде вы ни на что не годитесь! А время идет.
– Мне надоело ждать больше, чем вам.
– Потерпите.
– Легко сказать!.. Микки ведет себя как фельджандарм!
– Она не опасна. Ну как вы не поймете, Одиссей? Больц замыкается на Варбурга и только на него одного. Любой иной на ее месте может, не разобравшись во всех тонкостях, донести Мюллеру или Кальтенбруннеру, что Эрлих и Варбург нянчатся с англичанином. С меня, признаться, хватит одного Фогеля, который покой потерял, пытаясь разнюхать, куда вы исчезли.
– Его это интересует?
– Больше, чем хотелось бы!
– Что ж, это плохо.
Эрлих кончиком ботинка разглаживает ворс на ковре. Примяв его, поднимает голову. Оранжевый свет торшера тускло ложится на впалую щеку.
– Пока только неприятно, Одиссей. Больше всего на свете я боюсь энтузиастов. Такие могут поломать любую комбинацию, прямолинейно понимая интересы рейха… Не скрою: Фогель из энтузиастов.
– Он может докопаться?
Эрлих неохотно кивает.
– Может. У СД достаточно возможностей.
– Ну а Варбург?
– Формально он тут ни при чем. Бригаденфюрер согласился на перевербовку Стивенса, и точка. Считайте, что его нет, Одиссей.
– Иными словами: он с нами при удаче и против нас при первом же намеке на фиаско? Можете не отвечать… Что ж, разумная позиция… Однако вы в одиночку не составите, пожалуй, удобоваримой дезы для Лондона.
– Пусть это вас не заботит!
– Ну нет! – говорю я жестко. – Через несколько дней в любом случае придется начинать. Люк, как условлено, выйдет на контрольное рандеву пятнадцатого в полдень. Что мы вручим ему? Кучу вранья?.. В Лондоне через час выявят «бронзу», и тогда пиши прощай!.. Эрлих! Мне нужна не дешевая дезинформация, а слоеный пирог, где правда была бы на корочке, как крем. Части на побережье, структура парижского гестапо, характеристики руководства… Без помощи Варбурга вы оскандалитесь.
Эрлих встает и начинает вышагивать по комнате – руки в карманах. Узкая изломанная тень мелькает по ковру, то удлиняясь, то укорачиваясь.
– Это уж ваша задача, чтобы в Лондоне верили, – говорит он сердито. – Скажите лучше: вы убеждены, что мистер Люк придет?
Пятнадцатое – контрольное число. Так было условлено задолго до ареста. Улица Модисток, писчебумажный магазин Фора… Сейчас нам с вами его не достать.
– Это единственная ваша связь?
– Нет, почему же. Есть Клодин Бриссак. Она курсирует между бывшей Зоной и Парижем. Привозит информацию о периферии и оставляет в цоколе столба по согласованию с Люком.
Эрлих останавливается, и тень его съеживается до размеров обувной коробки. В голосе, прорвавшись, звучит подозрительность.
– Как случилось, что вы не знаете аварийного адреса Люка?.. Ни черта вы не знаете: ни квартиры, ни шкалы частот, ни расписания работы рации.
– Проконсультируйтесь с абвером, – кратко предлагаю я, – или с Шелленбергом, он, кажется, ведает разведкой в РСХА?[2] Они объяснят вам, что элементарные законы конспирации лишают резидента возможности интересоваться аварийными квартирами сотрудников. Частоты же и прочее – прерогативы радиста, его святая святых… Вы засекли Це-ку-зет?
– Дважды.
– Что вы слышали о ней до меня? И не догадывались, что такая есть, не так ли?
– Это правда, – признает Эрлих и вновь принимается расхаживать по комнате. – Так-то оно так, однако ваша Це-ку-зет очень странная особа. Мы засекаем только ее, но не слышим ответа корреспондирующей станции. Це-ку-зет заканчивает, дает «дробь» и получает «квитанцию». И все. Откуда получает? Каков индекс корреспондента? Почему он не шлет ни привета, ни инструкций?.. И вдобавок Це-ку-зет прыгает по Парижу. В первый раз мы извлекли ее из Кубервуа, с окраины, а во второй – извольте – она барабанила уже откуда-то из Гренелля, из самого центра. Сколько же у Люка радиоквартир?
– Спросите его, – советую я и напоминаю: – Поторопитесь с информацией, Эрлих, и обратите внимание на качество. В персоналиях, выборочном списке частей и характеристиках не должно быть ошибок, СИС держит в Париже не одного меня. Пара пустяков сверить данные… Кто сейчас вместо Штюльпнагеля?
– Генерал Боккельберг, комендант Парижа… Штюльпаагель застрелился, я вам говорил.
– Помню! Постарайтесь охарактеризовать Боккельберга. И Варбурга!
– Это еще зачем?
Живой глаз Циклопа прищуривается.
– По моей версии для Лондона – он наш источник. Я придумал ему кличку «Зевс». Нравится?
– Интересно! – говорит Эрлих. – Очень, очень интересно! Какое же кодовое имя вы дадите мне?
«Циклоп», хочу сказать я, но вместо этого произношу:
– Еще не решил. Хотите «Карлхен»? Ласково и нейтрально.
Эрлих пожимает плечами.
– Пусть так.
…В последующие сутки ничего нового не происходит. Разве что Микки держится вежливее. Я слышал краем уха разнос, учиненный Эрлихом шарфюреру в передней, и, признаться, ожидал, что Лотта станет ниже травы и тише воды, но у нее есть характер, и единственно, в чем она изменила привычкам, – не сдернула утром одеяло. Хоть какой-то прогресс.
Ближе к полудню, в неурочный час, приехал Гаук, сделал вливание и сменил перевязку. Рука опухла еще больше, а запах усилился, и Микки пришлось опрыскать комнату одеколоном.
– Дрянь дело, – буркнул Гаук, накладывая бинты. – Температуру мерили?
– Тридцать восемь и две! – отрапортовала шарфюрер Больц, тенью маячащая за спиной Гаука. – Он плохо завтракал, гауптштурмфюрер! Он простужен!
– Это не простуда… Вы совсем не гуляете?
– Запрещено! – доложила Микки.
– Я поговорю с кем надо. Вам следует хотя бы час-другой дышать свежим воздухом. Комнатная атмосфера все одно, что бульон для микроорганизмов… Сядьте!.. Так. Дышите… Глубже, еще глубже… Я вызову хирурга, посмотрим, что можно сделать.
Гаук отбыл, оставив после себя пепел на ковре и стойкий запах лавандового мыла. Вечером я ждал хирурга, но он так и не приехал, зато появился Эрлих с сообщением, что завтра я могу выйти погулять.
– Гаук? – спросил я.
– Мне дорого ваше здоровье, – ответил Эрлих, рассматривая ногти. – Придумайте маршрут, Одиссей, и постарайтесь, чтобы он пролегал не по самым людным улицам.
– Бульвар Монмартр годится?
– А еще?
– Тогда на ваш вкус.
– Ладно, – сказал Эрлих. – Пусть будет бульвар Монмартр. Но не делайте попыток заходить в магазины или телефонные будки.
– Там нет магазинов. И, что главное, он далеко от пансиона, где я жил. Нет риска встретить знакомых. Вам, полагаю, будет неприятно, если Птижана увидят в обществе господ с очень характерным выражением лиц?
– Договорились… Вы готовы диктовать?
Микки сняла чехол с машинки, и началось утомительное и нудное перечисление псевдонимов, домов, обстоятельств встреч и разговоров… Если я рассчитал правильно, на изучение моего романа в Берлине должны потратить самое малое неделю. Семь дней. Сколько это будет в переводе на часы?
Эрлих выглядел расстроенным. В первый раз за все время он не задал ни одного вопроса; сидел задумчивый и прервал меня буквально на полуслове, когда часы показывали половину второго. Я вздохнул про себя, радуясь, что избежал очередных ловушек. Хотя все, казалось бы, доказывает Эрлиху, что Стивенс говорит правду и нет оснований сомневаться ни в его показаниях, ни в британском происхождении, каждый день я чувствую себя инфузорией, рассматриваемой под микроскопом. Взять ту же прогулку. Доверие это или еще одна проверка?
…Мы приехали на бульвар в стареньком «ситроене» с гражданским номером и шофером-французом. Два заботливых стража помогли мне выбраться на панель и тут же отделились – один пошел шагах в двадцати впереди, другой – на таком же расстоянии сзади. Бульвар был малолюден, и старухи, присевшие в тени с вязанием, не обращали на нас внимания.
Не вызвали мы интереса и у патруля, вольно вышагивающего навстречу: воротники мундиров были расстегнуты на оба крючка; старший, обер-ефрейтор, помахивал веточкой каштана и мурлыкал под нос. Автомат висел у него через плечо, словно клюшка для гольфа. «Розамунде та-та-та-ти-та-та-та…» – напевал обер-ефрейтор, отгоняя веточкой докучливую мошкару…
Мы прошли по бульвару раз, другой, и я ни разу не присел, к вящему удовольствию своих спутников. Вообще Огюст Птижан вел себя скромнее пансионерки на экскурсии в Версале. Окурок, брошенный им в вазу для мусора – третью от спуска, ведущего в сторону музея Гревен, заставил было гестаповцев насторожиться, но уже следующий, опущенный пять минут спустя в другую, не вызвал у них эмоций.
Я был доволен и уехал, унося в памяти терпкий запах каштанов, пыли, краски с оград – запах свободы… Мне хотелось улыбаться…
…Улыбкой я и встречаю Эрлиха, еще более хмурого и замкнутого, чем в предыдущий вечер. Государственные заботы так и выпирают из него вместе с холодным взглядом, которым он одаривает меня и Микки.
– Надеюсь, вам лучше, Одиссей?
– Я превосходно погулял.
– Больц, приготовьте кофе. И уберите машинку. Мы не работаем.
Микки испаряется, а Эрлих буквально падает в кресло.
– Минуту, – говорю я. – Привстаньте, Шарль.
– Что еще?
– Вы сели на вязанье. Мадемуазель Больц вяжет носки для солдат.
Эрлих вытаскивает клубок и спицы и с размаху швыряет в угол.
– Сумасшедший дом!
– Что с вами, Шарль?
– Ничего, – говорит Эрлих и добавляет уже по-французски: – Фогель был здесь?
– Нет. Я, правда, отсутствовал… Он узнал адрес?
– Хуже. Варбург получил рапорт Фогеля, где тот обвиняет меня в сделке с врагом. Спасибо, что Варбург, а не группенфюрер Мюллер в Берлине!.. Поставьте чашки, Больц, и не крутитесь тут! Если я наткнусь на вас вне кухни, пеняйте на себя!
Задик Микки, повернутый в нашу сторону, выражает величайшее негодование и презрение. Хотел бы я увидеть лицо Лотты!..
– Расскажите толком, Эрлих, – прошу я, отпивая глоток.
Кофе жидок и слаб, совсем в духе экономной Микки. Пакетики с сахарином аккуратной стопкой лежат на отдельном блюдечке. Две крахмальные салфетки заключены в мельхиоровые кольца. Идеальный порядок в сочетании с идеальной скупостью. Хоть бы печеньице подала, что ли…
Циклоп, забыв положить сахарин, долго и тщательно перемешивает кофе.
– Скверно складывается, Одиссей. В доносе сказано, что штурмбаннфюрер Эрлих, маскируя свои изменнические действия интересами империи, добился освобождения английского агента и прячет его от гестапо. Прямо анекдот, если б не одно «но»: в Берлине из таких вот анекдотов делают смертные приговоры…
– Я не проговорюсь и в Берлине.
– Допустим. И все-таки ситуация щекотливая. Прикиньте: вы действительно почти на свободе; гестапо до сих пор не внедрилось в резидентуру СИС, ваш отчет перепевает известную по другим источникам информацию, и все остальное в том же духе. Подбейте баланс и сообразите, что-будет, если через неделю мы не выйдем на Люка.
– Не раньше пятнадцатого.
– Пусть так. Но не позже, Одиссей!
– Но вы говорите, что рапорт у Варбурга?
– А у кого копия? И единственная ли? Или их несколько и в разные адреса – группенфюреру Мюллеру, Кальтенбруннеру, рейхсфюреру СС?
– Пусть Варбург успокоит Фогеля.
– Не прикидывайтесь, Одиссей, что туго соображаете. Я не хочу повторять, какова позиция Варбурга. Дивиденды ему, а убытки мне.
Я допиваю кофе и наливаю себе новую порцию. Не спеша… Пусть успокоится и сам поищет выход. В моем положении бессмысленно что-либо предлагать.
– Чего хочет Фогель? – спрашиваю я, не дождавшись продолжения.
– Все сходится на том, что его взбесила «отставка». У него приличный нюх, и, по-моему, он был бы не прочь обзавестись собственным страховым полисом. Но здесь третий лишний.
«Ой ли? – говорю я себе. – Лукавишь, Эрлих! Полис и все такое – ерунда. Ты слишком пережимаешь, доказывая готовность работать на СИС. Даже у профессионального ренегата остаются остатки стыдливости, мешающие ему вот так, в лоб, рассуждать об измене, прикидывая выгоду. Сказал бы иначе: тебе и Варбургу не хочется делиться с Фогелем лаврами. Он мелковат чином для ваших кругов и слишком нагл, чтобы дать обойти себя на повороте… Одно неясно: как далеко готов ты зайти во имя своих прибылей?»
– Руно, – говорю я и замолкаю, дав Эрлиху время уловить идею. – Золотое руно.
– Это метафора?
– Угу, – бормочу я, выбирая гущу из чашки. – Я ваш должник, Эрлих. Вы подарили мне притчу, не получив взамен равноценной.
– Я весь внимание.
– Было так, – начинаю я и рассматриваю чашку на свет: незабудки на фарфоре прозрачны, как живые. – Некий аргонавт, обуянный завистью и желанием выдвинуться, обвинил своих товарищей в краже золотого руна. Руно действительно пропало, но Зевс не питал определенных подозрений. Или наоборот; он верил всем. Но наш аргонавт трубил во все рога и тыкал пальцем в грудь предполагаемого вора. Что же сделал Зевс?
– Что он сделал? – машинально повторяет Эрлих.
– Послал ревизоров с Олимпа, чтобы те незаметно осмотрели поклажу аргонавтов. И они нашли руно. Где бы вы думали?
– У горлопана?
– Браво, Эрлих! Истина гласит: громче всех кричит тот, кто украл кошелек… Зевс был мудр, и боги-ревизоры не ссылались на его приказ. Уже в те стародавние времена во всех мало-мальски серьезных учреждениях, а на Олимпе и подавно, существовали правила по соблюдению режима секретности. Именно соблюдением правил и интересовались ревизоры. В порядке ли свитки, доверенные аргонавтам, там ли лежат, где нужно? А руно нашлось аб-со-лют-но случайно. Остальное – в части реакции Зевса и кары для вора – вообразите сами… Ну как, хороша притча?
– Как называлось в те поры руно?
– Фунты стерлингов, по-моему…
– А вы не думаете, что в конечном счете аргонавт, помянутый вами, сумеет доказать невиновность?
– В другом месте, Эрлих. И по прошествии долгих недель. И главное: даже очистившись, он все-таки не отмоется до конца. Ничего так не прилипчиво, как клевета.
– Допустим… – начинает Эрлих и умолкает.
Я не делаю попыток подтолкнуть его на продолжение. На усвоение и переваривание любой идеи требуется известный срок. В конечном же счете, сдается мне, чины СД, уполномоченные Варбургом, обнаружат в столе или несгораемом шкафу штурмфюрера Фогеля энную сумму английской валюты. И тогда…
– Слово за Зевсом! – говорит Эрлих и разом выпивает чашку остывшего кофе. – Я принес вам набросок дезы, Огюст. Просмотрите бумаги, не допуская к ним Больц. Ни одна строчка не должна попасться ей на глаза. Сумеете?
– Постараюсь.
– Хирург приедет с утра.
Эрлих встает и, забыв, что на нем штатское, пытается поправить несуществующую портупею. Вид у него как у гладиатора, идущего на схватку с нубийским львом. Не завидую я Фогелю!
9. Искушение Одиссея – август, 1942
Не завидую я Фогелю. Но и мне несладко. Каша сварена слишком круто и ею легко подавиться… Один… Абсолютно один. А так нужен добрый совет, данный непредубежденным другом. Будь рядом Люк, мы обсудили бы все «про» и «контра» и, как знать, не пришли бы к выводу, что Огюсту Птижану пора начинать искать лазейку, чтобы улизнуть… Риск. С каждым часом он растет в геометрической прогрессии… Чего я жду? Сначала выторговал у судьбы время, чтобы любой ценой связаться с Анри Маршаном и предупредить о двадцать пятом. Без листков из портфеля Це-ку-зет превращалась в ненужный железный ящик, напичканный лампами, конденсаторами и сопротивлениями. Таблицы связи – на август и сентябрь. Теперь они у Люка вместе с адресами связных. В принципе Люк отлично справится без меня, и Центр будет, как и прежде, получать информацию в установленные дни и часы… Будь объективен, Огюст! Пора кончать. Ты добился и второй цели оттянул все внимание Эрлиха на себя, вселив в него надежду на успех перевербовки. Две недели – срок достаточный, чтобы Люк перестроил группу, сменил квартиры, явки, шифры. Ниточка связи, тончайшая, как паутинка, оставленная им для тебя на самый крайний случай, ни при каких обстоятельствах не выведет Эрлиха из лабиринта. Он может до скончания века ломать голову, нащупав ее, но так и не догадаться, кто стоит на другом конце… Все так… Тогда ответь, Огюст: зачем продолжает существовать резидент СИС Стивенс? Уж не обольщаешься ли ты иллюзией, втройне опасной, потому что Эрлих охотно поддерживает ее и силится придать ей вид реальности!.. Давай прикинем… Что ты знаешь об Эрлихе? Ничтожно мало фактов и зыбкие догадки и умозаключения, могущие быть ошибочными от «а» до «я». Ну, лицо без шрамов, интеллигентность, туманные намеки штурмбаннфюрера на заинтересованность в послевоенном благополучии – посылки, на основе которых воображение выстроит не один, а тысячу силлогизмов. А не получится ли по печально знаменитому правилу софистики: конь имеет четыре ноги и стол имеет четыре ноги, значит, стол – это конь? …
Я валяюсь на кровати одетый и одну за другой курю дерущие горло «Голуаз». Остатки наркоза, не выветрившиеся за три часа, вызывают у меня приступы тошноты… Рано утром хирург, доставленный Эрлихом, без промедлений отвез меня в военный госпиталь Дю Валь-де-Грас, и – чик-чирик! – Огюст Птижан остался без трех пальцев на левой руке. «Через сутки было бы поздно, – сказал хирург, когда меня клали на каталку, чтобы отправить в операционную. – Какой коновал вас пользовал?» Он принимал меня за немца и был приисполнен сочувствия. Мне наложили на лицо марлевую маску и заставили считать. Айн, цвай… зекс, зибен… Эфир пах раздражающе сладко. Это был отчаянный момент; погружаясь в пьяное, развеселое забытье, я успел подумать, что под наркозом люди не только поют, плачут и хохочут, но и говорят… и, как правило, на родном языке… Очнувшись, я увидел отчужденное лицо хирурга. «Англичанин?» – спросил он. «С чего вы взяли!» Хирург возмущенно повернулся к вошедшему в операционную Эрлиху:
– Вы знаете, что он тут нес?.. О какой-то Алисе из Страны Зеркал, и называл своим другом Люиса Карла.
Эрлих усмехнулся, поправил:
– Кэролла. Все в порядке, штабс-артц! Не беспокойтесь!..
Он и здесь гнул свое, штурмбаннфюрер Эрлих! При операциях, вроде моей, вполне можно было обойтись местной анестезией; эфирная маска – не сомневаюсь! – была предложена Циклопом. Он не мог не знать, что люди говорят под наркозом, а если и не знал, то у СД достаточно специалистов, способных проконсультировать Эрлиха в тонкостях медицины…
В тридцать восемь лет – инвалид… Когда-то я недурно играл на пианино… Когда – тысячу лет назад?
– Та-ра-ра-та ле-ля-ля!.. – вертится у меня на языке песенка с давно забытой Огюстом Птижаном пластинки. Она мешает думать об Эрлихе и вещах более насущных, чем игра на пианино… Микки с вязаньем в руках неотступно следит за мной из угла, куда Эрлих, уходя, усадил ее с наказом немедленно звонить, если мне станет хуже.
– Придется полежать, – сказал он. – Я еще заеду к вечеру. Радуйтесь: вы, кажется, не ладили с Фогелем? Так вот у него изрядные неприятности!
Микки навострила уши.
– Да, да, – сказал Эрлих раздраженно. – Это и вас касается, шарфюрер Больц! Вы, по-моему, любили таскаться с Фогелем по ночным кабачкам? Не припомните ли, чем он расплачивался?
Микки возмущенно передернула плечами.
– Марками, конечно!
– Повторите это бригаденфюреру. Он очень тревожится, откуда в столе у Фогеля очутились английские фунты? Похоже, здесь не обошлось без черной биржи…
Мне было так худо, что смысл сказанного не сразу дошел, а когда я переварил сообщение, Эрлих уже уехал… Черная биржа у Триумфальной арки… Что ж, пожалуй, это выглядит не так грубо, как обвинение в связи с английскими эмиссарами… Но как быстро!.. Правда, или очередной ход многоопытного штурмбаннфюрера СД, сделанный в неведомых Огюсту Птижану интересах? И вообще: надо ли Эрлиху устранять Фогеля, или вся история с ним – выдумка? Свободно может оказаться, что штурмфюрер Фогель ни в малейшей степени не любопытствовал насчет судьбы Птижана, и Эрлих бросает его как козырь, как доказательство своей лояльности, а господин штурмфюрер, не ведая ни о чем, катит сейчас куда-нибудь подальше от Парижа в отпуск или со специальным заданием… Да или нет?.. Где решение?.. Я вспоминаю лицо Эрлиха, интонацию, каждый жест, когда он рассказывал об интригах Фогеля, и колеблюсь…
Время, только оно способно дать правильный ответ. Но именно его мне не хватает.
– Лотта, – взываю я к Микки, уткнувшейся в вязание. – Вы всегда так молчаливы?
– О чем говорить? – неожиданно просто отвечает она. – Пить хотите?
– Не хочу. У вас есть жених, Лотта?
Под передником у Микки тонкий поясок и кобура с пистолетом. Маленький офицерский «вальтер». Справлюсь ли я с ней одной рукой? Я привстаю и, задохнувшись, падаю на подушку. Ни черта не выйдет! Проклятая слабость! Или это к лучшему – судьба сама предупреждает Одиссея: «Не спеши!» Допустим, мне удастся обезоружить шарфюрера Больц; допустим, «вальтер» окажется у меня в руках. Что дальше? Бежать?.. А двое внизу у выхода? Еще один в комнате консьержа и двое во дворе. Останется только пустить пулю в лоб… Ну это никогда не поздно – умереть…
Тошнота клубком вязнет в горле. Я сглатываю кислую слюну и закрываю глаза. Думай, Огюст! Мысль – единственное оружие, оставшееся тебе.
Отдышавшись, я с удовольствием воображаю забавную картинку: вазу, третью от спуска к музею Гревен, и ее содержимое, глубокомысленно изучаемое экспертами гестапо. Я отчетливо видел, что один из них украдкой подобрал окурок, брошенный Птижаном на дорожку, и засек вазу, куда я спровадил предыдущий. Теперь химикам, трассологам и криптографам хватит работы как минимум на сутки. И что самое смешное – ни один из окурков не содержит шифровки.
– Штурмбаннфюрер просил узнать, будете ли вы гулять сегодня?
Микки кладет вязанье на колени и ждет ответа.
– Может быть… Сначала отдохну…
– Очень больно?
Что с ней происходит? Простые человеческие вопросы, не замутненный ненавистью взгляд. Ночью Микки отсутствовала; ее заменил один из охранников, дремавший в прихожей. Где она была – у Варбурга?..
СС-бригаденфюрер Варбург. Он интригует меня больше всего остального. Он сидит в тени, невидимый и неслышимый, и все-таки бытие Огюста Птижана развивается не без его участия. Эрлих всего лишь проводник чужих приказов и воли, посредник между резидентом Стивенсом и эсэсовским генералом. А что, если Варбург верит в Стивенса всерьез?.. Я и раньше был склонен думать так, а сейчас постепенно все больше и больше укрепляюсь в этой мысли. Ради Варбурга стоит ждать. И из-за него же мне необходимо сегодня побывать на бульваре Монмартр.
– Сколько сейчас, Лотта?
– Десять тридцать пять.
– Часа в четыре разбудите меня.
Сон суматошный, но глубокий приходит ко мне по первому зову. Отрывочные видения, в которых Варбург почему-то предстает в виде старого слона с ушами-опахалами. Рядом со слоном – Фогель: растерянная физиономия, остекленевшие глаза и мундир без погон. Я догадываюсь, что это пророчество, знамение свыше, и так и говорю Варбургу: «Наши имена занесены рядом в книгу судеб…» Лицо Варбурга последнее, что я вижу во сне, ибо Микки трясет меня за плечо.
– Четыре часа.
– А? – говорю я и вытираю с подбородка ниточку слюны. – Что такое?
– Штурмбаннфюрер прислал машину. Доктор Гаук считает, что вам все-таки надо погулять. Вы пойдете?
– Сначала кофе, Лотта!
По медицинским нормам после операции положено лежать, Эрлиху это известно, и все же он буквально выпроваживает меня на бульвар. Мы оба думаем об одном и том же: Огюст Птижан будет устанавливать связь. Обязательно будет. Бульвар Монмартр правильно выбран нами в качестве арены событий.
Действие наркоза кончилось, и рука вопиет каждым нервом.
Бесформенная белая кукла, подвешенная на эластичном бинте, не позволяет мне сделать и трех шагов. Голова начинает кружиться, и я валюсь на стенку, сползаю по ней… Встаю… Ну, Оюст, иди же!.. Шаг. Еще шаг. Не шаг – шажочек, робкий, как у ребенка. Скрип собственных зубов – противный, ни с чем не сравнимый звук… Шажок… Вот так, хорошо, Огюст!.. Мне никак не удается накинуть пиджак, и Больц, вошедшая с кофе, бросается на помощь.
– Вам плохо?
– Поскользнулся, – говорю я, бочком присаживаясь на пуфик. – Каков аромат, а? Натуральный кофе!
– Бразильский, – говорит шарфюрер Больц и наклоняется ко мне.
Я не гадалка, но знаю, что будет. Теперь знаю. Наверняка. Поэтому я ни капли не удивляюсь, когда Микки, невыразительная как статуя, наклоняется и приникает ко мне. С холодной головой я целую ее, и с каждым поцелуем губы Микки оттаивают и становятся все мягче. Она начинает задыхаться, и я отпускаю ее… Где-то там, в Булонском лесу, бригаденфюрер Варбург выдал Стивенсу вексель – достаточно надежный… Имеющий разум да поймет!.. Три человека – три цели. Стивенс, Эрлих, Варбург. Каждому свое.
– Ты очень мила, Лотта.
– Это правда?
– Ты очаровательна. Разве тебе не говорили?
Меня просто подмывает похвалить шарфюрера Лотту Больц за образцовую службу и точное следование приказам Варбурга. Микки оправляет блузку – медленно, еще не понимая, что все кончилось… Продолжения не будет, Микки. Хотя на месте Стивенса я не вправе быть столь категоричным в утверждениях. Варбург определенно не поймет англичанина, остановившегося на полпути.
– Тебе помочь? – спрашивает Микки, прочно перешедшая на «ты». Очевидно, она не сомневается, что ночь закрепит наши отношения.
– Ты чертовски мила, Лотта, – повторяю я. – Поедешь со мной?
Микки морщит лоб, решает:
– Не стоит, чтобы Эрлих догадывался. Понимаешь?
– Ты права! – говорю я с жаром. – Это было бы неосторожно!
Под пытливым взором Микки я нахожу в себе силы довольно бодро дойти до лестницы, где меня встречает шофер – все тот же француз из «летучей бригады» жандармерии, очевидно. Опираясь на его руку, я спускаюсь к подъезду. Сажусь в «ситроен» и в полубессознательном состоянии трясусь на продавленном сиденье – путь до бульвара не близок.
Первый, кого я вижу, вылезая из машины, – Эрлих. Как ни в чем не бывало он помахивает рукой, подходя. Штатский костюм и знаменитая булавка в бордовом галстуке. Воплощение респектабельности.
– Сюрприз? – говорю я, преодолевая одышку.
– О, неприятный. Давайте побродим вместе?
– Почему бы и нет…
Охрана, разделившись, следует за нами. Эрлих придерживает меня под локоть, и я благодарен ему за это: ноги едва слушаются Огюста Птижана. Мы выходим на бульвар и плетемся мимо знакомых скамеек с пластинчатыми спинками, стриженых кустов и посадок декоративного табака. Неловко, одной рукой, я раскрываю плоскую коробочку «Житана» и, когда ваза, третья от спуска, оказывается рядом, словно раздумав курить, бросаю в нее сигарету. Надо же дать пищу специалистам и, кроме того, мне очень хочется позлить Эрлиха.
– Чему обязан, Шарль? – спрашиваю я и радуюсь тому, что голос мой звучит достаточно ровно.
– Наш друг Фогель…
– Что с ним? Заболел?
– Хуже. Сидит под домашним арестом.
– Какая досада! – говорю я заплетающимся языком и едва не падаю вместе с Эрлихом.
К счастью, толстый старый каштан, бугристый от бородавчатых наплывов, удерживает нас на ногах. Пальцы мои скользят по коре, хватаются за наплывы, не задерживаясь и на том, в котором – это я знаю точно! – мать-природа проделала крохотное дупло.
Эрлих с трудом поддерживает меня.
– Огюст? – говорит он с испугом. – Эй, вы там, помогите же!
Ближайший из охранников стремглав летит на зов. Вдвоем с Эрлихом они кое-как дотягивают Огюста Птижана до скамейки, усаживают, распускают галстук.
– Воротник, – хлопочет Эрлих. – Расстегните же ему воротник, черт возьми!
– Да, штурмбаннфюрер!
– Да не возитесь вы!..
Милая моему сердцу перебранка, свидетельствующая о том, что в суматохе и вспышках эмоций проделка с дуплом пройдет незамеченной… Не пора ли прийти в себя?
Глубоко вздохнув, я открываю глаза.
– Ну, ну, – говорит Эрлих и ободряюще треплет меня по плечу. – Маленькая заминка, а? Не надо было ехать, Огюст.
– Кто мог предположить… Простите, Шарль.
– В постель, Одиссей, и немедленно! Вы дойдете до машины?
Шажок. Другой… Буквально по сантиметру Огюст Птижан преодолевает расстояние от бульвара до «ситроена». Меня тянет оглянуться назад, на каштан, ничем не отличимый от сотен каштанов, но я удерживаюсь от искушения и даю Эрлиху усадить себя в задний отсек авто. Свертываюсь калачиком на подушке и вслушиваюсь в тарахтение мотора. Испуганные лица старушек и старичков, вытянувших шеи на скамейках, стоят у меня перед глазами… Мадам! Мсье! Не волнуйтесь, пожалуйста! Огюст Птижан – о-ля-ля! – живуч как кошка!.. На этот раз мне определенно повезло.
10. Сплошные сюрпризы – август, 1944
На этот раз мне определенно повезло. Хочется надеяться, что и дальше, в ближайшие сутки, быт Огюста Птижана не омрачится событиями из ряда вон выходящими.
Вечер и ночь прошли спокойно. Вернувшись с бульвара, я отправился в постель, куда Микки подала мне ужин. В присутствии Эрлиха шарфюрер Больц держалась официально, словно это не она несколько часов назад пыталась соблазнить простодушного Огюста Птижана. Сидя с подносиком возле кровати, она не удостоила меня и словом; чопорные движения, бесстрастный взгляд профессиональной сиделки. Недостаток добросердечия был компенсирован ею после отъезда штурмбаннфюрера: за полночь Микки то и дело, скользя как тень, возникала в комнате и поправляла подушки. Роман не достиг апогея лишь благодаря сценическим способностям Птижана, издававшего такие стоны, что Микки ринулась названивать Гауку. В результате я получил укол морфия и возможность заснуть в полном одиночестве.
Впрочем, заснуть – это сказано не точно. Кошмары, раздергивавшие забытье на клочки, мало напоминали сон. Я с кем-то дрался, бежал, прятался в обгоревших развалинах; левая рука моя жила сама по себе – на ней появились пальцы, похожие на щупальца, и я цеплялся ими за падающие дома, мосластые ветви ветел и черные-пречерные облака… Перед рассветом я окончательно открыл глаза и обнаружил Микки, сидящую на пуфике. На коленях у нее был тазик, в котором плавали салфетки.
– Скверное дело, – сказал я, удивляясь, как звонко звучит мой голос.
Микки сменила компресс и сунула мне градусник. Я держал его во рту и, скосив глаза, следил за металлическим столбиком, быстро заползавшим за красную черту. Стеклянный стебелек дребезжал, тыкался в зубы…
– Сделать укол? – спросила Микки.
– Не надо, – сказал я, боясь, что морфий опять вернет меня к видениям бреда; в бреду, как известно, люди всегда говорят.
– Гауптштурмфюрер распорядился…
– Бог с ним, Лотта… И не лезьте из кожи вон. Вы ведь терпеть меня не можете.
– Не так…
– А как? Ну смелее! Не церемоньтесь с недочеловеком! – Мой голос звучал, как гитарная струна, самое высокое си, отраженное в пространстве.
– Это верно, – сказала Лотта, подумав. – Но что-то в вас есть. Вы похожи на немца, Август… Лежите тихонько, у вас тридцать девять и три.
– Ничего… Скажите, Лотта, Варбург посоветовал вам быть… как бы это выразиться? Быть помягче со мной? Он ваш любовник, Лотта?
Микки уронила компресс; брызги из тазика темными пятнами расплылись по халатику.
– Бригаденфюрер мой начальник!
– Значит, Эрлих лжет?
– Вы думаете, я шлюха?
Это не шарфюрер Больц. Не солдат СС, всегда думающий только о фюрере, тысячелетней империи и достоинстве нордического человека. Маленькая немочка, девочка Лотти, игравшая, как и все дети мира, с тряпичной куклой, верившая в Бога, зубрившая в гимназии правила арифметики. НСДАП придушила эту девочку, и СС-шарфюрер, не испытывая сомнений и жалости, присутствовала при пытках и исправно доносила начальству о коллегах, имевших неосторожность отступать от «кодекса германской чести…». О нет, я не педагог и не собирался перевоспитать фрейлен Больц. Мне всего-то и требовалось – заставить ее так или иначе ненадолго выйти из жестких рамок служебной регламентации… Девочка Лотти не желала, чтобы ее считали шлюхой. Пока и этого довольно.
– Так думаю не я, а штурмбаннфюрер, – сказал я.
– А что ему известно? Что он знает о бригаденфюрере, этот ваш Эрлих?
– Почему «мой»?
– Будто не догадываетесь? Не делайте из меня дурочку, Август. Я тоже не совсем слепа… Он думает, что хитрее всех. Как бы не так! Бригаденфюрер видит его насквозь.
Я еле сдержал стон, боясь спугнуть ее, и ждал продолжения. Однако мысли шарфюрера Больц совершили скачок и ринулись в другом направлении.
– Хотите знать, почему Эрлих врет, что я шлюха? Он затащил меня к себе, накачал коньяком и стал кричать, что я Лорелея, а сам искал, где у меня резинки на чулках… Вот оно как было!.. Интеллигент… Доктор, и все такое. Да он и мизинца не стоит – ногтя на мизинце бригаденфюрера! Вот кто человек! Видели бы вы его, Август!.. После Шелленберга он самый молодой генерал СС в рейхе! Сам Гиммлер побаивается его, потому и сплавил в Париж.
Я и не предполагал, что это окажется довольно просто – навести шарфюрера Больц на разговор о Варбурге. Бригаденфюрер был и оставался загадкой для меня. Даже то, что Варбург молод, – открытие. Я рисовал себе его иным: седовласым, усталым, разочаровавшимся в неких идеалах на последнем этапе войны и потому ищущим связи с СИС, буде события сложатся не в пользу Германии… Самый молодой генерал, сосланный к тому же в Париж и чем-то насоливший Гиммлеру, – это было уже кое-что!..
– Вы любите его, Лотта?
– А хоть бы и так?
– Еще бы – Зигфрид…
Я здорово рисковал, пользуясь насмешкой, но фрейлен Больц все-таки, к счастью, была в первую голову женщиной, а солдатом СС – во вторую.
– Есть мужчины и красивее, согласна… Но и вы, Август, влюбились бы в него. Когда он целует мне руку, я едва не теряю сознания от счастья. Я!.. Кто я такая? Дочь паршивого неудачника, учителишки, только тем хвастающегося, когда напьется, что Грегор Штрассер хлопал его по плечу. И Варбург! Граф фон Варбург цу Троттен-Пфальц! Последний в своем роду. Он отказался от приставки и титула, чтобы слиться с нацией. Вы бы на это пошли?
Итак, отпрыск аристократической фамилии, вступивший в СС, чтобы «слиться с нацией», и ищущий через посредство Эрлиха связь с Интеллидженс сервис… Лотта, неопытный шахматист, перемешала фигуры на доске и подставила своего короля под шах. Продолжая сравнение, я подумал, что Варбург из числа королей, которым особенно необходимо прикрытие пешек… Продолжало быть неясным только, какое положение занимает бригаденфюрер в парижской иерархии СД. О верхушке гестапо я, естественно, был осведомлен; люди, окружавшие высшего руководителя полиции безопасности и СД-генерала Кнохена, были наперечет, и Люк долгое время специально занимался ими. Фамилия Варбурга несколько раз мелькала в сообщениях источников, и у меня, по кратким этим данным, сложилось убеждение, что СС-бриганденфюрер болтается при штабе без определенной должности. Пожалуй, я ошибся: скорее всего Варбург действовал в качестве уполномоченного Кальтенбруннера – все, кого терпеть не мог Гиммлер, пользовались особым благоволением начальника РСХА.
Огюста Птижана подмывало продолжить крайне волнующий разговор, но осторожный двойник, сидящий в его оболочке, одернул любознательного исследователя и перевел беседу в более спокойное русло. Совсем некстати было сосредоточивать внимание шарфюрера Лотты Больц на острой теме и заставлять ее, обдумав разговор в свободную минуту, жалеть об откровенности.
Вопрос Лотты остался без ответа, а Огюст Птижан, постонав и поохав, послал ее за кофе. Спать ему не хотелось.
…Еще одно утро, за которым потянется еще один день, не сулящий Огюсту радостей. Солнце пробивается сквозь тростниковые жалюзи и разрисовывает пол желтым серпантином. Фарфоровая, умилительно наивная пастушка, приподняв пальчиками юбочку, кокетничает с розовым пастушком – безделушка стоит на прикроватной тумбочке по соседству с часами в кожаном складном чехле и вполне современным эбонитовым телефоном. Еще нет семи, а в комнате душно. Я лежу на спине и смотрю на телефон… Из кухни доносятся негромкий стук тарелок и запах проперченных сосисок. Микки хлопочет над завтраком.
Сосиски и стакан молока, прикрытый салфеткой, вплывают в спальню как раз тогда, когда эбонитовое чудо издает первый, неуверенно короткий звонок. Я лениво скашиваю глаза и проявляю слабый интерес:
– Кто бы это мог быть в такую рань?
Шарфюрер Больц ставит поднос на пуфик. Телефон вторично издает дребезжание и – после паузы – в третий раз затрачивает порцию электричества, дабы побудить нас поторопиться.
Лотта берет трубку.
– Говорите!
Для секретарши – слишком требовательно и сердито.
– Какой Шульц? Здесь нет капитана Шульца. Ошибка!
– Кстати, – говорю я, дождавшись, пока Микки положит трубку. – Соединитесь, пожалуйста, с Эрлихом и скажите, что я вряд ли встану сегодня.
– Уже звонила, – отвечает Лотта и пододвигает пуфик. – Вы спали, и я звонила из гостиной.
– Он ничего не просил передать?
– Штурмбаннфюрер не докладывает мне о делах!
Лотта аккуратно режет сосиску и, подцепив кусочек вилкой, собирается передать его мне, но стук парадной двери отвлекает ее, и я едва успеваю отклониться и сберечь глаза, в которые целится вилка.
– Осторожнее, Лотта, – говорю я недовольно и замолкаю с полуоткрытым ртом.
Фогель, штурмфюрер СС Фогель, находящийся, как мне известно, под домашним арестом, возникает на пороге спальни и останавливается, покачиваясь с пятки на носок. Он в форме. Фуражка с серебряными регалиями, черные перчатки, пистолет в желтой кобуре слева у пряжки пояса…
Микки первая приходит в себя.
– Как вы попали сюда? – вопрошает она и встает.
– Хайль Гитлер! – раздельно говорит Фогель и обводит комнату глазами. – Вы что, оглохли, шарфюрер!
– Хайль Гитлер…
– Мило развлекаетесь?
– Фогель… – начинаю я, понимая, что происходит неладное.
– Заткнись! – И к Микки: – Сядь и не двигайся!
– Вы пьяны, штурмфюрер.
– О нет… В самую меру. Не двигаться, говорю тебе, дрянь!
Пальцы Фогеля отстегивают крышку кобуры, и тусклый, тяжелый на вид «борхард-люгер» плотно укладывается ему в ладонь.
– Мы немного побеседуем. Как лучшие друзья.
– По чьему приказу?
– По долгу, шарфюрер. Единственно по долгу и присяге, данной при вступлении в СС. Напомнить ее вам, или вы не до конца забыли текст, валяясь по постелям Варбурга, Эрлиха и этой свиньи?
Это конец. Совсем не тот, какой предвиделся Огюсту Птижану. Глупая смерть, которая находит меня тогда, когда небо казалось почти безоблачным… Солнце раскрашивает паркет желтым серпантином, а пастушка все так же улыбается своему пастушку… Люк взял в дупле мою записку с планом и дал знать о себе… «Здесь нет капитана Шульца». Теперь все это ни к чему. Пистолет в руке Фогеля в любое мгновение изрыгнет свинец, и больше не будет ни Птижана, ни Стивенса. Не будет и меня… Ну нет, черт возьми! Не так все будет просто!.. Только бы Фогель хоть на миг отвлекся – на один миг, не больше…
Фогель, не опуская пистолета, левой рукой расстегивает планшет.
– Десять минут каждому, чтобы написать все. Ты и ты!.. Без лирики! Только факты. Слышишь, Больц! Начни с того, как Эрлих и Варбург договорились предать рейх. Ты была с ними, когда они сговаривались!.. Как я сразу не понял, куда вы гнули… Чья это идея, подсунуть мне деньги в шкаф? Эрлиха? Он все продумал, кроме мелочи: забыл, что дубликаты ключей находятся у него и мне это известно… И ты – как тебя там? – пиши все, если хочешь жить. Я тебя не трону: и тобой, и этими свиньями займутся в Берлине. Мне нужно одно: факты. Голые факты! Ясно?
– Чего яснее, – говорю я.
– Больц, возьми бумагу и карандаши. На, держи… Сойдет и карандашом: не совсем по форме, но лишь бы разборчиво и правдиво.
Смешное совпадение: карандаш типа «4Н» как раз такой, каким я нацарапал две недели назад имя Клодины Бриссак на клочке, оторванном от газеты. С него все началось.
Лотта Больц вертит карандаш в пальцах.
– Штурмфюрер! Вы не в себе. Вы много выпили, штурмфюрер, и городите ерунду. Какая измена, какой сговор? Идите домой, штурмфюрер, и ложитесь спать.
– Заткнись! – говорит Фогель и покачивается на каблуках. – Из вас двоих он стоит подороже. Тебя я шлепну не задумываясь. Поэтому лучше не дразни меня. Завтра же Гиммлер пустит под «мельницу» твоего аристократа, и вот уж когда похрустят кости! Варбург на коленях будет ползать, вымаливая жизнь… Пиши, я говорю!
Выстрел – не громче треска елочной хлопушки – тонет в углах комнаты, и пистолет Фогеля с тяжелым стуком летит на пол. Дамский «вальтер» в руке Микки дымится; дымится и круглая дыра возле правого плеча шарфюрера; сукно, подожженное выстрелом почти в упор, тлеет, и я провожаю Фогеля взглядом, когда он, покачавшись еще, вдруг подламывается в коленях. Лотта срывается с места и с визгом хватает его за волосы; пригибает голову к полу и с размаху бьет и бьет, и Фогель, вскрикнувший было, замолкает; тело его становится словно бы бескостным и не отзывается на удары, когда шарфюрер Больц острым носком туфли увечит покрытое кровью лицо, расчетливо целится в пах… Это не слепая ярость, а расчет специалиста – изуродовать, забить до полусмерти, лишить остатков воли… Лизелотта Больц спасает Варбурга и себя, и бригаденфюрер не ошибся в выборе, приближая ее к себе.
Я сползаю с кровати и хватаю Больц за передник… Кобура на тонком ремешке болтается у меня перед лицом…
– Перестаньте!.. Перестаньте же, Лотта!
– О!..
– Что проку в мертвеце? – говорю я, когда Лотта делает попытку вырваться. – Остановитесь, Больц, и послушайте меня. Труп – это расследование, шум. Мы ничем не докажем, что нас шантажировали… Оставьте его и позвоните Эрлиху. Вы еще поблагодарите меня за этот совет!..
– Он… Он посмел!.. И кого? Варбурга!..
Носок туфли шарфюрера впивается в переносицу Фогеля, но уже не с прежней силой и злобой, скорее по инерции… Поясным ремешком она связывает руки штурмфюрера, причем с такой энергией выворачивает раненую, что Фогель, застонав, приходит в себя. Больц, трудно дыша, оттаскивает его к стене и, прислонив полусидя, устремляется к телефону.
Доклад Эрлиху не занимает и минуты… Фогель слушает Микки, и по лбу его сползают капли пота. Кровь короткими толчками вытекает из дыры в мундире. Фогель мотает головой и мычит.
– Доигрались, – говорю я укоризненно. – И чего вам не сиделось под арестом?
Мне очень хочется, чтобы штурмфюрер сказал что-нибудь о Варбурге; портрет бригаденфюрера все еще остается недорисованным. Однако Фогель молчит; облизывает губы и трясет слипшимися волосами. Избитое лицо его распухает прямо на глазах… Молчание и три неровных дыхания – Фогеля, Больц и мое… Никак не могу успокоиться…
Эрлих приезжает один. Крупными шагами входит в спальню и, окинув Фогеля взглядом, кивает Микки:
– Ну?
Выслушав, достает сигарету и, не повышая тона, говорит:
– Развяжите… Свободны, шарфюрер!
Микки выходит, забыв притворить дверь, но Эрлих ничего не склонен упускать:
– Дверь, шарфюрер!
И ко мне.
– Извините, мсье Птижан. Маленькое недоразумение.
– Недоразумение? – с хрипом говорит Фогель. – Вы ответите…
– Обычная история, – словно не слыша, продолжает Эрлих. – Штурмфюрер переутомился, нервное напряжение, бессонница… На нашей работе это бывает. Доктор Гаук предупреждал меня, что у штурмфюрера неврастения, но я не придал значения. Вероятно, болезнь зашла далеко.
– Это вы далеко зашли, – хрипит Фогель, прижимая к плечу быстро краснеющий платок. – Вы и Варбург… Мое доброе имя… Моя честь офицера СС! И все ради чего? Ради него – этого пожирателя пудингов, понадобившегося вам… Преданного фюреру офицера в расход, а?
– Договаривайте, – любезно говорит Эрлих и тонкой струйкой выпускает дымок. Губы его сложены трубочкой. – Доктор сейчас приедет.
– Я и оттуда достану вас. Из сумасшедшего дома!
– Вряд ли!
– Мой рапорт дойдет!
Эрлих выпускает новую струйку.
– Я надеюсь на выздоровление. Боже вас упаси не справиться с недугом. Фюрер и рейхсканцлер недаром дали указание рейхсфюреру СС применять к безнадежным больным «эвтаназию». Германская раса будет полностью очищена от шизофреников, параноиков и дебилов. Сумасшедшие весьма отягощают наследственность… Гаук вылечит вас, Фогель, и все будет хорошо. Не так ли?
– Он истечет кровью, – осторожно напоминаю я.
– Пустое, мсье Птижан. В здоровом теле содержится семь литров крови. А он потерял не больше двух рюмок…
Эрлих ошибается. Больше, значительно больше… Я устанавливаю это, когда санитары и незнакомый врач в штатском несколько минут спустя забирают Фогеля и укладывают его на носилки, предварительно замкнув браслеты на его запястьях. Эрлих что-то шепчет врачу, тот щелкает каблуками, и они отбывают, а Микки тряпкой и совком уничтожает лужу, натекшую там, где лежал Фогель. У лужи весьма приличные размеры.
– Переволновались, Одиссей? – спрашивает Эрлих с видом человека, лишенного нервов.
– Не очень, – говорю я.
– Ничего, сейчас поволнуетесь!.. Думаете, все кончено? Как бы не так!.. Фогеля не уберешь запросто; в больнице он будет безопасен, но пребывание там не вечно. Найдутся желающие помочь ему выбраться… Идите в кухню Больц!.. Так вот, баланс наш, говоря на английском, «фифти-фифти». Где ваши люди, Одиссей? Время, сами видите, уплотнилось, и Варбург при известных условиях окажется не в силах нас прикрыть. Нам нужны быки. Жертвенные быки! Иначе…
– Пятнадцатого! – говорю я, думая о другом – о телефоне и дупле в каштане на бульваре Монмартр.
– Это крайний срок. Молите Всевышнего, чтобы Люк пришел в магазин Фора. Его мы не тронем, но связники, часть источников – этих под нож. Пока мы тянем время, держим засады в пансионе и на улице Миди.
– У Люка?!
– А вы что думали? На Центральной тогда слушали ваш разговор с «Лампионом», и будьте спокойны, Анри Маршан отнюдь не инкогнито… Не делайте больших глаз, Одиссей! Все по правилам. Вы брали свое, мы – свое. Вы вычислили точно, и патрули опоздали в «Лампион», хотя и побывали там не без пользы. Приметы Анри Маршана тоже кое-что значат, если умело построить розыск. Старую квартиру нашли без труда: Маршан регистрировал документы в мэрии, и нам через пять минут сообщили адрес… Квартира пуста – на иное я не рассчитывал, хотя люди, сидящие в засаде, надеются, что кто-нибудь придет… Время, Одиссей! Вы же знаете ему цену… Сколько я смогу тянуть?
Я протестующе поднимаю руку.
– Вы не джентльмен, Эрлих! Наш уговор…
– Бросьте, Одиссей. Вы разбираетесь в музыке? Так вот: есть основная тема, лейтмотив, и тема вспомогательная, замаскированная первой. Наш лейтмотив – разгром резидентуры СИС, и, как ни крути, вы мой агент. Все!
– Я не…
– Я сказал: все! Я безумно дорого заплатил за то, чтобы прикрыть вас. А что до контактов, то это тема вспомогательная, и я на вашем месте забыл бы о ней до лучшей поры.
– Вот как повернулось… – задумчиво говорю я. – Мой отчет и протоколы… Красиво, Эрлих!
– Господин Эрлих! Я попросил бы вас, Одиссей, впредь не забывать прибавлять это слово.
– Выходит, я двойник?
– А вы думали?
– Тривиальная история… – шепчу я и прикусываю губу.
Эрлих трет лоб ладонью, поправляет очки.
– Не огорчайтесь, Одиссей. Что вам до жертвенных быков? Фор ваш человек?
– Нет, конечно. Он понятия ни о чем не имеет. Просто явка – в магазине удобно встречаться. Не часто, конечно. Не верите?
– Не верить – наш принцип. Мы проверили. Фор действительно не ваш. Он сотрудничает с жандармерией негласно и помог нам, описав Маршана и вас. Он говорит, что встреч – о, случайных, естественно! – у вас было… Сколько их было?
– Три. Последняя – в первой декаде июля.
– Что же, вы не лжете… Слушайте, Одиссей! Бриссак, Фор, столб с «почтовым ящиком», засады, проверка личности Маршана и все такое прочее дают нам некоторый резерв дней на случай, если у меня потребуют отчет. Пока того, чем я располагаю, хватит, чтобы доказать вашу преданность нам, а не СИС. Но если пятнадцатого Люка не окажется на явке, делайте, что хотите, но головы вам не спасти. Мы умоем руки – я и бригаденфюрер… И завтра же на Монмартр, Одиссей! Я очень любопытен и мечтаю убедиться, что именно бульвар благотворно влияет на ваше самочувствие… Поправляйтесь, Одиссей!
– Спасибо, господин Эрлих, – говорю я и смотрю ему в спину.
У штурмбаннфюрера Эрлиха очень выразительная спина. Прямая, жесткая, ловко подчеркнутая мундиром, сшитым у дорогого портного. Презрение ко всем, в том числе и к Огюсту Птижану, начертано на ней аршинными буквами. Обладатель такой спины должен внушать простым смертным трепет и почтение… Глыба. Скала. Одна из скал… Валяй, Одиссей, лавируй меж скалами, в узком фарватере, изобилующем мелями и цепкими водорослями… В первый раз, что ли?
11. Рубашка и чепчик – август, 1944
«В первый раз, что ли?» – говорю я себе, вслушиваясь в грохот ночной грозы, бесчинствующей над Парижем. Молнии падают где-то рядом, и я, приподняв жалюзи, всматриваюсь в черные контуры и жду, когда очередной зигзаг высветит верхушку Эйфелевой башни. Грозу я люблю, зато терпеть не могу мелкий дождь – он действует мне на нервы.
Эрлих в рубашке с приспущенным галстуком сидит в кресле и кусочком замши протирает очки. Вид у него неважный. Веки воспалены, под глазами мешки, и щетина на подбородке, мелкая и частая. Я зеваю, прикрыв рот ладонью, и отхожу от окна, а Эрлих складывает замшу в квадратик и водружает очки на место. Отпивает глоток минеральной – прямо из горлышка.
– Язва, – объясняет Эрлих, отрываясь от бутылки. – Питание всухомятку, нервы… Иногда так схватывает, что хоть плачь.
– Дрянь дело, – сочувствую я, перекладывая плащ штурмбаннфюрера с кровати на пуфик. Плащ был мокрый, вода стекала на одеяло, а я терпеть не могу спать под ватным компрессом.
За весь прошедший час мы не перекинулись и десятком фраз. Голова у меня была ясная; днем температура упала, и рука ныла значительно меньше. Микки принесла две рюмки анисовой, белой и непрозрачной, и я выпил, ощутив во рту привкус «капель датского короля».
Я опять зеваю, напоминая Эрлиху, что ночь неподходящая пора для визитов. Чего ради он явился и молчит? Соскучился по обществу Птижана?..
Эрлих щелкает по бутылке ногтем и ставит ее на пол. Откидывается в кресле. Дождь тихо накрапывает за окном, и меня тянет в сон.
– Гадаете, Стивенс? – негромко говорит Эрлих. – He ломайте голову.
– Вы здесь хозяин, – уклончиво говорю я.
– Так-то оно так… Что у вас там – анисовая? Пейте и мою, я не хочу. Пейте, пейте, вам понадобится еще не одна рюмка, чтобы переварить новости. Мне звонили из Берлина, Стивенс. Вами интересуется Шелленберг, разведка РСХА.
– Очевидно, Фогель?
– Нет. Группенфюрер Мюллер не станет делиться с Шелленбергом.
– Варбург?
– Давайте без имен.
– Хорошо, господин Эрлих.
– И без «господина». Простите, Стивенс, днем я был не в себе. Фогель задал мне хлопот.
– Кстати, не сочтите меня нескромным: что с ним?
– Плохо дело, – сумрачно говорит Эрлих и смотрит на меня в упор. – Фогеля из больницы забрал Кнохен. Рапорт попал по назначению, и все пошло вверх дном.
Не требуется титанического напряжения ума, чтобы сопоставить одно с другим и выстроить в линию имена Эрлиха, Варбурга и Шелленберга. Распря между гестапо и шестым управлением РСХА, занятым агентурной разведкой, не секрет для профессионала. Кнохен, вероятно, держит руку Мюллера из гестапо, а Варбург, как я и предполагал, человек Шелленберга.
– В любом случае прогадывает Стивенс, – говорю я, подводя итог.
– Может статься, если…
– Есть выход?
– Дайте мне Люка!
– Я помню об этом, Шарль. Но его нельзя будет брать!
– Он пойдет на перевербовку?.. Подумайте хорошенько, Стивенс. Ошибиться нам нельзя. Он кадровый?
– По-моему, да… До меня он вел резидентуру. Тот, кто был во главе дела, оказался не на месте. В Лондоне пришли к выводу, что он паникер, и при первом удобном случае перетащили через Ла-Манш. Люк около полугода работал один и замкнул на себя все связи. Потом меня забрали из Рабата и сунули сюда… Должен заметить, что я не плясал от радости. Мне и в Рабате хватало хлопот, присматривая за тамошними французами.
– Бог с ним, с Рабатом! Так что же Люк?
– Вам известно: я три месяца в Париже. Люк, по существу, стоит у руля. Формально дело веду я, но фактически все сосредоточено в его руках. Считалось, что так должно сохраниться, пока Птижан не наберется местного опыта… Что я скажу о Люке? Он волевой человек и мужественный. И у него ледяная голова.
– Расчетлив?
– Не в этом смысле. Он не из тех, кто теряет сон при появлении опасности… Но Люк – человек… и в чем-то, наверное, слаб.
– В чем? Именно это я и хочу услышать от вас.
– Он жизнелюб, – говорю я, подумав. – Он любит общество, музыку и хорошую выпивку. Помните – я засветился, а Люк торчал в кафе как ни в чем не бывало?.. Вот вам ключ, Шарль!
Дождь все идет, мелкий, пришептывающий. Эрлих горбится в кресле. Ему совсем нехорошо. На скулах проступают темные пятна; мешки под глазами набрякли. Рука под рубашкой прижата к животу.
– Ключ, – говорит Эрлих задумчиво. – Ах, как гладко у вас выходит, Стивенс!.. Чем больше я слушаю вас, тем больше восхищаюсь: всякий раз оказывается, что какая-нибудь мелочишка припасена вами про черный день… Портфель, например! О нем вы, конечно, забыли упомянуть в отчете. Скверная память, а?
– Не понимаю.
– Показать запись разговора с «Лампионом»?
– Ах вот вы о чем!
– Стивенс! Я не раз и не два ставил себя на ваше место. Я задавал вопрос: как бы повел себя Эрлих в камере английской тюрьмы! Возможно, мои поступки были бы адекватны вашим… Я не сторонник спешки и крайних мер, хотя, разумеется, и не альтруист. Поэтому давайте условимся: ваше молчание в первые дни понятно и оправдано мною, но больше не соблазняйтесь возможностью утаить хотя бы пфенниг от компаньона… Что было в портфеле и откуда Люк его забрал?
– Инструкция Лондона, – говорю я неохотно. – И еще – деньги. Сорок две тысячи франков и семь тысяч триста шведских крон.
– Где они хранились?
– В банке.
Абонированный сейф в качестве хранилища конспиративных документов – личная идея Птижана, его собственность, и я дарю ее Эрлиху, будучи уверенным, что никто и никогда не воспользуется сейфом вторично. Разведка – сплошный парадокс; действующий по шаблону проваливается так быстро, что порой не успевает сообразить, как его выследили и посадили в комнату с решетками.
– Почему вы молчали?.. – начинает Эрлих и останавливается, невежливо перебитый Огюстом Птижаном.
– Как раз потому, Шарль! Я был уверен, что слухачи сидят на Центральной и пишут. Следовательно, имя Анри Маршана должно было стать известно вам в тот же вечер. Люк, как вы помните, сменил документы и квартиру, но для банка он должен был остаться Маршаном – на это имя я дал ему доверенность. Теперь прикиньте: я называю банк, вы устраиваете засаду, берете Люка, и комбинация, продуманная нами в семейном, так сказать, кругу, развивается уже без моего участия. Покажите мне любителей падать за борт, и я соглашусь, что был не прав.
Я говорю и в то же время не перестаю думать о Варбурге. Как Юлий Цезарь, если верить слухам, мог одновременно читать, писать и сплетничать с патрициями о проделках римских бонвиванов. В наши дни он недурно зарабатывал бы, выступая в цирке. Огюсту Птижану до него далеко, но маленьким искусством – говоря об одном, размышлять на иную тему – он овладел еще в школе. Не в средней, конечно, а в той, чей адрес не числится в справочных книжках и где круг предметов, пожалуй, пошире университетского. Дилетантизм в нашем деле так же вреден, как и узкая специализация.
Я немного разочарован: о Шелленберге Эрлих упомянул как бы вскользь, уйдя от него к Люку. Признаться, я полагал, что рано или поздно мы опять коснемся Шелленберга и Варбурга, этого невидимки, укрывшегося на вершине гестаповской пирамиды и упорно уклоняющегося от личной встречи, но… но Эрлих углубился в себя, и живой глаз его отсутствующе недвижим под толстой линзой очков.
Молчу и я, думая о Варбурге… Бригаденфюрер перестраховывается, заслоняясь от Кнохена и Мюллера Вальтером Шелленбергом. Плюс это или минус для Огюста Птижана? Люк уже действует, и поздно менять что-либо в маленьком экспромте, приготовленном нами. Вообще, как известно, лучше всего экспромты удаются, если их – долго и тщательно готовить.
– Стивенс, – очень тихо говорит Эрлих. – Шелленберг потребовал отчета о результатах. Самое позднее – шестнадцатое. Больше я не скажу ни слова, но это вы должны запомнить. Шестнадцатое – крайний срок!
Я достаю пачку «Житана». Последнюю – запасы Эрлиха подошли к концу. Ногтем надрезаю бандероль. За двое суток я кое-как научился орудовать одной рукой. Пианиста из меня не выйдет, но разве мало профессий, когда человек не чувствует себя беспомощным и без пальцев на левой.
– Я поеду, – говорит Эрлих и встает. Плащ его высох.
Штурмбаннфюрер расправляет дождевик и так и замирает с плащом на весу, ибо телефон на тумбочке оживает и издает пронзительный звон, утроенный тишиной. Игнорируя предостерегающий жест Эрлиха, я беру трубку… Ну вот и экспромт!
– Алло!
– Птижан? – Голос Люка…
– Да, да, – говорю я.
Эрлих делает шаг, но я, уткнувшись в микрофон подбородком и сделав огромные глаза, шепчу: «Это Маршан».
– Огюст, – рокочет в трубке. – Это ты?
Я пялюсь на штурмбаннфюрера, взором испрашивая инструкций.
– Говорите же! – шепчет он и, подойдя ко мне, прижимается ухом к трубке.
– Люк? Как ты нашел меня?
– Случайно. Видел вчера входящим в подъезд.
– Скажите, чтобы перезвонил, – шепчет Эрлих и пальцами впивается мне в локоть. – Пусть перезвонит…
– Алло! Ты слышишь меня? Перезвони через пяток минут… Тут…
– Дама? – Мембрана трещит от смешка Люка. – Узнаю старину Огюста! Ладно. Пока…
Щелчок. Отбой… Эрлих трет лоб.
– Непостижимо!
– Что? – спрашиваю я.
– Потом… – невпопад говорит Эрлих и берется за телефон. – Гестапо! Дежурный? Срочно соединитесь с Центральной: пусть установят, откуда будут вызывать Центр – шестнадцать – два – один. Повторите!.. Пошлите туда машину и двоих из девятой комнаты, надо сесть абоненту на хвост. Все!
– Что будем делать? – спрашиваю я растерянно.
– Откуда Маршан узнал телефон? – вслух соображает Эрлих. – Когда он вас видел?
– Вчера…
– Где вы вылезли из машины?
– Разумеется, за углом.
– Почему же он не подошел? Почему?
– Спросите что-нибудь попроще.
Скулы Эрлиха напряжены. Плечи выпрямлены… Да, этот человек рожден для действия. Жаль только, что энергия, ум и воля его поставлены на службу самому отвратительному делу за всю тысячелетнюю историю человечества.
– Скажите, чтобы утром он позвонил еще раз. Часов в девять. Сейчас, мол, трудно говорить – у вас гостья, и никак не удается ее выпроводить. Говорите только это, никакой отсебятины.
Мы стоим над телефоном – гробовщики у одра приговоренного к смерти. Усопшим должен стать Люк. Эрлих заранее прикидывает, по какой мерке выстругать доски.
Звонок ровно через пять минут. В педантизме Люк не уступает Эрлиху.
– Алло, старина. Где твоя знакомая?
– В ванне, – говорю я и в ответ слышу приглушенный смех.
– Ты неплохо устроился, Огюст. Я еле нашел тебя. Если бы не случай, я так бы и сидел до пятнадцатого… Как тебе удалось выбраться? …
– Люк! С ума сошел! Такие вещи по телефону… Удалось… Больше того, я зацепил крупную рыбу… Слушай, моя идет… Позвони мне утром. Можешь в девять?
– Приятных сновидений, – игриво говорит Люк и дает отбой.
Я едва кладу трубку, как телефон вновь разражается трезвоном. На этот раз Эрлих перехватывает инициативу. Я и не спешу, признаться, обходить его на финише, понимая, что это из гестапо. Так оно и есть… Эрлих, покусывая губу, выслушивает собеседника. Говорит:
– Пусть докладывают вам… Прочешите квартал! Не мог же он далеко уйти… Переключите меня на Варбурга.
Долгая, очень долгая пауза, и:
– Бригаденфюрер! Прошу извинения за беспокойство!..
Анисовая обжигает нёбо, холодит гортань. Странная это штука – анисовая водка, перно. С одной стороны – жидкая лава; с другой – арктический лед и привкус детских лекарств. Забавное и неправомерное сочетание.
Закончив короткий разговор, Эрлих минуту стоит, глядя прямо перед собой. Потом отходит от тумбочки, зацепив по дороге пустую бутылку из-под карлсбадской. Бутылка, звеня, откатывается в угол; из горлышка ее выползает капля.
– Маршан звонил из будки, – тускло говорит Эрлих. – Ваша мать не хвасталась, что родила вас в рубашке?
– Что-то не слышал.
– Но хоть чепчик был?
В голосе Эрлиха прорывается веселая нота. Лицо разглаживается. Он садится, подернув брюки и тщательно выровняв складку на коленях.
– Поступим так, – говорит он, доставая портсигар. – Утром назначьте Люку рандеву. На двенадцать – здесь. Он согласится?
– Люк осторожен, а у подъезда…
– Снимем людей… Черт с вами, Стивенс, играть, так по-крупному.
– Арестовать проще, – осторожно говорю я.
– Что?.. Да, разумеется. Но мне нужен Люк, а не его труп. Люк живой и благонравный… Пусть будет, как решили. Я захвачу с собой некоторые документы, и ту дезинформацию, которую вы проконсультировали. Как считаете, она убедит его?
– Надеюсь. Но почему вас интересовали мои рубашка и чепчик?
– Хотите коротко? Шестнадцатое – срок Шелленберга… Стивенс, будьте паинькой и сделайте все, чтобы мсье Люк завтра ушел отсюда успокоенным. Не спугните его.
Я громко щелкаю пальцами.
– О-ля-ля! Люк опытен и знаком с методами слежки. Вы не прогадаете с «хвостами»? Попадись они Люку на глаза…
– Не попадутся. Его поведут так, что и с четырьмя глазами он не найдет за кормой ничего, кроме чистой струи.
– Очень образно, – говорю я, выбирая языком из рюмки последние капли перно.
Спать мне уже не хочется.
Люк позвонит ровно в девять утра…
12. Кто есть кто! – август, 1944
…Люк позвонит ровно в девять утра.
Сейчас семь без нескольких минут. Микки хлопочет в кухне, звенит посудой и что-то напевает, а я в шлепанцах на босу ногу слоняюсь по спальне, убивая время. Дом просыпается, наполняясь звуками. Все этажи встают примерно в один час. Никого из соседей я не видел в глаза, но по меньшей мере о четверти из них знаю немало. Надо мной живет семья, где трое детей. По утрам я слышу их голоса, топот ножек, возню. Изредка стучат каблуки взрослых: чок-чок-чок – женские легкие; и звонкое цок-клац, цок-клац – мужские, с подковками. Муж скорее всего военный; штатские не носят обуви с металлическими накладками на каблуках, и у мысков… Подо мной расположился одинокий музыкант – неудачник, должно быть. Стоит послушать, с каким прилежанием терзает он от зари до заката свою скрипку, сбиваясь на одних и тех же местах, чтобы понять – Паганини из него не получится… Напротив – старая чета; через дверь я слышу иногда, как они, собираясь на прогулку, подолгу стоят на площадке. «Где мой зонт, Софи?» – «О дорогой, держись за перила… Умоляю, будь осторожнее!» – «Обопрись на мою руку, Софи… вот так… Боже, какая крутая лестница».
Весь низ, до бельэтажа, занимает магазин. Рядом с его дверью наш подъезд, узкая дыра, плохо освещенная; в комнатке консьержа закопченные стекла в свинцовом переплете и окошечко для ключей… Обычный доходный дом, где люди с достатком занимают бельэтаж, а повыше селятся те, чей имущественный ценз убывает прямо пропорционально очередности этажей…
Я слоняюсь по комнате, и события последних двух недель проецируются в моем сознании мутными, смазанными кадрами. Похоже на то, как бывает в дешевых киношках, где пропойца механик вечно забывает наладить аппаратуру, лента то и дело рвется, изображение скачет и меркнет, а зрители свистят и кричат: «Рамку! Рамку!»
В моей ленте крупным планом мельтешит узкое лицо Циклопа с длинным породистым носом и золотыми очками… Бумажка в два фунта стерлингов свела нас. Заурядный случай, предусмотреть который не в силах был бы ни один прозорливец. В деле, которым занят я, любая мелочь опасна, а человек – только человек, и ему не дано объять необъятное. Я тысячу раз мог «засветиться» до того дня и столько же раз избегал провала. Случайность, как ни странно, всегда двояка в своих последствиях – единство противоположностей, что ли… Наверное, так. Эрлих считает, что я родился в рубашке. В чепчике, на крайний случай. Звонок Люка представляется ему именно случайностью, помогающей Птижану на какое-то время избежать путешествия в Берлин, где на Принц-Альбрехтштрассе некто Мюллер «папаша Мюллер» из гестапо ждет Огюста, чтобы вытянуть из него все касающееся связи с бригаденфюрером Варбургом… Ничего, подождет. Я слишком долго готовил свою случайность – изображал сумасшедшего, цепенел от наркотика, пять, десять, двадцать раз повторял одно и то же на допросах у Эрлиха. Все было трудно. Чертовски трудно, сознаюсь. Я и сейчас слышу свой крик, когда Фогель и Гаук вгоняли золлингеновский металл под ногти Птижана… Кто из них был страшнее и опаснее? Фогель – с его фанатической верой в бессмысленность существования любого ненемца? Гаук – ржущий, как лошадь, и готовый делать вид, что верит в сумасшествие испытуемого, и изучавший меня чертовски внимательно с одной целью: понять, заговорю ли я под пыткой. Он знал, что я симулирую, выгадываю время, но не мешал – исследовал мою психику и старался расположить к себе… «Ты неплохо держался, – подвожу я итог. – Но не обольщайся, Огюст! Это еще не точка».
Трудно мне сейчас. Честно говорю: трудно… А что было легко? Даже такая вещь, как записка Люку, стоила мне нервов и ухищрений. Эрлих позаботился, чтобы в квартире имелось все, кроме письменных принадлежностей. Я незаметно обшарил ее в первые же сутки и не нашел ни клочка бумаги за исключением туалетной. Да, он педант, штурмбаннфюрер Карл Эрлих – чисто германское достоинство. Даже осколка грифеля он не оставил Птижану. Но и другие эсэсовцы тоже были педантами: выпуская Огюста на свободу, они вернули ему абсолютно все отобранное при аресте. В том числе и превосходное вечное перо фирмы «Монблан». Я писал записку в клозете в несколько приемов. Надо было уместить порядочный текст на прямоугольнике величиной в две этикетки «Житана». И это мне удалось – Микки ничего не заподозрила… Дупло каштана на бульваре Монмартр, вполне естественный полуобморок, присутствие Эрлиха – вот так и родилась моя случайность. Люку не требовалось рыскать по Парижу и чудесным образом натыкаться на меня у подъезда. Телефон был упомянут в записке среди других подробностей… Один знакомый – поэт – неделями отшлифовывал двухстрочные «экспромты»; Огюсту Птижану на его «экспромт» было отпущено несколько суток. И все же я успел. Звонки сюда – так было предложено в записке, засунутой в дупло. Я предупредил Люка, что возьму трубку сам лишь в том случае, если Эрлих окажется в квартире. Если же нет – Микки опять пришлось бы отвечать, что здесь нет никакого Шульца… Полдела сделано… Эрлих сам определил дальнейшее течение событий, и мне остается одно – ждать.
Я забираюсь в постель и открываю роскошный том Розенберга. «Миф XX столетия» и гитлеровскую «Майн кампф» Микки принесла с собой. Чтение их, очевидно, должно было скрасить досуг Огюста Птижана. С томиком в руке я вытягиваюсь на хрустящей от крахмала простыне и придаю своему лицу выражение, близкое к глубокой заинтересованности. Микки очень нравится, когда я взахлеб зачитываюсь ее богами.
Интересно, сведет ли еще Огюста Птижана судьба с шарфюрером Лоттой Больц? Скорее всего да. Зато Гаука и Фогеля я вряд ли увижу. Не скрою: при мысли об этом Огюст не испытывает чувства скорби. Единственное, чего я им обоим желаю, – скорейшей смерти во здравие неарийской части человечества.
Приготовил ли Эрлих сюрприз – вторая мысль, занимающая меня и, пожалуй, концентрирующая на себе все внимание. Не верится как-то, что штурмбаннфюрер станет придерживаться программы, выработанной им при участии Птижана. Я не удивлюсь, если он приедет задолго до двенадцати и не один… Варбург?.. Прибудет он сюда или нет?.. Здравый смысл подсказывает, что бригаденфюреру рано еще выходить из тени, но с этими господами из РСХА никогда нельзя быть уверенным ни в чем…
«Хватит! – говорю я себе. – Лежи спокойненько и не ломай голову…» Книжка, переложенная зеленой лентой, летит на пол, и Огюст Птижан, повернувшись на правый бок и поудобнее пристроив поверх одеяла белую култышку, закрывает глаза и заставляет себя дремать… Неудачник этажом ниже выводит скрипичные рулады, а Микки в кухне напевает: «Три козочки паслись на берегу… Три козочки с серебряными рожками…» Перед глазами у меня проплывают серые тени, и материнская рука забытым теплом согревает щеку… Кто бы знал, как я хочу домой!..
«Кофе сварен, сынок…» – говорит мать…
– Кофе сварен, сынок! – повторяет штурмбаннфюрер Эрлих, когда я открываю глаза.
Микки с подносом и Эрлих – не сладостное пробуждение.
– Без четверти девять, – говорит Эрлих, не тратя слов на приветствия. – Кофе сварен, осталось его выпить. Я приехал пораньше, чтобы быть поближе к сцене.
– Могли бы не объяснять, – бормочу я, подтягивая сползшее одеяло.
На Эрлихе знакомый мне костюм – букле песочного цвета, излюбленный бордовый галстук с жемчужиной и туфли из тонкого шевро. Вместо прежних очков – роговые, придающие ему солидность. Эрлих вообще-то человек без возраста, но сейчас я определяю с точностью плюс-минус три года, что ему сорок пять – гораздо больше, чем я думал раньше. Легкомысленная золотая оправа его молодила.
– А где же автоматчики? – говорю я, взирая на черную кожаную папку, зажатую под мышкой штурмбаннфюрера. – В ней?
– Вы неисправимы… Свободны, Больц!
Лотта выходит, и стук закрывающейся двери совпадает с телефонным звонком. Дав аппарату издать парочку трелей, я снимаю трубку… Ну вот и началось!
– Доброе утро, Анри!
– Салют, Огюст. Ты один?
– Досматривал сон…
Ухо Эрлиха касается моего; оно плотно прижато к тыльной стороне эбонитовой чашечки. Пальцы штурмбаннфюрера механически расстегивают и застегивают пуговицу на пиджаке.
– Ты что-то не в духе, – говорит в мембрану Люк.
– Да нет, ничего… Запомни адрес, Люк!
– Твой? Я и так знаю. Говори этаж. Справа или слева?
– Четвертый, слева, звонок в виде розы, кнопка красная.
– Когда?
– В двенадцать…
– О'кэй! – коротко заключает Люк, и голос его сменяется сигналом отбоя.
Эрлих оставляет в покое пуговицу и приглаживает волосы. Папка косо торчит из-под мышки.
Десять минут спустя, попивая кофе, мы рассматриваем бумаги из папки. Эрлих основательно подготовился. Вместе с дезинформационным материалом, сработанным при моем участии и занимающим пять страничек папиросной бумаги, он принес несколько достоверных на вид документов – с регистрационными номерами, многочисленными отметками исполнителей, визами и черными грифами «гехайм», оттиснутыми штампами. Одна из бумажек снабжена даже пометкой: «Только для высшего командования. Дело государственной важности. Подлежит уничтожению». Липа, стопроцентная липа. Варбург и сейчас не рискнул пойти ва-банк. Документы сделаны мастерски, и я по опыту знаю, что такие не скоро удастся раскусить…
– Ну как? – спрашивает Эрлих безмятежным тоном.
– «Бронза»! – говорю я. – Люк не клюнет.
– Это подлинники!..
– Разве? И этот с пометкой «Только для высшего командования»?
Я делаю все от меня зависящее, чтобы голос звучал спокойно. Неужели я своими руками поставил Люку ловушку?! Документы Эрлиха не оставляют сомнения, что вместо переговоров Анри Маршана ждет арест.
– Браво, – спокойно говорит Эрлих. – Тысячу раз браво, Стивенс. Пожалуй, вы действительно годитесь в союзники. Согласись вы, что документы настоящие, мне пришлось бы выбирать между двумя версиями. Первая – вы профан; вторая – вы намерены провалить игру… Вот подлинники, – смотрите…
Он достает из внутреннего кармана три листочка, скрепленных зажимом. Тексты на машинке, следы прошива, захватанные пальцами края. Я вчитываюсь в них и нахожу, что данные не слишком первоклассные, но для первого шага то, что требуется.
Я встаю и, в шлепанцах на босу ногу, иду к окну. Тростниковое жалюзи, шелестя, уползает под потолок, открывая окно и вид из него… Улица пуста. Две «тени», обычно маячившие возле тумбы с афишами, испарились, исчезли, растаяли в воздухе.
– Я держу слово, – холодно говорит Эрлих. – Маршана не тронут. Он потащит «хвостов» – и только. Согласитесь, это мое право, Стивенс!
– А Больц?
– Она останется.
– Вам нужен свидетель? Эрлих! Это же верх неосторожности. Третий лишний при таких сделках.
– Больц – это Варбург. Я твердил бригаденфюреру то же, что и вы мне. Но у него свое мнение, а вам знакома пословица – кто платит за музыку, тот и заказывает танцы.
Мелкий, но просчет… Все у тебя отлично продумано, Циклоп! Но в пустяках ты допускаешь ошибки. Бригаденфюрер Варбург, всерьез идя на контакт с Интеллидженс сервис, на измену рейху и обожаемому фюреру, ни за что не посвятил бы в свои дела третьего человека. Шарфюреру Больц объяснено не более положенного ей по чину: гестапо внедряется в резидентуру СИС, Стивенс – перевербован, в итоге – аресты англичан. Роль Больц – роль свидетеля, могущего в любой инстанции показать, что бригаденфюрер действовал исключительно в интересах рейха.
– Хорошо, – невесело соглашаюсь я. – Танцы – танцами, но понравятся ли ноты первой скрипке.
– Люку? Ему придется примириться с присутствием Больц. Вы его уговорите.
Больше мы не касаемся этой темы; пьем кофе, жуем экономные бутерброды с маргарином и сыром. Одну за другой я выпиваю три большие рюмки перно. Спиртное помогает забыть о боли в руке.
Просмотр документов, разговоры и неторопливый завтрак – три часа. Сто восемьдесят минут антракта между действиями на маленькой сценической площадке в центре Парижа. Актеры вызубрили свои роли, режиссер торчит где-то за кулисами; лишь публики нет, да она и не нужна на нашей премьере. Эрлих правильно поступил, убрав соглядатаев от подъезда… Ровное, ничем не нарушаемое спокойствие приходит ко мне, и я, не вздрогнув, иду к двери и открываю ее, впуская Люка. Двенадцать без двух или трех минут… В полутемной тесной передней Люк обнимает меня.
– Старина!
Рука его с размаху хлопает меня по спине. Тяжелая рука. Люк хрупок внешне, но силен и жилист как черт… Шляпа заломлена, широкий бант галстука по моде слегка приспущен. От него пахнет хорошими духами и бензином… Значит, он приехал на машине и вел сам.
Когда звонок парадной выстрелил в тишину, Эрлих сорвался было с кресла, но одумался и подтолкнул меня:
– Лучше вы… Больц! Немедленно в кухню. И не скребитесь там!.. Минутку, Стивенс!
Выдержка у него железная! Люку пришлось четырежды позвонить, а штурмбаннфюрер все еще придерживал меня за пижаму, втолковывая, что при любой неосторожности он пристрелит Птижана вот тут, на месте, и что лучше не шутить с огнем.
– Ну, – сказал Эрлих напоследок. – С богом, Стивенс!
…Я забираю у Люка шляпу, вешаю ее на крючок стенного шкафа и, взяв под руку, веду в комнату… Эрлих медленно встает с дивана.
– Это кто? – настороженно спрашивает Люк.
Я перевожу взгляд с него на Эрлиха и говорю:
– Гестапо!..
Тишина чистая и прозрачная, как в лесу.
– А! – только и говорит Люк и опускает руку в карман. Я хватаю его за плечо и повисаю на нем. Эрлих, быстрый и точный, бьет Люка в живот, пригибает к полу, умудряясь при этом отобрать пистолет…
– Ты не понял! – кричу я. – Подожди, Анри… Ты ни черта не понял!.. Я все объясню…
Дикие глаза Люка. Эрлих с пистолетом. Больц, влетевшая на шум, – маленький «вальтер» в руке… Бац! Искры, огромные, как елочные звезды, сыплются у меня из глаз. Рука у Люка тяжелая… От второй затрещины я, покачнувшись, натыкаюсь на стол, а от третьей, стягивая за собой плюшевую скатерть, сажусь на пол…
– Подлец! – с омерзением произносит Люк.
– Я все объясню, – хриплю я, слизывая кровь с разбитой губы.
– Успокойтесь, мсье Маршан, – по-французски говорит Эрлих и, выбросив обойму из пистолета, кладет его на стол. Следующую фразу он произносит на скверном английском: – И в гестапо могут быть друзья, согласитесь, сэр!
Люк – увы! – не владеет английским, но реакция у него превосходная.
– Изъясняйтесь по-немецки, – зло говорит он на правильном хох-дейче.
– Все в порядке, – улыбается Эрлих. – Лотти, вы нам мешаете… Сейчас вы все поймете, мистер Маршан.
Люк угрюмо опускает глаза.
– Тут все ясно, – говорит он. – Сколько вы заплатили этой сволочи?
Не меняя позы, Люк выслушивает Эрлиха. Штурмбаннфюрер со штабной краткостью и деловитостью обрисовывает обстановку и в заключение протягивает Люку руку. Я все еще сижу на полу и страхуюсь на тот случай, если Анри решит еще разок разыграть приступ ярости… Рука Эрлиха повисает в воздухе, а я хвалю себя за благоразумие: саксонская ваза превращается в многообразные по форме осколки, один из которых царапает мой лоб.
– Не верю! – ревет Люк и ищет еще что-нибудь, чтобы запустить в Эрлиха.
Он отлично ведет себя, старина Маршан, и, будь мы в школе, я не колеблясь выставил бы ему в дневнике высший балл… Целых полчаса уходит на то, чтобы успокоить Люка и убедить его, что Эрлих – друг, а не враг. – Люк недоверчиво листает документы, то и дело прерывая чтение вопросами. Меня он игнорирует, адресуясь исключительно к Эрлиху.
– Что вас заставило?
– Диалектика. Динамика развития, мистер Маршан.
– Исход войны, – вмешиваюсь я. – Здесь собрались умные люди, Анри. Вспомни, разве не мы с тобой докладывали Лондону, что второй фронт многих отрезвил? К тому же русские вот-вот забьют гвозди в крышку гроба империи, а наш друг Эрлих не из тех, кто хочет оказаться под этой самой крышкой.
– Это так, – кротко говорит Эрлих.
– Он реалист, и ты, Анри, на его месте действовал бы так же.
Постепенно и неохотно Люк дает убедить себя.
– Извините, сэр, – говорит он мне, предусмотрительно придерживаясь хох-дейча; по-английски он владеет тремя фразами: «О'кэй», «Ай эм вери, вери сори» и «Гуд бай, сэр». – Все слишком неожиданно.
– Не беда, – отвечаю я прокровительственно и встаю с пола.
– Я бы выпил чего-нибудь, – говорит Люк.
– Сейчас устроим.
Пожалуй, теперь уже ничего не стрясется, если побудут с глазу на глаз… Решив так, я отправляюсь на кухню, где Микки помогает мне отыскать перно и шнапс. Она ставит бутылки и стаканы на поднос, и я смотрю на ее шею, нежный затылок с завитками волос и думаю, что выбора у меня нет… Микки и не охает, падая без сознания; я здоровой рукой подхватываю ее, пристраиваю в уголке и, затянув рот платком, связываю упаковочным шпагатом. Его у хозяйственной Больц сколько угодно – целая бобина, – подвешенная к посудной полке. Шпагат тонок, и мне приходится истратить добрую его половину, пока руки и ноги шарфюрера Лизелотты Больц не кажутся мне лишенными возможности выполнять свои функции. Прихватив «вальтер», я поправляю бутылки и хрусталь на подносе и возвращаюсь в комнату.
– Долго же вы, – говорит Эрлих. – И слава богу! Мы, кажется, нашли общий язык… Пожалуй, я тоже выпью. Прозит!
– Прозит! – в тон отвечаю я и поднимаю рюмку. – Значит, вы пришли к соглашению?
– Не совсем, – поправляет Люк. – Мистер Эрлих против подписок.
– Это так! – говорит Эрлих. – Судите сами, господа. Вас – будем мыслить здраво! – могут случайно взять. Обыск – и мне конец.
– Завтра же она уйдет в Лондон. Вы не рискуете, Эрлих. – Говоря, я подхожу к окну и, словно невзначай, оглядываю улицу. Пост у афиши вакантен. Нет людей и у подъезда… Не пора ли?
Я отхожу от окна и, подмигнув Люку, приставляю «вальтер» к шее Эрлиха.
– Руки на затылок. И, пожалуйста, тише.
Люк, не давая штурмбаннфюреру опомниться, выворачивает его карманы.
Эрлих не шевелится; лицо его застывает, и голос ровен, когда он говорит словно бы про себя:
– Зачем все это, господа?
– Для уверенности, – отвечает Люк.
– Неумно, Стивенс. Сами все портите.
– Скажи ему, Огюст! – советует Люк.
– Пусть так – я дам обязательство.
– Не спешите, – говорю я; рука у меня начинает болеть. – Бумагу вам дадут, ручку тоже. Обязательство – это потом. Сначала напишите, в силу каких причин бригаденфюрер Варбург пошел на измену рейху. Мотивы! Оставьте историю с начинкой об «игре» и перевербовкой.
– Скомпрометируете Варбурга?
– Все в свое время, Эрлих. Будете писать?
– Ваши аргументы неотразимы…
Он еще ничего не понимает по-настоящему, а я не тороплюсь объяснять.
Исповедь на двух страницах. Эрлих четко расписывается и ставит дату. Я читаю текст, а Люк держит штурмбаннфюрера под прицелом. «Учитывая обстановку на фронте… бригаденфюрер Варбург склонил меня к измене… по его поручению…» Все как следует.
– Теперь подписка? – говорит Эрлих, массируя уставшую ладонь.
– Да, – говорю я и передаю листки Люку. – Пишите: «Я, Карл Эрлих, штурмбаннфюрер СД, обязуюсь сотрудничать, начиная с сего, 14 августа 1944 года, с военной разведкой Генерального штаба Советской Армии».
Вот когда его проняло!.. Люди белеют по-разному. Один начинает бледнеть с шеи, у другого кровь отливает сначала от щек, но чтобы человек серел вот так сразу и весь целиком – это я вижу впервые. Готов поручиться, что у него и спина не розовее штукатурки…
– Нет… – говорит Эрлих.
– Не позерствуйте! – втолковывает Люк.
– Нет! – Он еще раз повторяет: – Нет, – непреклонно и жестко.
Люк настороже, но перехватить Эрлиха ему не удается. Мы падаем все трое, свиваемся клубком; боль в руке заставляет меня кричать: я откатываюсь и пытаюсь помочь Люку, прижатому к паркету. Эрлих бьет его в шею, в ямку у ключицы. Двести английских фунтов веса – ровно столько наваливается на штурмбаннфюрера, когда я, пересилив боль, повисаю у него на спине… Возня; тяжелые вскрики; минуту или две мы барахтаемся, пока Люку не удается надавить на сонную артерию Эрлиха… Я встаю на колени и дышу широко открытым ртом.
– Здоров!.. С-сильный гад… – бормочет Люк и садится, подобрав пистолет. – Надо его связать…
– Да, – говорю я и заставляю себя подняться, чтобы пойти в кухню за шпагатом. В дверях я поворачиваюсь и вижу, что Эрлих открывает глаза.
Я не успеваю добраться до кухни – хлопок, возня и крик Люка:
– Огюст! Скорее назад!
– В чем дело?
– Смотри…
У Эрлиха – бывшего штурмбаннфюрера СД Эрлиха – нет лица. Крошечный «вальтер», точная копия того, что я отобрал у Микки, валяется на сбившемся ковре.
– Что ты наделал, Люк! – говорю я.
– Он сам… Хотел в меня… Я пытался отнять…
Какая теперь разница, где ухитрился прятать Эрлих второй пистолет. Я сажусь на диван, почти совершенно обессиленный.
– Дерьмо дело… – говорю я. – Вы должны были выйти вместе…
– Здесь есть черный ход?
– Нет.
– Пожарная лестница?
– Что толку? Нас накроют и перестреляют. Эрлих держит на улице людей, они должны вести тебя до квартиры.
Люк бешено оскаливает зубы.
– Пробьемся, дружище, меня прикрывают двое парней из группы…
– Нет, Люк.
– Я говорю, пробьемся!
– Нет, старина, – повторяю я и качаю головой. – Все не так… Ты уйдешь через несколько минут. Примерно столько ты должен был бы пробыть здесь, удайся вербовка. Гестапо поведет тебя до дому. Не старайся улизнуть… У тебя есть квартира, с которой можно уйти ночью? Нет! Не ночью!.. Не уверен, что… Словом, неважно. С квартиры уйдешь буквально сразу же. Есть у тебя такая?
– Конечно. А ты, Огюст?
– Забери документы. Самое ценное – признание о Варбурге. Да ты и сам это понимаешь. Мертв Эрлих или жив – все одно Варбургу не вывернуться. Сообщи Центру, что мы постараемся использовать его как источник… Я имя ему придумал – Зевс… На всякий случай, если что, не меняй его, пожалуйста. Ладно? И последнее: когда оторвешься от хвостов, позвони сюда. Из будки, разумеется. Сможешь через час? Значит, так – ровно через час!
– Мы выйдем вместе, – твердо говорит Люк.
– Не дури, старина. И не заставляй меня напоминать о долге, дисциплине и многом ином… Скажи лучше, куда мне направиться, если все обойдется?
– Улица Рошфора, тридцать, угловой дом. Документы лежат в квартире, в трельяже. Между стеклом и доской. Консьерж предупрежден, что ты снял квартиру заочно.
– Как меня зовут и номер квартиры?
– Роже-Клод Гранжак. Номер одиннадцать.
– Спасибо за каламбур! Был маленьким Жаном, стал большим Жаком. Это твоя идея?
– Документы «живые», – говорит Люк. – Пришлось переклеить фото – и только. Не я их доставал.
– Понимаю… А теперь прощай, Люк. На всякий случай: прощай!
– Ты второй раз говоришь «на всякий случай». Я не иду!
– Пойдешь, Люк, – говорю я и веду его, упирающегося, к двери.
Прислушиваюсь. Тихо. Хлопнула в квартире пробка от шампанского – разве это повод будоражиться целому дому? Слава богу, что дамский «вальтер» бьет еле слышно…
Я приоткрываю дверь и, не давая Люку сказать и слова, выталкиваю его на площадку. Замок щелкает – створки двери сомкнуты, отрезая меня от друга. Быть может, навсегда…
Скрипач в квартире подо мной все еще играет. Пассажи, выдираемые им из инструмента, скрежещут по перепонкам… Все продолжается… Все. В том числе и война. До конца еще не близко.
Через два часа я попробую уйти. Не знаю, удастся или нет, но я попытаюсь… Центр получит шифровку о Варбурге, и Люк, в случае чего, доделает работу.
В третий раз я повторяю: «В случае чего…» И все же…
Эрлих мертв, но жив бригаденфюрер Варбург. Очень аристократичный и тонкий индивид, чрезвычайно дорого ценящий свою интеллектуальную голову. Сдается мне, что он-то и выведет меня отсюда. Сам. И, пожалуй, с такими почетом и предосторожностями, с какими не вывозили в сказочных каретах своих единственных возлюбленных утонченные принцы в горностаевых мантиях. Впрочем, кареты мне не нужно: я согласен на авто марки «хорьх» или «мерседес»… Весь вопрос в одном – соединит ли меня телефонист гестапо с бригаденфюрером? Если да, то – я уверен! – Варбург ни за что не откажется повидаться со мной здесь и поговорить по душам. Через час позвонит Люк, и Варбургу придется услышать о себе все то, что так толково и обстоятельно положил на бумагу всесторонне осведомленный СД-штурмбаннфюрер Эрлих. Мертвый хватает живого!.. Что ж, справедливо. Все в принципе справедливо в нашем мире, где по сокровенному закону бытия предопределено в итоге итогов полноправное торжество добра над злом…
Я надеваю шляпу, забытую Люком в стенном шкафу, и улыбаюсь. В настенном зеркале отражается полный мужчина в шляпе, шлепанцах и изодранной пижаме… Пора переодеться.
– Не робей, Одиссей! – говорю я, подмигивая своему отражению.
Ничего не кончено. Ровным счетом ничего. Мне обязательно надо доплыть до родного берега и, сойдя на него, отряхнуть с подошв пыль странствий. «Где ты был, Одиссей?» – спросят меня. «Работал, – отвечу я. – Как и все мы – работал…»
Примечания
1
Строчки из Британского гимна и французской «Марсельезы».
(обратно)2
РСХА – Главное имперское управление безопасности.
(обратно)


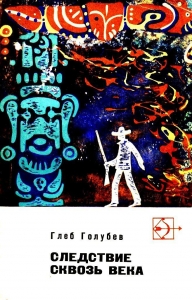

Комментарии к книге «Авария Джорджа Гарриса», Алексей Сергеевич Азаров
Всего 0 комментариев